Александр Немировский Пурпур и яд
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОСОЛ РИМА
Обитые гвоздями калиги мерно колотили по мозаичному полу. Они развязно шлепали по спинам нереид, пятнали воздушные хитоны амазонок.
Римлянин вышагивал так, словно находился у себя дома, на Марсовом поле. Гремели фалеры на выпяченной груди. Светлые, навыкате глаза устремлены в пространство. Что ему дворец Синопы? Что для него эти изнеженные, пахнущие благовониями азиаты? За ним на всем необозримом пространстве от Испании до Фракии стоят еще никем не побежденные легионы.
В двух шагах от трона посол остановился и резко запрокинул голову. В этой позе сквозило оскорбительное равнодушие, с каким владыки мира обращались со своими коронованными союзниками.
— Сенат и римский народ, — отчеканил посол, — желают здравствовать сиятельной Лаодике, а также сыну ее Митридату Евпатору! Да хранят к вам боги свое благоволение на вечные времена!
Он сделал паузу, чтобы перейти от приветствия, обычного в дипломатическом этикете, к сути дела.
— Нам поручено передать, что в твоих владениях скрывается опасный преступник по имени Моаферн. Вот его приметы. — Римлянин неторопливо развернул свиток и поднял его к лицу. — Роста выше среднего. Волосы с проседью. Брови сросшиеся. Нос прямой. Глаза синие…
Царица уронила голову на резную спинку трона. Смертельная бледность разлилась по ее лицу. В зале засуетились царские друзья и слуги. Над головой Лаодики затрепетали, как пестрые птицы, опахала.
Римлянин читал, закрытый свитком, как щитом. Слова его падали с размеренностью капель в водяных часах.
— Скрывшись из тюрьмы Эфеса, он прибыл в Гераклею. Оттуда рыбаки переправили его в Синопу. Преступник подлежит выдаче согласно нашему договору о вечном союзе и дружбе.
Закончив чтение, римлянин свернул свиток и на негнущихся ногах важно зашагал к выходу.
Едва стих стук его калиг, как из-за ближайшей колонны к трону скользнула фигура в длинном жреческом одеянии. В движениях человека было что-то от летучей мыши.
— Ариарат! Ариарат! — можно было уловить в испуганном шепоте.
Слуги и придворные торопливо покидали зал. Жрец поправил запрокинутую голову Лаодики и дотронулся до ее руки. При этом вся его фигура изогнулась и застыла в неестественно напряженной позе.
— Роста выше среднего. Глаза синие… — в беспамятстве шептала царица. — Можно ли это забыть? Полнеба охватила комета. Умер Аттал. Восстал Аристоник. Родился Митридат… Те же волосы и взгляд, сын Моаферна…
Лаодика очнулась. В глазах появился свет, и она стала различать предметы. И первое, что она увидела, это были вытянутые в напряженной улыбке губы Ариарата.
— Меня напугал посол. — Лаодика вытерла выступивший на лбу пот. — Словно обрушилась какая-то тяжесть. К горлу подступила дурнота, и веки сомкнулись. Кто этот римлянин?
— Маний Аквилий Младший, — ответил Ариарат.
Лицо царицы приобрело белизну мраморной колонны.
— Неужели у римлян одни Аквилий? — почти простонала она.
— У римлян много знатных родов! — воскликнул Ариарат. — Но в Азии, слава богам, свили гнездо Аквилий, римские орлы. У них могучие крылья, острое зрение. Им известно все!
Лаодика испуганно вскинула брови. Она не узнавала Ариарата. Когда-то он понимал ее лучше других. И хотя она никогда не раскрывала ему своей тайны, он помог ей избавиться от страха. Его взгляд приносил успокоение. Но теперь в нем появилось что-то новое, незнакомое.
— Владычица Кибела поселилась на равнине, — продолжал жрец. — Там ее чертог. Ей служат львы, а не дельфины. Она возлюбила пастырей, а не мореходов. Море приносит дурные вести. Горы преграждают им путь. Брось этот город, царица! Верни своему царству благоволение Кибелы!
Жрец обернулся и с отвращением взглянул в пространство между колоннами, заполненное морской синевой. Волны назойливо шумели, словно отвергая его доводы и доказывая что-то свое.
СИНОПА
Далеко уходящий в море мыс, если взглянуть на него с прибрежных холмов, напоминал лопасть весла. Эллины рассказывали, будто оно было брошено побежденными гигантами, пытавшимися переплыть Понт.
В том месте, где лопасть скруглялась, переходя в рукоять, раскинулась венчанная морем Синопа. Голубые бухты оттеняли пурпур черепичных крыш и матовую белизну крепостных стен, отделявших город от берега и широкой части мыса. Как пышные персидские тиары, вздымались башни царского дворца. Сверкали колонны бесчисленных храмов. Зеленели сады и оливковые рощи, уходящие к долине Фермодонта. Темные линии виноградных лоз были натянуты на прибрежные холмы, как струны кифары. На всем южном побережье Понта Эвксинского не было места, лучше устроенного природой и украшенного изобретательностью людей.
Отдаленное прошлое Синопы овеяно легендами. Они повествуют о добытчиках железа — халибах, проводивших всю жизнь в подземных штольнях и кузницах. Рассказывают, что и теперь корабли, плывущие вдоль ночного берега, освещаются багровым пламенем горнов. К востоку от Синопы помещали отважных наездниц — амазонок. От них, изгнавших из своего племени мужчин, будто произошли древнейшие обитатели побережья — сиры. Историю города эллины вели с похода аргонавтов, остановившихся во владениях сиров по пути в Колхиду. Синопские судовладельцы, торговцы рабами и лесом считали себя прямыми потомками отважных искателей золотого руна. Ведь и их богатства притекали из далеких стран, населенных варварами.
Южная гавань была украшена бронзовой статуей Автолика, спутника Геракла. Синопейцы уверяли, что она отлита из меди отслуживших свой век корабельных колоколов и сама по себе гудит, предупреждая о надвигающихся бурях. Эта басня, дополненная рассказом о мореходе, который не поверил Автолику и, конечно, был поглощен свирепым Понтом, оказывала на заезжих купцов неизменное действие: в щель полой статуи сыпались монеты — бронзовые, серебряные и даже золотые.
Оказавшись вне опасности, жертвователи проявляли свойственную человеческой природе неблагодарность и распространяли о синопейцах и их покровителе всяческие небылицы. Каждого синопейца, будь то на море или на суше, вместо обычного приветствия встречали словами: «Ну как, гудит?»
Так за синопейцами установилась слава людей, изобретательных во всем, что касается наживы. И они ею не тяготились, напротив, делая все, чтобы ее преумножить. Они научились извлекать выгоды даже из собственных несчастий!
Когда Синопа была вероломно захвачена каппадокийским царем Фарнаком, весь греческий мир содрогнулся от негодования. Как только не оплакивали горькую судьбину синопейцев! Но не прошло и двух десятилетий после первых пролитых слез, как по соседству со статуей Автолика появилась мраморная фигура Фарнака. Этот варварский царь оказался истинным благодетелем Синопы. Давая своим сыновьям персидские имена, поклоняясь Ормузду и персидской троице, Фарнак покровительствовал эллинам и эллинской культуре. Он украсил город великолепным гимнасием и пригласил в Синопу выдающихся ученых. Цари, сменившие Фарнака, считали его основателем Понтийского царства и клялись его гением.
Сын Фарнака, Митридат Эвергет, покинул царскую резиденцию Амасию и сделал своей столицей Синопу. При нем была сооружена агора, красотой которой так гордились синопейцы, укреплены стены, построены новые доки. Никто больше его не заботился о процветании торговли Синопы. В обеих гаванях столицы можно было видеть корабли изо всех городов Внутреннего моря. Они уходили, нагруженные рабами, понтийской древесиной, железными болванками, мешками с красной охрой, известной также под именем «синопиды». Сами синопейцы проникали в долины Кавказа и Таврики, к берегам Каспия, в сарматские степи. Всюду знали статеры и драхмы, на лицевой стороне которых красовались профили понтийских царей, а на оборотной орел терзал когтями дельфина. Этими монетами синопейцы расплачивались за скифское зерно, родосское вино, иберийское чеканное серебро, пергамские ткани, затканные золотом.
Херсонеситы, с которыми Синопа вела бойкую торговлю, называли синопейцев, «рабами царей». Но им, гордившимся своей демократией, можно было напомнить, что они не раз обращались за помощью к царям Понта или правителям Боспора. И лучше подчиняться царям, чем испытывать вечный страх тред нашествием варваров и своеволием собственных рабов.
Так думали все синопейцы, владевшие виноградниками, оливковыми рощами, соляными варницами, — все, кому принадлежали мастерские и рудники, доки и корабли. Посвятительные надписи в честь варварских царей не были обычной лестью подданных. Это была благодарность за богатства, сыпавшиеся на город, как из рога изобилия.
За Золотым веком следует Серебряный, а Серебряный сменяется Медным. Об этом в старину писал Гесиод, соперничавший известностью с Гомером. Синопейцы почувствовали перемены, когда на статерах профиль Эвергета сменился профилем его супруги Лаодики.
Эллины не любили женской власти. Одно дело быть подданным варварского царя, другое — подчиняться царице. Недаром ведь на блюдах в назидание домоправителям и домочадцам писалось: «Не слушай женщины!» Не случайно Троянская война разгорелась из-за Елены, а Пелопонесская из-за Аспасии!
Но в конце концов можно было бы примириться и с царицей, если бы не ее покровители и союзники — римляне. Уже Эвергет отправлял им на помощь корабли и помогал им войсками. Но, во всяком случае, он не позволял себе садиться на голову! Теперь же римские корабли освобождены от пошлин, римские откупщики владеют серебряными рудниками Понта. Их рабы источили горы, как кроты. У самого трона стоит прихвостень римлян Ариарат, соединивший в своих руках несовместимые должности: он и верховный жрец богини Кибелы, и начальник следствия. Темницы Синопы, Трапезунда, Амиса забиты людьми, подозреваемыми в отравлении Митридата Эвергета или в попытках отравления Лаодики. А сам «мастер ядов»— так называли могущественного жреца — не только оставался на свободе, но и судил невиновных.
Недовольство, давно нараставшее в народе, нашло в тот день выход. Стало известно, что прибывший в город римский посол нагло потребовал выдачи Моаферна. Это неслыханно! Ведь Моаферн не какой-нибудь беглый раб, а человек, в жилах которого текла царская кровь! И Ариарат вместо того, чтобы встать на защиту брата Эвергета, разослал по дорогам стражников. Глашатаи объявляют награду за его голову!
Люди, собравшиеся в Северной гавани, менее всего напоминали предприимчивых торговцев или праздных зевак. По хламидам в желтых подтеках можно было узнать горшечников. У плотников волосы были в стружках, а руки в смоле. Писцов выдавали бледные лица и худоба. Всех их привлекла бирема «Беллона», доставившая в Синопу римского легата.
Каждый, кто знал синопейцев, быстро бы сообразил, в чем дело, и не стал бы дожидаться попутного ветра. Но посольство в Синопу было первым самостоятельным поручением Мания Аквилия Младшего. Привыкший к раболепию эллинов Азии, он не обратил внимания на толпу.
Синопейцы не обнаруживали ни почтения, ни страха. Началось с оскорбительных выкриков, кончилось градом камней и черепицы.
Кормчему удалось отцепить сходни и отрезать якоря. «Беллона» отделилась от берега, сопровождаемая негодующим ревом толпы: «Вон! Вон!»
Маний Аквилий чувствовал себя, как Одиссей между Сциллой и Харибдой! Позади — разъяренная чернь. Впереди — встреча с отцом, не прощающим ошибок. Да и как он сможет оправдаться? Не надо было оглашать приметы Моаферна вслух. Достаточно их просто передать Ариарату. Такова инструкция! Но ему захотелось показать этим персам и грекулам, чего они стоят! Отец, конечно, напомнит, что сейчас не время для ссоры с союзниками. Он назовет его «луканской тыквой»и придумает десятки других, еще более оскорбительных ругательств.
«И, кажется, он будет прав! — думал Маний Аквилий. — Вместо Моаферна я привезу в Эфес груду камней и черепицы, которыми забросали корабль! Моаферн уже начал действовать. Камни — ото только начало!»
ПОДЗЕМНЫЕ БОГИ
Извилистые и запутанные коридоры тянулись на много стадиев, составляя вторую, подземную Синопу. Это были катакомбы, образованные многовековой выработкой камня, царство мрака и летучих мышей. Ходили слухи, что под землей существует такой же великолепный дворец, как снаружи, и там правит царь с совиными глазами. От его взгляда не ускользает ни один обман, ни одно злодеяние. Он уводит неправедных в свои темницы, и, если приложить ухо к земле, можно услышать их стоны и бесполезные жалобы.
Все эти басни были на руку тем. кто избрал катакомбы своим убежищем. Под землей они чувствовали себя в безопасности. Редкий соглядатай отваживался подойти к лазу. А тот, кому бы вздумалось спуститься, легко мог заблудиться в бесконечных проходах или сломать голову в специально вырытых ямах.
Дрожащее пламя факела выхватывало из мрака бледное узкое лицо. Редкие волосы спускались на лоб, почти касаясь прямой линии сросшихся бровей. Глубоко посаженные глаза выдавали человека решительного, не привыкшего останавливаться перед препятствиями.
Его собеседнику можно было дать на вид лет сорок. На круглом лице живо блестели миндалевидные глаза.
— И в Синопе мне вреден солнечный свет! — с горечью сказал узколицый. — Из темницы в трюм, из трюма в подземелье. Еще немного, Диофант, и я научусь видеть в темноте, как крот.
— Как бог, — поправил Диофант. — Ибо нас называют подземными богами. Мы видим всех, но никто не видит нас. Ариарат дорого бы заплатил, чтобы узнать наши имена.
— Когда я покидал Синопу, этот человек владел землями близ Команы. Он выращивал коней для царской кавалерии. Теперь он жрец Кибелы и второй человек в государстве.
— У нас говорят: «Нечисть заводится в стоячей воде».
— И в этом есть свой закон, — сказал Моаферн задумчиво. — Митридатиды рвались к морю подобно стремительному горному потоку, дробя скалы. Они сокрушали все на своем пути. И вот путь пробит. Нет преград. И у самого моря мелеет могучая река, засоряемая песком. Митридата надо вернуть горам.
— Я не понимаю тебя! — воскликнул Диофант удивленно.
— Я говорю о Париадре. Там реки идут крутым путем, и взору открыт горизонт. Там место царю!
— Но это дикие горы, — возразил Диофант. — Митридат забудет все, что знал!
— Пусть начнет с гор. А море от него не уйдет,
АВТОЛИКИИ
Ипподром Синопы переливался всеми цветами радуги, Колыхались яркие хитоны и кандии. Ветер надувал пурпурный полог, натянутый над царской ложей, и он хлопал, как парус.
Скачки были любимым зрелищем синопейцев. Их относили к незапамятным временам и связывали с походом Геракла против амазонок. Царица воинственных дев Синопа приняла юного фессалийца Автолика, корабль которого был разбит бурей. Вместо ненависти к пришельцу амазонка потянулась к нему всей своей еще не огрубевшей душой. Она обещала заплатить Гераклу дань, если Автолик победит ее в скачках. В противном случае он должен был остаться с амазонками навсегда. Автолик, которого на родине называли «покорителем коней», согласился на эти условия. Его не пугало поражение: он полюбил Синопу. Скачки состоялись на равнине, выше Весла. Синопа сразу же обогнала Автолика, но у ручья, избранного метой, враждебный амазонкам Гелиос опустил тень. Напуганный конь Синопы поднялся на дыбы и сбросил наездницу. Амазонки, потеряв царицу, откочевали за горы Кавказа в степи Сарматии. Автолик же, опечаленный гибелью Синопы, заложил город и назвал его ее именем. В память о ней он также учредил скачки, проходившие раз в четыре года в начале десия, того месяца, когда весна переходит в лето. Их назвали Автоликиями.
Автоликии славились далеко за пределами понтийской столицы. В них участвовали прославленные каппадокийские кони, секрет выращивания которых знали лишь обитатели Фемискиры. Уверяли, что их вскармливали не овсом и ячменем, а сахарным тростником, растущим в долине Фермодонта. С каппадокийцами соперничали по выносливости гагры — мохнатые, коротконогие, приземистые лошадки, чем-то похожие на своих неутомимых наездников-пафлагонцев. Кони иберов были мускулисты и коротконоги. Узкие тропы на краю пропасти, переправы через горные потоки, спуск по крутым склонам выработали неповторимую мягкость и эластичность движений, осторожность и цепкость, которые так ценились знатоками. Из-за таврских гор привозили высоких стройных скакунов. В просвечивавших сквозь тонкую кожу жилах текла кровь, горячая, как ветер пустыни. Это были нисейские кони. Одни считали, что их вырастили мидяне, другие — армении. Было известно, что коней этой породы персидские цари предпочитали всем другим.
Скачки собирали знатоков благородного искусства ристания. Их речь густо пересыпана словами, не понятными простому смертному. Они относятся с презрением к входившим в моду петушиным боям. Они не могут слышать о римлянах только из-за их пристрастия к схваткам гладиаторов. Для них нет зрелища более достойного и благородного, чем бег коней. По каким-то признакам они могут определить происхождение и возраст скакуна. Тавро на бедре для них — история, уводящая в век Ахеменидов.
Праздник Автолика привлекал и тех, кому ничего не стоило спутать игреневую масть с гнедой, а иноходь с галопом. Им ничего не говорили шея и линия спины, размет передних ног. Они любили скачки за пестроту одежд, за необычное волнение, заставлявшее забыть все будничное. В день Автолика они могли видеть царя, его родственников и друзей. Скачки давали ощущение близости с теми, кто стоит наверху и живет неведомой народу жизнью.
С незапамятных времен повелось, чтобы скачки открывались выездом царя. Старожилы помнили, что Фарнак управлял упряжкой из девяти коней. Конечно, никто не ожидал, что внуку Фарнака доверят хотя бы четверку. Но ведь можно показать свое искусство и в беге на два парасанга с препятствиями или в заезде на три парасанга. Известие, что в состязаниях выступит юный царь, привлекло всех, кому дорога слава Понта и его будущее.
Наездники появились внезапно, словно выросли из-под земли. Тысячи голов повернулись к ним. Четверо в коротких хитонах, перетянутых поясами. Юный царь в голубом, расшитом золотыми нитями. Чалый конь под ним нетерпеливо бил копытами. Его соперники в черном, розовом и зеленом плащах вывели коней вороной масти.
По ипподрому волной прокатился шум. Знатоки заспорили о породе царского скакуна. Удивительно, что он еще ни разу не участвовал в забеге. Он короткоголов, как пафлагонский гагр, но у него сухие и стройные ноги. Те, кто ничего не понимал в конях, восхваляли осанку царя, его красоту. «Смотрите, как он высок и строен! Разве дашь ему двенадцать лет?! А волосы, позолоченные Гелиосом! И какая гордая осанка!»
Взоры перенеслись к царской ложе. Мать царя, Лаодика! Она в белой столе с серебряной перевязью через грудь. Нет, это не ее обычный наряд. Так на мозаике в тронном зале изображена владычица амазонок Синопа. Лаодика хочет показать, что она — ее наследница, что ей дорог этот праздник, в котором впервые выступает сын. И синопейцы, кажется, уже не замечали фигуру в черном гиматии рядом с царицей. В конце концов, все на свете имеет свою тень.
Но вот взлетел платок, возвещая начало скачек. И взоры обратились к зеленому полю. Ровно, грудь в грудь, мчались кони. Наездники прижались к их гривам. Сейчас первый ров!
Но что это? Чалый конь стремительно взметнулся на дыбы. Всадник в голубом едва удержался на крупе. Конь, почуяв его слабость, метнулся к барьеру.
Вопль ужаса потряс ипподром. Ариарат склонился над царицей, закрывая от нее зеленое поле своей черной одеждой.
Диофанта пронизала догадка: жрец также делал ставку на Автоликовы скачки! Он подобрал норовистого коня. Смерть Митридата во дворце выдала бы его с головой. Народ помнил об Эвергете!
Мальчик висел на боку у скакуна. Еще одно мгновение, и он ударится головой о мету…
На глазах у зрителей произошло чудо. Митридат подобрал поводья и натянул их одним рывком. Конь повел головой, почувствовав недетскую силу. Он снова вспрянул на дыбы, пытаясь сбросить седока. Но тот словно прирос к его спине. В пестром вихре неслись перед Митридатом проходы между рядами, царская ложа, желтый песок и открытые ворота ипподрома.
Крик ликованья вырвался из тысяч уст. В воздух взлетели войлочные шляпы и зонтики. Народ был восхищен великолепным зрелищем.
Эллины вспоминали, что по линии Лаодики Митридат — потомок Александра Македонского. И он повторил его подвиг! Он покорил своего Буцефала. Персам Митридат казался вторым Киром, потомком которого он был по отцовской линии. Кира воспитали пастухи. Он обуздывал диких коней до того, как покорил все народы Азии.
А Митридат словно не радовался своей победе, не замечал всенародного восторга, не слышал обращенных к нему призывов. Прижавшись к мокрой шее покорного скакуна, он мчался к воротам.
В ОВРАГЕ
Человек в коротком плаще — на вид ему можно было дать лет двадцать пять — пил из рога маленькими глотками. Казалось, он не замечал всадников, не слышал приближавшегося топота и криков погони. Может быть, ему хотелось показать мальчику, гладившему шею загнанного коня, как надо встречать опасность? И лишь когда первый из преследователей (это был Ариарат) поравнялся со сломанным дубом, он схватил мальчика за руку и потянул к оврагу.
Они стремительно неслись вниз, перепрыгивая через переплетенные корни. Ветки наотмашь хлестали по лицу. Колючки раздирали одежду…
Шум погони становился глуше, а потом и вовсе замер. Колючий кустарник сменился ветвистыми деревьями. В полумраке, подобно старинному зеркалу, поблескивало озерцо. Пахнуло гнилью и сыростью.
Беглецы остановились. Один был невысокого роста, но с мускулистым загорелым телом. Другой — высок и строен. По длинным волосам и нежной, не загрубевшей коже рук его легко было принять за одного из тех юнцов, чей жалкий удел — украшать непристойные господские пиры и забавы. Складка губ была капризной, как у тех, кто знает о своей неотразимости и умеет извлекать выгоду из красоты. Так во всяком случае показалось его разгоряченному бегом спутнику.
— Вот мы и дома! — Он посмотрел на едва пропускавшие свет древесные кроны. — Крыша над головой! — Прикоснувшись пальцами к влажной осоке, он добавил значительно: — Постель!
Мальчик не ответил. Во взгляде его сквозило недоверие и, может быть, неприязнь.
— Чего нам с тобой не хватает? — продолжал старший, забавно морща лоб. — Ах! Мы еще не представились друг другу.
Он отступил на шаг и сделал неуклюжий поклон, воображая, что именно так знакомятся люди высшего круга.
— Алким, сын Гермодора, херсонесит.
Мальчик молчал, угрюмо глядя себе под ноги.
Назвавшийся Алкимом с участием взглянул на него.
— Понимаю! — выдохнул тот. — У моего первого хозяина, рыботорговца, кол ему в глотку, была привычка давать рабам мудреные имена. Конюха он называл Хатроматидом, повара — Фереогандром. Мне он придумал кличку Сисомалей. Только и слышал: «Сисомалей! Подай сандалии. Сисомалей! Налей вина. Сисомалей, негодный! Снимай хитон!» Ко всему приспособился. А вот к кличке этой привыкнуть не мог. Тьфу! Сисомалей! Когда он в море тонул, думал, что я его спасать буду. Захлебывается и кричит: «Сис… Сис…»С этим и на дно пошел, к своим рыбам. В доме все были рады-радешеньки, что от него избавились. И госпожа первая. Не стала она меня благодарить. На другой день продала! «Не нужен, говорит, мне такой раб!» Купил меня Диофант, синопеец. Слышал, наверное? Историю он пишет. Я ему для нее и понадобился. Однажды призывает меня к себе и на свиток показывает, что на столе развернут. «Есть у вас в Херсонесе муж многомудрый, Дамосикл. Я ему первую книгу своей истории послал, а вторую ты отвезешь. В ней о временах Фарнака и о том, как он с Херсонесом союз заключил». Не дали ему боги эту книгу закончить. — Алким вздохнул. — Умер царь Эвергет, его покровитель.
У мальчика затряслись губы. Алким этого не заметил.
— Все он забросил. Сидит, подперев руками голову, или бродит. На месяц куда-то уехал, а когда возвратился, говорит мне: «Просьба к тебе, Алким! Беги к Волчьему оврагу. Туда мальчик придет». Больше ничего не сказал. Два дня я тебя ждал. Съел все, что с собой прихватил. Вот осталось…
Он протянул мальчику лепешку. Тот поглядел по сторонам, словно желая убедиться, что никого нет, и жадно вонзил в нее зубы.
— Ты не бойся! — продолжал Алким. — Здесь тебя не найдут. А хитон я тебе отыщу. Ты где его бросил?
— Волки здесь есть? — Это были первые слова, которые произнес мальчик. Судя по акценту, он не был эллином. Он говорил не «есть», а «эсть».
— Сейчас. — Алким подошел к кусту болиголова и поднял прицепившийся к колючкам клок шерсти. — Вот! Но волки нам не страшны! Я от них слово знаю, заклятье! Как бы от людей такое слово узнать, чтобы они от нас бежали… Тому, первому, я бы голову оторвал. Очень уж он злой,
— Это Ариарат, — пояснил мальчик.
— Ариарат? — Удивился Алким. — Что ему от тебя надо?
Мальчик наклонил голову. И только теперь Алким увидел, что волосы у него редкого золотистого цвета.
— Можешь не объяснять, — сказал Алким. — От таких и безногие бегут! Диофант на что добрый человек, а говорит: «По Ариарату кол скучает».
— Я слышал, — продолжал он, понизив голос, — что Ариарат царя погубил, дав ему вместо лекарства отраву. Болтают, что он и царицу околдовал. Хочет увезти ее из Синопы. Только я думаю, что в нее вселились эринии. Потому что у нее совесть нечиста.
— Молчи! — закричал Митридат, вскидывая голову. — Молчи, раб! Это моя мать!
«ЭФЕССКИЙ СЕНАТ»
Говорят, выдающимся людям свойственны странности. И по этому признаку устроитель Азии Маний Аквилий вполне мог быть отнесен к великим мира сего. Нет, он не занимался вышиванием, не собирал уродцев из Африки. У него была иная страсть.
В те дни, когда легионеры очищали Пергам от повстанцев, однажды консул наткнулся в царском дворце на зал восковых фигур. Он напоминал поле боя с трупами поверженных, обезглавленных, раздавленных колесницами врагов. Любой римлянин на месте Аквилия приказал бы собрать этот хлам и перетопить на воск, имевший немалую цену. Но консуляр поднимал восковые головы, отделенные от туловищ мечами, с таким сокрушенным видом, словно они были из шкафа предков в его атриуме, а не принадлежали каким-то азиатским царям. Тогда же он приказал восстановить эти фигуры и перевезти их в Эфес, в свой таблин. Впоследствии он пополнил коллекцию Аттала новыми изваяниями, заказав слепки с многих сенаторов и царей как союзных Риму государств, так и независимых. Из зала были удалены лишь изображения гетер. Все фигуры в таблине были в одеждах и имели вполне пристойный вид. Это должно было говорить о благочестии устроителя Азии, как стали называть Мания Аквилия.
Секретарь, грек Эвмел, знал любимцев и любимиц консуляра. Маний Аквилий мог часами сидеть перед фигурой какого-нибудь македонского царя или афинского оратора, изучая каждую морщинку на их желтых лицах. Но потом наступало охлаждение, и фигуры отодвигались в темный угол зала, покрывались там пылью или паутиной.
Редко кто удостаивался чести быть допущенным в «эфесский сенат», как вскоре стали именовать таблин Мания Аквилия. Едкость этой насмешки мог оценить лишь тот, кто знал властолюбие устроителя Азии. Консуляр не считался с мнением римских сенаторов, пренебрегал советами знатных пергамцев. В то же время он никогда не отказывал в приеме этому понтийцу Ариарату.
О чем они беседовали, оставшись наедине? Может быть, жрец убеждал римлянина перейти в свою веру. Ведь и среди нобилей появились прозелиты Кибелы, предпочитавшие ее греческим богиням.
Ариарат заметил, что восковые фигуры стоят лицом к стене, словно их наказали за какую-то провинность.
— Это ты? — послышался хриплый голос.
Ариарат посторонился, пропуская консуляра. Лицо римлянина было спокойным и даже приветливым. Лишь едва вздрагивавшие кончики губ выдавали тревогу.
Слушая рассказ об Автоликиях и о бегстве Митридата, Маний Аквилий ходил по кругу, останавливаясь то у одной восковой фигуры, то у другой. Могло показаться, что консуляр решал для себя какую-то загадку.
Когда Ариарат перешел к тайне Лаодики, связав ее с бегством Моаферна, Маний Аквилий сделал нетерпеливое движение:
— Нет, нет! Лаодика здесь ни при чем! Эти два побега — из Эфеса и Синопы — дело обитателей вашего «подземного Олимпа».
— В Синопе нет влиятельных друзей Эвергета, — возразил Ариарат. — И я не знаю, кто бы мог без ведома Лаодики послать корабль в Эфес.
— А этот? — спросил консуляр, бросаясь к стене. Он схватил восковую фигуру и повернул ее.
— Диофант! — воскликнул жрец, пораженный не столько предположением римлянина, сколько тем, что синопеец оказался в «эфесском сенате».
— Диофант, сын Асклепиодора! — подтвердил Маний Аквилий.
— Но он не покидает Синопы. За свитками он не видит света.
— А писания его расходятся повсюду. Вчитайся в его «Историю Понта», и ты поймешь, как он опасен. Диофант вскружил голову твоим синопейцам, и они бредят морем и кораблями. Торгаши мечтают о подвигах аргонавтов! Лаодика для них помеха! Им нужен этот!
Маний Аквилий повернул фигуру, находившуюся рядом. И сразу Ариарату вспомнилось монотонное чтение: «Роста выше среднего, брови сросшиеся…»
— Моаферн! — воскликнул жрец.
Маний Аквилий медленно, как бы рассчитывая на эффект, поворачивал еще одну восковую фигуру.
Ариарат едва не вскрикнул. На него смотрел Митридат Эвергет! Таким он видел его в последние минуты прощания. Та же мученическая складка губ и слегка прищуренный глаз, словно царь знал своего убийцу.
— Два брата, — сказал римлянин, пододвигая фигуры друг к другу. — Если бы я был женщиной, я выбрал бы того. — Он ткнул на Моаферна. — Смотри, какой гордый поворот головы и решительность во взгляде. Но меня больше устраивал этот, с мягкими линиями и женственным ртом.
Он положил ладонь с короткими пальцами на плечо фигуры Эвергета.
— Ты сделал ошибку, Ариарат, — продолжал он доверительно. — Нить Лаодики завела тебя в тупик. Царица связана с тобою преступлениями, и для нее это сильнее любви.
Ариарат опустил голову. Маний Аквилий преподал ему урок политики. Кажется, в этом искусстве воск необходим так же, как яд.
В ГОРАХ ПАРИАДРА
За ночь долина побелела. С неба валили перья, словно где-то очень высоко пролетали огромные птицы и трясли сверкающими крыльями.
Митридат стоял с вытянутыми руками. Лицо его выражало недоумение. Почему земля, крыша хижины покрыты белыми перышками, а его ладони, сколько бы он их ни держал, оставались пустыми. Он стоял до тех пор, пока из хижины не выбежал Алким, вставший позднее обычного.
— Снег! — радостно закричал Алким. — Снег!
Наклонившись, он схватил полные пригоршни снега и стал бросать его вверх, на себя, на Митридата.
— У нас, — захлебываясь, говорил херсонесит, — тоже падает снег, но быстро тает. Поэтому мы торопились играть. Мы лепили скифов.
Он набрал снега, сжал в комок и стал катать его. Митридат с восторгом и удивлением наблюдал за Алкимом.
Белый ком рос на глазах. Сначала он был величиною с круглый камешек на берегу за городской стеной, куда Митридата выводили под присмотром бесчисленных нянек и стражей. А теперь он больше ядра для катапульт, которое он видел у арсенала.
— Что ж ты стоишь? — крикнул Алким. — Помогай!
За месяц, проведенный в горах, не осталось и следа от пропасти, разделявшей поначалу Алкима и Митридата. Казалось, Алким забыл, что он — вчерашний раб, а Митридат — царь. Для него он был младшим братом, нуждавшимся в защите. В первое время Митридату казалось странным, что приходится работать, как какому-нибудь поденщику. Но вскоре он стал находить удовольствие в том, что не уступает своему новому товарищу в ловкости и силе. Он мог выламывать камни, рубить дрова, разжигать костер. По первому слову Алкима он бежал к ручью за водой.
Так и теперь, услышав: «Помогай!», Митридат погрузил ладони в снег. И вот уже растет его шар — такой же ровный, круглый, как у Алкима.
— Хватит! — сказал херсонесит.
Он схватил комок Митридата и водрузил его на свой ком. Все вместе стало напоминать человеческую фигуру. Для большего сходства Алким воткнул в верхний шар два уголька, а под ними щепку.
— В степи за Керкинитидой стоят такие же, — добавил он, отступая на несколько шагов. — Только они из камня. Мы называем их скифами. Когда я был эфебом, нам приказали доставить одного скифа в город. Мы тащили его впятером по очереди. Сколько раз мы скатывали его с горы, а он целехонек. Ничего с ним не делается! Так и донесли. Стратег приказал поставить скифа на агоре рядом с медной статуей Геракла. Тогда мы поняли. Скифы нам войну объявили. Их царь Скилур послов прислал. Грозил нас в море сбросить, потому что мы пришельцы. И наши обычаи ему не нравятся, и наши боги. Вот и решил стратег поставить скифа рядом с Гераклом. Пусть граждане сами сравнивают, кто лучше! Только недолго стоял скиф на агоре. Увидел его басилей, жрец наш, и приказал в море бросить. И город очистить, словно от скверны. Потому что не пристало скифской образине рядом с Гераклом стоять.
— Эге-ге! — послышался чей-то голос, усиливаемый эхом.
— Бежим! — бросил Алким. — Кто-то просит о помощи.
И вот они бегут, проваливаясь и падая.
В полузанесенных снегом кустах чернела человеческая фигура. По длинной осыпи на холме было видно, что человек поскользнулся и упал. Если бы его не задержали кусты, он скатился бы в пропасть.
Поддерживая друг друга, Алким и Митридат спустились к кустам. Человек был без сознания. Но стоило Алкиму прикоснуться к его плечу, как он застонал. Лицо его было искажено от боли.
Это был Моаферн.
В долгие зимние месяцы Митридат совершал мысленные путешествия по неведомым ему странам. Проводником был Моаферн. Рассказывая Митридату о прошлом, он как бы рассчитывался с ним за все то тяжелое и горькое, что оно ему принесло.
Моаферн повел мальчика в Карфаген, город, которого уже не было. Митридат ходил по улицам, наполненным разноязыкой толпой, стоял перед сверкающими медными статуями. И потом он видел эти улицы и храмы, полными трупов. Он вдыхал едкий запах гари. И хотя понтийские триеры были посланы отцом на помощь римлянам, Митридат был на стороне осажденных.
Пергам! Имя этого города отзывалось в сердце какой-то непонятной тревогой. Три террасы гимнасия, врезанного в склон акрополя. Здесь Моаферн читал Гомера и Аристотеля, бросал диск, счищал стригилем потное и разгоряченное тело. Среди сотен имен на мраморных досках было и его имя. Прохлада Пергамской библиотеки. Статуя Афины. Шкафы. За соседним столом юноша, склоненный над свитком. Удивленная складка на лбу. Открытый взгляд. «Как твое имя?»— «Аристоник!»— «А твое?»— «Моаферн. Брат царя». — «И я тоже». — «Что ты читаешь?»— «Ямбула. Государство Солнца».
Гимнасий, библиотека, агора, дворец. Через десять лет они стали орхестрой для великой трагедии.
Короткими и точными штрихами Моаферн сумел охарактеризовать ее главных героев: подозрительный, одержимый страхом Аттал; Аристоник, повзрослевший, много понявший, но такой же непримиримый; злобный и жадный римлянин Маний Аквилий, волк в тоге. Действие разворачивалось стремительно, как в творениях Эврипида. Первой на сцену выступала Клевета. Она была в маске дружбы. Она расточала похвалы, притворно удивлялась великодушию и нашептывала. Каждое ее слово было медленным ядом, проникавшим в кровь. «Кто этот Аристоник?»— «Сын моего отца от рабыни…»— «Твой брат?»— «Да…»— «И наследник?»— «Я над этим не задумывался». — «Пора и подумать, если не хочешь опоздать». — «Тебе что-нибудь известно?»— «Ничего нового! За благодеяния не платят благодарностью».
Изгнав по навету своего сводного брата, Аттал лишился наследника. Наследником стал Рим, не остановившийся перед убийством царя и подделкой его завещания. Таково было первое действие Пергамской трагедии.
Второе началось в горах, где Аристоник собирал всех униженных, недовольных, всех отчаявшихся в справедливости. Они называли себя гелиополитами. Моаферн знал их не понаслышке, не по отзывам врагов. Он сам сражался в их рядах, сам видел, как бежали римские легионы под Левкою, как ликующие эллины встречали победителей. В голосе Моаферна звучало то же ликование, слышался тот же восторг.
Третье действие трагедии Митридат пережил как свою беду. Отец прислал римлянам новое войско. Как он не мог понять, кто его враг? А когда ему стало ясно, что такое римское владычество, римляне уже вошли в Пергам. Моаферн рядом с Аристоником шагал перед триумфальной колесницей Мания Аквилия Старшего. Они расстались у Мамертинской тюрьмы. Аристоника ждала смерть, а Моаферна — каменная башня на холме, возвышающемся над Эфесом.
Долгана очистилась от снега. В косых лучах Гслиоса она напоминала полуразвернутые восковые таблички, исчерченные ручьями, исписанные каменными осыпями, разукрашенные голубыми пятнами озер. И как белоголовый мудрец застыл над долиной Париадр, словно удивленный своим собственным творением.
Моаферн перевел дыхание. Как не похожа эта долина на ту, зимнюю! Как богаты краски! Как свежо и великолепно это сочетание зелени, голубизны, сверкающей белизны!
— Дядя! — послышался звонкий мальчишеский голос.
Митридат ринулся в объятия к Моаферну.
— Я увидел тебя из нашей крепости. Вот оттуда! — захлебываясь, говорил мальчик. — Ты знаешь, у нас новая хижина. Мы натаскали камней. Алким сделал бойницы, как у себя в Херсонесе. А потом мы играли в скифов…
Митридат не успел закончить свою сбивчивую речь, как показался Алким. Приветствуя Моаферна, он поднял руку. Стало видно, что она обмотана белым.
— Видишь, — начал Алким, — и я воевал.
— Молва о ваших подвигах догнала меня в Амисе. Пришлось вернуться с полпути. Говорят, что их было трое?
— Четверо, — сказал Митридат. — Но трое бежали, а четвертого я сбросил с обрыва. Он уцепился за ползучее деревце и висел, пока было сил.
Во взгляде Моаферна гордость сменилась укоризной.
— Стоило спускаться в пропасть из-за какого-то негодяя!
— Но он хотел меня убить, а попал в Алкима. И я бы его вытащил, если бы Алким дал мне свой пояс, чтобы надвязать веревку…
— Алким поступил правильно и заслуживает награды. Тебя же надо наказать.
Мальчик насупился.
— Меня не наказывают. Я царь!
— Поздно ты об этом вспомнил, — улыбнулся Моаферн. — И кто тебе сказал, что царей не наказывают?
Он засунул руку за гиматий и вытащил оттуда свернутый свиток.
— Вот твое наказание. Ты выслушаешь все, что я тебе прочту, и сделаешь то, что скажу.
— Кто это написал? — спросил мальчик, ощупывая край свитка.
— Аттал.
— Ты мне о нем рассказывал…
— Не все! Ты еще не знаешь об увлечениях этого чудака. Одно из них — лепка из воска. По словам моего тюремщика, Маний Аквилий до сих пор сохраняет восковые фигуры Аттала. Там видели и мою персону! Я позировал царю еще до того, как он поверил наветам на Аристоника. О другом, не менее страстном увлечении последнего царя Пергама, тебе поведает этот свиток.
— Это скучно? — спросил мальчик.
— Поучительно! — ответил Моаферн, произнося раздельно каждый слог.
— Тогда читай!
Моаферн развернул свиток.
— «Сорви на болоте или на берегу озера мясистый полый корень, называемый цикутой. Его трехпалые листья распространяют запах, похожий на аромат садового сельдерея. Высуши корень на огне и разотри. Примешай к пище. Появится слюна, дрожь по всему телу. Смерть!
Найди в лесу куст с прямыми стеблями и расчлененными листьями. Его синий цветок походит на фракийский шлем с опущенным забралом. Вырви шишковидный корень, растолки и примешай к пище. Лицо покроется потом, расширятся зрачки. Потом рвота, дрожание всех членов, смерть…»
— Постой, — прервал Митридат. — Раньше ты говорил мне о царстве Аттала. А тут о ядовитых растениях. Что тут поучительного?
— Аттал проверял все эти яды на своих родственниках, — ответил Моаферн. — Уцелел один Аристоник! И знаешь почему?
Митридат помотал головой.
— Тогда слушай дальше. «От цикуты нет спасения, кроме как от нее самой. Глотай по три шарика ежедневно». — Теперь понимаешь?
— Нет!
— Аттал хочет сказать, что от яда может спасти только яд. Это было известно и Аристонику, а от него — мне.
Моаферн снял с шеи кожаный мешочек и бережно высыпал его содержимое на ладонь. Митридат увидел маленькие желтые шарики, похожие на зернышки проса.
Взяв щепотью три зернышка, Моаферн протянул их мальчику.
— Проглоти!
Митридат отпрянул. Теперь он уже понимал, что Моаферн дает ему противоядие. Он вернулся в горы, чтобы обезопасить его от яда. Но разве в этой глуши страшны отравители? Убийцы там, во дворце! И с ними мать!
— Я не хочу! — закричал мальчик. — Я все равно туда не вернусь! Мать ненавидит меня!
— Не упрямься, Митридат! — сказал Моаферн, положив руку на плечо мальчика.
В его взгляде была непреклонная воля человека, прошедшего через тюрьмы и познавшего коварство врагов.
— Не упрямься, Митридат! Это царское снадобье! Глотай!
Потом они лежали на траве. У Митридата кружилась голова и тошнило. Лицо Моаферна расплывалось, как в тумане, а слова, казалось, исходили не из его уст, а падали откуда-то сверху. Это были странные непонятные слова.
Моаферн говорил о матери. Она заслуживает сострадания. Митридат хотел крикнуть, что ненавидит мать. Но он не мог разжать рта. Царское лекарство! Пусть бы он лучше родился пастухом!
В ХРАМЕ КИБЕЛЫ
Огромная толпа колыхалась на площади перед храмом Кибелы. Всех этих людей привлекло не зрелище выхода богини, еще более пышное и драматичное, чем скачки, а вера в чудо. Одни надеялись, что богиня исцелит их от недугов, другие мечтали, что она вернет им свободу, третьи ожидали от нее радостей, которых были лишены в жизни. Ибо Кибела была не богиней, покровительствовавшей здоровью, любви или богатству, она была богиней — подательницей всех благ, богиней богинь.
Из ворот процессии выкатилась колесница, запряженная четверкой мулов с львиными масками па мордах. И предстала жрица в одежде богини. На ее голове золотая корона с зубцами наподобие крепостной стены. Спадающая до пят шафрановая мантия сверкает драгоценными камнями. Но лицо скорбно. Взгляд кого-то ищет.
Паломники опустились на колени. Площадь заполнилась мольбами, воплями, стонами. А из ворот выбежали юноши, безбородые, длинноволосые, в белых одеждах. Они исступленно плясали, высоко поднимая ноги, дергая головами. В руках их глухо рокотали бубны, гремели кимвалы.
— О Кибела! О Кибела! — пели галлы. — Скрылся, скрылся Аттис! Он ушел от рощ дремучих, от твоих щедрот, Кибела! По морской волне бездушной мчит его дельфин послушный. Горе! Горе!..
Лаодика вскинула голову. Горе Кибелы было ее горем. Богиня потеряла Аттиса. Она — Митридата. Теперь ей одной управлять колесницей государства. Как удержать львов? Где найти защиту? В горы!.. В горы! Ариарат не раз советовал покинуть Синопу. Теперь Лаодика приняла решение. Ариарат победил. Она ощутила силу этого человека и поверила ему. Подобно Ксерксу, возненавидел он не эллинов, не финикийцев, а ту чудовищную стихию, которая втянула в себя эти народы. Нет! Море не облагораживает людей. Оно их губит! Оно завлекает их своими далями, завораживает игрой волн. И они, теряя разум, связывают плоты из бревен, строят корабли. Они пускаются в странствия, ищут золотое руно и блаженные острова. Они наполняют свои города лживыми баснями и чужим добром. Их верховный бог — Нажива, их герои — Грабители, их вера — Обман. Недаром древняя мудрость предписывала строить города вдали от моря и его соблазнов! Афины Кекропа, Фивы Эдипа следовали ей. А Фарнак выбрал столицей город, оплевываемый морем до самого дворца. Волны навеяли ему честолюбивые помыслы, пробудили ненависть к соседям.
Появление Ариарата прервало поток ее мыслей. Жрец был в белом до пят кандии и в такого же цвета войлочном колпаке.
— Ты пришла в день Кибелы, — начал Ариарат торжественно. — Владычица дала знамение, указала место для новой столицы. В ней не будет места для нечестивцев, которых называют невидимыми.
— Где мой мальчик? — Лаодика сбросила с головы покрывало.
— Митридат в горах Париадра, — отвечал жрец. — Мои люди открыли его убежище. Это хижина, в которой живут пастухи. Он променял на нее дворец и твое общество. С ним Моаферн.
Лаодика облегченно вздохнула. Ее щеки покрылись румянцем.
— Я мог помешать этой встрече. Но ведь приказ Аквилия не распространяется на тех, кто в горах.
— Благодарю тебя, — еле слышно проговорила царица. — Хорошо, что мальчик не один. Но как его вернуть?
— Наберись терпения! Еще немного, и он будет с тобою. В Лаодикее он вырастет верным сыном и мудрым царем на радость Кибеле.
ВСТРЕЧА С ПОНТОМ
— Прощай, Митридат! — сказал Моаферн, низко склонив голову. — Мы расстаемся надолго, может быть навсегда. Ты многому научился в горах. Но что ты знаешь о своем ремесле?
— О ремесле! — воскликнул Митридат.
— Если тебе не нравится это слово, возьми другое — искусство. Мы говорим об искусном враче, пекаре, кормчем. Как врач по частоте дыхания, по блеску глаз и другим симптомам определяет состояние больного, так государь по настроению подданных должен решить, как ему править. Пекарь замешивает муку на воде, а государь соединяет царство страхом. Но ведь тесто не должно быть слишком крутым или жидким! Кормчий выбирает путь, где нет подводных камней и опасных течений. Государь тоже должен смотреть вперед и видеть подводные камни. Все эти знания не даются от рождения. Их приобретают в общении с людьми.
Митридат сделал резкое движение. Он уже привык к манере речи Моаферна, к этим сравнениям, полным глубокого смысла. Но во всем, что бы он ни говорил, оставалась какая-то недосказанность. Почему они должны расстаться? Ведь вдвоем легче противостоять козням врагов. И кому, как не брату отца, взять на себя обучение этому ремеслу или искусству? И почему он всегда находит оправдание для матери, словно не она лишила его, Митридата, отца, словно не из-за нее он вынужден скрываться в горах?
Почувствовав внезапную настороженность во взгляде Митридата, Моаферн положил ему руку на плечо.
— Так нужно, мальчик. Да видит Солнце! Когда-нибудь ты это поймешь.
Моаферн запрокинул голову. На небе пылало огненное око всевидящего божества. Воздух был пронизан тем беспощадным светом, который не оставлял его зрению ни одного неясного очертания или тени. И горы, за которыми раскинулся Понт, выступали с такой невероятной четкостью, что можно было различить каждую их складку, каждый изгиб.
Митридат бежал, не разбирая дороги, напрямик. Ноги сами несли его. Колючие растения рвали кандий. Длинные волосы сбились на глаза. Пот заливал лоб. Словно и не было гор с их сверкающими вершинами, с потоками, неугомонно сбегающими со склонов. Словно всегда, как теперь, играл и переливался красками Понт.
— Го-го-го-о-о-о! — закричал Митридат, надеясь, что море отзовется эхом.
Но море не хотело его слушать и замечать.
— Гей, Понтос! — повторил он еще раз, когда море было совсем рядом.
— Радуйся, царь! — услышал он в ответ.
Нет, это не был голос нереид, с шумом набегавших на берег. Тритон не дул в свой рог. Не пели сирены! За скалой стоял человек в длинной хламиде, с кожаным щиток, приставленным к ноге. Митридат сразу его узнал. Это был Диофант, друг отца и господин Алкима, царский летописец и предводитель «подземных богов».
Эллин нетерпеливо махал рукой:
— Радуйся!
Митридата давно уже не удивляла емкость этого эллинского слова, которым обменивались при встрече и провожали в последний путь. У него не возникало желания спросить, чему он, собственно, должен радоваться. Он воспринимал приветствие в том первоначальном смысле, который ставил радость выше счастья, успеха и даже здоровья. Он на самом деле радовался и ясному утру и встрече с Диофантом, который отныне будет сопровождать его.
Прошло немало времени, пока Митридат обратил внимание на щит у ног эллина. В том месте, где обычно помещают голову Горгоны с волосами-змеями, находилось голубое пятно. Оно было окружено до самого обода темно-коричневой полосой с извилистыми линиями и небольшими белыми пятнами. Кое-где на краю можно было увидеть черненькие кружочки с надписями.
— Смотри! — сказал Диофант, поднимая щит па уровень плеч. — Моаферн сказал, что царю нужен чертеж Понта и соседних земель. — Тогда я купил этот кожаный щит и расписал, где море, где суша, где горы и города.
Митридат взял щит и бережно провел кончиками пальцев по его поверхности. Он нащупал глубокую вмятину, проходившую по центру голубого пятна. Может быть, его владелец сражался с римлянами и эта впадина от римского гладиуса?
Коричневое пятно на голубом фоне удивительно напоминало руку стрелка. Указательный палец наложен на дугу пука, большой оттянут вправо, и там, где его ноготь, черный кружок с надписью: «Пантикапей».
— Это столица Боспора! — сказал Диофант. — И наша цель.
— А как туда попасть? — спросил Митридат.
— Спроси это у Грилла!
Диофант указал на стоявшего поодаль человека в укороченном гиматии и войлочном колпаке, небрежно подвязанном к подбородку. Обветренное лицо и широко расставленные ноги выдавали в нем моряка.
При приближении Митридата незнакомец упал на колени, пытаясь прикоснуться губами к краю его плаща.
— Что он делает? — Митридат отступил за спину Диофанта.
— Приветствует повелителя! — невозмутимо отвечал эллин.
Митридат быстро осмотрел свой рваный плащ, стоптанные сандалии, обветренные и привыкшие к труду руки.
— Какой же я повелитель?
— Ты — царь! — сказал Диофант. — Царь и сын царя.
— Тогда где мое царство? — спросил Митридат лукаво.
— Враги хотели лишить тебя всего, — молвил Диофант. — Им удалось причинить тебе немало вреда. Но твое царство им недоступно.
Он обернулся и картинно протянул к морю обе руки.
— Понт Эвксинский! Вот твое царство!
Казалось, он открывал двери во дворец и приглашал войти.
— У Понта есть свой Ваал! — отвечал Митридат. — Вы, эллины, называете его Посейдоном. К тому же как я буду царствовать, если у меня нет трона.
— Посмотри внимательно. Вот твой трон!
Митридат взглянул в том направлении, куда указывал эллин. Он увидел матросов, сталкивавших на воду суденышко. Им помогал Алким.
— И ты называешь это троном? Да это же арба без колес! Где мачта и парус?
— Позволь мне заметить, царь, — вмешался в разговор моряк. — Это не арба, а камара. Ее послал за тобою правитель Боспора Перисад. А я его кормчий.
Открытое и мужественное лицо незнакомца понравилось Митридату.
— Ты будешь теперь моим кормчим! — сказал мальчик, вступая в роль властелина. — И я награжу тебя, если доставишь меня к Перисаду, которого мой отец считал своим другом. А теперь распорядись, чтобы… — он сделал паузу, — камару спустили на воду. Потому что за долгие месяцы жизни в горах я соскучился по своим верным и молчаливым подданным.
Диофант недоумевающе взглянул на Митридата.
— Если ты считаешь, что мое царство — море, а этот кораблик — трон, то мои подданные — рыбы. Не так ли?
— Нет, — проникновенно сказал эллин. — Твои подданные — народы, живущие по берегам Великого Понта. Настанет время, ты будешь царствовать над ними, над их горами, лесами, степями и нивами. Они дадут тебе своих сыновей; они пришлют лес, медь, смолу, лен. И ты прикажешь построить такой флот, который еще никогда не качался на этих волнах.
В голосе Диофанта звучала уверенность, а в глазах появился незнакомый блеск, словно его звало море, о котором он говорил с такой страстью и надеждой.
ШТИЛЬ
Камара едва шевелила веслами. Птицам, парившим высоко в воздухе, она могла показаться черным жуком, ползущим по изумрудной волнистой траве. Размеренный скрип уключин сливался со звоном цепей и тихим плеском волн. Митридат свесил за борт босые ноги. Он подгонял медленно плывшую камару, как нетерпеливый всадник — коня. Митридат радовался морю.
Он с детства привык к его шуму. Морские ветры обдували дворец Синопы. Морская синева открывалась из любой части города. Но ни разу Митридат не плавал на корабле. Отец, знавший коварство Понта, не решался доверить ему жизнь сына и наследника. «Не торопись! — говорил он мальчику. — Море от тебя не уйдет».
Отец ушел в ту страну, из которой нет возврата. И море отодвинулось от дворца. Лаодика не пускала сына в гавань. Митридат мог думать, что она боялась не за его жизнь, а за свою власть. Ему оставалось любоваться морем с высоты башни, откуда халдеи показывали отцу звезды, Отец хотел узнать по ним свое будущее. Эту башню назвали «башней судьбы». Но звезды обманули отца. Митридат не верил звездам. Он верил в море. Понт был его мечтой. Понт был его судьбой. В горах Митридат видел чуть не каждую ночь море и корабли. Ему снилось, что он плывет над желтыми песками, обгоняя рыб. «Ты растешь во сне! — объяснял Алким. — Мне тоже снилось, что я плыву, но не в воде, а в эфире. Вот, хвала Гераклу, и вырос!»
А теперь это не сон. Рябь слепит глаза. За кормою тянется полоса пены, как бы соединяя его с берегом детства. Могучий Понт с каждым всплеском весел отделяет его от всего постыдного и унизительного, что он пережил и что он еще нес в своей памяти. Там могила отца, за которого он еще не отомстил. Там мать и ее тень в черном кандии. Там Ариарат…
Теперь им его не догнать! Еще никогда Митридат не чувствовал себя таким сильным и свободным. Ему казалось, что он — владыка этих волн, шедших навстречу, как воины, рядами.
— Фазис! — крикнул кормчий, протягивая руку по направлению к плоскому берегу.
Митридат вскочил. Он ничего не увидел, кроме мутной полосы, резко выделявшейся в голубых водах Понта. Но в воображении тут же ожила Колхида. И вот он уже плывет не на боспорской камаре, посланной царем Перисадом, а на быстрокрылом «Арго». Где его спутники-аргонавты? Где Геракл, Тесей, Орфей? Митридат скользил невидящим взглядом по лицу Диофанта. Никого!
Внезапно мальчик бросился к лестнице. В руках его кожаный щит. Он закрывает им голову, словно спасаясь от птиц, мечущих медные перья. Он подкрадывается к мачте, где висит чей-то плащ.
— Золотое руно! — шепнул Диофант Алкиму.
Херсонесит сделал усилие, чтобы улыбнуться, но на глазах его выступили слезы.
— Что с тобой, Алким? — воскликнул синопеец. — Скоро ты увидишь стены своего города.
— О, мой брат Неоптолем! Там, в Херсонесе, все будет напоминать о нем: улица сукновалов, где мы родились, гавань, где мы играли в аргонавтов… Как-то мы привлекли внимание кормчего, сидевшего на связке канатов. Поглаживая черную бороду, он сказал нам: «Дети! Вы замечательные актеры. Клянусь Посейдоном, мне повезло, что матросы оставили именно меня охранять камару! Я могу не торопясь полюбоваться вашей игрой. Но мне кажется, что палуба лучше подойдет для вас. Не так ли?» Мы г, Неоптолемом развесили уши. Этот добродушный великан предлагал нам свое «Арго»! И вот мы на палубе. Устроившись на корме, мы так же, как Митридат, кричали невидимым преследователям: «Не догнать!»А потом Неоптолем предложил спуститься в трюм, чтобы полюбоваться похищенными сокровищами Аэта. Не иначе, как враждебное нам божество подсказало ему эту мысль. Не успели мы сойти с лестницы, как хлопнула крышка люка, и мы поняли, что оказались в ловушке. Я попытался кричать. Но чьи-то руки схватили меня и засунули в рот тряпку. Я задыхался. Прошло немало времени, прежде чем нас вытащили на палубу. Вокруг, куда ни глянь, было море.
Алким вытер со лба пот и утомленно закрыл глаза.
— Наш добродушный великан, — продолжал он, — встретил нас зловещей ухмылкой: «Ну, птички, теперь вы свое отлетали! Подойдите-ка сюда». Он осмотрел нас с ног до головы и удовлетворенно крякнул: «Давно уже Харону не доставалась такая добыча!» Мое сердце ушло в пятки. Я подумал, что негодяй хочет нас убить. Прочитав ужас на моем лице, чернобородый захохотал: «Не бойся, птенчик! Ха-ха! Харон — это я! Меня называют похитителем душ. Кто только не побывал в моем трюме! А вот близнецов не было».
— Что же дальше? — послышался голос Митридата.
— Дальше, — сказал Алким глухо, — нас привезли в Трапезунд и продали порознь. Меня купил рыботорговец — я уже рассказывал о нем, — а Неоптолем достался какому-то корабельщику из Фазиса. — Алким резко повернулся: — Где-то на этом берегу томится в неволе мой брат. Ибо судьба, разлучив нас, дала мне добрых и великодушных господ, а его оставила в руках злых и жестоких.
В ЛАОДИКЕЕ
Девочка выбежала из двери и застыла. Вместо моря, замыкавшего горизонт, нависали горы. Их очертания напоминали лица волшебников с острыми, крючковатыми носами.
— Ма-ма!
В крике девочки звучало удивление, смешанное с испугом.
— Мама, отдай мне море!
Царица, услышав вопль дочери, поспешила к ней.
— Глупенькая, здесь нет моря. Оно осталось в Синопе. Оно злое и жадное. Оно похитило твоего брата и унесло его на своих волнах. Кто знает, где он теперь? Какие люди окружают его?
Лаодика-младшая топнула ножкой.
— Неправда! Он ушел сам. Он не захотел жить с тобою, потому что ты слушаешь этого злого Ариарата!
Царица прикрыла ладонью рот девочки:
— Молчи! Кибела накажет тебя.
— Я не боюсь Кибелы! Моряк сказал мне, что надо приносить жертвы Посейдону, владыке морей. Посейдон сохранит Митридата, и он вернется домой! Моряк дал мне кораблик, сказав, что на нем вернется мой брат.
Царица с недоумением смотрела на дочь.
— Какой моряк? Я не понимаю, о чем ты говоришь!
— Это был добрый моряк. Он вышел из-за дерева, когда в саду не было слуг, и назвал меня по имени. Он сказал, чтобы я не печалилась о брате, что он не один, что с ним верные друзья, которые не оставят его в беде. Когда я спросила, скоро ли вернется мой брат, моряк задумался. «Не знаю, — ответил он. — Надо еще построить корабль. Такой, как этот».
Девочка разжала кулачок, и Лаодика увидела на ладошке крошечный кораблик. Игрушка была настолько искусно сделана, что можно было различить корму со статуей божества, мачту с реями, отверстия для весел вдоль борта. Над ними было процарапано: «Лаодика».
Царица осторожно взяла игрушку. На глазах ее показались слезы.
— Моряк сказал, что он делал этот корабль долгие годы. А я хочу вылепить маленького Митридата и поставить его на носу, чтобы он махал мне рукой… Мама, да ты не слушаешь!..
Лаодика не отводила взгляда от игрушки.
«В темнице, — думала она, — Моаферн мечтал о встрече со мной. И делал этот кораблик, вкладывая в него все свои надежды и любовь. А я не могла ему помочь. Да и теперь пропасть разделяет нас!»
— Мама! — лепетала девочка. — Отдай мне море! Пусть Ариарат останется здесь, а мы вернемся в Синопу. Я спущу корабль на волны, и он догонит Митридата. Ты слышишь, мама?
Лаодика перевела взгляд. Площадь перед дворцом покрыта обломками. Со стороны реки доносились удары. Рабы Команы строили мост.
Ариарат не дождался, когда будут закончены все работы, и перевез их в этот пустой и неуютный город.
ДИОСКУРИЯ
Наутро вынырнул берег, покрытый черным лесом. За камарой увязались два дельфина. Их спины блестели, словно были вымазаны смолой.
Митридат вцепился в жесткий хитон Грилла.
— Почему они кружатся? Что им надо?
Кормчий бросил многозначительный взгляд на стоявшего рядом Диофанта.
— Это было так. Окружили наши моряки эллинское судно. Перебрались на палубу. Купчика к мачте привязали, чтобы проезд по Понту оплатил. А он упрямится. И только хотели его прижать, как он виноградной лозой обернулся и обвил полкорабля. От страха морячки за борт прыгнули.
Он подмигнул каким-то особым, еле заметным движением век.
— С тех пор дельфинами стали. И всюду сопровождают корабли. Эллина того ищут и никак не могут найти!
— Есть ли у тебя стыд, Грилл! — воскликнул Диофант. — То был не купчик, а сам Дионис. Да и не в Понте это происходило, а в Тирренском море. И пиратами были тиррены, а не понтийцы.
Кормчий покорно выждал, пока Диофант закончит.
— Какой Дионис? Откуда ему здесь в Понте появиться? Это все эллинские выдумки! Жаль, моряки не догадались обрезать лозу.
Матрос на носу что-то крикнул, указывая на берег. Справа по борту открылась обширная бухта. В глубине виднелись горы, напоминавшие головы мрачных эфиопов. У подножия одного из холмов розовели черепичные крыши.
— Диоскурия! — воскликнул Грилл, не скрывая радости.
После бури и качки приятно чувствовать под собой твердую землю, особенно если это земля мирного города. Кормчий вызвался быть провожатым. По его словам, он не раз бывал в Диоскурии и, как видно, по торговым делам. Во всяком случае, он вспомнил агору, куда в базарные дни сходились купцы, говорившие на трехстах языках.
— А как они понимают друг друга? — спросил мальчик.
— Разговаривают знаками, — ответил Грилл.
Митридат рассмеялся. Он представил себе толпу, объясняющуюся жестами.
На агоре действительно оказалось несколько десятков горцев. Они стояли у мешков с орехами и фруктами. Когда Диофант заговорил с одним из них, ему ответили на ломаном эллинском наречии. Тут же вмешались другие, наперебой предлагая свои товары. Кормчий, едва скрывая раздражение, постарался увести Митридата в крайний угол агоры, к невысокому деревянному помосту.
Там стояло несколько человек, и один из них, ожесточенно жестикулируя, в чем-то убеждал собравшихся. Это напоминало экклесию в свободных эллинских городах.
— Что обсуждают граждане Диоскурии? — спросил Митридат.
— Пойдем послушаем! — с улыбкой отозвался кормчий.
Чувствовалось, что он не раз присутствовал на подобных сборищах.
Подойдя ближе, Митридат понял свою ошибку. Это не экклесия, а торг. Курчавобородый эллин в темной широкополой шляпе был не оратором, доказывавшим преимущество демократии перед тиранией, а работорговцем. Об этом красноречиво свидетельствовал бич в его правой руке. Иногда он поворачивался и рукояткой прикасался к груди или ногам выставленных на продажу рабов.
— Соан Гитам. — Он ткнул бичом в плечо смуглого юноши со злобно сверкавшими глазами. — В бегах не был. Послушен, как ягненок.
Толпа зашумела.
— Брось врать! — выкрикнул кто-то. — Знаем мы соанов!
— Может охранять дом и молодую супругу, — не смущаясь, продолжал работорговец.
На лицах показались улыбки. Покупатели начали понимать, что работорговец шутит. Соаны славились своей воинственностью и непокорностью.
— Мосх Гарс, — представлял работорговец следующего невольника.
Это был верзила с рыхлым телом. Из-под колпака выбивались до половины спины длинные и прямые, словно лошадиная грива, волосы. Несчастный устало и равнодушно смотрел па толпу, ожидавшую новой шутки.
— В работе, как огонь. Не надо подгонять!
Толпа покатывалась со смеху. Не было рабов ленивее мосхов.
— Эллин Неоптолем!
Митридат едва не вскрикнул от удивления. На помосте стоял Алким. Но почему на нем вместо хитона и гиматия фартук, спускающийся с пояса до колен? И как он здесь оказался? Неужели в то время, пока Митридат с Гриллом разглядывали горцев, Алкима успели схватить? Митридат готов был кинуться к помосту, но на его плечо легла чья-то рука. Оглянувшись, он увидел Алкима. Митридат не успел опомниться, как тот, расталкивая толпу, кинулся к помосту. И вот они рядом. Два брата, два близнеца. Они заключают друг друга в объятия, плачут, не стесняясь толпы.
Над агорой пронесся вопль.
— Диоскуры! Диоскуры! — ликовала толпа.
Митридат был напуган этим внезапным восторгом толпы, сменившим ее сонное равнодушие.
— Что случилось? — спросил он у Грилла. — Почему кричат эти люди? Что им нужно?
Кормчий не отводил глаз от помоста.
— Они просто приняли братьев за Диоскуров. Им кажется, что божественные близнецы возвратились в основанный ими город.
— Теперь они захотят оставить их у себя?
Кормчий пожал плечами. В его жизни, богатой приключениями, не было подобного случая.
— Могут и захотеть, — ответил он неуверенно.
Видимо, братья поняли эту опасность. Взявшись за руки, они сошли с помоста. Толпа расступилась. По образовавшемуся коридору они направились к гавани. Диоскурийцы были настолько ошеломлены, что никто из них не осмелился задержать юношей. Некоторые протягивали им своих детей, чтобы они их благословили. Братья вели себя с достоинством новоявленных богов. Лишь на сходни они поднялись с излишней поспешностью.
— Руби якоря! — крикнул Грилл, убедившись, что все на палубе.
У БОСПОРА КИММЕРИЙСКОГО
В утренних сумерках, окутавших город подобно покрывалу из полупрозрачной косской ткани, стала выделяться громада дворца на акрополе. Она освещалась лучами Гелиоса, поднимающегося где-то за проливом. По мере того как вырисовывались застывшие в грозной неподвижности квадратные башни цитадели, город наполнялся звуками: звоном цепей, освобождавших путь судам в гавань, скрипом отодвигаемых засовов, хлопаньем ставен, цоканьем копыт. По пыльным, покрытым чахлой травой улочкам, протирая глаза, спешили грузчики, плотники, мелочные торговцы — все, кто надеялся получить работу или сбыть свой нехитрый товар.
Но Гелиос и па этот раз обманул ожидания пантикапейцев. Вместо больших торговых судов из Родоса или Афин, вместо пентер или триер с палубами, усеянными людьми, в гавань бочком входила камара. По наклону ее корпуса можно было догадаться, что над нею жестоко потешилась буря. Так что, очевидно, она пришла не из Фанагории, что на том берегу пролива, а из Питиунта или Диоскурии. На таких суденышках гениохи привозят в Пантикапей рабов или подарки от царьков, желающих напомнить о себе могущественному северному соседу.
Многие из тех, кто шли этим утром в гавань, разочарованно потоптавшись на месте, повернули назад.
Человек в потрепанном гиматии, покрывавшем тощее тело, остановился и погрозил костлявым кулаком дворцу, венчавшему пантикапейский холм.
— Что ты делаешь, Памфил! — остановил его спутник, судя по одежде, такой же бедняк. — Наш добрый Перисад не виноват в твоих несчастьях. Словно ему самому не хочется сбыть зерно, что гниет в царской гавани?
Тот, кого назвали Памфилом, обратил на говорившего насмешливый взгляд.
— Давно ли, Аристогор, ты стал оправдывать Перисада! Ты веришь жрецам, приписывающим все беды и радости воле богов. Но если в нашей жизни есть хоть какой-нибудь смысл, кто-то должен ответить за то, что мой гиматий состоит из одних заплат, а мои дети забыли вкус оливкового масла. Или ты хочешь сказать, что я лентяй и лежебока, каким величает меня моя жена?
— О нет, Памфил! Тебя я не виню. Но ведь и Перисад пи при чем. Если хочешь знать, виновники всех наших несчастий — римляне. С тех пор, как они захватили Элладу и превратили царство Атталидов в свою провинцию, купцы и мореходы начали забывать дорогу в Пантикапей. Сицилийское зерно дешевле нашего. Наши рабы упали в цене. Каждая война, которая ведется Римом в Ливии или Сардинии, заканчивается продажей тысяч невольников. Ты слышал их поговорку «Дешев как сард»?
Беседуя, друзья подошли к молу, вдоль которого шла камара. На ее носу стоял человек с канатом. Лицо его показалось Аристогору знакомым.
— Да ведь это Грилл! — воскликнул Аристогор.
— Ну и что? — отозвался его спутник.
— А то, что Перисад отправил Грилла в Трапезунд за юным Митридатом. Царь бежал от своей матери или был похищен друзьями своего отца. Болтают разное! Но я знаю одно: римляне не допустят, чтобы Митридат вернулся в Синоду. Можешь себе представить, какая заварится каша!
Аристогор не успел высказать свои соображения. К ногам упал канат, и он поспешил замотать его вокруг сваи. Памфил бросился к корме.
С камары спустили сходни. По ним сбежал мальчик, золотоволосый, с живыми глазами. Он обвел взглядом город и повернулся к следовавшему за ним мужчине лет сорока в темном дорожном плаще.
— Скажи, Диофант, мы уже в Европе?
— В Европе! — ответил человек в плаще. — Ибо этот пролив, который эллины называют Боспором Киммерийским, а местные жители Пантикапом, отделяет Европу от Азии. Такого мнения придерживается большинство географов. Некоторые же считают, что границей Европы и Азии является река Ра, впадающая в Гирканское море. Но я думаю…
— А римляне отсюда далеко? — перебил мальчик.
Пантикапейцы не услышали, что ответил учитель юному царю. Их внимание привлекли двое юношей, спускавшихся по сходням. Лицо одного было обожжено солнцем, другой был бледным, словно провел жизнь в заточении. Но ростом, осанкой, чертами лица они были поразительно похожи.
Появление близнецов считалось и в Пантикапее хорошим предзнаменованием. Оно, согласно старинным повериям, сулило успех во всех начинаниях. Неудивительно, что Митридат и его спутники были окружены кучкой любопытных, превратившейся вскоре в толпу. Люди сопровождали прибывших до дворца и разошлись лишь после того, как стражи закрыли перед ними обитые медью ворота.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
В зал вошел человек лет пятидесяти. Коренастый, лысый, с брюшком, он напоминал сатира. По тому, как все устремили к вошедшему почтительные взоры, Митридат заключил, что забавный человек и есть Перисад.
— Вот и ты! — сказал Перисад, остановившись перед мальчиком. — Путешествие было интересным? Не устал? — Повернувшись к Диофанту, он продолжил: — Признаюсь, что я удивлен этой встрече. По твоему письму я рассчитывал встретиться с ребенком, которому нужна нянька. Но твой Митридат выше меня и мог бы, наверное, состязаться в силе с моими телохранителями.
Голос у царя был будничным, бесстрастным, как у людей, потерявших интерес к жизни и вкус к ней. Но глаза казались острыми и внимательными. Видно, боспорец старался понять, чего можно ожидать от Митридата и его спутников. Видимо, удовлетворенный результатами своих наблюдений, он молвил радушно:
— Меоты выловили и принесли мне рыбешку, а мой повар Ксур успел ее приготовить к вашему приезду.
Он потирал руки с видом человека, предвкушавшего удовольствие.
Только в зале пиршеств, куда слуги ввели гостей, Митридат понял, чему радовался хозяин дома. «Рыбешка» оказалась настоящим чудовищем и имела чуть ли не пять локтей в длину.
По острому хребту и узкой длинной пасти было видно, что это гигантский осетр. Не менее, чем рыба, поражало серебряное блюдо, на котором она покоилась. Митридат готов был поклясться, что блюдо имело ту же форму, какой на кожаном щите Диофанта обладала Меотида, ограниченная берегами Таврики и противолежащим побережьем земли меотов. В довершение сходства с Меотийским болотом блюдо было заполнено застывшим желе с узором в виде гребешков волн.
Митридат не стал дожидаться приглашения и отважно кинулся к рыбе. Его примеру последовали близнецы и Диофант. К тому времени, когда вошел Перисад в сопровождении мальчика лет четырнадцати, между головой и хвостом «рыбешки» образовалась солидная брешь.
— Быстро вы вывели моего осетра на чистую воду! — добродушно смеялся Перисад.
Но Митридат, кажется, не понял шутки или даже не слышал ее. Он продолжал есть, наслаждаясь легким и ароматным мясом. Розовый жир тек по его подбородку и пальцам. Лишь насытившись, он откинулся на спинку кресла. Незнакомый мальчик не отводил от него пристального взгляда. В нем можно было уловить любопытство.
— Я не познакомил вас, — сказал Перисад оживленно. — Это мой воспитанник Савмак. Я думаю, вы будете друзьями.
После обеда Перисад увел Диофанта с собою. Ушли близнецы. Мальчики остались одни. Савмак, казалось, был смущен. На его скуластом лице выступил румянец.
— Ты здесь давно? — спросил Митридат по-эллински.
— Шесть лет, — ответил мальчик неохотно.
Он произносил слова с легким акцентом.
— Из какого города?
— Из Неаполя…
— Ого! — злобно выдохнул Митридат.
Он слышал о Неаполе от Моаферна. Судя по его рассказу, это был эллинский город в стране римлян. Туда Аристоника, Моаферна и других пленных гелиополитов привезли на триреме, а оттуда в Рим они шли пешком по мощеной дороге, подгоняемые копьями легионеров. И этот мальчик, наверное, сын одного из тех неаполитанцев, которые были свидетелями позора Моаферна и его друзей.
— И чего тебе здесь надо? — спросил Митридат вызывающе.
— Не тебе знать! — ответил Савмак, дерзко вскидывая голову. — Можешь убираться в свою Синопу.
Митридат сжал кулаки. Так с ним еще никто не разговаривал. Даже Ариарат, хотевший его смерти, держался как почтительный слуга.
— Перисад сказал, что мы будем друзьями, — продолжал Савмак, все более возбуждаясь. — Но я вас ненавижу. Вам мало своей земли, вы хотите отнять наши степи, а нас сделать своими рабами.
Этот вихрь неприязни ошеломил Мнтридата. «Конечно, это римлянин, — думал он. — Римлянин из Неаполя. Ведь бывают же римляне из Афин, Пергама, Александрии!»
— Выйдем отсюда, римская змея! — сказал Митридат, подходя вплотную к Савмаку. — Я покажу тебе, как разговаривать с царями!
— Римская змея? — В голосе его противника звучало недоумение. — Это ты сам змея. И твоя мать продалась римлянам.
Этого уже нельзя было стерпеть. Митридат схватил Савмака за горло. И вот уже, сцепившись в клубок, они катаются по полу, ударяясь о ножки стола, сбрасывая посуду.
На шум прибежали слуги, растащившие мальчиков.
— Ай-ай! — сказал Перисад, входя в зал. — Что же это такое? Вас нельзя оставить ни на минуту одних. И как ты, Савмак, посмел обидеть гостя?
— Он назвал меня римской змеей! — пожаловался Савмак.
Митридат молчал. Он считал ниже своего достоинства оправдываться. Жаль, что у него не было бича, чтобы отхлестать этого дерзкого мальчишку.
— Ну зачем же? — Перисад смущенно разводил руками. — Какой он римлянин! Савмак — скиф…
— Но он из Неаполя! — бросил Митридат.
Перисад с недоумением смотрел на обоих, видимо не понимая, почему происхождение из Неаполя могло послужить причиной ссоры.
Потом, догадавшись, в чем дело, расхохотался:
— Да это же не римский Неаполь, а скифский. Неаполь скифский!
— Теперь ты можешь понять, — молвил Перисад, возвращаясь к прерванному разговору, — каковы эти скифы…
— Но ведь виноват был Митридат, — сказал Диофант. — Он принял твоего питомца за римлянина. Этого было достаточно для ссоры. В горах Париадра Митридат прошел настоящую школу ненависти. Его дядя Моаферн провел много лет в римском плену и передал свои чувства племяннику.
— Может быть, — неохотно согласился боспорец. — Но и Савмак вел себя дерзко. Скифы неисправимы!
— Если ты такого о них мнения, что заставляет держать при себе скифского мальчишку?
— Это длинная история! — сказал Перисад после паузы. — Начну с того, что Савмак не простой скифский мальчишка. Он сын царя Скилура от эллинской женщины. Скифские цари давно любят все эллинское. Уже во времена Геродота один из скифских царей был убит за свое пристрастие к вакханалиям!
— И ты веришь Геродоту! — воскликнул Диофант.
— В рассказах Геродота о Скифии немало вымыслов, — продолжал Перисад. — Но обычаи скифов отец истории описал со знанием дела. Ты сможешь в этом убедиться, выслушав мой рассказ до конца. Пока был жив Скилур, Хлоя, так звали мать Савмака, гасила прорывавшиеся вспышки ненависти к эллинам. В Неаполе и других скифских городах эллины благоденствовали. Но едва прах Скилура внесли в мавзолей, как возмущение вырвалось подобно пару из кипящего котла. Тысячи эллинов были убиты. Хлое удалось бежать в Херсонес. Херсонеситы не приняли ее в страхе перед гневом сводного брата Савмака, ставшего царем. Палак, так звали его, объявил, что каждый, кто окажет гостеприимство Хлое, его враг. Несчастная женщина попросила у меня убежища. И я обещал ей его из одного лишь человеколюбия. Но боги не дали Хлое увидеть стены Пантикапея. Она умерла в Феодосии, как я слышал, отравленная одною из своих скифских рабынь. Я приказал доставить ее сына во дворец. Тогда Савмаку было семь лет. Решив дать ему эллинское образование, я приставил к нему учителей. Но они не могли с ним справиться. Он стрелял из пращи камешками для счета, а стиль превратил в наконечник для самодельной стрелы. Грамматику Эвполиону, прибывшему по моему приглашению из Гераклеи, он прокусил ухо. Пришлось предоставить его самому себе. Слишком в нем сильна скифская кровь. Савмак скачет так, словно родился на коне. Ни один из моих стрелков не может состязаться с ним в меткости…
— Вот обрадуется Моаферн, когда узнает об этом! — воскликнул Диофант.
— Обрадуется? — удивился Перисад. — Что ему до меткости моего скифа?
— У персов — а Моаферн перс по происхождению и духу — в старину дети обучались лишь верховой езде, стрельбе из лука и правдивости. Не знаю, как в отношении последней, в первых двух Митридат получит наставника, которым мог бы гордиться сам Кир.
— Но почему ты думаешь, что Митридат захочет брать уроки у Савмака?
— Я в этом уверен, — сказал Диофант, — так же как в том, что они будут друзьями. Остальное я возьму на себя.
— Что ж! Пусть тебе помогают боги! Я могу лишь тебе дать один совет. Старайся держаться в тени. Пусть думают, что ты приехал для написания истории Боспора и тебя ничего не интересует, кроме древних преданий и старинных свитков. Тогда тебе будет легче завершить воспитание Митридата, а мне защитить его от коварства врагов.
— О чем ты говоришь? Ведь выбирая Пантикапей, я полагал, что здесь царь будет в полной безопасности. Такого же мнения придерживается Моаферн.
— Вы ошибаетесь. Если Митридату и удалось на время скрыться от старых недругов, здесь у него появятся новые. Среди моих подданных немало тех, кто сочувствует римлянам. Не менее опасны те, кто возлагает надежды на победу Палака. И для тех и для других Митридат представляет опасность. Пусть твои слуги будут на страже.
— Ты говоришь о близнецах?
— Да! Но их нужно разделить, чтобы не привлекать внимания толпы. Пусть один останется здесь. Другого я отправлю в Фанагорию.
— Это хорошая мысль! — сказал Диофант,
ДЕНЬГИ ВПЕРЕД
Незнакомец небольшими шажками прохаживался в пространстве, образованном колоннами. Это был человек лет сорока, плотный, с бритым лицом и мясистым багровым носом. Край небрежно заброшенной за плечо тоги волочился по каменному полу.
Ариарат показался из-за алтаря. При его появлении незнакомец остановился и сжал подбородок в кулаке таким образом, что нижняя толстая губа легла на согнутый указательный палец.
Этот жест был воспринят как условный знак. Во всяком случае, жрец также сдавил кулачком свою бородку.
В такой странной позе оба стояли не шевелясь несколько мгновений. Первым нарушил неподвижность Ариарат. Отведя руку от лица, он положил пальцы в почтительно протянутую ему широкую ладонь незнакомца. Это было обычным приветствием, принятым среди паломников храма Кибелы.
Не спуская настороженного взгляда с незнакомца, жрец сказал:
— Судя по табличкам, которые мною получены, тебя направил Маний Аквилий Старший.
Бритолицый кивнул головой. При этом глаза его загадочно блеснули.
— Мой друг и покровитель пишет, — продолжал жрец, — что ты известен повсюду как человек отважный и умеющий хранить тайны. Будто бы ты не раз выполнял его поручения.
— Было дело, — вырвалось у посетителя.
— Но почему я впервые слышу твое имя? Среди знакомых имен знатных римских родов мне не встречались Харонии.
Незнакомец захохотал. Смех у него был густым и раскатистым.
— Ха-ха-ха! Ну и насмешил! Он нарек меня Харонием! Ха-ха!
Ариарат отступил на шаг.
— Так ты не Луций Хароний Приск? Консуляр пишет не о тебе?
— Я — папа Харон! — гоготал пират. — Сыночки мои повсюду — и на скамьях для гребцов, и на рудниках, и в богатых домах, да и у тебя в храме. Римлянин боится длинных языков. Вот он и приказал мне сбрить бороду и облачиться в этот наряд.
Ариарат не мог скрыть радости. Губы его вытянулись в удовлетворенную улыбку. Наконец-то нашелся человек, который положит конец затеям Моаферна. Жрец был уверен в том, что бегство Митридата дело его рук. Скрываясь где-то в Синопе, этот беглый мятежник подготавливает возвращение Митридата и свержение Лаодики.
Пират сжал кулаком подбородок. На этот раз это означало, что он намерен перейти к делу.
— Маний Аквилий сказал, что деньги я получу от тебя. Ты знаешь, сколько стоит борода Харона?
— Я заплачу за каждый волосок, как только станет известно…
— Не выйдет! — перебил пират. — В моем храме тот же закон, что и в твоем: деньги вперед!
— Пусть будет так! — сказал жрец с поспешностью. — Только сумеешь ли ты замести свой след?
— Не беспокойся! Все сделают мои помощники.
ПОБРАТИМЫ
Степь летела им навстречу, седая, в темных полосах, оставленных прошедшими на заре телегами, в рябинках сусличьих нор. Цокот копыт сливался с криком птиц, с треском потревоженных кузнечиков. И над всем царил тонкий и горький запах полыни.
Савмак обернулся и свистнул. Из травы показалась мохнатая собачья голова с длинными ушами. Пес тянулся, как бы желая объяснить, что он на месте и догонит, как только справится с куропаткой. Но поняв, что хозяина интересует другая добыча, он обиженно взвизгнул и понесся, приминая траву.
За городскими воротами Савмак преображался. В том, как он держался на коне, как по мельчайшим, едва заметным признакам находил звериные логовища, чувствовался номад, хотя на самом деле только его отдаленные предки были кочевниками.
Митридат не уступал своему другу в силе и ловкости. Но ему не хватало того, что называют «чувством степи». Эта плоская, как ладонь, равнина казалась ему однообразной и тоскливой. А для Савмака каждый куст, каждое растение, не говоря уже о птицах и насекомых, имели не только имя, но и историю, полную глубокого смысла.
Вот этот встрепанный, застрявший между двумя камнями шар — «сирота». Созревая, он отрывается от своего корня и скитается, гонимый ветром, перекатывается из ложбины в ложбину, от одного куста к другому, словно ищет родное становье. А эти зеленоватые кустики, поднимающиеся то здесь, то там в волнах белесого ковыля, Савмак назвал «киммерийцами».
Было когда-то такое могущественное племя, которое владело степью от Истра до Танаиса и питалось молоком кобылиц. Гордые своей силой, отравленные ядом могущества, киммерийцы бросили вызов самим богам. Они потребовали у них бессмертия. Разгневался Папай и иссушил степь. Она покрылась морщинами, как лоб столетнего старца. Сгорел ковыль. Высохли реки. Звери и птицы ушли в леса и горы.
Напрасно упрашивала Папая Апи, его добрая супруга, не таить зла на землю, породившую киммерийцев. Папай был неумолим.
II прилетает к нему в небесный чертог Сколот, птичка, вьющая гнезда на крутых берегах. И жалуется она Папаю, что в стране, где она теперь живет, земля тверда как камень, студеный ветер пронизывает насквозь и птенчики превращаются в льдышки.
Не выдержал Папай. Из его глаз, огромных и темных, как грозовые тучи, хлынули слезы. Высохшие русла степных рек наполнились светлой влагой. Поднялся ковыль. На том месте, где пали рассеянные Папаем киммерийцы, выросли кустики, наполненные ядовитым белым соком. Звери и птицы обходят их.
И не было лишь в степи человека. Тогда Папай спустился на землю и соединился с прекраснейшей из рек Борисфеной (эллины называют ее Борисфеном, а северные варвары — Данаприем). От этого брака родился Тарги, получивший от Папая лук со стрелами и власть над степными зверями и птицами. У Тарги-сая было три сына: Липак, Арпак и Колак. Бросил им Папай с неба секиру, ярмо, соху и чашу, чтобы они могли вырубать леса, запрягать быков, вспахивать землю и доить молоко кобылиц. Были эти вещи из чистого золота, иначе не привлекли бы они грубых охотников.
Потянулся к золоту Липак, и вспыхнуло оно ярким пламенем, обжигая ему лицо и руки. Арпак поплевал на ладони и подступил к небесным дарам. Загорелись они и опалили Арпаку волосы (до сих пор его сыновья плешивы). И только Колаку золото далось в руки. Он унес его к Борисфене, там, где пороги, и воздвиг там свой шатер.
От Колак-сая и происходят саи, которых эллины называют царскими скифами. Сами же они именуют себя сколотами в честь птички, вернувшей степи расположение Папая.
Митридат был захвачен красотой и скупой силой скифской легенды. Он удивлялся тому, что учителя-эллины, забивавшие ему голову мельчайшими подробностями о своих богах и героях, не обмолвились ни единым словом, что у скифов есть мифы. Они считают скифов варварами, полагая, что варвар во всем ниже эллина и должен быть его рабом. Но не восходят ли эллинские мифы ко временам того же варварства, когда птицы умели говорить, а люди летать, когда с неба падали вещи из золота, которым еще не знали названия и цены.
У костра, метавшего искры в ночное небо, за ритоном, переходившим из рук в руки, текла неторопливая беседа. Оба изгнанники, лишенные отцовского крова и материнской ласки, они ощущали себя братьями. Прислушиваясь к скифской речи, Митридат находил много общего со своим родным персидским языком. Присматриваясь к поведению Савмака, он узнавал своих предков, какими они были четыреста лет назад. Видя, с каким почтением и любовью скиф относится к псу, Митридат вспоминал рассказ о царе Дарий, считавшем достаточной причиной для объявления войны Карфагену то, что карфагеняне ели собак. Эллины не ели собак, но они их презирали. Они называли синопейца Диогена собакой, потому что он бросил вызов их утонченному и лживому образу жизни.
Погрузив пальцы в густую шерсть собаки, Митридат обратился к ней с шутливой речью:
— Чем, Тавр, ты хуже их? У тебя тело покрыто шерстью. Ты не умеешь говорить. Но ты не кусаешь друзей и не знаешь, что такое ложь. Ты благороден по природе, Тавр. И мои предки ценили твою жизнь в тридцать раз дороже, чем жизнь человека.
Тавр крутил хвостом, стараясь прижаться кудлатой головой к бедру Митридата! Савмак улыбался.
— Он понимает тебя, хотя ты говоришь, а не лаешь. Так и люди, говорящие на разных языках, могут стать друзьями.
— Ты прав, Савмак, — соглашался Митридат. — Надо сохранить нашу дружбу. Настанет время, и я вернусь в Синопу, а ты в свой Неаполь. Я пошлю тебе письмо: «Савмак-сай! Враги угрожают моей жизни. Помоги!» Явишься ли ты?
— О Митридат-сай! — воскликнул скиф. — Явлюсь, если и останусь просто Савмаком.
Он подошел к камням, наклонился и поднял обеими руками колючий шар. Сделав усилие, он разорвал его. И оказалось, что это две сцепившихся «сироты».
— Так и мы с тобою, — продолжал Савмак. — Ветер оторвал нас от родных корней, но мы нашли опору друг в друге. Если нас разделит судьба… — он бросил колючие растения, и они тихо покатились по примятому ковылю, — останется память!
Он вытащил меч и сделал острием глубокий надрез на левой руке. Капли крови выступили на загорелой коже. Савмак повернул руку, и они потекли в подставленный Митридатом ритон. Потом Митридат провел мечом по своей руке, и их кровь слилась как весенние потоки.
Пока Митридат доливал ритон вином, Савмак установил свой меч острием вверх, подвалив к нему камни.
— О Акинак-сай! — сказал он, обращаясь к мечу. — Ты соединил нашу кровь в этой чаше. Пусть враги Митридата будут врагами Савмака, а враги Савмака — врагами Митридата.
Обнявшись, они пили из ритона напиток дружбы.
ЗА ГОРОДОМ
Памфил крался к гробнице. Ее очертания четко выделялись на фоне ночного неба, и в неверном лунном свете она напоминала какое-то фантастическое чудовище, поставленное охранять преисподнюю. Тяжело дыша, стирая в кровь локти и колени, боспорец стремился подползти к известному ему одному отверстию, проделанному в незапамятные времена охотниками за царским золотом. Ибо в этой гробнице, давно уже пустой и разграбленной, был когда-то похоронен царь, которого молва прозвала «Киммерийцем».
Лаз был в противоположной стороне от входа, которым воспользовались заговорщики. И Памфил надеялся, что ему удастся подобраться к гробнице и, оставаясь незамеченным, узнать обо всем, что замышляют недруги. За это херсонесит, которого Перисад назначил начальником стражи, обещает десять статеров. Голова кружилась при одной мысли о таком богатстве! Аристогор лопнет от зависти, когда узнает, что ему, Памфилу, удалось за одну лишь ночь получить столько, сколько они вдвоем не зарабатывали за год.
Памфил подтянул тело к расщелине и просунул голову внутрь. Еще до того, как его глаза привыкли к мраку, он услышал:
— Ну, птенчик!.. Теперь он свое отлетал! Надо только захлопнуть ловушку!
— Попробуй захлопни! — отозвался другой голос. — Как бы самим не попасться. Дворец охраняется. Всех обыскивают у входа.
— Нашел чего пугаться! — Это говорил человек с окладиетой черной бородой. — При обыске могут найти кинжал, но не яд. А царскому повару пообещай золота.
— Ксур предан Перисаду как пес, — возразил кто-то. — К тому же Митридат пропадает целыми днями на охоте.
— Так бы ты сразу сказал! — воскликнул чернобородый.
Заговорщики стали говорить еще тише. Слов нельзя было вовсе разобрать. Но по тому, как уверенно разглагольствовал чернобородый, а его сообщники гоготали, было видно, что план устранения Митридата представлялся им весьма падежным.
Заговорщики, видимо, из предосторожности, расходились по одному. Чернобородый вышел последним, Памфил обратил внимание на то, что он слегка прихрамывал.
Выйдя на дорогу, чернобородый повернул в сторону степи. Это удивило Памфила, рассчитывавшего, что чужеземец приведет его к одному из городских домов, который можно будет запомнить.
Спустившись в небольшую лощинку, образованную высохшим ручьем, чернобородый шел, пока не добрался до одинокого дерева. И только тогда Памфил заметил, что к дереву привязан конь. Через несколько мгновений послышался мерный цокот копыт, и всадник скрылся во мраке.
На лбу у боспорца выступил холодный пот. Золото, которое он считал уже своим, уплывало.
Митридат пробудился от утреннего холода. Попона, на которой лежал Савмак, была пуста и еще сохраняла впадину от тела. Копь скифа щипал траву, влажную от выступившей росы. Значит, Савмак где-нибудь неподалеку.
Вынув из колчана стрелы, Митридат начал насаживать на них наконечники взамен иступившихся и сломанных. За этим занятием и застал его Савмак.
Скиф был не один. Рядом с ним шел кто-то с мешком за спиной. Подойдя ближе, незнакомец опустил свою ношу на траву и провел дрожащей рукой но широкой черной бороде.
— Благодарение богам! Благодарение богам! — твердил он, кланяясь.
— Что случилось? — спросил Митридат у Савмака.
— Пошел я проверять силки. Вижу, за деревом стоит он и трясется как заяц. Еле добился: разбойники на него напали.
Пес завыл так, словно почуял зверя.
— Молчи, Тавр! — приказал Савмак. — Он и меня за разбойника принял, а потом, как понял, что бояться нечего, не отпускает.
— Вот такой нож! — вставил незнакомец, отмеряя ладонями расстояние в локоть. — К самому горлу: «Давай золото!»А откуда оно у меня. Я бедный купец из Феодосии. Говорю ему: «Возьми колбасу и отпусти». А он все свое: «Давай золото!» Тогда я побежал…
— Ты говоришь, что у тебя колбаса? — поинтересовался Митридат.
Незнакомец хлопнул себя ладонью по лбу.
— Какой же я дурень!
Он расстегнул завязки мешка и вынул большой, аппетитно пахнущий круг.
— Вот! Добрым людям не жалко! Только бы мне на дорогу выйти!
— Что ж! Пойдем! — сказал Савмак, свистнув вилявшему хвостом псу.
Митридат потянулся к колбасе. Она немного горчила, но все же была необычайно вкусной.
Прошло не так уж много времени, как послышался шум шагов. Савмак несся с такой скоростью, словно за ним гналась сотня разбойников. Митридат на всякий случай пододвинул лук.
— Колбаса! — кричал скиф. — Колбаса!
— Вот твоя доля, Савмак! — Митридат протянул остаток круга.
— Ты съел! — воскликнул скиф с ужасом.
— Ну и что? Тебе же осталось и Тавру тоже.
— Змея! Гадина! — кричал Савмак. — Погиб мой друг! С кем я пойду на охоту? Кто будет спать у моих ног?
— Что с тобою? — спросил Митридат. — Ты здоров?
— Я здоров. Но я ее не ел. И ты здоров, хотя съел. А вот Тавр сдох. Значит, она не вся отравленная.
— О чем ты, Савмак?
— О колбасе. Купец дал еще кусок, когда прощались. Прошли немного, и я Тавру кусок бросил. Проглотил он — и сразу выть. Потом затих.
По щекам Савмака стекали слезы. Митридат не стал объяснять сыну степей, кому он обязан своим спасением. «Яд отвращается ядом, — думал юноша. — А что может защитить от ненависти, как не она сама? Таков закон отталкивания, которому следует природа! Он установлен самими богами. О, как я буду мстить за зло и предательство! Никто не уйдет от возмездия!»
ХИТРОСТЬ
Мешочек выпал из руки Алкима, и монеты со звоном рассыпались по столу.
— Как ты сказал? «Птенчик свое отлетал!»— перебил он боспорца.
Памфил отступил, напуганный этой неожиданной реакцией. Может быть, Аристогор прав, что не ввязывается в политику. Лучше жить впроголодь, чем ходить по острию меча.
— Это не я сказал, — пояснил он, — Это чернобородый! Разве я мог так подумать!
Алким сделал нетерпеливый жест.
— А он прихрамывал?
— Да! — обрадованно воскликнул Памфил. — Он тянул левую ногу. Но все равно я не смог его догнать. Он был на коне! Я отправился в степь искать Митридата в надежде предотвратить беду. Но боги спасли царя. Я застал его и скифа у могилки пса. Они оба стояли на коленях перед нею.
Алким сгреб ладонью горсть монет.
— Ты заслужил свое золото.
Глаза боспорца блеснули жадным блеском.
— Но если хочешь его получить, поклянись, что не будешь распускать язык. Ты не был в степи, не видел Митридата и Савмака, не знаешь, о чем совещались заговорщики в Киммерийце. Ты вернулся из Фанагории с письмом от моего брата.
— Клянусь всеми богами! Меня послал Неоптолем! Да, где же послание твоего высокочтимого брата?
Он стал с невозмутимым видом искать что-то за краем гиматия и наконец под видом письма протянул Алкиму пустую ладонь.
Алким с улыбкой пересыпал монеты во влажную ладонь боспорца.
Закрыв за лазутчиком дверь, он подошел к занавесу, отделявшему пространство за колоннами, и отдернул его. Диофант сидел, опершись щекою на кулак. На его губах блуждала загадочная улыбка.
— Ты напал на верный след, — молвил синопеец. — Если пойти по нему, он приведет тебя к тем, кто не погнушался услугами папы Харона. Допустим, им удалось осуществить свой коварный замысел…
— Что ты говоришь! — воскликнул Алким.
— Ты меня не понял. Занавес, за которым ты меня посадил, создал иллюзию театра. Я представил себя автором древней трагедии. Я разработал ее сюжет до конца. Зрители станут актерами. Но они не должны догадываться о благоприятном исходе. Тем значительнее будет эффект! Правду должен знать лишь один Моаферн. Он будет в этом представлении хорегом. Итак, действие первое. Оно начинается в гавани Пантикапея. Ты передаешь Гриллу приказ выйти в море. Как только из виду скрываются берега, ты сообщаешь кормчему и команде, что скончался Митридат, отравленный врагами. Вы поднимаете черные паруса и плывете в Синопу…
Южная гавань густо заполнена толпой. Никто не заставлял всех этих людей стоять на солнцепеке. Никто даже не объявил им, когда прибудет тело царя. Но каждому хотелось проститься с Митридатом.
В толпе можно было увидеть не только синопейцев, но и жителей соседней Армены. Амасийцы прислали послов с жертвенными дарами, поручив оставить их на могиле. Трапезундцы принесли искусно отлитую золотую доску с портретом юного царя в профиль и надписью: «Хайре, Митридатос!» Многие привели с собою детей, и они залезли на постаменты статуй. Те, кому не хватало места в гавани, устроились на палубах кораблей, увешанных черными полотнищами.
В ожидании корабля с телом кто-то рассказывал о силе и ловкости Митридата, покорившего дикого скакуна. Женщины, склонив посыпанные пеплом головы, плакали. Даже мужчины не могли удержаться от слез. Ушел царь, подававший великие надежды. Если бы не зависть богов, он стал бы славой Понта и грозой Рима. Выученики философов, длинноволосые и неопрятные юноши, воспользовались случаем, чтобы заклеймить суеверие толпы. Считалось, что зажегшаяся в день рождения Митридата кровавая комета предвещает его семидесятилетнее царствование, наполненное войнами, власть над четвертой частью ойкумены. А царь умер семнадцати лет, не обладая даже отцовским царством.
Все разговоры и толки были прерваны появлением триеры. Знатоки сразу же узнали флагманское судно боспорского флота «Парфенос». Удивительно было, что на мачтах белые паруса. Кто-то уже поносил этих боспорцев, не отдавших почестей останкам царя. Но ни у кого не вызывало сомнения, что именно на этом корабле находится тело Митридата.
Удивление боспорцев, еще издали видевших корабли с черными полотнами и огромную толпу, заполнившую гавань, было еще большим.
— Что случилось? — спрашивали они, сойдя на берег.
— Это вам лучше знать, — отвечали синопейцы. — Где тело Митридата Эвпатора?
— Он провожал нас и просил передать вам привет.
Синопейцы оторопели. Кто же распространил известие о смерти Митридата? Вспомнили, что оно пришло из Лаодикеи, что о смерти царя объявил от имени убитой горем царицы Ариарат.
— В Лаодикею! — раздались крики. — В Лаодикею!
Толпы хлынули к воротам. На молу остались одни боспорцы. Они до сих пор ничего не могли понять. Им казалось странным поведение граждан этого города, ожидавших их как богов и даже не пожелавших рассказать толком, что случилось.
Ариарат лежал лицом к земле, жалкий, измученный. Сточная канава, по которой он выполз из города, давно уже кончилась. Прошла ночь. Гелиос осветил каменистую равнину, спускавшуюся к озеру. А он все еще переживал ужас тех мгновений. Толпа ревела как тысяча разъяренных быков: «Митридат жив! Смерть Ариарату!»
Все началось с того дня, когда в Синопу прибыл римский посол. Ненависть к Риму росла, как снежный ком, несущийся с горы. Она ослепила синопейцев, и они забыли, что Ариарат жрец Кибелы, что богиня жестоко карает тех, кто поднимает руку на ее служителя. Они не могут простить, что Синопа перестала быть столицей, что Лаодика не строит новых кораблей. А что дали корабли Эвергету? Где его великие подвиги? Посылка пяти триер под стены Карфагена? Неужели этим эллинам мало того, что приносит торговля с иберами и скифами. Им нужны проливы. Они хотят соперничать с Родосом и Александрией. О, они еще не знают, что такое римское войско, когда ему отдают на разграбление город!
Ариарат поднялся и, шатаясь, побрел к морю. Рыбаки, расправлявшие на берегу сети, сочли его безумным. Он и впрямь обезумел от страха и злобы. Останавливаясь, он грозил кому-то кулаками. Из его уст вылетали проклятия.
ВОСКОВАЯ КУКЛА
Маний Аквилий ходил по таблину шаркающей походкой. Эти годы сделали его стариком. Как и прежде, перед ним трепетали цари. Римские сенаторы считались с его мнением. Его по-прежнему называли устроителем Азии. Но сам он все тягостнее ощущал свое бессилие и одиночество. Сын в Риме забыл о нем. Он не может простить выговора за посольство в Синопу. Или просто занят своими виллами и карьерой. Дочь Аквилия еле находит время для семьи. Она поглощена восточным суеверием, она поклоняется Кибеле и Аттису. Он, Маний Аквилий, победивший азиатов, не смог защитить свою дочь от азиатских богов. Слуга Эвмел почти оглох. Беседа с ним не приносит ничего, кроме раздражения.
Маний Аквилий наклонился над восковой фигурой. Она была выдвинута к столу и, видимо, в последнее время занимала его более, чем другие. Он положил обе руки на плечи фигуры. Ноздри его раздулись. В глазах появился хищный блеск.
— Ты пахнешь ядом, мальчик, — сказал он вслух по привычке, выработанной долгим одиночеством. — Я приказал вылепить тебя из понтийского воска. В землях соанов пчелы берут взятку из ядовитых цветов. Этот воск так же ядовит, как твои помыслы, Митридат. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты ушел в скифские степи? Ты окружил себя невидимками, но мне известны их имена. Это они, зловещие близнецы, распространили слух о твоей смерти. Они сбросили Ариарата. Сделан первый шаг. Ты уже мечтаешь о втором. Тебе не дают покоя лавры Ганнибала. А знаешь ли ты, чем кончил великий пуниец?
Манию Аквилию вдруг показалось, будто за его спиной, где находились вифинские цари, что-то зашевелилось. Римлянин не верил в призраков и лишь по привычке в день на Лемурии бросал через спину черные бобы и ударял в бронзовый сосуд. Но это и не был призрак. Отодвигая фигуру Никомеда Охотника, вышел незнакомый юноша, черноволосый, с горящими глазами. Он протянул руку, видимо намереваясь что-то сказать.
Страх обуял старика. Он раскрыл рот, чтобы позвать на помощь, и, задохнувшись, упал.
Когда на шум сбежалась стража, Маний Аквилий уже лежал неподвижный и страшный, как восковая кукла. Оказавшийся в таблине юноша был схвачен. При нем не было оружия.
НАД ПРОПАСТЬЮ
Моаферн шел по набережной Синопы. У статуи Автолика он остановился, пораженный неожиданным сходством фигуры, изваянной Сфенисом, с тем, кого он все эти годы держал в своей памяти. В Митридате была такая же скрытая сила, тот же порыв.
Моаферн смотрел на Старую гавань. Так назывался угол Южной бухты, где догнивали боевые корабли. По нескольким, не стершимся до конца буквам он узнал свою «Стрелу». Какое это печальное зрелище — мертвая триера! Когда-то бывшая гордостью мореходов, предмет их радости и надежд, она предоставлена теперь дождям и ветру. Ее борт потрескался и почернел. Палуба осела. Вместо мачт и рей торчат обломки.
После мятежа синопейцев и исчезновения Ариарата Моаферн мог отправиться в Лаодикею или встретиться с царицей в Комане, на празднике Владычицы. Но он избрал Старую гавань, заповедное место их любви. С этой скалы он метал в воду черепки. Они то скрывались в пене волн, то выскакивали из них. «Раз! Два! Три! Четыре!»— считала Лаодика. Это была их игра! Если рикошетов выходило семь, Моаферн получал награду — поцелуй! Как они были молоды! И последняя их встреча тоже была здесь. Лаодика знала, что к полудню триеры поднимают якоря. Она не заботилась, что ее могут увидеть.
«Что с тобой, любимая?»— спросил Моаферн, протягивая к ней руки. «Мне снился дурной сон. Молния ударила в мое чрево». — «О! Это вещий сон! У тебя родится великий сын». — «Мне нужен только ты!»— сказала она, тяжело припав к плечу Моаферна.
Потом они шли рядом. Помнит ли она теперь эту тропинку к пустырю? Ветер играл лепестками вьюнка и листьями полыни. Запах полыни преследовал Моаферна все эти годы. Это был запах ее столы, ее губ, их короткой и горькой любви.
Лаодика вышла со стороны театра, откуда он ее не ждал. Лицо ее было сурово.
Они долго молчали, глядя друг другу в глаза. Казалось, они оба хотели возвратить прошлое или хотя бы отыскать его следы.
— Я верил, что ты придешь, — сказал Моаферн глухо. — Верил, хотя мне говорили, что это невозможно. Ты не вспомнила обо мне все эти годы плена. Твои стражи ловили меня по дорогам. Неужели приказ Рима сильнее пашей любви? И только судьба Митридата тебя еще может волновать!
— Что с ним? Он жив? Могу ли я верить?
— Только что из Пантикапея прибыл Диофант. Твой сын жив, но ему угрожали люди Ариарата.
— Я никогда не хотела его смерти! — заломив руки, молвила Лаодика. — Но этот ужасный человек имел надо мной власть. Он со мной не считался.
— А смерть Эвергета? — спросил Моаферн, глядя Лаодике в глаза.
— Эвергета убил Рим, — тихо сказала Лаодика. — Я этому не могла помешать. Маний Аквилий угрожал, что убьет тебя. Ты был в его власти. Он уверял, что Эвергет предал тебя, и показывал письма, написанные его рукой.
— И ты этому поверила? Царям приходится скрывать правду.
— Я не могла не поверить, потому что знала о его ненависти к тебе. Почему он послал в Пергам тебя? Разве у него не было других военачальников? И письма были написаны его рукой. Так я попала в капкан. После того как пролилась кровь Эвергета, оказалось, что жертва напрасна. Маний Аквилий обманул меня. И тогда пришел Ариарат. Это была пытка. Ведь он узнал, что Митридат твой сын…
Моаферн пошатнулся. Ужас исказил его лицо.
— Мой сын! Но почему я не знал об этом все эти годы?!
— Ты для него не сделал бы больше. А он об этом не должен был знать.
ПЛАМЯ И ТЕНИ
Весть о возвращении Митридата опередила это событие ровно на столько времени, сколько понадобилось, чтобы разжечь костер на вершине Париадра. Его пламя увидели люди Диофанта в Амисе и тотчас же зажгли свои костры на холмах. Оттуда их свет распространился по всей Понтийской земле до горы Скороба на границе с Вифинией.
Ликовали эллины Трапезунда, радовались жители Фемискиры, потомки халибов, словно предугадывали, что Митридат вернет их рудникам и плавильням былую славу. Совершили возлияние богам амасийцы, вечно страдавшие от набегов воинственных галатов. Но более всех торжествовали синопейцы, ибо Митридат родился в их городе и в него возвращался как законный царь.
Храм Ормузда заполнили персы. Не кто иной, как Моаферн, спас юного царя от козней римлян, которых молва произвела в порождение бога Мрака Аримана.
С персами соперничали эллины. В храме Автолика звучала повторяемая тысячами уст молитва покровителю города и царя. На улице шерстобитов всю ночь не утихала работа. Кому-то пришло в голову все ковры соединить в один гигантский ковер и разложить его от гавани до ворот дворца под ноги Митридату.
Единственным пятном мрака в этом сиянии и ликовании был царский дворец. После восстания синопейцев и бегства Ариарата Лаодику покинули придворные. Разбежались слуги в страхе перед новым господином. Дочь Лаодика осыпала мать проклятиями. Она кричала, что помнит и любит Митридата и знает, что он явится и отомстит за отца. «Лучше бы я умерла в ту ночь, когда дала ей жизнь, — думала Лаодика, — когда, не веря, что выживу, Эвергет дал мое имя; новорожденной».
Лаодика ходила из зала в зал, где вышли из углов потревоженные тени. Близ фонтана лежал, как тогда, Эвергет, и в свете луны лицо его было мертвенно бледным… По мозаике шагал римский посол и звуки его шагов, его лающей речи отдавались в ушах тревожным звоном…
Она очнулась от шума шагов. Нет, это не привидения, не призраки. Они идут, высоко подняв факелы. Тени пляшут по их лицам, выхватывая то щеки, вздувшиеся желваками, то суровые, ненавидящие глаза. И один из них, без факела, с дротиком в руке, ее мальчик. Он заносит назад руку. Но на пути к ее сердцу, уже готовому умереть, встало другое, бесконечно дорогое ей лицо.
— Что ты делаешь? Это мать! — крикнул Моаферн, загораживая Лаодику.
Моаферн лежал на спине, широко раскинув руки. Он умер, как воин.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЦАРСКАЯ БАШНЯ
Весь день дул ледяной ветер. В его свистящем и прерывистом дыхании ощущалась лютая ярость гор, отторгнутых от веселых зеленых долин и янтарного моря. С жалобным скрипом чуть не до земли гнулись корабельные сосны. По дорогам и в голом поле кружились, словно совершая диковинный танец, столбы пыли. И одна лишь царская башня, нависшая над обрывом, сохраняла свою мрачную неподвижность.
На ее каменной памяти — ураганы и землетрясения, мятежи и войны. Ей одной цари доверяли свои тайны. Она слышала признания и предсмертные стоны не склонившихся перед властью. И на ее потемневших от временя стенах сохранились их процарапанные чем-то острым забытые всеми имена.
Молва окружила башню таинственным ореолом. Рассказывали о проклятии, постигавшем каждого, кто прикасался к ее камням. Люди обходили ее стороной.
Что же заставляет этого человека испытывать судьбу? Ветер срывает с него войлочный колпак. Он закрывает голову руками, словно это может защитить от холода.
Внезапно вверху засветилась одна из бойниц. Оттуда со свистом вылетел канат. Человек наклоняется, и через мгновение он уже ползет, перебирая ногами, как паук на невидимой паутине.
Укрепленные в нишах светильники освещают низко нависшие своды. Капля падает человеку на голову, и он вздрагивает, как от удара. Прижимаясь спиною к стене, он идет, извиваясь, пока не упирается в какую-то дверь. За нею слышатся звуки, напоминающие хлопанье крыльев. Прислушавшись, человек понимает, что кто-то ударяет ладонью по камню или, может быть, по собственному телу.
От толчка отлетает дверь, и взору вошедшего открывается келья, темная и узкая, как могильный склеп. В его противоположном конце мерцает огонек. Разгорающееся пламя озаряет лицо в спутанных седых космах. Неужели это та, которая когда-то имела власть над людьми? С нею он связывал свои надежды. Для нее он построил столицу вдали от моря и его соблазнов.
— Ариарат! — слышится вздох. — Ариарат, полетим вместе…
Фигура покачивается. Слышится мерное хлопанье. Это удары подошв по каменному полу. Пустота преображает звуки, так же как изменяет людей. Хлоп! Хлоп!
Дрожащим голосом человек произносит фразу, затверженные и уже ненужные слова:
— Дай мне свою руку! Ты свободна!
Лаодика протягивает высохшую ладонь. На ней блестит сосудик. В таких хранят аравийскую мирру. Может быть, она хочет, чтобы ее наполнили благовониями?
Звон разбиваемого стекла доносит до сознания Ариарата страшную догадку: он опоздал.
— Яд дал мне крылья! — шепчет Лаодика. — Смотри, как высоко я поднялась. Внизу блестит Понт. И корабль как игрушка в его могучих руках. А вокруг резвятся дельфины. Вот они поднимаются из волн и снова исчезают…
ЛАОДИКА ВТОРАЯ
Митридат катался по полу, как раненый барс. Его большое и сильное тело содрогалось от рыданий, прерывавшихся протяжными стонами.
Предсмертное письмо матери раскрыло всю глубину трагедии. Она написана не афинянином Софоклом, а Судьбой. Это случилось не с царем Эдипом, а с ним, Митридатом. Он мстил за отца и оказался сам отцеубийцей. Ибо отцом его был Моаферн. Одна роковая ошибка породила другую. Он, Митридат, убил мать, нет, не дротиком и не ядом (яд ей дал сердобольный тюремщик), а несправедливым подозрением.
— Митридат! — услышал он. — Митридат!
Подобно волшебной флейте Орфея, усмирявшей разбушевавшиеся волны, этот голос успокаивал его мятущуюся душу. Откинувшись навзничь, сквозь пелену в воспаленных глазах Митридат увидел Лаодику. Она пришла к нему, понимая, как он одинок, как страдает.
«Сестра! Нет, дочь Эвергета! Как она похожа на того, кого я ошибочно считал отцом! Она по праву должна носить диадему, занимать трон. Лаодика Вторая! Я же — сын мятежника, заговорщика, узника римских тюрем. Мне бы скакать по степи бок о бок с Савмаком или стоять на корме камары рядом с Гриллом. Нет, вести фаланги Лаодики против римских легионов!»
Митридат схватил девичьи пальцы. Они были белы, как лепестки лилии. В них было благоухание юности и ее чистота.
— Ты меня любишь, Лаодика? — спросил он, вкладывая в слова всю нежность, на какую был способен.
Сестра соединила в себе тех, у кого он уже не мог просить прощения и прижать к груди. Она одна связывала его с матерью, давшей жизнь им обоим.
— Да! — отвечала девочка. — Я всегда скучала по тебе. Когда ты исчез, я плакала. Я говорила матери: «Верни мне брата!»
— Не называй меня так! — перебил Митридат. — Мы не обменивались кровью!
Лаодика взглянула брату в глаза. Они были цвета утреннего моря. Таким ей предстал Понт в тот первый день, когда она вернулась в Синопу. Казалось, волны приветствовали ее возвращение и они так же властно притягивали к себе, как его глаза.
— Вот видишь этот шрам! — Митридат протянул руку. — Отсюда текла кровь, которая смешалась с кровью моего побратима Савмака.
— Он скиф?
— Скиф, — ответил Митридат, отводя взгляд в сторону. — И в тот день, когда мы обменялись кровью, он поведал мне прекрасную сказку. С тех пор я не могу ее забыть. Это о том, как на степь, опаленную гневом богов, пролился всепрощающий ливень слез. Горе сожгло и опустошило мою душу, но ты, как та божественная птичка, пропела прощение и надежду.
Он привлек Лаодику к себе, и она потонула в нем, как песчинка в бурлящем горном потоке.
НАШЕСТВИЕ
С холмов, где стояли посты херсонеситов, казалось, что в движение пришла вся степь. Оставляя позади себя клубы пыли, мчались всадники в кожаных штанах и меховых треухах. Доносился удушливый запах горящего зерна. Пала житница Херсонеса — Керкинитида. Потянулись беглецы из Прекрасной гавани и других поселений западной Таврики. На почерневших лицах застыл ужас побоища, в котором не было пощады ни женщинам, ни детям.
Страшна была ярость воинов Палака. Нашла выход их ненависть к пришельцам, прилепившимся к побережью, как ракушки к днищу корабля. Раньше, когда сколоты владели Великой степью от Истра до Танаиса, они могли мириться с этими купчишками или не обращать на них внимания, как на надоедливых ос. Но теперь, когда Великая степь принадлежит савроматам и роксоланам, соседство эллинов стало опасным. От них исходил дух своеволия. Потеряла авторитет древняя мудрость, приговаривавшая к смерти за подражание чужим обычаям. Некоторым уже жали под мышками дедовские кафтаны, и они сменили их па просторные эллинские хитоны. Еще немного, и сколоты начнут называть своих детей эллинскими именами и клясться не бородой Папая, а Зевсом или Гераклом.
Ревнители старины полагались на царевича Палака, воспитанного в дальнем становье на кумысе и не знавшего даже вкуса оливкового масла и вина. Он еще при жизни отца нападал на купцов, приносивших в скифские селения заморские товары, бил расписную посуду, сжигал эллинские ткани и свитки. Став царем, Палак замыслил уничтожить все эллинское, сжечь эллинские города и сбросить эллинов в море.
В эти дни Херсонес напоминал осажденный лагерь. Каменщики укрепляли стены, не видевшие врагов почти двести лет. По специальному решению булевтерия в угловую круглую башню были уложены плиты с ближайшего к городу некрополя: мертвые должны служить родному полису так же, как живые! Пусть скифские тараны разобьются о камни могил! С улицы кузнецов доносились удары молотов. Гражданам понадобятся стрелы и мечи. Рабы несли на плечах бревна для катапульт. Со стадиона доносились голоса команды. Там обучались военному строю отпущенные на свободу таврские рабы. Нашлась работа и горшечникам в мастерской при храме Девы. Удивительнее всего, что именно ею больше всего интересовался первый стратег Дамосикл. Словно амфоры, вывозимые из города на крутых повозках, могли пригодиться в эти жаркие дни.
Откуда ждать помощи? Из Пантикапея, платящего скифам дань? Или из маленькой Гераклеи — метрополии Херсонеса? Митридат Евпатор! Имя этого царя звучало все громче и настойчивее: в спорах граждан на агоре, в дебатах, разгоравшихся на заседаниях булевтерия.
У понтийского царя были ревностные сторонники и не менее решительные противники. Среди первых выделялся Алким, вернувшийся в Херсонес из Пантикапея. Из его рассказов вставал образ прекрасного и благородного юноши, которому удалось с помощью богов преодолеть вражеские козни и возвратить себе отцовский трон. С особым пафосом Алким описывал месяцы, проведенные вместе с царем в горах Париадра. Если ему верить, выходило, что тогда он был едва ли не воспитателем царя, платившего ему за заботы не золотом, а бескорыстной дружбой. О своей роли при дворе Перисада хитрец не распространялся, понимая, что она выставила бы его в невыгодном свете. К тому же он знал о неприязни своих сограждан к Перисаду, которого считали если не варваром, то их покровителем и тайным союзником.
Среди противников Митридата было немало купцов, торговавших с римлянами. Они распространяли слух, будто Митридат рожден царицей от какого-то преступника и что, желая скрыть свое происхождение, он заточил свою мать в тюрьму и там отравил ее. Разумеется, от такого человека нечего ожидать помощи и лучше передать город под покровительство могущественного Рима.
В пылу спора сторонники и противники Митридата обвиняли друг друга в предательстве.
Но внезапно споры и взаимные обвинения прекратились, словно их и не было. С башен Херсонеса стало видно зарево, охватившее противоположный берег бухты. Палак и его всадники находились всего лишь в двадцати стадиях от городских стен! Булевтерий единодушно принял решение просить Митридата о помощи.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Алким, прибывший с посланием булевтерия в Синопу, не сразу понял, что происходит. Дома у гавани были украшены царскими знаками в гирляндах зелени. Но сама гавань была пуста. Никто не помог укрепить сходни и замотать корабельный канат. Единственный синопеец, встретившийся Алкиму на пути к агоре, оказался продавцом детских игрушек. Не слушая обращенных к нему вопросов, он таращил осоловевшие глаза и гремел над своей головой трещоткой.
На агору сошлась вся Синопа. Люди сидели кучками на расстеленных на земле коврах и что-то выкрикивали. Другие окружили помост с установленным на треножнике огромным медным котлом. Великан виночерпий разливал вино в подставляемые фиалы и ритоны. Мальчики, судя по одежде — царские пажи, несли на жердях целиком зажаренных баранов. Их тотчас же раздирала на части и съедала захмелевшая толпа.
— Скажи мне наконец, что это за праздник? — обратился Алким к одному из мальчиков.
— День рождения нашего царя Митридата, — отвечал паж. — Царь угощает вином из своих подвалов и припасами из своих кладовых. Видишь, он на помосте!
Алким с трудом узнал в атлете с черпаком в руке самого Митридата. За прошедшие два года он возмужал и окреп. И все же это был Митридат, с которым он когда-то жил в хижине пастуха.
В персидском кандии поверх эллинского хитона Митридат стоял у котла и решительно размахивал своим орудием. В нем — полуэллине и полуперсе — бурлила энергия его предков, и казалось, он хотел перемешать подданных своего разноплеменного государства в таком же котле.
— Эй, подходи! — кричал он зычным голосом глашатая. — Пейте, синопейцы! Знаете ли вы, что Синопа по-фригийски «пьяница»?
Еще издали увидев приближавшегося Алкима, царь стал приплясывать.
— Расступитесь! — кричал он. — Это идет спутник моего детства. Дайте ему фиал! Мы выпьем по-скифски!
— Государь! — сказал Алким, подойдя к помосту. — Я приношу тебе поздравления. Но мой город сейчас не может разделить радость синопейцев. Палак подошел к его стенам. И если мы не сможем отразить натиск, то погибнем от голода. У нас нет припасов, а наша житница Керкинитида захвачена скифами.
— Где мой летописец Диофант? — крикнул царь после долгой паузы. — Пусть он явится сюда!
Прошло немало времени, пока привели Диофанта. Увидев встревоженного Алкима, историк понял, что стряслась какая-то беда. Но он не догадывался, почему его оторвали от свитков.
— Это по твоей части! — сказал царь, пошатываясь. — Грузи корабли провиантом, бери гоплитов и отправляйся немедленно туда.
Он показал черпаком в сторону моря.
— Херсонес осажден скифами, — пояснил он ошеломленному Диофанту. — Войну я поручаю тебе…
— А не лучше ли тебе пройти во дворец? — сказал Диофант тоном наставника-успокоителя. — Утром на трезвую голову ты примешь надлежащее решение.
— Нет, на пьяную! — закричал Митридат настойчиво. — Ты забыл, что пишет Геродот о моих предках: персидские цари ни одного серьезного решения не принимали в трезвом виде!
— Но ты подумай, Митридат! Я ведь не стратег, а летописец. До сих пор я расставлял войска лишь на листе папируса. Одно дело — писать о войне, а другое — воевать, руководить ею.
Лицо Митридата, казавшееся дряблым и расслабленным, застыло в каменной неподвижности.
— Я думаю, — сказал царь жестко, — тебе известно содержание договора моего деда Фарнака с херсонеситами. И хотя он не был возобновлен моим отцом, обещание остается в силе.
Митридат спрыгнул с помоста и взял Диофанта за плечо. Несколько мгновений они шли молча. Эллин то и дело бросал на царя взгляд. В нем сквозило удивление. Кажется, он ожидал, что Митридат раскроет ему свои истинные намерения и объявит все сказанное прежде шуткой.
— Итак! — сказал Митридат, не поворачивая головы. — Ты разобьешь скифов. Но этого мало. Ты должен сделать их моими друзьями!
— Как тебя понять? — воскликнул Диофант.
— Понимай, как сказано! Победи и сделай их друзьями! Так, чтобы у котла на агоре среди тех, кто пьет за мое здоровье, были и скифы! Это смелые и мужественные воины. И один из них — мой побратим.
— Война со скифами — не лучший путь к твоей цели, — вставил Диофант.
— Но я не могу терять и дружбу эллинов! — возразил Митридат. — Без их помощи мне не справиться с Римом.
— Итак, необходимо посадить в одну лодку эллинов и скифов, чтобы они ее не перевернули, — подытожил Диофант.
— Совершенно верно! — обрадованно воскликнул Митридат. — Ты понял мой план.
— Но сумею ли я его осуществить, — молвил Диофант. — Тебе удобнее управлять кораблем с такой командой.
— Ты хочешь сказать, что в моих жилах смешалась кровь эллинов и варваров?
— Да! — сказал Диофант.
— Но ведь помощи просят эллины. Во мне они всегда будут видеть варвара, посягающего на их демократию.
Диофант поднял вверх ладони.
— Не знаю, как скифам, но мне приятно быть побежденным.
ХЕРСОНЕС
Третьи сутки дождь висел над Херсонесом. Тысячи водяных нитей сплетались в полупрозрачную и невесомую завесу, окутывающую красные кирпичные кровли, грозные башни крепостной стены. Капли как добрые вести стучались в стены и двери домов. Мутные потоки стекали по плитам агоры и камням мостовых, заполняя канавы и цистерны. Вода бурлила и плескала с такой небывалой щедростью, о какой не помнили старики. Даже в свитках местного летописца Сириска, запечатлевшего чудеса покровительницы города Девы, не упоминалось о таком дожде. Не иначе его наслал Зевс Тучегонитель, чтобы очистить город от скверны — желтой пыли скифских степей. Она проникала во все трещины и щели, складки и поры. Она задушила виноградники, сожгла загородные сады.
И теперь пришел ей конец. Ливень с озорством и лихостью смывал въедливую скифскую пыль и вместе с нею позор прошлых лет. Словно и не было унизительных подарков скифским царям, их высокомерных посланий, грубых угроз и жалких извинений. Ливень очищал город, обволакивал его пеленой, прятал от жадных и завистливых взглядов.
Когда дождь иссяк и солнце высушило влагу, казалось, что Херсонес родился для новой жизни. Каждый камень предстал в своей первозданной чистоте, в паутине покрывавших его трещин, в неровностях, в шероховатостях, в выбоинах от ударов первых каменотесов.
И как в первый день жизни города, запел колокол, возвещая неслыханную радость. В море, очищенном от тумана, показались паруса.
— Корабли Митридата! Корабли Митридата! — гремела медь, и ей вторили ликующие голоса.
В эти минуты город был подобен наклоненному светильнику. Опустели западные и южные кварталы. Вымерла агора. Все живое перелилось в гавань, черневшую тысячами голов, сверкавшую белизной одежд. Люди бросались друг другу в объятия, плакали, не скрывая слез, пели.
Разрезая волны, в гавань вошел «Фарнак»с уже подобранными парусами. Гордо развевалось полотнище со звездой и полумесяцем — эмблемами понтийских царей. Имя корабля напоминало херсонеситам о понтийском царе, заключившем с ними союз.
С борта полетели канаты. Метко накинутые на осмоленные столбы, они притянули триеру к молу. Бесшумно опустились сходни. Херсонеситы подхватили их и укрепили своими телами. Первым спускался человек в блестящем чешуйчатом панцире и обшитой бахромой накидке. На голове его был коринфский шлем, украшенный голубым пером.
— Диофант! Диофант! — ревела толпа, уже знавшая, что Митридат поставил во главе своих кораблей и воинов не перса, не каппадокийца, а эллина. В городе, окруженном варварами, это воспринималось как проявление особой симпатии молодого царя к Херсонесу.
Диофанта встретил первый стратег херсонеситов Дамосикл. Диофант вглядывался в лицо этого еще крепкого человека, на котором запечатлелись следы недавних невзгод.
Рукопожатие стратегов вызвало взрыв восторга. Синопеец и херсонесит, подданный царя и свободный гражданин, они были эллинами, детьми рассеянного по всему миру народа. И Понт соединил их. Ибо Понт — это путь, связывающий тех, кого разъединила судьба.
С высоты угловой башни, куда Дамосикл повел гостя, открывался прекрасный вид на окрестности Херсонеса. Диофант долго не мог оторвать взгляда от виноградников и садов, разделенных бухтами и заливами. Море глубоко вдавалось в сушу, и бухты казались голубыми лепестками какого-то удивительного цветка. Неужели его растопчут скифские кожаные сапоги? Диофант поймал взгляд Дамосикла. В нем была надежда и тревога. Он вспомнил напутствие Митридата: «Победить и завоевать дружбу!»
«Но сначала победить!»— подумал он.
— Диофант! Диофант! — послышался знакомый голос.
Стратег приподнялся на локте. В комнату ворвался Алким. Вчера он попросил его быть провожатым. И вот Алким пришел вместе с Гелиосом.
— Подать каламос? — спросил он, как когда-то.
— Нет! Меч! — отвечал Диофант, улыбаясь. — Теперь это мой каламос, свиток — степь, а чернила — кровь.
— Куда тебя повести? — спросил Алким, когда они вышли наружу. — В театр или в гимнасий?
— Покажи места своего детства.
— Но мой отец был сукновалом и там дурно пахнет.
— Но те, кто любит красивые хитоны, должны по крайней мере знать, как их делают.
Улицы этой части города были узки и невымощены. Здесь можно было споткнуться о камень, порезать ногу обломком сосуда. Знатные посетители города редко сюда заглядывали.
А Диофант с видимым удовольствием шагал мимо приземистых домов с выщербленными стенами. Каждая улица пахла своим ремеслом — выдубленной кожей, свежими стружками, дымом пылающих горнов. Но ко всем этим запахам примешивался густой аромат засоленной рыбы, хранившейся в высеченных в скале цистернах. Рыба была основной пищей ремесленников и, может быть, главным богатством города.
— А где тут ювелиры? — спросил Диофант.
— Ювелиры? Это в другую сторону…
Он повел его назад по улице горшечников, свернул на улицу сукновалов. Ее пересекала улочка ювелиров.
Тюк! Тюк! — слышались удары молоточков. — Тюк! Тюк!..
— Как золотые колокольчики! — произнес Диофант мечтательно. — Мне всегда нравились эти звуки. Но более всего я любил следить за работой мастеров. У моего отца была ювелирная мастерская, и я часами просиживал, наблюдая, как из бесформенных кусков металла появляются золотые сирены, серебряные гарпии и циклопы. Как других удивляют стихи, в которых Гомер воспевает этих чудовищ, так меня восхищает мастерство, дающее фантастическим образам форму.
Зайдем сюда? — предложил Алким, показывая на ближайший дом. Его стена по обе стороны двери была украшена мозаичными изображениями. — Это мастерская 1ересия. Его изделия пользуются у нас славой. Он изготовил украшения для статуи Девы и бронзовый щит для городских ворот.
И вот они в помещении, большую часть которого занимает низкий длинный стол. На нем как бы в беспорядке лежат куски металла, инструменты, глиняные формы, деревянные подставки. Но это беспорядок только для тех, кто не видит мастера за работой.
— А где же сам демиург? — громко спросил синопеец.
На звук голоса из внутреннего двора вышел человек в фартуке, повязанном поверх хитона. Волосы его были едва тронуты сединою. Сеть морщин у глаз говорила о годах, проведенных за работой.
— Я явился к тебе без приглашения, — объяснил Диофант.
— Мы никого не зазываем, — отвечал ювелир. — Товар наш не портится.
— Хорошо сказано, — похвалил Диофант. — Твое искусство, одно из немногих, работает на вечность. Ну что ж, показывай свой товар!
Ювелир сел за стол и поставил перед покупателем золотой килик. Выпуклое изображение заключало бегущего обнаженного атлета и человека в хитоне, видимо гимнасиарха.
— Недурно! — сказал Диофант тоном знатока. — Особенно атлет. В повороте головы чувствуется, что он отдал бегу все силы. Митридат был бы восхищен такой работой.
— Ты Диофант? — воскликнул ювелир.
— Да, почтеннейший. Я знакомился с твоим городом и по совету моего друга заглянул к тебе. Твой килик навел меня на мысль. Ты не мог бы изготовить золотой кратер?
— Разумеется.
— Но мне хотелось бы, чтобы его украсили сценки из скифской жизни, чтобы человек, к которому кратер попадет в руки, ощутил степь, чуждую эллину.
ВЕНОК
На стадион Херсонеса сошелся чуть ли не весь город. Граждане были привлечены известием, что на забеге эфебов будет присутствовать стратег понтийского царя. Все понимали, что состязание, устроенное почти на виду у врагов, должно поднять дух воинов.
В забеге участвовало пятеро юношей, каждый из которых надеялся прийти первым и взять из рук почетного гостя победный венок.
Стратеги сидели на мраморном сиденье, выставленном перед рядами деревянных скамей. Они были в белых гиматиях, но гиматий понтийца имел внизу красную кайму.
— Не пора ли начать? — спросил Дамосикл, видя, что бегуны уже заняли свои места на стартовой площадке.
Диофант кивнул головой, с интересом ожидая начала бега. В последний раз он наблюдал состязание бегунов в Олимпии, куда он по поручению Эвергета привел четверку коней. Тогда он не мечтал о служении Клио.
Дамосикл вышел вперед и поднял над головой платок. По его взмаху бегуны сорвались с места. Они бежали грудь в грудь. На третьем круге один из них, стройный, черноволосый, вырвался вперед и под приветственные крики зрителей пересек черту.
— Кто этот эфеб, так легко одержавший победу? — спросил Диофант.
— Его зовут Архелаем, — ответил Дамосикл. — Он сын ювелира, работающего над твоей вазой.
Диофант вспомнил килик с изображением бегуна. Вот откуда этот сюжет!
— Тебе уже известна моя слабость.
— Ты не в Синопе. Наш город невелик. Да и такие гости, как ты, не остаются незамеченными. Но смотри! — Он показал на юношу, окруженного почитателями. — Все восторгаются победителем! Все хотят ему подражать! А он ждет лить тебя! Ты для него образец!
— Я? — удивился Диофант. — Да он видит меня впервые.
— А знает несколько лет. Как-то Архелай принес мне гемму работы своего отца. В то время я читал твою историю Понта друзьям. Он был самым внимательным слушателем. Я думаю, что ему будет приятно, если ты поздравишь его с победой.
Увидев идущего Диофанта, юноша бросился к нему навстречу. Глаза его сияли. Казалось, встреча с Диофантом была для него высшей наградой.
— Ты прекрасно бежал, Архелай. И в Олимпии ты был бы победителем.
— Тогда бы я отослал венок тебе, в Синопу. Твой каламос вел меня по векам и странам. Он рассеял ложь о странах вокруг Понта, которую эллины повторяли вслед за Геродотом. Когда же появится продолжение твоего труда?
Диофант задумался.
— Глядя на тебя и твоих друзей, я подумал, что и жизнь, дарованная нам богами, такой же бег. Бегун может вырваться вперед, но споткнуться и потерять дыхание. И победный венок достанется другому. Тогда каким смешным покажется историк, который начнет восхвалять того, кто вырвался вперед, но не одержал победы. Историк должен дождаться, когда появится победитель. Но я ведь не только историк, я эллин, как и ты. И мне небезразлично, кто придет первым. Поэтому я решил участвовать в беге. Теперь стадион — скифская степь.
— Я понял тебя, Диофант! — воскликнул юноша. — Скифская степь — стадион. Как хорошо ты сказал! И мне мала эта дорожка. Позволь же, я буду бежать с тобой рядом.
ГОРШКИ БОГИНИ
Скифы двигались четырьмя колоннами. Над мохнатыми меховыми шапками, войлочными треухами, нечесанными космами мотались полотнища с грубо намалеванными скифскими святынями — Секирой, Ярмом, Чашей и Плугом. Это были знамена отрядов чашников, плужников, яремников, соревновавшихся в удали и воинской славе. К ржанию коней и к топоту копыт примешивался еще какой-то звук.
— Что это! — спросил Диофант у Дамосикла.
— Они поют, — отвечал херсонесит. — Поют и славят богов, дарующих победу…
Но Диофант уже не слушал херсонесита. Он скакал на правый фланг, чтобы отдать распоряжение сотникам. Понтийцы строились в два ряда. Задние клали копья на плечи передних.
Все было как на учении под Арменой. Но только впереди не царь, проверяющий ловкость воинов, а сильный и беспощадный враг. Справа и слева холмы с крутыми склонами. Здесь не развернуться. Конницу не поставишь в засаду. Ее пришлось оставить сзади, на случай, если скифы прижмут пехоту к холмам. Диофанту приглянулась более широкая долина с холмом в центре. Здесь можно было разбить лагерь. Но Дамосикл с непонятной настойчивостью убеждал, что в этой узкой долине, и только в ней, надо встретить варваров. Все его доводы разбивались о возражения Диофанта. Но вчера по всему городу распространился слух о чуде, явленном в храме Девы.
Немая рабыня-тавриянка, прислуживавшая жрецам, вдруг заговорила и, упав на колени, не благодарила богиню за возвращение речи, а кричала: «Узкая долина! Узкая долина!»
Диофант пожал плечами. Он мог спорить с Дамосиклом, но привык уступать женщинам.
А скифы уже развернулись и шли рядами. Ряд чашников, за ним плужников, потом яремников. В арьергарде скакали секирники, считавшиеся царской гвардией. Уже были видны искаженные яростью лица. Диофант дал знак стрелкам из лука. На склонах холма приготовились. Но вдруг случилось что-то непонятное. Вражеские кони стали спотыкаться. Всадники летели через их головы. А сзади на упавших уже наседал второй и третий ряд. И все смешалось в кучу. Воинам оставалось лишь поражать уже беспомощных и беззащитных врагов. Свист стрел и копий сливался с ржанием коней и воплем умирающих. Только чашники, удержанные Палаком, повернув коней, уходили в степь.
Диофант и Дамосикл шли по полю боя, усеянному трупами коней и людей. Синопеец наклонился. Он увидел, что копыто скифского коня ушло в яму, а ее края из обожженной глины. В землю врыта амфора.
— Это тоже чудо? — спросил Диофант у херсонесита.
— Да! — отвечал тот, улыбаясь в бороду. — Ведь это горшки Девы.
К вечеру у выхода из долины был воздвигнут победный трофей — холм из скифских акинаков, луков, стрел и щитов. Диофант приказал воинам нарубить сучьев и обложить ими вражеское оружие.
Вскоре запылал костер. Пламя его можно было видеть в любой части Гераклейского полуострова, от Ктенунта до Бухты Символов, граничащей с таврами.
На следующее утро у входа в лагерь стояли трое в бараньих шкурах поверх льняных хитонов. В руках у них были жерди, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся копьями с обожженными концами вместо наконечников. Пришельцы что-то бормотали на своем варварском языке. Диофант понял, что это посланцы тавров.
От имени своих старейшин они предлагали Диофанту союз и давали согласие выделить в своей стране землю для основания поселения.
Такого оборота событий никто не ожидал. Никогда еще они не протягивали руки пришельцам. Диофант представил себе восторг Митридата при известии о союзе с таврами. Но более всего его радовало то, что он избавит херсонеситов от тяжелой обязанности кормить войско. В городе, как он знал, провизия была на исходе, а земля тавров изобиловала скотом и другими припасами.
— Может быть, и Палак теперь станет сговорчивей? — предположил Диофант.
Дамосикл помотал головой:
— Нет! Палак не считает себя побежденным. Что для него потеря нескольких сот всадников. В его руках все побережье от Керкинитиды до Прекрасной гавани. Теперь он может оседлать корабли.
— Корабли? — воскликнул Диофант.
— Пусть это тебя не удивляет. Палак из тех ревнителей старины, которые не отказываются от новшеств, если, конечно, видят в них выгоду. Савроматы и роксоланы оттеснили скифов из Великой степи в Тавриду. Палак понимает, что ему больше не владеть землями у Борисфена. Он мечтает превратить Понт Эвксинский в скифское море.
— Но ведь у него нет кораблей, — заметил Диофант.
— Был бы морской берег, — продолжал херсонесит. — В предгорьях достаточно строевого леса, а в Неаполе немало людей, владеющих искусством Дедала. Одного из них я знаю. Это папа Харон!
ТАВРСКАЯ ЛЕГЕНДА
С перевала открылась вся земля тавров, от гор, замыкающих ее сверху, до Понта, вгрызающегося в нее снизу бесчисленными бухтами, бухточками, заливами. В глубине их маячили скалы, отторгнутые от суши и словно взывающие к ней. Они напоминали окаменевших животных: лань с шеей, подставленной под жертвенный нож, медведицу, покинутую Артемидой, быка, преследующего Европу. Леса, черневшие на террасах гор, были подобны тысячеголовой толпе, наблюдающей за тем, что происходит на орхестре, окаймленной морским горизонтом. Голубые полоски рек рассекали весь гигантский амфитеатр.
Где-то там, внизу, должен появиться город. Диофант уже дал ему имя: Евпатории. Но как найти ему место? Как не ошибиться в выборе бухты для гавани, мыса для стены, источника для водопровода? Кадму указала путь корова, посвященная Зевсу. Кадм шел за ней до тех пор, пока она, утомившись, не легла на бугор. Там впоследствии выросли Кадмеи, колыбель Фив. Но времена священных коров, вещих дятлов и проницательных дельфинов, кажется, миновали вместе с веком аэдов и рапсодов, воспевавших подвиги героев — основателей городов и династий. Провожатым Диофанта был старый тавр — потомок тех разбойников, которые приносили эллинов на алтарь Артемиды. Он не знал по-эллински, но Гераклион переводил его варварскую речь слово в слово:
— Чужеземец! Взгляни на эти горы. Они, подобно стене с зубцами и башнями, опоясывают мою страну. Эту стену возвели не люди, а дружественная нам Дева. Она же набросала у моря камни, чтобы преградить путь тем, кто явится с моря. Она приказала пустить в нашу крепость лишь того, кто победит шестиногих.
В те времена, когда над Бухтой Символов возник Херсонес, жил далеко за морем могущественный царь. Звали его Александром. Прослышал он о красоте нашей земли и захотел основать здесь город. Но тавры прогнали его послов, сказав им: «Пусть ваш царь победит шестиногих!»И отправился Александр в поход. Обошел он полземли. Побеждал он карликов, великанов, людей с одним глазом на лбу. Но ни разу не встретил шестиногих. Так он и умер, не повидав нашей Таврики. А потом из степей пришли жестокие люди. Их дети рождались в кибитках. И пили они молоко кобылиц. Мы назвали их шестиногими, потому что они словно приросли к своим коням. Пришельцы отняли у нас горные пастбища, увели в неволю наших сыновей. И не было у нас сил бороться с ними. Эллины трепетали перед шестиногими и платили им дань. Но ты их победил. И мы даем тебе землю у моря. Строй город!
Диофант с удивлением слушал тавра. Какое фантастическое смешение правды с вымыслом! Но ведь эта сказка создана для того, чтобы оправдать решение старейшин. Не таково ли происхождение других мифов? Не являются ли они былью тех далеких времен, когда пытались объяснить происхождение всех вещей и человеческих судеб и решений.
ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ
В золотой колыбельке, подвешенной к потолку, лежал младенец. Его розовое личико не выражало никаких чувств. Он не подозревал, что был первенцем и царским сыном, не догадывался, что его появление на свет вызвало переполох не только в Синопе, но и во многих других городах, близких и далеких.
Прием во дворце Синопы по поводу этого события был не просто данью этикету. Его задумали как демонстрацию авторитета Митридата и крепости его власти. И эта демонстрация оказалась более внушительной, чем можно было ожидать.
Парфянский царь Вологез прислал наследнику целый караван верблюдов с коврами, рулонами шелка, сосудами из горного хрусталя. Капподокийский царь Ариобарзап явился сам, чтобы передать Митридату оружие удивительной работы и приглашение посетить свою новую столицу. Правитель иберов прислал своего сына и вместе с ним табун выращенных в горах Кавказа коней. Тетрархи воинственных галатов, занимавших центральную часть плоскогорья, почтили Митридата своим присутствием и принесли в дар огромную серебряную вазу, трофей своих давних побед. Царь Пафлагонии Полимен, осажденный в столице своими подданными, ограничился присылкой послания с поздравлением и просьбой о помощи. Вифинский царь Никомед, этот хитрец и пройдоха, подарил триеру, когда-то принадлежавшую Митридату Эвергету. Он заново покрыл ее палубу досками, покрасил борта и приказал написать имя наследника — «Махар».
Но больше любых даров, украсивших город и царский дворец, синопейцев удивило появление римского посольства во главе с легатом Публием Сервилием.
Тех, кто помнил визит Мания Аквилия Младшего, не могло не удивить, с какой почтительностью легат передал поздравления Митридату по случаю рождения наследника. Легат заверил царя в дружеских чувствах к нему сената и римского народа. Временам Аквилиев пришел конец.
«Вот что значит сильная рука! — говорили синопейцы. — Не прошло и года после занятия Митридатом трона, как его уже признали могущественные цари. С ним вынуждены считаться римляне».
Самого Митридата, кажется, не радовал успех. Что-то происходило с ним, заставлявшее предполагать переживания и внутреннюю борьбу. Во время приема он машинально отвечал на приветствия и, не дождавшись окончания церемонии, покинул гостей.
«Порыв, связавший меня с этой девочкой, был порожден отчаянием, — думал Митридат, шагая по залу. — Время смыло черты тех, кто дал мне жизнь. Отодвинулась и Лаодика. Да ведь и она сама любила меня только как брата. Она не принесла мне ни страсти, ни выгод, которые мог дать брак с дочерью любого из царей. И Вологез и Никомед были бы счастливы породниться со мной».
Оставшись наедине, Митридат открыл таблички. Стиль легко прорезал воск: «Твое письмо, Диофант, доставило мне радость. Теперь у меня двое сыновей — Махар и Евпатории. Позаботься о каменной колыбели. Пусть она будет крепкой и достаточно просторной. Вырой цистерны, чтобы городу не страдать от жажды. Меня пугают вести из Керкинитиды. Скифы на море опаснее римлян. Свяжись с Савма…»
Из зала донеслись шум голосов и шарканье подошв. Лаодика провожала гостей. Стиль застрял в воске на полуслове.
Митридат отложил таблички. «Почему я здесь? — мучительно думал он. — Мое место рядом с воинами, в скифской степи или в Таврских горах. Город будет носить мое имя. Но ведь даже его место будет выбрано не мною. И трофей в узкой долине воздвигнут Диофантом. Я не могу покинуть дворец, потому что не знаю, останутся ли для меня открытыми его двери? То, что я принимал за детскую непосредственность, оказалось неразвитостью лишенного воображения ума. Лаодика не может понять моих стремлений, моих планов. Она не знает и не желает знать о том, что выходит за пределы дворца. Она окружила себя людьми, равнодушными и даже враждебными моему делу. Она приковала меня к себе невидимой цепью. И теперь добавила к ней гирю — золотую колыбель».
Митридат схватил таблички. Стиль яростно заскользил по воску: «… ком. Напомни ему о нашей дружбе. Можешь пообещать Неаполь, но пусть он не рассчитывает на Пантикапей. Побережье будет принадлежать мне. Евпатории должен сверкать как драгоценный камень в диадеме, имя которой Таврика».
ПОГОНЯ
Ветер гнал легкий пепел. Он ложился черными полосами в бороздах, когда-то оставленных плугом, у каменных стенок, разделявших клеры. Огонь сожрал дары Деметры, превратил ее пышные волосы-колосья в безобразную плешь. Обугленные тополя вдоль дороги дополняли эту картину, заставлявшую сжиматься сердце одинокого путника.
Таврский тулуп и войлочная шляпа делали Архелая неузнаваемым. Скифские всадники, встретившиеся ему у брода через реку, даже не остановили его. Кто бы мог подумать, что эллин решится среди бела дня идти в город, захваченный скифами! Архелая приняли за одного из тех пастухов, которые доставляют в Керкинитиду туши баранов и круги сыра. Если бы с ним заговорили, он мог ответить на таврском языке.
Показались стены. Керкинитиду называли житницей Херсонеса. Отсюда шли телеги, полные золотого зерна, и амфоры с серебром. Десятая часть доходов от продажи хлеба чужеземным купцам по праву принадлежала Херсонесу, защитнику этого древнего эллинского города. Недаром в присяге, которую принял Архелай будучи эфебом, говорилось: «Я буду врагом злоумышляющему и предающему и склоняющему к отпадению Керкинитиду, или Прекрасную Гавань, или укрепления и область херсонеситов». Потеря Керкинитиды предвещала не только голод и нищету, но потерю свободы. Херсонеситам ничего не оставалось бы делать, как отдаться под власть боспорских царей, давно уже мечтавших подчинить все эллинские города полуострова.
Архелай увидел какой-то темный квадрат, пересеченный железными полосами, с черной дырой в середине. Он не сразу догадался, что перед ним городские ворота. Скифы оттащили их и разожгли на них костер.
В памяти Архелая всплыло лицо Горгоны с волосами-змеями, спускавшимися по щекам, и высунутым, как у бешеной собаки, языком. Это изображение, отпугивающее врагов и злых духов, город заказал отцу, когда Архелай был еще ребенком. Потом оно появилось на воротах и стало такой же неотделимой частью города, как его агора с алтарем Девы и Херсонеса, или мраморная стела со словами присяги. Страшно было подумать, что ворота Херсонеса, не выдержав удара тарана, могли быть так же сорваны, обезображены, а в священных стенах зияли бы пробоины, напоминавшие рваные раны от скифских стрел.
Здесь надо быть осторожным. Архелай свернул в сторону и направился к одной из пробоин. Через несколько мгновений ему открылся мертвый город. От домов остались одни почерневшие стены. Кое-где они присыпаны снежком. Но со стороны гавани доносились стук топоров, визг пил, крики.
Подойдя ближе, Архелай увидел остовы кораблей. Без мачт и парусов, они казались какими-то морскими чудовищами, вытащенными на берег. Между ними прохаживался человек с плетью в руке. Он был здесь главным. Это видно по тому, как почтительно склоняются перед ним головы в башлыках, как там, где появляется его фигура, усиливается стук топоров и визг пил.
До наступления темноты Архелай прятался в одном из домов близ агоры. Оставаясь невидимым, он определил лучшие подходы к кораблям, расположение складов. Когда гавань опустела, Архелай подполз к помещению, которое, как он заметил, не охранялось. Через некоторое время он вылез с огромным ворохом пакли.
…В полночь строители, занявшие ближайшие к гавани дома, проснулись от удушья. Дым подобрался к ним сквозь двери и щели в стенах. Они выскочили, глотая ртом воздух, как рыбы, выброшенные из воды.
В доках горел недостроенный корабль. Он корчился в языках пламени, трещали доски, отрываясь от корпуса. За ним загорелся другой, затем третий. Занялись горы досок, подготовленные строителями.
И только тогда, когда доки представляли собой море огня, скифы увидели человека в тулупе. Он вышел им навстречу, словно желая представиться: «Смотрите! Это сделал я один!»
Скифы замерли, пораженные.
А Архелай тем временем скинул тулуп, за ним и хитон. Его обнаженное тело в пламени казалось бронзовым, словно боги забросили прекрасную статую в скифскую степь. Видение было мгновенным. Архелай развернулся, как дискобол перед броском, и побежал, высоко поднимая ноги, как его учили гимнасиархи…
— Держите! — послышался голос.
Это чернобородый. Он стоит, широко расставив ноги, как охотник, направляющий стаю гончих. Скифы, разделившись на две группы, бегут наперерез. Кривоногие, в своих жестких кожаных и меховых одеждах, они напоминали терракотовые фигурки комических актеров. И погоня казалась какой-то неестественной, словно все происходило на орхестре перед зрителями, а не в гавани, объятой пламенем, на берегу замерзшего моря.
Архелай замедлил бег. Казалось, он хотел подпустить преследователей ближе, но когда они были совсем рядом, он сделал рывок им навстречу и проскользнул между двумя группами бегущих. Теперь было ясно, что раньше он бежал вполсилы, только уводя за собою скифов. А теперь он мчался как вихрь. Чернобородый, почувствовав опасность, неуклюже метнулся к ближайшему дому, туда, где осталось его оружие. Но было уже поздно. Архелай на бегу нанес ему удар головой. Не оглядываясь, он исчез за домами. Топот преследователей раздавался где-то сзади, а потом вовсе затих.
ЗАБОТЫ ОЙКИСТА
Стены Евпатория не были преградой даже для диких коз. Животные перепрыгивали через фундамент и бродили, удивленно вытягивая шеи. Казалось, они не хотели примириться с тем, что люди вырубили их рощу и заняли их водопой.
Грозные башни и ворота существовали лишь в воображении Диофанта, соединившего обязанности ойкиста и архитектора. Каменные квадры еще были скалой, нависавшей над ручьем. К ней надо еще подвести дорогу. В городе не было ни одного дома под крышей. Воины разместились в палатках. Им в шутку дали громкие названия: царский дворец, булевтерий, лесха. Еще Архелай никак не мог выбрать ровный участок для будущего стадиона, а сам ойкист еще не нашел подходящего склона для театра. А в гавани Евпатория было уже тесно кораблям.
Из Херсонеса прибыли две триеры с переселенцами. Они должны были помогать воинам строить город, но в первые дни были заняты выбором участков. Керкинитийцы, более многочисленные и наглые, захватили район, прилетающий к морю, чем вызвали возмущение беглецов из Прекрасной Гавани. Диофанту пришлось прибегнуть к совету самого демократического из владык — его величества Жребия.
Царь Вифинии Никомед прислал корабль с уже вытесанными мраморными барабанами для колонн. За них пришлось расплатиться Херсонесу. Из Синопы пришла триера с оружием и бирема с царскими дарами. Ковры, ткани, украшения были предназначены первенцу Митридата, но царь передавал их Евпаторию.
И, конечно же, Грилл, услышав об основании города, не стал ожидать приглашения и привел свою потрепанную бурями камару.
Доставленные им вести оказались тревожными. По словам кормчего, к Перисаду прибыло посольство от роксоланов, кочующих к северу от Гипаниса. Царь этого могущественного племени Тасий потребовал, чтобы Перисад дал ему десять тысяч мер хлеба для его коней, страдающих от бескормицы. В противном случае он угрожал захватить город.
У Перисада не оставалось иного выхода, как удовлетворить требование наглого варвара. Но это вызвало возмущение пантикапейцев. Они связались с Палаком и хотят призвать его в Пантикапей.
Диофант понимал, что рушится все, чего он добился с таким трудом. Скифская змея, которой он отдавил хвост, поднимает голову. Она обвивает своими кольцами Пантикапей. Его стены уже трещат, и еще немного, во дворце Перисада будет Палак. Меоты дадут ему воинов, гениохи свои камары, роксоланы пришлют коней. Преградить путь Палаку — в этом сейчас спасение эллинских городов.
В тот же день Диофант отправился в Пантикапей. Он взял с собою Архелая и еще нескольких херсонеситов. Войско оставалось в Евпатории. Стратег не решился повести его сушей, так как этот путь был небезопасным и долгим.
Если бы у него был флот, он мог перебросить воинов в Пантикапей. Но корабли, высадив его армию в Херсонесе, отплыли в Синопу. Ждать их возвращения невозможно. Вести воинов сушей опасно. Стратег решил сесть на камару Грилла, чтобы как можно скорее увидеть Перисада. Воины оставались в Евпатории, чтобы помочь в строительстве стен и гавани,
ВСТРЕЧА
Пантикапей проснулся от спячки, как зверь скифских лесов. Улочки от царской гавани до Таврских ворот пришли в движение. Дребезжали деревянные ставни. Звенели украшавшие стены медные сосуды. Ржали кони. Мычали волы. Хлопали бичи. Колеса тяжелых арб по обод уходили в колею, вытертую на мостовой за четыре столетия. В гавани росли горы зерна. Город выбрасывал зерно, как в фонтане пасть мраморного льва — воду. Золотая струя лилась в трюмы триер, барок и барж.
У входа во дворец Диофанта встретил Памфил. В этом хорошо одетом человеке трудно было узнать бедняка, спешившего в гавань, чтобы найти какую-нибудь работу. В его облике появилось что-то, вызывающее у встречных желание быстрее пройти мимо или остаться незамеченными. И даже дом его, надстроенный на этаж, вытянулся словно для того, чтобы заглянуть в чужие дворы, присмотреться к чужой жизни, прислушаться к чужим разговорам.
Все в жизни Памфила изменилось с тех пор, как он попался на глаза Алкиму и тот поручил ему выследить заговорщиков. Три золотых статера были не просто наградой за успех, но и задатком на будущее. Алким давал Памфилу и другие поручения, столь же щекотливого свойства, а уезжая в Херсонес, представил Памфила Перисаду как человека надежного и сообразительного. Так бедняк, почти бродяга, стал доверенным лицом царя, его правой рукой.
— Государь не может выйти. Он нездоров! — сказал Памфил. — Он просит у тебя извинения и приглашает в спальню.
Перисад полулежал. Высокая подушка подпирала голову. Осунувшееся лицо как бы таило следы горьких раздумий. Жизнь подходила к концу. Подобно бегуну на стадионе, он уже видел конечную черту. Царь знал и любил Эпикура, понимал, что со смертью приходит распад. Но бег жизни не прекратится. Так же будет вставать и опускаться Гелиос, созревать колосья, так же в трюмы кораблей будет течь зерно. И так же варвары будут нагло требовать подарков. Кто же возьмет все это на свои плечи? Кому он передаст свой факел?
— Я позвал тебя, потому что считаю своим другом. Гибель угрожает мне и моему царству. На востоке встала черная туча. Я не могу ее отвести.
— Ты имеешь в виду савроматов? — спросил Диофант.
— Сарматов, синдов, дандариев. Все они чувствуют мою слабость. Тасий потребовал от меня зерно, царь синдов Олфак подступил к Фанагории.
— Не знаю, как тебе помочь. У меня небольшое войско.
Перисад задумчиво покачал головой.
— Я о другом. Всеми землями вокруг Понта Эвксинского должен владеть один государь. Митридат молод и энергичен. Эта ноша ему по плечу.
Диофант вскинул голову.
— Мне хотелось бы знать, — продолжал Перисад, — как отнесется Митридат к тому, что я объявлю его своим наследником?
— Сейчас он будет колебаться. Война со скифами затянулась.
— Я понял тебя, стратег. Ты советуешь повременить. И это разумно. Но ведь медлить тоже нельзя. Как только станет известно, что Палак разбит, я отправлю послание в Синопу.
На лице Перисада появилась грустная улыбка. Видимо, решение передать власть Митридату давалось ему нелегко.
Диофант вышел из покоев царя окрыленным. Мог ли он рассчитывать на такой успех! Митридат посылал его в Таврику, чтобы защитить Херсонес от скифов и добиться дружбы с ними, а он принесет ему власть над всеми землями вокруг Меотиды, над водами, сказочно богатыми рыбой, над пашнями и лесами. Он навсегда освободит эллинов от страха перед варварами. Он откроет им путь к верховьям Гипаниса и Танаиса, пополнит богатствами оскудевшие храмы. Митридат, соединив диадемы Понтийского царства и Боспора, сможет разговаривать с Римом как равный.
У статуи Зевса в перистиле Диофант вознес молитву отцу богов за ниспосланную удачу.
НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ
Каменистая тропа упорно ввинчивалась в лес, и каждый виток удалял сверкавшее внизу море.
Воины шли по двое, а в узких местах по одному. Тропа использовалась прежде таврскими охотниками и пастухами. Трудно было думать, что кто-нибудь решится провести по ней войско, тем более гоплитов. На этом был построен план операции, разработанный Диофантом.
Весь путь от Евпатория до Неаполя должен был отнять сутки.
К вечеру войско достигло края гор, за которым начиналась плоская равнина. Она полого спускалась к черневшим вдали лесам предгорья. Если раньше воины обливались потом, то теперь они дрожали от холода. Ветер пронизывал насквозь.
Архелай и несколько его друзей, воспользовавшись ровной местностью, решили показать свое искусство в беге. Но Диофант остановил их. Здесь нужно было быть осторожным.
Воины лежали по краю обрыва, наблюдая, как колесница Гелиоса исчезала в море. Они думали о своих друзьях и близких, которых не видели больше года.
С наступлением темноты, как это было заранее намечено, войско двинулось в путь. Удар должен быть нанесен внезапно.
Уже светало, когда кончились мелкие заросли. Внизу, на холме с плоской вершиной, возник Неаполь. Стена, опоясывавшая город неровным квадратом, была сложена из грубых неотесанных камней. Верхняя ее часть по варварскому обычаю укреплена палисадом из заостренных бревен. Они могли защитить от стрел, но не от огня!
Диофант сделал знак сотнику, и вот, прижимаясь к земле, ползут «слуги Прометея». Так называли тех, кто был обучен обращению с новым оружием. Это круглые сосуды с узким отверстием, куда наливалось земляное масло и вставлялся фитиль. Искусство состояло в том, чтобы зажечь фитиль и бросить сосуд в то мгновение, когда пламя уже коснулось масла, но не успевало вырваться наружу. В противном случае сам «слуга Прометея», похитителя огня, превращался в горящий факел.
Ожидая начала огненной атаки, понтийцы сосредоточились в ближайшем к городу овраге. Было слышно, как кричали петухи — глашатаи утра. Но они не спасли Неаполь, как гуси Рим. Стража, оставленная Палаком, спала, а сам царь со всем своим войском ожидал Диофанта близ Хабей, где проходила единственная дорога из Херсонеса. Палак не подозревал, что враги могут воспользоваться тропой, ведущей через горы.
В воздух взметнулись черные шары, и вот уже пламя охватило частокол. Столбы дыма поднялись над бревнами, а за ними над каменной стеной выросли огненные зубцы, закрывшие город. Напуганная стража забыла о воротах, Туда с грозным ревом ворвались понтийцы.
Мог ли Диофант рассчитывать, что увидит агору со зданиями из отесанных квадров, а в ее центре конную статую царя Скилура? Наклонившись над постаментом, он прочел посвящение на эллинском языке. Но более всего его удивила библиотека, занимавшая все правое крыло дворца. Скифский царь занимался физикой и геометрией, читал Аристотеля! На краях свитка «О кораблях» были заметки, свидетельствовавшие о намерении Скилура строить флот. Скиф оспаривал мнение, что первым кораблем, проплывшим по Понту, был «Арго». «Эллины привыкли считать себя первыми. Но наше море до них не было безлюдной пустыней: Ээт преследовал аргонавтов на кораблях».
Итак, то, что произошло в Керкинитиде, не было случайностью. Палак выполнял план своего отца. И вообще эти скифы не дикари, как думают все, кто пользуется слухами или читает историков давних времен.
Диофант повернул голову. Он услышал цокот копыт. Алким спешился и отвязывал притороченную суму. На вытянутых руках он нес что-то, завернутое в холст.
— Наконец-то! — воскликнул стратег. — Я уже вспоминал притчу о черепахе, которую орел отправил за зайцем.
— О нет, это я был зайцем, посланным к черепахе, — засмеялся Алким. — И справиться мне с нею было потруднее, чем орлу. Не мог же я поднять ее в воздух, чтобы разбить о скалы. Повертелся я вокруг Тересия. А он как за панцирем: «Быстрота, мол, по части Архелая, а я ведь не бегун, а мастер».
Алким развернул материю. И Диофант уже не думал о старом мастере, о его чудачествах, не слышал окончания рассказа Алкима. Он был поглощен кратером.
Вглядываясь в фигурки на выпуклой поверхности, Диофант размышлял: «Этот, в длинных штанах и капюшоне, скиф, тот, в длиннополом кандии, перс. Они пьют из одной чаши… Побратимы. Но сойдут ли они в степь?»
Диофант обратил лицо к Алкиму:
— Твой Тересий — провидец, а не художник. Он проник в царскую мысль. Победить и сделать друзьями. В этом кратере надежда на мир.
— Мир! — воскликнул Алким. — Зачем мириться с варварами?! Ты захватил их город. Пусть они бродят в степях.
— О нет! — отрезал Диофант. — Митридату не нужны бродячие псы. Ему нужны воины.
Алким хлопал глазами. Ему были чужды далекие замыслы и планы Диофанта. Отказываться от победы! Отдавать варварам такой кратер!
ПОСОЛ ПАЛАКА
Диофант стоял в тени одинокого платана. Воины окружили стратега кольцом. На их лицах можно было уловить нетерпение. Что несут послы Палака? Возвращение на родину к теплым берегам Понта? Блуждание по степям в поисках ускользающего врага? Плеск вина в фиалах или свист стрел? Объятия жен или тяжесть чужой земли?
Широко расставляя ноги в кожаных штанах, шагал старый скиф. Лицо его было темным, словно оно вобрало в себя копоть степных костров. Выделялись лишь белки глаз, придававшие ему облик маски. Костлявые руки, высовывавшиеся из мехового хитона, странно подергивались.
Воины зашумели. Посол, как жрец, должен быть здоровым и сильным. Ибо мир так же священен, как служение богам. Небожители, следящие за клятвенными союзами, договорами и перемириями, не выносят уродов.
За старшим послом брел скиф с мешком за плечами. На юном лице застыло простодушное удивление, смешанное со страхом. Кажется, он видел впервые чужеземцев и не понимал, почему его оторвали от отары овец.
Старый скиф остановился и небрежно указал своему спутнику на мешок. Тот сбросил его с плеч и привычным движением вывернул. Блеснуло золото. К ногам Диофанта покатился его кратер.
Прошло несколько мгновений, пока воины осознали, что произошло. И тогда раздался ропот. Послышались выкрики: «Проклятые варвары!», «Мало мы их били!»
Диофант поднял руку, сдерживая воинов. Конечно, Митридату там, в Синопе, виднее, как воевать и как мириться. Но попробовал бы он сам иметь дело со скифами, на которых не действуют ни угрозы, ни обещания, ни подарки.
— Нам не нужно твоего золота, эллин! — прохрипел скиф. — Богатство, как глоток воды в жаркий день, вызывает еще большую жажду. Нам достаточно даров, оставленных нам богами, — ярма, плуга, чаши и секиры. Мы насыщаемся плодами земли, вспаханной плугом, и делимся ими, если к нам приходят с добром. Из чаши мы вместе с друзьями пьем кумыс и вино, а секирой мы рубим головы тем, кто отвергает наших богов.
— Ваши быки и плуг у нас, — отвечал Диофант. — Вы бросили их, убегая. Плоды вашей земли превратились в уголь. Вы сами этого захотели. Чаши у вашего пояса пусты. А боги отвернулись от вас, даровав нам счастье победы.
— Наложи узду на свое счастье! — молвил скиф. — Оно, как взбесившийся конь, не знает, куда несет. Степь взрастила наше племя. Она приняла нас, а когда нужно, мы вернемся.
— Не вернетесь, — послышался за спиной Диофанта голос.
Просвистел дротик. Старый скиф закачался и упал, прижав руки к груди.
Диофант обернулся. Алким стоял, выставив вперед ногу. Лицо его было искажено яростью.
— Что ты наделал? — крикнул Диофант. — Царь тебе этого не простит. Ты убил посла!
— Какой это посол! — воскликнул херсонесит. — Это грубый варвар. Отвергнуть такой кратер! Да ведь лучшего не выходило с улицы ювелиров.
Понтийцы угрюмо расходились. Ушел молодой скиф, качаясь под тяжестью мертвого тела. Алким унес золотой кратер. Диофант остался один. Он поднял с земли кожаный мешок, пропахший дымом, и вывернул его до конца, словно рассчитывая найти в нем другие дары.
ТРЕВОГА
Из отверстия двери дул ледяной ветер. Он шевелил края свитка, и Диофант прижимал его пальцами к доске, заменявшей стол. Мог ли он предположить, что ему придется заканчивать свой труд в скифской степи? Его история рождалась в тепле, при мягком свете масляной лампы. Она сохранила отпечаток домашнего уюта и неторопливых раздумий. Она была созданием человека, привыкшего оценивать поступки с высоты разума и справедливости. Но жизнь, являющаяся объектом истории, неизмеримо сложнее и противоречивее того, что выходило из-под его стиля. Добро и зло выступают в масках, и никогда нельзя понять до конца, кто перед тобой.
Все это Диофант понял здесь, в полуразрушенном варварском городе.
Негнущимися пальцами Диофант выводил: «Отправляя войско в Пергам, Митридат Эвергет рассчитывал на получение от римлян Фригии. Он не задумывался над последствиями своего решения или, может быть, полагал, что, обладая Фригией, сумеет противостоять Риму с большим успехом. В конце жизни он убедился, что победа Аристоника принесла бы ему больше выгод и избавила бы от сильного и опасного соседа. Он начал переговоры с царем Армении, предлагая ему союз, отправил послов к Скилуру с просьбой прислать конных стрелков. Римлянам это стало известно, и они устранили царя с помощью его жены Лаодики».
Диофант отложил стиль и задумался. Так ли проста роль, которую он отводит в своей истории матери Митридата? Может быть, Лаодика не просто орудие в руках римлян? Устраняя Эвергета, она расчищала путь к власти своему сыну.
За стеной послышался шум и бряцание оружия. В дверь ворвался воин. Глаза его были круглыми от ужаса.
Стратег отложил стиль.
— Что случилось?
— Идут! — выдохнул разведчик. — Их мириады! Палак привел роксоланов.
Воины выстроились у городской стены. Шесть тысяч голов повернуто к возвышению, на котором стоял стратег.
— Воины! Палак не захотел мира с Митридатом и привел из степи воинственных кочевников. У нас остается время, чтобы отойти в горы. Но тогда ничто не удержит варварский поток. Я решил дать варварам бой. Они отделены от пас двухдневным переходом. Этого достаточно, чтобы наточить мечи и принести жертвы богам.
Из рядов вышел юноша и торжественным шагом направился к полководцу.
— Что ты придумал, Архелай?
— Разреши предупредить херсонеситов и привести тяжеловооруженных!
— Через два дня варвары будут здесь.
— Херсонеситы будут раньше. Клянусь Девой!
Гелиос был подобен диску, выкованному молотом Гефеста. Невидимые щипцы медленно опускали его в воду, и он передавал свой багрянец Понту.
Прежде в это время с клеров возвращались виноградари. Шатаясь от усталости, они несли ивовые корзины с гроздьями Диониса. Весь город высыпал им навстречу, радуясь обильному урожаю.
Теперь все тихо и мертво, будто в Херсонесе не осталось ни души. Только на угловой круглой башне цитадели видна одинокая и неподвижная фигура. Нет, часовой не любуется закатом. Он смотрит на дорогу, машет рукой, и площадка башни мгновенно заполняется вооруженными людьми.
На повороте дороги, соединявшей Херсонес с Керкинитидой, показался человек. Судя по тому, как незнакомец отрывал ноги от земли, каждое движение стоило ему невероятных усилий.
— Да это Архелай! — крикнул один из стражей.
Все они много раз видели атлета. Все они помнили его улыбающимся, с венком на голове. Но теперь Архелай был почти неузнаваем. Его лицо почернело, губы запеклись, волосы слиплись.
Подбежав к открытым перед ним воротам, Архелай протянул свиток.
По звуку колокола гоплиты Херсонеса выбегали из ворот и строились за протейхизмой. В лунном свете доспехи отливали серебром.
— В путь! — крикнул Дамосикл.
Колонна качнулась и двинулась. У поворота дороги Дамосикл оглянулся. Факелы освещали уже закрытые ворота с чудовищным ликом Горгоны.
К тому времени, когда херсонеситы прибыли в Неаполь, битва была уже в полном разгаре. Роксоланы, потерпев неудачу в первой атаке, снова съезжались в ряды. Кони кружились под ними, словно исполняя диковинный танец. Ржание, гортанные выкрики всадников, зловещее уханье барабанов, стоны раненых — все это наполняло воздух, сливалось в чудовищную музыку боя. В ней исчезали отдельные голоса. Каждый уже не принадлежал себе, становясь частицей чего-то огромного и непостижимого. Словно на этом поле столкнулись сами боги — Зевс и Папай.
Короткая передышка, отвоеванная понтийцами, была достаточной лишь для того, чтобы стереть со лбов пот. Вновь неслась лавина из лошадиных и людских голов с опережающим ее зловещим посвистом стрел. Но и новая атака разбивалась о железную стену из лат и шлемов, ломалась и дробилась на части. Перед фалангой возвышались островки конских крупов, образуя извилистые проходы. И по ним неслись с той же неиссякаемой яростью новые и новые волны.
Дамосикл едва успел поставить своих гоплитов рядом с понтийцами, как раздался рокочущий гул. Из-за холма выкатились повозки роксоланов, превращенные варварами в боевые колесницы. За спиною возничего, управлявшего конями, стояли стрелки. Они с удивительной ловкостью сохраняли равновесие, успевая выпускать стрелу за стрелой. Это была последняя надежда Тасия, рассчитывавшего смять и уничтожить пришельцев. Но железная стена фаланги расступилась, пропустив варварские телеги в тыл, и там засыпала их копьями и дротиками.
И все стихло. Тишина была такой же неправдоподобной, как победа. Напрасно воины Диофанта и Дамосикла ожидали новой атаки. Несколько десятков всадников уходило в степь. Это все, что осталось от варварских полчищ.
Митридат углубился в свиток. Между буквами, выстроившимися в ряды, вырастала фаланга. На латы и шлемы, на медные лица гоплитов ложился отблеск скифских костров. И над всем этим звучал приглушенный шумом боя голос, подобно художнику, пояснявший смысл нарисованной картины. В ней были разбитые враги, брошенное ими оружие, ликование эллинов, встречавших победителей. Не хватало лишь одной детали, без которой, однако, победа не бывает полной. Митридат не видел Палака, склоняющего голову или протягивающего руку при заключении мира. Палак ускользал от взгляда, превращаясь в неуловимую и тем более страшную тень. Диофант, описывая свои победы, ничего не сообщал о Палаке, о его намерениях и планах. Римлянам они были известны лучше.
Митридат вспомнил недавнюю встречу с римским сенатором, прибывшим на поклонение Кибеле. Римские паломники все чаще появлялись в Синопе и спешили оттуда в Коману, где был храм великой богини. Но этот сенатор привез послание от консула Гая Мария. Ссылаясь на жалобу Палака, консул просил Митридата, как друга и союзника римского народа, воздержаться от враждебных действий против скифов. Он напоминал, что Боспор Киммерийский разделяет Азию и Европу, а Европа, согласно договору с Фарнаком, принадлежит римлянам.
«Эти римляне вездесущи, — думал Митридат. — Даже теперь, когда им угрожают кимвры, они думают о скифах. Они всюду суют свой нос, вмешиваются в чужие дела. Но теперь, кажется, им можно ответить, что Европу и Азию разделяет другой Боспор, что он, Митридат, защищает эллинов всюду, где у них хотят отнять свободу и жизнь».
КРУШЕНИЕ
Триера вышла из Пантикапея на рассвете. Чтобы избежать встречи с гениохами, начавшими нападать на понтийские суда, Памфил решил добраться до Евпатория, а оттуда взять курс на Синопу. Боспорец, которому Перисад доверил послание к Митридату, чувствовал себя избранником судьбы. Все впереди было светлым и безоблачным. Предстоявшая встреча с Митридатом не только льстила самолюбию выскочки, по и сулила ощутимые выгоды. Царь не может остаться равнодушным к посланию Перисада, и при известии о свалившемся на него наследстве наградит гонца. Воображение Памфила уже рисовало новый дом на агоре Пантикапея, виллу под Мирмекием. Он уже слышал почтительный шепот пантикапейцев: «Смотрите, это царский друг».
И, наверное, поэтому Памфил не обратил внимания на встревоженные взгляды мореходов. Туча на горизонте увеличивалась. Море потемнело. Небо затянулось в рваный черный хитон. Сквозь его разрывы Гелиос порой освещал свинцовую поверхность Понта и плясавшую на ней триеру. Волны врывались в отверстия для весел, били через нос и корму. Они налетали, как хищные звери, почуявшие легкую добычу.
К гневу Посейдона вскоре прибавилась ярость тучегонителя Зевса. Он вспорол своей молнией тучи. Из разверзшихся хлябий хлынул ливень. Казалось, стихии соревнуются друг с другом в стремлении погубить беззащитное судно. Но так как ни одна из них не хотела уступать другой, оно все еще держалось между морем и небом.
Наутро небо стало светлеть, волны успокаиваться. Справа по борту вынырнул берег, покрытый черным лесом. Кормчий искал глазами место для высадки…
И вдруг триера содрогнулась от чудовищного удара. Памфил не успел опомниться, как его швырнуло за борт. Он уже не видел погружавшейся в волны триеры и матросов, цеплявшихся за ее обломки. Он плыл к скалистому берегу, захлебываясь, теряя силы. В то мгновение, когда он уже ни на что не надеялся, ступни его ощутили каменистое дно. Скользя и спотыкаясь, глотая горькую воду, он выполз на берег и в изнеможении свалился на песок.
Когда он очнулся, весело и задорно светило солнце. Море было пустынным. Равнодушные волны выбрасывали на берег бревна и доски, покрытые зеленоватыми водорослями. На одной из них Памфил увидел изображение глаза. Это все, что осталось от судна. Памфил нетерпеливо ощупывал свои ноги и бедра, словно не веря тому, что один избежал ярости Понта. Послание Перисада украл Посейдон, но Перисад напишет новое.
Памфил встал, и, прихрамывая, побрел вдоль берега к видневшимся вдали лесистым холмам. По солнцу он легко определил направление, в котором должен был находиться Пантикапей. Но долог ли до него путь?
Памфил не догадывался, что находится в землях дружественных Палаку тавров. Он не видел глаз, давно и пристально следивших за ним.
ПРОЗРЕНИЕ
Савмак скакал, прижавшись разгоряченным лицом к конской гриве. Раздув ноздри, он вдыхал терпкий аромат выгоравшей полыни, смешанный с дорожной пылью. Это был острый и дразнящий запах детства — того становья, куда не ведет ни одна тропа. И только память еще находит к нему свои непроторенные пути.
Он, Савмак, еще ребенок, тянется к псалиям. Конь косит на него свой огромный глаз и шевелит блестящими черными губами, словно хочет что-то сказать. Но сильные руки подхватывают Савмака, и вот он на конском крупе. Отец Скилур передает ему узду.
Как же случилось, что он ее не удержал? Почему он оказался среди чужаков, отвергнутый братьями и самой степью? Сколоты считают его эллином, а эллины — сколотом. Где та невидимая грань, которую он перешагнул? Где его вина?
Вот и шатер у сломанного дерева. Савмак спешился и, приподняв полог, скользнул внутрь.
Брат повернулся. На его лице мелькнуло подобие улыбки.
— Ты услышал меня, — сказал Палак глухо.
— Да, хотя твой голос был невнятен, а ты все эти годы был глух к моим крикам.
Палак поднял руку, как бы отстраняя все, что до сих пор разделяло их.
— У нас одни боги, один отец. Ты вырос у эллинов, но у тебя душа сколота. Ты не пришел ко мне во дворец. Ты явился в шатер.
— Меня призвало горе! — сказал Савмак. — У нас не осталось ни одного города. Неаполь, Хабеи в руках эллинов. Мы, как киммерийцы, рассеяны по земле. Одичали брошенные кони и ищут под снегом корм. Женщины и дети в неволе. Они состарятся на чужбине и забудут язык отцов. Вот чего добился ты, присвоив власть, данную мне Папаем.
— Нет! — злобно воскликнул Палак. — Это все сделал твой побратим, эллин, с которым ты обменялся кровью.
— Митридат не эллин. Его отец перс. А матери он не выбирал. Он ненавидел ее и бросил в тюрьму, как только вернулся в свое царство.
— Пусть так! Но эллины его друзья. И он поставил во главе своего войска эллина Диофанта. Эллины отдали ему наше царство.
— О чем ты говоришь?
— О царстве наших отцов, о землях от Керкинитиды до Пантикапея, которые Перисад уже передал Митридату.
— Это ложь! — вспыхнул Савмак,
Палак усмехнулся.
— Если ты не веришь мне, послушай, что тебе скажет этот человек. Он должен быть тебе знаком.
Палак шагнул в угол шатра, поднял край войлока и повернул пленника, лежавшего лицом к земле.
Савмак узнал Памфила, боспорца, возвышение которого казалось всем странным.
— Это правда, Савмак, — захлебывался Памфил. — Диофант и Перисад договорились о передаче власти Митридату и отправили меня в Синопу. Но справедливые боги не захотели этого, они разбили корабль о камни и сохранили жизнь одному мне. Ты же знаешь, Савмак, что я всегда был другом скифов, тебе известно…
— Молчи, змея! — Палак толкнул пленника ногой.
— Теперь ты видишь, — обратился он к Савмаку, — кто прав?
Они шли обнявшись, как в детстве. Никто не слышал, о чем они говорили, но не прошло и месяца, как вся Таврика почувствовала силу сомкнутых братских рук.
ГОРСТЬ СОЛИ
Это был день Апи, наполненный свистом кос, ударами цепов, скрипом колес, уходивших по обод в колею. Над жнивьем поднимались столбы пыли. В тот день Апи получала первый сноп, обвитый гирляндами.
Все остальное доставалось людям, но боги не научили смертных справедливости. Те, кому принадлежала земля, брали себе девять снопов, а десятый оставляли тем, кто пахал землю, сеял зерно, охранял посевы от птиц, тем, кого называли скифами-пахарями. Они жили в сырых и зловонных ямах, прикрытых полусгнившей соломой. Зерна, полученного при дележе, едва хватало им до весны. Хорошо, что эти места были богаты дичью, а окрестные воды — рыбой, но чтобы рыба и дичь не портились, нужна соль. За нее купцы брали втридорога. И нередко пахари отправляли в соляные лиманы кого-нибудь из своих односельчан, обещая в их отсутствие обрабатывать участки и кормить семьи. Возвращение этих соленосов было праздником. В льняных одеждах, с мешками в руках, они ходили из хижины в хижину. Всюду их встречали радостные лица. В деревянные пли глиняные сосуды, в холстяные платки или просто в подставленные ладони сыпалась горсть соли.
Боспорские стражники уже привыкли к этому ритуалу. Они не обратили внимания на человека с мешком, прошедшего через посты.
Соленосом оказался Савмак. Он пришел к сколотам, чтобы поведать о беде. Чужестранцы захватили Неаполь, осквернили алтари Папая и Апи. По дворцу Скилура бродят шакалы! Недруги решили утвердиться в Пантикапее. Царь Перисад обещал им свое царство. Если не помешать их сговору, сколотам придется отдавать не только девять снопов из десяти, но и половину рыбы, какая попадает в их сети. Чужеземцы заберут сыновей, чтобы сделать их воинами и гребцами, дочерей — чтобы заставить их работать в мастерских или прислуживать богатым людям.
— Что же делать? — сколоты разводили руками.
— Горсть соли, — отвечал Савмак, высыпая белые крупицы в подставленные ладони. — В день Диониса стража Пантикапея будет пьяна, а мы узнаем друг друга по этим словам: «Горсть соли!»
ПУЧИНА
Поставив в степи под Неаполем победные трофеи, Диофант в сопровождении отряда всадников двинулся в Пантикапей. Его поредевшее войско под командованием Архелая через горы двинулось в Евпатории, где оно должно было ожидать кораблей для отправки в Синопу. Самому Архелаю он наказал прибыть на корабле в Пантикапей, чтобы присутствовать на торжественной церемонии передачи короны Митридату.
Стратег не торопился. Казалось, он наслаждался путешествием по степи. Она встретила его желтизной ковыля и синевой распростертого над ним неба. Эти два цвета — желтый и синий — казались ему цветами Скифии. И он уже представлял себе полотнище, сшитое из желтого и синего треугольников. Таким должно быть знамя союзного Митридату скифского царства.
Планы стратега шли дальше. Он видел столицей этого царства не Неаполь, а город у порогов Борисфена, там, где высятся древние могилы скифских царей. Он уже выбрал и правителя союзной Скифии. Им должен стать этот полуэллин Савмак, побратим Митридата. С его помощью нетрудно будет держать в страхе фракийцев и угрожать Риму.
На третий день пути впереди возник холм. Еще издали был виден на его вершине всадник. Силуэт его фигуры и коня резко выделялся на фоне неба. Холм оказался гробницей неведомого царя кочевавшего здесь неведомого народа, а всадник был командиром охранявшего границу Боспора отряда меотов. Вокруг холма простирались земли мирных скифов, плативших Перисаду дань зерном и поставлявших всадников для его конницы. Перисад из осторожности отправлял их в Фанагорию и другие города Азиатского Боспора. На скифской же границе он держал меотов.
Начальник отряда Аристогор уже знал о великой победе над Палаком и Тасием. Но, судя по всему, она не принесла ему успокоения. В голосе боспорца, принесшего Диофанту поздравления, ощущалась тревога.
Оказывается, мирные скифы, узнавшие о происшедшем ранее всех, стали проявлять необычное беспокойство. Они подожгли зерно, предназначенное для отправки в Синопу. Но опаснее всего была весть о восстании отряда скифских всадников в Фанагории. По словам Аристогора, Неоптолему, возглавлявшему город, удалось скрыться вместе с верными людьми в акрополе, но остальная часть города была дотла разрушена мятежниками, соединившимися с синдами Олфака. Этот опытный воин сражался под началом Тасия и после разгрома у Неаполя поднял на борьбу своих соплеменников. Известие это вызвало у Диофанта тревогу. Он уже сожалел о том, что отправил войско в Евпаторий. Теперь он был отделен от него степью и горами тавров.
Пантикапей успокоил Диофанта. Кажется, восстание на том берегу Боспора не нарушило обычного хода жизни. Городские стражи дремали у ворот. На агоре шел обычный торг. Помост в ее центре был окружен толпами любопытных. Среди невольников, выставленных на продажу, стратег не без удивления различил роксоланов. Его воины успели продать их херсонесским работорговцам, а те морем доставили живой товар в Пантикапей. И, может быть, это было единственным реальным результатом его победы: в рудниках Фемискиры, в каменоломнях Проконесса появятся сотни новых рабов. Цена на них упадет и возникнет поговорка: «Дешев, как роксолан».
Диофанта не встретил, как прежде, Памфил. Из рассказа воина, охранявшего дворцовые ворота, Диофант узнал, что Памфил погиб вместе со всей командой триеры, отправленной Перисадом в Синопу. Ее обломки были найдены на берегу южнее Феодосии. Митридат не получил известия о том, что Перисад объявил его своим наследником. Он еще не знает о восстании синдов. Как он отнесется к этим новостям? Сможет ли он прислать воинов?
Клены у дороги гордо подняли головы в золотых диадемах. Встречая всех, кто направлялся в Пантикапей, они делали их причастными к великому торжеству природы. На повозках высились кочаны капусты, выращенные в болотистых плавнях на берегу Меотиды. Феодосийские садоводы везли яблоки с толстой пятнистой кожурой и тем приятным привкусом, который дал им имя «медовых». Мирмекийцы нагрузили себя корзинами со сливами, для описания достоинств которых понадобился бы стиль Гесиода. Более всего в тот день на дороге было сколотов. Можно подумать, что они все покинули свои селения. Мешки их пусты. Сколоты ничего не привезли на продажу. Видимо, они решили запастись на зиму каштанами, которые были по их деньгам.
На агоре, однако, они не покупали ни каштанов, ни овощей. Они спрашивали, где достать хотя бы горсть соли. Но оказалось, что в тот день торговцы солью не вынесли своего товара. Сколотам пришлось идти к соляной пристани, на край города. И никого не заинтересовало, чем они заполнили там свои мешки. Осталось незамеченным и появление Савмака в скифской одежде, которую он уже давно не носил.
Диофант пробудился словно от толчка. В зале, выходившем на внутренний дворик, что-то зазвенело. Потом послышалось падение тяжелого предмета. Видимо, упала статуя у входа в покои Перисада. Оттуда донесся крик и какой-то звук, напоминающий треск разрываемой ткани.
— Спасайся! — это был голос Алкима.
Диофант выбежал в коридор. Херсонесит стоял у колонны, закрывая рукой грудь. Лицо его было мертвенно бледным. Сквозь хитон проступила кровь и текла по пальцам.
— Это боги, за посла…
Алким покачнулся и упал к подножию колонны. И в это мгновение над головою Диофанта просвистела стрела. Отпрянув, Диофант бросился к ближней двери. Это было помещение начальника стражи. За этим занавесом он слушал беседу Алкима с Памфилом. Здесь его посетила счастливая мысль, благодаря которой стало возможным возвращение Митридата. А вот и потайной ход, которым пользовался Алким, да будут к нему милостивы подземные боги.
На площади за дворцовыми воротами стояло несколько человек в варварских шароварах и капюшонах. Диофант старался идти так, словно прогуливался и дышал ночным воздухом. Но все равно он обратил на себя внимание.
— Горсть соли! — крикнул кто-то из варваров.
Не зная, как отозваться на этот пароль, Диофант побежал.
Отчаяние придавало ему силы. К счастью, его преследователи плохо знали Пантикапей. Никто не догадался перерезать беглецу путь в гавань.
Диофант оказался в лабиринте бревен, тюков, пифосов. Скользнув в один из проходов, он скрылся с глаз преследователей. Их беспорядочный топот и крики раздавались справа и слева. Видимо, скифы решили не обыскивать в темноте, а дождаться рассвета.
С горечью вспоминал Диофант события последних месяцев. Где тот роковой шаг, который привел его в этот пифос, пропахший вонючим маслом? «Победить и завоевать дружбу»— вот источник всех бед. Царь захотел одновременно быть другом эллинов и скифов. Лодка, в которую Диофант посадил эллинов и скифов, перевернулась. И он оказался за бортом. Под ним пучина.
Светало. Слышались голоса. Сейчас скифы будут здесь, а у Диофанта нет и оружия, чтобы встретить достойно смерть. Он, Диофант, победитель скифов и роксоланов, друг царя, будет схвачен, как беглый раб.
И в это мгновение Диофант увидел триеру, входящую в гавань.
«Вышла из мрака младая с устами пурпурными Эос», — вырвалось из уст Диофанта. Это было чудом, о котором можно сказать только словами Гомера. Корабль с парусами, окрашенными Эос, — его спасение.
Диофант выполз из своего пифоса и рванулся к берегу. Волны приняли его, и он поплыл по-милетски, неторопливо выбрасывая вперед руки. Он уже не слышал воплей скифов, понявших, что их враг ускользает от возмездия.
Архелай с трудом узнал в пловце, вытащенном на палубу, стратега понтийского войска. Вместо торжества, участником которого он должен был быть, он оказался свидетелем катастрофы.
Диофант дрожал всем телом.
— Скифы восстали, — бормотал он. — Это дело Савмака. Перисад убит. Нет Алкима! Божество отомстило за убийство посла.
Не зная, как утешить стратега, Архелай засунул пальцы в кожаный мешочек. На его ладони оказался золотой перстень со вставленным камнем.
— Это работа моего отца! — пояснил херсонесит. — Народ же поставил тебе медную статую с почетной надписью.
Диофант поднес перстень к глазам. Перед ним был вырезанный с удивительным мастерством профиль Митридата. Юношеское лицо выражало стремительный порыв и волю к победе.
— Мне придется объясняться с другим Митридатом, — молвил Диофант, сжимая перстень в кулаке. — Не с мальчиком, а с мужем! Как он отнесется к катастрофе в Пантикапее, к восстанию Савмака, к гибели Перисада? Ему завещано царство. Но где оно? Все мои планы развеяны, словно ворох осенних листьев от дыхания Борея,
ОЛФАК
Скала с деревцем на вершине напомнила Савмаку оленя, окаменевшего в ужасе перед внезапно открывшимся морем. Савмак ощутил себя таким же загнанным зверем. Побережье от Пантикапея до Мирмекия пусто. Даже лодки уведены моряками. Море встало стеной между сколотами и синдами. Но врагам, имевшим корабли, оно стлалось волнистой дорогой, соединяя Пантикапей со столицей Митридата — Синопой.
Мысли о Митридате приносили мучительное чувство раздвоенности. Савмак не мог себе представить, что Митридат, с которым он обменялся кровью, и человек, объявивший себя наследником Перисада, одно лицо. Нет! Эллины, эти хитрые торгаши, подменили его побратима другим Митридатом. И тот Митридат разослал своих лазутчиков по этим городам, подговорил кормчих увести корабли.
У фанагорийского берега показался челн. Гребец прилагал все усилия, чтобы пересечь пролив, но течение сносило его в открытое море. Видимо, он был новичком и не знал, что переплывать нужно выше, против Мирмекия. Савмак шел по берегу, указывая гребцу направление.
По тому, как он нетерпеливо взмахивал руками, ощущалось волнение. Савмак был уверен, что гонец везет ему ответ от царя синдов Олфака.
Когда лодка ткнулась носом в берег и гребец обернулся, Савмак узнал в нем царя синдов.
Да, это был сам Олфак! Савмак видел его в Пантикапее, куда он приезжал для встреч с Перисадом. Савмак не знал, о чем они говорили, оставаясь вдвоем, но так как Перисад называл синда лисой, можно было думать, что он умело отстаивал интересы своего степного народа.
— Фанагорийцы скрыли правду, — начал Олфак. — Твое письмо раскрыло мне глаза и позвало в путь. Ибо я понял, что настал для наших народов час борьбы.
— Ты прав! Он настал! — воскликнул Савмак. — Мы свергли Перисада и прогнали понтийцев, но нам не удержаться одним.
— Мои люди давно были бы с тобой, если бы не козни Митридата, — сказал Олфак. — Эллин не может быть другом.
— Митридат не эллин. Но эллины взяли над ним власть. Они держат его в руках, вертят им как хотят. Они построили Евпатории, чтобы угрожать сколотам, захватили и разрушили Неаполь. Мой брат призвал на помощь Тасия, но боги отвернулись от нас, и Палак ушел со своими людьми к порогам Борисфена, чтобы умилостивить души предков. И вот уже Папай даровал мне победу. И он соединил меня с тобой на страх врагам.
— Наши глаза и души с тобой, — сказал Олфак. — Но руки не могут тебе помочь, пока не будут готовы челны. Жди нас в следующую луну.
НЕОПТОЛЕМ
Евпатории предстал Неоптолему не нагромождением камней, каким он рассчитывал его увидеть, а настоящим городом с агорой и отходящими от нее улицами, с храмом, сверкающим белизною колонн, со стеной, замкнувшей перешеек наподобие металлической дуги. Видимо, скифы, захваченные в плен под Неаполем, недаром ели хлеб неволи.
Неоптолем едва сошел со сходен, как его окружили евпаторийцы. Воин в коринфском шлеме бросился к нему и стал его целовать.
— Это ты! — кричал он, не разжимая рук. — А по Синопе прошел слух, что тебя заколол Савмак.
Из дальнейших слов Неоптолем понял, что его принимают за Алкима.
— Ты знал моего брата! — воскликнул Неоптолем, с трудом сдерживая слезы. — Вы были, наверное, друзьями?
— Мы брали вместе Неаполь, — отозвался воин.
— Да не Архелай ли ты?
Воин кивнул головой.
— Я много слышал о тебе, — продолжал Неоптолем. — Ты перехитрил самого папу Харона. Но еще не родился тот, кто бы мог обмануть Харона, перевозчика в Аиде. Боги не возвращают умерших. За них можно лишь мстить, Теперь скажи мне, каковы новости во дворце?
— Новости! — протянул Архелай. — Изволь! Сестра и супруга царя Лаодика родила близнецов. Мальчику дали имя Фарнак, девочке — Клеопатра. Первенец Махар в Автоликии сел на коня. И я был среди тех, кто поддерживал его стремя.
— Погоди! — остановил Неоптолем. — Что с Диофантом? Где его войско?
— Я вытащил Диофанта из воды почти утопающего, — ответил Архелай. — Мы вместе отправились в Синопу. Вместе пришли во дворец. Диофанту удалось смягчить царский гнев. Я ему в этом помог, рассказав о коварстве скифов. Царь простил Диофанта и поручил ему войну с Савмаком. Весной он будет здесь.
— К весне Олфак переправится в Пантикапей. Силы Савмака удвоятся. Надо помешать им соединиться.
— Но как? — воскликнул Архелай. — У нас нет кораблей.
— За нас Посейдон, — загадочно ответил Неоптолем. — Он послал непогоду.
ПАПАЙ И ПОСЕЙДОН
Кто уверяет, что боги воинственный пыл потеряли? Кто утверждает, что к миру их души склонились с тех незабвенных времен, как пала пространная Троя?
Боги и ныне гремят, так что полнится искрами небо.
Гневом их море полно. Внемлет их зову земля. Только теперь не отыщешь певцов вдохновенных аэдов, тех, кто увидеть могли в схватках и сечах богов.
Не ведал грозный владыка морей о том, что случилось на Понте. Сладко дремал Посейдон в светлом хрустальном дворце. Но разбудили его напуганные нереиды. В плеске взволнованных волн к трону прильнули они: «Спишь ты, отец, колебатель земли многомудрый! Морем твоим между тем вздумал Папай овладеть. Варваров диких орду спустил он на лодках смоленых. Их оседлали они, словно степных скакунов».
Встал Посейдон и трезубцем море взбуравил. Горы клокочущих волн к берегу понеслись. В них потонули челны вместе с надеждой Савмака, видящего со скалы, как гибнут синды — друзья.
Грозно взъярился Папай, и задышал он всей грудью, с чахлых холодных болот, где падает снег словно пух. Остановилась вода под этим могучим дыханием. Вздыбился мост ледяной, два берега соединив. И по твердому льду двинулись полчища синдов. Царь их храбрый Олфак скакал впереди на коне.
Рассвирепел Посейдон, видя коварство Папая. Крик его хриплый и стон услышал Неоптолем. Быстро на лед голубой он вывел свои колесницы. Евпаторийских стрелков спрятал в засаде стратег.
И устремился Олфак навстречу Неоптолему, крепко сжимая копье, кожаный выставив щит. Воины шли за царем, призывая на помощь Папая. К небу вознесся их клич, дикий и страшный: «Папай!»
Верных покинув коней, ратоборцы ринулись в сечу.
Копьями бились они. Медь на груди их звучала. Но поскользнулся Олфак, и направил копье свое эллин в бок неприкрытый спасительной медью, и проколол он Олфака, и мрак осенил ему очи.
Видя гибель царя, синды пустились в бегство, думая скрыться в степи. Но их ждали свистящие стрелы тех, кого спрятал в кустах мудрый Неоптолем. Стрелы разили врагов. Лед обагрился их кровью. И ни один не ушел, не скрылся от грозной судьбы.
И ликовал Посейдон во дворце своем светлом хрустальном, сидя в кругу нереид. Выл от злобы Папай в засыпанной снегом пустыне, в диких Рифейских горах, где-то у края земли.
ОТЧАЯНИЕ
Феодосия пала на третий день осады. Диофанту не пришлось прибегать к таранам и пользоваться амфорами с земляным маслом. Феодосийцы сами открыли ворота, предварительно перебив небольшой скифский отряд. Не меньшей удачей было то, что удалось захватить четыре триеры, стоявшие в гавани с начала мятежа. В распоряжении Архелая, сопровождавшего Диофанта, оказался флот. Он набрал экипаж из бывалых феодосийских моряков, посадил на палубы несколько сотен рвавшихся в бой понтийцев и, принеся жертву Ахиллу Понтарху и Артемиде Навархиде, отчалил от берега.
Диофант провожал взглядом паруса, пока они не скрылись. Только после того он дал знак выступать. Стратег понимал, что путь до Пантикапея проходит в местах, где враги могут устроить засаду.
На третий день пути понтийцы достигли места, откуда слева был виден Понт, а справа Меотида. Здесь и произошла решительная битва.
Савмак с осени готовился к наступлению. Он перерезал часть перешейка глубоким рвом, видимо опасаясь натиска конницы. В месте, оставшемся свободным, он поставил своих лучников и копейщиков.
Диофант двинул на них гоплитов. Они шли, выставив щиты и копья, густым строем. Воины задних рядов положили копья на плечи передних. Грозно сверкала медь доспехов, колебались перья на шлемах.
Скифы сражались с отчаянием обреченных. Их стрелы и дротики остановили понтийцев и заставили их откатиться. Но в это время ударили воины Архелая. Они успели высадиться близ Пантикапея и незаметно проникли в тыл к скифам.
Савмак бился в окружении своих друзей, тех, кто вместе с ним входил в Пантикапей и брал дворец Перисада. Стрелы и копья разили то одного, то другого, но сам Савмак оставался невредимым. Скифам это могло показаться чудом, но все понтийцы знали приказ Митридата: доставить живым. И хотя эта задача показалась Диофанту более легкой, чем первое задание — «победить и сделать друзьями», — стратегу пришлось приложить немало усилий, чтобы метко брошенное копье не оборвало жизнь царского побратима.
Видя, что он один, Савмак занес меч, чтобы вонзить его себе в грудь, но что-то тяжелое обрушилось ему на голову…
Савмак очнулся на корабле. Пол под ним качался и дрожал. В темноте трюма нельзя было ничего различить, но слух улавливал равномерный всплеск и скрип. Он понял: враги сохранили ему Жизнь, чтобы насладиться его позором. Савмак рванулся и упал, отброшенный назад. Его ноги и руки в оковах. Так держат рабов перед тем, как вести их на казнь.
Пленник уткнулся головой в песок, бывший балластом. Он ощутил его холодную влажность. Такой будет и земля, что укроет его тело. Скрипели уключины. Трюм был темен, как судьба.
УРОК УЧИТЕЛЮ
Митридат метался из угла в угол. Никогда еще его не видели таким разъяренным. В голосе звучало искреннее негодование и боль: Диофант заковал его побратима и привез в Синопу как раба.
— Я всегда любил тебя, как брата, — бросал царь Савмаку, угрюмо и недоверчиво следовавшему за ним взглядом. — Я не хотел власти над Боспором. Это была воля Перисада. Я не собирался ссорить тебя с Палаком. Твой народ сам решит, кому царствовать в Неаполе.
Лицо Савмака прояснилось.
— И ты не посылал Диофанта в Неаполь?
— Клянусь богами! У меня не было этого в помыслах. Я приказал Диофанту лишь защищать Херсонес.
Он протянул руку, и Савмак увидел след от меча.
— Мы с тобой побратимы! — сказал Митридат. — Но я хочу, чтобы побратались паши пароды, пролившие кровь в степях, чтобы враги понтийцев были врагами сколотов, а враги сколотов — врагами понтийцев. Я пошлю свои войска, чтобы разбить сарматов, отнявших у вас Великую степь. Вы снова разобьете свои шатры в Герросе, где высятся курганы ваших царей. — Митридат положил руку на плечо побратима. — Возвращайся в Неаполь! — В голосе его звучал призыв и уверенность. — Корабль стоит в гавани. Видишь, как алеют его паруса? Это синопида, краска моей страны, подобная пурпуру, цвет крови, соединившей нас.
В тот день, когда подаренный Савмаку корабль поднимал якоря, в повозке, запряженной мулами, победитель скифов покидал Синопу. Решение царя было неожиданным для всех, кто знал, кем был Диофант для Митридата. Ведь именно он спас его от козней врагов, скрыл в горах, отправил в Пантикапей. Ему он был обязан властью над Боспором, победами над скифами. Что это? Неблагодарность? Зависть к чужому успеху?
Так думали все. Но Диофант знал истину. Он сделал все, чтобы возвысить Митридата и дать ему власть над Таврикой. Но он не приблизил его ни на шаг к той цели, которую поставил царь: «Победить скифов и завоевать их дружбу», к цели, которая диктовалась противостоянием Риму.
«Я исходил из логики простой выгоды, из того элементарного расчета, который доступен каждому и может показаться единственно верным. Я не понял сокровенной тайны политики, ее глубочайшей, скрытой от поверхностного взгляда формулы: дружба с побежденным требует жертвы. И жертвой должен стать победитель! Митридат вывел эту формулу из жизни, из тех уроков, которые дала ему она. Жертва была предрешена уже тогда, когда Митридат избрал меня полководцем и послал против скифов, когда он подавил желание возглавить войско и добыть первые трофеи своими руками. Каждая моя победа была шагом к этому пути».
Повозка мерно покачивалась. Скрипели колеса. Мулы лениво перебирали ногами по каменистой дороге. Синопа осталась за холмом. Жизнь Диофанта теперь принадлежала истории.
Митридат вглядывался в перстень. Прощаясь, Диофант рассказал его историю, и хотя она объясняла, почему эллин не оставил дар старого ювелира себе, чувствовалось, что Диофант навсегда отрезает нити, которые связывали их.
Это был портрет того года, когда Митридат вернулся в Синопу, и в честь этого сделана золотая монета с его изображением. По ней резчик сделал гемму. С тех пор прошло пять лет, и они принесли взору Митридата ту ясность, о какой прежде он не мог и мечтать. Пусть грустно расставаться с самим собой и с теми, кто прежде тебя окружал. Но ведь это закон жизни: деревья меняют листья, а цари — друзей.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПРОЛОГ
Митридат положил руки на подлокотники. Трон осел под тяжестью его тела. Львиные лапы ножек впились в пол.
Сотни посетителей сменились на этом месте. Здесь они стояли, падали на колени. Это были цари, послы, перебежчики, слуги. Одни вызывали любопытство, другие — раздражение. К третьим царь был равнодушен. Но, кажется, этот юноша пробудил у Митридата живую симпатию. В его смуглом, с широко раскрытыми глазами лице было что-то трогательное и внушающее к себе доверие. И имя его, означавшее «Благой», удивительно к нему подходило.
— Продолжай, Хрест! — приказал Митридат.
— Отец не болел. Смерть была настолько внезапной, что подозревают действие яда. Завещание, найденное в храме, передавало власть Никомеду Филопатору.
— Кажется, он воспитывался в Риме?
— В Капуе, государь. Но два года назад брат вернулся в Никомедию. Его сопровождал целый эскорт ростовщиков. Все это время они ссужали ему деньги, поощряя пороки. Мне пришлось покинуть дворец, где отец воспитал меня, как сына и свободного человека. Я жил в Эфесе, кормясь трудом рук своих. Узнав о смерти отца, я пришел к тебе.
— Чего же ты хочешь?
— Справедливости! Однажды я уже пытался добиться ее у римлян. Это едва не стоило мне жизни. Меня обвинили в том, что я покушался на жизнь проконсула.
— Так это был ты? — воскликнул Митридат. — Я слышал об этом странном случае.
— Меня спас секретарь Аквилия Эвмел. Он же посоветовал обратиться к тебе.
Митридат задумался. В годы его младенчества на орхестре жизни ставилась та же трагедия. Теперь ее представление возобновлялось. Невидимыми руками на свет вытащены запыленные маски и розданы новым актерам. Маску Аталла получил Никомед, сын Никомеда. Маска Аристоника вручена этому юноше. Неужели и исход должен быть прежним? Вифиния превратится в римскую провинцию? Никомедия станет вторым Пергамом? Но ведь актеры свободны в своих действиях, и опыт отцов может чему-нибудь научить?
— А где твои гелиополиты? — спросил Митридат.
Хрест поднял глаза. В них сквозило недоумение.
— Я хочу знать, — пояснил Митридат, — на что ты надеешься?
— Мое войско — ненависть к Риму! — воскликнул юноша. — Стоит объявить, что я изгоню римлян, и под мои знамена станут тысячи. Я освобожу рабов и дам им оружие.
«Так же поступил Аристоник, — подумал Митридат. — Именно это напугало отца, пославшего против гелиополитов войско».
— Я помогу тебе, Хрест! — молвил Митридат с неожиданной решимостью. — Я изгоню твоего брата и отдам Никомедию тебе. Ты будешь властвовать над проливами!
Отпустив юношу, Митридат сжал руками виски. Никогда он еще не выходил за пределы Понта — круга, предназначенного рождением. На родине Хреста начинался другой, не знакомый ему круг земель — Великого моря. Где-то в его центре — город с коротким и рокочущим именем Рим, а на противоположном краю, у Столбов Геракла, начинался колоссальный и вовсе неведомый круг, прозванный Океаном. И весь мир представал Митридату цепью из этих кругов или колец. Настала пора преодолеть пространство между малым и средним кругом.
БЕГСТВО
Невнятный шум голосов сливался с ревом разбушевавшегося Понта. Непогода не удержала синопейцев, еще с вечера заполнивших дворцовую площадь. Горели факелы, озаряя встревоженные лица и раздуваемые ветром гиматии. Не спал и дворец. Его окна были освещены и смотрели во мрак, словно глаза какого-то чудовища.
Слух об исчезновении Митридата распространился по городу с такой быстротой, словно птицы разнесли его на своих крыльях. В это трудно поверить! Если пятнадцать лет назад царь бежал от врагов, то что заставило его покинуть свой дворец теперь, когда его окружают друзья, когда он обладает землями вокруг Понта Эвксинского? В его руках Боспор! Скептухи Колхиды и правители мосхов платят ему дань! Царь скифов Палак, ставший другом, шлет всадников!
И все же Митридат исчез. Его не видели на церемонии выхода богини Ма в храме Команы. Посол парфян, которому была назначена встреча, покинул Синопу, не повидав Митридата.
Неизвестность заставляет предполагать худшее. Кто-то уверял, что Митридат отравлен римлянами, не забывшими об унижении своего посла. Толпа двинулась ко дворцу, чтобы увидеть Митридата или узнать о его участи.
К синопейцам вышла Лаодика. Ветер рвал диадему с головы, и она пыталась удержать ее рукой. Призывая подданных к спокойствию, царица объяснила, что супруга заставили удалиться обстоятельства, которые должны остаться в тайне.
Наполовину успокоенная этим сообщением, толпа расходилась по домам. Еще в юности царь исчезал на семь лет. Сколь долгим окажется его новое отсутствие? И каким будет правление этой второй Лаодики?
Возвратившись в свои покои, царица отослала слуг. Она открыла ларец с письмами Митридата. В них она искала разгадку бегства. В первых письмах страсть и нежность сменяли друг друга. А потом пошли папирусы, похожие на приказы: «Сделай», «Позаботься». Последнее письмо было в том же стиле: «Должен удалиться. Советуйся с Архелаем».
Появление херсонесита в синопском дворце поначалу прошло незамеченным. Мало кто знал о его подвигах в скифских войнах. Но недавнее назначение на должность верховного жреца Ма привлекло к Архелаю всеобщее внимание. Эллин — владыка Команы! Это неслыханно! Персидские и каппадокийские вельможи называли Архелая «бегуном», вкладывая в это слово презрительный оттенок. Эллинские торговцы и владельцы кораблей восторженно цокали языками:
— О наш быстроногий Ахилл! Кто тебя обгонит?!
«Я должна считаться с этим сыном ювелира», — с горечью думала царица.
Обида наполняла все ее существо и, не находя выхода, излилась слезами.
— Мама! — услышала она тоненький голосок.
Лаодика оглянулась. К ней тянулся Махар, гибкий, как тростинка.
— Мама, кто тебя обидел?
— Почему ты не спишь, сын мой! — сказала она строго. — Солнце еще не встало из-за гор. Злые духи бродят по земле.
— Они похитили моего отца? — робко спросил мальчик.
— Твой отец покинул нас сам! У него много дел! Он царь!
— А я не оставлю тебя, когда сделаюсь царем. Мы будем вместе, как Диоскуры.
Лаодика улыбнулась. Детская ласка растопила ее сердце.
— Так говорят все сыновья, — сказала она, поднимая ребенка на колени.
— И отец говорил это тоже своей матери?
Лаодика вздрогнула. Лоб ее покрылся холодным потом.
— Мама! Что же ты молчишь? Мама!
БУХТА МУДРОСТИ
Несмотря на день, ливший мелким осенним дождем, в гавани Эфеса было людно. Толпа окружила какого-то человека лет тридцати пяти. Стянутые ремешком волосы открывали шишковатый лоб, придававший ему сходство с известным изображением Сократа. Чем он привлек всех этих людей, терпеливо стоящих под дождем и не замечающих сырого и холодного ветра? Нет, это не гадатель, раскрывающий будущее за драхму, не моряк, рассказывающий басни о сиренах и сталкивающихся островах. Судя по всему, ото философ, собравший ценителей благородного искусства слова, тех, кто предпочитает беседу грубым удовольствиям невежд.
— Ты спрашиваешь, — обратился философ к одному из слушателей, — почему я беден? Я не буду разъяснять древних изречений: «Мудрость не приносит богатства» или «Богатство не купит мудрости». Я расскажу тебе о своей жизни. У меня был в Афинах дом. Отец — его, так же как меня, звали Аристионом — не чаял во мне души и выполнял любую мою прихоть. У меня была лучшая в городе упряжка коней и самая красивая серебряная посуда. Раб нес за мною складной стул, чтобы я не сидел где попало. Но меня одолевала зависть к тем, кто богаче, чьи кони побеждали на олимпийских играх. Мои траты разорили отца, и он вскоре умер; жизнь моя потеряла опору, и стало меня болтать, как корабль на одном якоре. Сгорел дом. Разбежались рабы. Сверстники и товарищи по попойкам покинули меня. Во всех своих несчастьях я обвинял богов, повторяя басни о их зависти к счастью смертных. Ибо свою беспечную и пустую жизнь я называл счастьем.
Я отправился в плавание, надеясь найти в чужих землях то, что потеряно на родине. Меня привлекли рассказы о Блаженных островах, где можно жить, пользуясь дарами природы, где богатство достается без затраты сил. Но корабль, на котором я плыл, потерпел крушение. Меня, потерявшего сознание, полузахлебнувшегося, выбросило на берег. Когда я очнулся, моему взору предстала очаровательная бухта в виде зеркала, обращенного рукояткой к открытому морю. Я подошел к прозрачной, ничем не замутненной воде и увидел… нет, не камни и водоросли, а свою душу, до самого дна. И понял я, что зло не от богов, не от их зависти, а от человека. И то, что мы называем богами, это наша жадность, жестокость, тщеславие, наши страхи и невежество.
Вернувшись в Афины, я стал рассказывать согражданам о моем открытии. Я призывал их отказаться от погони за богатствами и искать Бухту Мудрости, так назвал я место, куда меня выкинула жизненная буря. Меня спрашивали, где эта бухта и как ее найти, словно я был кормчим или лоцманом. Богачи не пожелали взглянуть внутрь себя. Мой урок их ничему не научил. Бедняки оказались восприимчивее. Они окружали меня толпами. Они отказывались платить налоги, чтобы не обогащать тех, кто служит ложным богам. И вот меня выслали из Афин. Я явился к вам, в Эфес, чтобы найти людей, которые верят в добро и его силу.
Митридат был захвачен мощным потоком мысли философа, его фантазией. Он понимал, что такие люди могут принести ему большую пользу, чем тысячи воинов. Они ведут за собою толпу.
Дождавшись, когда слушатели разошлись, Митридат подошел к философу.
— В память об этом дне, — сказал он, — я хочу оставить тебе подарок.
Аристион поднял голову. О каком подарке он говорит?
Митридат расстегнул кожаный мешочек и, убедившись, что поблизости никого нет, протянул философу массивный золотой перстень с геммой.
Аристион отшатнулся.
— Ты, кажется, не понял моей речи?
— Понял, — с улыбкой ответил Митридат. — Если тебя смущает цена подарка, можешь бросить его в море. Но прежде рассмотри гемму.
Философ поднял перстень к глазам. На гемме был изображен его собеседник, только у него пышно разметались волосы.
— Митридат! — воскликнул философ, догадавшись, кто его слушатель.
— Я был Митридатом. Теперь я Гнур, слуга, сопровождающий тебя, господин, в твоих странствиях.
— Куда же нам идти? Что искать?
— Бухту Мудрости!
В ТАБЛИНЕ ОТЦА
Шестеро дюжих рабов несли на плечах лектику. По форме своей она напоминала кораблик с изогнутым носом и крутой кормой, маленькое изящное суденышко, в котором совершают путешествия знатные господа из Рима. Белые занавеси с вышитыми на них орлами окаймлялись позолоченными планками, образующими квадрат. В просвете виднелось бритое лицо с мясистым носом и редкими, словно выщипанными бровями. Толстая шея подпирала голову, придавая римлянину сходство с морской свинкой.
Десять лет назад Маний Аквилий торопливо спускался по этой же улице под неприязненными взглядами эфесцев. Теперь он восходил как победитель. Небрежно и величественно облокотившись на тугие подушки, он лицезрел город, в котором началась его карьера. Эфес мало изменился за эти годы. Те же сверкающие белизною колонны в густой зелени садов. Краски контрастнее, чем в Риме. Та же струя из рога изобилия в руках у бронзового Аполлона. «Все течет!»— не к месту подумал Маний Аквилий.
Раньше при появлении римского консула на улицы высыпали толпы любопытных. Теперь эфесцы прячутся по домам. «Мы привлекаем одних варваров», — подумал Маний Аквилий, заметив у стены великана с обритой головой. Он был выше своего господина эллина почти на локоть. В упорном взгляде варвара можно было уловить удивление, смешанное с неприязнью.
А вот и платан у поворота на агору. Здесь бросился на него безумный фригиец. Потом под розгами он кричал, что Маний отнял у его дочери честь. Тупица! Он не мог осознать, какая честь была оказана его дочери.
С этого эпизода началась непонятная ненависть эфесцев, заставившая Мания Аквилия поспешно возвратиться в Рим. Можно подумать, что его отец и другие римляне вели себя иначе! Словно победителям не принадлежит все в этой стране: имущество побежденных, их жены и дочери.
Носилки плавно опустились на землю. Раздвинув занавески, Маний Аквилий вышел наружу. Разминая затекшие ноги, он ожидал проконсула со свитой. Но, кажется, никто не собирался устраивать ему торжественной встречи. Как выяснилось, проконсул Луций Кассий отправился инспектировать войска на границе. Маний Аквилий сделал вид, что удовлетворен этим объяснением, хотя и догадывался об истинной причине отсутствия Кассия: хитрец оттягивал свидание, надеясь выиграть время.
— Остался ли кто-нибудь из слуг моего отца? — спросил Маний Аквилий у центуриона.
— Я пришлю тебе Эвмела, — коротко ответил тот.
Эвмел уже знал о высоком назначении Мания Аквилия. Это было видно по его заискивающему взгляду. Но в глазах старого грека консуляр не уловил и тени радости. «Что ж, — подумал он, — слуги остаются верны своим господам».
Замок в двери отцовского таблина не открывался. Видно, сюда редко кто заходил. Это могло показаться хорошим признаком. Мания Аквилия считали наследником отцовских деяний, и таблин сохранили для него.
— Дай, я сам, — сказал Маний Аквилий нетерпеливо.
Под его плечом заскрипела дверь. Пахнуло затхлостью давно не проветривавшегося помещения. Здесь было все как при отце: стол из черного дерева, бронзовая статуэтка Немесиды — подарок галикарнасцев, восковые фигуры у стен.
Маний Аквилий ходил по таблину, словно принимая парад. На него смотрели желтые лица царей, цариц, полководцев. Вот этот кривоногий коротыш — царь Прусий, по прозвищу Охотник. Сенат хотел лишить его власти, но он нарядился либертом, напялил на стриженую голову пилум и упал перед консулом на колени. Вызвав смех, Прусий получил прощение и потом много лет управлял вифинцами, внушая им ужас и отвращение. А этот красавец — сын Прусия, Никомед Эпифан. Маний Аквилий не раз бывал у него во дворце и знает всю его подноготную. Вступив в Никомедию, он убил Прусия и управлял, во всем советуясь с римлянами. Месяц назад он умер, завещав свое царство сыну. Статуи Филопатора не оказалось, но Маний Аквилий живо представил себе вертлявую фигуру с разболтанной походкой и особенно мизинец с длинным окрашенным ногтем. Им наследник любил почесывать завитую, пахнущую благовониями голову.
Рядом с вифинскими правителями поместились цари Понта. Вот этот остроносый — Фарнак. На лице его словно написана наглость. Воспользовавшись праздником, он захватил Синопу и сделал ее своею столицей. Он открыл каппадокийским правителям путь к морю. Между понтийскими царями затесался эллин Диофант, возомнивший себя историком. Вместо истории он плел нити заговора против Лаодики, затем воевал по поручению Митридата со скифами и теперь прозябает где-то в изгнании.
О, как прыгали эти фигуры, когда отец топал ногами! Маний не удержался от смеха, и это вызвало еще большую ярость родителя. Хорошо, что прошли времена бородатых консулов, когда отцы убивали сыновей за неповиновение. Отец не кинулся к мечу. Он лишь изрыгал проклятия и прыгал, как ливийский колдун. Конечно же, слуги слышали все! На следующий день в театре, во время представления Медеи, кто-то за спиной Мания Аквилия Младшего крикнул: «Волосатый червь!» Сын консуляра не оглянулся, сделав вид, что увлечен игрою актера. В другой раз в театре он услышал: «Луканская тыква!» Это никак не могло относиться к происходящему на сцене. К тому же и весь театр разразился понимающим хохотом.
Тогда же консуляр отправил своего отпрыска в Рим. На следующий год он исполнял обязанности эдила. В Риме мало кто знал об эфесских неприятностях Мания Аквилия Младшего, и его путь к высшей должности напоминал прогулку по Аппиевой дороге. Кое-кто прочил ему славу Гая Мария.
Надо же было, чтобы в гол его консулата в Сицилии восстали невольники! Победа над ними не принесла Манию Аквилию славы. Лишь позднее, когда всплыло обвинение в ограблении провинции, вспомнили о его заслугах. На заседании суда прославленный оратор Марк Антоний подозвал обвиняемого и эффектно разорвал на нем тунику, показав шрамы от меча предводителя рабов Афиниона. Судьи оправдали Мания Аквилия. Но это не мешало им впоследствии злословить о странной форме шрама. И вскоре по городу распространилась молва, что на груди у Мания Аквилия вовсе не рубец, а знак в виде латинской буквы «F». Злые языки уверяли, что рабы взяли консула в плен и выжгли на его теле несмываемое клеймо.
Маний Аквилий стал замечать, что при встрече с ним собеседники смотрят не в лицо, а ниже шеи, словно пытаются прочесть сквозь ткань, что написано на груди. Но не мог же он удовлетворить их любопытство! Было бы смешно доказывать, что раскаленное железо оставляет иные следы!
При поддержке Гая Мария Маний Аквилий добился назначения в Азию. Провинция была уже занята Луцием Кассием, а соседней Киликией управлял Оппий. Сенат изыскал Манию Аквилию особую миссию: ему предстояло примирить царей. Это тонкое и деликатное поручение ставило его выше проконсулов и делало независимым от них. Оно давало надежду совершить нечто такое, что навсегда заткнет рты недоброжелателям.
Манию Аквилию нужна была не пограничная стычка, а большая война, после которой победитель получает право триумфа. Маний Аквилий уже видел себя на триумфальной колеснице, а впереди скованных пленников. Закрывая глаза, он совершенно явственно различал поднимающуюся над ними голову со спутанными золотыми волосами. Уже тогда, в Синопе, сын Лаодики был высок и крепок не по летам. Подобно Александру, он усмирил дикого коня и скрылся на нем от своих преследователей. Теперь о нем ходят легенды. Говорят, что он сплющивает двумя пальцами римский динарий, чтобы показать свою силу, а может быть, и презрение ко всему римскому. За один присест он съедает барана. Он не знает устали ни в плавании, ни в любви. Уверяют, что он может управлять упряжкой из шестнадцати коней и обладает гаремом из четырехсот наложниц. Это единственный противник, победа над которым принесет Манию Аквилию бессмертную славу.
НОВОЛУНИЕ
Наступило новолуние. Над агорой и улицами Никомедии, над ее прославленными храмами и убогими жилищами повис край месяца, как узкий нож виноградаря. Он едва освещал акрополь и громаду царского дворца. Дворец терялся во мраке, отягощенном воспоминаниями о бедствиях прошедших времен и ожиданием новых, еще более страшных.
Сорок лет назад в такое же новолуние Поседейона во дворец ворвались воины Никомеда. Они были беспощадны не только к людям, но и к стенам. И до сих пор можно видеть на них вмятины от бревен и опалины от огня.
Прусий был убит не здесь, а в храме Зевса, где он спрятался от своего сына. Теперь правит внук Прусия, и ему, в тот же день Поседейона, угрожает сын рабыни Хрест. За Хрестом стоят тысячи никомедийцев, называющих себя новыми гелиополитами. В отличие от приверженцев Аристоника, они не мечтают о Государстве Солнца. Их единственная цель — освобождение народов, обращенных в рабство римлянами.
Заговорщики давно уже давали о себе знать дерзкими нападениями на римских ростовщиков, расплодившихся как мокрицы в сырости. Они покрывали стены дворца оскорбительными рисунками. В осле с непомерно большими ушами, оседланном воином в латах, все узнавали Никомеда. И если кто в этом сомневался, того могла убедить надпись: Филоримлянин. Так было изменено имя Филопатор в народе.
Носачи Никомеда давно уже пронюхали, что нити заговора тянутся в Синопу. Однажды им удалось захватить корабль с оружием, предназначенным для новых гелиополитов. В другой раз они узнали, что под видом купца из Эфеса прибыл бродячий философ Аристион, давно уже мутивший умы. Обнаружить его убежище не удалось.
Избрав временем для выступления памятную никомедийцам ночь, заговорщики заблаговременно заняли дома, окружавшие дворцовую площадь. Многие из этих домов недавно принадлежали римским ростовщикам. Напуганные угрозами и нападениями, они уступали их за полцены, а сами бежали в римскую провинцию под защиту легионов.
Царь проснулся от чудовищного треска. Подбежав к окну, он увидел, что вся площадь покрыта огненными пятнами факелов. Группа людей у ворот отводила бревно тарана для нового удара. Первым среди них был человек, в котором Никомед узнал Хреста. За его спиной стоял великан с бритой головой. Хотя он был в грубом хитоне раба, чувствовалось, что он руководит штурмом. Внезапная догадка пронзила сознание Никомеда: «Да ведь это сам Митридат!»
Никомед отпрянул от окна. Дрожащими руками он нащупал столу своей наложницы и набросил ее на себя. Вихляющей походкой Никомед шагал по коридору, освещенному восковыми свечами. Его никто не узнал.
Широким жестом Митридат отер пот со лба.
— Наконец достучались! Твой братец, кажется, глух.
Хрест улыбнулся.
— Теперь остаются лить морские ворота.
— Для этого мало бревна! Чтобы протаранить проливы нужен флот. Поэтому я возвращаюсь в Синопу.
— Ты возьмешь охрану?
— Мне еще надо побывать в Пергаме. Там меня ждет Аристион.
ПОДСТРЕКАТЕЛЬ
— Никомед, сын Никомеда! — доложил Эвмел.
Маний Аквилий удовлетворенно хмыкнул. Сразу видна отцовская выучка! Другой бы на месте Эвмела сказал: «Никомед, царь Вифинии!» Это было бы неточно.
— Пусть войдет.
Ожидая посетителя, Маний Аквилий еще раз обвел взглядом стены таблина. Наконец он обрел должный вид. Вместо всех этих восковых истуканов, к которым питал пристрастие отец, появились полки. На них аккуратно разложены церы, еще совершенно чистые, не знавшие прикосновения стиля. Все эти Атталы, Диофанты, Лаодики стали восковыми табличками.
Мысли Мания Аквилия были прерваны появлением просителя. Это слово больше всего подходило сейчас к Никомеду. Маний Аквилий не без злорадства отметил униженный поклон Никомеда Филопатора, жалкую улыбку на обмякшем лице. Вся его спесь и чванливость остались во дворце, захваченном Хрестом, откуда он, как говорят, бежал в платье рабыни, перепуганный насмерть. Но именно таким он и нужен был ему.
— Что же ты стоишь? — сказал Маний Аквилий, указывая на сиденье.
Но Никомед не слышал обращенных к нему слов.
— Я пришел просить у тебя защиты, — начал Никомед. — Враги римского народа захватили царство моего отца, верного союзника и друга римлян.
— Мне уже все известно, — самодовольно отозвался Маний Аквилий. — Римские граждане, бежавшие от разъяренной толпы, прибыли раньше тебя.
— От толпы?! — Голос Никомеда срывался. — Твои люди увидели только толпу! Страх смыл лица и слил отдельные голоса в рев.
— О чем ты?
— Эту толпу возглавлял Митридат! Я своими глазами видел, как он направлял в ворота бревно тарана.
— Я тебе верю, Никомед. Но это усложняет дело. Надо брать легионы Кассия, нанимать галатов. Расходы удваиваются, так же как и риск.
Лицо Никомеда вытянулось. Он уже пожалел о своей откровенности.
— Казна моя захвачена мятежниками, — молвил Никомед.
— Но ты можешь подписать обязательство…
— Разумеется, если сумма…
— Дело не в сумме, — перебил римлянин, — а в твоей готовности выполнить долг дружбы, так же как выполняю я.
Он протянул восковые таблички Никомеду.
— Пиши: «Я, Никомед, сын Никомеда, обязуюсь по первому требованию моего друга, Мания Аквилия, вернувшего мне отцовский трон, выступить против врагов римского народа. Я обязуюсь также уплатить…»
Проверив запись, Маний Аквилий свернул церы и с удовлетворением положил их на место.
Глядя на полки, заполненные табличками, Никомед, может быть, впервые представил себе могущество Рима, держащего в своих руках царей, как ростовщик должников. «Маний Аквилий говорит о долге. Но каковы будут проценты?»— думал Никомед.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НИКОМЕДА
Золотые статеры с мелодичным звоном отлетали в сторону и ложились ровными рядами по обоим краям стола в пространстве между ними неистово плясали пальцы словно исполняли кордак.
Услышав шаги, человек у стола повернулся. На его вытертом, как старая монета, лице можно было прочитать неудовольствие, вскоре сменившееся удивлением. Титий встал. С животом, выставленным вперед, с руками, подпирающими бедра, его можно было принять за пифос с родосским вином.
Да, Титий не был красавцем. Но еще Маний Аквилий Старший захотел иметь его восковую фигуру в своей коллекции. Ростовщик отказался от такой чести: ему, сыну менялы из Брундизия, не пристало стоять рядом с царями и полководцами. Но всем было известно, что Титий играет ими с такой же легкостью, как монетами. Сколько из них, стоя перед его вытертым столом, униженно выпрашивали деньги, а он, выпучив рачьи глаза, требовал гарантий и поручителей. Осуждение одного из честнейших римлян — Рутилия Руфа — это дело его рук. Рутилий Руф не дал Титию ограбить Эфес и за это после окончания срока своей должности был осужден в Риме как грабитель. От стола Тития тянулись тысячи невидимых нитей к особнякам влиятельных римских ростовщиков и к скамьям сенаторов в курии, где сидели их должники.
— Меркурий в помощь! — сказал Маний Аквилий с той мягкостью в голосе, которая появлялась у него лишь при встрече с равными. — У меня к тебе дело, Титий. Мой друг Никомед, тебе он известен, нуждается в деньгах.
— Каковы гарантии? — спросил ростовщик.
— Я отправляю легион и галатов в Никомедию.
— Проценты?
— Сорок восемь, как обычно.
— Твоя доля?
— Пятнадцать процентов.
Титий помотал головой.
— Компаньоны не согласятся. Слишком велик риск. Хреста поддерживает Митридат.
— Тебе и это известно?
— Такова моя профессия.
— На что пойдут компаньоны?
— Десять процентов за комиссию.
— Когда будут деньги?
— Завтра!
На следующее утро Никомед получил два миллиона сестерциев. Половина сразу же досталась Манию Аквилию за легион, который он посылал против Хреста. Остальные предназначались на выплату жалованья галатским наемникам.
Войско выступило после полудня, когда спала жара. Белая пыль, поднятая калигами и карбатинами, ложилась на доспехи, на трубы, на оружие, на значки манипулов и знамена галатских отрядов. Легионный орел плыл впереди. Он был виден всем, кто отправлялся в поход: Манию Аквилию и Никомеду, ехавшим верхом, и Титию, избравшему себе повозку. Римский всадник никогда не садился на коня.
— Завтра ты будешь у себя дома, — сказал Маний Аквилий дружелюбно. — Посмотришь, как сражаются римляне. Каждый из них стоит десятка этих гелиополитов.
— Не сомневаюсь! — сказал Никомед, потрясая кошельком. — Только чем я буду им платить?
— А твоя казна?
— Я уже говорил: казна у мятежников. И они уже ею распорядились.
— Придется порастрясти Лаодику.
— А Митридат? — удивился Никомед.
— Митридата я возьму себе. Он украсит мой триумфальный кортеж.
Над Никомедией сгустился туман, покрывший небо багровой пеленой. Костры горели на всем пространстве от агоры до Северной гавани, отмечая места недавней расправы. Маний Аквилий приказал охранять тела распятых, дабы они устрашали всех, кто сочувствовал мятежникам я оказывал им помощь.
Треск пламени сливался с выкриками и короткими ударами. Легионеры коротали время за игрой в кости.
Воин в круглом шлеме, перемешав костяшки, ловко швырнул их на деревянную доску. Наклонившись над ними, он пробормотал:
— Опять собака!
Раздался хохот.
— Не горюй, Луций, — успокаивал сосед, остролицый, с орлиным носом. — Вот поймаем бритоголового, набьешь мошну!
— Дался консулу этот раб. Мало он их, что ли, в Сицилии на крестах поразвешивал!
— Болтают, будто это и не раб вовсе, а царь Митридат, переодетый рабом.
— Вот оно что! Да если бы ты мне раньше сказал, я бы его из-под земли выкопал!
— Какой скорый нашелся! — Остролицый нахлобучил своему партнеру шлем на голову. — Митридата голыми руками взять захотел! Да ведь это оборотень, а не человек! Его еще в детстве прикончить решили, он невидимкой стал. Вынырнул, словно со дна моря, где-то на том берегу и там семь лет пропадал. К Митридату надо ключ иметь!
— Какой такой ключ?
— Магический. Я слышал, что здесь, в Никомедии, у одного человека тот ключ хранился.
— У кого?
— У него!
Остролицый повернулся и протянул руку в направлении столба с распятым на нем юношей.
Раздался новый взрыв хохота. Легионеры сочли это шуткой. Они-то ведь знали, что этот мятежник был упорнее всех прочих и даже не назвал своего имени.
ГИГАНТЫ И БОГИ
Гелиос пылал гневом. Казалось, он не желал простить смертным, что они приносят жертвы другим богам, и ревниво осыпал землю тысячью огненных стрел. Пергамцы скрывались от них под черепичными крышами, мраморными кровлями портиков, кронами деревьев. Гнев Гелиоса не остановил лишь двух путников, терпеливо поднимавшихся в гору. Может быть, у них не было в нижнем городе пристанища? Или дела не допускали промедления?
На одном была хламида из тонкой милетской шерсти, выдававшая в нем человека богатого и независимого. Другой, в коротком грубом плаще, какие носят обычно рабы, шагал впереди. За его плечами болтался кожаный мешок. В правой руке был кувшин с узким горлышком для вина или воды. Он помахивал им, не замечая, что капли влаги выливаются наружу и тотчас же испаряются на раскаленных камнях.
— Эй, Гнур! — крикнул первый.
Митридат обернулся. За месяцы странствий по городам и селениям Азии он привык к своему новому имени и к роли слуги знатного господина. Царская печать и троп оставлены супруге. Он принял чужое имя и переменил одежду, чтобы обойти страну, подвластную римлянам. Подобно похитителям золотого руна они засеяли ее зубами дракона. И вот уже вздымается земля. Семена ненависти прорастают щетиной копий.
Азия жила в предчувствии грозных событий. Какие-то странники, переходя из города в город, рассказывали о страшных знамениях: в святилище Артемиды Эфесской, восстановленном после пожара, мыши изгрызли золотое одеяние богини. Для объяснения этого чуда не надо было обращаться к халдеям. Кому не известно, что богатства Азии также расхищаются римлянами? В многолюдном Милете среди бела дня орел разрушил воронье гнездо на платане, посаженном, по преданию, Антигоном. Смысл и этого знамения был ясен, так как орел показался с восточной стороны горизонта.
Все объединилось в ненависти к пришельцам из Рима, но сами они этого, кажется, не замечали. По-прежнему сенаторы, окруженные свитой, посещали театры и гимнасии. Так же, как и раньше, римские всадники собирали подати. На гладко выбритых лицах то же спокойствие, та же надменность. Склоненные головы и согнутые спины они сочли залогом вечной покорности, не разглядев злобы в опущенном взгляде. Они поверили, что Азия, привыкшая подчиняться царям, смирилась и с их господством.
Митридат подождал, пока Аристион с ним поравняется, и почтительно подал медный кувшин. Эллин на этот раз не улыбнулся, чтобы поощрить его артистический талант. В его взгляде Митридат прочел какое-то странное нетерпение.
— Не время! — сказал философ, отстраняя кувшин.
И вот они снова поднимаются в гору, томимые ожиданием чего-то неизбежного и уже близкого. Их сандалии хлопают по раскаленным камням. И со стороны никто их уже не примет за господина и раба. Это два воина, идущие к цели.
Дорога, огибая дома, сделала еще один поворот, и путники неожиданно оказались перед квадратным строением, разрезанным широкой лестницей. На ее верхней площадке высился лес мраморных колонн, образующих обрамление алтаря.
— Вот! — сказал Аристион, показывая на фриз под колоннами.
Митридат вскинул голову. Перед ним, словно отделившись от стены, выступило лицо с мучительно сведенным ртом и круглыми от ужаса глазами. Воин схватился обеими руками за древко копья, направленного ему в грудь. Над поверженным склонилась божественная голова. В сжатых губах жестокая решимость, и лишь округлость щек и подбородка выдавала женщину.
«Лаодика!»— едва не вскрикнул Митридат, пораженный сходством. Такой он представлял себе мать все годы изгнания. Она убила отца и готова была убить его. Но он вырвал копье из ее рук…
И взгляд Митридата скользит дальше. Змеиные хвосты. Рушащиеся колесницы. Спины, скрученные, как тетива катапульт. Головы, отрывающиеся от плеч, как ядра. Молнии раздирают небо. Гром заглушается скрежетом зубов, воплями, ржаньем. Мрамор ожил.
— Что это?
Митридат отшатнулся.
Лицо Аристиона выражало ликование, словно он оказался победителем. Кажется, он радовался тому, что царь ощутил силу эллинского искусства. Фриз Пергамского алтаря выразил все, что он хотел ему сказать, расставаясь, может быть, навсегда.
— Боги и гиганты! — выдохнул он.
Митридат не отрывал взгляда от фриза. У него было много врагов. Некоторых он знал в лицо, других по именам. Иные были безымянными. Он скрывался от них, отвечая ударом на удар, хитростью на хитрость. Но он не понимал до глубины, что такое битва. Здесь, под мраморным фризом, он разгадал ее тайну. Это над ним занес копыта конь! Копье приставлено к его груди!
— Гиганты и боги! — повторил Митридат, словно прозрев.
Наблюдения, мысли, чувства — все, почерпнутое из путешествия, нет, из жизни, — казалось, выплеснуло из него и застыло в этих мраморных фигурах. В мире нет сыновей, отцов, матерей и братьев. Есть лишь гиганты и боги. Между ними не прекращается схватка! Нет жалости и сострадания! Быть втоптанным в землю или занять Олимп!
Митридат напрягся, как лев перед прыжком. Но в это мгновение на плечо опустилась рука, и царь очнулся.
Площадь была пуста. От деревьев и статуй ложились резкие тени. Камни Пергама жгли подошвы.
— Прощай! — сказал Митридат.
Взгляд его нащупал где-то за горами родной Понт и лежавшие за ним скифские степи. Там было его воинство, дети земли — гиганты.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МИТРИДАТА
Скалистые горы то отступали от берега, то вплотную подходили к нему, обрываясь в море блестящими темными скалами. Глаз еще не успел привыкнуть к этому движению суши, напоминающему игру в прятки, как вдруг цепь гор оборвалась и прямо впереди выступили пологие холмы в матовой зелени оливковых рощ. За ними, разворачиваясь пурпуром черепичных крыш и ослепительной белизною стен, выплывала Синопа.
Митридат схватился за поручни. Можно было подумать, что увидел город впервые. Нет! Открывшееся зрелище не радовало его и не вызывало умиления. В давно знакомом ему облике столицы он уловил что-то размягченное и мечтательное. Словно и впрямь она была основана влюбленным юношей, а не грозным воителем, изгнавшим амазонок. Где башни цитадели? Где мачты боевых кораблей?
Митридат резко повернулся и, не дожидаясь, пока укрепят сходни, спрыгнул на берег.
Он широко шагал, не замечая обращенных на себя взглядов, не слыша приветствий. Во всем его облике ощущалось жадное нетерпение. Не успевшие отрасти волосы еще более подчеркивали юношескую неугомонность. Он был жестким и колючим, словно северный ветер со снегом, что здесь называют «скифом».
Синопа строила корабли. Это известие, как гигантское эхо, обогнуло Понт Эвксинский. Все, кто умел держать в руках топор, ладить снасти, крепить паруса, кто рассчитывал найти работу, спешили в Синопу. На запах наживы, как мухи на мед, слетались предприимчивые купцы.
Из Фазиса, что в стране колхов, пришло полотно, соперничавшее по плотности с египетским, а из земель мосхов, где пчелы роятся на деревьях, — воск. Танаис, этот северный Нил, прислал молодых рабов. Они были светловолосы, крепкотелы, неповоротливы, как медведи. Никто не мог понять их варварского наречия.
В обоих гаванях города росли горы бревен, отесанных брусьев, досок. Тут была прославленная питиунтская сосна для мачт, пантикапейский дуб для килей, вифинская пихта, незаменимая для рей и весел, не знающий себе равных диоскурийский ясень, твердый, как кость, колхский самшит. Из-за Таврских гор на верблюдах доставили несколько бревен железного дерева. Арабские купцы уверяли, что под водою оно сохраняется двести лет.
Рубкой отборного леса, предназначенного для великого флота, ведали опытнейшие дровосеки. Они не были знакомы со знаменитой «Историей растений» Феофраста, но по вековому опыту знали, как выбрать лучшие деревья, как их рубить, когда снимать кору, как хранить. Пихты были срублены на лунном ущербе, чтобы древесина была крепче, сосны — когда на них нет шишек. Бревна бука мочили в воде, чтобы они не гнили, а отесанные брусья смазывали коровьим навозом, чтобы быстрее сохли.
Синопа превратилась в огромную мастерскую. В верфях целая армия ремесленников обтесывала, строила, пилила, конопатила. В городском предместье Армене не умолкали удары молотов. Опытные мастера, потомки халибов, ковали медные листы, чтобы превратить корабли в гоплитов. В арсенале под руководством прославленного Никонида строились баллисты и другие военные машины. Нашлась работа ткачам и косторезам. Даже знатоки Гомера, от которых не ожидали пользы, были заражены корабельной горячкой. Они предлагали названия судам, которые пока еще были бревнами или даже горделивыми соснами где-нибудь в Париадре или в горах соанов: «Амфитрита», «Протей», «Медуза», «Тритон»… Все имена морских богов были исчерпаны, и тогда пошли в ход женские имена — греческие, персидские, армянские: «Аристо», «Эро», «Миттина», «Мендико», «Сотерида», «Коттиха», «Роксана», «Нисса». Флагманскому кораблю Митридат дал имя «Хрест».
Рождался великий флот. Синопа была его матерью. Если первые ее сыновья закрепили за нею прозвище «покровительница искусств и наук», то новое детище должно доставить Синопе славу владычицы морей, понтийского Карфагена. Милет и Галикарнас, Афины и Коринф строили корабли из понтийской сосны, чтобы угрожать ими Понту. Теперь Понт будет иметь свой флот, равного которому не видел Гелиос. Понт Эвксинский тесен для этого флота. Ему нужны просторы моря, которое теперь называют Римским.
Одновременно со строительством флота в Кабире, выше слияния Лика и Ириды, воздвигался дворец. По специально проложенной дороге туда везли квадры мрамора, статуи, саженцы редких деревьев для парка, животных для зверинца. Митридат начинал новую жизнь.
САРАНЧА
Агенты Тития рассыпались по Вифинии, как саранча. Всюду, где только они появлялись, слышались вопли, плач, бессильные проклятия. Мычали уводимые из хлевов коровы, блеяли овцы. По дорогам к Никомедии тянулись толпы Девушек и юношей с серыми от горя лицами. Там их уже ждали корабли предприимчивых делосских работорговцев. А где-то в морском тумане виделся Рим, подобный чудовищу из легенды о Крите. Как Минотавр, он пожирал сыновей и дочерей поселян и ремесленников. Их слезы и горе становились золотом, наполнявшим кованые железные сундуки Тития и его римских компаньонов.
Но ошибся бы тот, кто подумал бы, что между консуляром и ростовщиком царило согласие. Тития ничего не интересовало, кроме золота. Найдя казну Никомеда пустой, он решил выколотить долг и проценты с его подданных. Те, кто не могли внести поголовной подати, теряли не только имущество, но и свободу. Титий готов был превратить все царство в пустыню. Мания Аквилия, уже успевшего получить изрядный куш, заботило состояние Вифинии и ее армии. Он понимал, что, если не одернуть Тития, в стране останутся одни старики и старухи. Кто будет работать? Кто будет служить в войске? Специальный закон, изданный Никомедом по настоянию консуляра, запрещал продажу в рабство за долги. Корабли работорговцев стали уходить из Никомедии пустыми. Им больше нечего было делать в Вифинии. Но зато оживились безлюдные прежде долины в горах восточнее Никомедии. Они были превращены в лагеря для обучения новобранцев. Их сгоняли со всех концов царства. Это были отцы семейств и безбородые юнцы, виноградари, рыбаки, пастухи, мелкие торговцы, школьные учителя. Под наблюдением специально подобранных Манием Аквилием центурионов они превращались в воинов.
Это было зрелище, способное вызвать смех. Новобранцы не понимали приказаний, путали ряды, наталкивались друг на друга, падали. Самые простые команды ставили их в тупик. В латах, со шлемами, напяленными на лоб, они напоминали комических персонажей Менандра. Но стоило вспомнить, что их руки привыкли к сетям, виноградному ножу, к плугу, молоту, чтобы почувствовать жалость к этим несчастным пленникам Ареса. Чувство это было чуждо их учителям, считавшим всех вифинцев лентяями, хитрецами, а то и тайными сторонниками Митридата. Жестокое обращение заставило нескольких вифинцев бежать. Римляне распяли их у лагерных ворот на устрашение всем остальным.
Казалось, Маний Аквилий мог быть доволен результатами своей деятельности. Прошло лишь полгода после возвращения Вифинии Никомеду, а у вифинского царя впервые была армия, обученная по римскому образцу. Конечно, подготовка воинов оставляла желать лучшего. Но Маний Аквилий и не рассчитывал на победу Никомеда над войсками Митридата. Ему нужен был предлог для военной поддержки своего союзника. Был уже назначен день похода к понтийской границе. Однако Никомед стал вести себя как осел, на которого взвалили неподъемную ношу. Страх перед могущественным соседом заставлял его изыскивать всякие причины для оттяжки выступления. Манию Аквилию пришлось напомнить принятое Никомедом обязательство и сказать ему, что знает еще одного сына его отца, который мечтает занять трон. Никомед смирился со своей участью. Труднее было справиться с Титием, который не мог простить Манию Аквилию понесенных убытков. Он отказал консуляру в кредите, ссылаясь на невыполнение прежних обязательств. Манию Аквилию пришлось связаться с делосскими ростовщиками, потребовавшими в качестве залога за займ вифинские корабли.
Видя, что Маний Аквилий обходится без его услуг, Титий прибег к помощи своих друзей в Риме. Но золотые времена Тития миновали. Горький опыт Рутилия Руфа и других сенаторов, осужденных всадническими судами, заставил отцов города отвергнуть все нападки на Мания Аквилия. Народный трибун Ливии Друз Младший выдвинул на комициях предложение отнять у друзей Тития — римских всадников — судебную власть. В ответ всадники привлекли к суду нобилей, обвиняя их в вымогательстве и грабеже.
Рим шел к гражданской войне. Это чувствовалось не только в его провинциях, но и на далеких берегах Понта Эвксинского.
ЧЕРЕШНИ
Единственным украшением стола, разделявшего Митридата и Архелая, было блюдо с черешнями. Архелай, казалось, не замечал его. Его речь была плавной, доводы вескими. Римские новости были ему известны во всех подробностях, словно он сам присутствовал на заседании сената.
Архелай внезапно запустил ладонь в блюдо, и на пальцах гирляндами повисли янтарные ягоды. Подняв руку над головой, он патетически произнес:
— Отцы сенаторы! Эти невиданные плоды растут лишь в трех днях пути от нашей провинции. Посмотрите на них! Они появляются раньше вишен и превосходят их красотой и сладостью. Допустите ли вы, чтобы враги наслаждались этими дарами Помоны, в то время как дети Марса и не мечтают о фруктах?! Как бы то ни было, я полагаю, что Синопа должна быть разрушена.
Митридат расхохотался. Напряжение, вызванное рассказом, было снято шуткой. Маний Аквилий перед отъездом из Рима, разумеется, не произносил подобной речи, и, наверное, ему вовсе неизвестно о существовании черешен, выращенных в понтийском городе Керасунте. Но нет сомнений, что он вообразил себя новым Катоном. Он так же мечтает об уничтожении Синопы, как старый цензор бредил разрушением Карфагена. Конечно, консуляр не придумает ничего нового. Ему нужен новый Масинисса — человек, на которого должен обрушиться первый удар. И он уже нашел его. Это Никомед!
— Ты прав! — воскликнул Митридат. — Перед глазами Мания Аквилия стоит Карфаген. И этим необходимо воспользоваться.
— У тебя есть план?
— Да! Отправляйся в Рим. Римские сенаторы привыкли к роли арбитров. Пусть они рассудят меня с Манием Аквилием.
Архелай уронил ягоды в блюдо. Мог ли он думать, что шутка выльется в серьезное поручение?!
— А как Комана? — вырвалось у него. — На кого я брошу Кибелу?
— Пусть она останется за тобою. В споре с Марсом, — сказал Митридат, — не обойтись без ее покровительства… и ее сокровищницы! Кто это сказал: «Рим падет, как только отыщется подходящий покупатель»?
— Нумидийский царь Югурта, если верить молве.
— Последуй его совету! Явись во всеоружии. Встреться с Марием. Я слышал, что у него затруднения. Римский народ ненасытен. А если откажет Марий, обратись к Сулле. Он рвется к власти и нуждается в золоте. — Митридат встал. — Желаю тебе удачи! И пожелай того же мне в деле с Тиграном.
СВАДЬБА
Митридат пододвинул к себе фиал, до краев наполненный вином.
— Твоя страна, — начал он мечтательно, — впервые открылась мне с круч Париадра. Склоны в косых солнечных лучах казались розовыми. И с тех пор, стоит лишь услышать слово «Армения», как в глазах встает этот цвет.
— А мне на чужбине родина виделась ослепительно голубой, как вода ее озер, — отозвался Тигран. — Парфяне поместили меня в каменистой степи ниже Гирканского моря. Три года я ел там лепешки из толченых яблок, пил вино, выжатое из каких-то корней. Мое возвращение обошлось Армении в семьдесят долин!
— Но ведь ты уже возвратил их, как я слышал?
— Да! — подтвердил Тигран. — Но горы стали тесны моему народу, как младенцу колыбель. Мы владеем истоками всех великих рек. Так почему же их устьем должны обладать другие? Без выхода к морю нет державы. Это понял твой дед Фарнак, пробивший мечом путь к Понту. Пойду за ним и я…
— Географы, — сказал Митридат после долгого раздумья, — считают, что ойкумена имеет форму хламиды, а физики добавляют, что эта хламида поизносилась за многие тысячи лет. Нас, политиков, это ничуть не беспокоит. Мы, как портные, сшиваем старые куски, и нам кажется, что получается нечто новое. Но что осталось от былой империи Кира и Александра? Сгнили нити, связывавшие сатрапии, империя распалась на отдельные куски.
— Ты хочешь сказать, что великая Армения мне не по плечу?
— Нет! Я просто спрашиваю, где те нити, которыми ты сошьешь Македонию, Атропатену, Армению, Албанию?
— А какие нити у тебя? — поинтересовался Тигран.
— Моя нить — свобода эллинов. Она может объединить тысячи людей, живущих в разных городах. Я это понял, путешествуя по Азии. Вернувшись в Синопу, я позаботился и об игле.
— Об игле? — удивился Тигран.
— Я говорю о флоте, — продолжал Митридат. — Но одного флота мало. Для борьбы с римскими легионами мне нужна тяжеловооруженная конница.
Он откинулся на сиденье и внимательно, словно впервые, взглянул на Тиграна. «Сможет ли этот тридцатилетний полнеющий человек быть полезен моему делу? Годы парфянского плена не сломили его. Он многому научился в неволе. Но мечта о Великой Армении? Не выроет ли она пропасть между нами?»
— Я дам тебе свою конницу, — сказал Тигран решительно. — Но мне хотелось бы знать, как ты отнесешься к моему предложению…
Митридат сделал вид, что не понимает, куда клонит его собеседник.
— Разумеется, если в моих силах…
— У тебя есть дочь на выданье, — молвил Тигран вкрадчиво. — Я хотел бы породниться с тобою.
Митридат задумался.
— Я согласен, — сказал он, поднимая свой фиал.
Дворец Кабиры готовился к праздничному торжеству. Его новые неистертые мозаичные полы опрыскивались пахучими аравийскими маслами.
Статуи богов в нишах украшались гирляндами зелени и цветов. К столбам ограды и мраморным колоннам портиков прикреплялись факелы и светильники. В то мгновение, когда перед гостями покажутся царственные жених и невеста, забьют невидимые фонтаны и из портиков польются звуки флейт и кифар.
В подвалах под присмотром Лаодики рабыни разбирали содержимое сундуков, чтобы выбрать приданое для Клеопатры. Это были сокровища, принадлежавшие предкам Митридатов и доставшиеся ему по наследству. По этим тканям, коврам, украшениям, дорогой посуде, драгоценным камням знаток мог бы восстановить историю горного и лесного царства, превратившегося в необъятную морскую державу. Из сундука с табличкой «Митридат Ктист» вынимались ковровые дорожки с вышитыми на них петухами, видимо, приношения пафлагонских князьков, грубые шейные обручи работы халибских кузнецов. Сундуки Фарнака были переполнены доверху нарядами из златотканой пергамской парчи и узорными милетскими коврами. Все это было доставлено в Синопу родосскими или делосскими купцами в обмен на строевой лес и рабов. Из сундуков Митридата Эвергета рабыни вынимали шкуры диковинных зверей, статуэтки из слоновой кости и черного дерева, куски янтаря и сосуды из драгоценного финикийского стекла. Все это когда-то принадлежало карфагенским богачам и было платой римлян своему союзнику за присылку эскадры под стены Карфагена. В сундуках без табличек были вещи, принадлежавшие отцу невесты. Мириадами огней переливались груды драгоценных камней, привезенных с Рифейских гор, за степями сарматов. Горделиво высились сосуды из горного албанского хрусталя. В цистах из чеканного иберийского серебра блестели золотые монеты.
А в это время в женской половине дворца свахи окружили виновницу торжества. Миловидное личико Клеопатры казалось утомленным и растерянным. Еще вчера она играла с подружками в черепаху. Девочки бегали вокруг нее, спрашивая: «Чере-чере-чере-паха! Что ты делаешь там, посредине?»И она не успела пропеть: «Мотаю шерсть и сучу нить», как появился отец. Игра была прервана на саком интересном месте.
Вспомнив об этом, Клеопатра заплакала навзрыд. Слезы текли по ее щекам, прокладывая извилистые дорожки в румянах, исчезали за воротом.
— О боги! — голосили свахи. — Ты испортишь свой наряд, что скажет жених, когда увидит тебя в слезах.
Рабыни едва успели зашнуровать тонкие и узкие башмаки на ногах невесты, как дворец и все пространство перед ним заполнилось звуками флейт. Это был гимн, всегда звучавший на свадьбах, но сейчас он исполнялся сотней музыкантов.
Свахи накрыли лицо невесты фатой, пажи подхватили края ее обшитой золотом столы, и вот она уже плывет сквозь толпу навстречу неведомому.
Звуки флейт сливаются с радостными возгласами гостей и с треском разбиваемых орехов.
— На счастье! На счастье!
Трещит под ногами скорлупа. Несколько орехов ударяют невесту по ногам, но она не чувствует боли.
— На счастье! На счастье!
В многоголосый хор врывается какой-то рев. Он доносится со стороны зверинца.
— Даже дикие звери в своих клетках приветствуют новобрачных, — пошутил кто-то в толпе.
И только когда на дорожке в нескольких шагах от невесты выросла огромная взлохмаченная фигура, стало ясно, что произошло нечто непредвиденное.
Гости и провожатые бросились врассыпную, оставив напуганную, почти бездыханную Клеопатру.
Медведь был рядом. Он протягивал к девушке своп огромные лапы, словно хотел ее обнять.
И в это время появился Митридат. Став перед зверем, он хладнокровно направил ему в пасть кинжал. Медведь отшатнулся, но успел пройтись когтями по руке Митридата. Хлынула кровь. Перехватив кинжал другой рукой, царь наносил удар за ударом.
Когда сбежалась стража, медведь уже лежал бездыханный, а царь стоял рядом, перевязывая себе рану подвенечной фатой.
Сделав знак, чтобы оттащили тушу, он гаркнул во все горло:
— Все сюда! Торжество продолжается! Эй, флейтисты!
Свахи подбежали к невесте. Снова запели флейты. Но теперь голоса гостей звучали жидко и неуверенно:
— На счастье! На счастье!..
НА ФОРУМЕ
Был час, когда форум заполнялся людьми. Нобили со своими клиентами, торговцы, ремесленники по узким и кривым улочкам текли к этому сердцу Рима. Они стояли перед базиликами и перед храмом Кастора и Поллукса, где заседали сенаторы, окружали ростры, теснились между статуями консулов и триумфаторов. В толпе было много иностранцев, приехавших со своими товарами или с жалобами на наместников или привлеченных слухами о вольготной жизни в столице мира. В этой массе людей посол Понта не привлекал внимания. Его здесь никто не знал. Никому не приходило в голову, что этот эллин с полноватым лицом и внимательными серыми глазами выполняет ответственное поручение своего царя, давно уже доставлявшего римлянам беспокойство. Здесь на форуме он был не послом, а просто чужеземцем, беспокойным и жадным до зрелищ. Никого не удивляло, что он с толпою зевак следовал за процессией, появившейся на Священной улице.
Шестеро невольников несли носилки с каким-то предметом, завернутым в холст. За носилками торжественно следовал человек лет шестидесяти, окруженный пышной свитой. Пурпурная мантия и корона из перьев, украшавшая голову, выдавали в старце африканского царька, одного из тех союзников римского народа, с помощью которых Рим держал в руках воинственных и непокорных берберов.
Из замечаний, которыми обменивались завсегдатаи, Архелай понял, что перед ним Бокх. Имя его было памятно Архелаю. Это он выдал римлянам своего зятя Югурту. Очевидно, Бокх решил напомнить римлянам о себе, и предмет под холстом не что иное, как дар, предназначенный Юпитеру Капитолийскому и выражение его благодарности римскому народу.
Появление мавританского царя с даром Юпитеру заинтересовало не одного Архелая. В толпе, окружившей носилки, царя и его свиту, было немало людей в потрепанных тогах. Они что-то кричали, указывая на носилки. Толпа понесла его к возвышавшемуся над форумом Капитолию.
У площадки перед лестницей храма рабы опустили носилки, и сам царь сдернул холст. Блеск золота ослепил зрителей, и несколько мгновений тишина нарушалась лишь учащенным дыханием. В фигуре человека, скованного цепью, все узнали Югурту. Но кто этот второй в римском вооружении, протягивающий руку к пленнику?
— Золотой Сулла! — крикнул кто-то.
И тотчас же по толпе прокатился глухой ропот, перешедший в негодующие возгласы.
— В пропасть Суллу! Долой нобилей!
Десятки рук потянулись к статуям, брошенным испуганными носильщиками, и если бы не великий понтифик, вышедший из храма в окружении безмолвных весталок, изображениям Суллы и Югурты была бы уготована участь беглых рабов: их сбрасывали с этой скалы.
Ненависть плебеев к нобилям была так велика, что напоминание о событии, происшедшем пятнадцать лет назад, могло всколыхнуть Рим. Плебеи считают победителем Югурты Мария, командовавшего легионами, а нобили — Суллу, которому с помощью Бокха удалось захватить безоружного нумидийского царя.
РИМСКИЕ ВСТРЕЧИ
Марий с трудом повернулся. Боль свела поясницу и отозвалась в затылке. Это был враг поковарнее Югурты. Он не делал выбора между последним рабом и триумфатором. Старость осаждала Мария подобно невидимому полчищу и превращала все его победы в ничто. У нее тысяча стрел, и самая страшная из них — забвение, ранящее в самое сердце.
В последние годы Марий стал ощущать вокруг себя пустоту. Давно уже осыпались его лавровые венки. Околели кони, которые влекли его триумфальную колесницу. Проходя по форуму, он уже не слышал почтительного шепота. Квириты привыкли к тому, что среди них находится человек, бывший шесть раз консулом, а иностранные послы, которые когда-то осаждали его дом, исчезли. Словно их больше не тревожили варвары, не волновали интриги соседей. Они искали совета и помощи у других. Марий приказал построить новый дом у самого форума, надеясь этим привлечь посетителей; он приказал знаменитым художникам расписать стены. Но посетителей почти не прибавилось. Посол, о котором доложил Марию раб, был первым после календ.
В ожидании Мария Архелай разглядывал картину, украшавшую стены зала. Стараясь угодить вкусу хозяина дома или, может быть, выполняя его заказ, художник изобразил равнину, окаймленную снежными горами. В центре ее был лагерь. Тщательно вырисована каждая палатка с заплатами на холсте и подтеками от дождя, видны разрывы между пластами дерна, образующими трибунал. Лагерь пуст, но о том, что он оставлен победителями, говорит груда трофеев у претория. Тут шлемы в виде огромных звериных морд с разинутой пастью, белые щиты с изображением черепов и скрещенных костей, огромные плоские мечи. Нетрудно было догадаться, что нарисован лагерь Мария при Верцеллах, где он уничтожил целый варварский народ, искавший в Италии места для поселения.
Услышав шаркающие шаги, Архелай обернулся. Перед ним стоял сам победитель, которого, как он знал, называли третьим основателем Рима. У него было ординарное лицо воина, состарившегося при знаменах, и только глаза выдавали природную сметку и ум.
Предупрежденный, что Марий не знает греческого языка и считает смешным обучаться наукам у тех, кто попал в рабство к римлянам, Архелай приветствовал хозяина дома по-латыни. Это был язык, который он знал хуже и, может быть, поэтому в его словах ощущалась скованность.
— Мой господин, посылая меня в Рим, наказал встретиться с тобою, — начал он. — Маний Аквилий, которого сенат послал мирить царей, делает все для того, чтобы их рассорить. Он обвиняет Митридата в нарушении союзного договора, а сам подводит легионы к границам. Он требует, чтобы Митридат перестал строить корабли, необходимые ему для борьбы с боспорскими пиратами.
— А какие у твоего господина силы? — перебил Марий.
Вопрос этот поставил Архелая в тупик. Кажется, великий римлянин не понимает основ дипломатии.
— Что же ты молчишь?
— Я думаю, что больше, чем у Никомеда, но меньше, чем у римлян, — не сразу нашелся Архелай.
— Тогда пусть он накопит больше сил, чем у римлян, или молчит и делает то, что ему приказывают.
Марий повернулся и, слегка прихрамывая, двинулся к Двери. Он не счел нужным даже проститься с послом.
Надежда подкупить Мария оказалась тщетной. Таким людям нужна только слава. Марий хочет войны, чтобы возглавить войско и добиться нового консулата и триумфа. В Митридате он, кажется, видит другого Югурту и мечтает провести его по Риму в цепях.
В тот же день произошла еще одна встреча, которую Архелай не предвидел. Какой-то торговец на форуме ему дал пенал для свитков. Во вложенной в него записке были указаны время, место встречи и приметы проводника.
И вот Архелая ведут по улочке, стиснутой неопрятными домами. Вонь гнилых кож смешивается с запахом чеснока и жареного лука. Это район Субуры, куда без настоятельной необходимости не решался заглянуть ни один римский сенатор.
Вслед за провожатым Архелай переступил порог помещения, освещенного квадратным отверстием в потолке. Рядом с небольшим бассейном была каменная скамья. Архелай не успел присесть, как из двери, находившейся против входа, к нему кинулся человек. Из потока слов Архелай понял, что перед ним не кто иной, как спутник Митридата по его странствиям, философ Аристион.
— Что привело тебя в пещеру циклопа? — спросил Архелай, искоса поглядывая на незнакомца.
— Человеколюбие! Я узнал, что эта страна, так же как мои родные Афины, превращена в темницу, а город, носящий имя Рим, — это камень, закрывающий выход узникам. Тебе не надо говорить, что я имею в виду тех, кого римляне именуют союзниками. Равным образом наездник мог бы назвать союзником коня, на которого он сел сам и положил свою ношу. Отношения между наездником и конем — это тоже союз. Но какой?
Сделав паузу, философ продолжал с тем же пылом:
— Мои друзья хотели добиться справедливости в сенате и пригласили меня составить им речь. Мой Аполлон! Я нашел для них такие слова, которые могли бы расплавить камни. Но циклоп слышит лишь то, что ему выгодно. Поняв это, союзники поклялись уничтожить Рим. Я поведал им о твоем повелителе, о его щедрости и великодушии. И они надеются получить от него помощь.
— Митридат об этом позаботился! — с ликованием в голосе воскликнул Архелай. — Он послал тебе и твоим друзьям золото и ничего не просит взамен,
Аристион широко раскрыл глаза,
— Ему уже известно о нас?
— Да! Он знает все, что делается в мире. У него тысячи глаз. Тысячи рук готовы ему помочь. Понт Эвксинский тесен ему, как дельфину лохань. Его корабли уже стоят у проливов. Армянский царь пришлет ему свою тяжелую конницу, скифы — стрелков. Осталось недолго ждать.
ГРУШИ
— Что ни говори, но дым отечества светлее огня на чужбине! — сказал Архелай, пододвигая блюдо.
Вместо черешен в нем высились груши, сочные плоды осени. Этот сорт называется «Амасийский». Он выращен садоводами города, где Архелай не был много лет. Когда же Митридат даст ему отдых? Он так устал от чужой речи, от чужих лиц.
— Я понял это сегодня, по пути в Кабиру, — продолжал Архелай. — Над садами поднимались струйки дыма, и мне так захотелось остаться здесь, чтобы дышать этим воздухом, этим ароматом увядающих листьев.
— Я понимаю тебя, — сказал Митридат. — Но плоды созрели.
Он вонзил зубы в грушу. Брызнул сок.
— Твой рассказ убедил меня. Десять легионов и войско Никомеда — вот и все, на что может рассчитывать Маний Аквилий. Конечно, давая золото, я думал о подкупе сенаторов. Но если ты считаешь, что друзьям Аристиона можно доверять…
— Я в этом не сомневаюсь. Римляне превратили Италию в крепость. Тверды ее стены, непроницаемы запоры, но нет преград для золотого дождя. Вот увидишь, твое золото принесет проценты, о каких ты и не мечтал!
— Проценты! Кстати, Маний Аквилий тоже собрал проценты. Сегодня войско Никомеда перешло границы моего государства.
— И ты говоришь об этом так, словно из Вифинии перебежали козы!
— Вот именно козы, — улыбнулся Митридат. — Маний Аквилий рассчитывает, что я спущу на Никомеда свору псов. Но пусть козочки пощиплют травку, погрызут кору, Я человек мирный. Прежде, чем гнать чужих коз, нужно пожаловаться на потраву. Я прошу тебя встретиться с Манием Аквилием.
— Зачем?
— И все-таки я полагаю, что Синопа должна быть разрушена, — сказал царь после паузы. — Ведь это придумал ты сам! Маний Аквилий ждет сейчас известий от Никомеда. Он рвется в бой. Надо сбить его с толку, задержать, пока из Армении не подойдут всадники Тиграна.
У СТЕН ТРОИ
Маний Аквилий разбил лагерь у подножия Нового Илиона. Выбор консуляра был обусловлен соображениями отнюдь не военного свойства. Во всей Вифинии не могло бы найтись лучшего места для описания его деяний. Будущим историкам легче всего будет начать труд о победе над Митридатом с описания пожара Трои и бегства троянского героя Энея с родителем Анхизом на плечах. Отсюда они смогут перейти к возвращению на свою прародину потомка Энея, каким считал себя Маний Аквилий, или к рассказу о посещении этих мест Александром Македонским.
Хотя Маний Аквилий и не писал ничего, кроме донесений сенату, он позволил себе занести в церы несколько фраз, какие лучше всего отражали величие момента: «Маний Аквилий стоял, озирая орлиным взором долину Скамандра. И тогда он увидел скачущих на конях гонцов своего союзника, потомка древних фригийских царей, Никомеда. Они сообщили ему о нападении на его войско злокозненного Митридата. И приказал отважный и решительный полководец трубачам трубить сбор. И легионы двинулись навстречу восходящему Гелиосу».
Гонцы действительно приближались. Но вопреки ожиданиям Мания Аквилия, их отправил не Никомед, а Митридат. И в голове консуляра возникла другая фраза, которую он не успел записать: «Посол Митридата протянул свиток и нагло воскликнул:» Мой господин объявляет тебе войну!»И приказал отважный и решительный полководец трубачам трубить сбор…»
Но и эта фраза не подходила к моменту, явно доказывая, что Маний Аквилий не родился историком и не был пророком.
Архелай не был похож на человека, готового бросить вызов. Скорее, это был проситель, ожидающий милости.
— Что ты принес? — раздраженно спросил Маний Аквилий.
Хитрый грек не реагировал на эту грубость. Он вежливо улыбался, словно его встретили приветствием, а не окриком. И, кажется, его вполне устраивало, что Маний Аквилий расположился в долине Скамандра, а не где-нибудь в другом месте.
Наклонившись, он поднял комок земли. Перетирая его между пальцами, он сказал, словно продолжая прерванный разговор:
— Да! Это земля священной Трои, разрушенной воинами Агамемнона и Ахилла, Троя, которая породила твоего доблестного предка, о Маний Аквилий! И в том, что ты принимаешь меня здесь, я вижу добрый знак. Кому не известно, что справедливость и благочестие были присущи твоему предку? Ты унаследовал их, и поэтому я взываю к твоей помощи.
Лицо римлянина побагровело.
— Я вижу, тебя удивляет, что мой господин просит у тебя помощи, — продолжал Архелай патетически. — Ведь ты еще не знаешь, что безо всякого повода Никомед перешел границы Понта и двигается, разрушая селения, расхищая имущество земледельцев и пастухов. Не желая кровопролития, мой господин приказал своим войскам отступить. Но Никомеда это не остановило. Пользуясь безнаказанностью, он подходит к Синопе. И только твоя помощь может его остановить!
О какой помощи ты говоришь? Ведь Митридат нарушил условия нашего союза. Он перешел границу Европы и подчинил большую часть Таврики. У него триста боевых палубных кораблей, и он строит еще новые. Он разослал за кормчими своих людей в Финикию и Египет. Можешь ли ты это отрицать?
— Но мой господин никому не угрожает. В Таврику его пригласили эллины. Боспорское царство ему передал Перисад, так же как Аттал завещал свое царство Риму. А что до финикийских и египетских кормчих, то они водят и римские корабли.
Маний Аквилий почувствовал себя, как в тот день, когда Афинион выбил из его руки меч. С наступлением придется повременить. Лагерь надо будет перенести.
— Хорошо, — произнес римлянин после долгой паузы. — Ты получишь письменный ответ. Его тебе вручат у границы.
Видимо, ответ стоил Манию Аквилию немалых усилий: «Мы бы не хотели, чтобы Митридат потерпел какой-либо ущерб от Никомеда, но мы не потерпим, чтобы против Никомеда началась война».
БИТВА ПРИ АМНЕЙОНЕ
Долина Амнейона напоминала разворошенный муравейник. Во всех направлениях сновали человеческие фигурки; особенно густо — у реки, где были шатры, и у подножия холмов, откуда доставлялись камни и лес. Никомед, усыпленный уступчивостью Митридата, кажется, не ожидает нападения. Он готовится к прибытию своих союзников и покровителей, строит для них лагерь.
Все это было ясно каждому, кто наблюдал за врагами с вершины холма. Но теперь Неоптолему предстояло принять решение: дать битву или выждать, пока подойдут главные силы.
Обманутый малочисленностью врага, Никомед развернул фалангу плотным строем. В первом ряду, выставив щиты и копья, стояли гоплиты в медных панцирях. За первым рядом — второй, за вторым — третий. Так двадцать четыре ряда в глубину. Справа и слева гарцевали на своих конях всадники числом до пяти тысяч. Неоптолем выставил легковооруженных на гребне холма, а за ними в лощине спрятал колесницы. Они оставались невидимыми для вифинцев.
Сигнал к бою дали трубы. Они пробудили застывший квадрат вифинской фаланги, и он, сохраняя свою форму, стал перемещаться к гребню возвышенности, где в ожидании схватки колебалась длинная линия понтийского строя. Удар Никомеда пришелся по ее центру, и она стала выгибаться, втягивая в себя вифинскую фалангу. Никомеда не пугал этот охват. Что могут сделать легковооруженные гоплитам? Фланги надежно защищает конница.
И в это время перед наступающей фалангой взметнулся столб пыли. Навстречу вифинской пехоте рванулись спрятанные в лощине боевые колесницы. Их появление было настолько неожиданным, что воины не успели расступиться. Кони врезались в фалангу. Вращающиеся на оси косы захватывали в свою орбиту то одного, то другого воина и выбрасывали окровавленные обрубки. Это зрелище потрясало. Бросая бесполезные щиты, вифинцы обратились в бегство. Но стрелы и дротики настигали их, не давая уйти. Беглецы катались по земле, пытаясь вытянуть зазубренные острия. Долина Амнейона заполнилась воплями и стонами.
Всадники во главе с Никомедом почти без потерь отступили к лагерю. У рва, преграждавшего дорогу колесницам, бой разгорелся с новой силой. Вифинцы с мужеством на грани отчаяния отражали воинов Неоптолема. Сверкали обнаженные мечи, опускаясь на головы и плечи наступавших. Конец схватке положил крик: «Нас предали!» Кто-то обнаружил, что царь со своими телохранителями скрылся.
Никомед гнал коня. Его бессильная ярость вырывалась стонами. Память то оживляла сцены недавней битвы, то возвращала к истокам бедствия. Оно началось в таблине проконсула, с этих восковых табличек, которые заставил его подписать Маний Аквилий. Воск оказался роковым. Римлянин толкнул на войну, сам же остался в стороне. Он, как шакал, спрятался в кустах, ожидая конца сражения. Ему еще неизвестно, что Митридат, не ввел в бой своих главных сил. Пусть он встретится с ними сам!
ПОСЛЕ ПИРА
На поле горели костры. Как вехи, они выделяли место недавнего сражения. Огненные языки пожирали обломки колесниц, щиты, древки копий. Дым щекотал ноздри. Тени прыгали по угрюмым, насупленным лицам пленных, ожидавших своей участи. Кто из них не слышал о жестокости Митридата! Никомед в своих посланиях величал его не иначе как людоедом! Ходили слухи, что он убил свою мать. Было известно, что он наводнил свою страну свирепыми северными варварами, готовясь спустить их как свору псов.
Что может ожидать тех, кто с оружием в руках вступил в его владения? Пытки и казнь? Мрак и сырость подземных штолен? Тяжелые весла понтийских триер?
Из лагеря, занятого понтийцами, доносились смех, шумные возгласы, звон кубков. Кто перед битвой не мечтает о такой встрече в кругу друзей? Кому не приятно оживить в памяти эпизоды недавней схватки? Но одним достается победа, другим — поражение. Одним — кубки с вином, другим — могилы или оковы.
О чем сейчас идет речь за столами? Славят ли там богов, даровавших победу, или злословят по поводу побежденных? Пленные, бывшие ближе к лагерю, прислушивались. Они вскоре научились выделять голос Митридата из десятка других. Это был звучный голос глашатая. Царь шутил. Он уверял, что может опоздать на сражение, но не на пир, и предлагал отметить победу состязанием едоков.
— Тебя никто не переест! — ответил ему кто-то.
После взрыва хохота царь вспомнил, что еще не знает, каковы трофеи.
Дальше нельзя было разобрать ни слова. Потом вдруг послышалось:
— Так где же они?
Прошло еще несколько мгновений, и пространство у лагеря покрылось огненными пятнами. Факелы приближались. Впереди шагал Митридат, похожий на великана. В правой его руке был факел, в левой — кубок. На некотором отдалении следовали его сподвижники.
Царь остановился. Факел ходил в его руке.
— Эй вы! — крикнул он во всю мощь своих легких. — Почему вы топчете мою землю? Расходитесь по домам!
Пленные замерли, ожидая подвоха.
— Отчего они медлят? — Митридат обернулся к подошедшему Неоптолему.
— У них нет денег на дорогу, — пошутил тот, вспомнив, что Никомед давно уже не платил своим воинам жалованья.
— Что же ты молчал? Путь до дома далек. Прикажи выдать каждому по статеру с моим изображением!
Неоптолем отступил на шаг. Это было просто безумие! Расплачиваться за Никомеда! Но херсонесит не успел вымолвить слово, как один из пленных бросился в ноги к Митридату.
— А тебе что надо? — спросил царь, освещая его факелом. — Может быть, тебе мало статера?
— Отец мой был рыбаком, — говорил пленник захлебываясь. — Он передал мне сеть и лодку. Я умею владеть острогою, но никогда не держал в руках меча. Стражники Никомеда пришли в мою хижину и увели меня. Вчерашняя битва была для меня первой. А этой ночью я уже простился с жизнью, с женой и детьми. И вот ты отпускаешь меня! И даешь мне деньги. Чем я могу тебе отплатить? Когда ты будешь в моих краях, зайди в мою хижину, я угощу тебя копчеными угрями!
— Копченые угри! — закричал Митридат. — Да ведь это пища богов! Старик Гомер напутал, что боги наслаждаются амброзией. Я уверен, что Посейдон, дав своим скакунам отдых, насаживает угрей на трезубец, а Гефест коптит их над пламенем горна. Стоит мне только вспомнить об этом лакомстве, и я готов бежать хоть к Геракловым Столбам. Но где же мне найти тебя, добрый человек?
— Моя деревня под Кизиком. Спросишь Евкрата.
— Что ж, Евкрат, жди меня в гости! Я постараюсь не задержаться.
Неоптолем с удивлением смотрел на Митридата. Теперь он был уверен, что это не каприз пьяного, а расчет трезвого.
В ДОЛИНЕ САНГАРИЯ
Митридат шагал впереди своего войска как простой проводник. Его не останавливали ни крутые горные склоны, ни изнуряющая жара. Телохранители еле поспевали за ним, не переставая удивляться его силе и выносливости.
А дорога становилась все круче и круче, пока наконец не вывела на перевал. С него открылся вид на долину, окаймленную остроконечными холмами. Это была Вифиния — царство Никомеда.
Давно ли Митридат вместе с Аристионом обходил его города? Давно ли он вместе с Хрестом разбивал тараном дворцовые ворота? После победы пришлось отступить. Но теперь враги получат сполна за свое вероломство.
Потеряв при Амнейоне половину своего войска, Никомед двигался на соединение с Манием Аквилием. Так, во всяком случае поначалу, считал Митридат. Но разведчики из сарматской сотни донесли ему, что за переправой через реку Никомед резко повернул на юг, направившись вверх по течению к землям галатов. Там стояли легионы наместника Киликии Кассия. Маний Аквилий со своим сорокатысячным войском оставался один, отрезанный высокими труднопроходимыми горами.
С вершины холма была видна равнина, простиравшаяся к югу до моря, а на севере ограниченная линией гор. Она напоминала развернутый, словно изъеденный червями свиток. Это были причудливые узоры Сангария и впадающих в него ручейков.
Но Маний Аквилий не замечал красоты Сангарийской равнины. Его воспаленные от бессонницы глаза выхватывали то один, то другой участок дороги, откуда мог показаться Никомед. В ожидании прошли три дня и три ночи, а этого проклятого азиата не было, словно его поглотила земля. На четвертый день войско показалось. Но это был не Никомед. Это был Митридат.
Царь объезжал строй. Конь плясал под ним, словно ему передавалось нетерпение всадника. Первыми стояли персы. Китары на их головах колебались как петушиные гребни.
— Даст вам победу Ормузд! — крикнул Митридат на языке отца.
И над строем взметнулись копья и луки. Персы приветствовали своего царя, потомка Кира.
Эллины Синопы и Амиса были в белых хламидах, оттенявших загорелые руки и ноги. Блестели коринфские шлемы.
— Да победит Арес! — крикнул Митридат на языке матери.
Мелькнули продолговатые шлемы и застыли над головами подобно черепичной кровле. Эллины приветствовали потомка великого Александра.
Армяне были в панцирях из железных пластинок наподобие рыбьей чешуи.
— Да хранит вас Анаитида! — произнес царь, поднимая руки со сжатыми кулаками.
За армянами стояли халибы в льняных панцирях, доходивших почти до колен, в карбатинах, покрывавших лодыжки. На сверкающих медных шлемах виднелись искусно припаянные медные уши и рога.
— Пусть бог Бык растопчет римскую волчицу!
Над шлемами вскинулись рогатины и круглые щиты из косматой бычьей шкуры.
Митридат запрокинул руку назад и сделал резкий взмах. Это движение придавало ему сходство с вдохновенным хорегом. Десятки тысяч людей были огромным многоголосым хором. Луки в их руках — лирами, щиты — кимвалами. Крики, свист стрел, звон мечей, удары — все это было грозной симфонией боя, сопровождаемой неистовой пляской.
Пестроте понтийского войска противостояла строгость римского строя. В нем было продумано все, от высоты древка серебряного легионного орла до числа гвоздей в солдатском башмаке. Ничего лишнего, нецелесообразного, бьющего на эффект. Этим римляне всегда побеждали. Они не боялись сражаться против «восточного базара», даже если он намного превосходил своей численностью их силы. Они врубались в него, и азиаты бежали, путаясь в своих длинных одеждах.
Но пестрота понтийской армии, как вскоре убедился Маний Аквилий, была обманчивой. Враги, разделенные на отряды, двигались с завидной четкостью. Под яркой одеждой были сильные и ловкие руки, обученные метать дротики и копья.
И снова с вершины холма была видна долина Сангария. Но как она не похожа на ту, которой была час назад! Все покрыто копошащимися человеческими фигурками, конями, колесницами. Воздух не вмещал крика и шума, поднятого многоплеменным войском.
Римляне, не выдержав натиска понтийцев, бежали, бросая оружие. От полного разгрома их спас мрак. Оставшиеся в живых, и среди них Маний Аквилий, ушли в Пергам.
СТАТЕР И ДИНАРИЙ
Евкрат безмолвствовал не потому, что ему нечего было сказать. Все внутри у него кричало от негодования. Молчать заставлял статер, засунутый под язык. Это было самое надежное место в его положении.
С тех пор как Митридат освободил воинов Никомеда и расплатился за его долги, рыбак не расставался со статером. Для него это был не просто золотой кружок. Это была святыня, подобная тем статуям, которым поклонялись в храмах. Рыбак легче бы отдал отрубить руку, чем лишился статера. Поэтому, когда хижину Евкрата окружили римские легионеры, он сразу положил статер под язык. Он не стал доказывать воинам, что жена больна и дети малы, что в море у берега поставлена сеть, которую некому снять. Его покорность понравилась римлянам, и они ставили «немого»в пример другим крикливым азиатам.
Но в лагере под Кизиком, куда согнали три тысячи вифинцев, «немой» заговорил. При этом он обнаружил красноречие, удивительное для человека его профессии.
Разжимая кулак со статером, Евкрат шептал:
— Смотри, друг! Это изображение моего спасителя, Митридата. Слышал ли ты, чтобы какой-нибудь царь отпускал пленных без выкупа, да еще давал деньги на дорогу?!
Когда Евкрату казалось, что человек колеблется, он добавлял:
— Царь идет с несметными силами. Он сомнет римские легионы, как орех, в своих железных пальцах.
Для упорствующих он находил иные слова:
— На кого ты лаешь, собака! На того, кто хочет освободить тебя и твоих братьев от римских ростовщиков, против друга эллинов (или фригийцев, галатов, пафлагонцев — в зависимости от того, кто был слушателем)?
Наутро, когда Маний Аквилий со своей свитой явился для обучения новобранцев, он обнаружил, что лагерь пуст. Какой-то пафлагонец, вылезший из-под полога шатра, уверял, что царский лазутчик, переодетый рыбаком, предлагал ему, как и всем другим, золото.
В донесении сенату Маний Аквилий писал: «Царь Митридат употребил несметные богатства на подкуп подданных Никомеда, и продажные азиаты последовали за ним. Если не будут присланы легионы, вся Азия окажется в руках злейшего врага римского народа».
К вечеру того же дня о происшедшем узнал Митридат. Бросив все свои дела, он отправился в гавань Гераклеи, где Архелай встречал какой-то корабль.
— У меня хорошие вести, — сказал царь другу. — Если бы ты знал, какие проценты принес мне один статер!
— И у меня недурные вести, — сказал Архелай, выслушав рассказ царя. — Из Рима прибыл человек. Он привез это.
Архелай торжествующе протянул руку. На ладони блестел новенький золотой.
— Римский динарий, — разочарованно протянул Митридат.
— Корфинийский, — поправил Архелай. — Есть такой городок — Корфиний. Он стал столицей Италии и местом чеканки этих удивительных монет.
Митридат наклонился. Только теперь он понял причину ликования Архелая. В центре золотого кружка был изображен бык, топчущий волчицу. Итак, восстали италики, его друзья и союзники! Это была победа, которой Архелай мог гордиться не меньше, чем он своей.
ТРИУМФ
Эвмел осторожно наклонился над спящим. Смертельная усталость не сгладила черт, давно вызывавших у него неприязнь, а страх перед расплатой наложил новые, еще более отвратительные. Да! Маний Аквилий Старший понимал людей. Он не ошибся и в своем сыне, отослав его от себя. Может быть, уже в первых его неудачах он увидел предвестие этого разгрома, с которым не может сравниться ни одно поражение Рима за последние сто лет.
Все эти годы Эвмел служил этому человеку, выполняя его приказания. Он повиновался неписаному закону: «Слугам не дано выбирать господ, также как сыновьям родителей». Он был верен ему по привычке, выработанной годами общения с его отцом. И Маний Аквилий Младший принимал это как должное. Он перестал замечать Эвмела, словно бы тот превратился в одну из тех восковых статуй, которые он приказал растопить. А Эвмел все больше и больше присматривался к Манию Аквилию Младшему я открывал в нем то, чего не замечал в его отце.
Зная, что Эвмел потерял слух, Маний Аквилий говорил все, что так тщательно скрывал его отец. И губы, движение которых Эвмел научился понимать, разбалтывали тайны, не известные ни одному из приближенных. Эвмел был в курсе всех интриг. Перед ним прошла эпопея с Титием, сделавшая Мания Аквилия богачом. Он видел, как в его паутину попался Никомед и неуклюже барахтался, пытаясь вырваться. Но сеть лопнула, когда ее попытались накинуть на Митридата. И паук на земле. Он лежит, разметав руки с длинными и черными от грязи ногтями. И шрам на груди впрямь похож на клеймо. И может быть, есть доля правды в рассказах о том, что Афинион, поднявший на борьбу невольников Сицилии, заклеймил жадного и жестокого консула той печатью, которой клеймят беглых рабов. Манию Аквилию и впрямь пришлось пережить все, что испытывают эти несчастные, гонимые люди. Его ищут во всех гаванях, по всем дорогам. И тех, кто это делает, прельщает не награда. Их ведет ненависть к этому человеку, принесшему неисчислимые бедствия всей Азии.
Маний Аквилий ехал верхом. Под римлянином был крепкий мул, вот уже пять лет вывозивший нечистоты из Пергама. Он шел, весело помахивая хвостом. Его не пугала толпа и ее вопли. Может быть, ему нравилось внимание, оказывавшееся его седоку. Или он успел оценить преимущества новой службы, где для него впервые не жалели овса.
Солнце жгло голову Мания Аквилия через толстый войлочный колпак, крепко привязанный волосяной тесьмой у подбородка. Тесьма врезалась в кожу, и Маний Аквилий дергал головой, желая ее поправить. Этот жест вызывал у зевак, следовавших за римлянином, хохот. Зеваки истолковывали жест по-своему:
— Смотри какой гордый!
И в пленника летели палки, комья грязи, камни. В Эфесе женщины, потерявшие сыновей, выстроились в два ряда от Милетских ворот до агоры. Тысячи плевков облепили лицо и одежду виновника войны. Какой-то шутник назвал это «эфесским дождем».
После Эфеса Маний Аквилий уже не дергал головой и не делал попыток отогнать мух, садившихся на его лицо и грудь, будто бы заклейменную царем рабов Афинионом. В Мании Аквилий уже нельзя было узнать даже человека. Поэтому начальник эскорта, сопровождавшего пленного из города в город, приказал рабу-германцу, обладавшему зычным голосом, провозглашать звания Мания Аквилия. И раб делал это добросовестно, со свойственной германцам методичностью:
— Маний Аквилий, сын Мания Аквилия, устроителя Азии, бывший эдилом, претором, консулом и удостоенный овации за победу над царем рабов Афинионом.
Не успевал он закончить, как толпа уже кричала:
— Триумф! Триумф!
«Триумф»— одно это слово слышал Маний Аквилий, уже не ощущавший ни жжения солнца, ни ударов. «Триумф! Триумф!..»
Скорее бы Пергам! Пусть лучше расплавленное золото. Но только бы не слышать этого слова, казавшегося таким желанным прежде.
ПРОЛИВЫ
Пастух, первым пригнавший свое стадо к этому месту, видимо, долго таращил глаза, не в силах понять, куда попал. Противоположный берег так близок, что можно думать — это широкая река, наподобие оставшегося сзади Истра или Борисфена. Но вода была соленой, и коровы ее не пили. Бык, соблазненный свежей зеленью на другом берегу, поплыл. Почесывая затылок, пастух невозмутимо сказал: «Боспор», что на его языке означало «бычья переправа». И это имя закрепилось за проливом, соединявшим Понт Эвксинский с Пропонтидой.
Первому моряку, чей челн или плот занесло сюда из Понта, пролив должен был показаться горлом. Именно это сравнение и пришло на ум Митридату, когда он с палубы «Эвергета» озирал свои новые владения. Да, это было горло Понта Эвксинского, образованное двумя континентами. Тому, кто владел этими берегами, ничего не стоило перетянуть пролив цепью, и ни один корабль не мог бы войти в Понт или выйти оттуда. Великий и могучий Понт Эвксинский злой волей превращался в большое озеро наподобие Каспия. Сколько царей протягивало сюда руки, сколько крови было пролито из-за этой полоски воды!
Первыми, насколько помнит история, ее захватили цари Трои, преградив путь в Понт аргонавтам. Нет! Не из-за прекрасной Елены сражались герои Гомера и олимпийские боги — из-за проливов. Потом много лет спустя сюда пришел предок отца Митридата, Дарий, перекинувший через пролив мост. Эллинские колонии по берегам Понта были отрезаны от метрополий. Война оказалась неизбежной. Предок матери Митридата, Александр, где-то здесь перешел в Азию. А потом римляне поставили здесь своего раба Никомеда, и он, исполняя их приказ, стянул горло Понта Эвксинского цепями.
Митридат уловил слева по борту шум голосов. Повернувшись, он увидел всадников. Они казались глиняными детскими игрушками. Да это ведь скифы. Скифы Палака! Почему они кричат? Радуются ли флагу со звездой и полумесяцем? Или негодуют, что пересекли Понт, а колчанов раскрыть не пришлось? Города один за другим открывали ворота. Скифов встречали не расплавленным свинцом, не кипятком, не ядрами, а цветами и фруктами. Их поили вином. Путь от Синопы до Византия показался им праздником.
— Какое знамение дали нам боги? — услышал Митридат знакомый голос.
— О чем ты, Архелай? — спросил царь херсонесита.
— На том месте, где ты видишь скифов, царь царей перекинул мост и повел свое войско в Европу.
— Но ведь Дарий потерпел поражение.
— Он шел против скифов, а ты со скифами! — воскликнул Архелай.
Византии остался позади. Волны Пропонтиды хлестала борта «Эвергета». Суда, следовавшие за ним, развертывались в треугольник. Эскадра приняла форму гигантской стрелы, нацеленной к Римскому морю.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЭВОЭ
Митридат вступал в Эфес как Дионис Освободитель. Впереди и по бокам царской колесницы бежали женщины, одетые вакханками. Мужчины и мальчики в обличье панов и сатиров замыкали шествие.
— Эвоэ! Эвоэ! — раздавались приветственные возгласы, и в них тонули звуки арф и свирелей, топот шагов и цокот копыт.
Мостовая Аркадианы, улицы, ведшей в гавань, была устлана знаменитыми эфесскими коврами. Пахло аравийским ладаном: купцы совершили им возлияние в честь царственного гостя. Ветер раздувал шелковые полотнища и пестрые фригийские ткани. Тот, кто не мог выставить напоказ своих богатств, отдавал царю мощь легких:
— Эвоэ, Дионис!
Митридат принес свободу, отнятую у эфесцев в год, когда он родился. И это совпадение приобретало почти мистический смысл. Вспоминали о комете, прочертившей тогда полнеба. То, что воспринималось как знак грядущих бедствий, расценивалось теперь как предсказание величия понтийского царя, которому сами боги предназначили господство над половиной вселенной.
— Эвоэ! Эвоэ!
Это был день великих надежд для одних, горьких разочарований для других. Торговцы и моряки надеялись, что Митридат расчистит гавань, заносившуюся песком, сохранит близость Эфеса к морю. Владельцы мастерских рассчитывали на царские заказы: ведь войско не обойдется без металлических доспехов, которыми всегда славился Эфес, без кожаной обуви, подбитой гвоздями, без льняных тканей. Жрецы Артемисиона мечтали о возвращении их храму отнятых римлянами земель и рыбных промыслов. Потомки знатных родов, возводившие свое происхождение к древним героям, предвкушали царские милости. Земледельцы, лишившиеся участков и потерявшие гражданские права, видели себя равноправными эфесцами. И только римские торговцы и ростовщики, не успевшие покинуть город, не надеялись ни на какие благоприятные перемены. Вчера, готовясь к встрече Митридата, толпа яростно уничтожала статуи, воздвигнутые эфесцами в честь римских проконсулов. А сегодня она, может быть, лишь потому не врывается в дома, что не знает о намерениях царя и боится вызвать его гнев.
Митридат стоит на колеснице, огромный как колосс. Кажется, он и впрямь чувствует себя Дионисом. На голове его не золотая корона, а венок, сплетенный из листьев. Он пьян от ликования толпы. Десятки городов уже распахнули перед ним свои ворота. Но нигде ему не оказывали такого восторженного приема, как в этой резиденции римских проконсулов. Теперь это его столица! Отсюда он будет управлять Азией, отсюда он пошлет корабли для изгнания римлян из Эллады.
Вот и деревянный помост, устланный пурпуром. На него по деревянной лестничке поднимается человек в белом гиматии.
— Слушайте Аристиона! Слушайте Аристиона! — послышались возгласы гонцов, и над их головами взметнулось полотнище с изображением афинской совы.
Да! Это тот бродячий философ, красноречие которого когда-то потрясло юного царя. Никогда не забыть его сверкающих глаз и речи, льющейся как горный поток. Но теперь этот человек представляет величайший из эллинских городов… Он прибыл в Эфес как посол Афин и приветствует Митридата от имени всех эллинов.
— Слава тебе, Митридат, владыка беспредельного Понта! Ни одно из морей не катит таких яростных волн, как твое. И нигде так далеко не отступили берега! А сколько племен расселось вокруг Понта, как у стола? Кто назовет их имена? Кто исчислит богов, каким они приносят жертвы? И все, принадлежащее им, твое! Их земли, их реки, их горы, их сыновья. Леса их становятся килями и мачтами твоих кораблей. Железо их недр выковывается в мечи. Золотой песок, намываемый на шкуры баранов, плавится в твоем огне. Ни один колос, колеблемый степным ветром, не уходит от твоих житниц. Ни один жеребенок, щиплющий траву на прибрежных лугах, не минует твоих конюшен.
Богат был и Крез. Владения Ксеркса были обширнее твоих. Но ты первым из царей несешь эллинам свободу! Ты откроешь запоры темниц и долговых ям, и должники станут твоими воинами. Словно волны Понта, растекутся они по земле, раздвигая границы твоей державы. Слана тебе!
В реве толпы уже не слышно последних слов. Бедняки бросились к колеснице и, отпрягая коней, понесли ее на руках. Богачи недовольно расходились по домам. Афинский посол призывает к отмене долгов, а Митридат внимает ему и рукоплещет. Кажется, он обезумел и готов уничтожить установленный богами порядок.
Митридат не замечал недовольных взглядов. Он не слышал враждебного шепота. Все заглушал торжествующий крик:
— Эвоэ! Эвоэ!
— Почему ты не давал о себе знать? — Митридат обнял афинянина.
— Я не мог явиться с пустыми руками. Твой дар обязывал.
Философ повернул ладонь. Блеснул перстень.
— Тебе удалось его сохранить? — удивился Митридат.
— Нет, это он сохранил меня! — сказал Аристион взволнованно. — Меня считали твоим посланцем. Кузнец из Керамика, глядя на твое изображение, сказал подмастерьям: «Смотрите! Это новый Солон!»
— Солон? — Удивился Митридат. — Меня уже причислили к философам…
— К освободителям! Ибо Солон очистил землю Аттики от долговых камней и вернул в наш богозданный город всех проданных за долги.
— Но ведь, кажется, Солону пришлось расплачиваться за свои благодеяния? Я слышал, он умер в изгнании.
— Солон уничтожил долги, а не то, что их создает. Он метался между богачами и бедняками как волк средь стаи псов.
— Над этим стоит подумать! — молвил царь многозначительно. — Мудрецы тоже ошибались.
— И очень часто! Они заботились о приобретении друзей, забывая о врагах. Они были беззащитны перед злом, перед его властью. Поэтому я советую тебе раз и навсегда покончить с ростовщиками. Этим ты начнешь новую эру в истории, эру Митридата.
И наступил этот день, названный в приказе Митридата «днем возмездия», а в летописях римлян «кровавыми нундинами». Тайный приказ, разосланный по всем городам, предписывал уничтожение всех римлян и италиков, обосновавшихся в Азии. Была объявлена награда тем, кто изобличит или убьет скрывающихся: золото свободным, свобода рабам.
Прослышав о готовящейся расправе, Титий бежал в храм Артемиды. Он рассчитывал, что эфесцы не посмеют нарушить права священного убежища, которым пользовалось знаменитое святилище. Но жрецы Артемиды, сами занимавшиеся ростовщичеством, не упустили возможности избавиться от могущественного конкурента. Они оттащили римского всадника от статуи богини и выбросили его за храмовые ворота. Там уже собралась разъяренная толпа.
— Проценты! Проценты! — слышался все нарастающий рев.
Римский ростовщик был растоптан. Его бездыханное тело волокли по земле как куль, а затем повесили па гранитной колонне у входа в гавань.
Не менее страшной была участь рабов Тития, которые занимались взиманием налогов и угоном неоплатных должников. Их загнали в городские конюшни и перерезали как баранов. Жену Тития, ждавшую ребенка, утопили в море.
На следующий день стало известно, как был осуществлен приказ в других городах. В Пергаме беглецов, укрывшихся в храме Асклепия, разили издали стрелами. В Кавне детей убивали на глазах родителей, а затем убивали их самих. Жители Тралл, не желая пачкать руки, наняли ланисту местной гладиаторской школы, и тот со своими молодцами перевешал всех римлян на столбах.
Митридат мог думать, что этой расправой он навсегда привяжет к себе эллинов: страх перед возмездием должен сохранить их верность. Но уже в момент всеобщего опьянения нашлись люди, не пожелавшие выполнить его распоряжение, те, кто помогали римлянам или, бросив все свое состояние, бежали на острова и в Италию
Когда в театре на голову Митридата опускали изображение Ники, держащей венок, статуя развалилась, а венок распался. Это повергло в уныние всех, кто сочувствовал Митридату. Вспомнили, что во время свадебной церемонии в Кабире из клетки вырвался медведь. Это были знаки неотвратимых бедствий.
В АФИНАХ
Праздник этот не предусматривался священным календарем города. Он был рожден годами римского гнета, казалось бы уже ставшего привычным, но все же бессильного истребить память о великом былом.
По дороге, обрамленной живописными руинами Длинных стен, в Пирей тянулась бесконечная толпа. Шли кузнецы, чтившие Гефеста, и гончары, поклонявшиеся Афине Труженице. Многие не успели снять рабочей одежды. В фартуках, выпачканных сажей, известкой или серой, они встречали своего посланца Аристиона. Его письма из Эфеса, зачитывавшиеся до дыр в папирусе, заменили речи, которыми когда-то ораторы возбуждали гнев или рвение афинян. Из посланий они узнавали об удивительных событиях, происходивших по ту сторону моря. Митридат не только великий стратег, разгромивший заносчивого Мания Аквилия. Он верный и искренний доброжелатель всех эллинов. Он бескорыстно возвращает эллинским городам их былые свободы, отменяет долги, изгоняет и истребляет ненасытное волчье племя ростовщиков. Он обещает вернуть Афинам остров Делос, а Делос — это сборы с богомольцев, торговые подати, проценты с торговых сделок, поток серебра, который заполнит опустевшую казну. Делос — это оплачиваемые выборные должности, ныне не доступные театральные зрелища, работы в гаванях, мастерских, рудниках, все, что составляло когда-то богатство и славу независимых Афин.
Вот почему весть о возвращении Аристиона стала для демоса праздником. Весь город перелился в Пирей, подобно оливковому маслу из опрокинутой амфоры. Люди заполнили мол и прилегающие к гавани улицы, залезли на городскую стену и крышу арсенала. Всем хотелось увидеть человека, возвратившего Афинам утраченную свободу.
Вот он сходит с триеры, и его подхватывают десятки рук, поднимают на серебряное ложе, покрытое пурпуром. Его несут как древнего доброго царя, который когда-то отдал жизнь за спасение родного города.
В своем обратном движении процессия двинулась к Пропилеям и, пронизав их колонны, подобно нити, входящей в иглу, вышла на площадь у Парфенона. Отсюда открылось море с прибрежными островками, раскинувшимися как желуди у дубового листа. К Пирею ползли корабли, подобно маленьким букашкам. Их было бесчисленное множество. Такого флота давно уже не видели в Афинах!
МОНИМА
В те времена любовь не имела истории. Годы отсчитывались по царям и консулам; вехами были кровавые побоища, а не цветение миндаля. И эту весну презрели царские летописцы. Она не принесла Понту ни поражений, ни побед, не была отмечена ни мятежами, ни эпидемиями. Города не истреблялись пожарами. Даже знамений не было никаких.
Царь ехал один, без свиты. Пчелы носились в прозрачном воздухе. Ветер играл пурпурной мантией и осыпал ее миндалем.
И вдруг из-за гривы и прядущих ушей Митридат увидел ее с кувшином на плече. Летописцы сохранили ее имя — Монима. Прислушайтесь к его звучанию. В нем эллинская гибкость линий и дурманящий запах миндаля.
Митридат спрыгнул на землю. Конь упруго повернул голову. В зрачке, выпуклом и блестящем, как драгоценная камея, застыл он, царь царей Митридат Евпатор, и она — дочь горшечника Монима.
Он шептал ей слова, каких не слышала ни одна жена его и наложница. Этих слов не найти ни в одной истории, ни в одном рассказе о древних царях. В них стонали сосны гор Париадровых, знавшие о его одиночестве, шумели травы степи Киммерийской, вобравшие его тоску. И волны гудели о первых радостях, и буря звенела в натянутом парусе, и билась о палубу ливнем слез.
Он бережно посадил ее на коня. И конь ее принял. Гордясь своей ношею, он шел сквозь цветение миндаля. За городом улица стала дорогою, и кипарисы, как свечи, черные, указывали путь ко дворцу.
А старый горшечник, обезумев от счастья, бежал по городу. Он кричал: «Я крутил круг сорок лет и три года. Из моих пальцев выходили лекифы и килики, но я не заметил, что вылепил такой драгоценный сосуд».
В ПИРЕЕ И РИМЕ
Архелай не раз бывал в этом портовом городе, известном под именем «Морских Афин». Раньше он любовался статуями и картинами, украшавшими святилища Афины и Зевса. Его поражало величие арсенала, сотворенного Филоном. Но теперь Пирей предстал Архелаю с иной стороны.
В сопровождении сторожа он несколько дней обходил стены, когда-то защищавшие город. Зрелище разрухи и запустения поразило стратега. Во многих местах укрепления были разобраны. Деревца, поднимавшиеся из камней, придавали руинам живописный вид, но в дни осады, которую Архелай считал неизбежной, вьющиеся растения заменят врагам лестницы. У стен, выходящих к морю, лепились хижины рыбаков. Вырубленные в скале ступени приглашали каждого войти в город.
А знаменитые пирейские гавани! Они могли гордиться своей историей. Но каменные ложа для подъема кораблей в доки завалены обломками сосудов и другим хламом. Глина, покрывавшая крышу арсенала, осыпалась. Достаточно одного факела, чтобы занялась деревянная кровля.
И все теперь ложится на его плечи. У Митридата появилась одна забота — Монима. Это его царское дело — любовь!
Размышления Архелая были прерваны появлением человека в плаще с капюшоном. Он вышел из пробоины в стене, правее ворот, и остановился как вкопанный. Видимо, он не рассчитывал на встречу с людьми и опасался ее.
Заметив, что от объяснения не уйти, незнакомец отбросил капюшон и поставил свою ношу на землю. Холеное лицо с высоким лбом и внимательными серыми глазами заставило Архелая отбросить мысль, что перед ним вор или соглядатай.
— Радуйся, Архелай, доблестный союзник Афиниона! — произнес незнакомец иронически.
— Афиниона! — от неожиданности закричал Архелай. — Ты что-то путаешь! Я никогда не был в Сицилии и не знал предводителя рабов.
— Но ты спутался с его двойником, лжефилософом. Достойные люди называют его Афинионом.
— Я вижу, тебе Аристион не по душе. Ты, наверное, из числа тех, кого он отправил в изгнание.
— Да! Да! Он освободил меня от моих рабов, от кораблей, а сам поселился в моем доме.
— Но кто ему разрешил?
— Афинский демос. Тебе, наверное, приходилось читать Аристофана. Тогда демос был слабовольным, выжившим из ума старцем. Но теперь это обезумевший зверь, мстительный, жаждущий крови.
— Прости, мне неизвестно твое имя.
— Меня зовут Кафисом. И разреши тебя покинуть. Ибо освободители могут решить, что были слишком щедры, даровав мне жизнь.
Архелай бросил афинянину прощальное приветствие и взволнованно зашагал к гавани. Надо бы написать Митридату обо всем, что он увидел и узнал в Пирее. Разжигая ненависть к имущим, царь восстановит против себя эллинские города. Эллины бросятся в объятия к римлянам Но цари не любят назиданий. И палки достаются учителям.
Сулла принял Кафиса в таблине, увешанном коврами. Консул уже знал о событиях в Элладе и был подготовлен к этой встрече.
— В Афинах я был твоим гостем, теперь ты будешь моим в Риме, — сказал Сулла, обнимая Кафиса. — Мой дом и мои рабы к твоим услугам. А если у тебя появится желание мне помочь, займись перепиской. С тех пор, как я стал консулом, меня завалили письмами. Все хотят знать, о чем я думаю и что собираюсь предпринять. Кстати, что тебе известно об Аристионе?
— Это демагог, подкупленный Митридатом, — вырвалось у Кафиса.
— Ты не сообщил ничего нового, — молвил Сулла с усмешкой. — Меня интересует другое: кто его отец? У кого он учился? Наконец, чем он привлек афинскую чернь?
— Не знаю, — протянул Кафис, — я не общался с людьми подобного рода.
— Жаль, — сказал Сулла. — Мне важны эти детали. Старая привычка. Я должен видеть противника в лицо.
— Я постараюсь узнать.
— А когда ты закончишь эту работу, сможешь взяться за другую. Я хотел бы иметь список статуй и картин, которые хранятся в Афинах. Каталог великих творений — так бы я его назвал.
Уловив во взгляде своего собеседника недоумение, Сулла добавил небрежно:
— Видишь ли, я вскоре собираюсь побывать в Афинах. Мои легионы уже стоят в Ноле. Вот я и хотел бы, когда вновь окажусь твоим гостем, осмотреть все, заслуживающее внимание.
— Хорошая мысль, — подхватил Кафис. — Я начну со статуй, принадлежавших мне. Кто теперь ими владеет?
— Не трудись! — перебил Сулла, вставая. — Твою коллекцию я хорошо знаю. Начни со статуй и картин, находящихся в храмах и общественных местах.
НЕПОСТИЖИМОЕ
Сенат заседал в храме Диоскуров. Вновь и вновь возвращаясь к событиям на Востоке, сенаторы пытались определить причины бедствий, постигших Рим. То и дело звучали слова: корыстолюбие, алчность. Вспоминали Мания Аквилия. Это он не сумел вовремя разглядеть опасность: из честолюбивого желания триумфа принес позорную смерть себе, а отечеству — бесславие.
Слово попросил гаруспик Тарруций. В его обязанности входило определять по внутренностям животных, благоволят ли римлянам боги. Но никогда еще гаруспик не был в числе ораторов.
— Род человеческий, — начал гаруспик в напряженной тишине, — переживает восемь поколений. Для каждого из них предусмотрен предел во времени, совпадающий с оборотом великого года. Сегодня боги указали, что мы переживаем этот великий год. Седьмое поколение сменилось восьмым. Два ворона принесли на дорогу своих детенышей, а сами вступили в схватку. Родилось новое, восьмое поколение. Оно изберет себе новых жрецов. Они назовут белое черным, правду — ложью. Ищите их и узнавайте у них свою судьбу!
Гаруспик положил свой изогнутый жезл на стол у возвышения оратора и медленно зашагал к двери.
В зале было так тихо, что его шаги звучали, как удары молота в храме Судьбы.
Молчание нарушил Сулла.
— Нам, смертным, нет времени вопрошать судьбу и гадать, к какому мы принадлежим поколению. Мы окружены зримыми опасностями. Италия заполнена беглецами из Азии и Греции. А мы растрачиваем силы в раздорах. Блеск сокровищ Митридата лишает сна наших почтенных старцев. Они ищут поддержку среди наглых юношей и хотят с их помощью лишить вас, отцы сенаторы, власти.
И хотя Сулла не называл имен, всем было понятно, что консул имеет в виду Мария, а наглыми юношами называет свиту друга Мария Сульпиция Руфа.
Занявшись разбором сенатских протоколов, Сулла отпустил ликторов. Когда он покинул храм, уже темнело. Сумерки смыли очертания зданий и отодвинули их в глубь форума. Почему Тарквинии осушили именно это болото? Почему именно здесь произошли события, ставшие достоянием вечности? Сулла любил задавать себе такие загадки. Может быть, потому, что они вели его мысль проторенным путем: судьба.
С недавних пор Судьба перестала быть для него безликой силой, наподобие тех нумина, к кому обращаются римляне в молитвах: «Кем бы ты ни был, мужчиной или женщиной». Сулла увидел ее исступленный лик. Львы несли ее колесницу. Колеса с серпами на оси кромсали тела.
— Вот мы и встретились! — услышал Сулла насмешливый возглас.
Оглянувшись, он оказался лицом к лицу с Сульпицием.
— Прочь с дороги или я размозжу твою пустую голову! — крикнул Сулла.
— Попробуй! — ответил Сульпиций насмешливо.
И только тут консул заметил, что в отдалении стоят двое с палками. Это была свита Сульпиция, его «ликторы».
Приняв молниеносное решение, Сулла кинулся бежать. В юности сверстники называли его быстроногим, и он радовался этой кличке, так же как теперь прозвищу «Счастливый». Но счастье изменяло. Со стороны базилики показалось еще несколько человек с палками.
Сулла заметался. Тени, отбрасываемые колоннами храмов, напоминали прутья огромной клетки. Нет выхода! Он в ловушке. Травля! Сулла любил наблюдать за ней со скамей для зрителей. Но каково оказаться на арене самому!
— Спасайте консула!
Это был не крик, а шепот. Язык прирос к гортани.
Остался свободным проулок между базиликой и храмом Диоскуров. Сулла догадывался, что это тупик. Но страх перед людьми с палками был так силен, что беглец не задумываясь кинулся туда. Проулок закончился домом. Сулла рванул дверь и оказался в атриуме.
Светильники на мраморных подставках горели ярким пламенем. Сулла остановился, ослепленный. Когда к нему вернулось зрение, он увидел лоб, перерезанный морщинами, и под ним глубоко спрятанные, бесстрастные глаза старца. В них не было ни злобы, ни презрения…
За дверью слышались крики. Сулла узнал голос Сульпиция. Какая-то тень скользнула по лицу Мария. Мгновение решило его судьбу.
— Я не Бокх, — сказал Марий скрипучим голосом.
Это был точно рассчитанный удар. Бокх выдал Сулле своего гостя. Но Сулла, кажется, даже не осознал, что речь идет о нем, о предательстве, с которого началась его карьера.
Марий показал на дверь в перистиль.
— Калитка в углу!
Сулла бежал, натыкаясь на деревья. Ветви хлестали его по лицу. Это был сад, примыкавший к дому Мария. За садом тянулся пустырь, носивший название Муциевы луга. Сулле казалось, что и это имеет свое значение. Тот, кто разыграл эту жестокую шутку, этот площадной мим, рассчитывал, что Сулла вспомнит, как вел себя Муций Сцевола в подобной ситуации. Сулла скрежетал зубами.
— Позор! — кричал он, не думая, что его могут услышать.
Всплыли глаза Мария. Они преследовали Суллу всю жизнь, не давая ему покоя. Через несколько лет, вернувшись в Рим после победы над Митридатом, он приказал вырыть труп своего врага и бросить его в Тибр. Но и после этого он не мог избавиться от глаз. Они были непостижимы, как поступок Мария, на который сам Сулла был не способен.
МЯТЕЖ
Кафис догнал Суллу в Аквине, на полпути между Римом и Нолой. Здесь он должен был встретиться со своим помощником Басиллом, чтобы передать распоряжение о посадке легионов на корабли. Но события в Риме перевернули все планы.
Сулла сидел, опустив тяжелую голову с мясистыми, плохо выбритыми щеками. Его глаза не были видны Кафису. Но по напряженно вздрагивающим векам чувствовалось, что он впитывает каждое слово.
— В день, когда ты покинул Рим, состоялась экклесия…
— Комиции, — поправил Сулла.
— Да, комиции, — продолжал афинянин. — Как чужеземец, конечно, я не мог присутствовать, но слух распространился по Риму…
Сулла вскочил. Схватив Кафиса за плечи, он крикнул:
— Что ты тянешь!
Наступила тишина, прерываемая лишь учащенным дыханием Суллы.
— Было внесено предложение о передаче командования в войне с Митридатом Марию. Народное собрание его утвердило.
Сулла рванулся к выходу.
Военный трибун Гельвидий прибыл к лагерю у Нолы перед закатом солнца. Часовой долго не выходил на зов и еще дольше расспрашивал: кто он, откуда и что его привело в Нолу.
— Я объявлю об этом твоему командиру Басиллу, — раздраженно молвил трибун. — Сообщи ему обо мне.
Пока часовой вызывал начальника стражи и растолковывал ему просьбу Гельвидия, стало темно.
Пьяные крики безошибочно указали место претория, Гельвидий слышал, что Сулла распустил солдат, но то, что ему пришлось увидеть, превосходило все границы. Кажется, здесь, в Ноле, забыли, что италики еще не сложили оружия, а полчища Митридата полонили Азию.
За низким столом возлежали легаты. Их было шестеро — по числу легионов. Но лишь Басилла Гельвидий знал в лицо. Он служил с ним под началом Мария, пока тот не выгнал Басилла. И что же! Его охотно принял к себе Сулла и поручил командование манипулом. Это был тот манипул, который ворвался в Помпей и совершил там беспримерную по жестокости резню. С этих пор Сулла не чаял в Басилле души и, став консулом, поручил ему в свое отсутствие командовать всеми легионами. Такая карьера в старые добрые времена была бы невозможной. Но ведь они ушли вместе с седьмым поколением.
— Гельвидий! — заорал Басилл, как только трибун поднял полог палатки. — Какие боги привели тебя в нашу глушь?
— Я из сената, — сказал Гельвидий. — Чрезвычайное сообщение.
— Знаем мы их! Какого тебе налить: фалернского или номентанского?
— Прикажи собрать воинов! — отрезал Гельвидий.
— С водой или по-скифски?
— Брось шутить! Я требую собрать воинов.
— Вот как заговорил, — пробурчал Басилл, вставая. — Откуда у тебя такие словечки взялись: прикажи, требую. Сам Луций Корнелий Сулла с нами так не разговаривает. Правда, Лукулл?
— Так да погибнет каждый, задумавший дело такое! — произнес Лукулл по-гречески.
— Скажи ему по-нашему, — вмешался военный трибун, сидевший в углу. — Пусть убирается, пока цел!
— Эх, Мурена, Мурена! — укоризненно произнес Лукулл. — Сулла будет недоволен. Твой перевод Гомера, мягко сказать, неточен.
— Нужны мне твои Гомеры, — упрямо твердил Мурена. — Пусть убирается!
— Друзья! — сказал Басилл. — Оставим спор. Пусть будет так, как хочет этот человек. Мы когда-то вместе с ним служили у Мария.
— И будем служить снова! — вставил Гельвидий торжествующе.
— Ого! — выдохнул Басилл.
Хмель сразу покинул его.
Воины выстроились у претория почти мгновенно. Факелы освещали края шеренги. В середине был мрак. Сколько ни вглядывался Гельвидий, он не мог различить ни одного лица. Поблескивали шлемы. Слышалось учащенное дыхание.
— Воины! — начал Гельвидий. — Я привез решение сената. Отныне вами будет командовать доблестный победитель кимвров и тевтонов, избранный шесть раз консулом, пять раз удостоенный триумфа Гай…
Брошенный кем-то камень ударил Гельвидия в грудь. Трибун охнул.
— Что вы делаете! — вырвалось у него.
Новый камень угодил в голову. Гельвидий упал, обливаясь кровью. Выбежавшие из строя солдаты топтали уже бездыханное тело, рвали на части окаймленную пурпуром тогу.
И вдруг все стихло. Показался Сулла.
Консул прижал руку к груди, как бы удерживая волнение.
— Друзья! Римский народ доверил мне судебную власть. Но я вижу, вы и сами умеете вершить справедливый суд. Враги хотят лишить вас заслуженных наград. Если вы намерены им служить и добиваться их прощения, оставайтесь на месте. Если вам дорог ваш полководец, если вы желаете воевать с Митридатом — за мной!
Воины Басилла ворвались в Рим со стороны Латинской дороги. Эсквилинские ворота, к которым она подходила, не охранялись. Нападения никто не ожидал.
И все же солдаты встретили ожесточенное сопротивление. С крыш на их головы сыпался град черепиц и камней. На узких улицах, перегороженных столами и скамьями, завязывались кровопролитные бои.
Видя, что его воины готовы обратиться в бегство, Сулла выбежал вперед. Зажженный факел в руке был подобен знамени. С криком: «Жги!»— он метнул его на кровлю ближайшего дома. Сухой тес вспыхнул, как солома.
Следуя примеру полководца, воины осыпали крыши стрелами, обмотанными горящей паклей. По улицам пополз густой удушливый дым. Прыгая с крыш, выбегая из домов, плебеи находили смерть.
Спасаясь от огня, плебеи укрылись в каком-то храме. На глазах у Суллы воин из когорты Мурены взобрался на крышу, разобрал черепицы и стал кидать их вниз. Из храма послышались отчаянные крики. Каждый удар попадал в цель.
— Как зовут этого храбреца? — спросил Сулла.
— Марк Атей! — отвечал военный трибун.
— При случае вспомни о нем. Он достоин награды.
У Фламиниевого цирка навстречу сулланцам выступили вигилы — воины когорты, охранявшей город от пожара. Они размахивали баграми и секирами, предназначенными для растаскивания горящих бревен. Привыкшие пробиваться сквозь огонь, они неудержимо двигались вперед. Сулла приказал Басиллу пойти в обход по Субурской дороге. Опасаясь окружения, вигилы отошли к храму Цереры, где скрывался Марий. Массивные стены, воздвигнутые при бородатых консулах, казались надежным убежищем.
Марий еще надеялся на помощь рабов. К ним были посланы глашатаи с обещанием свободы. Но рабы не поверили Марию, зная, что он не раз отказывался от своих слов. Не явились и римские всадники, услыхав, что Марий освобождает рабов. Страх перед рабами всегда толкал в объятия к нобилям. Вместо того чтобы явиться в храм Цереры, всадники собрались в храме Конкордии. Совместно с сенаторами они выделили делегацию к Сулле. Речь шла о капитуляции. Оставленный всеми, Марий бежал за Тибр,
Наутро был созван сенат. Лица отцов города, проведших бессонную ночь, отсвечивали зеленью. Щеки Суллы покрывал румянец. Глаза его сверкали весело и молодо. Теперь уже никто не мог ему помешать отправиться на войну с Митридатом.
ПЕРЕД СТЕНОЙ
Перед стеной стояли двое: один в коротком плаще, который римляне называют трабеей, другой — в гиматии до пят. Если бы не предосторожности, с какими они подошли к стене, их можно было бы принять за обычных посетителей. Впрочем, лицо римлянина, белое, с багровыми наростами на щеках, говорило, что его привлекло сюда не праздное любопытство. Задрав голову, римлянин высчитывал высоту стен, вымерял расстояние между двумя башнями.
— Двадцать один фут, — сказал Сулла. — Семь рядов квадров при высоте каждого в три фута. Недурно! Да и кладка кажется прочной.
— Это работа Перикла, — услужливо подхватил Кафис. — Стена укреплена перед началом войны с лакедемонянами. И этот участок сохранился, несмотря на бедствия последующих времен. Так умели строить в ста…
Сулла обратил к говорящему тяжелый взгляд, и Кафис запнулся на полуслове. За год службы у Суллы он уже знал переменчивый характер консула. В поведении его могущественного покровителя не было логики. Он мог простить самые тяжелые преступления и мстить за безобидную шутку. Никогда нельзя было предугадать, как Сулла воспримет твой совет, просьбу и даже лесть.
— У вас, эллинов, на каждом шагу достопримечательность, — проговорил Сулла едко. — За каждым камнем — великое имя! Но меня не остановят призраки. Моим таранам безразлично, какие крушить стены. Сколько лет можно собирать проценты с былой славы! Ты говоришь — Перикл? Значит, и он среди моих недругов! И Фемистокл, и вся эта фаланга болтунов. Что ж, если Марс дарует мне победу, я прикажу пронести статуи в триумфальном шествии. А потом я сброшу их с Тарпейской скалы.
Кафис с ужасом слушал Суллу. Нет, это не обычная вспышка гнева. Сулла не бросает слов на ветер. Он объявил войну не Митридату, не афинянам, соблазненным посулами царя, а самой истории. Он будет сражаться не с Аристионом, а со славой города.
Стук копыт прервал гневную речь Суллы и горькие размышления его спутника.
— Счастливый! — доложил Мурена, спешившись. — Лагерь разбит, как ты приказал. Я поставил над баллистариями Атея. Но нет леса для военных машин.
Сулла удивленно расширил глаза. Сделав несколько шажков, он протянул руку в сторону рощи, сверкавшей свежей зеленью.
— А это разве не лес, мой Мурена! Платаны пойдут на балки для катапульт. Лавры пригодны для кольев лагерной ограды, если, конечно, очистить от листьев. А что делать с листьями, придумай сам.
Мурена замялся. Может быть, консул забыл, что под этими платанами, приветливо раскинувшими свои ветви стоял Сократ. Здесь он вел свои насмешливые беседы. Сюда Же он призывал муз и верил, что они придут.
— Это священная роща! — ответил Мурена невнятно.
— Ах, да… — с деланной рассеянностью произнес Сулла. — Но какому она посвящена богу?
— Герою Академу! — еле выдавил из себя Кафис.
— Академу! — оживленно воскликнул Сулла. — Значит, мне будет помогать Академ.
Дав Мурене знак, чтобы он удалился, Сулла мягко взял Кафиса за руку. В этом жесте чувствовалось доверие. Гнева словно и не бывало.
— Платон — мой кумир, — ораторствовал Сулла. — Невежественная толпа расправилась с его учителем Сократом. Это предки тех афинян, которые избрали своим предводителем Аристиона, отъявленного демагога и лжеца. Открытая Платоном истина бессмертна, как он сам. По природе своей люди различны. И божество при их рождении к одним примешало золото, к другим серебро, а к третьим — железо и медь. Власть должна принадлежать истинно мудрым, знающим себе цену. Их воля — закон для всех.
Сулла остановился.
— Так ли я излагаю учение мудрого Платона?
— Так! — отвечал Кафис глухо. — Только Платон запрещал своим правителям и подчиненным им воинам иметь у себя всякое частное имущество. Они должны находиться на содержании общества и не обладать деньгами, чтобы не заразиться страстью к ним.
— Но это неосуществимо! — воскликнул Сулла. — В каждом учении надо брать то, что под силу людям. Ведь к такому выводу, как тебе известно, пришел сам Платой в конце своей жизни.
Сулла повернул голову. Его слух уловил удар топоров. Выполняя его приказ, воины Мурены вырубали Академию.
Начальник баллистариев Атей долго топтался у претория. Сулла приказал ему доложить о готовности баллист. Но как это сделать, если уже полдень, а консул спит. Из отверстия палатки доносился храп, свидетельствующий, что патриций такой же человек, как он, плебей.
Восприняв прекращение храпа как приглашение, Атей поднял полог консульского шатра.
Сулла полулежал на локте, держа свободной рукой фигурку юноши с лирой, и явно любовался ею. Видимо, чувство восторга так переполнило его, что он готов был поделиться с каждым, кто бы оказался по соседству.
— Какое изящество форм! — восклицал Сулла. — Какой поворот головы! Что ни говори, эти греки кое в чем достойны своей славы. Сразу видно, что это Орфей, зачаровывавший музыкой животных и сдвигавший скалы.
Он что-то запел низким голосом, размахивая статуэткой в такт мелодии.
— Впрочем, — сказал он, оборвав песню, — тебя бы Орфей не зачаровал? Ты, кажется, равнодушен к музыке?
— Так точно! — отчеканил Атей. — Музыка нам ни к чему. Ты меня поставил над баллистариями, а не над трубачами.
— Ну и как? — спросил Сулла, загадочно улыбаясь. — Что с твоими баллистами?
— Баллисты к бою готовы.
Сулла набросил на плечи плащ, взял меч в ножнах и шагнул к выходу. Солнце ослепило его, и лишь через мгновение взору консула предстали громады стен и в отдалении от них, подобно стайке лягушек, — баллисты Атея. Около них суетились воины, укладывая каменные ядра.
Увидев консула и следовавшего за ним Атея, баллистарии отступили на три шага от своих орудий и стали по шестеро в каждой команде.
Атей был собой доволен. Он мог гордиться четкостью и слаженностью построения, которое он принес из манипула в новый для него отряд камнеметчиков. Но Суллу, кажется, не заинтересовало это новшество. Не обращая внимания на бравых баллистариев, он направился к первой из баллист и, подняв меч, ударил по натянутому с левой стороны волосяному канату. Раздался протяжный звон наподобие тысячекратно усиленного гудения шмеля.
Дождавшись, пока звук замрет в воздухе, консул обошел баллисту и ударил по другому ее канату. Он издал более глухой и короткий звук.
— Недотянуто! — сказал Сулла оторопевшему Атею. — Выстрел будет неточным. Ядро пройдет левее башни.
— Дотянем! — крикнул служака, обратив багровое лицо в сторону застывших от ужаса баллистариев.
— Не торопись! — сказал Сулла, положив руку на его каменное плечо. — Обратись к Мурене. Он восполнит пробелы в твоем образовании.
Консул повернулся и зашагал к насыпи, возводимой у Дипилонских ворот. Атей остался стоять с разинутым ртом. До его слуха доносилась мелодия. Это была та самая песня, которую Сулла пел в шатре.
Явись ко мне, божественный Орфей,
И расшатай своей формингой стены.
ТЕЛАМОН
Маленький городок на тирренском побережье Италии носил имя одного из участников похода Аргонавтов. Это было предметом давней гордости теламонцев. Они вспоминали и о том, что когда-то их город был портом Козы и чеканил свою собственную монету. Случайным посетителям они показывали каменные гробницы, где покоились их предки, и место знаменитой битвы римлян с галлами.
Все это было в далеком прошлом. А настоящее казалось серым и безрадостным. Гавань заносило песком. Редко какой корабль заглядывал сюда. Великолепные железные орудия и инструменты, изготовлявшиеся в мастерских Теламона, не пользовались славой. Перечисляя места, где надо покупать лопаты, топоры и серпы, старик Катон не упомянул Теламона.
Выбирая место для высадки своего небольшого отряда, Марий вспомнил о Теламоне. Городок устраивал его, так как дальше других этрусских портов находился от Остии, где стояли корабли верного Сулле консула Октавия, В Теламоне Марий рассчитывал набрать войско, необходимое для захвата Рима.
Едва трирема причалила к молу, как к ней подошла группа людей. Ее возглавлял толстяк в расшитой тоге и позолоченных сандалиях. Судя по всему, он был главным магистратом этого городка. Осталось загадкой, как он узнал в старике, одетом в грязную тогу, не стриженном со дня изгнания, Мария. И еще удивительней было то, что у него оказалась подготовленной приветственная речь.
— Спустись на землю нашего славного города, скиталец! — произнес толстяк, вздымая пальцы, унизанные перстнями. — Здесь ты найдешь людей, умеющих ценить доблесть. Мои предки, тиррены, сами скитальцы, всегда покровительствовали беглецам. Вспомни, о великий муж, кто прислал предводителю тевкров Энею корабли? Лукумоны! С их помощью прародитель укрепился в земле латинов, а его потомки Ромул и Рем построили на берегу древней Альбуллы новую Трою. Эней к нам приплыл из Ливии знойной. Город Дидоны оставил и ты, дерзновенный потомок Энея, чтоб на латинов земле заново Рим основать. Мы, расены, готовы отдать тебе все, что имеем.
— Что ты имеешь? — перебил Марий речь, уже звучавшую как стихи.
Марий не любил славословий. А это было ему к тому же непонятным. В то время, как его сверстники зубрила вирши, воспевавшие подвиги Энея, он ходил за плугом. Когда они обучались ораторскому искусству у греков, он гонялся по всей Африке за неуловимым Югуртой. Война с кимврами и тевтонами заменила ему Академию и Ликей.
— Что ты имеешь? — повторил Марий резко.
Оратор растерялся. Его перебили на самом патетическом месте.
— Я спрашиваю: где твои доблестные этруски? Не они ли жмутся за твоей спиной? Или ты думаешь, что я могу составить легион из теней твоих луканов?
— Лукумонов, — робко поправил этруск.
— Пусть лукумонов, — продолжал Марий. — Все равно мне нужны крепкие и сильные юноши. Я обучу их сражаться. Я…
Марий услышал стук копыт. Обернувшись, он увидел всадника, скачущего во весь опор. Лица его еще нельзя было разглядеть, но черная повязка, закрывавшая правый глаз, не оставляла сомнений: это Серторий.
Спешившись, воин кинулся в объятия к Марию.
— Мог ли я надеяться! — молвил Марий растроганно. — Тут мне предлагали лукумонов. — Он бросил взгляд па толстого этруска, стоявшего в той же почтительной позе.
— А я могу предложить тебе только самого себя, — сказал воин. На его высоком лбу сбежались морщины, придавая лицу растерянное выражение.
— Ты — Серторий! — воскликнул Марий, прикасаясь к его широкому плечу. — Тебя еще в юности называли сабинским львом. Помнишь свою разведку к тевтонам?
Улыбка осветила открытое лицо Сертория. Ему было приятно, что полководец не забыл этого эпизода.
— Тогда у тебя было шесть легионов, — сказал Серторий.
— Солдаты найдутся! — воскликнул Марий. — Вот этот любезный человек готов мне помочь.
Он подозвал толстого этруска.
— К утру доставь в город три тысячи молодых рабов.
— Но… — возразил этруск.
— Выполнять! — крикнул Марий, выпрямившись. Теперь он не напоминал ворчливого старца. Это был полководец, шесть раз консул, победитель кимвров и тевтонов.
Этруск, видевший воинский строй лишь издали, не был обучен командам. Все же он прижал локти к бедрам и опустил ладони с короткими пальцами. В его круглых глазах застыл ужас.
— Иди! — приказал полководец.
Этруск обернулся и зашагал, семеня толстыми ножками.
— Вот ты и приобрел воинов! — рассмеялся Серторий. — И легче, чем другие.
— Что ты хочешь сказать?
— В Капуе Цинна сложил свои фасции и выступил перед воинами, чтобы объяснить им свое бегство из Рима. Поднялся шум. Тогда Цинна сбежал с кафедры и бросился на землю. Он лежал до тех пор, пока командиры не привели свои отряды к присяге.
— Каждый добывает воинов как умеет, — сказал Марий сухо. — Но, по мне, лучше иметь воинами рабов, чем быть рабом у своих воинов.
ОСАДА
Пятый месяц стоят римляне под стенами Афин. Отгороженный от всего мира великий город умирал голодной смертью. Перебежчики сообщали, что медимн пшеницы стоит тысячу драхм, что люди питаются девичьей ромашкой, растущей вокруг акрополя, варят шкуры. В храмах богов потухли светильники — иссякло масло. По поведению защитников стен, однако, не чувствовалось, что они испытывают какие-либо затруднения. Они так же деятельны. По-прежнему они осыпают осаждающих, и в особенности их полководцев, бранью и насмешками.
— Дружок Никополы! Дружок Никополы! — вопили крикуны со стен, примыкавших к башням Дипилонских ворот.
Никопола, женщина не слишком порядочного поведения, оставила Сулле состояние.
Солдаты между собой называли ворота Никополькими.
На участке близ Элевсинских ворот мишенью насмешек стала внешность Суллы.
Выйдя на стену, афиняне кричали хорошо поставленными голосами:
— Эй, Сулла, смоквы плод багровый, чуть мукой присыпанный!
Сулла обращал внимание на брань не более, чем охотник на кваканье лягушек. Его пугали вести из Рима. Консул Корнелий Цинна, давший ему на Капитолии торжественную клятву в верности, покинул Рим и набирает воинов среди недовольных италиков. Марий высадился в Теламоне.
Ударить бы сейчас, пока они не соединились. Но как оставить Афины!
Совсем неприятные известия принесли лазутчики из Азии.
Митридат, вопреки слухам, занят не одними пирами и празднествами. Его союзник, царь Армении Тигран, прислал ему тридцать тысяч гоплитов во главе с Таксилом, Присоединив к ним скифов и галатов, армянский стратег идет на помощь Архелаю и восставшим афинянам. Через несколько дней его войско достигнет Геллеспонта. И в довершение всего оказалось, что иссякло золото. Девяти тысячи фунтов, взятых из Рима, хватило лишь на жалованье воинам. А где достать денег для расплаты с купцами за зерно, масло и кожи?
Закрывшись в палатке с квестором Лукуллом, Сулла решал все детали предстоящей операции. Были выделены солдаты, охранявшие когда-то храм Монеты и знакомые с чеканкой. В глухую долину Аркадии был послан отряд для сооружения Монетного двора. Оставалось лишь добыть золото!
ГНЕВ АПОЛЛОНА
Священная дорога нехотя поднималась в гору. Впереди в утреннем тумане вырисовывался храм Аполлона. Легкий, как бы парящий в воздухе, он оправдывал древнее предание о том, что первое святилище было построено из перьев и лебяжьего пуха, замененных впоследствии мрамором.
Каждый шаг стоил Кафису невероятных усилий. Казалось, к ступням привязаны свинцовые подошвы. Страшно подумать, что приближается мгновение, когда он вступит в храм и протянет жрецам этот жгущий его ладонь деревянный пенал. В нем послание Суллы, его требование немедленно выдать сокровища и отправить их в римский лагерь, где они будут целее. Даже в этом добавлении, совсем ненужном, Сулла показал свою лживую натуру.
На глазах Кафиса была срублена роща Академа, и деревья, дававшие Платону тепь, стали катапультами и баллистами, осадными лестницами и таранами. Сулла не пощадил и Ликея, места вдохновенного труда Аристотеля. Там он разбил лагерь. Все это могло быть объяснено если не военной необходимостью, то вполне естественной ненавистью к афинянам, поднявшим оружие против Рима. Но Дельфы не объявляли Сулле войны. Они не помогали его врагам. Дельфийские жрецы всегда враждебны черни. Сулла это знал. Ему было известно, что его предки в трудные моменты своей истории не раз обращались к Пифии за советом. Он слышал, какой почет оказали оракулу римляне, освободившие Элладу от власти македонских царей.
Кафис невольно вспомнил свой первый визит к Сулле. Уже тогда консул замыслил это кощунство. «Каталог великих творений» должен облегчить грабеж Афин. Кафис понял это, когда уже было поздно. Став рабом Суллы, он не мог отказаться от этого нового поручения. Он боялся его ядовито-голубых глаз. Голос Суллы вызывал в нем дрожь. Кафис понимал всю глубину своего падения. И все же он шел, тяжело передвигая ноги, навстречу неизбежному.
Осталась позади сокровищница афинян. Еще один поворот, и открылась лестница, ведущая к колоннам. Они были похожи на карающих богов. За ними полумрак зала. В глубине мерцала фигура с вскинутым луком.
Аполлон смотрел на пришельца с гневом и презрением. На его губах застыла уничтожающая улыбка.
Земля пошатнулась под Кафисом. Он упал к ногам статуи бездыханным.
В этот день оракул потерял сокровища, накопленные веками — золотые чаши, присланные Крезом, серебро из марафонской добычи афинян, дары персидских царей и тирренских пиратов. Но храмовые летописи пополнились новым чудом.
Эллин, которого римский полководец отправил за священными дарами оракула, хотел унести и статую Аполлона. Но только он протянул к ней свою кощунственную руку, как бог испепелил его своим гневом.
По этому случаю вспомнили древнее изречение Пифии:
Карою будет тебе покрытая струпьями кожа
Или внезапная смерть — вот твой, безумец, удел.
Пифия всегда выражалась неясно. Но никто из сохранивших веру в чудеса не сомневался, что первое из наказаний ожидает самого Суллу.
ПАДЕНИЕ РИМА
Одновременно с Афинами неслыханные бедствия терпел и Рим. Весь правый берег Тибра от впадения в него Аллии до стен Остии занимали осаждавшие. На крайнем левом фланге располагались когорты Сертория. В центре против самого города находились легионы Цинны, далее к морю стояли этруски Мария.
Голод еще не дошел до крайности, до девичьей ромашки и вываривания кож, но уже по ночам в поисках съестного рабы врывались в склады. Прибывший на помощь консулу Октавию престарелый консуляр Гней Помпей организовал облаву. Двести преступников было сброшено с Тарпейской скалы.
Узнав об этом, Цинна разослал своих людей, обещая рабам римлян свободу. В течение нескольких дней войско Цинны пополнилось шестью тысячами перебежчиков. Это были не только рабы, но и плебеи, страдавшие от голода.
Казалось, сами боги были на стороне осаждавших. Над Римом разразилась гроза невиданной силы. Молния ударила в палатку Гнея Помпея и сразила консуляра наповал. Во время объявленных на следующий день похорон, когда покойника в претексте со всеми наградами выставили на комиции, толпа опрокинула погребальное ложе и забросала труп камнями. Двадцатилетний сын консуляра, носивший то же имя, со слезами на глазах оставил ростры. Слово, которое он подготовил в похвалу покойному отцу, не было произнесено.
Этот эпизод произвел на сенаторов такое тягостное впечатление, что они немедленно отправили послов к Цинне.
Цинна принял послов, восседая на курульном кресле. За его спиной стоял Марий в грязной одежде, с седыми космами, свисавшими с подбородка и щек.
Припав к коленям Цинны, послы умоляли его не устраивать резню. Цинна обещал, что лично он не убьет ни одного человека.
— А тебя, — сказали послы Марию, — мы просим войти в Рим вместе с консулом.
Марий зловеще улыбался.
НА ОСТРОВА БЛАЖЕННЫХ
Серторий бежал из Рима. Это бегство ничем не напоминало памятную ему переправу через бурный Родан, когда он, раненный, без копя, уходил от кимвров. Оно не было похоже на отступление в войске Мария. Тогда он был среди побежденных, вынужденных к бегству людей. Теперь он мог считать себя победителем. Раньше он спасал жизнь. Теперь — совесть.
Нестерпимо было проходить мимо ростр, увешанных головами казненных, видеть жестокость одних, предательство других. Даже рабы, страдавшие от насилия, стали его орудием. Они убивали своих господ, присваивали их имущество, грабили. В ярости Серторий перебил их всех, когда они находились в лагере. Было их не менее четырех тысяч.
Часовой, открывая Серторию ворота, спросил, куда он держит путь. «На острова Блаженных», — ответил Серторий. Это не было шуткой. В мире, населенном людьми, не осталось места, где бы брат не поднимал руку на брата, сын на отца. Пламя войны охватило Италию, Грецию, Азию. На море свирепствуют пираты.
Но должен же быть на земле уголок, где можно скрыться от ненависти и вражды! Острова Блаженных! Так называют эти два острова в океане. Там дуют мягкие и влажные ветры, умеряя летний зной. Добрая и тучная земля примет семена и воздаст сторицей за труд. Но где отыскать надежных и верных спутников, граждан будущего справедливого государства? Среди римлян, отягощенных убийствами и преступлениями? Во владениях Митридата? Но там царит тот же произвол и летят головы невинных по капризу владыки!
Иберы! Они еще не испорчены властью. Они умеют ценить друзей. В их стране можно отыскать спутников и построить корабль надежды.
ПАДЕНИЕ АФИН
Наступило новолуние. Над акрополем повис край месяца, подобно лезвию кривого фракийского ножа. Он едва освещал громаду Парфенона с синеватыми призрачными колоннами, подпирающими темную кровлю. Весь же город терялся во мраке, отягощенном воспоминаниями о бедствиях прошедших времен. Полторы тысячи лет назад, в такое же новолуние Антестериона, на Афины обрушились проливные дожди. В течение нескольких часов пространство вокруг акрополя превратилось в бушующее море. И именно эту ночь Сулла избрал для штурма!
Подготовка к нему началась нундины назад, когда консул узнал от лазутчиков, что афиняне оставили без охраны часть стены, что возле Гептахалка.
Небывалое рвение охватило легионеров, мечтавших о богатой добыче. Каждый из них хотел отличиться перед центурионом, центурионы — перед трибуном, трибуны — перед легатом, а судьей всем был Сулла. От его взора не ускользала ни одна мелочь. Он позаботился о том, чтобы воины, каким предстояло первым взобраться на стену, были одеты поверх лат в темные плащи, чтобы оружие их было хорошо прилажено и не гремело, чтобы они были сыты и сохраняли бодрость. Вступая в беседу, Сулла называл каждого воина по имени и, что более всего удивляло, вспоминал мельчайшие детали его боевой службы. Он помнил, где и когда были получены знаки отличия и ранения. Все это воодушевляло солдат, уверенных, что и в будущем их заслуги не будут забыты.
В полночь, незаметно оставив горящие костры, римляне подползли к Гептахалку и приставили к стене лестницы. Афиняне подняли тревогу лишь тогда, когда Атей был уже за стенами. Смещенный Суллой с должности начальника баллистариев, он стал рядовым легионером и теперь хотел оправдаться в глазах полководца. Сломав свой меч о шлем афинянина, Атей схватился с ним врукопашную. В это время другие воины, прыгнув со стен, кинулись к ближайшим воротам.
Прошло еще несколько мгновений, и лавина римлян хлынула в город. Груды мертвых тел отмечали их путь к агоре.
Бой здесь вспыхнул с новой силой. Разъяренные сопротивлением, легионеры носились по узким улицам, врывались в дома. Иных влекла надежда на добычу, других — страсть к убийству. Никому не давалось пощады. Мечи одинаково разили стариков и женщин. Кровь лилась потоком, залив весь Керамик вплоть до Дипилонских ворот. Вспыхнули пожары. Горящие стропила обрушивались, взметая столбы пламени. Зарево освещало колонны, напоминавшие беспомощно вскинутые вверх белые руки.
С губ Суллы, наблюдавшего за неистовством воинов, не сходила жестокая улыбка. Щеки покрылись румянцем. Наконец осуществилась его мечта. Что ничтожный Герострат, сжегший храм Артемиды! Он, Сулла, уничтожил великий город с тысячелетней историей.
Сенаторы, находившиеся в войске, умоляли Суллу прекратить резню. А он таинственно улыбался и молчал. И только сообщение, что воины ворвались в Пестрый портик и кромсают мечами картины, заставило его встать.
Над городом, погруженном в кровавый мрак, разносились трубные звуки. Они, как потом лицемерно заявил Сулла, даровали милость живым ради мертвых. Сулла имел в виду тех великих афинян, поклонником которых он себя считал.
Но каждый, кто пережил эту страшную ночь, знал, что милость людям была дарована ради свитков, статуй и картин, которые Сулла хотел сохранить для себя. В то время как воины Басилла стали под стенами акрополя, скрывавшими Аристиона и последних защитников Афин, квестор Лукулл, пользуясь списком Кафиса, собирал картины и статуи, чтобы вывезти их за стены в римский лагерь, а Мурена загружал повозку футлярами со свитками. Боги Афин и их мудрость отныне принадлежали победителям.
Перед лицом Аристиона вспыхнула ослепительная струя. До его сознания не сразу дошло, что это мрамор. Ваятель изобразил спор Посейдона с Афиной. Трезубец, воткнутый в каменистую землю, пробил путь источнику. Когда-то здесь происходили чудеса. Видимо, люди были их достойны. Он этого не понимал. Призраки прошлого обманули его. И вот теперь пришла расплата. Римляне стоят внизу. Они могли бы разбить этот мрамор своими ядрами. Они знают, что акрополь падет к их ногам, как перезревшее яблоко. Перерезан водопровод. Мраморным изваяниям не нужна вода. А люди изнемогают от жажды.
«Эти уже мертвы. А другие спустились вниз за милостью победителей. Сулла щадит живых ради мертвых. Так кричат его глашатаи. Но они же провозглашают награду за мою голову».
Аристион поднес перстень к губам. Жаль, что в нем нет яда. Гемма холодила воспаленные губы. Язык ощутил неровность камня.
«Пергамский алтарь! Да, это было чудом! Стонала земля от топота и крика сражающихся. Ядра баллист сверкали, как молнии. Рушились скалы. Но не свергнуть тех, кто занял Олимп. Они будут властвовать над миром, пока земля не породит новых богов».
ПЕРСТЕНЬ МИТРИДАТА
Басилл отвел полог шатра и, увидев полулежащего Суллу, воскликнул:
— Все кончено!
Консул обратил к вошедшему взгляд. В нем была какая-то отрешенность. Словно его уже не заботили ни исход битвы за акрополь, ни судьба его последних защитников.
— Входи, Басилл, — сказал Сулла, вытирая лоб краем тоги. — Сегодня такая жара, словно колесница Гелиоса сорвалась со своей колеи. Поэтому я позволил себе небольшой отдых. Я решил записать мысли, пришедшие на ум, чтобы сделать их достоянием веков. Одним словом, я начал писать историю моей войны с Митридатом.
Басилл удивленно вскинул голову.
— Я понимаю, — сказал Сулла, уловив его движение, — война еще не окончена. Флот Архелая в Пирее. Впереди главные битвы. Митридат шлет подкрепление. Но ведь и Фукидид начал историю Пелопонесской войны задолго до того, как она окончилась.
— Это так, — согласился Басилл. — Но ты полководец. В твоих руках армия. Где у тебя время для истории?
— Тогда возьмись за это дело ты, — предложил Сулла.
— О нет! — ответил Басилл. — Я могу только выполнять твои приказы. Вот я и пришел сказать, что…
— О деле потом, — перебил Сулла. — Вернемся к тому, с чего начали. Тебе кажется, что мне не нужно писать историю, а сам ты отказываешься это делать. Я думаю, назначь бы я историком Мурену или, допустим, Атея, также встретил бы отказ.
Басилл расхохотался:
— Атея историком! Да он лучше снова на стену взойдет. Пусть историю греки пишут…
— Вот! Вот! — торжествующе воскликнул Сулла. — Дело римлян побеждать, а дело греков описывать победы. А задумывался ли ты, как мы с тобою будем выглядеть в этих историях, какими красками будет нарисована наша доблестная осада Афин?
Улыбка сошла с лица Басилла. Он понял серьезность намерений Суллы.
Консуляр встал. Лицо его стало торжественным, словно он не беседовал со своим подчиненным, а выступал в сенате.
— Можем ли мы позволить тем, кого разбили на поле боя, торжествовать в папирусных свитках. Должны ли мы оставить в их руках каламос, которым движет злоба и месть. Разве римляне, победившие всех этих грекулов, не могут дать им урок? Но с чего должна быть начата история?
Сулла сделал паузу.
— С описания героев. Помнишь, как это делает Гомер. «Гнев богиня воспой Ахиллеса Пелеева сына». Я начну свою историю с описания гнева Митридата, которому не давала покоя слава римлян. Жаль только, что я не представляю его себе. Говорят, он высок ростом и силен, как бык.
— Я могу тебе помочь! — неожиданно проговорил Басилл. — Нет, не в написании истории. Я покажу тебе Митридата.
Легат разжал кулак. На ладони блеснул перстень. Сулла наклонился. Он сразу заметил, что в оправу вставлен резной камень серовато-дымчатого цвета. На гемме вырезана голова с разметавшимися волосами, скрепленными диадемой. Резко поднятые брови, образовывавшие складку на лбу, придавали лицу черты взволнованности и торжественного пафоса.
— Откуда он у тебя? — спросил полководец, перекладывая перстень в свою ладонь.
— Я, как ты приказал, отпустил друзей Архелая, а Аристиона приказал привязать к столбу. Тогда-то Атей заметил, что у него на пальце что-то блестит. Он хотел отнять у него кольцо. Но философ поднял крип. Он вопил, что бесчеловечно лишать почти мертвеца самого ему дорогого. Я приказал Атею оставить его в покое. Перстень был снят с руки мертвого.
— Что же, — сказал Сулла. — Я слышал, что вещи казненных приносят счастье.
Кормчий поднял руку. И тотчас же дружно ударили весла, их лопасти вошли в воду и, оттолкнувшись от нее, бросили триеру вперед. Голубая полоса отделила корабль от берега, затянутого дымом. Языки пламени поднимались над арсеналом, но пожар, видимо, уже ослабел.
На глазах у Архелая выступили слезы. Год жизни он отдал Пирею. И какой это был год! Римляне не давали покоя ни днем, ни ночью. Их тараны крошили камни стен, как скорлупу ореха. Но словно из-под земли поднимались новые укрепления. Битва шла в подкопах под стенами и даже на дне бухты между водолазами. Это было состязание в хитрости и упорстве, достойное войти в летопись великих осад. И когда уже враг оттеснен за старые Перикловы стены, когда заделаны бреши и засыпаны подземные галереи, приходится покидать эту землю, обильно политую кровью. К чему Пирей, когда пали Афины.
Триеры уже огибали Саламин, видевший славу Фемистокла. Ее призрак заставил афинян взяться за оружие. И все окончилось кровавым кошмаром.
ХЕРОНЕЯ
К северу от Турийских гор вплоть до Кефиса, несущего свои студеные воды в Копаидское озеро, простиралась гладкая, лишенная растительности, равнина. Говорят, что она приглянулась самому Аполлону, и он отдал ее своему сыну Херону, основавшему Херонею. Где здесь ни копни, наткнешься на кости, обломки оружия и доспехов. Здесь одержал победу македонский царь Филипп — и берега Кефиса стали кладбищем эллинской свободы. Здесь же двести пятьдесят лет спустя скрестили оружие Сулла и Архелай.
Запереть Суллу в Аттике — такова была цель Архелая, тем более осуществимая, что понтийские корабли блокировали побережье. Конечно, до возведения укреплений Сулле не трудно было выйти из Аттики. Но с военной точки зрения это казалось безумием. Теснины суровой Аттики давали римлянам защиту, а в открытых равнинах Беотии римская пехота могла быть легко смята и рассеяна понтийской конницей и колесницами.
И все же Сулла поступил вопреки расчетам Архелая. Римским полководцем руководило не божественное предвидение, как он объяснял впоследствии в своих «записках», а суровая необходимость. У Суллы иссякло продовольствие. Чтобы избежать голода и лишений, он вышел в Беотию и, обойдя понтийское войско, занял холм на равнине, к северу от Херонеи. Здесь он соединился с легионом Гортензия, прошедшим из Фессалии тропами Парнаса.
В ту ночь никто не сомкнул глаз. Римляне разожгли костры, и багровые тени метались по их усталым лицам. Легионеры с тревогой всматривались в мглу, откуда слышали храп коней и звон оружия. Враг готовился к решающему сражению. Царь прислал Архелаю подкрепление, а Сулле никто не окажет помощи. Сенат поставил его вне закона. Два легиона под командованием Фульвия Флакка, вместо того чтобы стать под начало Суллы, прошли прямым ходом в Азию, чтобы там воевать с Митридатом. И какой смысл всех этих побед, если сокровища Пергама и Синопы достанутся тем, кто все это время проводил в цирке и на форуме, кто не знал осады Афин, не перенес опасностей Херонеи!
Чувствуя настроения воинов, Сулла обходил манипулы. Факел освещал его высокий, изрезанный морщинами лоб, щеки, покрытые наростами, и глубоко сидящие, проницательные глаза. С одними консул шутил, рассказывая им о забавных проделках мимов, спутников своей беспутной юности. И не было в этих рассказах ничего нарочитого, словно полководец коротал время в кругу людей, равных ему по возрасту и положению. С другими он заводил серьезный разговор о справедливости древних законов. Собеседники, польщенные доверием, делились с Суллой мыслями и сомнениями.
Незаметно наступило утро. С высоты холма открывалась равнина, усеянная вражескими полчищами. Она напоминала огненное колыхающееся море. Живые волны перекатывались от Турийских гор и с берега Кефиса, обтекая белые домики и черепичные крыши Херонеи. Шлемы с перьями, латы, щиты, поножи, оружие, украшенное золотом и серебром, мидийские и скифские одеяния — все это волновалось и двигалось, создавая устрашающую картину. Воздух не вмещал многоголосого гомона, ржания коней, звона оружия.
Выведя воинов па ровное место, Сулла разделил их на две группы. Правую он взял себе, а левую доверил осторожному Мурене. Запасные когорты велитов он перебросил в тыл, поручив их пылкому Гортензию.
Архелай поставил впереди снабженные серпами колесницы, на второй линии — македонскую фалангу, на третьей — вооруженные по римскому образцу вспомогательные отряды. С обеих флангов стояла конница.
Одним броском римское войско преодолело пространство, отделявшее его от серпоносных колесниц. Сулле было известно, что на близком расстоянии колесницы не опасны, так же как и стрелы при слабом натяжении тетивы.
Так это и случилось. Первый ряд колесниц, пущенный против римлян, не смог пробить их строя.
— Давай еще! — кричали осмелевшие легионеры. — Гони!
Они свистели и хлопали в ладоши, словно находились не на поле боя, а во время конских ристаний, когда одна за другой мчатся биги и квадриги.
Новый ряд колесниц, брошенный вправо, натолкнулся на частокол, предусмотрительно возведенный Суллой. Возницы повернули коней назад и едва не расстроили фалангу.
Поняв, что от колесниц толку не будет, Архелай дал знак гоплитам. Они двинулись шестью шеренгами по пятьдесят воинов в каждой. Сариссы задней шеренги ложились на плечи передней шеренги. Щиты образовывали прямую линию. Пилумы были бессильны против этой железной стены. Побросав их, римляне схватились за мечи. Они стремились выбить сариссы из рук гоплитов и сразиться с ними врукопашную. Они знали, что оружие находится в руках недавних рабов, получивших свободу из рук Митридата.
— Эй, запорю! — кричал Атей, размахивая мечом как плетью.
Он был уверен, что рабы по своей природе трусливы, и страх перед наказанием у них в крови.
Но вопреки этим басням освобожденные рабы сражались, как львы.
Между тем Архелай вытягивал правый фланг, стремясь окружить римлян. Гортензий обернул своих велитов и пустил их беглым маршем. На это и рассчитывал Архелай! Он бросил конницу в разрыв между когортами Гортензия и левым флангом римлян.
Видя это, Сулла направил на помощь Мурене Гортензия с четырьмя когортами, а сам поспешил на правый фланг, сдерживавший натиск Архелая. С появлением Суллы правофланговые Архелая дрогнули и обратились в бегство.
Когда были смяты оба крыла понтийского войска, не удержался и центр. Бегство стало всеобщим. Некоторые пытались найти спасение на холмах, окружавших равнину, и, обезумев, карабкались по почти отвесным скалам, срывались и разбивались насмерть. Это зрелище потрясло воинов, находившихся в понтийском лагере. Не подчиняясь более своим командирам, они бросились к перешейку, отделявшему Копаидское озеро от моря. Они не знали, что перешеек покрыт непроходимыми болотами от разливов Кефиса и его притоков. Беглецы тонули, испуская вопли на неведомых языках. Весь следующий день легионеры собирали щиты, украшенные серебром и золотом, панцири, залитые кровью, шлемы, мечи и копья.
В тот же день к лагерю подъехала повозка, запряженная двумя мулами. В женщине, спустившейся с помощью воинов, Сулла узнал свою супругу Метеллу. Из ее сбивчивого, сопровождавшегося рыданиями рассказа он понял, что дом и загородное имение сожжены врагами, а ей удалось с помощью верных рабов выбраться из города и вывезти детей. Ненависть ослепила Суллу. В то время, как он здесь побеждает недругов Рима, там уничтожают его добро, преследуют близких и друзей.
— Лукулл! Лукулл! — закричал консул. — Собирай войско. Мы отправляемся в Рим.
Квестор дождался, пока Сулла выльет свою ярость, и подал ему свернутый и запечатанный лист папируса.
— Ого! — воскликнул Сулла, пробежав письмо глазами. — Как это к тебе попало?
— От делосского купца. Ты знаешь, эти людишки липнут к добыче, как осы к меду. Но мне кажется, что его вовсе не интересовали рабы. Он даже не спросил о цене, которую ты назначил за пленников.
— Ты прав, Лукулл. Его интересует другое. Ведь ото был гонец Архелая.
ЦАРСКИЙ ГНЕВ
Они встретились втайне от всех, разбитый стратег и оставленная жена. Враждебные друг другу в дни своих успехов, они были объединены поражением. Их связали невидимыми нитями ревность и отчаяние, ненависть и страх.
— Архелай! — с невыразимой горечью молвила Лаодика. — Моя Херонея не оставила мне никаких надежд. Меня променяли на дочь горшечника! Монима! Сколько змеиного яда в этом имени!
— Раньше были другие имена, — отозвался Архелай. — Роксана, Стратоника. Я не запомнил их. Но ведь тогда Митридат был иным.
— Другим было достаточно его мужской силы или золота. Она одна потребовала диадему, — упрямо твердила Лаодика. — Эта женщина околдовала его. Ты один можешь спасти царство.
— Я уже это слышал. И знаешь от кого? От Суллы! Римлянин считает, что в моих руках нити мира и войны. Я не стал его разубеждать, но ты должна знать всю правду. Моя жизнь отдана Митридату. Еще юношей я сражался в его войске против скифов, а потом возглавил скифов в борьбе с римлянами. Я защищал его интересы в Комане и Риме. Был посредником и послом. Но победа, достигнутая в Азии, стала источником бед. На моих глазах чернь Эфеса растерзала римлян. Я не мог этому помешать. Я должен был делать вид, что считаю его решение мудрым. Иначе меня бы постигла судьба Диофанта. Потом на моих глазах произошла агония Афин. Митридат устранил меня от управления городом, передав его Аристиону. Мне была поручена лишь охрана Афин. И вот я оказался в Херонее. Митридат обезумел. Он хочет себе воздвигнуть памятник на трупах и на крови.
— Что же делать? — простонала Лаодика.
— Не спрашивай! Ты знаешь сама!
Лаодика отпрянула. Вскинутые кончики губ на потемневшем лице придали ему выражение удивленной растерянности древних статуй, которыми когда-то украшали портики храмов.
— Тебя это пугает? — продолжал Архелай. — Вспомни о матери, оставившей тебе свое имя. Оно взывает к мести! Ты сохранишь царство для своих сыновей, которых предал отец. Ты станешь доброй матерью для своих подданных. Твое чело увенчают веткой мира…
Лаодика вскинула голову.
— Я согласна! — почти крикнула она. — Где твой яд?
Весть о новом злодеянии Митридата обошла всю Азию: царь убил сестру и супругу, мать своих детей Лаодику. По мнению одних, на это толкнула его новая возлюбленная Монима. Другие уверяли, будто из ревности Лаодика пыталась отравить соперницу и была поймана на месте преступления.
Как бы то ни было, по всем городам, захваченным Митридатом, прокатилась волна арестов: искали пособников Лаодики. В первую очередь были схвачены те, кто в «кровавые нундины» помогал скрываться преследуемым римлянам или кто недостаточно рьяно исполнял царский приказ. Под пытками, производившимися в присутствии царя, несчастные признавали свою вину и оговаривали своих близких. В течение месяца было казнено более полутора тысяч «отравителей», так в простом народе называли приговоренных к смерти.
Одновременно Зенону, пользовавшемуся особым доверием царя, было поручено тайно подвести корабли к берегам богатого и многолюдного Хиоса. Царь давно уже затаил против хиосцев гнев. Как-то их триера в сутолоке боя ударила в его корабль и нанесла ему повреждение. Тогда были наказаны кормчие, теперь вина возлагалась на всех жителей острова. Отобрав у хиосцев золото, серебро, драгоценности, Зенон посадил их на корабли и увез в Колхиду.
Так опустел Хиос. Засохли лозы, дававшие сладостный сок, за которым сам Зевс-Громовержец посылал виночерпия Ганимеда. Говорят, что хиосцам было разрешено взять с собою отростки своих лоз, и на суровых скалах Кавказа они разбили виноградники. Их новое вино потеряло сладость и приобрело терпкую горечь слез, пролитых в тоске по навсегда утраченной родине.
Потом царский гнев обрушился на галатов, давно уже подозреваемых в сочувствии римлянам. Их правители были приглашены на традиционный пир во дворец. Это считалось знаком царской милости. Не догадываясь о коварном умысле Митридата, царьки прибыли в Пергам вместе со своими семьями. В темных коридорах дворца их ждала засада. Они были заколоты вместе со своими женами и детьми. Те же, кто ушел от подосланных убийц, погибли на пиру от яда.
Страх перед преследованиями и казнями превратил воображаемые заговоры в реальные. Восстали эфесцы. Разбившись на отряды, они вывезли из окрестных селений все продовольствие, укрепили стены и стали готовиться к осаде. Примеру эфесцев последовали жители Тралл. Галаты, потерявшие своих правителей, избрали новых и изгнали из своей страны царские гарнизоны.
Пользуясь всем этим, римская армия, возглавляемая врагом Суллы Фимбрией, перешла в наступление. В течение нескольких дней пала главная твердыня Митридата — Пергам. Опасаясь, что трофеи войны достанутся его врагам, Сулла через Архелая возобновил свое предложение о мире. На этот раз оно было принято.
ДАРДАНСКИЙ МИР
Они встретились в первый день месяца, который римляне называют сентябрем, а афиняне боэдромием, на земле древней Дардании. Нещадно палило солнце, и пространство, отделявшее Азию от Европы, казалось, было заполнено расплавленным свинцом. В нем застыли понтийские дикроты и катафракты с безжизненными парусами, и одна лишь трирема с консульскими знаками на флаге скользила к бухте, заполненной людьми.
Друг против друга выстроились прибывшая еще на рассвете римская когорта и отряд понтийских всадников. На склоне холма прямо над бухтой раскинулся пурпурный царский шатер. Оттуда вышел, встреченный любопытными взглядами римлян, человек в темно-синем гиматии. Высокий, с широкими плечами и узкой талией, он скорее был похож на атлета, чем на царя, проводящего время в празднествах и наслаждениях. Почему же он доверил армию и флот своим стратегам? Почему он не вел их сам? Ведь позор поражений все равно лег на него!
К берегу причалила консульская трирема. Медленно упали сходни. По ним спустился римлянин в шлеме с красным пером. Простые самнитские доспехи обнимали его плотное тело.
— Сулла! — пронеслось по рядам римских всадников.
Это был тот римский полководец, который после долгой осады взял и разграбил Афины, а до этого захватил свой родной Рим, человек, считавший себя баловнем счастья, коварный и жестокий Сулла.
Выйдя навстречу Сулле, Митридат протянул ему руку. Быстро пожав ее, Сулла сразу перешел к делу:
— Я пришел спросить тебя, готов ли ты вернуть римскому народу провинцию, а Никомеду и Ариобарзану их царства?
Это было условие мира, согласованное в переговорах между Суллой и Архелаем. Митридат против него не возражал. Но у пего не было сил ответить этому римлянину с лицом, покрытым неровной красной сыпью.
Митридат с трудом опустил голову. Казалось, что она из свинца. Одним движением головы он отдавал Вифинию, Каппадокию, Азию.
— Ты начал войну, — продолжал Сулла. — По твоему приказу в городах Азии убито восемьдесят тысяч мирных римлян и италиков. Готов ли ты выплатить компенсацию?
Митридат мог бы напомнить Сулле, что война начата не им. Она была открыта тогда, когда хитростью и обманом римляне завладели Пергамом и Азией. «Мирные» римляне десятилетиями грабили эллинов и продавали их в рабство. Разве смертный может приказать морю, чтобы оно разразилось бурей?
— Готов ли ты передать мне флот, находящийся в Эгейском море, все корабли, которыми командует твой стратег Архелай? — продолжал Сулла.
Митридат стиснул зубы. Он вспомнил, как из хаоса бревен, досок, кулей рождались «Амфитрита», «Медуза», «Аристо», «Миттина», «Роксана», как они под приветливый рев толпы спускались в море, как ветер наполнял своим могучим дыханием их паруса. Передать корабли — все равно что выдать насильникам дочерей. Почему он не поджег, не потопил их?
Митридат резко вскинул голову.
Сулла, желая его остановить, поднял руку.
И Митридат увидел перстень, подаренный когда-то Аристиону. Кровь ударила в виски. Он вспомнил гавань, залитую дождем, человека в рваном гиматии, безмолвную толпу. Разве он, Митридат, рассказывал о Бухте Мудрости? И люди, которые слушали затаив дыхание, были подкуплены? Никогда так остро Митридат не чувствовал своей вины. Он не помог Аристиону, ждавшему его до последнего часа.
— Я принимаю твои условия, император, — сказал Митридат, опуская взгляд. — Ты получишь Азию, а твои союзники Вифинию и Каппадокию. Я передам тебе три тысячи талантов и семьдесят кораблей. У меня к тебе лишь одна просьба. Возврати перстень, украшающий твою руку. С ним у меня связано воспоминание о моем первом учителе Диофанте и о человеке, красноречие которого меня когда-то потрясло.
— Я сожалею, царь, — ответил Сулла, пряча правую руку за спину. — Но перстень мне дорог как трофей осады Афин и как амулет, доставивший победу. Я буду хранить его и как память о встрече, которая принесла нашим народам мир.
Митридат повернулся и широко зашагал к своему шатру. Сулла удивленно смотрел царю вслед. Вопреки ожиданиям, этот азиат оказался сговорчивым. Он не оправдывался, не произносил длинных речей. Может быть, он понимает, что легко отделался, сохранив свои владения и свое войско? Или последнее слово все еще осталось за ним?
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЯД ПАМЯТИ
Пир был в разгаре. Слуги разносили жареных фазанов. В перьях из теста, облитых глазурью, на подстилке из ароматных трав и листьев птицы колхидских болот выглядели живыми.
Но тот, кому хотели угодить царские повара, был равнодушен к их искусству. Тот, об аппетите которого ходили легенды, не притронулся в тот вечер ни к одному кушанью, не выпил ни глотка вина. Из блюда с фазанами он взял лишь травку, узенький зеленый стебелек.
Стиснув его зубами, Митридат ощутил кончиком языка, а затем и всем существом, прошлое. Словно уполз туман времен, и рядом возникло лицо, пересеченное шрамом. Оно медленно поворачивалось, наклоняясь над ним. И снова он слышал: «Хочешь царствовать — глотай!»
Яд памяти — опаснейший из ядов. От него нет противоядия. Он гнездится в глубинах мозга годами и десятилетиями, не давая о себе знать. Но внезапно пробуждается та кристальная ясность, которую может дать только яд. Оживает давно забытое, невозвратимое. И человек предъявляет к себе беспощадный счет.
Что сделано тобою за эти годы, за эти десять лет? Ты построил новый дворец. Породил на свет еще троих сыновей. Увеличил коллекцию гемм, приобрел новые статуи и картины. А то, к чему ты так страстно стремился в юности? То, к чему шел сам и вел других? Кажется, никто не помнит о твоем позоре. Но разве ты забыл о тех кораблях? Их паруса сжались, как крылья подстреленных птиц. Ты приказал отдать их врагу. Твой язык не примерз к гортани. А города, встречавшие тебя цветами? Чем ты их отблагодарил? Краска стыда не заливает твоего лица. Ты стерпел и эту пощечину.
Царь обвел все вокруг просветленным и яростным взором. Главные друзья и друзья, придворные, гости склонились над блюдами. Оплывшие глаза ничего не выражают. Все наслаждаются благами мира. Никому нет дела до того, что Никомед завещал свое царство Риму и римские триремы стоят в преддверье Понта. Рим могуч и непобедим! Война с ним — безумие! Все пароды поняли ото и смирились! Теперь с римлянами воюют одни лишь римляне!
Митридат ударил по столу с такой силой, что задрожали тяжелые серебряные подносы. Вино из фиалов фонтанами брызнуло вверх. Это был приступ ярости, непонятный тем, кто знал царя недавно. Что ему надо? Чем он недоволен? Может быть, иссякло золото в его сокровищницах? Или в его конюшнях мало породистых скакунов? Или — о боги! — его разлюбила Монима?
Выпрямившись во весь рост, он выкинул вперед огромную руку с зажатым кулаком:
— Берегись!
Это была старая македонская команда, заставлявшая когда-то замирать фаланги Филиппа и Персея, требовавшая от воинов внимания. Но в устах Митридата она звучала грозным предупреждением.
— Берегись! — повторил Митридат, всматриваясь в напуганные лица пирующих.
Один Неоптолем смотрел на него с радостным восхищением, узнавая прежнего Митридата, царя-воина.
КОРАБЛЬ ИЗ СИНОПЫ
Военный корабль «Тритон» принадлежал к быстроходным парусникам второго класса — дикротам. Гребцы сидели в два ряда. Борта не были покрыты медными листами, как у катафрактов. Судно было остроносым и низким, легким и стремительным — один взмах весел посылал его вперед на три корпуса. Сто таких кораблей насчитывал флот Митридата, но только «Тритон» избирался для особых поручений.
Это был корабль Неоптолема, старейшего из царских друзей. В годы, предшествующие Дарданскому миру, Неоптолем воевал с даками в устье Тираса и поэтому не был заподозрен в причастности к заговору эллинов или в поддержке Архелая. Там ему удалось добиться невозможного. С небольшим отрядом он разбил полчища варваров и, как трофей своей победы, воздвиг на песчаной полосе, отделяющей Понт Эвксинский от лимана Тираса, башню. Она получила его имя.
Неоптолем смотрел на удаляющийся берег. Снова и снова он возвращался к последней беседе с царем. Пересечь все Внутреннее море незаметно для римлян! Уже это одно требовало удачи. Но мало доплыть до Испании. Надо отыскать там Сертория, не попасться на глаза его противникам. Но и это еще не все! Надо убедить Сертория, что Митридат ведет честную игру, заручиться его поддержкой.
Ситуация во многом напоминала ту, которая сложилась в конце последней войны с Римом. Тогда в Азии оказалось сразу две римских армии, армия нобилей и армия популяров. Никто из этих противников не хотел уступать права воевать с Митридатом.
— Эге-е-е!.. — послышалось над головою Неоптолема.
Караульный предупреждал об опасности.
Повернувшись, Неоптолем увидел справа по борту флотилию. Это были небольшие однопалубные корабли наподобие камар. Здесь их называют миопаронами.
— Пираты! — кричали матросы.
Послышался топот босых ног, скрип рей и канатов, хлопанье паруса.
Кормчий направлял дикрот к берегу, надеясь выброситься на песок. Но пираты поняли эту нехитрую уловку. Три миопароны обошли судно и отрезали его от берега.
Ужас охватил матросов. В отчаянии греки молились Посейдону. Неоптолем спустился в каюту. Когда он поднялся наверх с каким-то свертком в руках, миопароны уже окружили триеру, как лаконские псы оленя. Неоптолем видел лица разбойников, сверкавшее в их руках оружие.
Сильным движением он поднял сверток, и ветер раздул алое полотнище с серебряным месяцем и звездой.
Прошло несколько мгновений, и на ближайшей миопароне выбросили что-то белое. Обычно так поступали те, кто отдавался врагу на милость. Но вряд ли можно было думать, что пиратов напугал флаг Митридата. Наверное, это знак их мирных намерений. Прошло еще несколько минут, и с миопароны был спущен челнок. Посланец пиратов ловко греб веслами и с такой же ловкостью поднялся на палубу триеры по сброшенному ему канату.
Лицо пирата показалось Неоптолему знакомым. Но где он мог видеть этого человека? Пират тоже удивленно смотрел на наварха и неожиданно бросился ему в ноги.
— Прости меня, доблестный наварх, что я напал на твое судно! Ведь я не мог знать, что оно принадлежит моему спасителю — царю царей Митридату Евпатору.
Он торопливо сунул правую руку под пурпурную тунику, и Неоптолем увидел на его крепкой ладони золотой статер.
— Евкрат, это ты! — вскрикнул Неоптолем. — Или меня обманывают глаза?
— Нет, они тебя не обманывают, — сказал вифинец, обнимая ноги Неоптолему. — Да, я Евкрат. Рыбак, воин, а ныне, как видишь, архипират.
— Завидная метаморфоза! — сказал херсонесит, поднимая Евкрата. — Но как это произошло?
— О, это очень длинная история! Скажу тебе только, что с тех пор, как мой благодетель Митридат вернул мне свободу, я служил трем полководцам. — Он растопырил ладонь левой руки, на которой было всего лишь три пальца. — Манию Аквилию. — Он загнул мизинец, черный от смолы. — Наместнику Киликии Октавию. — Он загнул безымянный палец. — Фимбрии. — Он загнул палец, называвшийся когда-то средним. — Каждый раз мне удавалось бежать, прихватывая кое-кого из воинов. Но потом Азию захватил Сулла. Он продал в рабство жителей моей деревни за неуплату долгов. Я рубил лес для римских трирем в горах Фракии. Пять лет не видел моря и уже начал забывать, как шумят волны. Я стал зверем, заросшим и косматым, как медведь. В дождливые дни мы играли в кости. Мне выпала собака. Я их проиграл. — Он поднял ладонь с обрубленными пальцами. — Потом мне удалось бежать. Началась вольная жизнь. — Его лицо расплылось в широкой улыбке. — Помню, как мы высадились в Италии. Претер Антоний послал против нас флот и потрепал наших лошадок. — Он показал на миопароны. — Решили мы ему отомстить. Забрали мы его сестру. После этого я вверх пошел. На другой год меня архипиратом выбрали. Вот и плаваю. За мою голову награда назначена: пять тысяч золотых! Сначала думал я сам ее за себя внести, откупиться, — он улыбнулся, показав кривые зубы, — а потом думаю: зачем? Пусть ищут! А ты как будто тоже свое ремесло переменил? — спросил он Неоптолема.
— В море спокойнее.
— Вот-вот! — подхватил пират. — Я тоже так считаю. В море ты сам себе хозяин. И не ты перед богами дрожишь, а они трепещут. И готовы тебе все свои сокровища выложить.
— Оставил бы ты богов в покое, — укоризненно сказал Неоптолем. — Нам надо с людьми разобраться. Ты слышал, что царь Никомед умер?
— Подох, собака. Вот кого бы я на рее вздернул! Из-за него все началось.
— Перед смертью, — продолжал Неоптолем, — Никомед завещал свое царство римлянам, и консул Аврелий Котта тотчас же передвинул флот к проливам. Теперь у римлян все Внутреннее море от Боспора до Геракловых Столбов.
— Нет, — возразил пират, — столбы у Сертория. Клянусь Посейдоном, ты ведь к нему плывешь!
— Не буду от тебя скрывать: меня посылает к Серторию Митридат. Царь надеется, что я сумею договориться с этим римлянином, и тогда мы ударим на Италию с двух сторон. Третья же остается тебе.
Он широким жестом показал на море.
— Не мои это воды, — отозвался пират. — Теперь они Седому достались. Вот если бы Спартак в Африке восстал…
— О чем ты говоришь? Седой, Спартак… Что это за люди?
— Седой — такой же, как я, царь морских людей. Только его владения к северу от Сицилии, а мои к югу. Мы друг к другу не заходим. Спартак же гладиатор! Он Риму войну объявил и рабам свободу дал.
Неоптолем взволнованно заходил по палубе.
— Знай об этом Митридат, он послал бы меня не к Серторию, а к Спартаку. А ты бы мне встречу с Седым устроил.
— С Седым! — воскликнул Трехпалый. — Да он тебя римлянам на второй день выдаст. Когда его еще Чернобородым звали, он им пятки лизал.
— Чернобородым! — вскрикнул Неоптолем. — И еще папой Хароном. Вот оно что! Мне повезло, что я в твои воды попал.
РУКА МИТРИДАТА
С нескрываемым любопытством Неоптолем смотрел на своего собеседника. Этот одноглазый римлянин был одним из тех людей, которые при жизни входят в легенды. Спасаясь из пламени гражданской войны, он бежал на острова Блаженных, а по пути всколыхнул всю Испанию.
Серторий с неменьшим интересом разглядывал царского посла. Он и раньше слышал об его удивительной победе на льду Боспора Киммерийского. Этот посол — признак серьезности намерений Митридата.
— Я не мог тебя встретить, — сказал Серторий. — Побережьем владеют враги. Они задерживают купцов, чтобы лишить меня оружия и припасов. Удивляюсь, как тебе удалось высадиться и сохранить корабль.
— О! Мои друзья знают это побережье не хуже, чем твои — тропы в горах. У них быстрые корабли и опытные кормчие. Тебе надо бы иметь свой флот.
Серторий улыбнулся.
— Могу ли я об этом мечтать!
— Митридат пришлет тебе сорок дикротов! — произнес Неоптолем. — Он протягивает дружескую руку через горы и моря в надежде, что ты ему ответишь тем же.
Серторий вспомнил, что незадолго до Марсийской войны в Риме только и говорили, что о «руке Митридата». Любое недовольство и возмущение приписывали этой мифической «руке». А теперь он уже видит ее пальцы.
— Чем я отвечу на этот щедрый дар? — Серторий перешел на патетический тон, чтобы скрыть свое беспокойство. Он не верил в бескорыстие царей.
— Провожая меня, Митридат сказал: «Хорошо бы соединить наших иберов!» Это была шутка. У моего повелителя нет недостатка в воинах. Он ищет друзей, ибо, как говорят кавказские иберы: «Есть у тебя рука — возьми кинжал, есть у тебя кинжал — добудь жену, есть у тебя жена — построй дом, есть у тебя дом — отдай другу».
Серторий улыбнулся:
— Мой дом в Сабинских горах. У меня нет жены. Я мог бы дать коня, но, кажется, легче было Гераклу пригнать в Микены быков Гериона, чем тебе доставить моего Кайкия в Синопу. Вот мой подарок!
Он вынул из ножен на поясе кинжал и, как бы взвешивая его на ладони, протянул Неоптолему. Серебряная рукоятка была украшена двумя лентами изображений: на верхней — фигурки грифонов тончайшей работы, на нижней — головки львов, разделенные какими-то знаками или буквами.
— Митридат собирает древнее оружие, — сказал Неоптолем, почтительно принимая подарок. — В его коллекции меч Кира с рукоятью, украшенной сапфирами, и золотое копье Александра. Я ему доставил булаву царицы саков Тамары. Теперь у него появится кинжал Сертория.
— Это оружие Аргантония. Так, во всяком случае, уверили меня иберы. Они раскопали могильный холм в устье Бетиса, где когда-то стоял крепкостенный Тартесс.
— Кинжал Аргантония! — воскликнул Неоптолем с восторгом. — К тому же древняя надпись! Помнится, мы проходили через землю галатов. Там, на скалах, высечены фигуры, стершиеся от времени. Под ними надписи, похожие на следы когтей каких-то чудовищных птиц. Надо было видеть, как Митридата они притянули. С трудом удалось увести мне его. А потом он меня долго корил, что я не дал ему изучить языка хеттеев. Ибо рисунки и надписи оставлены хеттеями.
В открытый полог шатра просунулась взлохмаченная голова.
— Она пришла! — раздался ликующий крик варвара.
Серторий растерянно взглянул на гостя.
— Мне надо идти! — сказал он, как бы извиняясь. — Но мы вскоре продолжим нашу беседу.
Уловив на лице Неоптолема тень неудовольствия, Серторий добавил:
— Ты можешь идти со мной, если хочешь.
— А я не помешаю твоему свиданию? — спросил Неоптолем нерешительно.
Серторий расхохотался:
— Пойдем!
Нет! Это не видение, не призрак. Со скалы, перебирая ногами, тонкими, как струны, спускалась белая лань. Ее не пугали вооруженные люди и кони. Воины, в которых Неоптолем узнал иберов, стояли как зачарованные, боясь пошевелиться. Один лишь Серторий вел себя так, как будто ничего не произошло. Его правая рука опустилась па шею животного. И если бы не подбежал Неоптолем, Серторий мог бы прижать к груди голову с кроткими изумленными глазами.
Римлянин, кажется, даже не понял, что Неоптолем спугнул животное. Он шепнул ему:
— Смотри!
Неоптолем оглянулся. Иберы стояли на коленях в молитвенных позах. Многие протягивали к Серторию руку, словно к богу.
— Мои друзья ненадежны, — сказал Серторий гостю, когда они остались одни. — Это храбрые и мужественные люди. Но для них я останусь римлянином. И если бы не лань, может быть, они давно бы покинули меня. Их удивляет любовь ко мне животного, которого они считают священным за его редкий белый цвет. Они не знают — надеюсь, ты не выдашь им этой тайны? — что три года назад, охотясь в горах, я подстрелил лань, а детеныша вскормил в пещере.
— Обещаю, что этот секрет буду хранить так же свято, как и другие твои тайны. Того же я жду от тебя. После долгих раздумий мой господин решил возвратить земли, незаконно у него отнятые римлянами.
Серторий насторожился. Теперь он понял замысел Митридата.
— О каких землях идет речь?
— О Вифинии и Азии.
— Это исключено! — сказал Серторий. — Азия никогда не принадлежала Митридату. Это владения аталлидов. Вифинию уже нам завещал Никомед.
— О боги! — воскликнул Неоптолем, отступая па шаг.
— Что тебя удивляет?
— Я представляю себе, как бы ты разговаривал со мной, находясь не в этой горной глуши, а в сенате. Пусть Вифинией владеет сын Никомеда. Что касается Азии, то царь добивается, чтобы из нее были изгнаны его враги. Тебе бы он оставил Азию, как наши иберы отдают друзьям дом.
— Вот и прекрасно! — сказал Серторий. — Я пошлю с тобою Легата, чтобы он принял Азию.
У Неоптолема перехватило дыхание. Он не рассчитывал на такой оборот!
— Легата?
— Марка Магия. Это лучший из моих воинов. Те, кто сталкивались с ним на деле, называют его магом. Поистине он творит чудеса.
Не дожидаясь ответа посла, Серторий крикнул что-то по-иберийски.
Прошло несколько мгновений, и в шатер вошел воин невысокого роста. Взглянув ему в лицо, Неоптолем оторопел: у римлянина не было левого глаза.
— Теперь ты понимаешь, на какую я иду жертву, — пошутил Серторий. — Иберы говорят, что у нас два глаза на двоих.
— Зато у тебя будет свой глаз в Азии, — ответил Неоптолем шуткой.
СМОТР
Ипподром, в котором когда-то юный царь усмирил дикого коня, стал местом другого зрелища. По всему зеленому полю от ворот до меты выстроились воины в одеждах и вооружении тех стран, откуда они явились. Каппадокийцы были в пестрых хитонах с рукавами и панцирях из железных пластинок наподобие рыбьей чешуи. Они держали большие луки и короткие копья. Армении имели на голове медные шлемы, сплетенные из проволоки, и были вооружены медными щитами и дротиками. Меоты Олфака имели на голове остроконечные шапки из плотного войлока. Иберы были в черных высоко подпоясанных хитонах и шапках из шкуры барса. Тавры, одетые в овчины, потрясали изогнутыми скифскими луками и каменными булавами наподобие человеческих голов, которые они когда-то приносили в жертву Деве. Сарматы, называвшие себя царскими, были в кожаных безрукавках, опушенных мехом, и длинных кожаных штанах. У одних из них были железные топорики — клефцы — с острием в виде клюва цапли, у других — длинные, слегка изогнутые мечи, которыми было удобно рубить с коня. Ахейцы, считавшие себя потомками воинов Агамемнона, выставили перед собой продолговатые деревянные щиты с грубо намалеванными кораблями. Будто бы на этих судах они покинули берега Троады и, заблудившись, вместо благословенных Микен попали в теснины Кавказа. Одежда светловолосых гигантов — бастарнов, занявших низовья Данавия во времена Лаодики, напоминала фракийскую, но на головах у воинов были шлемы с рогами, а в руках копья с плоскими листовидными наконечниками.
Коренастый римлянин, обходивший строй рядом с Митридатом, крутил головой. Кажется, он был недоволен устроенным для него парадом. Он обратил к Митридату свой единственный глаз и бросил несколько слов на своем языке.
Царь остановился.
— Приказывай! — ответил он по-гречески. — Я передаю войско под твое командование, Марк Магий.
Римлянин обернулся и сделал знак воинам, стоявшим у повозки. Они сбросили холст и стали снимать и раскладывать на земле пилум к пилуму, щит к щиту, гладиус к гладиусу. Это было оружие римского легионера, простое и прочное, проверенное временем. О его мощи знали народы от Тага до Евфрата. Перед ним склонялись цари.
Магий отбежал к телохранителю Митридата Битаиту и снял с его головы шлем.
— Что ты делаешь? — воскликнул галат, ощутив прикосновение враждебного железа.
— Магий хочет тебя одеть римским воином! — пояснил Митридат.
А тем временем одноглазый подавал пилум и поножи.
Раздался глухой ропот. Воины поняли план нового командира: дать войску римское обличив. Но ведь к оружию привыкаешь, как к другу. С каждым шлемом, щитом, булавой связано столько историй, правдивых и маловероятных, что не хватит жизни для того, чтобы их выслушать. Оружие переставало быть листом меди или пластиной из стали. Оно становилось частью человеческой судьбы. Недаром, по древним обычаям, оно должно было сопровождать воина в царство, откуда нет возврата. И эта святыня объявляется никому не нужным хламом. Взамен проверенных, испытанных, пригнанных к телу и как бы сросшихся с ним доспехов надо надеть чужие, холодные, сияющие враждебным блеском латы, взять в руки гладиус, холодный и нескладный, не то кинжал, не то меч, надеть тяжелые, обитые гвоздями калиги.
Ипподром встревоженно гудел. Каппадокийцы, армении, фракийцы, галаты — все племена и народы, не желавшие подчиниться римской власти, не хотели принять римское оружие.
Магий пожимал плечами. Ему было непонятно возмущение воинов Митридата. Римляне охотно заимствовали все достойное подражания у своих врагов, и он мог бы указать, что в вооружении легионера принадлежит этрускам, а что галлам.
Митридат выхватил меч из ножен.
— Эй, вы! — крикнул он громовым голосом. — Кто не желает снимать свои доспехи, я сниму у того голову.
По ипподрому прошло движение. Зная, что Митридат в таких случаях не шутит, воины стали бросать на землю свое оружие и доспехи.
— Вот так! — сказал Митридат. — Можешь приступать к делу, Магий.
Все чаще Магий вспоминал наставления Сертория: «Ты отправляешься в Азию, в мир, где все наоборот». Прежде он не придавал этим словам значения, считая их шуткой. Теперь он понял, что против него в этой войне будут не одни лишь сулланцы.
КЛОДИЯ И КЛОДИЙ
Лукулл раскрыл цисту и, отбрасывая на стол золотые фибулы и браслеты, достал перстень. Медленно поворачивая его, он всматривался в каждую черточку на гемме. В памяти вставал образ Суллы, победителя Митридата. Теперь, когда вспоминают его имя, говорят о проскрипциях и казнях. Болтуны с ростр толкуют о мрачном и кровожадном тиране. Выдумали басню о гневе Аполлона, наславшего чудовищную болезнь за ограбление дельфийского храма. Забыли о том, что Сулла спас Италию от мятежей и раздоров, вернул сенату достоинство, рабам страх. Он был веселым и находчивым собеседником, человеком отчаянной смелости. Правда, в его поведении всегда ощущалось что-то загадочное. Верил ли он в свое счастье или создал легенду о нем, чтобы обмануть других. Этот перстень, отнятый у мятежника Аристиона, он считал своим талисманом и не захотел вернуть его Митридату. За несколько дней до кончины он призвал Лукулла к себе в ванную комнату (он не выходил из воды, чтобы унять нестерпимый зуд) и снял перстень со среднего пальца. Почему он призвал не Мурену, успешно воевавшего с Митридатом и мечтавшего о новой схватке с ним, не Помпея, которого он сам незаслуженно провозгласил Великим, а его, Лукулла? Было ли это случайным капризом или завещанием войны?
Сулла должен был понимать, что Митридат не удержится в границах Понта. Люди такого рода отравлены честолюбием и рвутся в бой, не соразмеряя своих сил. Уже старик, он думает о войне, заключает союзы, строит флот. Раньше ему помогали эллины, теперь римляне. Говорят, что Серторий принял царское золото и отправил в Синопу своего друга Марка Магия. Это опытный и талантливый начальник, не чета Котте, вообразившему себя властелином Вифинии. Захватив золото Никомеда, он унаследовал его спесь. Пример Мания Аквилия ничему его не научил.
Сзади послышались легкие шаги. В таблин вступила Клодия. В утреннем свете она казалась еще более привлекательной.
Вчера он высказал ей все, что накопилось у него на душе. Это были резкие и горькие слова. Он уличал ее во лжи, напоминал о ее былых прегрешениях. Казалось, разговор будет последним, и самолюбивая римлянка навсегда покинет этот дом. Но этого не случилось.
— Я узнала, — произнесла Клодия низким грудным голосом, — что жестокий Митридат похищает моего Лукулла. Тиренские трубы зовут его в поход. Но Клодия займет место среди воинов. Она пойдет за Лукуллом к Гирканскому морю, обучится скакать на коне, стрелять из лука.
Она откинула назад руку, словно натягивая невидимую тетиву. Упала стола, обнажив мраморную белизну плеч. Клодия — амазонка! Сам Митридат, этот ценитель женской красоты, захотел бы скрестить с ней оружие.
— Римляне не берут на войну жен, — сказал Лукулл.
В его голосе не было суровости. Сцена примирения была разыграна Клодией так очаровательно, что ей можно было простить притворство.
— Римляне оставляют жен на попечение пенатов, хранителей домашнего очага. И когда возвращаются, усталые и иссеченные шрамами, они застают жен за прялкой, а не с кифарами в руках, в окружении рабынь, а не поклонников.
Лениво потянувшись, Клодия положила на плечи Лукулла обо руки. От нее исходил густой запах кинамона. Это был дух царских покоев, дразнящий и дурманящий запах Азии, побежденной на полях сражений, но ставшей победительницей в домах сенаторов и консулов. Это была роскошь частной жизни, против которой боролся старик Катон на словах, содействуя ее торжеству на деле. Она пришла из заморских стран вместе с трофеями завоевательных походов и толпами чужеземных рабов. Это они, ловкие и лукавые эллины, пышнокудрые сирийцы, коварные египтяне, обучили Порций и Лукреций искусству высоких причесок и соблазнительных поз, пляскам, игре на кифаре, притворству.
— Ты оставляешь меня на попечение пенатов. Но кому я поручу тебя? Кто будет охранять тебя от вражеских стрел, от суровой непогоды? Кто поможет тебе преодолевать горы и бурные потоки? Я решила: с тобою пойдет Клодий. Он будет твоим телохранителем.
— Клодий? Телохранителем? Пусть он лучше стережет мое доброе имя здесь и не знакомит свою сестру со всякими бездельниками.
Клодия топнула ножкой. Ее личико покраснело.
— Валерий не бездельник, а великий поэт. А брат мой давно мечтает о ратных подвигах. Еще ребенком он слышал о тебе и твоем плавании в Египет. И когда ты посещал дом моего отца, он был твоим первым ходатаем.
— Хорошо! — молвил Лукулл, смягчившись. Ему было приятно, что равнодушная к делам Марса Клодия помнит об этом эпизоде. — Я возьму с собой твоего братца. Только пусть он не думает, что я его допущу в свой шатер. Пусть он подышит дымом солдатских костров, натрет мозоли. Тогда я сделаю его легатом.
Клодия обняла Лукулла.
— Я знала, что ты мне не откажешь. Благодарная Клодия клянется хранить тебе верность, как Пенелопа.
Она выбросила жестом легионера тонкую холеную руку. Блеснули ярко накрашенные ногти.
Лукулл расхохотался:
— А уроки твоего веронца? Ты думаешь, я их забыл?
Говорит она, что любит
Одного меня на свете,
И клянется: «Сам Юпитер
В этом будет мне свидетель!»
То, в чем женщина любая
Брату нашему клянется,
Написать в воде текучей
Или в воздухе придется.
К счастью, моя Клодия, — продолжил он после паузы, — я не удаляюсь, как Одиссей, на двадцать лет. Не позднее, чем через год, я проведу по Священной дороге самого враждебного и ненавистного из царей.
Клодия захлопала в ладоши.
— Как интересно! Я буду супругой триумфатора.
…На равнине у Брундизия происходили последние приготовления войска. Солдаты отрабатывали отражение атаки боевых колесниц. Это упражнение было новым и сложным, поэтому им руководил Лициний Мурена. Лукулл доверил ему обучение воинов, так как знал, что Мурена начал службу в легионе, которым командовал его отец, легат Суллы. Лагерь был для него родным домом. В свои тридцать шесть лет он уже имел пять наград за взятие городов.
— Раз! — кричал Мурена.
И солдаты отвели копье назад.
— Два!
Они выбросили его вправо.
— Три!
Копья задергались. Послышался смех.
Мурена обернулся в гневе и растерянности. Он увидел юношу, одетого и причесанного столь тщательно, словно он только что вышел из терм. Казалось, он пришел не в лагерь, а на прогулку или на свидание.
— Что тебе здесь надо, бездельник? — закричал Мурена.
— Меня прислал Лукулл, — молвил юноша, одергивая тогу. — Он сказал: «Направляйся к Мурене, пусть он проведет тебя сквозь копья!»
Солдаты затряслись от хохота. Этот желторотый птенец не знает, что пройти сквозь копья означает наказание палками.
Юноша покраснел. На глазах его выступили слезы. Он скинул тогу и остался в короткой тунике. Тело было крепким и загорелым.
— Что вы смеетесь, мужланы! — выкрикнул он, поднимая с земли чье-то копье.
Не торопясь, он отвел руку назад и с силой метнул его в тонкий столб, украшенный легионным орлом.
Копье впилось в центр столба и задрожало. Из уст воинов вырвался удивленный вздох. Этот юнец превратил в мишень лагерную святыню! Но какая меткость!
И в этот момент из-за оливковой рощицы, отделявшей лагерь от виллы какого-то сенатора, показался всадник на взмыленном коне. В том, с какой стремительностью он приближался, чувствовалось, что произошло что-то, сулящее перемены.
Выхватив из рук всадника свиток, Мурена пробежал его глазами. И через мгновение все поле огласил крик: «На корабли!» Его подхватили сотни ликующих голосов. Наконец-то наступило время, когда вместо утомительного учения можно попробовать свои силы в схватке с неприятелем, увидеть неведомые страны и города. Солдаты выбивали колья палаток, сворачивали парусину, сносили к преторию оружие и военные значки. Слышалось ржание коней, выводимых из стойл, кричали мулы.
— Что же ты стоишь, Клодий! — сказал Мурена, положив руку на плечо юноши.
— Откуда ты знаешь мое имя?
— Я знаком с твоей сестрой. Но об этом потом. За работу!
Лицо юноши радостно зарделось. Ему было приятно, что его уже считают своим…
С верхней палубы Клодий провожал взглядом удаляющийся италийский берег. Мелькнули белые камни островка Барр и скрылись за покатостью моря. В мыслях Клодия уже маячила Азия с ее горами и долинами, дворцами и храмами, с ее садами и гаремами. В плеске волн, хлеставших борта триремы, он уже слышал звон мечей и свист стрел.
— Эй! — послышался чей-то грубый голос.
Перед Клодием возникло круглое лицо с приплюснутым мясистым носом и толстой выпяченной нижней губой. Льняные волосы спускались на низкий лоб.
— Будем знакомы! — сказал солдат, протягивая руку. — Меня Феридием звать. Я из твоего манипула. Здорово ты им нос утер. Велика наука копьем крутить. Ты не из Лигурии, брат? Я слышал, там хлеба детям не дают, пока они его копьем за сто шагов не пронзают.
— Нет! Я римлянин, — ответил Клодий с улыбкой. — Я на Марсовом поле обучался, на берегу Тибра. Учителя меня хвалили. Но поверь, в столб я случайно попал.
— Не говори! Мне как-то в бабки большой куш выпал. Все говорили: счастливый случай! А я ведь биту свинцом набил.
Он расхохотался, обнажив редкие зубы.
— Случай случаем! Но, кроме случая, надо храбрость иметь. Вот уж я своего не упущу! Я с самнитами воевать начал. Ты скажешь, что с них, нищих, возьмешь. И то ведь такой серебряный кубок добыл, что сам Мурена, отец нашего легата, его захотел иметь. Отвалил он мне за него триста монет. Я слышал, что Митридат свои сокровища в пещерах держит. Вот бы нам с тобой на такую пещеру напасть!
Он подмигнул юноше.
Тот с изумлением смотрел на своего нового знакомого. Нет, не таким он представлял себе римского воина! Но что он знал о воинах и о войне?
ХАЛКЕДОН
Этот городок в прошлую войну был стоянкой понтийского флота. Отсюда дикроты и катафракты Архелая совершили прыжок в Пирей. И здесь же по условиям Дарданского мира они были переданы Сулле. Халкедон стал базой римских кораблей. А с тех пор, как царь Никомед передал свое царство римлянам, в Халкедоне обосновался консул Аврелий Котта, которому сенат поручил охранять Вифинию и Пропонтиду. Здесь он вынашивал свои планы войны с Митридатом, принимал посольства царей и городов. Казалось, все было уже готово для нанесения удара, когда гонцы принесли известие, что царские войска перешли через реку Галис и двигаются в направлении к Никомедии.
Котта решил, что настал его счастливый час. Собранный Лукуллом легион еще находится в Италии. Котте предстоит одному встретить Митридата, одному получить триумф. В предстоящей победе консул не сомневался, так как представлял себе пестрые полчища, оружие, изукрашенное золотом и драгоценными камнями, разноязыкие варварские вопли. Каково же было его удивление, когда с верхней площадки башни он увидел стройные колонны легионов. Да, это были настоящие легионы, хотя на древках вместо орлов были полотнища со звездой и полумесяцем. За полгода Марк Магий преобразовал царское войско, приучил его к повиновению.
Разработанный заранее план сражения рушился. Моряки, занимавшие укрепления впереди города, вместо того чтобы нанести удар во фланг царскому войску, бежали. Для их преследования царь выделил конницу бастарнов. Один вид этих светловолосых гигантов мог внушить ужас.
Беглецы скопились у стен Халкедона, рассчитывая укрыться в городе. Но Котта, опасаясь, что бастарны ворвутся внутрь, приказал держать ворота на запоре. На глазах у римлян, заполнивших городские стены, произошло истребление цвета их флота. Свист стрел и дротиков заглушался отчаянными воплями несчастных. Лишь нескольких человек удалось поднять на ремнях. Остальные, а их было три тысячи, устлали своими телами все пространство перед стенами. Чувство ужаса охватило осажденных. Собираясь кучками, солдаты осуждали консула, не пожелавшего вывести войско из этой ловушки. Все понимали, что Котта не захотел соединиться с Лукуллом, опасаясь, что придется делить с ним славу.
На этом злоключения осажденных не кончились. Следующей ночью ловец губок Креонт подплыл к медной цепи, загораживающей вход в гавань, и срезал ее пилой. Впоследствии царь наградил его золотым веслом и поставил во главе своих водолазов. В образовавшийся проход вошли дикроты Неоптолема и взяли на буксир римские триремы и квинквиремы. Все это произошло так неожиданно, что многие римские матросы опомнились лишь тогда, когда оказались за пределами гавани, в открытом море.
Утром, осматривая гавань, консул недосчитался шестидесяти кораблей. Страшнее, чем эта утрата, оказалась потеря престижа среди провинциалов. Назначенный охранять Пропонтиду от царского флота, Котта не уберег собственных кораблей.
В эти дни вифинцы приветствовали друг друга вытянутой рукой с согнутым указательным пальцем. Палец обозначал крюк, с помощью которого Неоптолем выудил из гавани Халкедона римские корабли. Этот жест стал паролем для всех, кто не забыл о Хресте и гелиополитах, кто искал дружбы с Митридатом.
МЕТРОДОР
И снова эллины приветствовали Митридата как освободителя. Можно ли было подумать, что в Вифинии столько городов, а в них столько его почитателей. Города открывали свои ворота, и если бы царь захотел их всех посетить, он задержался бы до осени.
Чтобы ускорить путь, Митридат свернул с главной дороги и стал объезжать города. Но и это не избавило его от одной встречи.
Заметив, что ему наперерез бежит человек в длинном гиматии, Митридат остановил коня.
— Будь счастлив, царь царей, на земле Скепсиса! — сказал незнакомец, отдышавшись.
У него было удлиненное лицо с высоким лбом и глубоко сидящими карими глазами. Рот с тонкой верхней и толстой нижней губой напоминал створку раковины.
— Как? — удивленно переспросил Митридат.
— Скепсиса, — повторил незнакомец. — Ибо таково имя города, который ты не захотел посетить. А меня зовут Метродором.
— Я сожалею, Метродор, что не слышал о твоем городе раньше, — улыбнулся Митридат, — ибо его имя заставляет предполагать, что в нем обитают одни философы.
— О нет, государь! Такого не бывает даже в государстве, созданном воображением Платона. Одним философам не просуществовать. В моем городе живут воины и торговцы, ремесленники и рыбаки. В общем, он ничем не выделяется среди других городов. Может быть, здесь о тебе знают больше, чем в других местах.
— Откуда такая осведомленность?
— Ты это поймешь, если последуешь за мной, — ответил Метродор, указывая в сторону города.
Вскоре они оказались у кладбища, огражденного квадратом кипарисов. Могильные холмы расположены по обе стороны дороги и, по обычаю эллинов, украшены мраморными плитами с надписями и изображениями.
— Вот! — сказал Метродор, останавливаясь около одной из плит.
Митридат посмотрел на эллина, внутренне сожалея о потраченном времени. Но, видя, с каким благоговением тот смотрит на могильную плиту, он решил спешиться и встал за спиной своего нового знакомого. Через его голову он прочитал:
— «Диофант, сын Асклепиодора, прощай!»
И вот он уже стоит на коленях перед покосившейся плитой и шепчет, припав к ней губами:
— Да видят боги, я сделал все, чтобы отыскать тебя, учитель! Мог ли я думать, что такой будет наша встреча!
— Последние годы своей жизни Диофант провел у нас в Скепсисе, — сказал Метродор. — Он имел многих учеников. Я был в их числе. Уже ослепнув, он диктовал мне историю твоего царствования и взял с меня клятву, что я ее передам тебе вместе со словами любви, которую он сохранял к тебе до последнего вздоха.
Метродор достал из-за края плаща свиток и передал его Митридату.
— Здесь ты найдешь рассказ о себе и людях, тебя окружавших, о тех, кто изменил и остался тебе верен, о сражениях, выигранных и проигранных тобою.
— Моя история там! — Царь показал на равнину, на море, сверкавшее, как расплавленное серебро. — Это еще чистая восковая табличка, табула раса, как ее называют римляне. Все еще впереди, в тумане. Вчера я разбил Аврелия Котту, но сегодня где-то во Фригии должен высадиться Лукулл. И пока мне нужны не историки, а воины.
— Но Диофант был воином и историком, — сказал Метродор. — Меч и стиль никогда не мешали друг другу.
— Может быть, ото так, — молвил Митридат, задумавшись. — В моем войске найдется место историка, если ты, брат, захочешь его занять.
— Ты называешь меня братом! — воскликнул Метродор.
— Да! Ты ученик Диофанта, ставшего мне отцом. И хотя твоя родина Скепсис, я верю тебе так же, как когда-то ему.
ПЕРВЫЙ УРОК
Якоря бесшумно погрузились в черную воду, и трирема задрожала всем корпусом, словно конь, почуявший узду. Сходни судорожно схватили берег, как бы желая его притянуть к кораблю. И замелькали силуэты, тени в шлемах, острия копий, щиты.
Высадка легиона продолжалась не более часа. Любой полководец мог бы гордиться такой слаженностью военного механизма. Но Лукулла, кажется, это не радовало. Он знал, что легионы в Азии, над которыми он должен принять командование, испорчены привычкой к роскоши и жаждой наживы. Ведь это они убили своего консула и полководца Флакка, а потом предали своего нового начальника Сулле! Ему было известно, что греки с ликованием встретили войско Митридата и что царю удалось нанести поражение Котте. Можно было бы, конечно, бросить этого глупца и его воинов в Халкедоне, идти вперед и захватить Понтийское царство, пока оно лишено защитников. Но можно ли полагаться па такое войско? Уже ночью, вскоре после высадки, один из воинов Мурены проник в сокровищницу храма и был схвачен его служителями в тот момент, когда вскрывал ящик с дарами.
В этом непроницаемом мраке мерцало лишь одно светлое пятно: крупнейший из греческих городов Пропонтиды — Кизик — закрыл перед Митридатом свои ворота, и царь царей приступил к его осаде. Его трехсоттысячное войско окружило город рвом. Корабли патрулируют в прибрежных водах. Но Кизик не Халкедон! Недаром кизикийцы считают, что их город дан самим Зевсом в качестве приданого за его дочерью Корой! Стены Кизика строились столетиями! О них Митридат обломает свои зубы! А тем временем римские воины научатся переносить невзгоды и радоваться не блеску золота, а ломтю хлеба и тростниковой подстилке.
К вечеру Лукулл собрал в своем шатре легатов. Полководец говорил медленно, с трудом подбирая слова.
— Мы пришли, чтобы завершить войну, начатую нашими отцами. Мир, заключенный Суллой, дал нам передышку. Но ею воспользовался и Митридат. У него огромное войско и сильный флот. Серторий прислал ему своего друга, и тот обучил воинов по нашим правилам. Вы столкнетесь с могущественным врагом. Войну выиграет тот, на чьей стороне будут греки. Греки ненавидят нашу власть, но они боятся и Митридата. Они уже успели убедиться в его коварстве и жестокости. Мы должны вести войну за греков. Воины ждут добычи. И они получат ее, когда мы захватим царские сокровищницы. Здесь же никто не должен упрекнуть нас в лихоимстве. Уже сегодня один из воинов пытался ограбить храм. Я приговариваю его к казни.
Шум голосов за шатром говорил, что приготовления закончены. Открыв полог шатра, Лукулл вышел наружу. Преступник стоял у врытого в землю столба с надписью «Вор». Лицо и плечи его покрывал кожаный мешок.
Лукулл сделал знак, и из рядов вышло десять воинов с увесистыми камнями в руках.
Клодий отвернулся. Под кожаным мешком был Феридий, подошедший к нему на корабле. И кто дал Лукуллу право отнимать у человека жизнь.
— Раз! — послышалась команда, и тотчас же раздался нечеловеческий вопль.
Легионеры проходили мимо тела, наполовину заваленного камнями. Лукулл дал своему войску первый жестокий урок.
МАРК МАГИЙ КВИНТУ СЕРТОРИЮ ПРИВЕТ
Ты спрашиваешь у меня, собирается ли царь выполнять данные через Неоптолема обещания. Опишу все по порядку. Когда я прибыл в Синопу, Митридат встретил меня с почетом и принял в число своих друзей. Следуя моим советам, он отказался от пестрых полчищ. Он вооружил воинов гладиусами и пилумами, а оружие и сбрую, изукрашенные золотом и драгоценными камнями, отвез в сокровищницы, что у него в горах. Ибо, как тебе известно, все это более прибавляет жадности врагу, чем мощи своим обладателям.
Когда мы двигались через Вифинию, многие эллины встречали нас с воодушевлением, ибо никогда они еще столько не терпели от сборщиков податей и римских ростовщиков, как со времени Суллы. Город Кизик закрыл перед царем свои ворота, так как кизикийцы живут торговлей с городами и варварами Таврики и Кавказа, которую перехватила Синопа. Вместо того чтобы всем войском двигаться на Лукулла, царь разделил ее на две части. С одной осадил Кизик, другую поручил мне и приказал идти во Фригию. Там на холме Отрий Лукулл стоял лагерем, надеясь выиграть время. Но я выманил его на равнину. Войска наши уже сходились, как вдруг небо разверзлось и показалось большое огненное тело, которое упало в промежутке между нами. По виду оно более всего походило на удлиненную бочку, а по цвету на расплавленное серебро. Мои воины разбежались, напуганные этим знамением, и я не смог их удержать. Все гладиусы и пилумы вместе со щитами и шлемами достались Лукуллу. Митридат был в гневе и сказал: «Эта комета предвещала мне победу, а ты ее упустил!» Друг же царя ученый грек Метродор отправился на место боя и отыскал там куски металла, которого нет на земле. Он собирается написать сочинение «О пришельцах с планет»и уверяет, что уже не раз на землю падали предметы, посланные разумными существами. По его словам, глупцы и невежды, населившие небо богами, принимают их за знамения. Царь согласился с Метродором, но гневаться на меня не перестал. Может быть, со временем он сменит гнев на милость, и я его смогу убедить, что твоя победа над Помпеем для него так же важна, как для нас с тобой.
Прощай!
ГОЛОВА ИЗ КАТАПУЛЬТЫ
Мурена вбежал в преторий. Никогда еще Лукулл не видел своего легата таким возбужденным.
— Он прорвался. Два катафракта и десять дикротов. Их видели у Лесбоса. Клянусь Геркулесом! Этот одноглазый все-таки выманил у царя корабли для своего Сертория.
Лукулл задумался. Было бы неплохо, если бы этот Магий добрался до Испании. Это усилило бы Сертория, сбило бы спесь с Помпея. Но ведь тогда крикуны в сенате и на форуме получат пищу для кляуз и обвинений. Ведь уже послано донесение, что проливы на замке и ни один вражеский корабль не выйдет в Римское море. Конечно же, заявят, что он, Лукулл, умышленно выпустил врага, чтобы продлить свое командование на Востоке.
— Сколько кораблей в Эфесе? — спросил Лукулл.
— Двадцать родосских триер и три пентеры, присланные египетским царем.
— Скачи в Эфес. Бери корабли. Ты еще успеешь его, догнать. Если сможешь, приведи живым.
…Этот скалистый безлюдный островок у Лесбоса был прославлен в древних сказаниях. Говорили, что именно здесь остановились ахейцы на пути в Трою, и завистливые боги наслали на героя змею. Ужаленный Филоктет испытывал нечеловеческие страдания. Рана стала гнить, испуская зловоние. Воины покинули несчастного и вспомнили о нем лишь через десять лет, когда им понадобились лук и стрелы Геракла, которыми обладал Филоктет.
Остановившись здесь со своей флотилией, Магий не подозревал, что и для него островок окажется роковым. Иначе он не стал бы дожидаться здесь Трехпалого с миопаронами, как ему советовал Неоптолем, а плыл бы сразу в Испанию. Чтобы дать знать о себе дружественным пиратам, он приказал развести костры на скалах у входа в бухту.
На рассвете вместо ожидаемых миопарон к островку подошли римские триеры и пентеры. Бухта была слишком мала, чтобы вместить и римскую флотилию. Поэтому Мурена попытался выманить Магия в открытое море. Он посылал в бухту по два корабля, и те курсировали вдоль ее берега на почтительном расстоянии от понтийцев.
Магий приказал своим матросам поставить суда на днища. Это придавало им устойчивость и позволяло в случае приближения врага забросать его ядрами из бортовых баллист.
Видя невозможность атаки с моря, Мурена замыслил нападение с суши. Он перевел на одну из пентер отборных воинов и вместе с ними направился к противоположному берегу островка.
Пентера плыла вдоль берега. Нависшие над морем черные скалы казались чудовищами, выгнувшими спины перед прыжком. Мурена вглядывался в берег, надеясь отыскать бухточку или просто небольшое углубление. Но берег был одинаково неприступен на всем протяжении.
Пришлось спускать на воду лодки и высаживаться на них. Это отняло всю ночь. А день ушел на преодоление скалистой гряды, разделявшей остров на две части. Только к вечеру римляне оказались над бухтой Филоктета. Сверху им были видны подтянутые к берегу вражеские корабли и две своих триеры, качавшиеся на волнах. Понтийцы, видимо, уже привыкли к их присутствию и, не обращая на них внимания, занимались своим делом. Кто-то на берегу развел костер, и его пламя осветило человека с черной повязкой на лице. Он что-то говорил окружавшим его морякам, потом вместе с ними исчез в отверстии пещеры.
Мурена дал знак воинам, и они поползли, прижимаясь к еще теплой, пахнущей полынью земле.
— Не убивать одноглазого, — шепнул им Мурена.
Прошло еще несколько томительных минут, пока тишина не разорвалась криком и звоном оружия. Мурена понял, что солдаты ворвались в пещеру и ведут там бой.
…Они стояли друг против друга, и если бы не связанные за спиной руки одного, их можно было бы принять за встретившихся в пути прохожих.
— Кто ты — перс или римлянин? — спросил Лукулл.
Единственный глаз его собеседника злобно блеснул.
— Для таких римлян, как ты, я — перс, для тех же, кто хочет очистить Рим от сулланских собак, я — квирит.
— Тогда, — сказал Лукулл размеренно, — я отдам твою голову царю-варвару, которому ты служил, а тело брошу в болото.
В тот же день римская катапульта, расположенная против царского лагеря, выпустила лишь один снаряд. Это была голова Магия.
ОБМАН
— Пиши! — сказал царь, обращаясь к Метродору. — «В десятый день боэдромиона, отмечая годовщину осады Кизика, Митридат приказал провести под стенами кизикийских пленников, и те стали просить своих близких, чтобы они сдали город…»
— Что же ты остановился? — сказал он после паузы.
— Я устал, государь!
— Отдохни! — Царь вышел из шатра.
Метродор откинул голову и положил восковые дощечки на ковер. Он действительно устал, но это была не физическая усталость. Он утомился лгать и слышать, как лгут другие. Из слов начальников отрядов выходит, что Кизик вот-вот падет. Но ни один из них не осмелился поведать царю, что его воины выбились из сил и умирают от голода, что уже съедена вся трава на склонах Диндима, что многие, по варварскому обычаю, поедают человеческие внутренности.
О гибели флота, посланного Серторию, стало известно не от спасшихся моряков, а от врагов, пустивших из катапульты голову Магия. Горе тому народу, который обманывается своим правителем, а правду узнает от недругов! Обман становится необходимостью, как вино для пьяницы. Обманывают друг друга и пытаются обмануть историю. Ведь пленные кизикийцы вовсе не призывали близких сдать город, а кричали, чтобы они сражались до конца.
Появление царя прервало размышления Метродора.
Морщины на лбу Митридата сошлись в резкие впадины, губы стянулись, обозначив горестную складку.
— Ветер! — молвил он отрешенно. — Ветер обрушил гелеполу, подведенную к башне, он же и сдул Никонида, который ее строил. Его не могут найти. Теперь я думаю, что тот же ветер обрушил туннель, подведенный под стены Кизика.
— Геродот рассказывает об африканском народе, объявившем войну ветру, — молвил Метродор.
— Чем же кончилась эта война?
— Народец был погребен песками. Так уверяет Геродот.
— Твой Геродот был лгуном! Нет и не было народа, который был бы настолько глуп, чтобы воевать с ветром, или царя, который мог бы приказать высечь море. Так же как нет людей с собачьими головами и муравьев, добывающих золото. Всюду ложь! Я и сам лгал себе и другим, потому что невыносимо смотреть правде в лицо. Она ослепляет как солнце. Она не оставляет ни тени надежды.
ГНЕВ ПОНТА
Отослав в Вифинию остатки конницы и обоз, Митридат бежал морем. Этот путь казался ему наиболее безопасным, так как он знал, что римляне не решатся его преследовать в чужом и незнакомом для них Понте. Но сам Понт встретил беглецов страшной бурей.
Огромные иссиня-чериые валы, подгоняемые бичами Борея, мчались к берегу. Они увлекали за собой легкие дикроты и с ревом разламывали их о скалы. На глазах у потрясенного Митридата корабль Неоптолема взметнулся на гребне волны и исчез в пучине.
«Эвергет» упорно противостоял стихии. Бессильные сорвать его с якорей, волны злобно обрушились на палубу. Вода, пробив дощатые щиты, ворвалась в люки. И вот она уже плещется в трюме, заполненном царским добром. Всплыли пеналы со свитками, деревянные расписные доски, шкатулки. Гибли сокровища искусства, предназначенные для украшения храмов и дворцов. Никому не было до них дела. Каждый думал о спасении жизни: и рабы, ослепляемые солеными струями, и царь, скрывшийся в кормовой каюте со своим летописцем Метродором.
Рев волн не мог заглушить зычного голоса Митридата. Он разносился по всему кораблю:
— Артемида Владычица! Мои нечестивцы разбили твое мраморное изваяние. Я поставлю тебе статую из чистого золота. Умерь свою ярость!
И словно прельщенные этим обещанием покорные Артемиде волны ослабили свой напор. Утих ветер. Но без кормовых весел к берегу не подойти.
И в это время слева по борту словно вынырнули из морских глубин косые пурпурные паруса. Пираты! Они всегда слетаются как коршуны, чтобы урвать свою долю. И неизвестно, что страшнее: гнев моря или жадность его сыновей.
Но на этот раз пираты не кинулись на легкую добычу. Миопароны держались на почтительном расстоянии. Лишь одно из суденышек скользило к «Эвергету»с подветренной стороны.
— Смотри, Метродор! — воскликнул царь. — Они подняли мои знаки.
Эллин вытянул шею, разглядывая еле заметное полотнище.
— Клянусь Ма! Это Трехпалый. Вон тот в черном колпаке!
Метродор содрогнулся.
— Оборони, Афина! У нас в Скепсисе Трехпалым пугают детей.
Развернувшись, миопарона подходила к борту «Эвергета». Митридат изготовился к прыжку. И в то мгновение, когда эллин крикнул «Остановись!», царь перемахнул расстояние, отделявшее корабли и оказался среди пиратов.
Ударили весла. Миопарона рванулась вперед.
Митридат приложил ладони ко рту:
— Отправляйся в Пантикапей! Пусть Махар шлет воинов!
Царь стоял, опираясь о мачту и едва не доставая головой нижней реи. Широкоплечий, седобородый, он напоминал бога морей, каким его изображают на картинах или мозаиках.
Трехпалый отступил на несколько шагов и изогнулся невероятным образом, растопырив кривые ноги.
Когда он выпрямился, его багровое от напряжения лицо выражало восторг и умиление.
— Мой драгоценный! Вспомнил о своем обещании. Только твой раб не припас копченых угрей. Чем тебя угостить?
— Новостями! — бросил Митридат нетерпеливо.
Пират почесал за ухом искалеченной ладонью.
— Новости у меня не сладкие. Твоего союзника Сертория прирезали.
— Это мне известно.
— В Италии Красе с Помпеем гладиаторов разбили, живых на столбах поразвесили, от Рима до Капуи.
— Слышал! Говорят, без твоей помощи тут не обошлось.
— Мало ли что болтают! Буду я римлянам помогать. Это Седого дело. Вот собака! Никак не успокоится!
— Еще!
— На нас облаву готовят. Мой человек из Рима передает, будто бы строят флот и самому Помпею корону Нептуна дают.
Митридат задумался. Эта последняя новость была теперь самой тревожной. Римляне со свойственной им методичностью хотят довести войну до конца. Им нужно чистое море, чтобы перебрасывать в Азию солдат и продовольствие. Покончив с Серторием и Спартаком, они подбираются к пиратам.
— Нелегко будет!
— Я тоже так думаю, — подхватил пират. — И ребятам своим говорю: не мне ваши корабли водить! Тут не моя голова нужна!
— О чем это ты?
— Стал бы ты нашим царем. Свою силу на море испробовал бы. На суше тебе не везет! Корабль я для тебя отделаю. Палубу устелю пурпуром, весла серебром оправлю, якоря отолью из чистого золота. А что до одежд и драгоценностей, то их для всех твоих жен хватит.
Митридат улыбнулся, представив себе Мониму в столе с чужого плеча.
— Не веришь! — обиженно протянул Трехпалый.
— Тебе верю. Одному тебе! Верю и ценю твою преданность. Но, посуди, могу ли я оставить царство на растерзание римлянам. Меня ждет Синопа, Амис, Трапезунд. Лукулл хочет захватить эти города, а меня загнать в горы, лишить меня Понта. Теперь ты мой единственный союзник. Пусть твои миопароны жалят римлян как осы, Евкрат!
— Ты запомнил мое старое имя! — изумился Трехпалый.
— Я помню всех своих друзей, — сказал Митридат после долгого раздумья. — Теперь это не трудно. Труднее запомнить недругов. Их становится все больше и больше. Моя голова уже не вмещает их имен. Ведь с тех пор, как я объявил Риму войну, народилось новое поколение. Сыновья Мания Аквилия, Суллы и Мурены так же ненавидят меня, как их отцы. А мои сыновья…
МАХАР
Махар слушал Метродора, не перебивая. Полное лицо с правильным рисунком носа и губ выражало вежливое равнодушие, словно наместника Боспора не волновала трагедия трехсоттысячного войска и захват римлянами проливов. Лишь когда эллин касался действий Митридата, в зрачках Махара вспыхивал неприязненный огонек, и он, желая его скрыть, опускал глаза.
— Чего же теперь добивается мой отец? — сказал Махар, когда Метродор закончил свою печальную повесть. — Каковы его планы?
— Он требует у тебя воинов. Лукулл идет к Синопе.
— Но Боспор не бездонный пифос. Эллины Херсонеса и Фа нагорий уже не хотят слышать об этой войне. Она сделала их нищими. Тебе ведь известно, что мой отец не платит им за хлеб, за корабли, за все, чем они его снабжают. Его верные друзья — скифы — давно уже поняли, какая им отведена роль. Они бегут из своих становий, как только появляются мои послы. Не могу же я гнаться за ними или искать других союзников за Рифейскими горами!
— Царь настаивает! Напрасно твой брат Фарнак убеждал его дождаться, пока он пришлет ему своих иберов.
— Фарнак! — перебил Махар. — Сидел бы он в своей Колхиде.
— У твоего отца широкие планы, — сказал Метродор многозначительно. — Он хочет объединить степь и горы в одних руках.
Это было похоже на правду. Метродор ничего не выдумывал, а только придавал фактам иную окраску, слегка смещая их, и собеседник ощущал сначала смутную тревогу, а потом распаленное воображение создавало, соединяя разорванные нити, зримую опасность.
— Что же мне делать? — спросил Махар взволнованно.
— Ты посылаешь отцу воинов. Почему бы тебе не иметь среди них своего человека? Война уже исчерпала себя.
Махар бросил на Метродора быстрый взгляд. Чего добивается этот эллин? Его называют римоненавистником, а он говорит о невозможности войны.
Взяв на себя обязанности гостеприимца, Махар сопровождал Метродора до сходен корабля. По пути он показал достопримечательности города, но эллина почему-то заинтересовало лишь место гавани, где длинными рядами стояли пифосы. Подойдя к одному из них, он заглянул внутрь.
— Не удивляйся, — произнес он с внезапной отрешенностью. — Когда я думаю о судьбе и ее превратностях, в моем воображении встает пифос Диофанта, его жалкое убежище. Учитель часто рассказывал мне о той страшной ночи Пантикапея.
— Диофант твой учитель? — воскликнул Махар.
— Да. Я был последним учеником этого удивительного человека. Меня называли Поводырем, так мы были неразлучны. Утром я заставал его склонившимся над каким-нибудь кустиком или цветком в зарослях сада. От его зорких пальцев не ускользала ни одна царапинка на стебле, ни один надорванный лепесток. Он говорил мне, что напрасно был стратегом, ибо его призвание не убивать, а лечить. Вечером, когда спадала жара, мы шли в лавку ювелира. Геммы были его страстью. Если бы ты слышал, с какой топкостью Диофант оценивал работу резчика, его стиль, как он называл недоступные моему пониманию особенности мастерства. В одних геммах он находил буйную фантазию Геродота, в других — сдержанную силу Фукидида. И потом, знакомясь с творениями историков, я уже различал их неповторимые голоса. Лишь один раз Диофант ошибся. Но и ошибка его была пророческой!
Метродор засунул руку за край гиматия и вынул гемму. На черном камне бело-розовым овалом выделялся женский профиль. Высокий лоб, тонкий нос с горбинкой, волна волос придавали лицу незнакомки какую-то невыразимую прелесть.
— Он счел это изображением Елены, — продолжал Метродор. — И я скрыл от него истину. До конца дней своих Диофант был уверен, что обладает геммой погубительницы Трои.
— Кто же это?
В голосе Махара ощущалось волнение. Он не отводил от геммы горящего взгляда. Его лицо преобразилось, словно приняв на себя отблеск той божественной красоты, которая открывается лишь умеющим любить.
— Как! — воскликнул Метродор. — Ты не знаешь Монимы?
— Монима… — тихо и мечтательно произнес Махар. — Диофант назвал ее Еленой. Он не ошибся. За нее можно отдать и царство и жизнь.
Евнух Вакхиллид, обходивший царские покои, сразу заметил что-то неладное. Дверь в спальню плотно закрыта, но по полоске света внизу видно, что царица не спит. Наклонившись, евнух услышал незнакомый мужской голос.
— Ты мне казалась злым духом. И даже в имени твоем мне слышалось что-то змеиное. Тебе я приписывал все беды, все несчастья. Ведь отец разлюбил нас, когда узнал тебя. Оставалось утешение, что он не вечен. Но вот случилось чудо.
— О каком чуде ты говоришь?
— Чудо Афродиты. Это она послала мне гемму с твоим изображением. Ослепленный, я пришел к тебе. Нет, за тобой. Корабль стоит в гавани. Я назвал его Голубем. Голубь провел Арго сквозь Симплегады.
— Но ты сын Митридата! — послышался голос Монимы.
— Нет, Лаодики. В моих жилах течет ее кровь. Я видел ее страдания, поэтому могу понять твои.
— Что тебе известно о моих страданиях? Вот они, письма твоего отца. Неиссякаем поток его любви, прекрасны ее слова.
— Это гибельный поток. Он сметет тебя, как песчинку. Я дам тебе степи, нетронутые плугом, шелест ковыля, паренье птиц. В твоей короне не будет яда. Я сплету ее из мирта Афродиты.
— Мне ничего не надо от тебя. Уходи!
— Я вернусь. Ты поймешь, что счастье со мной. Отец завораживает блеском власти. Но не вечно же он будет царем.
— Вечно, — ответила Монима. — Для меня и для всех, кто его любит, вечно.
Махар бешено гнал коня. «Вечно, вечно»… Но почему забывают о его преступлениях? Когда-то из моих уст вырвался робкий упрек. Рука матери мягко легла на мои губы: «Это твой отец. Он дал тебе жизнь». Нет! Он лишил меня счастья. Я его раб! Но ведь рабы могут мстить «.
ЛУКУЛЛОВЫ МУЛЫ
Много дней шли римляне безлесным, иссеченным складками плоскогорьем. Тяжелые мешки били по спинам. Оружие терло бока.
— Мы — мулы Лукулла! — сказал Клодий на одном из привалов.
И эта горькая шутка обошла все войско.
Клодий давно уже освоился с солдатским житьем, и солдаты успела привыкнуть к нему, оценив его общительность и остроумие. Но, деля со всеми наравне трудности походной жизни, Клодий сохранил немало» патрицианских» привычек. Это обеспечило ему кличку «Неженка». Но всем было известно, что у Неженки крепкие кулаки и он не даст себя в обиду.
Преодолев Пафлагонские горы, римское войско спустилось к Понту. Как радовались легионеры при виде городов, тонущих в матовой зелени оливковых рощ и голубизне моря! Вот достойная награда тем, кто под стенами Кизика страдал от непогоды, задыхался от вони гниющих трупов, нес на своих плечах бремя войны!
Но Лукуллу эти понтийские греки дороже собственных воинов. Он щадит города, не давая их взять приступом. Разве с таким полководцем наживешься? И уже не только солдаты, но и военные трибуны осуждали Лукулла.
Лукулл пропускал упреки мимо ушей. Но Мурене он счел нужным объяснить:
— Дождемся весны! Пусть царь накопит силы.
Легат одобрительно кивал головой. На самом деле, за спиной Митридата Армения. Там может укрыться хоть тысяча царей. Да и зачем загонять его в объятья к Тиграну.
Весной, оставив часть войска под Синопой, Лукулл двинулся на Митридата. Легионеры ликовали, предвкушая богатую добычу. Но в трех милях от Кабиры, где стоял царь, Лукулл приказал остановиться и разбить лагерь. Это вызвало новый взрыв возмущения. Одни усматривали в поведении консула трусость. Другие считали, что он умышленно затягивает войну, чтобы продлить свои полномочия еще на год.
Напрасно посланные Митридатом всадники дразнили римлян и вызывали их на схватку. Лукулл приказал не обращать на это внимания и заниматься своим делом. Теперь и Мурена перестал понимать полководца.
— Что ты медлишь? — говорил он ему. — Смотри, как бы мы с тобой не остались одни.
Лукулл на этот раз не объяснил своих намерений. Он только сказал:
— Плод не созрел!
Однажды какой-то понтийский всадник, действуя чересчур дерзко, угодил в ров. Консул приказал вытащить его и привести в свой шатер.
— Меня прислал Махар! — сказал варвар, озираясь.
Лукулл с трудом скрыл ликование.
— Я слышал о Махаре. Это, кажется, сын Митридата.
— Махар — владыка всех земель вокруг Меотиды. Ему подчиняются эллины Таврики. Скифы платят ему дань.
— Чего же хочет Махар?
Варвар наклонился и снял с ноги кожаный сапог. Засунув руку внутрь, он вытащил квадратик пергамента.
Лукулл взял его двумя пальцами и углубился в чтение.
— Чем ты докажешь, — спросил он, поднимая взгляд, — что послан Махаром?
— Своей жизнью, — ответил варвар.
Отослав варвара и приказав охранять его пуще зеницы ока, Лукулл вызвал Мурену.
Склонившись над картой дорог Понта, консул отыскал извилистую линию, соединявшую Кабиру с Команой.
— Поставь воинов здесь! — Он ткнул пальцем в то место, где линия изгибалась.
— Клянусь Геркулесом! — воскликнул Мурена. — Ты, кажется, дождался своего часа. А водь кое-кто считал, что ты просто оттягиваешь время.
Лукулл пожал плечами.
— Каждый живет по своей клепсидре. Сулла сказал бы, что она дается нам судьбой. Со стороны кажется, что капли застыли, а они льются. И только потомкам будет ясно, медлил я или спешил.
— Вы здесь, сыновья возмездия, и на ваших мечах — отблеск судьбы.
Эти выспренние слова, произнесенные к тому же, по-латыпи, заставили консула остановиться. Он спрыгнул с коня и подошел к старцу, преградившему ему путь.
Седой и сгорбленный, он мог быть принят за одного из тех отшельников, которые живут в горах, питаясь подаяниями.
— У кого ты научился моему языку? — удивился римлянин.
— Горе нетерпеливым, — молвил старец. — Пройдем в шатер, и ты узнаешь все по порядку.
Так они встретились, Ариарат и Лукулл, и провели в беседе всю ночь.
— Это было так давно! — вырвалось у Лукулла, когда он выслушал неторопливый рассказ старца.
— В мою пещеру не проникало солнце, — отозвался тот. — Год был днем. Кибела научила ждать. И вот меня посетил сын врага, и я принял его, как друга. Теперь я его вестник.
— Кто это? Говори яснее.
— Его имя Махар.
— Чего же он хочет? Получить корону Понта из моих рук?
— Ты ошибся, император. Махару нужна Монима.
Лукулл расхохотался.
— И только!
— Не смейся, римлянин, — глухо сказал старец. — Много лет назад меня поучал Маний Аквилий. В таблине стояли восковые статуи, и уроки были наглядны. Если бы я смог показать тебе изображение Монимы, ты бы понял, как велика эта награда.
— А какую награду получу я? — спросил Лукулл.
Старик протянул свиток.
Среди извилистых линий выделялся кружок со звездой и полумесяцем. К нему через долины Лика и Фермодонта вела стрелка. Расстояние было обозначено парасангами, как это было принято на схемах царских дорог.
— Что это? — спросил Лукулл.
— Сокровищница Митридата. Сюда он свез золото всей Азии. Твои воины станут Крезами.
Глаза Лукулла хищно блеснули.
— Крезами… А кто еще знает об этом?
— Только царь и его наследник. Рабы, доставлявшие золото, сброшены в пропасть.
— Что же, — решительно произнес Лукулл, пряча свиток, — ты можешь идти. Махар получит свою Мониму.
Лукулл напряженно смотрел в спину удалявшемуся старцу. Все это было похоже на сон! Но в руках у него свиток, и он самый богатый человек в мире. Свершилось то, о чем он мечтал все эти годы. Золото — это власть, которой не обладал никто из римлян. Сулла считал себя счастливым, но счастье его добыто проскрипциями. А здесь сокровища врага, Митридата, Он его наследник.
Что-то вспомнив, Лукулл подозвал легионера.
— Смотри! — сказал он ему. — Этот человек слишком долго жил. Ты меня понял?
ОБЛАВА
Такого еще никогда не бывало. Римляне словно выкинули в море густую сеть. Пиратские миопароны, гонимые отовсюду, натыкались на римские триремы и либурны. Поняв бессмысленность сопротивления и невозможность бегства, разбойники складывали оружие. Трюмы квинквирем, превращенные в плавучие тюрьмы, не вмещали больше пленников, и их оставляли на своих судах под охраной легионеров. Только Трехпалый все еще метался от острова к острову, надеясь уйти от преследователей. Награда, объявленная за его голову, возбуждала их рвение и жадность. Претор Габиний, рассчитывая взять куш себе, не сообщил своему соседу и сопернику Луцилию, что добыча в его квадрате, и тот в ночном мраке пропустил миопарону.
Трехпалый вышел к южному побережью Киликии. Он знал здесь каждый выступ, каждый изгиб берега. То, что для римлян было хаотичным нагромождением камней, ему представало огромными лицами со скошенными глазами, широкими скулами и щеками, иссеченными ветром и исхлестанными волнами. Эти скалы, имевшие свои клички и имена, были молчаливыми хранителями его тайн. В их складках замерли стоны тех, кому он, как наместник Посейдона, выносил приговор, тех, кто стал у него на пути или вышел из его доверия. И теперь место, где он вершил суд и прятал сокровища, стало его убежищем.
Миопарона вошла в арку, образованную нависшими скалами, и ветви, раздвинутые носом, сомкнулись за кормой плотным пологом. Вода под веслами напоминала тяжелое земляное масло. И скользившая по ней миопарона казалась еще более легкой, почти невесомой. Трехпалый отбросил кормовое весло и лег навзничь на палубу. Воздух, пахнущий гнилью и сыростью, пьянил, как старое вино…
Когда Трехпалый проснулся, солнце стояло в зените. Лучи, пробиваясь сквозь ветви, ложились на воду цветным узорным ковром, придававшим мрачной расщелине сходство с человеческим жильем.
И от этого Евкрату стало еще более одиноко и тоскливо. Его дом, почти уже забытый, вставал в памяти с такой ясностью, словно он только что закрыл за собой дверь. Стены из закопченных камней, коврик на земляном полу. Шелест материнской прялки. Нет! Это плеск волн под веслами римлян. Кто-то из гребцов, пока он спал, вышел на наружные скалы и выдал его убежище. Он в ловушке!
В тот же день пленника доставили на борт большого судна. Он оказался перед человеком лет тридцати пяти. Вьющиеся, откинутые назад волосы, безукоризненно правильные черты лица придавали ему сходство с Митридатом времен Амнейона, только римлянин был невысок и склонен к полноте.
— Я Помпей Великий, — представился римлянин, видимо ожидая, что одно это имя заставит архипирата задрожать или упасть на колени.
Но Трехпалый стоял в невозмутимо небрежной позе и бормотал что-то себе под нос.
— Повтори, пожалуйста, я не расслышал.
— Нечего повторять! Ты знаешь, что я — Трехпалый.
— Но это ведь кличка. Каково твое настоящее имя?
— Мое имя ведомо лишь друзьям. А для врагов я был Трехпалым, Трехпалым и умру.
— Говорят, — продолжал Помпей, — именно ты дерзко похитил дочь триумфатора Антония в то время, когда она находилась в пути между Римом и Капуей.
— Может быть, — с усмешкой проговорил пират.
— Ты также взял в плен двух преторов — Секстилия и Беллина вместе с их ликторами и свитой.
— Припоминаю.
— И ты же ограбил храм Асклепия в Эпидавре, храм Геры на Самосе, храмы Аполлона в Акции и на Леваде.
— Было дело.
— Римский народ и сенат готовы тебе простить эти преступления, если ты возместишь ущерб.
Пират расхохотался.
— Я верну преторам их тоги и фасции, а храмам — их сокровища, но прости меня, милостивый консул, что я не могу возвратить весталке того, чем она не обладала.
— Я не о том, — невозмутимо продолжал Помпей. — Мне известно о твоих отношениях с Митридатом. Мы бы оставили твою миопарону, заменив ее команду. Ты бы провел ее в известное тебе место…
— Чего захотел! — перебил пират Помпея. — Это вы, римляне, готовы отца родного продать за сходную цену.
Помпей растерялся. Он не ожидал такой дерзости. И совсем неожиданным оказался бросок Трехпалого к борту. Со связанными руками он не мог рассчитывать на спасение. Волны сомкнулись над его головой.
ПАНИКА
Все было тихо так, словно боги пролили на землю сонное зелье. Пинии у недвижной чаши озера застыли, как свечи желтого понтийского воска. Горы в остроконечных серебряных шлемах казались стражами, поставленными охранять покой.
И в эту тишину горного утра ворвался шум, принесенный издалека ветром. В нем различался звон оружия, топот шагов, голоса.
Конный отряд понтийцев вступал в узкую долину, чтобы перерезать путь в Каппадокию, откуда римская армия получала продовольствие. Понтийцы не догадывались, что еще с вечера в скалах, нависавших над дорогой, устроена засада. Манипулы, порученные Мурене, заняли выход из долины.
По сигналу труб римляне ринулись в атаку. Узость прохода делала коней бесполезными. Кинув их, понтийцы падали под ударами. Лишь нескольким сотням удалось прорваться сквозь заслон.
К ночи, преследуемые римлянами, беглецы достигли царского лагеря под Кабирой. Не подозревавшие о случившемся, воины были разбужены воплями и стенаниями тех, кого стража пустила в лагерные ворота.
— О горе! Враги напали на наш отряд. Все, кроме нас, погибли. Теперь они идут сюда…
Митридат выбежал из шатра. По улице, образованной палатками, неслась толпа обезумевших воинов. Страх перед римлянами был настолько велик, что даже появление царя не смогло остановить беглецов.
— Стойте, трусы! — кричал Митридат. — Я посажу вас на кол!
Слова эти потонули в реве и топоте.
Пытаясь преградить бегущим дорогу, Митридат был сбит с ног. Кто-то поднял его, и он, затертый в толпе, понесся, как щепка в горном потоке. Под ногами было что-то мягкое. Толпа шла по телам упавших и раздавленных.
— Стойте!
За воротами стало свободнее. Воины разбегались в разные стороны. Митридат уже не пытался их удержать. Он заметил вдали несколько мулов с поклажей и двух всадников на маленьких лошадках,
— Коня мне! — закричал Митридат.
Всадники обернулись. Митридат узнал Метродора и Вакхиллида.
Евнух спрыгнул наземь и упал в ноги царю.
— Владыка! Это Махар тебя предал. Он хотел увести Мониму…
— Римляне! — послышался крик Метродора.
Со стороны реки наперерез скакала группа всадников. Грозно блестели их шлемы.
Митридат вскочил на лошадку и рванул поводья. Метродор скакал рядом. Евнух с воплем мчался в нескольких шагах позади.
— Прости, государь! Прости!
Один из оставленных мулов, напуганный криками и топотом, шарахнулся в сторону. Упал мешок, наспех привязанный к его спине. Со звоном посыпались золотые кубки и чаши.
Прекратив погоню, легионеры бросились к добыче. Спешившись, они отталкивали друг друга, хватали кубки и чаши. Возникла свалка. Никому не было дела до Митридата. Так золото еще раз сослужило Митридату службу. Оно спасло его от плена и позора.
«Я ЦЕЛУЮ ТЕБЯ, МОНИМА!»
Солнце било в лицо Митридату, и каждая морщинка на его лбу выделялась, как трещина на ледяном поле. Глаза, устремленные вперед, выхватывали знакомые очертания гор Париадра. Здесь ребенком он мечтал о мести Риму. Здесь Моаферн, казалось бы, обезопасил его ох яда, но отрава проникла внутрь. Махар! Вот кто виновник всех несчастий! Убедившись в недоступности Монимы, негодяй предался римлянам. Он указал Лукуллу долину, и понтийская конница попала в засаду. Теперь он покажет крепость, где скрываются жены и сестры. Монима достанется ему, как награда за измену отцу.
Митридат заскрежетал зубами. Бессильная ярость душила его.
— Вакхиллид! — крикнул он грозно.
Евнух упал на колени.
— Ты должен искупить свою вину.
— Я готов принять смерть, если прикажешь.
Митридат отвернулся.
— Потеряно войско, — бормотал он как в бреду. — Потеряно царство. Изменил первенец. Но честь еще можно спасти…
Евнух поднял сморщенное личико. Он понял, чего добивается царь.
— Это Мониме! — молвил Митридат, срывая перстень с пальца. — И передай ей мой поцелуй.
Монима отдернула занавес. В лучах, окрашенных багрецом и золотом, заплясали пылинки и также, беспорядочно тесня друг друга, закружились мысли. Как случилось, что она, которую называли единственной, оказалась среди многих? Дни и ночи были полны ликования. Казалось, не будет конца торжеству любви. Потом хлынул поток писем, такой же неудержимый, как его душа. В последнем послании не было ни клятв, ни обещаний. Одна просьба: доверься Вакхиллиду. И все же Монима продолжала ждать. Она верила, что здесь, в этом убежище отвергнутых и забытых, она одна любимая, неоставленная. У Митридата нет другой. Митридат поглощен войной.
Расчесывая волосы, она ощущала прикосновение его рук. Она слышала, как он зовет ее: «Монима!» Ее имя в его устах звучало то как радостный победный клич, то как жалоба избалованного ребенка. Нет! Он не знал этих женщин! Он всегда был с нею и в порыве ветра, и в лепете ручья, и в письмах, запечатанных царским перстнем.
За стеной послышался цокот копыт. Монима схватилась за прутья решетки и просунула в них голову. Вакхиллид! Что в его кожаном мешке? Чем царь вознаграждает за пустоту этих месяцев? Золотой диадемой? Хрустальным ларцом? Или восковыми табличками с пылающими как факел словами?
Монима бросилась к лестнице, отталкивая женщин. Что им надо? Чего они хотят, эти толстые и неряшливые армянки к персиянки? Притирания не возвратили им молодости. Румяна не вернут красоты. Они уже давно забыты, давно…
Вакхиллид остановился в нерешительности. За годы службы в гареме он узнал женщин и обучился обращению с ними. Он привык к их болтовне, к их хитростям и слезам. Ему приходилось их утешать и наказывать. Но то, что поручено теперь, свыше сил.
— Где царь? Что он нам прислал? — послышались голоса.
Вакхиллид вывернул мешок. Зазвенели, ударившись о каменный пол, кинжалы. Мягко легли скрученные шнуры.
Монима отшатнулась. Волосы ее взметнулись как пламя.
— Это мне?
— Всем, — пропищал евнух. — Всем, кто, повинуясь царской воле, хочет уйти от позора. А тебе он шлет перстень со словами: «Я целую тебя, Монима!»
Женщины молча брали царские подарки и уходили в свои кельи.
Одна лишь Монима бросилась на пол. Разбрасывая кинжалы, раня об их острия трепещущие руки, она кричала:
— Вот они, его поцелуи, его объятья, его обещания, его клятвы! О Афродита, зачем ты дала мне красоту!
ТИГРАНОКЕРТА
С высокомерием взирала Тигранокерта на великую равнину, начинавшуюся под ее стенами: ни здесь, у истоков царственных рек, ни там, в их низовьях, не было города, могущего с нею соперничать. Во исполнение древних пророчеств в развалинах Вавилона гнездились скорпионы и змеи. Руины Ниневии стали логовищем шакалов. Забыты имена древних царей. Их славу и богатство унаследовал армянский царь Тигран.
Артаксата, столица предков, стала тесна Тиграну, как детские пеленки растущему богатырю. Отгороженная от его новых владений громадою Арарата, она стесняла его взор, уже проникавший к Римскому морю.
И тогда на холме в верховьях Тигра выросла новая столица. На пятьдесят локтей от земли поднялись массивные стены цитадели. Рядом на пустом месте появился дворец из пестрого мрамора и деревьев кедровых, еще ниже — парк с прудами и фонтанами. На противоположной стороне холма был построен театр на шестьдесят тысяч зрителей. Зрители театра и жители города появились с такой же сказочной быстротой, как дома и стены. Совершив поход в Киликию и Каппадокию, Тигран увел население двенадцати городов. Эллины, курды, каппадокийцы, пафлагонцы стали подданными Тиграна.
И на холме, еще недавно слышавшем блеяние овец и посвист пастушьей свирели, забурлила жизнь. Шумная, многоязычная толпа заполнила агору и прилегающие к ней улицы. Продавцы кожаных сандалий предлагали свой товар так же рьяно, как на своей родине. Так же пестрели ковры, брошенные прямо под ноги покупателям. Так же пахло бараньим салом от переносных жаровен. Необычным было лишь обилие воинов и соседство дворца. Ниши в стенах цитадели были превращены в казармы и стойла для коней. Оттуда доносилось ржание и нестройные крики. Когда ячменная водка кончалась, воины шли за новой и всегда забывали платить. Соседство дворца было еще более обременительным и опасным. Чуть ли не каждую неделю царские вестники объявляли о новых сборах и налогах, и еще чаще — о розыске беглецов, решивших променять гордый блеск Тигранокерты на свои дикие горы. Пойманных наказывали тут же плетьми, вбивая им в бока и спины чувство гордости, столь же необходимое для столичного жителя, как для царя царей обладание новой столицей.
Тигран принял посла Митридата в недавно пристроенном ко дворцу зале. Его стены были обиты пластинками горного хрусталя, а пол устлан жемчугом. Но Метродор, кажется, не был поражен царской роскошью. Он гордо нес голову, уже посеребренную сединой, и только у трона слегка ее наклонил.
— Мой повелитель приветствует тебя, царь царей Тигран Великий, и желает долгих лет царствования, счастья твоему дому, побед твоим колесницам!
Тигран уже был наслышан об этом эллине, достигшем при понтийском дворе такого влияния, что ему был дарован титул «отца царя».
— Мой господин, — продолжал Метродор, — просит помощи по праву союзника и родственника. Ведь римляне и твои враги, они…
Тигран сделал нетерпеливое движение:
— Я понимаю, что нужно Митридату. Но что мне посоветуешь сделать ты? Я хотел бы услышать не посла, а философа.
— Как посол, я прошу за своего государя, — решительно ответил Метродор. — Как советчик, говорю: откажи!
Тигран схватился обеими руками за трон. Перстни на его пальцах засверкали ослепительным блеском.
— Три года я служу Митридату и наблюдаю за ним, — продолжал Метродор невозмутимо. — Сначала я думал, как многие, что это Дионис Освободитель. Но, проведя с ним зиму под Кизиком, я понял, что он — Дионис Кровавый. Власть опьянила Митридата, как старое вино. Она плотной пеленой отуманила его взор. Царь находит друзей в льстецах, а в доброжелателях и советчиках усматривает врагов. Колеблется под ним земля, и, чтобы удержаться на ногах, он готов на любое преступление. Если ты поможешь Митридату, твоя Армения превратится в пустыню. Чужеземцы осквернят твои храмы, разрушат дворцы. Они уведут в рабство твоих сыновей. Города станут логовищами шакалов.
Тигран не перебивал.
ОДНО СЛОВО
Лукулл медленно обходил строй. На него смотрели суровые, обветренные лица. Но сегодня ему казалось, что губы едва скрывают насмешку. Неужели им стало известно содержание письма, доставленного гонцом? Интриги Помпея не оставляют его и здесь, на краю света. Вчера Помпей был объявлен владыкою всех морей. Сегодня он добивается командования над всеми легионами.
Взгляд Лукулла внезапно остановился на Клодии. Семь лет назад он обещал его сестре провести Митридата в триумфальном шествии, а этот царственный старец по-прежнему неуловим. Он ускользнул из лагеря, оставив сокровища. Но жен он приказал умертвить. Во всяком случае, они остались ему верны. А Клодия? Даже через моря и горы прошла молва о ее доступности. Давно ли Мурена протянул ему свиток со стихами: «Смотри, твоя супруга состязается с тобой в славе!» Слава Клодии — это бесславие его, Лукулла.
Но этому Клодию не откажешь в смелости. Он отличился в конной схватке у Кабиры. Потом, правда, не захотел идти за хлебом в Каппадокию, заявив, что это занятие, но достойное патриция. Патриции испокон веков были послами. Это назначение заткнет рты всем, кто уверяет, будто он, Лукулл, переносит свое отношение к Клодии на ее брата.
— Мы уже не родственники, — начал Лукулл, оставшись наедине с Клодием. — Я послал твоей сестре развод. Она предпочла мне, патрицию, какого-то веронца.
Юноша пожал плечами:
— Женщину можно ослепить происхождением, но чтобы одержать над нею победу, надо владеть оружием Катулла — ямбом.
Лукулл выдавил из себя улыбку. Она застыла на его обветренных губах.
— Оставим стихоплетам их сомнительные трофеи. Пусть они собирают дань с легковерных красавиц! Воинам должно думать о другом. Тебе известно, о чем я намерен тебя просить?
— Водя богов и намерения полководцев — тайна для простых смертных! — произнес Клодии насмешливо.
Немного помедлив, Лукулл достал из-за края тоги свиток, скрепленный консульской печатью.
— Это мое послание Тиграну. Митридат скрывается где-то в его владениях и, как я слышал, внушает всем ужас. Почему бы Тиграну не выдать тестя для нашего триумфа?
Клодии взял свиток.
— Ты еще не оставил мысли провести старика по форуму?
— Этот старец моложе любого из своих сыновей и внуков. В нем не остывает пыл ненависти. Рим не может быть спокоен, покуда его голова не слетит с плеч.
— Но сам Сулла должен был отпустить Митридата с миром. Я уже не говорю о Мании Аквилии Младшем…
— Пока дышим, надеемся, — перебил Лукулл. — Объясни Тиграну на словах, что война не в его интересах. Напомни ему о преступлениях Митридата, о том, как он поступил с матерью и женами. Обещай, что римский парод сохранит за ним все его приобретения.
Дорога в Антиохию была подобна речи софиста. Она петляла так, словно ее единственной целью было доказать, что чем дальше уходишь от исходного пункта, тем становишься к нему ближе. В конце концов Клодии отослал проводников и двинулся напрямик.
На третий день пути с перевала ему открылись черепичные кровли Антиохии, некогда столицы Селевкидов, а ныне одной из резиденций Тиграна. Самого царя в городе не оказалось. По словам придворных, он был занят покорением каких-то приморских городов.
Смирившись с перспективой длительного безделья, юноша занялся осмотром города. С утра, облекшись в тогу, он погружался в толкотню улиц. Знакомясь с городом, он вскоре сам стал его достопримечательностью. Антиохийцы, известные своим пристрастием к роскоши, впервые увидели, что такое римский щеголь. Каждая складка на парадном одеянии Клодия лежала так, словно ее приклеили. Пола, перекинутая через левое плечо, была распущена красивым полукругом наподобие веера. Завязки сандалий образовывали на ноге замысловатый узел.
Впрочем, вскоре выяснилось, что антиохийцев привлекла к послу не одна его внешность. Одни хотели выяснить у римского посла, когда же со своим войском появится Лукулл. Другие выражали свое сочувствие тем, что приглашали Клодия отведать их яств, преподносили подарки и вообще одаривали знаками внимания. Узнав о прибытии в Антиохию римского посла, соседние города тайно отправляли к нему своих представителей.
И все это было прервано возвращением Тиграна. Он проехал по главной улице на белом коне в золоте и драгоценных камнях. За ним бежало четверо в коротких хитонах. Как объяснили Клодию антиохийцы, это были не рабы, а цари, владения которых захватил Тигран.
Зрелище это не смутило и не напугало Клодия. Получив в тот день у Тиграна аудиенцию, он передал ему требование консула о выдаче Митридата.
Тигран спокойно выслушал Клодия. Но послание Лукулла привело его в ярость.
— Твой начальник забыл, к кому он обращается, — сказал Тигран. — Я царь царей. Мне прислуживают цари. Я владею землями от моря до моря. Мои сокровищницы полны золота, а кладовые оружия. Стрелы моих воинов могут затмить солнце.
Клодий понял, что переговоры потеряли смысл.
Тигран обнял Митридата.
— Даже солнце среди бела дня закрывается тенью.
Тигран показал рукой в пространство за воротами. Под перекладиной ветер раскачивал фигуру в белом хитоне.
— Это он скрыл исходящий от тебя свет истины.
Вглядевшись, Митридат узнал в повешенном Метродора. «Еще один эллин, ставший на сторону моих врагов», — с горечью думал Митридат.
— Мы объединим наши силы! Мы поднимем против Рима весь Восток! Мы сбросим Лукулла в море!
Митридат иронически взглянул на своего зятя.
— Я давно уже не полагаюсь на своих родственников. Когда я был ребенком, мать лишила меня отца. Моя сестра Лаодика была заодно с римлянами. Махар, — голос Митридата дрогнул, — послал мою диадему Лукуллу. Мой зять, — Митридат сделал паузу, — едва не выдал меня. Теперь моя сила в слабости врагов. Однажды меня спасла их корысть. Теперь я рассчитываю на их соперничество.
НАСТУПЛЕНИЕ
Узкая горная дорога втянула в себя римское войско и на третий день пути выбросила на перевал. От открывшегося зрелища захватывало дух. За первой линией гор показалась другая. Вершины напоминали караван белых верблюдов. На них, как бурдюки с вином, висели окрашенные зарей облака. Ниже темнели леса, перетянутые извивами рек.
Это была Армения Тиграна, царство вечных льдов, избранное богами для наказания титанов, а может быть, и людей. Какой неразумный порыв гонит сюда Лукулла? Ослепленный блеском льдов, оглушенный шумом рек и грохотом обвалов, полководец не видит тех, кто идет за ним, не слышит их голосов. Он не догадывается о роли, которую взял на себя его родственник Клодий. В короткое время юноша стал солдатским кумиром и оракулом. Этот изнеженный потомок суровых бородатых консулов был создан для форума. С легкостью прирожденного оратора он превращал в ростры любой обломок скалы.
— Вас сделали рабами честолюбия и жадности. Вы идете на край света ради прихотей и капризов начальников. Вы охраняете мулов с награбленным золотом и драгоценностями. Эти богатства достанутся Лукуллу. Он пропьет и проест их в Риме с такими же обжорами и пьяницами, как он сам. А вам придется ни с чем возвращаться к своим остывшим очагам и голодным семьям.
Это был новый Гракх, такой же красноречивый и деятельный, но еще более опасный. Ибо его слушателями были не безоружные земледельцы, а воины, готовые повернуть свое оружие не только против полководца, но и против республики. Пока они только глухо ропщут и слушают зажигательные речи. Они еще повинуются легатам и центурионам и тащат на своих плечах груз войны.
Первый гонец прискакал в Тигранокерту к вечеру того же дня, когда римское войско, достигнув Евфрата, остановилось на привал. Перед вестником открылись обитые медью городские ворота и золотые двери царских покоев. Выслушав гонца, Тигран сделал еле заметный жест. И тут же фракийские телохранители сарапары отрубили гонцу голову.
Второй гонец прискакал утром и, проникнув тем же путем во дворец, сообщил о переправе римлян через Тигр. Царь царей поднял вверх указательный палец, и несчастного посадили на кол.
Но уже к полудню того же дня начальник царской конницы Митрабарзан, стоявший в десяти парасангах от Тигранокерты, сообщил о появлении передовых частей римлян. Выслушав донесение верного воина, царь царей произнес одно лишь слово, тотчас же занесенное в «Книгу деяний»: «Растоптать!»
Лукулл уже расположился лагерем под склоном холма с раздвоенной вершиной. Армянский стратег, буквально поняв приказ Тиграна, решил обрушиться на римлян сверху и был со всеми своими всадниками прижат оставленным в засаде легионом к лагерному валу. Те, кому удалось избежать гибели или плена, разнесли весть о неисчислимых силах римлян, об их луках, не дающих промаха, о непробиваемых панцирях.
Тигран, встревоженный вестью о разгроме своей конницы, покинул столицу. С ним были его гвардейцы, которых он, по образцу персидских царей называл «бессмертными», все его бесчисленные слуги, наложницы, евнухи. Когда беглецы проходили узким и тесным ущельем, на них напал Мурена. Множество армян было перебито, еще более пленено.
Тем временем Лукулл передвинул легионы к Тигранокерте и расположил их вокруг города. Каждому легиону были поручены ворота с участком стены. В течение нескольких часов на равнине выросли десять лагерей или «льняных городов», как их называли осажденные.
В АРТАКСАТЕ
Никогда еще древняя столица армянских царей не видела у своих стен такого огромного войска. Мидийцы привели всадников, закованных в латы из ослепительно сверкавшей маргианской стали. Со всеми силами явились царьки Адиабены. От Вавилонского моря прибыли полчища арабов на верблюдах, от Гирканского — толпы албанов. Заслышав об обещанном царем царей золоте, с Кавказа спустились сухопарые соаны и керкеты; с низин Фазиса пришли рыхлотелые колхи. Не было ни одного правителя, который бы не откликнулся на отчаянный призыв Тиграна. Даже враждовавший с ним Фраат, царь парфян, прислал сына с отрядом тяжеловооруженных воинов.
Таксил, которому было поручено ведение войны, насчитал полтораста тысяч пехотинцев, из которых семнадцать тысяч было заковано в броню, пятьдесят пять тысяч всадников, двадцать тысяч лучников и пращников. Людей же, занятых прокладыванием дорог, рубкой леса, наведением мостов, было тридцать пять тысяч.
Таксилу, сражавшемуся под Херонеей, было ясно, что разумнее избегать встречи с «неодолимыми»и предоставить Лукуллу возможность осаждать Тигранокерту, тем временем занявшись обучением воинов. Но узнав, что у него двухсотпятидесятитысячная армия против сорокатысячной римской, Тигран не хотел и слышать об отсрочке похода.
Хор придворных льстецов на пирах и в царском совете твердил ему о необходимости немедленно проучить зарвавшегося Лукулла. Поведение Таксила стало казаться едва ли не предательством. Когда подобные же советы через гонцов и в письмах стал давать Митридат, Тигран заподозрил, что понтийский царь из зависти отговаривает его от совершения великого подвига.
Не желая делить с Митридатом славу, Тигран не стал его дожидаться и выступил к Тигранокерте со своим колоссальным войском. Царские летописцы занесли в «Книгу деяний» его изречение той поры: «Жаль, что мне придется сражаться с одним Лукуллом, а не со всеми полководцами сразу».
ГНИЛОЕ ЯДРО
Тигранокерта, окруженная римлянами, сверху могла показаться понтийским орехом в серебряной кожуре. И это сравнение давно уже пришло кому-то на ум, сказавшему, что Лукулл обломает зубы о столицу Тиграна.
Напрасно день и ночь били тараны. Они дробились о гранитную толщу стен. Не помогли и подведенные римлянами гелеполы. Они рушились под ударами камней, выбрасываемых гигантскими катапультами.
— Попадись мне эллин, воздвигнувший эти стены, я бы его распял на кресте, — выдавил из себя Лукулл.
На лице у Мурены появилась улыбка. Ее называли змеиной, по созвучию имени легата с хищной рыбой, по виду напоминавшей угря.
— Сулла бы поступил иначе, — молвил Мурена. — Он бы наградил Никонида и ввел бы его в круг своих друзей.
— Тебе известен строитель? — воскликнул Лукулл.
— Еще бы! Фессалиец Никонид сопровождал моего отца в те годы, когда он пытался исправить Дарданский мир. После того как Сулла приказал ему возвратиться в Рим, Никонид перешел на службу к Митридату. Он соорудил осадные машины, едва не разрушившие стены Кизика, а потом, как говорят, перебежал к Тиграну. Мой Геркулес! Не он ли это стоит там наверху, у него такое же квадратное лицо и почти нет шеи.
Человек на стене размахнулся пращой, и свинцовое ядро, просвистев, упало в нескольких шагах от римлян.
— Недурно! — воскликнул Лукулл. — Твой знакомый к тому же неплохой стрелок.
Мурена кинулся к ядру. Подняв его, он повернулся спиною к стене.
— Так и есть! — сказал он подошедшему Лукуллу. — Это Никонид. Он приветствует тебя и приглашает в гости.
Мурена протянул Лукуллу ядро, и тот смог сам прочесть послание Никонида. Оно покрывало всю поверхность снаряда, и содержало сведения о составе гарнизона, наличии продовольствия, о недовольстве ассирийцев, гордиенцев, каппадокийцев, насильственно согнанных в Тигранокерту.
— Ты прав! — сказал Лукулл, пряча ядро. — Этот эллин действительно заслуживает награды. И когда падет Тигранокерта, я прикажу отлить для него такой же точно снаряд из золота. Я слышал, что Тигранокерту называют непробиваемым орехом, но если в орехе гниет ядро, не нужны и тараны.
Наступили октябрьские ноны, один из самых мрачных дней римского календаря. В этот день ровно сорок лет назад римляне в битве с кимврами потеряли восемьдесят тысяч воинов. И когда Лукулл еще только собирался переходить реку, отделявшую его войско от огромной армии Тиграна, Мурена крикнул ему вдогонку: «Ты забыл о черном дне!»
Лукулл обернулся. На нем был блестящий чешуйчатый панцирь и обшитая бахромою накидка.
— Что ж! Я и этот день сделаю для римлян счастливым! — крикнул он, обнажая меч.
Наблюдая за движением римлян к реке, делавшей к этом месте крюк, Т игран решил, что враг отступает.
— Смотри! — крикнул он Таксилу. — Вот и бегут твои неодолимые!
Таксил покачал головой.
— Римляне перед бегством не начищают щитов и не обнажают оружия. Блеск говорит…
Армянский стратег не успел закончить своей речи, как показались значки римских легионов. Они были обращены в сторону холма с плоской и широкой вершиной, под которой расположилась армянская броненосная конница. Вражеские всадники не могли подняться на этот холм, а пехотинцы были отрезаны от него своими же всадниками. Это был точный маневр, решивший исход боя.
Заняв холм. Лукулл дал знак фракийским и галатским всадникам, чтобы они ударили по армянской коннице с флангов; сам же устремился со своими когортами вниз.
— Подходить вплотную! Подходить вплотную! — кричал он.
Лукулл знал сильные и слабые стороны всадников, одетых в броню: они неуязвимы для стрел и дротиков, но их можно бить мечами в неприкрытые бедра и голени.
До схватки дело не дошло. Броненосные всадники, напуганные римской атакой, обратились в постыдное бегство. Всей своей тяжестью они обрушились на армянскую пехоту, стоявшую ближе к берегу. Возникла свалка. Римляне рубили бегущих, как овец, и топтали их конями.
Лукулл писал донесение в сенат. Он решил не пересчитывать трупы павших врагов. В конце концов, не все ли равно, сколько погибло этих азиатов, пятьдесят или сто тысяч. Цифра «сто» хлеще ударит по римским крикунам, изощряющимся в клевете и наветах. Пусть будет сто тысяч пехотинцев да и вся броненосная конница.
Снаружи послышался шум и голоса.
— Это ты, Мурена? — спросил консул, отрывая каламос от пергамента.
— Смотри, какая добыча! — воскликнул легат, врываясь в палатку.
Он рванул материю. Блеск золота и драгоценных камней ослепил Лукулла. Смарагды, топазы, рубины, укрепленные в золотых гнездах, составляли сказочный узор. Можно было различить фигурки грифонов, терзаемых орлом, и льва, попирающего своими лапами поверженные человеческие фигурки.
— Царская диадема, — протянул Лукулл.
— Да! Тигран, убегая, отдал ее на сохранение своему слуге, а тот был захвачен нашими всадниками.
— Лучше бы ты привел самого Тиграна, — сказал полководец. — Тогда бы в Риме не говорили, что я воюю с призраками.
Митридат, спешившись, медленно шел по тропинке, еще покрытой росой. Он наслаждался этим безоблачным осенним утром, и будущее казалось таким же ясным. Его план начал приносить плоды. За несколько недель он вернул большую часть своего царства. Оставленные Лукуллом гарнизоны сдавали города или разбегались. Легионеры прослышали, что Помпей более щедр, чем Лукулл, и обещает всем своим ветеранам землю в Италии.
— Повелитель! — услышал он голос Битаита.
После бегства Метродора Митридат окружил себя галатами. Битаит стал его главным телохранителем.
— Смотри, повелитель! — кричал галат, указывая на берег реки.
Там плелось несколько человек. Плащ на одном из идущих показался Митридату знакомым. Митридат вскочил на подведенного Битаитом коня и поскакал вниз.
И вот они встретились снова. Тигран бросился на шею Митридату.
— Все потеряно! — кричал он, заливаясь слезами. — Ты видишь самого несчастного из людей. У меня нет войска, нет столицы, нет сыновей!
— Почему ты меня не дождался! — воскликнул Митридат.
— Мой разум был ослеплен. Армия Лукулла показалась мне ничтожной, и я не устоял перед соблазном одним ударом покончить с римлянами.
Митридат хорошо понимал, что заставило Тиграна торопиться, но он обнял его за плечи.
— Еще не все потеряно, — сказал он. — Мой сын Фарнак набирает колхов. Я обучу их римскому строю.
ОТЕЦ
Войска уже выстроились в долине Арсания на виду у Артаксаты, когда поднялся столб пыли. Митридат озабоченно всматривался в даль. Он опасался обходного маневра римлян. Но складки на его лбу внезапно разгладились. Фарнак! Его сын! Его надежда! Он откликнулся на призыв и, преодолев Мосхийские горы, пришел на помощь отцу. Этот завистник Махар, обольщавший Фарнака и склонявший его к предательству, не смог помешать брату совершить этот подвиг, так же как не сумел овладеть Монимой. Чувство отцовской гордости, ранее едва ли знакомое Митридату, захватило его с невиданной силой. Чтобы скрыть выступившие на глазах слезы, он поднес ладонь к бровям, будто бы защищаясь от солнца.
Когда к нему вернулось зрение, он увидел, что римляне начали спускаться с холмов. Митридат насчитал двенадцать манипулов. По флангам двигалась вражеская конница. Мелькали черные хитоны фракийских всадников, блестели начищенные шлемы галатов.
Митридат бросил беглый взгляд на Тиграна. Его преисполненное важности лицо приобрело выражение растерянности. Он не ожидал, что у римлян окажется такая сильная конница. Он был уверен, что у него больше всадников.
— Передвинь влево мардийских лучников и иберийских копейщиков, — посоветовал Митридат.
Дернув поводья, он поскакал на правый фланг. Он хотел сражаться рядом с Фарнаком.
Видя, что римляне теснят мардийцев и иберов, Митридат повел в наступление скифов и колхов. Стремительная атака, которую никто уже не ожидал, заставила римлян дрогнуть. Дело дошло до рукопашной. Митридат сражался в первых рядах. Его меч опускался со свистом на головы римлян, и не нашлось ни одного, кто бы мог противостоять его ярости.
Но внезапно рука Митридата замерла. Он увидел, как раненный дротиком, упал Фарнак, Соскочив с коня, царь бросился к сыну.
Наклонившись, он поднял его обеими руками и понес перед собой как драгоценную ношу. Митридат уходил в горы, не слыша ни звона мечей, ни криков, раздававшихся сзади. Ему не было дела до Тиграна, его страны и армии. Он забыл и о своем царстве. В эти мгновения он был только отцом,
ЛУКУЛЛОВ ПИР
Возвращение в Рим было обещано сразу же после битвы. Но его пришлось отложить ввиду появления царьков-арабов, отдававших в руки Лукулла свои владения. На следующий день явились послы от парфянского царя с предложением дружбы и союза. На третий день пришло известие, что оправившийся от поражения Тигран идет с союзными ему иберами и колхами. Лукулл приказал свертывать палатки и двигаться навстречу неприятелю.
Но воины отказались повиноваться. Они удалились из лагеря подобно древним плебеям. «Священной горой» их вожак Клодий избрал берег горного озера.
Лукулл бросился к солдатам. Не было такого унижения, которому бы он себя не подверг. Он уговаривал каждого солдата поодиночке, со слезами на глазах обходя палатки. Но воины отворачивались от него, швыряя ему под ноги пустые кошельки. Они вспоминали, как он заставлял осаждать их бесчисленные горные крепости, как он нагружал их словно мулов провиантом и частями военных машин. Когда же наступало время брать богатые греческие города, он договаривался с греками о их добровольной сдаче. И то, что должно было наполнить солдатские мешки и кошельки, доставалось одному полководцу.
— Довольно! — можно было различить в реве солдат. — Воюй сам!
В отчаянии Лукулл бросился к Клодию. Он схватил его за руку, напоминая о своих благодеяниях. Но Клодий отстранил его. Протягивая свиток, скрепленный сенатской печатью, он сказал:
— Ты никто! Теперь полководец — Помпей.
Шатер подобно кузнечному меху впускал и выбрасывал гонцов с письмами и депешами, уполномоченных городских общин, центурионов, военных трибунов, легатов. Словно невидимые нити тянулись в эту глухую галатскую деревушку и сходились в руках у римлянина с дерзко вздернутым носом и стальными глазами. Никогда еще ни один из потомков Ромула не обладал такой властью. Сохраняя командование над морскими силами, Помпей получил в управление все провинции и войска, во главе которых стоял Лукулл. Одни шли в шатер с донесениями, другие с жалобами, третьи хотели заручиться его поддержкой. И Помпей каждому открывал полог шатра.
Он воевал в Италии, сражался в Сицилии, Африке и Испании, объезжал великое море в погоне за пиратами, но только теперь он ступил на землю, завоеванную Александром. И прежде находили, что он похож на великого македонца. Теперь же он докажет, что их роднит нечто большее, чем внешность.
— Кто еще хочет меня видеть? — спросил Помпей у секретаря-грека.
— Остался какой-то воин. Он сам назовет тебе свое имя.
В шатер вступил сухощавый человек в грубом дорожном плаще. В коротко подстриженных волосах поблескивала седина.
— Лукулл! — воскликнул Помпей.
— Я пришел поздравить тебя и передать эту небольшую вещицу.
Он снял с пальца перстень и протянул его Помпею.
Помпей наклонился. Его привлекла гемма.
— Юный Митридат! Но ведь мне предстоит сражаться со старцем.
— Сулла ценил эту безделицу. Я помню, как он сказал: «Вещи казненных приносят счастье!»
— Казненных! — воскликнул Помпей, взяв перстень двумя пальцами.
— Да! Таковы были слова Суллы. Ибо перстень принадлежал Аристиону. В то время философ был уже мертв. Для тебя я тоже мертвец.
Помпей сделал протестующее движение.
— Не лукавь! — продолжал Лукулл. — Ты ведь отменяешь мои приказы, подстрекаешь моих воинов к неповиновению. Мне известны твои слова, что я сражался с призраками.
— А я знаю, что ты назвал меня коршуном, пожирающим чужую добычу. Будто победа над Серторием не моя заслуга, будто кто-то другой разбил пиратов. Ты несправедлив, Лукулл!
— Справедлива одна лишь судьба. И я благодарен за то, что она сохранила меня для лучшего.
— Этот перстень сделал и тебя философом! — иронически заметил Помпей.
— Философом меня сделал Восток. Он научил меня радоваться жизни и не замечать ее огорчений. Воины не приняли моего приглашения. Я устрою праздник для квиритов. Я накрою пиршественный стол на форуме. Я перенесу сады Семирамиды на римские холмы. И слава моего пира даст мне больше, чем тебе твой триумф.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Отряд Митридата растянулся не более, чем на парасанг. Это все, что осталось от его великой армии. Но сейчас царь не думал о превратностях судьбы, не переживал утрат и поражений. Он искал взглядом своих детей. Вот они, его сыновья — Артаферн, Кир, Оксатрий, Дарий, Ксеркс. Вот дочери — Орсабарис, Эвпатра, Клеопатра, Датис, Ниса. Это его плоть и кровь.
У него всегда для них не хватало времени. Они рождались, делали первые шаги. Но он не слышал их голосов. Их матери и кормилицы не осмеливались надоедать ему рассказами о болезнях, шалостях, успехах его детей. Лишь иногда ему сообщали о их помолвках и свадьбах. И тогда он вспоминал, что у него есть сыновья и дочери, уже не дети, а взрослые. Но все равно их мир был для него неведом, а его заботы и волнения недоступны им.
Но теперь они рядом. И это было единственным утешением во всех бедах.
Но кто это скачет навстречу? Гонец. Какую он несет весть? Разлился Гипанис? Восстали гениохи? Или Махар открыл римским триремам путь в Боспор?
Нет! Вести превосходны. Махар, сжегши в Пантикапее корабли, бежал берегом в Херсонес.
Подозвав Фарнака, Митридат поделился с ним радостью:
— Ты слышишь, сын? Пантикапей открыл нам свои ворота. И мы можем продолжать борьбу.
— Но, отец, — возразил Фарнак, — у тебя лишь три тысячи воинов, и пройти через скифские запоры еще раз…
— Кто сказал тебе, что я воспользуюсь этой дорогой? Я обогну Понт с другой стороны. Римляне преследуют меня в Азии, я нападу на них из Европы с верными мне скифами и сарматами.
Фарнак закрыл глаза. План отца напомнил ему детскую игру «хвост и грива». Чертится круг и двое начинают бег. Побеждает тот, кому удастся прикоснуться к хвосту соперника. Знает ли отец об этой игре? И представляет ли он себе размеры круга?
— Испугался? — испытующе спросил Митридат.
— Нет! — поспешно отозвался Фарнак. — Просто у меня закружилась голова от величия твоей идеи. Я представил себе, как ты спустишься с горных вершин подобно лавине. И те, кто уже привыкли опустошать чужие города, будут сметены скифским потоком.
Дорога, пробившись сквозь заросли орешника, вывела на перевал. Понт распахнулся перед беглецами как стол, накрытый голубой волнистой скатертью. Когда-то Митридат мог сесть за него где хотел. Теперь судьба уделила ему крошечный уголок там, где Понт сходится с Меотидой, там, где прошла его юность. Оттуда он начнет борьбу сначала.
УТРО НАД КУРОЙ
Туман уползал в горы, и, как в полураскрытую дверь, входил новый день, наполненный сиянием, ликованием красок, пением птиц, рокотом струй. И хотя все это представало взору смертных бесчисленное множество раз, в каждом явлении утра, казалось, было что-то особенное и неповторимое.
Царь Арток поправил на голове шлем из барсовой шкуры. Казалось, он прикасался к своему прошлому. Ведь этого барса поразил отец, когда он, Арток, был еще мальчиком, Ему запомнилось ликование во дворце и устроенный отцом пир.
Чу! Вдалеке загудели рога. Послышался собачий лай. Начался звериный гон. Царские родичи и придворные рассыпались в цепь. Заблестели черные луки, сверкнули мечи и наконечники копий. Сейчас, сейчас из зарослей выбегут звери и замечутся, поражаемые стрелами и дротиками. Но вместо этого из-за скалы показался всадник. В нескольких шагах от царя он осадил скакуна и спрыгнул на землю. Сквозь повязку на его голове проступала кровь.
— Владыка иберов! — прокричал вестник, склонившись на колено. — Римляне вторглись в наши пределы. Они идут со стороны албанов, сея смерть!
— Как это случилось?
— Ороз, царь албанов, испугавшись римлян, пропустил их через свои земли.
— Чего они хотят? Что им надо у нас в горах?
— Римляне потеряли Митридата. Они ищут его повсюду, как уверяют, чтобы вырвать корни войны.
— Вы слышите? — обратился Арток к своим спутникам. — Римляне преследуют Митридата. Мы ожидали козлов и оленей, а на нас движутся хищники.
Над Амазис-Цихе вспыхнуло тревожное пламя сигнального костра. Оно озарило грозные башни царской твердыни и раскинутые под нею черепичные кровли Мцхеты. Проснулась вся Иберия от Сарапаны до Алазония, как ручьи, ниспадающие с гор, сходились к Мцхете царские воины, стройные и остролицые юноши, еще не бывавшие в бою, и ветераны сражений с албанами и армениями, участники походов против соанов и керкетов. И строились они на берегу Куры по сотням и тысячам. И жрецы закалывали жертвы богам, приносящим победу.
…Клодий сошел с дороги, чтобы пропустить вперед свою когорту. Последний переход был особенно тяжелым. Приходилось спускаться по каменной осыпи, расползавшейся под ногами. Но хуже всего были эти горные речушки! Казалось, ничего не стоило их перейти вброд, но они были такими же дикими и своенравными, как обитатели гор. Вчера ледяная вода сбила воина с ног и ударила головою о скалу. Его похоронили тут же, забросав тело камнями. Сколько таких холмиков осталось на всем пройденном войском пути от могилы Феридия. Но, кажется, воины разучились оглядываться. Полководцы приучили их смотреть вперед, привлекая богатством и почестями. А если обещанное не сбывалось, не трудно было найти виноватого. Новый полководец во всем обвинял старого!
Не сам ли Клодий содействовал падению Лукулла и возвышению Помпея? Но теперь Помпей ему так же ненавистен, как прежде Лукулл. Тот, по крайней мере, не корчил из себя великого полководца, не выступал с напыщенными речами. Если он и наполнял свою мошну золотом, то обходился без сравнений с аргонавтами, если он брал город, то не выставлял себя Прометеем. Знай титан, что людишки, которым он дал огонь, так будут вертеть его именем, он наверное бы сказал: «Живите себе во мгле!»
Дорога, змеясь, вывела войско к реке, которую проводник-армений назвал Курой. Она была известна Клодию как Кирн. Он слышал, что она вбирает в себя все потоки и впадает двенадцатью устьями в Гирканское море. Но он не мог себе представить, что бывают такие могучие реки.
— Козни врагов… римские орлы… триумф…
Река отделяла противников. На одном берегу были римляне, на другом — иберы. Ничто им не мешало видеть друг друга и даже обмениваться воинственными воплями. Но стрелы, даже если они перелетали через реку, не могли причинить вреда. Нечего было думать и о том, чтобы переправиться на конях. Река могла бы унести и слонов.
— Позвать Никонида! — распорядился консул.
С тех пор как римляне вступили в Тигранокерту, эллин служил в римском войске. Лукулл выделил в его распоряжение сотню галатов и с их помощью он сооружал мосты, чинил катапульты и баллисты. После отъезда Лукулла Никонид перешел на службу к Помпею и, находясь в лагере, жил с ним в одной палатке. С помощью Никонида Помпей открыл местоположение одной из царских сокровищниц. Правда, там не оказалось драгоценностей, которых ожидали римляне. Там были дневники царя на персидском языке и переписка с Монимой на греческом. Никонид в долгие зимние дни переводил царские дневники на латинский язык, и личность Митридата вставала перед консулом с такой полнотой, словно он был знаком с царем долгие годы.
— Эврика! — воскликнул Никонид, подбегая к Помпею.
— Что ты еще отыскал?
— Скалу посередине реки и неподалеку сосновый лес,
— Сколько тебе нужно помощников?
— Достаточно одной когорты.
— Ты ее получишь.
Днем воины вырубили в горах три огромных сосны, а с наступлением темноты подтащили их к реке и спустили в воду. Вода потащила бревна к скале, на которую уже перебралось несколько римлян вместе с Никонидом. Они вбили в камень стальные болты и укрепили ствол сосны так, что он лег на скалу комелем, а верхушка оказалась на берегу, зажатая двумя камнями. Таким же образом была сооружена другая половина моста.
Появление римлян на левом берегу вызвало замешательство среди иберов. Они бросились в ближайший лес. Помпей, окружив его со всех сторон, зажег во многих местах костры из влажных ветвей. Дым потянул в сторону леса. Задыхаясь, иберы выбегали и наталкивались на римские копья и мечи. Многие сотни погибли, еще более было взято в плен. Царь Арток со своей охраной ушел на реку Пелор, где высилась его крепость.
И пала в тот же день Мцхета, еще не видевшая врагов у своих стен.
ЗМЕИ
И снова калиги взметают сухую дорожную пыль. Поняв, что легионам не пройти через кручи Кавказа, Помпей двинулся в обход великих гор к Гирканскому морю.
Путь пролегает через земли албанов. Этот народ воинственнее иберов, потому что беднее их и даже не знает чеканной монеты. Забравшись на деревья, албаны осыпают пришельцев стрелами, сбрасывают с высоких утесов камни, разбирают висячие мосты. Но римлян не остановить. Их полководец неутомим. Говорят, что он поверил басням об амазонках и задумал переженить на них своих воинов.
И вот уже леса и горы сменились каменистой степью, где нет ни ручьев, ни колодцев, где солнце палит, как гончарная печь. Воду приходится нести на себе. Туники прилипли к спинам, ноги стерты в кровь. Но полководец так же настойчив и упрям:
— Вперед, воины! В трех переходах отсюда плещется Гирканское море. Оно еще не видело римских орлов.
Так бы и дошли римляне до самого Каспия, а может быть, и переправились бы через него, если бы не змеи. Змеи ползли непрерывным потоком, тысячи и десятки тысяч голов и извивающихся хвостов. Может быть, они переселялись в страну, где больше тени и воды, или их вел какой-нибудь змеиный консул против другого змеиного племени? Как бы то ни было, римские воины встретились со змеями, и это заставило их остановиться.
— Змеи! — меланхолически молвил Помпей, глядя на неожиданно возникшее препятствие. Раньше ему и его славе мешали люди, а теперь против него ополчилась сама природа.
— Ты не знаешь, Мурена, какие боги наслали на нас змей?
— Трудно сказать, — ответил легат, стирая со лба пот. — Но я полагаю, что те же, которые остановили Александра в Индии.
Консул повернул голову. Сравнение с Александром пришлось ему по душе.
— Да! Ты прав! Александра остановили змеи. Я думаю, что и нам незачем искушать судьбу. Тем более в этой стране не оказалось ни золота, ни драгоценных камней. Здесь нет даже воды, и болотца наполнены земляным маслом. — Он наклонился и зачерпнул ладонью черную тяжелую жидкость. — Прикажи наполнить этим бурдюк. Я хочу налить им светильники в храме Победы.
Войско повернуло назад. Багровое солнце освещало сгорбленные спины солдат.
Наконец-то их полководец взялся за ум. Может быть, он набрался мудрости от змей, которые ему преградили дорогу.
ПРОЩАЙ, ПОНТ!
В этот жаркий летний день обитатели древней греческой колонии — Амиса стали свидетелями необычного зрелища: к царскому дворцу, ставшему резиденцией консула, тянулись толпы чужеземцев.
По голубым, отороченным золотом хитонам можно было узнать тетрархов Галатии. Царьки Малой Армении были в белых кандиях и китарах, иберы в черных хитонах, опоясанных серебряными поясами. Правитель саков восседал на коне. За ним шли лучники с тростниковыми стрелами в золотых колчанах. На поклон Помпею явилось двенадцать правителей и множество военачальников со свитой и толмачами. Всех их пригласили в портик на берегу озера.
— Я собрал вас, — обратился Помпей к гостям, — чтобы сообщить: Митридат побежден. Теперь вы можете спокойно властвовать над своими народами. Никто не посмеет напасть на вас, изгнать из царств, возмутить ваших подданных, лишить достояния ваших сыновей. Кто решится после Митридата испытывать судьбу? С ним начал войну Маний Аквилий. Ее продолжили Сулла, Мурена, Лукулл. Потом командование перешло ко мне и вместе с войском — это.
Помпей торжественно поднял руку и повернул ладонь, чтобы все видели перстень.
— Здесь Митридат изображен красавцем, полным юношеского задора. Уже тогда он был одержим безумной и дерзкой мечтой — сокрушить Рим. Ради этой цели он шел на любое преступление. Пятьдесят раз в Риме сменялись консулы. Многие из тех, кто сражался с Митридатом юношами, уже старцы. А он стал подобен змее, у которой искрошились зубы. Он уполз в скифские степи. Иссяк его яд. Но и теперь он помышляет о мести, надеясь, что кто-нибудь другой примет у меня этот перстень и вместе с ним — войну. Но я отдам его только нимфам этих вод!
Помпей стянул перстень с пальца и занес руку назад. Все рванулись, словно желая удержать консула, но перстень, прочертив дугу, упал в озеро.
— Каков Поликрат! — шепнул Клодий Мурене.
Мурена поднес палец к губам, показывая, что здесь не место для разговора.
Они вышли за ограду.
— Помпей не может жить без подобных эффектов, — начал Клодий. — Правы те, кто производит его имя от «помпы». Перстень в воду, чтобы показать: война завершена. А ведь Митридат еще владыка на Боспоре и располагает сильным войском. — Внезапно замолкнув, он взял Мурену за руку. — Что же ты молчишь, мой наставник? Скажи: «Ты еще молод, чтобы судить о консулах». Но ведь Помпею было столько же лет, сколько сейчас мне, когда он получил триумф. И тебе известно, что он добился этого не умом, не талантом, а наглостью. Тем, что Сулла называл счастьем! Прощай! Мы были друзьями, хотя и приносили жертвы разным богам!
— Нет, у нас одни и те же боги, только у тебя дурная привычка разглядывать их лица. Мне же достаточно знать их имена.
Клодий оторопел. Мурена, которого он считал недалеким служакой, сумел в нескольких словах выразить то, что разделяло их пропастью. Мурена служил Дисциплине, Власти, Доблести и другим безликим именам, и это избавляло его от разочарований. У него не было никаких сомнений в правильности действий того или иного носителя власти. Он не осуждал их даже тогда, когда они приводили к бессмысленным потерям, возлагая вину на нерадивость воинов, суровость природы, коварство врагов, словно полководец не должен был предвидеть всего этого и принимать в расчет.
— Ты прав, — задумчиво молвил Клодий. — Но так уж я создан, чтобы различать лица. Для меня жизнь — это греческий театр с его поющим и пляшущим хором, с актерами, беспрестанно меняющими маски и становящимися на котурны. Для тебя — амфитеатр, где нет фантазии. Ты, Мурена, древний римлянин, а я заражен эллинским духом. Я ищу корифея, поклоняюсь кумирам.
— Кто же теперь твой кумир?
— Что ж, назову тебе: Гай Юлий Цезарь — единственный из римлян, осмелившийся возродить поруганные трофеи Мария. Цезарь — враг сулланцев, надежда республики.
Мурена не сводил с Клодия глаз. По их выражению трудно было понять, одобряет ли он увлечение своего друга. А может быть, как всегда, он безразличен к носителям власти. Там время покажет — Цезарь так Цезарь!
ПУРПУРНАЯ МАНТИЯ
Митридат с трудом оторвал от ложа голову. Она была налита тяжестью последних дней как свинцом. И только шум за стенами дворца, пронзая сознание, будил к жизни.
Дворец был стар, как город с варварским именем Пантикапей, и так же, как он, отдавал чем-то затхлым. Может быть, это запах зерна, сваленного в гавани? Его мочит дождь. Клюют птицы. За ним не идут корабли. Боспор Фракийский у римлян. И перепревшее зерно отравляет город, дворец, душу.
В детстве Митридат произносил «Понтикапей», наивно производя имя города от Понта Эвксинского. Но потом он узнал, что между Понтом и Пантикапеем нет ничего общего. Город получил название по протоку, текущему из гнилых Меотийских болот. Имя этому протоку Пантикап, что означает «рыбный путь». Эллины называют его Боспором Киммерийским.
Одно время Митридат мечтал дать городу новую жизнь, превратив его во вторую Синопу. Но войны помешали заняться Пантикапеем. Все здесь оставалось по-старому. Даже ложе стояло на том же месте.
Здесь беспечно дремали сыновья Митридата. Война была за Понтом. Она требовала лишь наемников и хлеба. Сыновья выкачивали степь как могли. Их мечтой было остаться здесь навсегда. Пантикапей заразил их своей сонной одурью, своим гнилым спокойствием.
Митридат не собирался отсиживаться за этими стенами. Он остановился здесь перед боем. Преследуемый Помпеем, он явился сюда за новыми воинами. По заросшим травой улочкам день и ночь скакали его гонцы, его глашатаи. Они будили спящих, обещая славу и золото свободным, свободу — рабам. Но пантикапейцы привыкли к своим домам с деревянными ставнями, к своей агоре с ее жалкими пыльными платанами, к запаху перепревшего зерна. И Митридат оставил их в покое. Пусть эти жалкие торгаши прозябают в своем гнилом городе. Митридат поведет в Рим скифов. Он уже отправил к скифским царькам своих дочерей. Он, царь царей, породнится с ними, а царьки дадут своих стрелков, свою непобедимую конницу. Он поведет их к Альпам. Римляне преследуют его в Азии, он нападет на них из Европы!
Шум снаружи звучал все настойчивее. Митридат прислушался. Нет, это не скифы, в которых он верил и ждал. Это его воины! Это мятеж! В крике можно уловить:
— Фарнак!
Что же привело Фарнака на путь измены? Помпей ему дороже отца? Страшная догадка осенила Митридата. Пурпурная мантия! Она не остановила его самого на пороге дворца в Синопе. Так почему же он ждет верности от сыновей?
Митридат опустил ноги на пол. Ступни ощутили прохладу камня. Расправляя плечи, он чувствовал себя таким же сильным, как в тот день, когда нес на плечах раненого Фарнака. Он любил его больше других сыновей и не скрывал этого. Он обещал одному ему свои богатства, свой трон.
— Битаит! — вполголоса позвал Митридат.
И тотчас на пороге выросла фигура галата. Как всегда, взгляд выражал готовность выполнить любой приказ. На щеках рубцы. Подобно таинственным знакам, покрывавшим скалы его родины, они могли бы много рассказать о жизни, полной тревог и схваток. Сколько раз он спасал Митридата от кинжала и яда! Но чем он мог помочь теперь?
— Мантию! — приказал Митридат.
Галат стоял неподвижно, словно не слыша приказания или не понимая его. Может быть, ему показалось странным, что повелитель, не снимавший неделями дорожного хитона, потребовал вдруг мантию? Или он, больше чем царь, знал о том, что случилось ночью?
— Что же ты стоишь? — раздраженно воскликнул Митридат, не узнавая своего телохранителя. — Я же сказал: мантию!
Галат, словно очнувшись, ринулся к двери, и через несколько мгновений Митридат ощутил всем разгоряченным телом прикосновение мягкой и холодной ткани.
Царь подошел к бронзовому зеркалу у стены, но не увидел своего лица. Мантия заполнила все зеркало, не рассчитанное на его рост. Фарнак был ниже его на голову. И может быть, это и было источником его зависти и вражды.
Резко обернувшись, Митридат зашагал к двери. Край мантии скользил по полу, обволакивая пурпурным сиянием мозаичные изображения. Художник избрал сюжетом спасение Ифигении от жертвенного ножа и ее перенесение в Тавриду. Это был миф, излюбленный местными эллинами. В нем было что-то и от его судьбы. Так же, как сын Агамемнона, он отомстил матери за убийство отца. Его преследовали эринии. Но где его Пилад? Где Ифигения?
Дул синд, приносивший прохладу с гор Кавказа. Мантия под порывом ветра натянулась, обрисовав широкие плечи и прямую спину царя. В свои шестьдесят лет Митридат был могуч, как в те дни, когда состязался с атлетами и наездниками.
При виде пурпурной мантии толпа у подножия акрополя зашумела еще неистовей. Над головами взметнулись кулаки. Нет, это не похоже на судилище, перед которым стоял Орест. Это обвинители. Им не нужны оправдания. Они требуют его отречения, его смерти.
Митридат подошел к краю обрыва. Теперь он видел всю агору. Слева у храма Аполлона колыхались черные хитоны понтийцев. Это с ними он громил римлян в Вифинии, с ними отступал через знойные горы Армении, с ними переправлялся через бурные реки Иберии. Это были эллины из Синопы и Амиса, пафлагонские пастухи, горцы Париадра. Для них он не был просто царем, но кумиром. Они пошли за ним на край света. Что же заставило их выйти на агору?
В косых солнечных лучах розовели плащи римских перебежчиков. Ветераны Мария и Сертория, они бежали от проскрипций Суллы и преследований сулланцев. Митридат открыл им двери своего дворца и запоры сокровищниц. Он дал им власть и богатство. Сколько раз ему предлагали мир на условии их выдачи. Послам Помпея было отвечено: «Друзьями не торгуют!» Эти слова записаны летописцами и войдут в историю.
У булевтерия все было синим. Словно хлынуло море и залило край агоры. Его моряки! В них он был уверен как в самом себе. В дни самых страшных поражений и неудач Митридат обращал свой взор к Понту, к колыбели своей власти. Он знал, что, покуда берега Синопы, Трапезунда, Диоскурии, Феодосии и Херсонеса охраняются его кораблями, ему не страшны римские легионы.
Митридат смотрел поверх голов. Кажется, эти мгновения принесли ему ту ясность взгляда, которая бывает раз в жизни, как любовь. Он увидел всю свою жизнь. Она была рекой, петляющей по степи. В верховьях в нее впадали бесчисленные ручьи. Он вспомнил их имена — Моаферн, Диофант, Лаодика, Архелай, Метродор. Это были люди, отдавшие ему свою жизнь. А он этого не замечал. И вот уже ни один ручей не входит в иссякающий поток. Он изнемогает от одиночества, которое сродни с Властью.
— Фарнак! Фарнак! — вопила толпа.
Лицо Митридата мучительно перекосилось. Он поднял руки к плечам и рванул мантию. Он отрывал ее от своего тела, как кожу.
Пурпурная мантия парила над Пантикапеем. Воины, задрав головы, следили за ней. Они уже забыли о человеке, который был их царем пятьдесят лет. Мантия уже не принадлежала ему. Она парила над агорой, как гигантская кровавая птица, как сама Власть, выбирая себе новую жертву.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Нет имени более известного, чем Митридат. Его жизнь и его смерть — это значительная часть римской истории. И даже не принимая в расчет побед, им одержанных, можно сказать, что одни его поражения целиком составили славу трем величайшим полководцам республики — Сулле, Лукуллу и Помпею».
Так в предисловии к трагедии «Митридат», поставленной на парижской сцене ровно триста лет назад, классик французской поэзии Жан Расин обосновывал свое обращение к историк Митридата VI Евпатора, царя Понта (132 — 63 гг. до н. э.).
У нашего интереса к судьбе последнего великого противника Рима есть особые причины. В состав созданной Митридатом могущественной державы входили юг современной Украины, западное побережье Кавказа. Полководцы Митридата воевали в Крыму, сооружали крепости в устье Днестра (древнего Тираса). Сам он, находясь в Сухуми (древняя Диоскурия), разработал план грандиозного похода на Рим, через всю Европу к Альпам. На горе, которая и теперь носит название «Митридат», в Керчи (древний Пантикапей), произошел заключительный акт трагедии понтийского царя. «Здесь закололся Митридат», — писал А. С. Пушкин.
Обратившись к Митридату и Митридатовым войнам, я понял, что многое в их истории скрыто для нас или искажено еще в древности усилиями тех, кто изображал события с позиций победителей — римлян или им в угоду. В рассказах греко-римских писателей понтийский царь предстает в подробностях, связанных с его невероятным аппетитом, огромной физической силой и удивительной способностью противостоять действию яда. Но каким был духовный облик этого человека, сумевшего поднять на борьбу с Римом многочисленные народы и державшего в напряжении в течение сорока лет весь мир?
Восстанавливая образ Митридата, я обратился к истокам его долгой жизни. О детстве Митридата известно лишь то, что в двенадцатилетнем возрасте царь покинул дворец в Синопе, спасаясь от преследований опекунов, и вернулся туда через семь лет, сбросив с престола мать. По словам древнего историка, все эти годы изгнания прошли в горах Армении среди диких зверей и невежественных пастухов. Этому свидетельству противоречит всесторонняя образованность Митридата, знание им 22 языков, глубокое понимание греческого искусства. Очевидно, древний историк, слышавший о бегстве Митридата и его семилетнем отсутствии, не имел представления о том, где и как провел юный Митридат семь лет своего изгнания. Горы и дикие звери перекочевали в вымышленную историю Митридата из ходячих легенд о юности Кира, Ромула и других основателей великих государств.
Изучив обстоятельства воцарения Митридата на Боспоре, относящегося как раз к концу его семилетнего изгнания, я понял, что детство Митридата прошло в Пантикапее. А это в свою очередь привело к пониманию той роли, которую сыграло Северное Причерноморье не только Б судьбах тогдашнего мира, но и в личной судьбе Митридата. Так вошли в роман образы сподвижников Митридата, греков Диофанта, Архелая, Неоптолема, действовавших в качестве полководцев и дипломатов на землях древнего Крыма, а также фигуры скифов Палака и Савмака.
О последнем, как об участнике и вожде восстания в Пантикапее, сообщает найденная в Херсонесе (современный Севастополь) надпись. Она указывает, что скифы с Савмаком во главе убили правителя Боспора Перисада и захватили власть, которая должна была перейти к Митридату. Без должных оснований одно время под скифами понимались рабы. Савмак также считался рабом, вскормленным Перисадом. Согласно моему пониманию текста надписи, воспитанником Перисада был не Савмак, а Митридат, изгнанный из своей столицы вскоре после убийства отца и преследуемый матерью. Бездетный Перисад сделал юного изгнанника наследником, чем вызвал возмущение скифов, составлявших значительную часть местного населения.
Последующие события изложены мною в соответствии с рассказами древних историков о Митридатовых войнах. Историческим фактом является и второе бегство царя из Синопы, целью которого было ознакомление с городами Азии и театром будущих военных действий. Несколько смещая время этого тайного путешествия, я ввожу Митридата в гущу политической борьбы. Наблюдая воочию римский гнет и его последствия, Митридат укрепляется в мысли о неизбежности столкновения с Римом.
Давая в спутники Митридату Аристиопа, я исходил из последующих событий, в которых этому афинскому философу принадлежала весьма значительная роль. Пользуясь военной поддержкой Митридата, Аристион изгоняет из города богачей, пособников римлян, и восстанавливает демократию. Падение Афин и трагическая гибель Аристиона означали крушение надежд греков на восстановление своей свободы.
Выявляя связи Митридата с Аристионом, Диофантом, Архелаем, я стремился раскрыть сложность отношений Митридата с греками. Выставляя себя другом и защитником всех эллинов, Митридат был, однако, кумиром определенных групп греческого населения. С самого начала Митридата поддерживали жители греческих городов, страдавшие от насилий римских наместников и ростовщиков, — бедные ремесленники, закабаленные крестьяне, матросы. Крупные греческие землевладельцы и торговцы оказывали Митридату поддержку, пока он одерживал победы. Первые неудачи Митридата толкнули их в стан римлян, сделали участниками заговоров и восстаний. Так можно объяснить и поведение ближайших друзей Митридата, впоследствии перешедших на сторону его врагов.
Во время раскопок на берегах Черного моря, на побережье Малой Азии и в Греции находят монеты с изображением профиля пышноволосого юноши, чем-то неуловимо напоминающего Александра Македонского. Это капли обильного золотого дождя Митридата, некогда пролившегося на города Европы и Азии. Подобно мифическому дождю Зевса, он проник в самые непроницаемые уголки римского мира, укрепляя веру в могущество новой державы или возбуждая надежду на наступление золотого века.
Золото, добываемое Митридатом в Колхиде, превратилось в оружие, успешно противостоящее железной мощи римских легионов. Оно позволило ему выдерживать войну с Римом на протяжении многих лет, поднимать из глубин Азии и Европы все новые и новые полчища наемников, сооружать могущественный флот, вызывать восстания в глубоком тылу у римлян.
Как символ могущества Мнтридата и гибкости его политики, появилась в романе история золотого статера. С его помощью была куплена преданность простого рыбака Евкрата, поднявшего на сторону Митридата насильственно набранных римлянами вифинцев. Этот же Евкрат становится впоследствии грозным пиратом Трехпалым, не раз выручавшим своего повелителя в трудные для него минуты.
Пираты на самом деле были верными союзниками Митридата, обеспечивавшими связь между ним и его далекими союзниками. Пиратские миопароны были наиболее подвижной и неуловимой частью гигантского флота Митридата. Предпринятая сенатом акция по уничтожению пиратства была частью плана борьбы с Митридатом, а победитель пиратов Помпей получил командование в завершавшейся войне.
С рождением Митридата связывались многочисленные легенды. Одна из них рассказывала о комете, освещавшей в течение семидесяти дней полнеба. Это будто бы возвещало длительность жизни понтийского царя и масштабы его завоеваний. Но образ кометы имеет и другое значение: комета исчезает, не оставляя следов. Так и яркая жизнь Митридата промелькнула в истории, не оставив прочных результатов. Взлет Понтийского царства был блестящим, но коротким. Сыновья Митридата не смогли взять на себя ношу его власти. В связи с одним из них, Фарнаком, восставшим против своего отца, Юлий Цезарь скажет впоследствии свою известную фразу: «Пришел, увидел, победил!»
Трагедия Митридата — это трагедия любой деспотической власти, несущей в самой себе яд. Митридат действует средствами, которые потом обращаются против него самого. Он видит в людях ступеньки на пути к славе и могуществу, и лестница, ведущая его вверх, рушится. Он гибнет не от яда, с которым он умел бороться, а от одиночества, покинутый и преданный теми, кого он возвысил или дал жизнь.
СЛОВАРЬ
Аврелий Котта — консул 74 г . до н. н., разгромленный Митридатом при Халкедоне.
Автолик — мифический основатель Синопы. Его статуя была увезена Лукуллом, взявшим столицу Понта.
Агора — рыночная площадь и центр политической жизни в греческих городах.
Адиабена — местность в Ассирии.
Академ — герой, место почитания которого близ Афин дало название философской школе Платона.
Акинаки — скифские мечи.
Акций — город на западном побережье Греции.
Алазоний — река в кавказской Иберии.
Албаны — группа племен, населявших восточную часть Закавказья. Они говорили на 26 языках.
Аллия — пряток Тибра, прославленный битвой меж римлянами и галлами (18 июля 387 г . до н. э. ).
Альбулла — древнее название Тибра.
Амасия — город на реке Ириде, древняя столица понтийских царей, захваченная в 70 г . до н. э. Лукуллом.
Амазонки — в греческих сказаниях воинственное племя женщин в Малой Азии, затем переместившееся в район Кавказа.
Амис — город в Понтийском царстве на побережье между Синопой и Трапезундом (ныне Самсун).
Амфора — сосуд с двумя ручками из глины, но также из металла, дерева и стекла для хранения масла, вина. Применялась также в качестве погребальной урны.
Амфитрита — в греческих легендах дочь морского бога Нерея, супруга Посейдона. Как владычица морей почиталась вместе с Посейдоном.
Амнейон — река в Пафлагонии, в долине которой Митридат одержал победу над Никомедом.
Аиахарсис — один из семи мудрецов древности, скиф из царского рода, изучавший греческие обычаи и культуру.
Анаитида — богиня древних персов и армян. В жертву богине приносили быка, окропляя людей его кровью.
Анхиз — отец троянского героя Энея.
Антиохия — название шести городов, основанных в Азии и носящих имя царя Антиоха.
Апи — богиня Земли у скифов, супруга верховного бога Папая.
Аппиева дорога — древнейшая мощеная дорога в Италии от Рима до Капуп, сооруженная Аппием Клавдием в 312 г . до н. э.
Аргантоний — царь древнейшего на Пиренейском полуострове государства Тартесс (VII в. до н. э. ).
Арес — бог войны у греков, олицетворение свирепой воинственности. В Риме отождествлен с италийским богом Марсом.
Ариман — дословно: «Враждебный дух»; в древнеперсидской мифологии бог зла и тьмы, находящийся в вечной вражде с Ормуздом, божеством добра и света.
Аристион — философ и оратор, захвативший во время первой Митридатовой войны при поддержке Митридата власть в Афинах. Казнен Суллой в 87 г . до н. э.
«Арго»— корабль мифических героев аргонавтов, плывших в Колхиду за золотым руном,
Аристофан — прославленный афинский комедиограф (450 — 388 гг. до н. э. ).
Архелай — полководец Митридата, руководивший захватом Пирея, командующий царскими войсками в битвах при Херонее и Орхомене, доверенное лицо царя на предварительных переговорах по заключению мира с римлянами.
Артаксата — древняя столица армянских царей. Построена, по преданию, бежавшим из Карфагена Ганнибалом.
Аристоник — побочный сын пергамского царя Евмена II, руководивший восстанием против римлян (132 — 129 гг. до н. э. ).
Артемида — богиня охоты у греков. В Риме сливается с местным божеством луны Дианой.
Артемисион — храм богини Артемиды в Эфесе, считавшийся одним из семи чудес света.
Аспасия — супруга Перикла. Асклепий — бог-врачеватель у греков.
Атрий — центральная часть римского дома, вокруг которой располагались остальные помещения.
Атропатена — часть Мидии.
Аттис — фригийское божество природы, возлюбленный Кибелы.
Ахейцы — воинственные племена на восточном побережье Понта Эвксинского.
Ахемениды — род персидских парей. Аэды — певцы-сказители.
Базилика — дословно: царский зал; у греков место для собрания официальных лиц.
Баллиста — метательное орудие.
Бастарны — германское племя, перекочевавшее в III в. до н. э. в низовья Дуная. Из числа бастарнов вербовались наемники македонскими и понтийскими царями.
Беллона — богиня войны у римлян, считалась супругой (по другому варианту мифа — сестрой) Марса.
Беотия — восточная часть средней Греции с главным городом Фивы.
Бирема — римский корабль с двумя рядами весел.
Борисфен — древнегреческое название реки Днепр.
Бокх — мавританский царек, выдавший римлянам своего родственника Югурту.
Борей — бог северного ветра, обитавший, по преданиям греков, во Фракии.
Боспор Фракийский — пролив между Европой и Азией, связывающий Пропонтиду (Мраморное море) с Понтом.
Боспор Киммерийский — ныне Керченский пролив.
Брундизий — портовый город на Адриатическом море.
Булевтерий — городской совет и его здание.
Буцефал — знаменитый боевой конь Александра Македонского, усмиренный Александром. В его честь назван город.
Ваал — дословно: господин, владыка. Обозначение бога у народов Сирии и Финикии.
Византии — греческая колония на Боспоре, основанная греками-дорийцами.
Вифиния — царство в северо-западной части Малой Азии со столицей в Никомедии.
Галис — самая крупная река Малой Азии.
Галаты — народность во внутренней части Малой Азии, переселившаяся в III в. до н. э. из Европы.
Галикарнасс — греческий город на побережье Малой Азии.
Гарпии — богини вихря, бури у греков; изображались в виде птиц с девичьими головами; по одной из распространенных легенд гарпии расхищали и оскверняли пищу слепого Финея, обрекая его на голод.
Гаруспики — этрусские жрецы, гадающие по внутренностям животных.
Гемма — резной драгоценный или полудрагоценный камень.
Гениохи — племя на западном побережье Кавказа.
Гелиос — бог солнца у греков.
Гептахалк — храм в западной части Афин, в районе которого римляне прорвались в город.
Гермес — в греческих легендах — вестник олимпийских богов, покровитель глашатаев, послов, путников, бог торговли и прибыли. Римляне, заимствовав культ Гермеса, почитали его под именем Меркурия.
Геродот — греческий историк V в. до н. э., считающийся «отцом истории».
Гиганты — в греческих сказаниях великаны, дети Земли, восставшие против олимпийских богов.
Гиматий — верхняя одежда греков, плащ.
Гимнасий — у греков место для гимнастических занятий и состязаний.
Гимнасиарх — руководитель гимнастических упражнений.
Гипотоксоты — конные стрелки.
Гирканское море — одно из названий Каспия.
Горгоны — мифические чудовища, помещавшиеся на Дальнем Западе. Изображения горгон делались для отпугивания злых духов.
Дамосикл — упоминаемый в надписях политический деятель Херсонеса Таврического.
Дандарии — одно из племен меотов.
Дардания — область Трои у гор Иды, получившая название по фракийскому племени дарданов.
Дарий — царь древних персов и организатор Персидского государства после смут и восстаний. 522/521 гг. до н. э.
Дева — богиня, покровительница Херсонеса Таврического.
Дедал — мифический строитель лабиринта, художник, скульптор, первый человек, поднявшийся в воздух па искусственных крыльях.
Дельфы — святилище Аполлона в Фокиде со знаменитым оракулом.
Демиург — ремесленник, творец.
Деметра — богиня плодородия у греков. В Риме слилась с культом италийского божества Цереры.
Диадема — головная повязка, считавшаяся символом царского достоинства.
Дикроты — легкие суда военного флота.
Динарий — римская серебряная монета.
Дионис — бог вина и виноделия у греков, у римлян — Вакх.
Диоскурия — город на кавказском побережье Черного моря, на месте современного Сухуми.
Диоскуры — божественные близнецы, спасители во всех бедах, особенно в сражениях и бурях.
Дипилонские ворота — ворота в Афинах.
Дифил — драматург из Синопы, современник Менандра.
Драхма — греческая монета, состоящая из шести оболов.
Еврипид — крупнейший греческий драматург V в. до н. э.
Евпаторий — опорный пункт Понта на Тавриде. Построен Диофантом.
Иберы — племена, населявшие Испанию.
Иберы — племена Закавказья, предки грузин.
Иды — 13 или 15 число римского месяца.
Ио — возлюбленная Зевса, преследуемая Герой.
Ирида — река Б Пафлагонии.
Истр — древнее название Дуная.
Кабира — город в долине Лика с царским дворцом.
Кадмеи — акрополь беотийского города Фнв.
Календы — начало месяца у римлян.
Калиги — грубые солдатские башмаки у римлян.
Камара — судно особого типа у племен западного побережья Кавказа.
Камея — резной камень, употреблявшийся как украшение.
Кандий — персидский плащ.
Капитолий — один из семи римских холмов с крепостью и храмом Юпитера Капитолийского, священный центр Рима.
Капуя — город в Кампании.
Кастор — один из братьев Диоскуров.
Катапульта — метательное орудие.
Квестор — должностное лицо в Риме. В войске ведал казной.
Квинквиремы — римские суда с пятью рядами весел.
Керамик — квартал в Афинах.
Керасунт — город в Понте.
Керкинитида — греческая колония на западном побережье Таврики. Основана в VI в. до н. э.
Кефис — река в Беотии.
Киликия — гористая область в юго-западной части Малой Азия.
Кимвры — германское племя, вторгшееся в конце II в. до н. э. в Галлию и Италию.
Киммерийцы — древнейшие обитатели Северного Причерноморья.
Кифара — музыкальный инструмент.
Клио — муза истории у греков.
Клодий — римский политический деятель, начавший службу в войске Лукулла, впоследствии известный как сторонник Цезаря.
Когорта — воинская единица в римской армии после реформы Мария, 500 — 600 человек.
Колхи — жители болотистой низины в нижнем течении Фазиса (Риона).
Комана — город в Каппадокии, храмовый центр культа Кибелы.
Комиции — народное собрание у римлян.
Конкордия — божество, олицетворяющее согласие между гражданами Рима.
Консуляр — бывший консул, часто наместник провинции.
Кора — в греческой мифологии дочь Зевса и Деметры.
Кордак — непристойный танец.
Коринф — богатейший греческий город, центр искусств, разрушен в 145 г . до н. э. римлянами.
Корфиний — город в Италии, центр антиримского восстания.
Кратер — сосуд для смешивания вина с водой.
Левка — городок, близ которого было крупное сражение между гелионолитами Аристоника и римлянами.
Легат — назначенный сенатом посол; помощник полководца.
Легион — воинская единица у римлян, включавшая после реформы Гая Мария 5000 — 6000 воинов.
Лекиф — сосуд у греков.
Лектика — носилки у римлян.
Лемурии — праздник мертвых у римлян.
Лесха — место собраний у греков.
Ливии Друз — народный трибун 91 г . до н. э., добивавшийся для италиков прав римского гражданства.
Лидийцы — могущественный народ Малой Азии, покоренный в середине VI в. до н. э. персами.
Ликей — один из трех гимнасиев в Афинах, излюбленное Аристотелем место для бесед с учениками.
Лик — река в восточной части Малой Азии.
Ма — одно из имен Кибелы.
Магий Марк — посланник Сертория, ставший полководцем Митридата.
Маний Аквилий Старший — римский политический деятель и полководец, подавивший восстание Аристоника.
Маний Аквилий Младший — римский полководец, разбитый Митридатом Евпатором и попавший к нему в плен.
Мардийцы — одно из персидских племен.
Марий Гай — выдающийся римский полководец и политический деятель, семь раз консул.
Марсово поле — равнина между Тибром, Капитолием и Квириналом: служила местом народных собраний и воинских упражнений.
Масинисса — нумидийский царь, союзник Рима в последней войне с Карфагеном.
Махар — сын Митридата, правитель Боспора.
Медуза — одна из горгон, единственно смертная из трех сестер.
Менандр — афинский драматург III в. до н. э.
Меотида — древнегреческое название Азовского моря.
Меркурий — см. Гермес.
Метродор — писатель I в. до н. э., уроженец города Скепсиса, известен своими направленными против римлян сочинениями; при дворе Митридата получил титул «отца царя», впоследствии перебежал к Тиграну.
Мидия — область мидийцев, создавших в Азии в VII-VI вв. до н. э. могущественную державу.
Микены — город в Аргосе, бывший во II тыс. до н. э. столицей могущественного Ахейского царства.
Милет — богатейший город на эгейском побережье Малой Азии.
Миопароны — пиратские суда.
Монета — одно из имен римской богини Юноны. В храме Монеты чеканили деньги, откуда значение слова монета.
Мосхи — племя в Закавказье.
Мурена Луций Лициний Старший — римский полководец, легат Суллы.
Мурена Луций Лициний Младший — римский полководец, легат Лукулла.
Муциевы луга — местность в Риме.
Мцхета — древняя столица закавказских иберов.
Неаполь — дословно: «новый город»; название ряда городов, в частности греческой колонии в Кампании и скифской столицы в Крыму.
Немесида — богиня возмездия у греков.
Нереиды — в преданиях греков дочери морского бога Нерея; из 50 нереид наиболее известны супруга Посейдона Амфитрита и мать Ахилла Фетида.
Никомедия — столица Вифинии.
Никонид — фессалиец, руководитель осадных работ и строитель военных машин в войске Митридата.
Нола — греческий город в Италии.
Номад — кочевник.
Ноны — седьмое или девятое число римского месяца.
Нумидия — область Северной Африки, населенная нумидийцами, или берберами.
Нундины — римская неделя.
Ойкист — должностное лицо, назначавшееся для вывода и организации колоний.
Ойкумена — вселенная.
Олимп — гора в Северной Греции, в мифологии место обитания богов.
Олимпия — город в Элиде, место проведения общегреческих игр.
Ормузд — дословно: «Премудрый владыка»; в древнеперсидской мифологии божество света и добра, находящееся в вечной борьбе с Ариманом. Борьба, по представлениям персов, должна была завершиться победой Ормузда — торжеством добра над злом, света над мраком.
Орфей — в греческих легендах фракийский певец, чудесным пением и игрой на золотострунной кифаре смирявший диких зверей, заставлявший двигаться камни.
Орхестра — круглая площадка в греческом театре, где происходит действие.
Остия — порт Рима в устье Тибра.
Папай — верховный бог скифов.
Париадр — горы на границах Каппадокии и Армении.
Парфяне — одно из могущественных иранских племен, ставшее соперником Рима.
Патры — портовый город в Западной Греции.
Пафлагонцы — народность в Малой Азии. Пентеры — судно у греков с пятью рядами весел. Перикл — вождь афинской демократии, стоявший во главе государства в 444 — 429 гг. до н. э.
Перистиль — внутренний дворик греческого дома, заимствованный впоследствии римлянами.
Пилум — дротик у римлян. Пирей — порт Афин. Пифия — жрица Аполлона в Дельфах.
Пифос — большой глиняный сосуд, преимущественно для храпения зерна.
Полидевк (Поллукс) — один из братьев Диоскуров. Помона — богиня, покровительница плодов у римлян.
Посейдон — у греков бог — владыка морей; ему соответствует римский Нептун.
Прекрасная гавань — поселение херсонеситов в Западном Крыму.
Претор — должностное лицо у римлян, помощник консула.
Преторий — командный пункт в римском лагере.
Проконесс — остров Пропонтиды с древними разработками мрамора.
Пропилеи — монументальные ворота афинского акрополя.
Пропонтида — древнее название Мраморного моря.
Протей — подчиненное Посейдону морское божество у греков, принимавшее разный облик.
Рапсоды — странствующие исполнители эпических песен.
Рифейские горы — мифические горы на севере Европы.
Ритон — рог для питья.
Родос — остров у юго-западного побережья Малой Азии.
Роксоланы — племя, кочевавшее во II в. до н. э. к востоку от Дона.
Савроматы — племя в Северном Причерноморье.
Сангарий — река в Вифинии, место первой победы Митридата над римлянами.
Сапфо — греческая поэтесса VII в. до н. э., родоначальница любовной лирики.
Сатрапии — административные единицы в Персидском государстве, созданные Дарием I.
Симплегады — в греческой мифологии сталкивающиеся горы.
Синды — племя на Северном Кавказе.
Скамандр — река в Троаде.
Сколоты — самоназвание скифов.
Скороба — гора на границе Пафлагонии и Вифинии.
Софокл — великий афинский драматург V в. до н. э.
Соаны — кавказские горцы, предки сванов.
Стадий — мера длины у древних греков, около 200 м .
Статер — греческая монета.
Стола — верхняя женская одежда.
Субура — торговый квартал в Риме.
Сцилла и Харибда — мифические чудовища, поглощавшие корабли.
Тавры — обитатели Крымских гор в древности.
Танаис — древнее название Дона.
Тарквинии — этрусские правители Рима (VI в. до н. э. ).
Тарпейская скала — обрыв на Капитолии, с которого сбрасывали преступников.
Тартесс — древнейшее государство на Пиренейском полуострове.
Тасий — царь роксоланов.
Тевкр — древнейший царь Троп.
Тевтоны — германское племя, вторгшееся в Италию.
Тетрархи — правители галатов.
Тиара — головной убор у персов.
Триеры — греческие военные корабли.
Триремы — римские военные корабли.
Тритон — морское чудовище.
Триумф — в Риме торжественная церемония встречи победившего войска и полководца.
Фазис — древнее название реки Рион (Закавказье).
Фаланга — воинская единица у греков и македонцев.
Фалера — знак отличия для римских воинов.
Фанагория — греческий город восточной части Боспора.
Фемискира — плодородная долина в Понтийском царстве.
Фемистокл — афинский политический деятель V в. до н. э., основавший морское могущество Афин.
Феодосия — греческий город, входивший в Боспорское царство.
Феофраст — ученик Аристотеля, автор «Истории растений».
Фиал — сосуд для питья у греков.
Фивы — древнейший город Беотии, построенный, по преданию финикийцами.
Фламины — римские жрецы.
Форминга — музыкальный инструмент у греков.
Фракия — область на севере Балканского полуострова.
Фригийцы — народность в Малой Азии.
Хабеи — скифское укрепление в степной части Крыма.
Халибы — мифический народ кузнецов, помещаемый в Малой Азии.
Харон — в греческих мифах перевозчик душ умерших через реку подземного царства.
Хитон — одежда у греков.
Хламида — короткий плащ у греков.
Церера — см. Дометра.
Циклопы — в греческой мифологии одноглазые великаны.
Цинна Корнелий — римский политический деятель, противник Суллы.
Эдил — должностное лицо у римлян, ведавшее благоустройством города.
Экклесия — народное собрание в Афинах.
Эос — богиня зари у греков.
Эфебы — юноши, проходящие военное обучение.
Эфес — греческий город в Малой Азии.
Югурта — царь, возглавлявший в 111 — 105 гг. до н. э. сопротивление нумидийцев римской экспансии.
Ямбул — автор первой известной нам утопии «Государство Солнца».






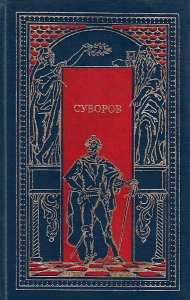

Комментарии к книге «Пурпур и яд», Александр Иосифович Немировский
Всего 0 комментариев