Е. Б. ЧернякТайны Франции заговоры интриги мистификации
СОКРОВИЩА ТАМПЛИЕРОВ И КАЗНЬ РЫЦАРЕЙ ХРИСТА
Среди политических процессов средневековья особое место занимает суд над тамплиерами. Церковный орден тамплиеров (в переводе — «храмовников», от Иерусалимского храма) возник после первого крестового похода конца XI в. Он во многом походил на такие предназначенные для борьбы с «неверными» организации, как орден госпитальеров или тевтонский орден, который, как известно, стал главным орудием средневекового немецкого «Дранг нах остен». Устав тамплиеров, одобренный в 1128 году, позднее был дополнен многочисленными секретными правилами, касавшимися внутренней организации ордена. Рыцари ордена — он широко вербовал себе членов во Франции, Англии, Германии и других западноевропейских странах — сыграли немаловажную роль в попытках отстоять завоевания, сделанные крестоносцами в Сирии и Палестине. Папы щедро наделяли тамплиеров различными привилегиями. После того как в 1291 году пала Аккра, последний оплот крестоносного воинства на Ближнем Востоке, орден, численность которого составляла до 20 тыс. человек, перебрался на Кипр.
Еще во время борьбы с мусульманами тамплиеры совмещали ратное дело с умелыми финансовыми операциями, умножавшими их богатство. К началу XIV в. орден тамплиеров занялся торговлей и ростовщичеством, стал кредитором многих светских монархов, обладателем огромных богатств (часть этих сокровищ, хранившихся в тайниках рыцарских замков, и поныне разыскивают археологи или просто охотники за кладами).
То была организация, не знавшая государственных границ. Ее отделения в различных странах сделались государством в государстве, возбуждали повсеместно недовольство и подозрения, поэтому против ордена нетрудно было возбудить ненависть толпы. Все это вполне трезво учел такой решительный и совершенно бесцеремонный политик, каким был французский король Филипп IV Красивый, успевший уже выдержать нелегкую борьбу с папством. Обеспокоенный вовсе не зашитой веры и чистоты нравов, что ему позднее приписывали некоторые историки, Филипп попросту стремился наложить руку на имущество ордена. Однако, конечно, он предпочитал, чтобы это выглядело не как грабеж, а как справедливое наказание за грехи, к тому же одобренное единодушным решением и светских, и духовных властей.
Воспользовавшись в качестве предлога каким-то случайным доносом, Филипп приказал без шума допросить нескольких тамплиеров и затем начал секретные переговоры с папой Климентом V, настаивая на расследовании положения дел в ордене. Опасаясь обострять отношения с королем, папа после некоторого колебания согласился на это требование, тем более что встревоженный орден не рискнул возражать против проведения следствия.
Тогда Филипп IV решил, что настало время нанести удар, 22 сентября 1307 года Королевский совет принял решение об аресте всех тамплиеров, находившихся на территории Франции. Три недели в строжайшем секрете велись приготовления к этой совсем нелегкой для тогдашних властей операции. Королевские чиновники, командиры военных отрядов (а также местные инквизиторы) до самого последнего момента не знали, что им предстояло совершить: приказы поступили в запечатанных пакетах, которые разрешалось вскрыть лишь в пятницу, 13 октября. Тамплиеры были захвачены врасплох. Нечего было и думать о сопротивлении.
Великий магистр тамплиеров
Жак Моле в оковах
Король делал вид, что он действует с полного согласия папы, который узнал о мастерской «полицейской» акции, проведенной Филиппом, лишь после ее свершения. Арестованным были сразу приписаны многочисленные преступления против религии и нравственности: богохульство и отречение от Христа, культ дьявола, распутная жизнь, различные извращения. Допрос вели совместно инквизиторы и королевские слуги, при этом применялись самые жестокие пытки и, конечно, были добыты нужные показания. Филипп IV даже собрал в мае 1308 года Генеральные штаты, чтобы заручиться их поддержкой и тем нейтрализовать любые возражения папы. Формально спор с Римом велся о том, кому надлежит судить тамплиеров, по существу же — кто унаследует их богатство.
Был достигнут компромисс. Суд над отдельными тамплиерами был фактически оставлен в ведении короля, а над орденом в целом и его руководителями взял на себя римский первосвященник. Для этой цели осенью 1310 года был созван совет важных церковных чинов, составивших специальный трибунал. Он занимал менее жесткую позицию и не прибегал к пыткам. Но если бы тамплиеры, выступавшие в качестве свидетелей по делу ордена, отказались от исторгнутых ранее признаний, они могли быть отправлены королевскими властями на костер как еретики, вторично впавшие в греховные заблуждения. 12 мая 1311 года 54 тамплиера, вызванные свидетелями в трибунал, были осуждены инквизиционными судами, действовавшими по приказу короля, и сразу же казнены. Это произвело надлежащий эффект на остальных свидетелей, отбив охоту выступать в защиту ордена. Правда, один из них, набравшись мужества, все же заявил, что его показания были лживыми и вырваны пыткой: «Я бы признал все; я думаю, что признал бы, что убил Бога, если бы этого потребовали!»
Недовольный позицией трибунала, Филипп решил оказать дополнительное давление на Климента V. Папа тем более оказался податливым этому нажиму, что еще в 1309 году должен был перенести свое местопребывание из Рима во французский город Авиньон. Король приказал произвести расследование преступлений своего заклятого врага — покойного папы Бонифация XIII, который был обвинен в ереси, содомском грехе и других столь же малопривлекательных деяниях. Чтобы потушить вызванный этим скандал, Климент V согласился окончательно пожертвовать тамплиерами. Церковный трибунал после долгого перерыва возобновил в октябре 1311 года заседания, которые продолжались до мая 1312 года. Настойчивость короля все усиливалась. По совету трибунала, папа объявил о роспуске ордена тамплиеров, имущество которого должно было перейти к госпитальерам. Впрочем, львиная доля добычи досталась Филиппу IV. 18 марта 1314 года был вынесен приговор великому магистру Жаку Моле и еще троим руководителям ордена. Все они признали предъявленные им обвинения и были приговорены к пожизненному заключению. Однако в момент произнесения приговора Жак Моле и другой осужденный, Жоффруа де Шарне, объявили: они виноваты лишь в том, что, пытаясь спасти себе жизнь, предали орден и признали истиной возведенную на него хулу. В тот же вечер оба по приказу короля были сожжены на костре.
Шесть с половиной столетий, отделяющих нас от процесса, не привели к единодушию в его оценке. Исследователи и поныне спорят о том, что было правдой в обвинениях, предъявленных тамплиерам.
БЫЛА ЛИ СОЖЖЕНА ЖАННА д’АРК
Пятнадцатый век знает немало известных процессов. Среди них суд над Яном Гусом — идеологом ранней, бюргерской Реформации в Чехии, сожженным в 1415 году по приговору церковного трибунала, членами которого были участники церковного собора в Констанце. А в самом конце столетия, в 1498 году, по приговору инквизиционного суда во Флоренции был отправлен на костер другой проповедник, призывавший к реформе церкви, — Джироламо Савонарола.
Однако самый знаменитый судебный процесс века происходил во французском городе Руане в начале 1431 года. Судили народную героиню Жанну д’Арк. Всего за два года до этого началась героическая история простой крестьянской девушки из селения Домреми, дочери деревенского старосты. которая сделала ее имя немеркнущим символом беззаветного патриотизма и самопожертвования во имя спасения Родины.
Подвиг Орлеанской девы за пять с половиной веков, прошедших с того времени, был сюжетом для многих десятков эпических и лирических поэм, пьес и романов. Шекспир и Шиллер, Марк Твен и Бернард Шоу, Б. Брехт и Ж. Ануй — это лишь немногие наиболее известные из длинного списка писателей и драматургов, обращавшихся к истории жизни и гибели Жанны д’Арк. Центр Жанны д’Арк в Орлеане насчитывает 7000 книг, посвященных народной героине.
Свидание Жанны Д’Арк с Карлом VIII
Кто из нас с юношеских лет не зачитывался рассказами о Жанне, прибывшей ко двору французского короля Карла VII в Шиноне, чтобы побудить его к борьбе против захватчиков-англичан?
Шли самые трагические для Франции годы Столетней войны (1337–1453). Большая часть французской земли, в том числе и Париж, была в руках врага — Англии и ее союзника герцога Бургундского. При свидании с Карлом VII Жанна сумела убедить этого трусливого, нерешительного монарха, что она призвана спасти Францию. Во главе французских войск Жанна пришла на помощь городу Орлеану, изнемогавшему в кольце вражеской осады. Вслед за освобождением города Орлеанская дева, как называли в народе Жанну, не раз побеждала надменных английских полководцев. Город Реймс, традиционное место коронации французских королей, открыл свои ворота солдатам Карла VII. После коронования Карла Жанна повела войска на Париж. Стояла осень 1429 года. Столицу взять не удалось. Советники Карла VII сознательно вредили Орлеанской деве. Но Жанна не пала духом от неудачи. Воодушевленные ее непоколебимой верой в торжество правого дела французы одержали несколько важных побед на севере Франции, прорвались в город Компьен, осажденный врагами. Во время одной из отважных вылазок из города 23 мая 1430 года небольшой отряд Жанны был со всех сторон окружен. После отчаянного сопротивления Жанна попала в плен к бургундцам, которые передали ее в руки герцога Люксембургского, а тот за 10 тыс. золотых монет в ноябре 1430 года продал ее англичанам. В народе были твердо убеждены, что Орлеанская дева пала жертвой черного предательства придворных короля: их поведение давало полное основание для такого подозрения. Молва утверждала, что комендант Компьена Гийом Флави слишком рано опустил решетку крепостных ворот, закрыв путь для отступления отряда Жанны.
Англичане решили полностью использовать политические выгоды, которые им сулило взятие в плен Орлеанской девы. В ноябре 1429 года регент Англии, расчетливый и умный герцог Бедфордский провозгласил в Париже своего восьмилетнего племянника королем Английским и Французским Генрихом VI. А процесс и осуждение Жанны должны были доказать, что Карл VII был возведен на престол еретичкой, ведьмой, действовавшей по наушению Сатаны.
Организацию процесса герцог Бедфордский поручил своему бессовестному клеврету — епископу Бове Пьеру Кошону, которому в награду была обещана богатая Руанская епархия, и вполне преданному в это время англичанам Парижскому университету. Кошон потребовал выдать ему Жанну д’Арк для суда как еретичку, захваченную на территории его епископства. В декабре 1430 года ее бросили в мрачное подземелье одного из руанских замков. Хитрый Кошон стремился придать тщательно подготовленному им трагическому фарсу видимость честного и юридически безупречного судебного разбирательства. Незадолго до начала суда Жанну в присутствии герцогини Бедфордской подвергли медицинскому освидетельствованию с целью определения, сохранила ли она невинность — от этого зависела формулировка обвинения в «связи с дьяволом» и ведении распутной жизни. В результате заключения комиссии от последнего обвинения пришлось отказаться. Кроме того, само заточение Жанны в крепости, находившейся в ведении английских властей, уже было нарушением правил: поскольку обвиняемая должна была предстать перед инквизиционным трибуналом, ее надлежало содержать в женском отделении церковной тюрьмы.
Суд открыл заседание 9 января 1431 года. В инквизиционных процессах подсудимому запрещалось иметь адвоката. Кошон рассчитывал, что не представит труда выудить нужные ему признания у простой крестьянской девушки, которой к тому же не разъяснили, что ей инкриминировал суд. Она не могла понять это и из казуистически сложного обвинительного заключения, вдобавок составленного на латинском языке. Кошон стремился осудить Жанну как еретичку и колдунью. Обвинения против нее были сведены — уже в ходе процесса — в 12 статей, одобренных Парижским университетом; среди них фигурировали притязания на беседы со святыми и ангелами, фальшивые пророчества, еретические утверждения, согласно которым она считала себя обязанной подчиняться только Богу, а не церкви, ношение мужской одежды и так далее — вплоть до неповиновения воле родителей. Однако у Кошона не было никаких доказательств впадения подсудимой в «ересь» и занятия ведовством, кроме факта, что она храбро сражалась в одеянии воина и продемонстрировала недюжинный талант полководца. Оставалось обратиться к хорошо разработанной инквизиционной технике, рассчитанной на то, чтобы с помощью пыток или без них запугать, сломить волю обвиняемой и добиться нужного признания.
Процесс длился несколько месяцев. С 21 февраля по 27 марта происходил предварительный допрос подсудимой, потом главные судебные заседания. Так продолжалось до 24 мая 1431 года. Все эти месяцы в зале суда и в тюремной камере Жанну засыпали непрерывным градом вопросов, относящихся и не относящихся к делу. Каждый из них мог содержать коварные ловушки, невидимые подводные камни. Один неловкий ответ — и готово признание в ереси, неосторожно сорвавшееся слово — и капкан захлопнется, суд сочтет этот, пусть мнимый, самооговор за доказательство ведовства.
Однако, к изумлению Кошона и других судей, их ухищрения не дали нужного результата. Твердость духа, прирожденный ум и здравый смысл помогли Жанне не попасть в расставленные сети. Более того, она нередко ставила в затруднительное положение Кошона. Один раз подсудимая объявила, что готова выполнить его требование прочесть католическую молитву, если епископ согласится принять ее исповедь. Как духовное лино Кошон не имел права отказать в такой просьбе, а выслушав исповедь, по тогдашним понятиям, не мог, не рискуя спасением собственной души, признать подсудимую виновной. Поле сражения на этот раз осталось за Жанной.
Во время процесса подсудимая заболела. Это вызвало крайнее беспокойство англичан. Умри Дева от болезни, исчезли бы все выгоды, которые Бедфорд рассчитывал получить от ее казни. Жанну лечили личный врач герцогини Бедфордской и другие лекари. Узница поправилась.
2 мая Жанне формально предъявили выдвинутые против нее обвинения и потребовали отказа от ее «видений», подчинения церкви, т. е. Кошону и его коллегам. Она ответила отказом. Через неделю ее привели в камеру пыток, показали для устрашения зловещие инструменты палача. Но и это не сломило дух Девы, а Кошон почему-то не решился или посчитал излишним прибегать к пыткам. Тем не менее подсудимую не переставали запугивать: беседовавшие с ней монахи рисовали ей муки костра и ужасы ада. 23 мая Жанне официально было объявлено, что, если она не признает своих заблуждений, ее ожидает сожжение на костре. Воля Девы была на время поколеблена. Подавленная рассуждениями ученых-богословов, Жанна признала свою вину и была осуждена на вечное заточение. Некоторые английские военачальники не поняли этого тактического хода Кошона и громко называли епископа изменником. Но один из судей успокоил графа Уорика, коменданта Руана:
— Не беспокойтесь, мы поймаем ее.
В тюрьме с помощью обмана узницу побудили снова надеть мужское платье, которое она обязалась не носить. Вдобавок она взяла назад свое отречение от посещавших ее «видений». Доказательство, что осужденная — нераскаявшаяся еретичка, было теперь налицо. Недаром после допроса Жанны в темнице Кошон радостно сообщил англичанам, ожидавшим его у тюремных ворот:
— В добрый путь! С ней покончено.
29 мая происходит новое заседание суда, по существу новый процесс, на этот раз очень короткий, и Жанну как впавшую в прежний грех присуждают к передаче в руки светских властей, иначе говоря, к сожжению на костре. 30 мая 1431 года приговор был приведен в исполнение в присутствии большого отряда английских воинов и толпы жителей Руана. Впоследствии очевидцы утверждали, что при осуждении и при казни не были соблюдены законные формальности.
Твердость и самообладание осужденной поразили даже многих ее врагов. Через четверть века процесс Жанны был пересмотрен; формально — по просьбе ее матери, фактически — по требованию французского короля, который долгое время, не желая ссориться с церковью, Бургундией и Парижским университетом, не спешил с этим делом. Однако, выбрав удобный момент, Карл решил опровергнуть еще тяготевшее над ним обвинение, что он получил корону из рук колдуньи. По распоряжению папы Каликста III в 1455–1456 годах в Париже и Руане состоялся новый суд, отменивший приговор Кошона. Честь Жанны была восстановлена. Прежний вердикт был объявлен следствием коррупции, подлогов, клеветы, коварства и нелояльности. Отречение Девы аннулировалось как исторгнутое запугиванием, присутствием палача и угрозой сожжения. Через столетия, в 1920 году, католическая церковь сочла выгодным причислить Жанну к лику святых.
Процесс 1431 года и контрпроцесс 1455–1456 годов известны нам во всех подробностях (правда, протоколы судилища в Руане были в немалой степени фальсифицированы Кошоном). Только во время правления Карла VII и его преемника, т. е. за полстолетия, историю Жанны д’Арк излагают 22 французских, 8 бургундских и 14 иностранных хронистов. К этим 44 летописцам надо еще прибавить 9 поэтов, которые в XV в. воспевали подвиг Орлеанской девы. Поэтому наука знает о жизни Жанны д’Арк, вероятно, больше, чем о ком-либо другом, жившем в XV в., за исключением разве что некоторых монархов, деяния которых подробно заносились в хроники. И тем не менее существует поверье, что и процесс, и казнь Орлеанской девы являлись лишь хорошо разыгранным спектаклем, за кулисами которого развернулось одно из наиболее интересных приключений в истории тайной дипломатии. Предание восходит к легендам, возникшим вскоре после гибели Жанны, во что никак не хотел поверить французский народ. Версия была выдвинута еще в XVII в., однако наукообразное оформление получила лишь в наши дни, когда во Франции появился не один десяток работ о «спасении» Орлеанской девы в 1431 году.
Авторы новейшей биографии Жанны д’Арк, опубликованной в Париже в 1986 году, пишут: «Каждый год появляются в библиотеках одна-две книги, в которых с большим шумом возвещается, что «наконец» открыты новые документы, позволяющие утверждать, что либо Жанна д’Арк не была сожжена, либо она была незаконной дочерью Изабеллы Баварской и Людовика Орлеанского, а следовательно, сестрой Карла VII. Нелепости не знают границ; утверждается, что ей удалось бежать, что Кошон, герцог Бедфордский и Уорик сделали все, чтобы она не была сожжена, что на костер вместо нее отправили кого-то другого и т. д. и т. п.». По мнению авторов цитируемого труда, «все эти книги не содержат ничего нового и лишь повторяют друг друга». Сторонники обличаемых взглядов не оставались в долгу. Один из них, М. Лами, в 1987 году писал, что дебаты приобрели резкий характер, «нужно признать, что представители разных точек зрения часто осыпали друг друга оскорблениями». Каждая из сторон обвиняла другую в распространении уже «опровергнутого» мифа (соответственно о казни Девы — «пастушки» из Домреми или о ее спасении).
Легенда о спасении покоится на одном, правда, труднообъяснимом происшествии, которое произошло в Орлеане в 1436 году, примерно через пять лет и три месяца после того, как в Руане была сожжена Жанна д’Арк. В счетной книге Орлеана, куда заносились расходы, производившиеся городскими властями, можно прочесть о выдаче 9 августа двух золотых Жану дю Ли в качестве платы за доставку писем от его сестры девы Жанны. Он ездил к ней в город Арлон в Люксембурге. Брат Жанны, носивший новую, дворянскую фамилию, пожалованную ему королем, отправился ко двору Карла VII, а затем к «сестре», получив деньги на путевые расходы. Имеются и другие аналогичные записи, относящиеся к поездкам Жана дю Ли к «сестре» и королю. Все они датируются июлем, августом и сентябрем 1436 года. Подлинность их не вызывает сомнений. Однако этим не ограничиваются записи в счетной книге, связанные с «Девой Франции», как она именуется в этих документах. Всюду в них без всяких колебаний предполагается, что сожженная Жанн д’Арк жива.
28 июля 1439 года, т. е. через три года после первых записей и более чем через восемь лет после официальной смерти Орлеанской девы, она сама, если верить записям, пожаловала в Орлеан. Жанну — она называлась теперь Жанной д’Армуаз — встретила восторженная толпа. Итак, Деву хорошо приняли в городе, в котором ее не только чтили, но и где было немало людей, отлично знавших Жанну со времен знаменитой осады. Записи не оставляют сомнения, что Жанну д’Армуаз горожане сочли за Орлеанскую деву. В счетной книге прямо указывается, что Жанне была подарена крупная сумма денег (210 ливров) «за добрую службу, оказанную ею указанному городу во время осады».
Быть может, вера в то, что Жанна д’Армуаз — Орлеанская дева, рассеялась у горожан, когда они ближе пригляделись к приезжей женщине, продолжительное время бывшей их гостьей? Наоборот, в счетной книге отмечен торжественный обед, на который она была приглашена двумя богатыми патрициями — Жаном Люилье и Теваноном де Буржем — и где ей были оказаны всяческие почести, знаки внимания и уважения. Жанну д’Армуаз признали горожане и дворяне, хорошо знавшие Деву по времени осады, — Николя Дув, Николя Груанье, Обер Буле. Они даже принимали совместно с Жанной участие в коронации Карла VII в Реймсе. С тех пор прошло совсем немного лет. Имеем ли мы основание теперь, спустя более пяти веков, поставить под сомнение вывод, что прибывшая «дама д’Армуаз» была Орлеанской девой? Вдобавок оспаривать его, не приводя веских доказательств, объясняющих, что побудило всех людей участвовать в мистификации или почему они были введены в заблуждение.
Историк Ж. Пем утверждает, что он нашел очень важные свидетельства. До сих пор считалось, что мать Орлеанской девы Изабелла Роме приезжала в Орлеан лишь в июле 1440 года, через год после появления там женщины, выдававшей себя за ее дочь. Однако в списке городских расходов с 6 марта 1440 года имеется отметка об уплате двум лицам за содержание и лечение Изабеллы с 7 июля по 31 августа. Здесь речь явно может идти только о 1439 годе. Там же имеется запись об уплате пенсии, установленной городом Изабелле, за сентябрь, октябрь и ноябрь 1439 года. Если подлинность этих записей не ставить под сомнение, то они свидетельствуют о том, что мать Жанны д’Арк находилась в Орлеане, когда в городе торжественно принимали Жанну д’Армуаз как Орлеанскую деву. Трудно представить, зачем матери Жанны д’Арк, подобно ее братьям, надо было участвовать в обмане. Ж. Пем приводит также ряд косвенных доказательств того, что во время пребывания Жанны д’Армуаз в Орлеане город посетил сам король Карл VII. В счетных книгах Орлеана и позднее регулярно отмечаются денежные выдачи «Изабелле, матери Девы Жанны». В записи, сделанной в июле 1446 года, Изабелла Роме уже именуется «Изабелла — мать покойной Девы Жанны», как и в записях за все месяцы до Пасхи 1447 года. Не означает ли это, что к началу 1447 года в Орлеане стало известно о смерти Жанны? Быть может, эта новость была сообщена ее братьями? (Правда, сторонник традиционной версии П. Гийом, просмотрев счетные книги Орлеана, показал, что выражение «Дева Жанна» без добавления «покойная» встречается не раз и после 1447 года. Это — с большой натяжкой — можно отнести и на счет небрежности писцов.)
Таковы главные факты, на которых построена легенда о спасении Жанны. Все остальные сведения и показания имеют по сравнению с этими неопровержимыми фактами второстепенное значение. Гостеприимство, оказанное Жанне д’Армуаз, допускает лишь три объяснения: это могла быть невольная ошибка, результат коллективной галлюцинации (отнюдь не редкость в средние века!); могло быть и сознательное соучастие в обмане и, наконец, последнее возможное объяснение — Жанна д’Армуаз действительно была чудом спасшейся Жанной д’Арк.
Ошибка братьев Жанны маловероятна. Но и вывод, что братья дю Ли из корыстных мотивов признали в Жанне д’Армуаз свою сестру, лишь простое предположение. В его пользу можно привести лишь ссылку на стесненное материальное положение младшего из братьев, Пьера дю Ли, и то, что оба они получили — небольшие, впрочем, — награды за перевозку писем Жанны д’Армуаз. Интересно, что сразу после своего появления в Лотарингии Жанна поспешила связаться с братьями — смелый шаг со стороны самозванки, если он не был сделан в результате предшествовавшей договоренности, о которой мы не имеем никаких известий. Что касается горожан Орлеана, то трудно обнаружить мотивы их соучастия, скорее, можно отнести их к числу обманутых. Если и это покажется не заслуживающим доверия, то остается только признать правдивость утверждений Жанны д’Армуаз.
Такая же теплая встреча, как в Орлеане, ожидала Жанну д’Армуаз и в городе Тур. Следует заметить, что наши сведения о ней отнюдь не исчерпываются записями в счетной книге города Орлеана. Имеются известия, позволяющие проследить ее жизнь в течение ряда лет.
В Хронике декана Сен-Тибо де Меца указывается, что 20 мая 1436 года, в деревне Гранд-оз-Орм, неподалеку от города с таким же названием, появилась «Дева Жанна», которую признали местное дворянство и «ее» братья. Деву хорошо приняли в Арлоне у герцогини Елизаветы Люксембургской (которую, кстати сказать, часто путали впоследствии с другой герцогиней Люксембургской, хорошо знавшей Жанну во время ее плена, но умершей в 1430 году). Надо отметить, что она вовсе не афишировала свое имя, напротив, называла себя Клод. Говорят, что Дева появилась в обстановке общего воодушевления, связанного с изгнанием англичан из Парижа в апреле 1436 года. Но можно представить себе дело и иначе: в это время шли разговоры о мире. Английскому гарнизону разрешили свободно уйти из Парижа. Может быть, в обмен на какую-то уступку англичане и согласились выпустить Жанну из заключения. Между прочим, почему-то никто не спрашивал Жанну, где она провела предшествовавшие пять лет после своего «спасения». И сама она не касалась этого вопроса. По крайней мере наши источники вовсе обходят его. Очевидно, были причины для такого умолчания, причем оно нисколько не поколебало веру в правдивость утверждений Жанны. Новоявленная Дева вела светскую жизнь в Арлоне при герцогском дворе, а потом у графа Ульриха Вюртембергского в Кельне, вмешивалась в дипломатические интриги местных духовных и светских феодалов. В Кельне она попыталась ссылками на волю Божью помочь графу Ульриху провести его кандидатуру на пост архиепископа Трирского. Это привело к вмешательству инквизитора Генриха Калтайзена, вызвавшего ее для допроса по подозрению в ереси и колдовстве. «Дева Жанна» спешно бежала обратно в Арлон (об этом сообщает хроника современника — доминиканского монаха Жана Нидера).
Осенью Жанна вышла замуж за некоего Робера д’Армуаза сеньора де Тиммон. Была отпразднована пышная свадьба. Жанна родила двух сыновей. К этому же времени относится и ее переписка через посредство братьев дю Ди с Карлом VII.
Хроника декана монастыря Сен-Тибо де Мена была обнаружена в 1645 году священником Жеромом Винье. Он списал отдельные места рукописи и заверил копию у нотариуса. Потом, через сорок лет, в ноябре 1683 года, эта копия была опубликована его братом в журнале «Меркюр талант». В XVII в. сама хроника была издана Кальметом в его «Документах по церковной и гражданской истории Лотарингии». Подлинность рукописи в целом, в том числе и тех ее страниц, которые повествуют о «воскресшей» Жанне, не вызывает сомнений. Вдобавок позиция монастыря Сен-Тибо, находившегося близко от Меца (но в то же время не подчиненного городу) и невдалеке от места нахождения Жанны д’Армуаз, делает этого хроникера независимым свидетелем, заслуживающим доверия.
Несомненно, что декан Сен-Тибо искренне считал появившуюся «Деву Жанну» подлинной Жанной д’Арк. Надо лишь добавить, что разыскана другая рукопись его хроники, в которой декан признает свою ошибку: «В этот год прибыла молодая девица, именовавшая себя Девой Франции и так игравшая ее роль, что многие были обмануты, и особенно среди них наиболее знатные». Очевидно, это безоговорочное опровержение первого свидетельства, но где гарантия того, что именно оно было результатом ошибки, а не последующее разъяснение «самозванства» являлось тенденциозной вставкой? Отметим, что в хронике Филиппа Виньела, составленной в начале XVI в., сообщалось: «В воскресенье 20 дня мая 1436 года девица по имени Клод, носившая женскую одежду, была объявлена Девой Жанной и была обнаружена в месте близ Меца, называемом Гранд-оз-Орм, и там были два брата упомянутой Жанны, удостоверившие, что это была она». Нет оснований считать это свидетельство воспроизведением сведений из Хроники декана Сен-Тибо.
Одновременно с Хроникой декана Сен-Тибо был опубликован брачный контракт Жанны д’Армуаз (оригинал его так и не был найден). Полагают, что контракт является фальшивкой, сфабрикованной Ж. Винье. Почему, однако, надо считать брачный договор подделкой? У отца Винье вряд ли могли быть на это причины. Да и поведал он о находке только своему брату, который много позднее рассказал о ней на страницах «Меркюр галанг». Правда, эта бумага с тех пор так и не разыскана, но в XVII в. еще не интересовались подлинными историческими документами. Это в равной степени относится и к дарственному акту, согласно которому Робер д’Армуаз передавал какие-то владения своей жене «Жанне, Деве Франции», приведенный в старинной «Истории Лотарингии» документ о дарении сопровождается разъяснением: «Это Орлеанская дева или, скорее, авантюристка, принявшая ее имя и вышедшая замуж за сеньора Робера д’Армуаза». И опять вопрос: чему доверять — документу или последующему дополнению к нему? Следует отметить, что друзья Робера д’Армуаза — Жан де Тонельтиль и Собле де Дэн, поставившие свои печати на документе о передаче Жанне части владений ее мужа, знали подлинную Орлеанскую деву. Зачем им надо было участвовать в обмане? Между прочим, Робер д’Армуаз приходился кузеном Роберу де Бодрикуру — тому самому, к которому в городке Вокулере прежде всего обратилась пастушка из расположенного неподалеку Домреми и который по ее просьбе дал ей для сопровождения шестерых слуг, доставивших Жанну в Шинон к королю Карлу.
Вообще действия самой дамы д’Армуаз малопонятны, если считать ее самозванкой. Помимо одной явной неосторожности — вступления в переписку, а потом и свидания с братьями дю Ли, — она совершила и вторую — согласилась выйти замуж за небогатого сеньора д’Армуаза, отлично зная, что при заключении брака потребуются документы, касающиеся ее происхождения. Одним из приятелей Робера д’Армуаза был Николя Дув, сохранились их письма, свидетельствующие о тесных дружеских связях между ними. А Николя Дув был знаком с Жанной еще со времени освобождения Орлеана и возведения королем в рыцарский сан благодаря ее ходатайству. Почему он не открыл глаза своему другу, если убедился, что новоявленная Клод не была Орлеанской девой? Существует легенда, что Робер д’Армуаз в наказание за обман посадил свою жену в сумасшедший дом, расположенный неподалеку от Брие. Однако в роду д’Армуаз до сих пор сохранилась традиция чтить Жанну как самую славную из предков. Семья потомков Жанны д’Армуаз, опрошенная историком К. Пастером, выразила твердую уверенность, что их предок сеньор Робер не мог жениться на женщине без роду и племени. Он должен был предварительно убедиться, что его невеста действительно та, за кого она себя выдает.
Нам известна жизнь Жанны д’Армуаз в последующие три года, т. е. с 1436 по 1439 год. Следует лишь добавить, что все эти три года горожане были в нерешительности, верить ли слухам о спасении Жанны. Они платили не только братьям дю Ли за письма от «спасшейся» Жанны в 1436 году, но и за мессу, отслуженную за упокой ее души в мае 1439 года, как раз накануне прибытия дамы д’Армуаз в Орлеан.
В политике Карла VII вскоре произошел перелом. В 1436 году, когда только что был отвоеван Париж, король еще колебался, стоит ли объявлять Жанну д’Армуаз чудом спасшейся Орлеанской девой (бездействие Карла, ничего не сделавшего для ее спасения, сурово осуждалось в стране). Теперь же, полагают сторонники традиционной версии, король предпочел не зависеть от авантюристки и использовать в своих целях память о подлинной Жанне.
Между тем Жанна д’Армуаз отправилась из Орлеана в области, где продолжались боевые действия против англичан. Она встречалась с воевавшим там маршалом Жилем де Ре, хорошо знавшим Жанну д’Арк. Это свидание — опять крайне опрометчивый шаг, если речь идет о самозванке. Жиль де Ре поручил ей возглавлять войска на севере от Пуату, но мы не знаем, как протекала военная карьера Жанны д’Армуаз.
Авторы, пропагандирующие версию о спасении Жанны д’Арк, конечно, всячески обыгрывают те поступки Жанны д’Армуаз, которые свидетельствовали, что она либо имела все основания не бояться разоблачения, либо по непонятным причинам пренебрегала очевидной опасностью изобличения в самозванстве. Эти авторы ссылаются и на то, что даже противник Жанны д’Армуаз — королевский камергер Гильом Гуфье признавал ее удивительное сходство с Жанной д’Арк. Правда, его мнение нам известно на основе очень позднего (1516 год) свидетельства П. Саля и, быть может, относится к еще одной лже-Жанне. Однако барельеф Жанны д’Арк, восходящий к первой трети XV столетия и находящийся в музее в Лудюне, и медальон Жанны д’Армуаз, относящийся к более поздним десятилетиям того же века и хранящийся в замке Жолни, подтверждают, что изображенные на них женщины явно похожи друг на друга. Но может быть, это было сделано сознательно, чтобы подкрепить притязания Жанны д’Армуаз. Возникает вопрос: если дама д’Армуаз была простой авантюристкой, могла ли она быть уверена, что действительно как две капли воды похожа на Орлеанскую деву? Ведь портретов той вообще не существовало, за исключением, быть может, одного-единственного. Вдобавок надо учитывать, что живопись того времени вряд ли позволяла уверенно судить о внешнем сходстве человека с тем, кто был изображен на картине. В этих условиях, если Жанна д’Армуаз не была Орлеанской девой, для нее было более чем необдуманным и неразумным отправиться в места, где знали подлинную Жанну, утверждает один из главных сторонников «новой» версии — Э. Вейль-Рейналь. На этот довод, однако, напрашивается возражение: почему Жанну д’Армуаз, если она действительно была очень похожа на Жанну д’Арк, не могли убедить в существовании такого сходства видевшие Орлеанскую деву? И почему бы после этого лже-Жанне не рискнуть отправиться в Орлеан и другие места, где знали Жанну д’Арк, особенно обеспечив себе небескорыстное содействие со стороны ее братьев? Допустим, однако, необычайное сходство между Жанной д’Арк и Жанной д’Армуаз, которое ввело в заблуждение ее родных братьев и близко знавших ее людей. Но у Жанны были приметы, по которым ее было легко отличить: красное родимое пятнышко за ухом, она была несколько раз ранена в шею и плечо, позднее — в бедро, должны были остаться шрамы, которые вряд ли возможно подделать.
В 1440 году Жанна д’Армуаз прибыла в Париж, где ее давно с нетерпением ждал народ. Однако парижский парламент (тогда судебное учреждение), действуя, очевидно, с согласия короля, принял меры, чтобы не допустить восторженного приема Жанны д’Армуаз в столице. Еще по дороге в Париж она была арестована и под конвоем доставлена в парламент, который объявил ее самозванкой и выставил у позорного столба. Она сообщила отдельные сведения о своей прошлой жизни — путешествие в Италию (с целью получить у римского папы прошение за побои, которые она нанесла родителям), участие в войне, для чего ей пришлось переодеться в костюм солдата. Отсюда у нее и возникла мысль выдать себя за Орлеанскую деву. Жанна д’Армуаз признала свое самозванство, и ее освободили из-под ареста.
После смерти Робера д’Армуаза она, очевидно, была еще раз замужем за неким Жанном Луийе (некоторые исследователи, впрочем, считают, что речь здесь идет о другой женщине). В одном документе, который относится к 1457 году (и подлинность которого далеко не безусловна), ей жаловалось прошение за то, что она именовала себя Орлеанской девой.
Правда, и после 1440 года появлялись лже-Жанны: одна в 1452 году, в Анжу, признанная двумя кузенами Орлеанской девы, другая — несколькими годами позже. Это была некая девица Фрерон из местечка около Мана. Обеих быстро изобличили в обмане. Об этих лже-Жаннах можно говорить только ради курьеза и еще для того, чтобы подчеркнуть, сколь долго народная фантазия не желала примириться с гибелью национальной героини.
Много споров вызвал вопрос, были ли Жанна д’Армуаз и другие лже-Жанны одним и тем же лицом. Часть исследователей считают, что Жанна д’Армуаз умерла между 1443 годом, когда муж передал ей часть своих владений, и 1449 годом, когда в счетных книгах города Орлеана Изабеллу Роме окончательно стали именовать не «матерью Девы», а матерью «покойной Девы Жанны». В этом случае документ 1457 года относится не к Жанне д’Армуаз, а к другой женщине — Жанне де Сермез. Последняя, используя близкое звучание обеих фамилий, выдавала себя за супругу сеньора Робера. В любом случае тот факт, что время от времени объявлялись лже-Жанны, не решает вопроса о том, была ли дама д’Армуаз подлинной Орлеанской девой.
Орлеанский эпизод в истории Жанны д’Армуаз, как мы видели, нелегко объяснить, если считать ее обманщицей. Все остальные «узнавания», правда, мало что доказывают, поскольку всегда можно найти причины, побудившие так действовать и лотарингских феодалов, и Карла VII, и самих братьев дю Ли. Однако можно в равной степени считать подозрительными и «разоблачения» Жанны как самозванки, в том числе раскаяние, вырванное у нее парижским парламентом.
Наконец еще один документ — нотариальный акт от 29 июля 1443 года, в котором зафиксировано пожалование герцогом Карлом Орлеанским Пьеру дю Ли имения за верную службу королю и самому герцогу. Эту службу, указывалось в нотариальном акте, Пьер дю Ли осуществлял «совместно» с левой Жанной, его сестрой, вплоть до его (или ее) отсутствия «и с тех пор до настоящего времени». Если речь шла о его отсутствии, то текст расшифровывается просто: Пьер дю Ли несколько лет находился в плену (непонятно, впрочем, почему в тексте прямо не сказано о плене). Однако вполне допустимо прочесть и «до ее отсутствия»; тогда это признание того, что Жанна не погибла в 1431 году. Слова же «и с тех пор до настоящего времени» вполне могли быть отнесены «совместно» к брату и сестре, а не к одному Пьеру дю Ли. Не сознательно ли вставлена в документ эта неясная фраза: в 1443 году уже нельзя было одновременно открыто выражать сомнение в гибели Жанны д’Арк и признавать самозванку, разоблаченную парламентом. Из уже цитированной выше грамоты Карла Орлеанского в 1443 году можно заключить, что Жанна была еще жива. В другой дарственной грамоте Карла Орлеанского, датированной 31 июля 1450 года, о Пьере дю Ли говорится уже как о «брате покойной Девы». Карл VII с сентября 1444 до января 1445 года находился в Мене. В этом городе в доме супругов д’Армуаз по указанию Жанны висел ее портрет в костюме Орлеанской девы (он сохранялся там до 1792 года). Главой делегации, встречавшей короля Карла VII, был Николя Лув, один из сподвижников Девы, признавший в Жанне д’Армуаз хорошо знакомую ему Жанну д’Арк. Все это вряд ли могло не стать известно королю, но, по-видимому, не вызвало никаких возражений с его стороны. Возникает вопрос: почему только в феврале 1450 года Карл VII приказал начать подготовку к процессу реабилитации? Не связано ли это с тем, что Жанна д’Армуаз умерла летом 1446 года, а ее муж — в 1449 или 1450 году?
Нам известны, как уже отмечалось, все детали руанского процесса: сохранились подробные протоколы. Нет лишь одного важного документа — официального акта, удостоверяющего казнь Жанны или даже просто упоминающего об исполнении приговора. Академик М. Гарсон, известный французский юрист, изучавший историю Жанны д’Арк, считает, что составление подобного акта не требовалось судебными правилами того времени. Однако генеральный адвокат Шарль дю Ли, живший в XVI в. и заинтересованный в этом деле, связанном с историей его семьи, считал отсутствие протокола «обращающим внимание и таинственным». В тексте материалов процесса, обнаруженных в Англии, говорится, что Жанна была приговорена «в конце концов к пожизненному заключению в тюрьме и содержалась там на хлебе скорби и воде томления». Во французских хрониках первой половины XVI в. о казни Жанны говорится в неопределенных и часто двусмысленных выражениях. Так, в «Бретонской хронике» (1540 год) сказано, что в 1431 году «Дева была сожжена в Руане или была осуждена на это». Симфориен Шампье в «Корабле для дам», изданном в Лионе в 1503 году, пишет, что Дева, по мнению англичан, была сожжена в Руане, но французы это отрицают. В поэме Жоржа Шатлена «Воспоминания о чудесных приключениях нашего времени» говорится, что «хотя, к великому горю французов, Дева была сожжена в Руане, она, как стало известно, потом воскресла».
Обращаясь к свидетельствам современников, помимо уже упомянутого декана Сен-Тибо, отметим дневник одного парижского буржуа, где прямо указывается, что в Руане под видом Жанны была сожжена другая женщина. Пьер Кюскель, буржуа из Руана, который мог быть очевидцем казни, разделял это мнение: «Жанна бежала, и кто-то другой был сожжен вместо нее». В рукописи, хранящейся в Британском музее (Английской национальной библиотеке) под № 11542, также указывается: «Наконец публично сожгли ее [Жанну] или же другую женщину, похожую на нее, в отношении чего многие люди держались и до сих пор придерживаются разного мнения».
Слух о спасении Жанны так быстро распространился после ее казни, что это встревожило парижские власти (столица тогда еще находилась в руках англичан, отцы города раболепно выполняли все приказы чужеземных захватчиков). Был даже затеян опрос свидетелей, не манкировал ли Кошон возложенными на него обязанностями. Кого же можно было расспросить, кроме помощников Кошона, его асессоров? Однако они один за другим скончались вскоре после руанского процесса.
Но вот прошла четверть века, и, готовясь к процессу реабилитации Жанны, французские суды занялись поисками свидетелей. Это было не простое дело. Кошон умер в 1444 году. Доминиканцы объявили, что не знают, где находится монах их ордена инквизитор Жан Деметр.
Известная неясность имеется даже в дате казни Жанны. Обычно называют 30 мая, но многие осведомленные современники упоминали другие числа — 14 июня, 6 июля, а английские хронисты в конце XV и начале XVI в. писали, что Жанна была сожжена в феврале 1432 года. Существует разноголосица и в отношении способа казни. Например, хронист Жан ла Шапель утверждает, что Жанна сначала была обезглавлена, а уже потом ее тело предано сожжению на костре. Надо учитывать, что многие детали, касающиеся расправы над Жанной, нам известны из показаний на процессе реабилитации, данных лицами, так или иначе причастными к руанскому судилищу и стремившимися обелить себя, приписать своим действиям иной смысл, чем тот, который был в действительности. Другие просто хотели облагородить и возвеличить свою роль. Третьи передавали слухи, которые за четверть века со времени гибели Жанны трансформировались в их сознании в неоспоримые факты. Интересно отметить, что не сразу, а только через неделю после сожжения Жанны, лишь 7 июня, Кошон составил текст официального извещения о казни, и уже после этого соответствующие ноты от имени английского короля Генриха VI были направлены различным европейским дворам.
В процедуре исполнения приговора были также бросавшиеся в глаза нарушения установленных норм. Прежде всего, строго говоря, смертного приговора не было вынесено вообще. Ведь осужденную передавали в руки светских властей, которые юридически и присуждали к смерти на костре (наказание «без пролития крови» — как о том лицемерно ходатайствовали церковные судьи). Между тем помощник бальи (главы судебной власти) Руана Доран Жерсон свидетельствовал: «Никакого приговора не выносил ни бальи, ни я сам, на которых лежала эта обязанность». Явное нарушение законности, но это еще далеко не равнозначно тому, что оно являлось прикрытием для тайного бегства Жанны, как это считают сторонники «новой» версии. Им, чтобы связать факт указанного нарушения юридических норм со своей теорией, следовало бы по крайней мере исследовать вопрос, насколько строго соблюдались эти нормы на территории, занятой английскими войсками в первую треть XV в. Иными словами, насколько частыми были подобные нарушения в судебной практике того времени. Но даже, если несоблюдение нормы было редчайшим исключением, оно все же могло быть вызвано самыми различными мотивами и помимо того, который имеют в виду поборники «неортодоксальной» версии, так же как отсутствие герцога Бедфордского и губернатора Руана графа Уорика (герцог вообще покинул Руан еще 13 января и, видимо, не вернулся до конца процесса). А какие имеются другие документальные доказательства казни Жанны? Уже упоминавшиеся участники руанского судилища, которых допрашивали в связи с подготовкой и проведением процесса реабилитации, твердили, что, по слухам, Жанна умерла, как подобает святой. Из других участников руанского процесса пятеро заявили, что не видели казни собственными глазами, трое других — что покинули площадь еще до ее совершения, двое вообще сослались на плохую память. Коротко говоря, ни один из допрашиваемых, если верить их показаниям, не видел сцены казни или по крайней мере якобы не помнил, присутствовал ли он на площади, когда сжигали Орлеанскую деву.
Считается, что англичане, желая убедить народ в смерти «колдуньи», устроили казнь в присутствии многолюдной толпы. Это так, но, вопреки обыкновению, горожан не подпускали близко — от костра их отделяла стена из 800 солдат. Власти предписали даже, чтобы окна домов, выходящие на площадь, были наглухо закрыты деревянными ставнями. Было ли это только мерой предосторожности, связанной с опасениями, что в последний момент будет сделана попытка освободить Жанну? Это маловероятно, ведь население Руана держало сторону англичан, и на протяжении семи месяцев, в течение которых Жанна находилась в городе, не наблюдалось никаких симпатий к Деве или тем более стремления вступиться за нее. Следовательно, власти могли опасаться лишь разоблачения того, что на костер возвели не Жанну, а какую-то другую женщину, но вовсе не возможности, что осужденную силой вырвут из рук палача. Поэтому, вероятно, никто, кроме английских солдат и официальных лиц, не смог вблизи видеть сцену сожжения. Кстати, как утверждалось, сам руанский палач Жофруа Тераж, ранее видевший Жанну, не узнал ее. Кроме того, в платежных книгах города Руана за 1430–1431 годы не отмечены расходы, связанные с казнью Жанны. Между тем в эти книги тщательно заносились суммы, уплаченные палачу и его помощникам, истраченные на приобретение дров для костра, а также имена и фамилии каждой из жертв, на казнь которой пошли эти казенные деньги, в частности «ведьм», сожженных в это время. Между прочим, среди них две Жанны, может, одна из них и заменила Жанну д’Арк на костре? Итак, нет никаких сведений о расходах на казнь Жанны. Может быть, это связано с тем, что Жанну судил не городской суд, а церковный трибунал? Но это же ведь относится и к некоторым из остальных казненных. Кроме того, нет никаких упоминаний о казни Жанны и в счетных регистрах Руанского архиепископства.
Вместе с тем современник — руанской священник Жан Рикье — писал, что, поскольку англичане опасались, «как бы не стали говорить, что она (Жанна. — Е. Ч.) спаслась», палачу был дан приказ сразу после смерти осужденной на время потушить огонь с целью показать присутствующим, что казнена именно Жанна. Об этом же мы читаем и в дневнике парижского буржуа. Палач именно так и поступил. Впрочем, остается вопрос: смогли ли свидетели казни, разглядывая уже обуглившееся тело жертвы, определить, кто именно погиб на костре? Все действия властей — и удаление толпы на значительное расстояние, и демонстрация обуглившегося тела, и выбрасывание обгорелых останков в реку — не является ли все это стремлением убедить всех в смерти Жанны, не приводя ни одного реального доказательства?
В сохранившихся описаниях казни остается неясным: то ли осужденной косо надвинули чепчик или дурацкий колпак, то ли она взошла на костер с закрытым лицом. Сведения об этом сообщает хроникер Персеваль де Каньи, который сам не был свидетелем казни и передавал лишь услышанное из чужих уст. К тому же он рассказывал это много лет спустя после гибели Жанны. Вдобавок в его хронике, как это установили исследователи, много фактических ошибок, в частности, он нередко путает время и место, где происходило то или иное описываемое событие, приписывает участие в нем лицам, для которых это было просто невозможно.
Если предположить, что была сожжена не Жанна, то какова была судьба самой Орлеанской девы? Известно, что первоначальные суровые условия заключения Жанны потом были значительно смягчены. Сторожившие ее тюремщики и английские солдаты не раз уходили пьянствовать в ближние таверны, оставляя ее одну. К Жанне допускали посетителей, а она отказалась дать честное слово, что не сделает попытки к бегству.
Организация побега могла быть осуществлена с согласия герцога Бедфордского. Джон, герцог Бедфордский, младший брат короля Генриха V и дядя его наследника, малолетнего Генриха VI, был правителем той части Франции, которая находилась под властью англичан. Он был женат на сестре герцога Бургундского Анне, по-видимому, настроенной благожелательно в отношении Жанны. Герцогиня не только запретила тюремщикам жестоко обращаться с пленницей, но и приказала доставить ей женское платье, а ведь то, что Жанна вновь надела мужской костюм, послужило предлогом для вынесения ей смертного приговора. К Жанне хорошо относилась и герцогиня Люксембургская, примыкавшая к бургундской партии. Герцог Бедфордский проявлял особую благосклонность к Кошону. Ясно, что Кошон стремился угодить своему покровителю. Но ведь роль самого епископа в процессе Жанны, как мы убедимся, можно оценивать по-разному. Не исключено, что Кошон, если он действительно пытался спасти Жанну, просто выполнял секретный приказ герцога. Что же касается губернатора Руана Ричарда Бочемпа графа Уорика, то его зять Талбот попал в плен, а Карл VII угрожал отмщением, если Жанну приговорят к смерти. Так что Уорик был лично заинтересован, чтобы Дева не была казнена. Сторонник версии о спасении из тюрьмы Жанны Пьер Сермуаз предполагает, что она бежала из тюрьмы после последнего посещения Кошона через подземный ход, выходивший на одну из улиц города. Там ее ожидали бургундские рыцари, которые отправились вместе с Жанной к послу и советнику герцога Савойского Амедея VIII Пьеру де Ментону, доставившему Жанну под вооруженным эскортом в свой замок Монтротье в Савойе. Амедей VIII пытался в это время восстановить согласие между Карлом VII, герцогом Карлом Орлеанским и бургундским герцогом Филиппом Добрым. Другие сторонники «новой» версии предполагают, что подземный ход вел из Руанского замка прямо в дом герцога Бедфордского. Некоторые исследователи (Жан де Сен-Жан, А. Герен) утверждали, что в 1955 году удалось открыть следы этого тайного хода.
Наконец, возможен и третий вариант бегства Жанны. В этой связи напомним странное свидетельство, содержащееся в «Английской хронике» Уильяма Кэкстона, закончившего свой труд около 1480 года. В «Хронике» Кэкстона указывается, что Жанна оставалась узницей девять месяцев, т. е. до конца февраля 1432 года. Кэкстон был связан с Бургундским двором, который, возможно, и был источником его сведений. В этой связи напомним уже приводившееся выше заявление Жоржа Шатлена в поэме «Воспоминания о чудесных приключениях нашего времени», в котором говорится, что, «хотя…Дева была сожжена в Руане, она, как стало известно, потом воскресла». Надо добавить, что Шатлен был не только поэтом, но и придворным историографом бургундских герцогов.
Итак, «бургундский след» ведет нас к февралю 1432 года. Резиденцией герцога Бедфордского в Руане был замок Буврейль. В тюрьме этого замка содержался францисканский монах, которому в начале 1432 года удалось бежать. Он сообщил подробности, касавшиеся расположения замка и его оборонительных сооружений, главе небольшого французского отряда под командой Гийома де Рикарвиля. Воспользовавшись сведениями, этот отряд, всего около 80 человек, неожиданно в ночь на 3 февраля проник в замок и перебил почти всех защитников. Поддержки у жителей Руана отряд Рикарвиля не встретил и через несколько дней должен был отступить. Не была ли целью этой вылазки попытка способствовать бегству Жанны? Если организация побега Жанны была результатом тайного сговора герцогов Бедфордского и Бургундского и их ставленника Кошона с Карлом VII, то одним из условий такого сговора должно было быть обязательство, что Жанна не начнет воевать против англичан и вообще исчезнет из поля зрения.
Где же находилась Жанна после своего спасения? Может быть, в английской тюрьме? Не исключено, что в Риме при дворе папы Мартина V (там Жанне должны были очень помочь связи покровительствовавших ей принцесс королевского дома). Гипотеза о пребывании Девы в Италии основывается на записи в дневнике парижского буржуа, что Жанна, «одетая как мужчина», отправилась в Рим с целью помочь римскому папе. Кстати, папа Мартин V умер в начале 1431 года, еще до окончания процесса Жанны, и 20 февраля конклав избрал нового папу — Евгения IV. Предполагаемый приезд Жанны связывают с бегством Евгения IV из Рима в июне 1434 года (он был заключен под стражу его противниками, поднявшими против первосвященника толпу горожан).
В 1970 году в Париже была опубликована книга Пьера де Сермуаза (дальнего потомка Жанны д’Армуаз) «Тайные миссии Жанны д’Арк», утверждающего, что Орлеанская дева в эти годы была секретным агентом ордена францисканцев. Об этом ниже. Почему Дева появилась лишь через пять лет? Да потому, утверждает Пьер де Сермуаз, что именно к этому времени серьезно изменилась политическая и военная обстановка. В сентябре 1435 года умер герцог Бедфордский, что лишало англичан единого руководства, а весной следующего года был освобожден Париж. Напоминал также, что историк А. Байе уверял, будто он в 1907 году обнаружил брачный контракт Жанны д’Армуаз в архиве одного нотариуса городка Френан-Вевр и установил, что подпись невесты тождественна подписи под посланием Жанны д’Арк жителям Реймса. Он рассказал о своем открытии нескольким журналистам. Однако город Френ был полностью разрушен во время мировой войны 1914–1918 годов, и архив погиб. А. Байе незадолго до своей смерти (1961 год) не раз говорил об этом открытии.
В таком случае не был ли сам процесс Жанны лишь комедией, где все участники играли заранее согласованные роли? Протоколы руанского процесса были фальсифицированы Кошоном. Он приказал не заносить в них многие заявления подсудимой. Сохранилась неискаженная копия протоколов, представленная в качестве доказательства на контрпроиессе. В XX в. она была обнаружена одним историком и свидетельствует, что официальный текст тенденциозно «исправлен» Кошоном и в таком виде доведен до сведения европейских дворов. Основной политической целью руанского процесса было доказать незаконность коронации Карла VII, осуществленной с помощью колдуньи.
Роль главного злодея в истории Жанны д’Арк отведена Кошону. Легенда не терпит нюансов. Она знает лишь белый и черный цвета. «Черную» репутацию Кошона во многом создали свидетели, стремившиеся обелить самих себя, — это проявилось во время расследования, проводившегося в годы, предшествовавшие процессу реабилитации, и во время самого этого процесса. Ведь в глазах современников Пьер Кошон отнюдь не был бесчестным интриганом, нечистым на руку проходимцем. Он пользовался уважением и авторитетом в кругах светской и духовной знати, включая даже приверженцев Карла VII. Несомненно, что Кошон прилагал всяческие усилия к тому, чтобы ему было поручено решать судьбу Жанны. Быть может, он пытался, удовлетворяя требования англичан, вместе с тем тайно содействовать и планам Карла VII, который после своего коронования в Реймсе в глазах большинства современников стал законным королем Франции? Кошон ведь явно затягивал процесс, прибегая к многочисленным уловкам, хитростям, пропуская мимо ушей многие заявления Жанны, являвшиеся вызовом. Парижский парламент неоднократно напоминал ему о необходимости поторопиться с окончанием дела. И еще одна особенность — Кошон собрал для участия в процессе десятки авторитетных теологов, принадлежащих к различным орденам, — францисканцев, доминиканцев, августинцев, бенедиктинцев, включая епископов, настоятелей монастырей и других представителей церковной иерархии. Вместе с тем все нити, управляющие ходом процесса, Кошон сосредоточил в своих руках. Именно он назначал прокурора, следователей, протоколистов, и одновременно Кошон, очень опытный юрист, допустил столь большое число нарушений норм подготовки процесса и правил судопроизводства, что возникает вопрос: не подготовлял ли он заранее основания для кассации приговора?
Прежде всего бросается в глаза, что от участия в процессе уклонился генеральный инквизитор Франции Жан Граверен (сохранилось письмо Кошона к Граверену от 22 февраля 1431 года с настоятельной просьбой участвовать в процессе, поскольку речь идет об обвинении в ереси, относящейся к юрисдикции генерального инквизитора). Один из сторонников «новой» версии, М. Давид-Дарнак, в книге «Досье Жанны» считает это следствием тайного сговора Кошона и Граверена. Однако поведение генерального инквизитора можно объяснить просто нежеланием лично вмешиваться в дело, являющееся яблоком раздора между враждующими сторонами во Франции, исход борьбы которых нельзя было предусмотреть заранее. Вместо себя Граверен направил на процесс местного руанского инквизитора Жана Деметра, да и тот стал присутствовать на процессе только с 13 марта (судебное следствие, напомним, началось еще 21 февраля, иначе говоря, большая часть процесса уже осталась позади). Жанне не было разрешено иметь адвоката. Это не шло вразрез с установленной законом нормой, но все же было нарушением соблюдавшегося обычая. Ей предложили адвоката лишь в самом конце процесса, но она отказалась от этого предложения. Жанне запретили апеллировать к римскому папе. Словом, поводов для последующей кассации было более чем достаточно, что и было использовано во время процесса реабилитации.
Не хотел ли Кошон выиграть время и попытаться спасти Жанну? Не надел ли он личину врага Орлеанской девы с целью добиться назначения судьей и осуществить таким образом свой план спасения Жанны? Знала ли она об этом плане, если он вообще существовал в действительности? Кошон и другие судьи явно сознательно не расспрашивали подсудимую о многих важных вещах, позволяли умалчивать о них. Судьи останавливались на полдороге, выясняя, имели ли телесный облик голоса, вешавшие Деве. Сторонники «новой» версии склонны объяснять это тем, что судьи опасались, как бы неосторожными и слишком настойчивыми расспросами о «голосах» не раскрыть тайную политическую игру, которая велась вокруг Жанны. Однако, прежде чем прибегать к такой гипотезе, надо задать вопрос: можно ли объяснить отсутствие любопытства у судей, следуя традиционной версии? Один из возможных мотивов обнаруживается сразу. Судьи интересовались «голосами» главным образом, если не исключительно, с точки зрения основной цели обвинения — доказать, что Жанна — колдунья, действовавшая по наущению дьявола. Судьи поэтому не менее, чем «голосами», интересовались, не участвовала ли Жанна в языческих обрядах и в праздниках, которые в деревнях сохранялись, несмотря на долгие столетия христианства, насчет магических свойств, которыми будто бы обладали ее меч, ее боевое знамя, кольца на руке и тому подобное.
Вспомним слова Кошона после допроса Жанны, адресованные Уорику, собравшемуся обедать:
— В добрый путь. С ней покончено!
Обычно эти слова трактуют таким образом: не беспокойтесь, ей не избежать смертного приговора. Однако при предположении, что Кошон — возможно, с согласия Уорика — вел двойную игру, слова епископа могли означать: не беспокойтесь, дело сделано («делом» могла быть подмена Жанны другой жертвой).
После того как Жанна в качестве вторично впавшей в ересь была обречена на казнь и обвинила Кошона, что он повинен в ее участи, епископ ответил:
— Ха! Жанна, вооружитесь терпением. Вы умрете потому, что не сдержали своего обещания.
Что означает эта фраза: «Вооружитесь терпением» — напоминание, что все идет по плану? «Новое» истолкование слов Кошона кажется очень натянутым. Например, слова «вооружитесь терпением», скорее, похожи на циничную издевку, напоминание, что Жанне вскоре придется ответить за свои деяния. Не надо забывать, что первоисточники, из которых историк черпает сведения о Жане, — это прежде всего хроники, составленные нередко через много лет после описываемых событий, нередко полностью или частично основанные на информации, почерпнутой из вторых и третьих рук. Стоит ли в этих условиях считать слова, вложенные в уста того или иного исторического лица, текстуальным повторением того, что им было заявлено, а не — и то в лучшем случае — приблизительным воспроизведением того, что вспоминали очевидцы, или просто того, что, по ходившим слухам, было сказано, или якобы было сказано, этим лицом. Поэтому казуистические толкования каждого слова, дошедшего до нас в такой неточной передаче, вряд ли могут стать серьезным доводом в пользу «новой» версии. Тем не менее признаем, что поведение Кошона допускает различные толкования. Почему же он делал попытки вызволить Жанну, не затрагивая интересов англичан? Он учитывал, что важнее сжечь колдунью, а кто был действительно казнен — это уже не столь существенно. Но зачем Кошону было вести эту сложную игру? Да хотя бы из простого благоразумия, предусмотрительности, из стремления обеспечить свои интересы, если счастье повернется в сторону французов. Кошон, возможно, стремился к компромиссу. Карлу VII, предлагавшему выкуп и угрожавшему репрессиями в отношении знатных английских военнопленных, была бы предоставлена возможность спасти Жанну, но официально бы ее казнили, как того требовали цели английской политики. Кошон ведь явно пытался сохранить жизнь Жанны, иначе он сразу бы вынес ей смертный приговор, а не присудил вначале к тюремному заключению (он не мог заранее наверняка знать, что она попадется в ловушку и даст основания объявить себя вторично впавшей в ересь).
Стоит отметить, что в отличие от других призывавших к борьбе проповедников, с которыми у англичан расправа была короткой, над Жанной учинен суд, растянувшийся на несколько месяцев. Очень многозначительным является тот факт, что Жанну не подвергли пытке. Ведь пытка была тогда не какой-то исключительной мерой, а нормальной процедурой получения показаний у подсудимого, отрицающего свою вину. За столетие до этого пытку применяли к гроссмейстеру ордена тамплиеров Жаку Моле. Несмотря на то, что Жанна была отлучена от церкви, ей, вопреки и правилам, и обычной практике, дали возможность принять причастие — милость, которую не оказывали тогда никому из обвиненных в колдовстве и отправленных за это на костер. Кстати сказать, обвинение Жанны в том, что она ведьма, не фигурировало в окончательном тексте приговора. Это было связано с заключением специальной комиссии, что Жанна оставалась девственницей и, следовательно, не находилась в порочной связи с дьяволом. Новое обследование производилось под наблюдением герцогини Бедфордской, сестры герцога Бургундского и тетки Карла VII. Зачем этой принцессе было брать на себя такие обязанности, если за этим не стояла какая-то тайна?
Как известно, Жанна была взята в плен вассалом Жана Люксембургского, который передал ее своему сюзерену — герцогу Филиппу Бургундскому, а тот — англичанам. После захвата в плен Жанна имела беседу с герцогом Бургундским, содержание которой осталось тайной, хотя при встрече присутствовал придворный историограф Ангерран де Монтреле. Позднее он писал в своей хронике, что не может припомнить, о чем говорили герцог и Орлеанская дева. Такой провал памяти объясним только тем, что во время встречи речь шла о каком-то важном государственном секрете. Интересно, что не Жанну доставили к герцогу, а Филипп Бургундский сам прибыл к месту, где она содержалась в заключении, — неожиданная дань уважения простой пастушке.
Посетивший тюрьму в Руане Жан Люксембургский также встретился со своей бывшей пленницей. Его приближенный шевалье Эмон де Маск сообщил в 1456 году на процессе реабилитации, что он участвовал в этой встрече; присутствовали также английские военачальники графы Уорик и Стаффорд, канцлер Англии. Жан Люксембургский сказал Жанне, что прибыл освободить ее за выкуп, если она не будет больше воевать против англичан. Дева ответила, что Жан смеется над нею, не имея ни желания, ни власти, чтобы ее освободить. Англичане же собираются убить ее с целью захвата Французского королевства. Стаффорд был взбешен словами Жанны, он уже наполовину вынул меч из ножен, чтобы умертвить пленницу, но его остановил Уорик. Историки по-разному пытались объяснить смысл этого эпизода. Часть из них готова была признать, что в это время еще не исключалась возможность освобождения Жанны за выкуп и на определенных, выгодных для англичан и их союзников условиях. Другие видели здесь отзвук заключенного тайного компромисса — официально объявят, что Жанну сожгли как еретичку и ведьму, а на деле дадут ей возможность спастись.
На процессе 22 февраля 1431 года Жанна заявила своим судьям, что если бы они были лучше осведомлены о ней, то не пожелали бы, чтобы она находилась в их руках. 24 февраля Дева сказала, что судьи ставят себя под большую угрозу, а 14 марта объявила, что если Бог покарает судей, пусть знают, что она выполнила свой долг, предупредив их об этом. Не сохраняла ли Жанна во время своего процесса какие-то контакты с королевским двором? Гонцами могли быть священники, которые свободно передвигались между воюющими сторонами. Можно предположить также, что такие контакты поддерживались с ведома самого Кошона. В пользу данного предположения можно привести некоторые эпизоды допроса Жанны. Так, в одном случае Жанна просила отсрочки для ответа на один из вопросов, а когда судьи выказали неудовольствие этим, посоветовала задать их вопрос самому Карлу VII. Через три дня Жанна извинилась за задержку, поскольку ранее не получила позволения ответить на этот вопрос.
Сторонники неортодоксальной версии находят в этом намеки на то, что Жанна сохраняла связи с какими-то внешними силами, которые давали ей советы и указания. Однако здесь тоже не обходится без натяжек. Ссылки Жанны, что эти силы — «голоса» святых, не принимаются в расчет или считаются попыткой замаскировать вполне земные контакты — с посланцами Карла VII. У Кошона и его английских хозяев, по мнению некоторых из этих историков, могли быть, кроме уже упомянутых, и другие причины не препятствовать этим контактам и мотивы для спасения Жанны. Здесь действовали, так сказать, «права благородной крови», столь важные для дворянства той эпохи. Короче говоря, Жанна, как полагают эти исследователи, не была дочерью своих родителей, а являлась… незаконнорожденной сестрой Карла VII.
Как пастушка из Домреми при свидании с нерешительным королем могла убедить его в своем предназначении и вопреки советам придворных побудить Карла VII предоставить войско для осуществления ее миссии? Источники глухо упоминают о какой-то тайне, которую Жанна сообщила королю. Над Карлом тяготело подозрение в незаконном рождении, и оно, учитывая нравы его матери королевы Изабеллы, выглядело очень правдоподобным. Может быть, Жанна представила доказательство, что именно она — тот незаконный ребенок Изабеллы, о существовании которого шла молва. Таким доказательством могло быть одно из двух колеи — их Жанна постоянно держала при себе. Кольиа были отняты у нее бургундцами после взятия в плен и переданы Кошону. Он даже расспрашивал о них Жанну. Та отвечала очень уклончиво. Англичане, если и знали обо всем этом, должны были молчать. Они, как и Карл VII, вовсе не были заинтересованы в том, чтобы окончательно погубить репутацию королевы Изабеллы. Это подорвало бы веру в законность рождения ее дочери Екатерины, которая вышла замуж за английского короля Генриха V, а их сын Генрих VI был как раз незадолго до руанского процесса коронован в Париже. Жанна на процессе объявила, что не будет отвечать на многие вопросы. Судья не принуждал ее отказываться от своего решения, потому что обеим сторонам было выгодно о многом умалчивать. Быть может, спасение Жанны — результат тайных переговоров и соглашения между Карлом и герцогом Бедфордским. Пока шли переговоры, Кошон затягивал процесс. Англичанам было важно сохранить Жанну как ценный залог в переговорах с французами. Ее могли перевести из Руана в другую тюрьму.
Прямых доказательств того, что Жанна — дочь королевы Изабеллы, конечно, не существует. Однако известно, что та 10 ноября 1407 года родила ребенка; его отцом не мог быть король Карл VI, с которым она была давно разлучена. Считали, что отцом являлся герцог Людовик Орлеанский, убитый вскоре же (23 ноября) его врагами. Однако связь королевы Изабеллы Баварской с герцогом Орлеанским не подтверждается никакими современными свидетельствами, о ней говорит лишь писатель XVI в. Брантом да одна острота, приписываемая — кажется, без основания — наследнику Карла VII королю Людовику XI. Мальчик, которого собирались назвать Филиппом, умер, по одним сведениям, при рождении, по другим — летом следующего года. По мнению поборников «новой» версии, королева родила не сына, а дочь. В хронике священника из Сен-Лени отмечено, что герцог Орлеанский вскоре после обеда у королевы пал от руки убийц. В хронике указано: после «веселого обеда», а это произошло всего через 13 дней после смерти их сына (если это был действительно сын и действительно умер 10 ноября 1407 года).
Это сообщение, возможно, опровергает ложное известие о кончине ребенка, которое было сделано, чтобы ввести в заблуждение врагов герцога. Исследователи внимательно изучили все свидетельства хроник, касающиеся ребенка, рожденного королевой. И Ангерран де Монтреле и Гийом Кузино, приближенный одного из союзников герцога Орлеанского, сообщают о факте рождения ребенка, не уточняя его пол. А в хронике священника из Сен-Дени страницы, посвященные этому эпизоду, вообще исчезли. Позднее (через целых полвека!) в хронику было вписано несколько строк о рождении у королевы сына Филиппа, вскоре скончавшегося, и его похоронах. Вдобавок это запись, в которой отсутствовали обязательные в таких случаях подробности о церковных службах, похоронах, надписи на могиле. В 1793 году, во время Великой революции, при участии представителя французского правительства были вскрыты королевские могилы и составлен тщательный протокол произведенных раскопок. Останки Филиппа не обнаружены. Противники ортодоксальной версии считают все это доказательством того, что сознательно было напущено тумана, соткан плотный покров тайны вокруг рождения ребенка Изабеллы Баварской в 1407 году.
Впрочем, этот «покров» настолько широк, что не может не вызывать недоумения. Зачем было подыгрывать заговорщикам хронисту Монтреле, состоявшему на службе у герцога' Бургундского, от которого и хотели уберечь новорожденного? Конечно, Монтреле мог быть введен в заблуждение, но в таком случае он просто упомянул бы о рождении королевой сына Филиппа, умершего в тот же день. И все же, надо признать, что-то от «покрова неясности» остается. Ко времени рождения Изабеллой Баварской ребенка она и герцог Орлеанский могли серьезно опасаться враждебных действий герцога Бургундского Иоанна Бесстрашного. В этой обстановке подмена ребенка королевы каким-либо другим младенцем, который сразу же скончался (ему, возможно, помогли умереть), не являлась чем-то беспрецедентным в истории французского двора. Если Жанна была дочерью Изабеллы, то она являлась сводной сестрой Карла VII, золовкой герцога Бургундского Филиппа Доброго и английского короля Генриха V, теткой его сына Генриха VI, находившегося на престоле в 1431 году, сводной сестрой герцога Орлеанского и графа Дюнуа, кузиной герцога Алансонского, племянницей герцогини Люксембургской. Все эти лица (кроме малолетнего Генриха VI) принимали (или могли принимать за кулисами) то или иное участие в судьбе Жанны.
Давно обратили внимание на одну странность. В XVIII в. четырежды публиковалась многотомная история Франции. Во втором издании, в 1764 году, двенадцатый ребенок Карла VI назван Филиппом, а в остальных трех — Жанной. Однако авторы труда не связывали эту Жанну — даже если ее появление не являлось просто типографской опечаткой — с Жанной д’Арк. В издании 1770 года изложена вполне традиционная версия о рождении в 1412 году Жанны д’Арк в бедной семье. Стоит все же задуматься, действительно ли дело в ошибке автора или в типографской опечатке. Возможно, что имя Филипп было взято автором Клодом де Вилларе из «Генеалогической и хронологической истории королевского дома Франции» Ансельма де Сент-Мари, вышедшей в свет в 1726–1732 годах. А имя Жанна могло появиться в результате наведения де Вилларе дополнительных справок, что ему было нетрудно сделать, поскольку он являлся «секретарем и генеалогом пэров французской короны».
В драме «Генрих VI», основная часть которой, по мнению большинства критиков, принадлежит перу Шекспира, Жанна д’Арк заявляет: «Я рождена от благородных предков». Отца-пастуха она упрекает в том, что он подкуплен англичанами, и бросает своим врагам обвинение: «Хотите скрыть моих венчанных предков». Сторонники версии, будто Жанна была сестрой Карла VII, разумеется, ухватились за эти слова и даже считают их серьезными доводами. «Известно, — заявляют они, — что Шекспир был хорошо знаком с традициями, которые передавались английской аристократией из поколения в поколение». Это слабый довод. Драма «Генрих VI» была написана более чем через полтора столетия после смерти Жанны. Материалы, которые использовал ее автор — исторические хроники XVI в., — тоже отдалены целым столетием от времени Жанны д’Арк. Более чем сомнительно, чтобы процитированное утверждение Жанны в драме восходило к каким-то «традиционным» поверьям среди английской знати. Надо добавить, что сцены с Жанной, к слову сказать, изображенной в угоду шовинистическим настроениям зрителей ведьмой и наглой распутницей, вообще, по всей вероятности, не были написаны Шекспиром. Наконец — и это не могут игнорировать и некоторые сторонники нетрадиционной версии — в начале драмы (во второй сцене) Жанна при первом свидании с дофином Карлом называет себя «дочерью пастуха».
Быть, пусть незаконным, сыном или дочерью лица, принадлежащего к королевскому дому, было большой честью в представлении французской знати XV в. Сын того же Людовика Орлеанского, предполагаемого отца Жанны, будущий известный военачальник граф Дюнуа с гордостью подписывал свои письма: «Рожденный вне брака сын герцога Орлеанского». Зачем же было Жанне скрывать свое знатное происхождение? А затем, отвечают сторонники «новой» версии, чтобы не ставить под сомнение супружескую верность «ее» матери и, следовательно, законность прав Карла VII на престол. Обвинения в незаконнорожденности и без того выдвигались против Карла англичанами и их союзниками — бургундцами, и их никак нельзя было подкреплять признанием подлинного происхождения Жанны. Видный сторонник «новой» версии Ж. Пем утверждал, что его единомышленник историк Эдуард Шнейдер, поддерживавший дружеские связи с папами Пием XI и Пием XII, раскопал в 1935 году в Ватиканском архиве протокол допроса Жанны специальной комиссией, образованной по приказу Карла VII и установившей королевское происхождение Девы. Выводы комиссии, сделанные в письменном виде, были сданы на хранение генеральному королевскому адвокату Жану Рабато, у которого временно проживала Жанна. Почему же Шнейдер не опубликовал своего открытия? Потому, что этого не пожелал Ватикан. Тем не менее устно он сообщил об этом многим лицам, а Пему даже изложил все это в особом письме. Версия о королевском происхождении Жанны объясняет, по мнению Пема, почему ей так легко подчинялись строптивые командиры феодальных отрядов, почему она носила цвета Орлеанского дома, почему она была грамотной, почему такие вельможи, как граф Арманьяк, в письмах величали ее «благородной дамой». Добавим, что современник — итальянец Лоренцо Буонинконтро — именовал Жанну «принцессой». Не было ли это понятие использовано в прямом, а не в переносном смысле для оценки величия Девы?
Как повествует «Лотарингская хроника», Жанна, еще находясь в Лотарингии при поездке в Бурж, приняла предложение участвовать в воинских состязаниях и поразила всех своим умением управлять боевым копьем. Копье в то время обычно было длиной примерно в четыре метра, и владение им было искусством, требовавшим специального обучения. Вдобавок это было исключительно дворянское оружие, им могли владеть только лица, возведенные в сан рыцаря. Такого права были лишены даже оруженосцы. За нарушение этого правила оруженосцем полагалось лишать его права в будущем стать рыцарем. Может быть, этот рассказ о демонстрации Жанной своего воинского умения относится к числу легенд, приукрасивших подлинную истории Девы? Однако о том, что Жанна свободно владела копьем, сообщают несколько независимых друг от друга источников. Крайне маловероятно, чтобы подобный курс обучения прошла простая крестьянская девушка из Домреми, если, конечно, она была той, за которую ее принимают. Кто же мог обучить Жанну военному делу? Сама собой напрашивается кандидатура Бертрана де Пуланги. Этому выходцу из дворянской семьи в интересующее нас время было 36 или 37 лет, он был уже опытным воином. Считают, что де Пуланги познакомился с Жанной, когда она прибыла в Вокулер. Но на процессе реабилитации он сделал неожиданное признание: «Я не знаю имени ее матери, но я часто посещал ее дом». Стоит добавить, что де Пуланги поддерживал дружеские связи с Рене Анжуйским и с королевским конюшим Гобером Тибо, доверенным лицом королевского исповедника Жерара Маше, который в свою очередь был приверженцем королевы Иоланты Арагонской, теши Карла VII. Именно де Пуланги и Жан де Новлонпон (его роль была, видимо, менее значительной) снабдили Жанну одеждой воина, Новлонпон взял на себя расходы, связанные с поездкой Жанны, которые 21 апреля 1429 года в сумме 100 парижских ливров были ему возмещены королевской казной.
Интересно отметить, что, по мнению некоторых историков, при возведении Жанны в дворянство ей был присвоен королевский герб, но с добавочным геральдическим знаком, свидетельствующим о незаконном происхождении (имеются и другие попытки объяснения этого герба). Орлеанская дева — так могли называть Жанну не только за ее роль в снятии осады с Орлеана, но и за родственную связь с Орлеанским домом.
Когда же родилась Жанна? По традиционной версии, в 1412 году. Утверждение, что она старше на несколько лет, разумеется, нисколько не подрывает в принципе эту версию. Напротив, подтверждение этой даты опровергает гипотезу о том, что Жанна была дочерью Изабеллы Баварской. Но откуда взялась дата «1412 год»? Сама Жанна, прибыв в 1429 году ко двору Карла VII, говорила, что ей «три раза семь лет», следовательно, родилась она в 1407–1408 годах. На первом допросе, 21 февраля 1431 года, проведенном в присутствии большого числа лиц, Жанна объявила, что ей «примерно 19 лет». На следующий день, 22 февраля, вопрос повторили, правда, в другой форме. «Спрошенная далее о возрасте, когда покинула дом своего отца, — гласит протокол, — она заявила, что не может ответить, каков ее возраст».
Что же вероятнее — что Жанна назавтра забыла год своего рождения или что она не хотела сообщить настоящую дату? Обычно для объяснения подобных двусмысленных ответов ссылаются на то, что в средние века не велись записи рождения и никто среди простого народа не знал точно свой возраст. Этому доводу не следует придавать преувеличенного значения. Да, метрик не существовало, но приходские священники отмечали даты крещения новорожденных. Кроме того, окружающие знали, во время какого памятного чем-то — для семьи или села — события родился каждый житель, и это позволяло определять возраст с точностью до года. В этой связи можно отметить, что все земляки и друзья детства Жанны, которых допрашивали в качестве свидетелей на процессе реабилитации в 1456 году, были в состоянии точно указать, сколько им лет. Изабелла Жирарден сказала, что ей 51 год, Овьет — 45, Манжет — 43 года и т. д. Как же объяснить, что за четверть века до этого Жанна, несравненно более развитая и способная, чем ее землячки, могла определить свой возраст только приблизительно, а назавтра сообщить, что она его вообще не знает? Если же отбросить столь сомнительное заявление Жанны 21 февраля 1431 года, то целый ряд других данных позволяет определить, что она, вероятно, родилась в конце 1407 года.
Во-первых, на допросе 22 февраля 1431 года Жанна сообщила, что, когда впервые услышала «голос» святых, ей было «тринадцать лет или около того». А на допросе 27 февраля она утверждала, что впервые побывала в Вокулере через семь лет после того, как святые взяли ее под свое покровительство. В Вокулер Жанна прибыла в мае 1428 года. Ей тогда, по ее собственному подсчету, было 20 лет (тринадцать и семь). Один из авторов, придерживавшихся традиционной версии, аббат Поль Гийом в недоумении даже высказал предположение, будто здесь речь идет об ошибке переписчика. Но ведь так можно отвергнуть любое свидетельство источников, не укладывавшееся в заранее созданную схему. Между тем, если предполагать, что Жанна не хотела точно указывать свой возраст, а этими показаниями 22 и 27 февраля она невольно выдала себя, все находит приемлемое объяснение.
Во-вторых, обратимся к обвинительному акту, составленному» 27 марта 1431 года, после первой серии допросов Жанны. В пункте 8 этого акта говорится, что Жанна отправилась в Нефшато, когда ей было около 20 лет. Между тем дату этой поездки можно датировать точно июлем 1428 года, иначе говоря, она родилась примерно в 1408 году. Кошон посылал своих людей в Домреми, чтобы собрать сведения о детских годах Жанны, отсюда и проистекала его осведомленность о ее возрасте. И снова это свидетельство обвинительного акта ставит в тупик сторонников традиционной версии. Один из них, С. Люс, считает, что речь опять-таки идет об ошибке писца — тот поставил латинскую цифру «X» вместо нужной цифры «V» (в результате получилось XX лет вместо XV). Однако в данном случае предположение о такой ошибке приводит к явному абсурду — получается, что Жанна родилась примерно в августе 1413 года и что ей было всего 15 с половиной лет, когда она освободила Орлеан! Добавим, что Ангерран де Монтреле, видевший Жанну сразу после ее взятия в плен, сообщил, что ей «двадцать лет или около того». Здесь не может уже идти речь об ошибке писца, поскольку возраст обозначен не цифрой, а прописью.
Другие хронисты дают различные даты рождения Жанны. Персеваль де Каньи, историограф герцога Алансонского, в хронике, написанной между 1434 и 1437 годом и передающей много весьма достоверных сведений о Жанне, отмечает, что она начала свою миссию, когда ей было «от восемнадцати до двадцати лет», однако через страницу можно прочесть, что Жанна была захвачена, когда ей было примерно двадцать восемь лет, а это полностью противоречит предшествующему свидетельству.
Другой пример такого же противоречия: современник Жанны Филипп де Бергам пишет, что она прибыла ко двору, когда ей было шестнадцать лет, и двадцать четыре года, когда ее сожгли в Руане. На деле же между этими событиями прошло не восемь лет, а лишь два года с лишним. Если верить тому, что Жанне было 24 года, когда она была сожжена в Руане, это снова подводит нас к 1407 году как дате ее рождения. Между прочим, Бергам сообщает, что заимствует свои сведения у Гийома Гюаша. Фамилию Гюаша, или Гокаша, некоторые историки считают искажением фамилии Рауля де Гокура, приближенного герцога Орлеанского и правителя Орлеана, сражавшегося вместе с Жанной при освобождении этого города. В дневнике парижского буржуа отмечается, что Жанна погибла примерно двадцати семи лет от роду. Все эти данные по крайней мере доказывают, что нельзя безапелляционно считать датой рождения Жанны 1412 год. Есть к тому же другие основания усомниться в этой дате. В 1428 году, когда Жанна жила в Нефшато, ей пришлось предстать перед трибуналом в Туле по обвинению в нарушении обещания выйти замуж за какого-то деревенского парня.
Она поехала за 150 километров, как сама рассказывала, одна по очень небезопасным дорогам. Если считать, что ей было около 21 года, то это можно понять, но подобную поездку шестнадиатилетней девушки трудно представить. Кроме того, если ей было 16 лет, то она считалась бы по тогдашним законам Лотарингии несовершеннолетней и не могла бы сама защитить свои интересы в суде.
Обратимся теперь к показаниям подруг Жанны во время процесса 1456 года. Овьет, которой было тогда 45 лет (иначе говоря, она родилась в 1411 году), заявила, что Жанна была старше ее на три или четыре года. Вряд ли Овьет могла ошибиться в возрасте подруги своего детства, ставшей народной героиней, и считать ее старше себя на несколько лет, если бы она была на год ее моложе. Это означало бы сделать ошибку в пять лет — очень большой разрыв в юные годы. Вряд ли здесь могла быть и ошибка писца, ведшего протокол. Изабелла Жирарден, хорошо знавшая Деву Жанну, которая была крестной матерью одного из ее детей, явно считала Орлеанскую деву однолеткой. Между тем Изабелла родилась в 1405 или 1406 году и вряд ли могла принимать Жанну за свою ровесницу, если та была на шесть или семь лет ее моложе. Жители Домреми, подруги и соседи Жанны, дававшие показания, не могли не понимать, что, относя рождение Девы к 1407 или 1408 году, они тем самым свидетельствовали, что Изабелла Роме не являлась ее матерью. Ведь в эти годы Изабелла Роме родила сына Пьера и дочь Катерину. Может быть, поэтому и возникла неопределенность в их ответах.
В ряде современных и более поздних свидетельств второй половины XV и первой половины XVI в. по-разному определяется возраст Жанны во время процесса в Руане — 22, 24 года и даже 28 лет, что в любом случае относит дату ее рождения ранее 1412 года. Сподвижники Девы Жан де Новлонпон и Бертран де Пуланги неопределенно говорили, что, по слухам, Жанна происходила из Домреми. Кузен Жанны Дюран Лаксар, проживавший неподалеку от Домреми, ограничился заявлением, что, «по его мнению», Жанна родилась в этом селении. Подобные осторожные выражения — «как мне кажется», «как люди говорили», «как мне приходилось слышать» — то и дело встречаются в ответах многих свидетелей. Другие и вообще уверяли, что им ничего не известно о семье Жанны, хотя это вряд ли было правдой.
Процесс реабилитации, к подготовке которого приступили по приказу короля в начале 1450 года, продолжался долгие шесть лет. Был составлен список вопросов, прежде всего о детских и юношеских годах Жанны. Показания жителей Домреми было поручено собрать Жану дю Ли, брату Орлеанской девы. Не по его ли подсказке давались показания, причем свидетели нередко сопровождали их оговорками: «как мне кажется», «как мне говорили», «как я считаю», и т. п. Противники традиционной версии акцентируют внимание на осторожности, с которой велся контрпроцесс. Свидетелям задавали заранее подготовленные вопросы. Ответы на них должны были доказать, что Жайна родилась в Домреми.
Во время процесса реабилитации для Рима было неудобно признавать посмертную — после церковного приговора — жизнь Жанны. То же самое следует сказать и об интересах короны: королю была нужна только реабилитация Жанны, но не разоблачение ее подлинного происхождения и спасения.
Прошение о реабилитации Орлеанской девы, подписанное Изабеллой Роме (отец Жанны Жак д’Арк к этому времени уже умер), составил легист Гильом Превото. Ему же принадлежат следующие многозначительные строки: «Если запрещено обманывать, то, однако, дозволено скрывать правду, соответственно месту и времени прикрывшись хорошей выдумкой или выражением, имеющим иносказательный смысл». В прошении Орлеанская дева была впервые названа Жанной д’Арк. Однако саму Изабеллу Роме не сочли нужным заслушать на процессе реабилитации, где давали показания три десятка орлеанцев и около сорока жителей Домреми. Будучи истицей, Изабелла Роме единственная не должна была давать присягу. Очевидно, боялись, что с уст старухи могут сорваться какие-то неосторожные слова. Изабелла Роме присутствовала на торжественной церемонии 7 ноября 1455 года, в самом начале процесса реабилитации, но позднее его организаторов как бы совершенно не интересовали ее показания, хотя она могла бы сообщить наиболее точные сведения по многим интересующим их вопросам. От Изабеллы Роме получили лишь упомянутое прошение, в котором она жаловалась на казнь Жанны в 1431 году. И этого было уже много, говорят сторонники нетрадиционной версии, ведь Изабелла Роме знала о появлении Девы в 1439 году в Орлеане и, возможно, даже виделась тогда там с нею. Требовать от нее ложных сведений о месте и времени рождения Жанны показалось судьям небезопасным и излишним. Свидетели говорили о том, что Жанна — дочь Изабеллы Роме, а ее саму не удосужились прямо спросить об этом. В протоколах процесса реабилитации нет и показаний братьев дю Ли. А Жану дю Ли поручили собирать показания других свидетелей по вопросам, в которых он, естественно, должен был быть осведомлен гораздо лучше, чем они. По каким-то причинам игнорировалось существование «Книги Пуатье».
До сих пор речь шла преимущественно о двух процессах Жанны — руанском и процессе реабилитации. Но им предшествовал еще один процесс, точнее, расследование, произведенное в Пуатье по приказу Карла VII почти сразу после появления Жанны при дворе видными сановниками церкви и советниками парламента. В Домреми были посланы монахи, чтобы выяснить обстоятельства, связанные с детством Жанны. Результаты следствия составили знаменитую «Книгу Пуатье», содержание которой не было обнародовано и которая не использовалась ни во время процесса в Руане, ни во время процесса реабилитации. На основании каких-то неизвестных нам мотивов первоначально скептически настроенная комиссия, проводившая следствие, пришла к выводу, что Жанна заслуживает доверия. По средневековым представлениям, лишь девственницу Господь мог избрать для осуществления своей воли и только ее не может сделать своим орудием дьявол. Поэтому Жанну подвергли обследованию уполномоченными на это матронами. Это были две королевы — Мария Анжуйская, королева Франции, и ее мать королева Иоланта Арагонская, которая оказывала большое влияние на слабовольного Карла VII и которую считают главным организатором плана превращения Жанны в избавительницу страны от англичан. Надо только представить сословные различия в средневековом обществе, чтобы понять — честь, которой удостоилась Жанна, не могла быть оказана простой пастушке. (Напомним, что в Руане аналогичное обследование Жанны тоже проводила знатная особа — герцогиня Бедфордская, тетка Карла VII.)
Иоланта была дочерью короля Арагонского и французской принцессы и женой Людовика II, герцога Анжуйского, брата короля Карла V, деда Карла VII. (Людовик II умер в 1417 году. Герцогов Анжуйских из почтения иногда называли королями, а Иоланту поэтому величали королевой.) Вдовствующая герцогиня Анжуйская была матерью герцога Рене Анжуйского и матерью королевы Марии — жены Карла VII. Первоначально Иоланта пыталась диктовать королю через свою дочь. Однако, убедившись позднее, что некрасивая и недалекая королева Мария была не в состоянии влиять на своего мужа, именно герцогиня Анжуйская сблизила Карла VII с красавицей Агнессой Сорель, которая стала одним из орудий умной и властной королевы Иоланты. Именно Иоланта финансировала экспедицию по освобождению Орлеана, организовывала пресловутую «комиссию Пуатье», именно у приверженцев Иоланты находила Жанна убежище и поддержку. С самого начала Иоланта была вдохновительницей того, что — по мнению автора одной из новейших работ об Орлеанской деве — в наше время «секретные службы могли бы назвать операцией «Пастушка». Почему новорожденную Жанну укрыли в Домреми? Потому, заявляют сторонники версии о королевском происхождении Девы, что селение было расположено в герцогстве Бар, находившемся под влиянием королевы Иоланты Арагонской. Оно входило также в сенешальство Вокулер, которое числилось владением французской короны, а его глава капитан Робер де Бодрикур был преданным сторонником Орлеанского дома и шурином сенешаля Прованса Дуй де Бово, числившегося на службе у Иоланты Арагонской. Через Домреми проходила дорога в Баварию, родину королевы Елизаветы, неподалеку находился Люксембург, являвшийся тогда владением герцога Орлеанского.
Почему в качестве воспитателей Жанны была избрана семья д’Арк? Об этом можно только догадываться. Целый ряд лиц, близких к королевскому дому, носили фамилию д’Арк. Гийом д’Арк был гувернером дофина Людовика. Он жил в 1358 году недалеко от Аркан-Барруа, откуда был родом Жак д’Арк из Домреми, что позволяет считать вероятным наличие между ними родственных связей. Ивон д’Арк был советником Карла VII, Руаль д’Арк — королевским камергером, Жан д’Арк, брат Жака д’Арка из Домреми, — королевским землемером, Симон д’Арк, родственник Жака, — капелланом в королевском замке. Список лиц по фамилии д’Арк, так или иначе связанных с королевским двором, этим не ограничивается. Анри-Мари Жерар, автор книги «Жанна д’Арк, несправедливо осужденная», даже обнаружил некую Жанну д’Арк — фрейлину королевы Изабеллы Баварской. Однако следов существования каких-либо прямых контактов их с четой д’Арк в Домреми отыскать не удалось (впрочем, подобная находка могла быть только результатом маловероятной счастливой случайности). Откуда возникла фамилия д’Арк? Как считают некоторые историки, от названия деревни Д’Аркан-Барруа, неподалеку от Шомона. На протяжении второй половины XIV в. в долине реки Об и ее притоков жило несколько лип, носивших фамилию д’Арк. Отец Девы — Жак д’Арк, судя по некоторым свидетельствам, родился в деревне Сетон, близ Монтиранделя, в Шампании. Остается спорным — происходил ли он из дворянской или зажиточной крестьянской семьи. Брат Жанны Пьер д’Арк в 1436 году был возведен герцогом Карлом Орлеанским в рыцари ордена Дикобраза, а в него, по уставу, могли приниматься лишь выходцы из семьи, члены которой не менее чем в четырех поколениях были дворянами. Но кто знает, не было ли сделано исключение для брата Девы? Такая же неясность существует и в отношении матери Девы — Изабеллы Роме, происходившей из деревни Бутон, неподалеку от Домреми.
Семья Девы была в числе наиболее зажиточных в Домреми. Все это мы узнаем из различных юридических документов, разысканных исследователями. Свидетели на процессе в Руане и на процессе реабилитации единодушно именовали родителей Жанны крестьянами. Однако именно это единодушие кажется подозрительным противникам традиционной версии: «Подобное единодушие слишком хорошо, чтобы быть честным». Ведь свидетели повторяли почти дословно одни и те же слова — не были ли они вложены в их уста. Любопытная деталь — мать Левы Изабеллу свидетели неизменно именовали Забийетой. Некоторые, конечно, могли использовать это уменьшительное имя, но когда это делали все, возникает подозрение в определенном умысле (имя Изабелла было почему-то неудобно употреблять в отношении матери Девы).
Жанна неизменно называла себя не Жанной д’Арк, а Девой Жанной. При допросе 21 февраля 1431 года она заявила, что там, где она родилась, ее звали Жаннетой, во Франции — Жанной, а своего прозвища или своей фамилии она не знает. Если речь шла действительно о фамилии, то это могло означать, что Орлеанская дева явно не желала называть себя Жанной д’Арк. Лишь через месяц с лишним, 24 марта, Жанна один раз заявила, что ее отцом являлся Жак д’Арк, а матерью — Изабелла Роме. Однако это был единственный день, когда допрос велся неофициально и Жанна не присягала давать правдивые показания. К тому же Жанна могла называть отцом и матерью своих приемных родителей. Фамилию Жанны не называли и на процессе реабилитации. Нет ли здесь «хорошо организованного заговора молчания»? Действительно, ни один из свидетелей на обоих процессах ни в одном из современных документов не именует Орлеанскую деву Жанной д’Арк (или Дарк, Дарт, Дай, как в разных источниках называется семья д’Арк). Мартен, генеральный викарий инквизиции, сторонник англичан, писал о Жанне: «Некая женщина по имени Жанна, которую враги этого королевства именуют Девой». Даже сторонники традиционной версии признают, что называть Орлеанскую деву Жанной д’Арк стали только со второй половины XVI в.
Интересно отметить, что отец и мать Жанны д’Арк, видимо, не были приглашены на коронацию в Реймсе, которая стала возможной благодаря подвигам их дочери, хотя Жак д’Арк и Изабелла Роме предпринимали туда поездки по куда меньшим поводам. Оба они не установили связей с Жанной, когда она была ранена. Сохранились письма Жанны различным лицам — англичанам, герцогу Филиппу Бургундскому, графу Арманьяку, жителям Тура, Реймса, Турне и других городов, даже чешским гуситам — и ни одного к тем, кого считают ее родителями (неправдоподобно, чтобы они не сохранили писем своей знаменитой дочери, если бы их получили). После своего отъезда из Домреми Жанна как будто полностью порвала всякие связи с четой д’Арк, правда, братья д’Арк ее сопровождали, но очевидно, что она не делилась с ними своими планами; не сохранилось ни одного слова, адресованного им. Братья д’Арк следовали за нею только как слуги.
Одной из слабостей традиционной версии является вопрос о «голосах святых», которые наставляли Жанну относительно ее Божественной миссии. Клерикальные историки прямо исходили из того, что это были голоса, вешавшие волю неба. Правда, при этом оставалось затруднительным объяснить, почему Господь стал на сторону Орлеанской партии, поддерживавшей дофина, а не на сторону английского короля, имевшего не меньшие династические права на престол; почему Бог был особо заинтересован в освобождении герцога Карла Орлеанского, который с 1415 года, со времени битвы при Азенкуре, в течение 25 лет находился в плену в Англии, посвятив себя сочинению поэтических мадригалов; почему «Божественная миссия» Жанны удалась только наполовину (англичан при ее жизни так и не удалось прогнать с французской земли). Другие же ученые — сторонники традиционной версии — либо вообще не касались природы «голосов», либо переходили от прежней гипотезы «Божественного провидения» к новой, считая явления «святых» результатом галлюцинаций. Но это плохо согласуется с теми четко определенными целями, которые поставили «святые» перед Жанной. Третья возможная гипотеза, что «голоса» были рупором заговорщиков. Но принимая эту гипотезу, мы тем самым соглашаемся, что действительно осуществлялась операция «Пастушка». На главную роль в такой операции вряд ли могла быть избрана Жанна, если она была просто неграмотной крестьянской девушкой. И наконец, четвертое возможное допущение — что Жанна была сознательной участницей операции «Пастушка», а это уже означает полный разрыв с традиционной версией.
В своих показаниях Жанна заявляла, что не только слышала их голоса, но и видела их в телесном облике, даже «обнимала» святую Екатерину и святую Маргариту, хотя отказывалась более подробно описывать их внешность и поведение. Любопытно отметить, что обе эти святые — Маргарита Антиохская и Екатерина Александрийская, — как показали исследования, произведенные уже в наши дни по указанию папы Иоанна XXIII, — являлись чисто легендарными фигурами и поэтому как никогда не существовавшие были вычеркнуты из ватиканского списка святых. Однако в начале XIV в. они были весьма популярны в придворных кругах. В Житиях этих святых можно найти немало общих черт с биографией Жанны д’Арк. Что касается третьего из «голосов» — архангела Михаила, то Карл VII называл его своим святым покровителем и патроном Франции. Считалось, что архангел Михаил «руководил» крещением предводителя франков Хлодвига — основателя французской королевской династии. Чтобы помочь Хлодвигу, он обратил в бегство его противников — готов. Именно святой Михаил поручил Жанне осуществить ее миссию — короновать Карла VII в Реймсе.
Собственно, «голоса» поручили Жанне выполнение четырех заданий: во-первых, освободить от осады Орлеан; во-вторых, короновать Карла VII; в-третьих, изгнать англичан из пределов Франции; в-четвертых, вызволить из английского плена герцога Орлеанского. Как известно, Жанне удалось осуществить лишь первые два задания. Во время Столетней войны представителям Орлеанского дома не раз случалось заключать сделки с англичанами за счет Франции. Людовик Орлеанский известен разве что оргиями и разграблением порученной ему королевской казны. Почему же освобождение его сына, бесславно попавшего в плен почти полтора десятка лет назад, вполне утешавшегося сочинением стихов, могло считаться важной национальной задачей? Почему так должна была думать пастушка из Домреми — сама ли или по внушению «голосов»? Положение меняется, если предположить, что Жанна была дочерью Людовика Орлеанского, любовника королевы Изабеллы Баварской, и заботилась об освобождении своего сводного брата.
«Ликвидированные» ныне Ватиканом святые действительно обладали необычной' осведомленностью. По показаниям Жанны, данным на руанском процессе, «голоса» предписали ей, когда она будет в Туре или Шиноне, отправиться в церковь Св. Екатерины в Фьербуа и не то за, не то перед алтарем откопать меч. Он и был там обнаружен, покрытый ржавчиной, от которой его удалось, впрочем, быстро очистить. О том, чей этот меч, высказывались различные предположения, в том числе и самые фантастические, вплоть до того, что он принадлежал знаменитому полководцу и правителю франков, деду Карла Великого Карлу Мартеллу. Он достался ему после победы над арабами в битве при Пуатье (732 год). Дело не только в том, что Карл Мартелл не мог преподнести меч церкви Св. Екатерины, поскольку культ этой святой распространился только в XI в., через три века после сражения при Пуатье. Очевидно, что подобные догадки не подтверждены ни одним доказательством и относятся к области чистых вымыслов. Один из сторонников неортодоксальной версии, М. Лами, пишет, будто «значительно более правдоподобным» нужно считать, что меч принадлежал известному полководцу второй половины XIV в. Бертрану дю Геклену, который завешал его герцогу Людовику Орлеанскому. После убийства герцога меч достался одному из его приближенных, который и приказал захоронить этот меч рядом с собственной могилой в церкви в Фьербуа. Может быть, эта гипотеза и «более правдоподобна», но столь же бездоказательна, как и остальные.
Однако факт, что о мече было известно «голосам» — а здесь нельзя сомневаться, поскольку это было засвидетельствовано самой Жанной, — говорит в пользу утверждения, что миссию Жанны кто-то готовил заранее и в соответствии с тогдашними представлениями решил снабдить Леву оружием, будто бы предназначенным для нее Божественным Провидением. Из показаний Жанны, правда, полных сознательных недомолвок, и отказа от четких ответов на задававшиеся ей вопросы все же как будто следует, что «святые» были существами из плоти и крови. Конечно, это еще не доказательство их реального, физического существования. Ведь сознание людей средневековья нередко наделяло таким реальным бытием порождения своего воображения, фантастического видения мира. И все же не проще ли предположить, что речь идет не о «святых», являвшихся Жанне, а о человеческих существах. И стоит вспомнить, что в обычае членов третьего францисканского ордена, которому неортодоксы приписывают большую роль в операции «Пастушка», было именовать друга вместо традиционного «брат», «сестра» «святым» или «святой». Не правдоподобнее ли предположение, что «святые» были просто посредниками между Жанной, с одной стороны, и королем или Иолантой Арагонской — с другой?
Обращает на себя внимание и такой момент. Ко двору Карла не раз являлись лица, утверждавшие, что они будто бы посланы Провидением. Но только Жанна отправилась ко двору за счет королевской казны, ее сопровождал специальный вооруженный эскорт. Возникает вопрос: что побудило капитана Робера де Бодрикура принять всерьез утверждение Жанны, что она послана Богом спасти королевство (даже учитывая людей той эпохи, точнее, суеверия, которые владели ими)? Ведь первоначально, если верить рассказу очевидца Бертрана де Пуланги, Бодрикур встретил с издевкой рассказ Жанны, а саму ее пытался отдать на потеху своим солдатам. Остается неясным, что побудило его резко изменить позицию и начать помогать организации путешествия Жанны ко двору. Бодрикур был человеком жестким, к тому же, что немаловажно, совсем неглупым администратором и военачальником. Зачем ему было идти на риск стать общим посмешищем, фактически представляя ко двору простую крестьянскую девушку, претендовавшую на то, что она, никогда не обучавшаяся военному делу, сможет осуществить то, что оказалось не под силу опытным полководцам? Наиболее правдоподобным кажется объяснение, что, помогая Жанне, Бодрикур поступил так, как ему было приказано действовать. Отец Робера де Бодрикура был камергером герцога Бара. По матери он был близким родственником сенешаля Прованса Луи де Бово. А графиней Прованса была королева Иоланта Арагонская. Робер Бодрикур стал союзником Рене Анжуйского — сына королевы Иоланты — для борьбы против сторонников англичан и бургундцев, которые захватили у них часть владений. Можно не сомневаться, что Бодрикур советовался с Рене, прежде чем отослать Жанну ко двору.
Во время второй поездки в Вокулер Жанна заявила Жаку де Новлонпону: «Никто в мире — ни король, ни герцог, ни дочь короля Шотландии, ни кто-либо другой — не сможет возвратить французское королевство». Как раз в это время начались переговоры Карла VII и шотландского короля Якова I о браке между дофином (будущим королем Людовиком XI) и дочерью Якова. К этим переговорам едва приступили в июле 1428 года, и они приняли конкретную форму лишь осенью, в октябре того же года. А разговор Жанны с де Новлонпоном состоялся в начале следующего, 1429 года. Таким образом, пастушка из Ломреми оказалась вполне информированной о секретных дипломатических переговорах. Конечно, быть может, слухи о них просочились, так как не столь далеко от Ломреми временно была расквартирована рота шотландских лучников. Если не считать этого довольно натянутого объяснения осведомленности Жанны, остается прийти к заключению, что крестьянскую девушку из далекого селения кто-то снабжал самыми последними государственными секретами.
Еще до поездки Жанны к королевскому двору в Бурже она в январе и начале февраля 1429 года отправилась в Нанси, Лотарингию. Ле Бодрикур проявил особую заботу, добыв для Левы охранную грамоту герцога Карла II Лотарингского. Стоит отметить, что Карл II был решительным сторонником бургундцев и англичан, врагов Орлеанского дома. Однако его дочь и наследница Изабелла вышла замуж за герцога Рене Анжуйского, сына королевы Иоланты. Между прочим, и Рене Анжуйский как раз в это время, 29 апреля, явно в угоду Карлу II Лотарингскому присягнул на верность английскому королю. Впрочем, после первых успехов Жанны он снова перешел на сторону Карла VII. Иначе говоря, и герцог Лотарингский, и королева Иоланта предпочитали не сжигать за собой мосты на случай неожиданного поворота событий. Выдачу герцогом Карлом II охранной грамоты Жанне трудно объяснить без учета этой двойной игры. Но если это так, то Карл II мог быть уверен, что приезд Жанны, о которой формально еще ничего не знали в Бурже, соответствовал видам королевы Иоланты. Но это не все.
Герцог Карл II лично принял еще не ведомую никому пастушку, а его гостья, не выказав даже внешнего почтения герцогу, напротив, стала его сурово порицать за связь с придворной дамой Алисой дю Май, которая была агентом Иоланты, но ко времени приезда Жанны стала выказывать неповиновение приказам королевы. Жанна угрожала герцогу, что если он не отошлет от себя свою любовницу, то не излечится от тяжелой болезни. Впоследствии легенда разукрасила эту встречу утверждениями, будто герцог ждал, что Жанна совершит чудеса и вылечит его от болезни. Однако Жанна тогда была вовсе не известна за пределами родной деревни и Вокулера, где она еще недавно с трудом уговорила де Бодрикура помочь ей добраться до королевского двора в Бурже. Слухи о предстоящем появлении Жанны для осуществления ее миссии стали муссироваться еще до того, как ею было что-либо совершено.
Существует рассказ, будто после прибытия ко двору Жанну пытались обмануть, выдав за короля другое лицо (графа де Клермона). Однако Жанна сразу же опознала стоявшего в толпе придворных Карла VII и обратилась прямо к нему. Как она могла узнать его, если ей заранее не описали внешность короля? Что могла сообщить королю Жанна при первом их свидании? Ответ на этот вопрос не дали ни современники, ни историки — сторонники традиционной версии вплоть до авторов новейших работ. Жанна объявила королю, что именно она является незаконным ребенком их матери. Это и было государственным секретом, которого приказал не касаться Великий инквизитор Франции Жан Бреал на процессе реабилитации. Однако как могла Жанна убедить короля в законности своего происхождения, даже если она действительно была дочерью Изабеллы Баварской и Людовика Орлеанского? Ведь она в таком случае была на пять лет моложе короля, и ее незаконное происхождение могло лишь усилить подозрение в отношении того, кто был отцом Карла VII. Сторонники «новой» версии проходят мимо этих самоочевидных соображений. Впрочем, некоторые выдвигают еще одну, по их собственному мнению, малоправдоподобную гипотезу, что Жанна была незаконной дочерью не Изабеллы Баварской, а короля Карла VI и его любовницы Одет де Шампдивер. Но это уже из области чистой фантазии.
Все поступки Жанны указывают на длительную подготовку к ее будущей миссии, на знание политической ситуации, обстановки при дворе Карла VII. «Голоса» святых — это указания тех лии, которые вели эту подготовку. Граф Дюнуа, незаконный сын герцога Людовика Орлеанского, осажденный англичанами в Орлеане, заявил своим воинам 12 февраля: ему предсказали, что город будет спасен «Девой, явившейся с лотарингской границы». Между тем лишь 23 февраля Жанна отправилась к королевскому двору. Дюнуа мог сделать это предсказание только в том случае, если появление Орлеанской девы было заранее предусмотрено окружением Карла VII.
Обращает на себя внимание образованность Жанны. Она была знакома с обычаями двора, с политикой, обучена географии, военному делу, верховой езде.
Слухи о том, что Жанна была родом из Лотарингии, возникли довольно скоро после ее смерти. Поэт Франсуа Вийон именовал ее «Жанной, доброй лотарингкой», один из сподвижников Девы, Жан д’Олон, говорил, что она прибыла «из лотарингских областей»; Гийом де Маншон, участник процесса в Руане, говорил, что Дева была из «Лотарингской земли». Более столетия назад французский историк А. Валлон в своей книге о Жанне д’Арк задался вопросом, не являлась ли Дева по происхождению лотарингкой. Селение Домреми было расположено в провинции Шампань, на территории графства Спотом герцогства Бар, которое именовали «зависимой Бар». Оно являлось частью Франции. Домреми находилось в месте, где сходились границы трех государств: Франции, Бургундии и Лотарингии. Домреми было расположено на левом берегу Меза, а граница Лотарингии проходила по правому берегу реки. Кроме того, Домреми разделялось небольшим притоком реки Мез, северная часть деревни находилась в области, управляемой королевским чиновником — прево — Вокулера. Лишь более века спустя, в 1571 году, Домреми оказалось в пределах Лотарингии (а еще много позднее сама Лотарингия вошла в состав Франции).
На каком языке говорила Жанна? Вопрос кажется нелепым только на первый взгляд. Дело в том, что крестьяне Домреми наверняка говорили на лотарингском диалекте, весьма отличном от языка жителей Парижа или Тура. Между тем ни в протоколах процесса в Руане, ни в каких-либо других источниках ничего не говорится об акценте, о каких-либо погрешностях в речи Жанны, которые наверняка были бы весьма многочисленными, если бы она говорила только на диалекте ее родных мест и не училась бы французскому наречию. Ведь французский язык начал распространяться в Лотарингии только в XVII в., т. е. через двести лет после смерти Жанны. А кто бы стал учить ему, если бы она была дочерью простого, пусть даже зажиточного, крестьянина? Она говорила по-французски настолько чисто, что, когда один из членов судившего ее трибунала, доминиканский монах из Лиможа, спросил, на каком языке вешали ей «голоса» (голоса святых Екатерины и Маргариты), Орлеанская дева ответила:
— На лучшем французском языке, чем ваш! (Жанна имела в виду вычурную манеру разговора, свойственную этому доминиканцу.)
Неясным остается вопрос, знала ли Жанна грамоту, умела ли читать или тем более писать. В протоколах руанского процесса утверждается, что она была неграмотной. Но некоторые историки склонны понимать эти слова не буквально, а в том смысле, что Дева была лишена придворного воспитания. У нее спрашивали, как сообщали «голоса» свою волю — устно или письменно, т. е. задавали вопрос, предполагающий, что Дева умела читать. Она не ответила, попросив отсрочки на восемь дней. В другом ее ответе встречается выражение: «Не написала и не приказала написать». Сохранились оригиналы пяти писем, причем три из них (к жителям Реймса и Риома) подписаны ею. Исправления, внесенные в текст двух из этих последних писем, могут навести на мысль, что они были сделаны Жанной. Можно привести и другие подобные свидетельства источников, как будто подтверждающие, что Жанна могла читать и писать. Впрочем, это мало что решает: тогда не знали грамоты и видные представители дворянской знати.
Орлеанская дева — имя, под которым Жанна вошла в историю, — считается народным прозвищем. Но вряд ли это так. Современнику Жанны и придворному Карла VII архиепископу Эмбрюнскому Жаку Желю принадлежит сочинение под названием «Орлеанская дева». Это сочинение было написано до того, как Жанна отправилась на освобождение Орлеана (или по крайней мере до 17 мая 1429 года, а Орлеан был освобожден только 8 мая, известие об этом не могло еще дойти до монсеньора Желю). Следовательно, было бы более понятным, если бы опус архиепископа был озаглавлен примерно так: «Дева из Домреми», а действительное название «Орлеанская дева» точнее было бы перевести как «Мадемуазель д’Орлеан», т. е. принадлежащая к Орлеанскому дому. Поскольку творение прелата было предназначено только для короля, в нем можно было не скрывать государственной тайны. Между прочим, прежнее отрицательное отношение Желю к Жанне сменилось положительным. Это явилось результатом свидания в конце марта или начале апреля архиепископа с кардиналом Фуа, возвращавшимся из Рима, который говорил с ним о Жанне. Фуа в Риме виделся с папой Мартином V. Становится вероятным, что папа уже знал что-то о Жанне, хотя пастушка из Домреми еще ничем не проявила себя.
Примечательны высокомерная фамильярность, покровительственный тон, который был усвоен Жанной в отношении самых знатных вельмож — Дюнуа, герцога Алансонского, графа Арманьяка.
Жанна с большим вниманием относилась к судьбам Орлеанского дома, к Карлу Орлеанскому (сыну герцога Людовика). В случае смерти сына Карла VII (а дофины нередко умирали раньше своих отцов) Карл Орлеанский стал бы наследником французского престола и, следовательно, соперником английского короля Генриха VI, которого англичане считали также и королем Франции. Казалось, заявление Жанны на процессе в Руане о том, что она является хранительницей тайны, касающейся герцога Карла, должно было бы самым живейшим образом заинтересовать и Кошона, и его английских хозяев. Однако они почему-то не проявили ни малейшего любопытства. На том же процессе Жанна сообщила, что намеревалась после освобождения Орлеана захватить в плен нескольких английских военачальников с целью обменять их на герцога Карла. Стоит добавить, что после возвращения во Францию Карл Орлеанский щедро наградил Пьера д’Арка, ставшего Пьером дю Ли, за верную службу. Оружие, цвета одежды Жанны, ее герб, как уже отмечалось, также должны были свидетельствовать о близости к Орлеанскому дому. В королевском ордонансе от 2 июня 1429 года, определявшем герб Жанны, не упоминается фамилия д’Арк.
Как уже отмечалось, по мнению некоторых противников традиционной версии, большая роль в истории Жанны принадлежит так называемому третьему францисканскому ордену, членами которого могли стать миряне — терцарии, и женскому ордену святой Клары, которых стали именовать клариссами. Судя по всему, Иоланта Арагонская установила тесные связи с третьим францисканским орденом и орденом святой Клары, пользовавшимися большим влиянием в начале XV в. Их члены принадлежали к обоим враждующим лагерям. Некоторые исследователи пытаются обнаружить агентов Иоланты и ордена францисканцев среди тех лиц, которые были знакомы (или якобы знакомы) с Жанной в дни ее юности, в частности в «дамах де Бурлемон» — Жанне де Бофревиль и Агнессе Жуанвиль, которые, возможно, взяли на себя роль святой Екатерины и святой Маргариты. По мнению этих исследователей, францисканцы во Франции во времена Жанны стремились представить себя покровителями «простых людей» в деревнях и городах (что, разумеется, не исключало того, что с ними сотрудничал ряд крупных феодалов). Напротив, орден доминиканцев становился выразителем интересов знати, городских верхов, тогдашней интеллектуальной элиты. Все это делало именно францисканцев пригодным орудием для осуществления операции «Пастушка».
Закулисному влиянию третьего францисканского ордена, по крайней мере гипотетически, приписывались различные (действительные или мнимые) зигзаги английской политики и даже поведение отдельных английских военачальников. Жена герцога Бедфордского Анна состояла членом третьего францисканского ордена; английский полководец Талбот не пришел на помощь другому военачальнику во время битвы при Турнель — быть может, это тоже воздействие ордена? Это отнюдь не единственный пример. Стоит вспомнить также, что бургундские отряды, участвовавшие в осаде Орлеана, покинули своих английских союзников еще до прибытия французского войска под командой Жанны д’Арк. Не было ли это тоже следствием противоречий между правившей тогда в Англии Ланкастерской династией и ее противниками, связанными с францисканским орденом?
Конечно, полное равнодушие Карла VII и двора к судьбе Жанны, попавшей в руки англичан, не говорит в пользу гипотезы, что Орлеанская дева была сестрой короля. Тем не менее можно предположить, что государственные интересы взяли верх. После коронования Карла VII Орлеанская дева, продолжавшая войну, стала препятствием для планов заключения перемирия с герцогом Бургундским, союзником англичан. Кроме того, мог ли вообще Карл VII вырвать Жанну из рук англичан, занимавших большую часть Франции? Интересно, что «голоса», как признавала Жанна, предупреждали ее о скором плене и гибели.
На каждый из приведенных доводов можно выдвинуть веские возражения. Приводят несколько фраз Жанны, которые можно истолковать как признание в своем высоком происхождении. Например, когда к ней и Карлу VII приблизился герцог Алансонский, Жанна сказала: «Тем лучше, собирается вместе королевская кровь». Но ведь это может просто означать, что к королю подошел принц крови. Вдобавок забывают, что Жанна под присягой не раз заверяла, что родилась в Домреми. Вообще многие из аргументов сторонников «новой» версии кажутся неубедительными, даже — как отмечалось в литературе — основываются на фактических неточностях и ошибках. Так, например, ссылаются на то, что в Арлон Жанна д’Армуаз прибыла с герцогиней Люксембургской, которая хорошо знала Орлеанскую деву во время ее содержания в тюрьме в Боревуаре. Однако в этой тюрьме Жанну д’Арк видела герцогиня Жанна Люксембургская, умершая еще в 1430 году, до гибели Левы, а Жанна д’Армуаз прибыла в Арлон в свите совсем другой особы — Елизаветы Люксембургской.
Подлоги и недомолвки в протоколах руанского процесса или процесса реабилитации могли иметь разные политические причины. Упоминание о Жанне как об Орлеанской деве ранее освобождения Орлеана могло быть следствием неточной датировки документа или тем, что это наименование было добавлено позднее, и т. д. Сторонники ортодоксальной версии напоминают: сохранился официальный акт за подписями Кошона и вицеинквизитора Деметра, осуждавших доминиканца Пьера Боскье за его заявление, что судьи дурно поступили, осудив Жанну как еретичку и передав ее в руки светских властей. Парижский университет направил римскому папе официальный документ, являющийся подтверждением осуждения и казни Жанны. От имени английского короля Генриха VI через восемь дней после казни были направлены письма главе Священной Римской империи и другим христианским монархам, уведомлявшие их об осуждении и казни Жанны. Несколько позднее, 28 июня 1431 года, такие извещения были посланы крупным светским и духовным феодалам Французского королевства. С целью оградить себя Кошон потребовал от английской государственной канцелярии специальных документов, обеспечивающих «королевскую защиту и покровительство для всех принимавших участие в процессе, на котором осудили Жанну и передали ее светской юстиции». На процессе реабилитации показали под присягой, что присутствовали при казни, Пьер Кюскель, /I. Гюдон, Ж. Рикье, епископ Нойона Гийом де ля Шамбр, Жан де Майи, нотариусы Гийом Мангон, Гийом Коль, Николя Гакель. Имеются также свидетельства священника Изабара де ля Пьера и Жана Масье. На руанском процессе Жанна поклялась на Евангелии, что она родилась в Домреми и что ее отец и мать — Жак д’Арк и Изабелла Роме. На процессе 1456 года Изабелла Роме ходатайствовала об аннулировании вынесенного в Руане приговора «дочери, рожденной в законном браке», сожженной англичанами. Церковь, устами папы Каликста III оправдавшая Жанну, пошла бы на клятвопреступление, объявляя, что Дева не была сожжена. Эта совокупность свидетельств в пользу «ортодоксальной» версии о гибели Жанны представляется убедительной, однако весомость каждого из них в свою очередь может быть поставлена под сомнение, а следовательно, и все они в целом не могут считаться абсолютным доказательством.
Самой слабой стороной нетрадиционной версии является полное отсутствие каких-либо указаний в документах на королевское происхождение Орлеанской девы. Эта версия предполагает существование заговора, в тайну которого было посвящено множество лии — друзья и враги Жанны, французы, бургундцы и англичане, королевские придворные и писцы руанского судилища, даже римский папа и иностранные дипломаты. Недаром поборникам нетрадиционной версии все время приходится повторять, что свидетельства документов в пользу версии «классической» — умелый обман. Авторов этих документов, якобы отчаянно стремившихся сохранить государственную тайну, сторонники «новой» версии подозревают вместе с тем в том, что они различными способами намекали на нее. Остается предполагать, что сама Жанна сохранила секрет, пожертвовав ради этого жизнью, так как дала кому-то клятву никогда не выдавать свою тайну.
Вот характерный пример. Персеваль де Буленвилье 21 июня 1429 года, после первых военных успехов Девы в письме герцогу Миланскому Филиппе Висконти (кстати, шурину герцога Людовика Орлеанского, предполагаемого «отца» Девы) сообщал свои сведения о Жанне. В них (хотя они явно основывались на данных расследования, произведенного по приказу короля в Домреми в марте 1429 года, и комиссии духовенства, которая допрашивала саму Жанну в Пуатье) уже нашла отражение официальная легенда, создававшаяся двором после того, как было решено возложить на Жанну важную государственную миссию. Де Буленвилье рассказывает о чудесных обстоятельствах, сопровождавших появление на свет Жанны 6 января, — все жители Домреми были охвачены необыкновенным радостным чувством и расспрашивали друг друга, что же случилось, поскольку им «не было известно о рождении ребенка». Но как могли жители небольшого селения в тридцать домов не знать, что в одной из семей скоро появится ребенок?
Адвокаты «новой» версии, ухватившись за приведенные выше слова де Буленвилье и считая их отражением подлинного факта, делают вывод: речь идет, вероятно, о том, что 6 января 1408 года Жанну неожиданно доставили в Домреми в семью д’Арк. Однако сам де Буленвилье в этом же письме пишет, что Жанна родилась в Домреми в семье д’Арк. Поэтому включение такого «намека» — если это был «намек» — в письмо предполагает сознательное стремление королевского камергера, излагая официальную версию, одновременно раскрыть государственную тайну чужому правительству. Но вряд ли у него могло быть основание для подобной бессмысленной измены. Анализ текста позволяет понять подлинный смысл слов де Булейвилье. Жители Домреми были поражены не рождением Жанны, а охватившей их радостью в связи с тем, что 6 января — как это отмечено в письме — день Богоявления (Крещения). Как в Евангелии короли в день Крещения следовали за звездой, движимые какой-то неведомой силой, так и жители Домреми праздновали, сами того не зная, пришествие вестника Божьего. Таким образом, рассказ де Буленвилье — один из элементов легенды, не раз возникавшей вокруг имени Жанны и ее деятельности.
Ссылаются на то, что Жанна не называла своей фамилии. Между тем это не было в обычае у простых людей в XV в. В нотариальном документе 1442 года жена Пьера д’Арка именуется просто «Жанна из Бара». Когда Жанну специально спросили 24 марта 1431 года о ее фамилии, она ответила вначале «д’Арк», а потом добавила «Роме», поскольку на ее родине девушки носят фамилию матери.
Подробное сопоставление довольно многочисленных свидетельств о возрасте Жанны убеждает, что наиболее вероятным временем ее рождения нужно все же считать 1411 или 1412 год, и кажется очень неправдоподобным отнесение его к ноябрю 1407 года. Между прочим, Домреми было самым неподходящим местом, чтобы туда послать на воспитание дочь королевы и герцога Орлеанского. Деревня находилась на границе владений смертельного врага Орлеанского дома — герцога Бургундского, и ребенка легко могли похитить. Герцог Орлеанский мог отослать свою дочь к кому-либо из своих приближенных, у которого она была бы в безопасности, получила бы надлежащее образование и вместе с тем не была бы открыта тайна ее происхождения.
Жанна, быть может, выучила начатки грамоты, но это очень маловероятно. В ее время умение читать и писать не считалось нужным даже для знатных придворных дам. Когда Жанна говорила, что «не знает ни «а», ни «б», она хотела сказать буквально то, что сказала. Ее современники — и друзья, и враги вроде Кошона, — не сговариваясь, подчеркивали, что она была простая, «невежественная» девушка. При ближайшем рассмотрении точно так же обстоит дело и с ее «военными познаниями». То, что она якобы говорила без лотарингского акцента в отличие от своих земляков, по-видимому, тоже прямо опровергается источниками. Да и как могла она, проведя детские и юношеские годы среди крестьян Домреми, не усвоить их произношение?
При дворе действительно служила некая Жанна д’Арк. Она была родом из Бургундии и должна была находиться в лагере противников герцога Орлеанского. Она не состояла ни в каком родстве с семьей Орлеанской девы в Домреми. Другого «придворного родственника» — Гийома д’Арка — Орлеанской деве приписали в результате… типографской ошибки. В источнике «Христианская Галлия», опубликованном в XVIII в., сказано «de Area», но, сверившись с указателем имен и названий в книге, можно убедиться, что следует читать «de Area», что является другим названием селения Дэр (Laire); Гийом де Дэр — лицо, известное историкам и не имеющее никаких родственных связей с Жанной д’Арк. (Эту ошибку признали и некоторые сторонники «новой» версии, в частности Э. Вейль-Рейналь.)
Что бы ни сообщила Жанна Карлу VII при их свидании, это не могло быть известием, что она его сестра. Трудно поверить, что король один оставался в неизвестности насчет планов родных превратить Жанну в спасительницу трона. Он менее всего мог обрадоваться сведениям о том, что его мать была неверна отцу: ведь это прежде всего усиливало бы сомнение Карла VII в отношении законности своего происхождения. В своих показаниях 21 февраля 1431 года, данных под присягой, Жанна заявила, что тайна, которую она открыла Карлу, «касалась короля», т. е. не относилась к самой Деве.
Как уже упоминалось, 22 февраля 1431 года, отвечая судьям, Жанна заявила: «Если бы вы были лучше осведомлены обо мне, вы не пожелали бы, чтобы я находилась в ваших руках». Сторонники «новой» версии считают, что эти слова трудно объяснить, считая Жанну пастушкой из Домреми. Однако эта фраза может звучать и как угроза, означавшая, что ей придут на помощь сторонники или даже небесные силы.
Глашатаи неортодоксальной версии прикидывают, когда и у кого могла возникнуть мысль отправить незаконную дочь королевы в Домреми, кто мог стать исполнителем поручения, кому могли отдать на воспитание девочку, кто мог открыть ей тайну ее происхождения и т. д.
В своих построениях «бастардисты» (так стали называть сторонников версии о королевском происхождении Жанны) запутываются в целой цепи неразрешимых противоречий. Например, чтобы объяснить, почему д’Аркам было поручено воспитание Жанны, их объявляют зажиточными людьми, имевшими родственные связи с дворянскими семьями. А когда утверждают, что свои знания она никак не могла приобрести в этой семье, тех же родителей Девы рисуют невежественными пастухами. Или другое: Жанне якобы с самого начала была уготована ее миссия. Но ведь родные Карла VII никак не могли заранее знать, окажется ли ребенок, «отосланный в Домреми», пригодным для такой миссии и сумеет ли он выиграть сражение там, где потерпели неудачу опытные военачальники.
Мы уже не говорим о том, что с 1407 или 1412 года политическая ситуация не раз претерпевала изменения, менялась и позиция возможных участников «заговора», причем некоторые из них даже вступали в соглашение с бургундцами — союзниками англичан. Так, предполагаемая главная заговорщица Иоланта Арагонская в 1412 году находилась в дружеских отношениях с герцогом Бургундским, в 1419–1422 годах жила вдалеке — в Провансе, а в 1423 году заключила сепаратное перемирие с англичанами, чтобы сохранить свои владения в Анжу. Если появление Жанны при дворе было заранее подготовленной инсценировкой, почему же Деве в ее поездке чинили препятствия местные власти? Почему Карл VII, если Жанна представила ему доказательства, что она его сестра, не признал ее достойной доверия до тех пор, пока Деву не подвергла всесторонним расспросам специально созданная комиссия, которая, кстати, могла раскрыть тайну происхождения пастушки из Домреми? Почему король, вместо того чтобы поспешить выдать Жанну замуж и отослать ее подальше как свидетельницу неверности своей матери, поставил Деву во главе армии? Почему незаконная дочь герцога Орлеанского должна была преуспеть там, где потерпел неудачу его незаконный сын граф Дюнуа? Если уж на роль освободительницы необходима была принцесса королевской крови, почему было не выбрать, допустим, Маргариту Валуа? Вся теория операции «Пастушка» кажется искусственной. Никто не мог знать заранее, что девочка, которая выросла в Домреми, окажется человеком большого природного ума, огромного мужества, выдержки и таланта. Никто не мог заранее определить, что нужда в ней будет как раз в те молодые ее годы, когда она только и могла выполнить миссию Орлеанской девы. Даже если принять гипотезу о «королевском происхождении», весьма малоправдоподобным кажется, что ее могли с детства готовить к предназначавшейся роли спасительницы Франции.
Во время следствия, проводившегося в марте 1450 года по предписанию Карла VII для выяснения «ошибок и несправедливостей» руанского процесса, в числе свидетелей были Мартин Дадвеню и Изембар де ла Пьер, присутствовавшие при смерти Девы. Изембар де ла Пьер держал крест прямо перед глазами осужденной, пока она не скончалась. Неужели и он был участником заговора?
«Новая» версия совсем не нова. Сведения о Жанне д’Армуаз известны давно (их упоминает и Анатоль Франс в своей биографии Жанны д’Арк). Время от времени, еще с начала XIX в., появлялись отдельные работы, авторы которых пытались поставить под сомнение традиционное жизнеописание Жанны д’Арк. Многое в работах поборников «новой» версии идет от желания создать сенсацию вокруг старой исторической загадки. Большинство ученых подчеркивали полнейшую недоказанность «новой» версии, основанной нередко просто на домыслах. Однако возражения против нее диктовались не только научными соображениями, но и нежеланием пересматривать историю Жанны д’Арк, превращенную в житие католической святой, которое так характерно для клерикальных биографов Девы. За последние десятилетия возникла целая литература по вопросу о происхождении и о спасении Жанны д’Арк.
По существу фигурируют уже четыре варианта истолкования «загадки» рождения и смерти Жанны. Согласно первому, «официальному», Жанна родилась в 1412 году в Домреми и погибла на костре в Руане в 1431 году. По второму — Жанна родилась в 1412 году, но спаслась от костра в 1431 году и вернулась во Францию под именем Жанны д’Армуаз Третий вариант — Жанна — дочь Изабеллы Баварской, родилась в 1407 году и была сожжена в 1431 году. И наконец, четвертая версия — Жанна родилась в 1407 году и как принцесса крови спаслась от костра и жила после 1431 года под именем Жанны д’Армуаа Имеются авторы, отстаивающие каждую из указанных версий. Более того, среди сторонников тезиса о спасении Жанны (будь то поборники второй или четвертой версии) наметился раскол: считать ли Жанну д’Армуаз Орлеанской девой или полагать, что Жанна д’Арк прожила остаток жизни под каким-то другим именем, а «дама д’Армуаз» была ловкой самозванкой (либо даже сестрой Орлеанской девы — есть и такие досужие вымыслы)?
По мнению сторонников традиционной версии, гипотеза о том, что Жанна — дочь Изабеллы Баварской, не подтверждается каким-либо документом, в котором бы говорилось об этом и который имел бы доказательную силу. Ж. Банкаль в нашумевшей книге «Жанна д’Арк — принцесса королевской крови» считает чрезмерным требование представить такой документ. Ведь, мол, и сторонники классической версии не располагают документальным подтверждением, что матерью Жанны была Изабелла Роме, да его и быть не может, поскольку в XV в. не велось метрических записей.
Страсти вокруг Жанны не стихают уже пять с половиной веков. Во время гитлеровской оккупации предатели французского народа — коллаборационисты пытались представить Орлеанскую деву не как символ борьбы за национальную независимость, а лишь как «врага англичан». Сторонники «наднациональной» Европы объявляют, что подвиг Жанны роковым образом помешал начавшейся в XV в. «европейской интеграции» путем объединения в одно королевство Англии и Франции. Впрочем, другие, более ловкие «европеисты», не смущаясь, рисуют Деву чуть ли не предтечей «европейского строительства».
Многие доводы сторонников нетрадиционной версии о спасении Жанны д’Арк, несомненно, относятся к области фантазии. Многие, но не все. Это заставляет внимательно прислушиваться к защитникам этой захватывающей воображение гипотезе, когда они рассказывают сказку, которая, будь она правдой, стала бы одним из самых ярких эпизодов в закулисной истории политических процессов.
С легендарной эпопеей Орлеанской девы оказалась связанной и жизнь ее соратника маршала Жиля де Ре. Он пытался освободить Жанну во время суда над нею, подступил к Руану, но опоздал. Позднее он признал за Орлеанскую деву Жанну д’Армуаз, но вскоре усомнился в своей убежденности. Однако Жилю де Ре оказалось уготованным местом не в героических летописях Франции, а в народной мифологии, в которой он предстает самой мрачной фигурой в истории своей страны.
СИНЯЯ БОРОДА
В средневековом обществе преступления, совершавшиеся крупными феодалами, как правило, карались только тогда, когда это осуществлялось в ходе политической борьбы, соответствовало намерениям королей и владетельных князей, их стремлению прибрать к рукам земли и замки преступников. Но в результате суд над виновными объективно приобретал характер политических процессов, глубоко затрагивавших интересы и чувства современников. С «героем» одного такого судебного процесса знакомится какое уж по счету поколение ребят во многих странах. Кто не слушал в детстве сказку Шарля Перро о страшном рыцаре Синяя Борода, убивавшем своих жен и подвешивавшем их трупы на железных крюках в таинственном подземелье своего замка, о волшебном ключе, с которого нельзя было очистить кровавые пятна?! А потом уже в зрелом возрасте многим доводилось читать новеллу Анатоля Франса — на ту же тему — иронический вариант мрачной легенды.
Между тем прототип Синей Бороды не только вполне реальное лицо, но и человек, оставивший след в истории Франции. Его имя — барон Жиль де Ре. Этот очень богатый французский вельможа жил в самую трудную для его страны пору Столетней войны. Жиль родился в 1404 году в замке Махкуль. Рано лишившись отца, он воспитывался дедом с материнской стороны. С детства привык к тому, что его капризы были высшим законом. Вместе с тем Жиль имел хороших учителей, был для своего времени образованным человеком, жадно читал научные книги, стал большим любителем театра. В 16 лет женился на Екатерине де Туар, принесшей ему богатое приданое. Вскоре Жиль отправился на войну и стал соратником Жанны д’Арк, сражаясь бок о бок с ней в самых опасных боях. При коронаиии Карла VII Жиль де Ре был возведен в звание маршала Франции. Он пытался освободить захваченную в плен Жанну, подступил к Руану, но опоздал. Жиль не хотел поверить в гибель Жанны. Он считал ее бессмертной и, может быть, поэтому признал Жанну д’Армуаз за Орлеанскую деву, хотя потом и поколебался в своем убеждении.
Увенчанный славой маршал де Ре вернулся с войны. Своими сокровищами, обширностью владений он мог сравниться разве что с королем. Жиль был владельцем крупной библиотеки (в эту допечатную эпоху, когда каждая книга стоила очень дорого!). У него в замках давались великолепные театральные представления с участием большого числа артистов, для каждого спектакля шились новые костюмы. Пышная свита, роскошные балы также стоили огромных денег. Их уже не хватало, приходилось занимать большие суммы под огромные проценты. У барона произошла ссора с женой, которая уехала к родителям; его младший брат Рене потребовал раздела имущества и добился разрешения короля на это. Однако герцог Бретани Иоанн V не выполнил королевского указа и начал усердно скупать за бесценок земли Жиля де Ре.
К этому времени относится и увлечение барона алхимией. Он рассчитывал открыть тайну превращения металлов и научиться производить золото. Сначала замок Тиффож, а потом специально купленный дом были оборудованы под мрачную лабораторию средневекового мага, где в ретортах кипели какие-то неведомые растворы, а по углам были расставлены человеческие скелеты и свешивались чучела экзотических животных, привезенных из дальних стран. Доверенные лица, посланные Жилем де Ре, пытались разыскать наиболее опытных алхимиков. Из Италии в замок барона прибыл магистр оккультных наук Франческо Прелати. Вскоре выяснилось, что итальянец знаком с заклинаниями, которыми можно вызывать демонов. Опыты проводились глухой ночью. В них участвовали сам барон, его слуги Анрие и Пуату и, конечно, Прелати. Бледный от волнения Жиль провозглашал:
— Явитесь, всесильные духи, открывающие смертным клады, науку и философию! Явитесь на мой зов, и я отдам вам все, кроме жизни и души, если вы дадите мне золото, мудрость, власть!
Духи безмолвствовали. В другой раз опыт повторили тоже ночью на лугу близ замка, но начался ливень, и незадачливым экспериментаторам, промокшим до нитки, пришлось вернуться в замок. Жиль, который не привык отступать, вызвал другого заклинателя, потом третьего. Они удачно инсценировали борьбу с чертом, слышался грохот, и можно было почувствовать запах серы при возвращении дьявола в преисподнюю.
Из всех этих опытов суеверный владелец Тиффожа сделал выводы о возможности вызывать нечистую силу. Он решил перейти от белой магии к черной. Однажды, войдя в комнату барона, Анрие и Пуату увидели в руках своего хозяина окровавленные части тела ребенка, обезображенный труп лежал неподалеку. Эти еще теплые органы вложили в стеклянный сосуд, ночью над ними Прелати начал читать новые заклинания.
Жиль нанял старуху Перрин Мартен; она заманивала ребят, слуги барона заталкивали их в мешки и несли в замок. Пристрастившийся к кровавым опытам Жиль де Ре убивал свои жертвы, расчленял их тела, вырывал внутренности. Так продолжалось ни мало ни много восемь лет, с 1432 по 1440 год. (Это, впрочем, по-видимому, не помешало барону в 1439 году участвовать вместе с Жанной д’Армуаз в войне против англичан.) Жиль де Ре считал, что его высокий ранг обеспечивает ему безопасность, однако епископ Нанта, до которого дошли известия об этих злодеяниях, получил разрешение арестовать Жиля, а также Анрие, Пуату и Перрин Мартен. Такова фактическая канва рассказов о Синей Бороде. Народная фантазия превратила замученных детей в убитых жен. А синий цвет бороды, вероятно, идет от другой легенды.
Однажды богатый рыжебородый рыцарь убеждал красивую девушку выйти за него замуж. Уже в церкви, клянясь в верности своей невесте, он сказал:
— Я отдам тебе и тело и душу.
— Вот это я принимаю, — раздались громовой голос и хохот дьявола, который скрывался под видом красавицы и предстал теперь в виде синего демона. — Помни, что с этого часа ты мой и телом и душой!
Дьявол исчез, а рыжая борода рыцаря в знак заключенного договора стала синей. Эта сказка причудливо переплелась с историей Жиля де Ре, из их объединения и возник, вероятно, мрачный образ рыцаря Синяя Борода.
Однако был ли Жиль де Ре действительно виновен в приписываемых ему преступлениях? О них мы знаем из материалов судебного процесса этой «самой мрачной фигуры» французской истории.
15 мая 1440 года Жиль де Ре с его слугами захватил в деревенской церкви священника Жана Ле Ферона — брата своего врага, казначея Бретани, и заключил в темницу в одном из своих замков. Иоанн V воспользовался этим случаем, чтобы наложить на Жиля де Ре огромный штраф в 50 тысяч золотых экю, который тот не был в состоянии уплатить. А епископ Нанта Жан Мальтруа приказал начать расследование действий барона де Ре.
Враги действовали осторожно. Погубить маршала Франции было непростым делом — мог вмешаться король Карл VII. Кроме того, замок Тиффож находился под непосредственной юрисдикцией короля, и там Жиль де Ре мог укрыться от войск герцога Бретонского. Поэтому Иоанн V заручился поддержкой Артура де Ришмона, коннетабля Франции, сообщив ему о преступлениях Жиля, и пообещал его брату земли в Бретани, в том числе и принадлежавшие барону. По бретонским законам герцог не имел права наследовать своим вассалам. Поэтому еще за десять дней до издания приказа об аресте Жиля де Ре Иоанн вызвал нотариуса и продиктовал дарственную на владения маршала; после его смерти они должны были перейти к сыну герцога. Приговор Жилю был вынесен еще до начала процесса.
Между тем барон все еще старался выйти из затруднений с помощью нечистой силы и торопил Прелати, чтобы тот вызвал наконец дьявола и добыл у него золото.
Тем временем, пока Жиль надеялся найти опору у князя преисподней, Иоанн V был озабочен тем, как бы лишить барона последней оставшейся у него земной опоры — неприступного замка Махкуль. 15 сентября 1440 года у ворот замка появился нантский нотариус Робин Гийомэ в сопровождении небольшого отряда воинов. Гийомэ от имени епископа Мальтруа, а капитан Жан Лаб — самого Иоанна V — предложили Жилю де Ре добровольно отдаться в руки властей, предстать перед духовным и светским судом по обвинению в колдовстве и убийстве. Барон приказал открыть двери замка и дал арестовать себя вместе со своими слугами Пуату и Анрие и монахом Эсташем Бланше, также принимавшим участие в алхимических опытах. Как только стало известно о взятии под стражу маршала, появилось множество ранее боязливо молчавших свидетелей, заговорили родители погибших детей.
Жиль, позволив арестовать себя, попал в капкан, из которого уже не мог выпутаться. Тем не менее его враги все еще опасались, что их план сорвется, — барон де Ре был слишком важным лицом, чтобы с ним можно было расправиться, не соблюдая пунктуально всех требований закона. А для придания законности процессу очень важно было, чтобы обвиняемый признал полномочия суда. Поэтому, когда 19 сентября Жиля ввели в большой зал Новой башни Нантского замка, где заседали судьи, барону было предъявлено лишь одно обвинение — в незаконном аресте в церкви Ле Ферона и вследствие этого — в ереси. О других обвинениях не было упомянуто пока ни единым словом. Жиль считал себя спасенным. Он всегда был ревностным католиком — это можно было без труда доказать. Он совсем не учел, что обвинение в ереси давало повод лишить его права прибегнуть к услугам адвоката. И на вопрос, признает ли он себя подсудным собранному трибуналу, барон ответил утвердительно. Только это и требовалось герцогу Бретонскому и епископу Нанта.
Учитывая ранг барона, ему было предоставлено большое помещение в Новой башне, но все четверо его сообщников были брошены в темные камеры, где содержали обычных преступников.
19 сентября Жиль де Ре, в пышном одеянии маршала Франции, вновь был приведен к главному судье Бретани Пьеру де Л’Опиталю и его помошникам. Барону снова предъявили лишь обвинения, связанные с арестом Ле Ферона, а потом доставили на заседание духовного трибунала. Жиль де Ре подпадал под юрисдикцию не только светских властей и епископа Нанта как главы церковного суда, но и представителя инквизиции — Жана Блуйна. И опять в обвинении фигурировал только арест Ле Ферона, хотя власти уже деятельно вели следствие о других преступлениях барона. Жиль еще раз признал свою подсудность епископу Нанта. 28 сентября трибунал собрался в отсутствие подсудимого, заслушал показания о злодеяниях Жиля де Ре и постановил допросить обвиняемого 8 октября. В этот день впервые маршал появился на публичном заседании суда. Ему наконец были предъявлены все обвинения. Это был длинный и жуткий перечень совершенных злодейств. Обвиняемый, ранее державшийся с холодной надменностью, казалось, потерял голову и начал яростно кричать:
— Я не признаю вас! У вас нет права судить меня. Я это обжалую!
Но вскоре Жиль сумел взять себя в руки и начал доказывать, что члены трибунала принадлежат к числу его врагов и не могут быть беспристрастными судьями. Это был самый сильный пункт в защите Жиля — удовлетворить требование подсудимого означало сменить состав столь тщательно подобранного суда. Отказать обвиняемому в его требовании означало создать предлог для возможной отмены приговора. Даже если бы до этой кассации подсудимый был уже отправлен на эшафот, снова бы встал вопрос о конфискованных у него землях. Присутствующие в зале затаили дыхание…
Епископ и инквизитор поспешили объявить не имеющим силу протест обвиняемого. К тому, же такой протест может вообще быть подан только в письменном виде. Судьи отлично учитывали, что до начала заседания Жиль де Ре не имел причин его подготовить и вдобавок у подсудимого не имелось адвоката, который мог бы составить по требуемой форме нужный документ. Все же трибунал объявил, что готов предоставить обвиняемому несколько дней отсрочки для подготовки зашиты. Барон, смертельно бледный, с пеной на губах, отрицал обвинения. Но поклясться в этом спасением души Жиль наотрез отказался — это могло рассматриваться как страх перед ложной клятвой или как нежелание признать полномочия суда. Заседание было отложено. Из тюрьмы Жиль де Ре написал письмо королю Карлу VII с просьбой о вмешательстве. Оно осталось без ответа. 12 октября суд возобновился — заслушивали свидетелей в отсутствие обвиняемого. Когда на следующий день в зал ввели де Ре, он обрушился на епископа и инквизитора, именуя их развратниками и симонистами — торговцами церковными должностями. Барон оспаривал не только права трибунала, но и полномочия его председателя Жана Мальтруа. Последовал обмен все более резкими и оскорбительными репликами. Епископ и инквизитор объявили Жиля отлученным от церкви, а тот, в лихорадочном возбуждении, выкрикнул слова:
— Я отрицаю за симонистами и развратниками вашего толка право судить такого человека, как я!
Поздним вечерним часом заседание было перенесено на двое суток — на 15 октября. За этот не долгий срок обвиняемый пережил какой-то тяжелый душевный кризис. Приведенный снова в зал заседаний, Жиль смиренно признал компетенцию своих судей и что им совершены преступления, которые относятся к их юрисдикции. Заливаясь слезами, Жиль умолял о прощении. Казалось, сами судьи не знали, что думать о таком превращении — было ли оно следствием небесного озарения, муками совести, стремлением умилостивить трибунал или, напротив, каким-то ловким маневром. Историки разделяют это удивление, не зная, считать ли раскаяние Жиля де Ре результатом воздействия страшной кары — отлучения от церкви или надежды на отмену приговора, которую ему будто бы подал какой-то посланец короля. Стоя на коленях, Жиль, рыдая, клялся и подтверждал показания Пуату и Прелати. Только после этого с подсудимого было снято отлучение. Суд решил перейти к дополнительному допросу свидетелей, которому были посвящены заседания 16 и 19 октября. Тосканец признал занятие алхимией и попытки вызвать дьявола. По признанию Прелата, он объяснил барону неудачу их заклинаний тем, что дьяволу пришлись не по вкусу преподнесенные ему дары, но не советовал приносить в жертву детей. Прелата осторожно заявил, что он лишь слышал об убийствах пажей, приписываемых Жилю де Ре. Слуги барона и другие свидетели рассказывали об убийствах, о перевозке и захоронении скелетов в замке Шамптос. 19 октября Жиль де Ре в ответ на вопрос, не желает ли он что-либо сказать по поводу этих показаний, заявил, что целиком полагается на совесть свидетелей и точность записи их слов секретарями суда и что он ничего не может добавить в собственную защиту. На решающем заседании — 20 октября — барон снова заявил, что ему нечего возразить или прибавить к сказанному свидетелями.
Но и такого смирения суду показалось недостаточно. Трибунал счел необходимым выяснить всю правду о преступлениях и поэтому решил подвергнуть обвиняемого пытке. Услышав об этом, Жиль лишился чувств — стражникам пришлось отнести его в тюрьму. На следующее утро Жиля привели в мрачную пыточную камеру. Однако пытку не пришлось применять — Жиль стал перечислять все свои преступления. Никто, добавил он, не подстрекал его к их совершению, лишь его собственные порочные желания; им совершено столько злодеяний, что за них можно было бы предать смерти и десять тысяч человек. Для очной ставки вызвали Прелата. Жиль, по-видимому, чувствовал живое сострадание к своему сообщнику, даже назвал его своим «нежным другом». Итальянец невозмутимо слово в слово повторил свои прежние показания. Жиль де Ре полностью подтвердил свидетельство алхимика. Когда тосканца уводили, плачущий Жиль сказал ему на прощание, что они «встретятся в раю» — странные слова в устах великого грешника, если он еще находился в здравом уме.
22 октября Жиля заставили публично повторить свои признания перед большой толпой — казалось, барон теперь упивался размахом своих преступлений, ужасом кровавых злодеяний, чудовищными подробностями бесчисленных убийств и надругательств над трупами невинных жертв. 25 октября церковный трибунал признал Жиля де Ре примирившимся с церковью и передал обвиняемого в руки светского суда, который параллельно проводил допрос свидетелей и имел теперь основание для вынесения приговора. Барон еще раз повторил свои признания. Суд под председательством де Л’Опиталя приговорил обвиняемого к штрафу в 50 тысяч ливров в пользу герцога Бретонского, к смертной казни через повешение и последующему сожжению тела на костре. Жиль де Ре выслушал приговор стойко, казалось, к нему вернулась его былая отвага воина.
26 октября 1440 года приговор в отношении Жиля де Ре, Пуату и Анрие был приведен в исполнение. В день казни епископ Нанта организовал религиозную процессию духовенства и народа ради «спасения души маршала де Ре и его сообщников». Трудно представить себе, но нантская толпа горячо приветствовала и молилась за — пусть раскаявшегося — детоубийцу, когда его вели на казнь. Может быть, она не очень доверяла тому, что говорилось на суде? Непонятным кажется внезапный переход Жиля де Ре от надменного отрицания законности суда к полному подчинению и сознанию во всем, в чем его обвиняли. Свидетели говорили об исчезновении детей, а не о том, что они видели, как их похищали слуги барона. Анрие и Пуату путались в числе убитых детей — называли цифры от нескольких десятков до 800. Можно допустить, что слуги были не сильны в арифметике. Фактом является, что в замках маршала не нашли ни одного трупа. Пуату показал, что останки жертв ранее находились в Шамптосе, потом по приказу барона их извлекли из башни, перевезли по реке в Махкуль, чтобы там сжечь. Не проще ли было выбросить их в воду? Не было среди свидетелей и ни одного ребенка, которому посчастливилось бы избегнуть рук Жиля де Ре. Одним словом, было доказано только занятие алхимией. Среди свидетелей не было ни одного пажа, оруженосца или других дворян из свиты маршала. Ряду свидетелей явно изменяла память, показания других были, несомненно, искусственно приведены в буквальное соответствие друг с другом, что еще более подозрительно. Некоторые свидетели явно говорили то, что им подсказывали судьи. Родители погибших детей могли только от судей узнать о показаниях содержавшейся в тюрьме Перрин Мартен. Между прочим, хотя сохранились показания самых маловажных свидетелей, не осталось никаких следов суда над этой наиболее активной помощницей Жиля де Ре. Точно установлено лишь, что она была арестована примерно в то же время и призналась в роли, которую играла в преступлениях барона. По-видимому, Перрин Мартен, как и слуг, подвергли столь жестокой пытке, что «колдунья» не пережила допроса. Участь Прелати, которого на время «забыли» в его темнице, становится более понятной, если учесть, что нашлись новые охотники испытать его искусство. Он был освобожден благодаря заступничеству герцога Рене Анжуйского, который сделал его своим придворным алхимиком. Но Прелати не ушел от своей судьбы — через несколько лет его уличили в очередном мошенничестве: вместо фабрикации золота он занялся подделкой печати герцога. Заступников на этот раз не нашлось, и алхимик был отправлен на эшафот.
Жиль де Ре сознался в своих преступлениях, но, вероятно, сделал это, чтобы избежать самого страшного для такого верующего христианина, каким был барон, наказания, как отлучение от церкви. Некоторые историки недаром сравнивают процесс Жиля де Ре с судом над тамплиерами: и там и тут вымышленные обвинения, сфабрикованные, чтобы создать предлог для захвата имущества осужденных. История Жиля де Ре окружена таким густым туманом легенды, созданной в ходе процесса, что уже трудно или невозможно разглядеть подлинные черты человека, бывшего некогда сподвижником Жанны д’Арк.
В 1992 году Жильбер Пруто, автор книги о Жиле де Ре, организовал новый «процесс», в котором участвовали медики, историки и политики. Были зачитаны протоколы прежнего судилища и приведены доводы, говорящие в пользу невиновности обвиняемого и того, что епископ Мальтруа был просто орудием англичан. На обращение к президенту Франсуа Миттерану с просьбой о восстановлении «исторической истины» ответа не последовало… К тому же рыцарь Синяя Борода слишком удобная фигура, чтобы пугать им непослушного ребенка и привлекать туристов к развалинам замков, бывших, по легенде, местом его злодеяний.
ПИСЬМО ФРАНЦИСКА 1
В 1525 году войска Карла V нанесли в битве при Павии сокрушительное поражение французской армии, возглавлявшейся самим королем Франциском I. Глава Французского королевства был увезен пленником в Мадрид. Ему удалось освободиться лишь ценой унизительных обещаний, которые он, впрочем, вырвавшись на волю, поспешил взять назад. Пока Франциск оставался в плену, ставшая во главе французского правительства королева-мать Луиза Савойская попыталась завязать связи с султаном. Первые ее посланцы были перехвачены и убиты агентами Габсбургов. Одному из французских представителей — некоему Иоанну Франджи-пани — в декабре 1525 года удалось достичь Константинополя. Он передал от имени королевы просьбу напасть на владения императора, который иначе станет господином всей Европы. Это послание королевы-матери, по мнению одного из ее новейших биографов, позволяет считать, что она первая выдвинула концепцию «равновесия сил». (На деле, как мы убедимся, эта концепция и даже начало ее практического применения относятся к более раннему времени.)
Император Карл V на 31 году жизни
Гравир. на мели Бартелем Бэгамом в 1531 г.
Это письмо Франциска, которое тот тайно направил в Париж из своей мадридской тюрьмы и которое курьер провез спрятанным в подошве ботинка. Султан, намечавший поход на Венгрию, ухватился за представившуюся возможность обрести союзника. Он даже отправил ответное послание Франциску, советуя не падать духом в несчастье, и устно через Франджипани обещал помощь против Карла V. От императора не укрылся этот, по его выражению, «святотатственный союз лилии (герба Валуа. — Авт.) и полумесяца». Современники вспоминали, что, когда император Карл V упрекнул Франциска за союз с «неверным псом» — султаном, король ответил: «Я воспользовался помощью пса, но для того, чтобы мое стадо не попало в зубы к волку».
Французская дипломатия стремилась воспрепятствовать союзу Карла V с протестантскими князьями на антитурецкой основе. Часть историков полагает, что Франциск 1 прямо призывал султана в 1525 году к нападению на Венгрию. (Такие же обвинения раздаются в адрес Венеции и самого папы. Говорили даже о том, что ими были посланы вспомогательные отряды для усиления турецкой армии.) В 1533 году состоялась встреча Франциска с папой Климентом VIII. Папу современники обвиняли в том, что он дал согласие на союз французского короля с султаном, а также с германскими протестантами. Это нельзя подтвердить документально. Зато фактом является то, что Климент пересказал содержание этих секретных переговоров Карлу V. По словам папы, король прямо заявил: «Я не только не собираюсь сопротивляться турецкому нашествию на христианские страны, но, напротив, насколько смогу, буду способствовать ему, дабы облегчить себе возвращение того, что принадлежит мне и моим детям и что было узурпировано императором».
Франко-турецкий союз диктовался и расстановкой сил, но обе стороны не могли открыто заключить его. Это было затруднительно и для «его христианского величества» короля Франциска I, носившего титул «защитника веры», и для «повелителя правоверных» — султана Сулеймана. Даже неформальное и первоначально сохранявшееся в тайне соглашение между Парижем и Константинополем было встречено в Европе с негодованием. Однако в 30-е годы ХУЛ в. связи между Парижем и Портой стали общеизвестным фактом. Французские купцы получили от султана торговые привилегии в Турции (так называемые капитуляции 1535 года).
Франциск I, король Французский
По картине Клуэ, гравюра Платта-Монтаню
Ландскнехты Карла V во время первой его войны против Франциска I.
Гравюра на дереве, исполненная около 1520 г. Шеффелином
Под предлогом сохранения Франции на стороне католицизма в главном вековом конфликте Габсбурги хотели вернуть ее на свою сторону и в другом вековом конфликте — христианства и ислама. По тайному Жуанвильскому договору, который в декабре 1584 года заключила Испания с французской Католической лигой (группировкой крайних католиков), последняя обязалась порвать союзные отношения, которые уже полвека связывали Францию и Оттоманскую империю.
ОПРАВДАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ
Несомненно, что в основе религиозных войн лежали социальные причины, так же как и в основе средневековых междоусобиц.
По мере своего развития войны все более приобретали форму династический борьбы между Бурбонами, возглавлявшими протестантский лагерь, и Гизами — руководителями крайних католиков, — борьбы за престол, который должен был стать вакантным после смерти последнего из сыновей Генриха II и Екатерины Медичи.
Франция могла в любое время ожидать интервенции со стороны Испании, направленной против гугенотов, от нее спасало фактически лишь отвлечение сил Мадрида на другие цели. Строя завоевательные планы под маской заботы об интересах религии, Филипп II нередко стремился придать им видимость обороны от наступления протестантизма. Жена испанского короля Елизавета, дочь Екатерины Медичи, в июле 1561 года, в самом начале гражданских войн, писала матери, что никто больше ее мужа не озабочен угрозой для католической веры во Франции, поскольку «Фландрия и Испания находятся неподалеку». Попытки Екатерины достигнуть соглашения с гугенотами вызвали открытое и резвое вмешательство со стороны Филиппа. «Дайте понять королеве, — писал он испанскому послу во Франции, — что, следуя этому курсу, ее сын потеряет свое королевство и лишится повиновения со стороны своих вассалов».
Генрих И, король Французский
Гравюра Николая Беатризо, 1550 г
Екатерина не сразу достигла власти. При жизни мужа Генриха II она была вынуждена терпеть унижения, наблюдая, как им вертит его надменная фаворитка Диана де Пуатье, которая вдобавок была старше короля на 20 лет.
— Что вы читаете, сударыня? — спросила как-то Диана Екатерину.
— Я читаю историю Франции, — невозмутимо ответила итальянка, — и обнаружила, что во все времена шлюхи управляли делами королей.
При правлении своих сыновей, одного за другим, Екатерина сумела нарушить этот «обычай». Она отказалась от односторонней ориентации на силы контрреформации, которой следовал Генрих II (не без влияния той же Дианы де Пуатье).
Папский нунций писал про Екатерину Медичи: «Королева не верит в Бога». Большинство современников были склонны абсолютизировать значение религиозных споров. Екатерина Медичи, напротив, придавала так мало значения спорам церквей как таковым, настолько привыкла считать их чем-то не очень важным по сравнению со сталкивающимися материальными интересами и политическими противоречиями, что порой принижала относительное значение религиозного фактора. Поэтому даже после того, как на третьей сессии Тридентского собора были сформулированы католические догматы, четко отделяющие римскую церковь от любой формы протестантизма, королева строила неосуществимые планы восстановления религиозного единства на основе примирения двух вероисповеданий. На деле реальной альтернативой было — поскольку речь шла о Франции, а не о Европе в целом — утверждение веротерпимости или уничтожение одной из борющихся сторон.
Первое решение, оказавшееся весьма выгодным для интересов короны, поддерживала так называемая (с 1563 года) партия «политиков». Она решительно отвергала и старую идею о том, что власть базируется на религиозной традиции, и новую идею о происхождении власти из общественного договора. «Политики» придерживались идеи божественной власти монарха, которая одна только способна отстаивать единство, стабильность и суверенитет государства, обеспечить осуществление законов и поддержание порядка. Для «политиков» проблемы религии имели второстепенное значение, и они были готовы пойти на утверждение веротерпимости, если это в государственных интересах. Нетрудно заметить, что теория божественного характера власти монарха имела в сочинениях представителей этой партии совсем иной общественный смысл, чем тот, который она приобрела впоследствии, в XVII и XVIII веках. Для периода гражданских войн во Франции взгляды «политиков» являлись обоснованием защиты национальной государственности против претендентов на европейскую гегемонию, против ведущих сил католической контрреформации. Недаром такая позиция вызывала подозрения, перешедшие потом в открытую ненависть со стороны воинствующих католиков. Теоретические воззрения «политиков» были выражены в речах и письмах Мишеля Допиталя, в трактатах Жана Бодена и ряда видных юристов. К их партии, хотя и далеко не последовательно, примкнула и королева-мать.
Признанным главой партии «политиков» стал Мишель Допиталь, с 1560 по 1568 год занимавший пост канцлера Франции, последователь взглядов Эразма и настолько решительный сторонник прекращения религиозных войн, что партия Гизов сомневалась даже в его приверженности католической вере. Его поддерживали люди, вышедшие из школы гуманизма, отдельные влиятельные представители гугенотов и католиков, считавшие, что интересы страны следует поставить над интересами религии и что они властно требуют известной степени веротерпимости. Екатерина Медичи, одобрявшая деятельность Допиталя, после его отставки то приближалась, то отходила от рекомендованного им курса.
Участие Франции в вековом конфликте превращало неизбежную религиозную и династическую форму внутриполитической борьбы в серьезное препятствие для сохранения достигнутого национального объединения и самого независимого существования страны. Внутреннюю борьбу во Франции сразу же попытались использовать другие державы.
Первоначально Англия… Дипломат и разведчик сэр Николас Трокмортон — сторонник решительной борьбы с противниками Елизаветы — был в мае 1559 года назначен постоянным послом в Париж. Как раз в это время был заключен Като-Камбрезийский мир, закончивший длительную войну между Валуа и Габсбургами. Возникла угроза создания коалиции наиболее мощных католических держав, тем более серьезная, что родственница Гизов Мария Стюарт, ставшая женой французского короля Франциска II (1559–1560), должна была занять шотландский престол и имела династические права на английский трон. Франция действительно направила в январе 1560 года военную эскадру в Шотландию для помощи регентше Марии Гиз (матери Марии Стюарт) в борьбе против сторонников Реформации. Буря рассеяла эту эскадру, избавила Елизавету от опасности, быть может, не меньшей, чем состоявшийся через 30 лет поход Непобедимой армады против Англии.
Ответным ударом английской секретной дипломатии и разведки было разжигание религиозных распрей между католиками и протестантами во Франции. К открытому столкновению там шло, конечно, и без британских интриг, но Николас Трокмортон одним из первых усмотрел возможности, которые это открывало для Англии. Он писал, что при умелом ведении дела королева Елизавета «окажется в состоянии стать арбитром и правителем христианского мира». В 1562 году в Гавре высадились английские войска для поддержки гугенотов в начавшейся войне. Однако британская помощь запоздала и была недостаточной, чтобы предотвратить неудачу гугенотской партии на этом первом этапе гражданских войн, растянувшихся с перерывами на три с половиной десятилетия. В июле 1563 года протестантский Гавр капитулировал, английской дипломатии пришлось спешно заключать соглашение с французским двором (т. е. фактически с Екатериной Медичи).
Филиппу II, со своей стороны, также было крайне важно не допустить соглашения между французскими католиками и гугенотами, которое позволило бы обратить энергию дворянской вольницы, занимавшейся после мира в Като-Камбрези внутренними распрями, на новую войну против испанской армии в Нидерландах.
Екатерина Медичи
Современная гравюра Томаса де Лё
В начале гражданских войн, в 1562 году, Карл IX сам призвал на подмогу испанские войска, чтобы подавить народные выступления на юге Франции, но уже в следующем году поспешил отказаться от этой опасной помощи.
…24 августа 1572 года. Варфоломеевская ночь — избиение в Париже сотен и тысяч гугенотов — всех подряд: мужчин, женщин, древних стариков и младенцев на руках у их матерей. Екатерине Медичи приписывали изречение: «Быть с ними жестокими — человечно, а быть милосердными — жестоко». Испанский посол с радостью доносил Филиппу II: «Когда я это пишу, они убивают всех, они сдирают с них одежду, волочат по улицам, грабят их дома, не давая пощады даже детям. Да будет благословен Господь, обративший французских принцев на путь служения его делу! Да вдохновит он их сердца на продолжение того, что они начали!» А папа Григорий XIII, получив известие о Варфоломеевской ночи, воскликнул, что оно ему более приятно, чем 50 побед при Лепанто. Кровавая ночь поразила воображение современников и потомков. (Отчасти поэтому редко упоминались избиения католиков протестантами еще до Варфоломеевской ночи, например — в Ниме в День святого Михаила в 1569 году — так называемые «мишеляды».)
«На протяжении 400 лет Екатерина Медичи, это черное светило на небосклоне, беспокоит и завораживает нас… Из-за ее поступков и черт характера, расцвеченных фантазией многих поколений, она занимает большое место в нашей мифологии», — пишет один из ее новейших биографов. Ненависть к Екатерине ее современников-протестантов была ярко выражена в памфлете «Удивительное повествование о жизни, действиях и дурных поступках королевы Екатерины Медичи», автор которого писал: «Иностранка, питающая вражду и злобу к каждому… Отпрыск купеческого рода, возвысившегося благодаря ростовщичеству, воспитанная в приверженности к безбожию». И далее следовал полный набор обвинений: отравительница, убийца тысяч гугенотов, стоящая в ряду с самыми кровавыми королевами всех времен. Эстафету этих обвинений от памфлетистов XVI века приняли просветители XVIII столетия, обличавшие религиозную нетерпимость; в следующем веке — протестантские и либеральные историки, авторы приключенческих романов, а потом уже, в наше время, — западное кино и телевидение, ознакомившие сотни миллионов зрителей со всем реестром преступлений королевы. Варфоломеевскую ночь рисовали в леденящих кровь подробностях многие писатели, среди которых и Проспер Мериме с его «Хроникой Карла IX», и замечательный рассказчик Александр Дюма с его знаменитой трилогией «Королева Марго», «Графиня Монсоро» и «Сорок пять». Организатора Варфоломеевской ночи — Екатерину Медичи — те, кто знаком с ней по работам либеральных и протестантских историков прошлого века или, скорее, по романам Дюма, представляют себе чуть ли не профессиональной отравительницей. Впрочем, Бальзак не разделял этой точки зрения. В одном из своих «философских этюдов» — «О Екатерине Медичи» — он заметил, что флорентийка после смерти своего мужа Генриха II не отравила даже его фаворитку, являвшуюся объектом долголетней ненависти королевы, хотя вполне могла это сделать.
Современные западные исследователи склонны пересмотреть традиционно суровый вердикт и даже упрекают своих предшественников в распространении «черной легенды» о королеве-матери. «Уточним, — пишет, например, Ф. Эрланже, — что флорентийка, столь известная содеянными ею преступлениями такого рода, не совершила ни одного, в отношении которого история имела бы доказательства и могла бы поэтому признать за факт». (Добавим, однако, что такие преступления вообще нелегко доказать, особенно по прошествии четырех столетий!) Одним из злодеяний Екатерины Медичи считали отравление королевы Наваррской Жанны д’Альбре, умершей в Париже 9 июня 1572 года. Это обвинение, которое повторялось веками, теперь уже никем не поддерживается. Королева Наваррская была больна туберкулезом. Вскрытие обнаружило абсцесс правого легкого, опухоль мозга. Представление о Екатерине Медичи как отравительнице было еще в 1901 году убедительно опровергнуто доктором Нассом. С того времени рассказы о ядах флорентийки большинство серьезных историков относят к фантазиям романтической литературы. «Если бы Екатерина не несла ответственности за Варфоломеевскую ночь, было бы не слишком парадоксально утверждать, что она являлась довольно привлекательным историческим персонажем», — писал один из ее биографов.
Но была ли Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 года тщательно подготовленным заранее заговором или же стала следствием решения, принятого чуть ли не за несколько часов до начала резни? Сама Екатерина Медичи и ее сын Карл IX предпочитали первую из этих версий. Это не значит, что она соответствовала истине, просто королева-мать и король первое время после Варфоломеевской ночи близоруко полагали, что разрыв с гугенотской партией является окончательным. И, принимая решение сблизиться с католическим лагерем, в Лувре считали удобным истолковывать свои действия как продиктованные прежде всего интересами религиозного порядка. А католической контрреформации было выгодно согласиться с такой трактовкой событий зловещей ночи. Кардинал Лотарингский, брат герцога Гиза, организовал издание в Риме книги некоего Капилупи «Военная хитрость Карла IX» — вымышленного рассказа о политике французского правительства, призванного доказать, что убийства в Варфоломеевскую ночь были заранее задуманной и подготовленной акцией. Кардинал правильно рассчитывал, что такая версия событий затруднит правительству ведение новых переговоров с еретиками. Однако Гизы просчитались, если полагали, что препятствия такого рода окажутся непреодолимыми.
Сближение с Испанией оказалось лишь одним из бесчисленных зигзагов в политике французского двора, а резкое ухудшение отношений с протестантскими державами, прежде всего с Англией, явно не отвечало его интересам. К тому же гугенотская партия во Франции вовсе не была сломлена, и начала вырисовываться необходимость достижения с ней новых временных компромиссов. Вскоре после Варфоломеевской ночи Екатерина Медичи снова установила контакты с руководителями гугенотов. Поэтому уже осенью 1572 года французский двор попытался дать новое объяснение Варфоломеевской ночи: она предстала теперь уже как ответ на «протестантский заговор», возглавлявшийся адмиралом Колиньи, который, как известно, был убит в самом начале жестокой бойни. Гугенотов, по этой версии, наказали не за их веру, а за государственную измену. Надо заметить, что Екатерина Медичи имела среди гугенотов своего тайного агента — сьера де Бушавана, который изображал из себя протестанта и пользовался доверием Колиньи. Де Бушаван сообщил Екатерине Медичи, что адмирал собрал руководителей гугенотской партии и обсуждал с ними заранее разработанный план захвата Парижа, занятия Дувра и ареста короля. Переворот якобы предполагалось произвести 26 августа. Так по крайней мере докладывал де Бушаван, или, точнее, так излагалась позднее суть его донесений. Екатерина Медичи уверяла, что для предотвращения заговора она должна была решиться на устранение нескольких лидеров гугенотов — всего каких-то пяти или даже трех человек, включая Колиньи. (Некоторые католические историки и поныне повторяют эти уверения.)
Впрочем, версия о гугенотском заговоре с самого начала не вызвала доверия, а утверждения о заранее спланированном заговоре католиков, напротив, получили широкое распространение в историографии: такой позиции придерживались, в частности, многие историки прошлого века. В пользу этой точки зрения свидетельствуют аналогичные Варфоломеевской ночи события в ряде больших городов, случившиеся, возможно, даже прежде, чем до них могли дойти вести о парижских убийствах. Тем не менее и эта версия не выдержала критической проверки. Анализ сохранившихся документов, мемуары современников, для которых не было нужды скрывать правду, позволяют прийти только к одному выводу: решение об избиении гугенотов было принято за немногие часы — или по крайней мере дни — до полуночи 24 августа. Таким образом, «ужасающие убийства Варфоломеевской ночи были, скорее, результатом усилившегося давления и собственных страхов Екатерины, чем предательством с заранее обдуманным намерением с ее стороны».
Может показаться, что этот вывод исключает Варфоломеевскую ночь из ряда событий, непосредственно вытекавших из векового конфликта, превращает ее лишь в один, хотя и наиболее кровавый, эпизод долгих гражданских войн во Франции. Но такое заключение было бы ошибочным. Пусть организаторы Варфоломеевской ночи сознательно и не руководствовались целями одной из сторон конфликта, сама возможность поднять население столицы (и других городов) никогда не возникла бы вне того социально-психологического климата, который был создан вековыми столкновениями и поддерживался воинствующим крылом католического духовенства, включая, конечно, иезуитов.
Гаспар ле Колиньи, адмирал Франции
Гравюра Иоста Аммана, 1573 г.
По существу, спор между Екатериной Медичи и адмиралом Колиньи, приведший к Варфоломеевской ночи, шел вовсе не о том, поддерживать ли мир, заключенный между католиками и протестантами, и даже не о том, на каких условиях его сохранять (в этом они были согласны), речь шла о возможностях его упрочения. План Екатерины заключался в том, чтобы, добившись примирения партий, вывести Францию из векового конфликта во имя интересов государства и — что было куда важнее с точки зрения королевы-матери — дома Валуа. Напротив, адмирал Колиньи считал, что внутренний мир, гарантирующий интересы гугенотов, приобретет прочность только в том случае, если Франция будет вовлечена в войну с главной державой католического лагеря — иными словами, если Франция будет вести войну вне рамок векового конфликта, но объективно способствовать в то же время успехам протестантского лагеря. По существу, план Колиньи заключался в возвращении к положению, которое занимала Франция до (и — как мы убедимся ниже — после) гражданских войн. Этот план предусматривал союз с Англией, Тосканой, Венецией, германскими княжествами и даже с самим римским престолом против Филиппа. Но план был нереален хотя бы потому, что папа и Венеция вошли наряду с Испанией в Священную лигу, созданную для борьбы с Турцией и добившуюся победы при Лепанто 7 октября 1571 года. Англия, опасавшаяся завоевания французами Фландрии, сделала примирительные шаги в отношении Испании. Германские протестантские князья тоже не проявляли желания ввязываться в борьбу. Таким образом, Франции угрожала перспектива воевать один на один с мошной державой Филиппа II. К тому же сам католический лагерь прилагал усилия, чтобы не допустить открытого конфликта между Парижем и Мадридом. Об этом особенно заботился папский нунций во Франции Сальвиати, родственник королевы-матери. Филипп также маневрировал, не скупясь на дружественные жесты.
Под влиянием Колиньи — хотя в Королевском совете он один стоял за войну — Карл IX разрешил отправить 5-тысячный отряд французских протестантов под командой графа де Жанлиса в Нидерланды на помощь осажденному испанцами Монсу. Войска герцога Альбы разгромили отряд Жанлиса. Наряду с этим Альба сумел максимально использовать опасения, которые внушали английскому двору французские планы завоевания Южных Нидерландов. Королева Елизавета дала понять Альбе, что она, несмотря на тогдашние союзные отношения с Парижем, никак не собирается содействовать подобным планам. Герцог поспешил довести английский демарш до сведения Екатерины Медичи. В определенном смысле двойная игра английской дипломатии являлась одной из причин Варфоломеевской ночи. Екатерина сочла, что у нее не остается выбора между согласием на заведомо безнадежную войну и устранением Колиньи, который приобретал все большее влияние на Карла IX и подрывал тем самым позиции королевы-матери, правившей страной от имени своего слабовольного и истеричного сына. Давая санкцию на убийство Колиньи, флорентийка, по-видимому, рассчитывала, что гугеноты не останутся в долгу, что ей разом удастся избавиться от руководителей обеих враждующих партий, и, укрепив положение короны как арбитра между ними, она сумеет воспрепятствовать возобновлению религиозных распрей. Именно поэтому королева-мать одновременно с приготовлениями к убийству адмирала форсировала подготовку свадьбы дочери Маргариты с другим руководителем гугенотов — Генрихом Наваррским.
Главные события в жизни Маргариты Валуа были самым непосредственным образом связаны с вековым конфликтом. Намерение выдать ее замуж за еретика Генриха Наваррского могло вызвать только негодование у такого фанатика, как Пий V, а без разрешения папы нельзя было заключить этот брак, противоречивший церковным канонам. Пий V в конце 1571 года писал Карлу IX: «Наш долг повелевает никогда не соглашаться на этот союз, который мы рассматриваем как оскорбление для Господа». Генералу иезуитского ордена было особо поручено убедить Маргариту, что она жертвует спасением души, соглашаясь на такой брак. Взамен римский престол предлагал выдать принцессу замуж за короля Португалии.
Этот план, еще недавно обсуждавшийся в Париже, был отброшен после события, казалось, прямо не затрагивавшего Францию, — после битвы при Лепанто. Крупное поражение оттоманского флота, воздействие которого на ход войны в первое время даже преувеличивалось, побуждало Екатерину Медичи искать примирения с гугенотами для противодействия Филиппу II. Ведь теперь начала казаться близкой возможностью побеги испанского короля над восставшими Нидерландами.
Накануне Варфоломеевской ночи Карл особенно торопился со свадьбой своей сестры, считая, что она, укрепив внутренний мир, развяжет руки для войны против Испании. Между тем неожиданная смерть Пия V в мае 1572 года не внесла изменений в позицию Рима — новый папа Григорий XIII тоже отказывал в разрешении на брак Маргариты Валуа и Генриха Наваррского. Тогда было решено действовать без Рима, благо один из лидеров гугенотов — принц Конде — подал пример, женившись 10 августа на католичке Марии Киевской без всякой санкции римского престола. Екатерина Медичи тоже сочла, что не стоит останавливать дело из-за такой детали, и приказала сфабриковать письмо французского посла в Риме, в котором извещалось о предстоящей скорой присылке папой нужной бумаги. Такая уловка позволила покончить с колебаниями кардинала Бурбона, который и сам был горячим сторонником женитьбы своего племянника на сестре французского короля. После этого уже без особого труда отыскали священника, готового совершить обряд венчания. Свадьбу назначили на 18 августа. Екатерина Медичи 14 августа спешно направила губернатору Лиона де Мандело приказ задерживать до 18 августа всех курьеров, следующих из Италии и в Италию. Королева хотела таким образом воспрепятствовать получению письма Григория XIII, запрещавшего брак, а также помешать папскому нунцию в Париже сообщить папе о предстоящем бракосочетании.
У читателя романа Дюма создается впечатление, что Екатерина искала смерти Генриха Наваррского, на деле все обстояло как раз наоборот. Это проявилось уже в Варфоломеевскую ночь. Когда сквозь ад этого кровавого кошмара вождей гугенотской партии — Генриха Наваррского и принца Генриха де Конде — доставили к Карлу IX, за королем маячила фигура его матери. Размахивая кинжалом, Карл угрожающе прорычал: «Обедня, смерть или Бастилия!» Генрих Наваррский уже в молодые годы показал себя тем ловким политиком, который через 21 год решил, что «Париж стоит обедни». Он согласился перейти в католичество. Конде отказался, король в неистовом бешенстве замахнулся кинжалом. Его руку удержала Екатерина. Чуть ли не со стенаниями она умоляла сына остановить свою карающую десницу. Слезы, которые проливала вдохновительница массовых убийств, вовсе не были крокодиловыми слезами. Генрих Наваррский и Генрих Конде были ей нужны как противовес герцогу Генриху Гизу, который, будучи главой католической партии, после уничтожения гугенотов становился некоронованным владыкой Парижа. Карл, как всегда, уступил воле матери и приказал держать обоих Генрихов в строгом заключении в их апартаментах.
Английская исследовательница Н. М. Сазерленд в книге «Убийства во время Варфоломеевской ночи и европейский конфликт 1559–1579 годов» сделала своими главными героями одновременно и королеву-мать, и Колиньи. Известный английский историк А. Роуз писал, что Екатерина действительно непрерывно пыталась добиться мира, и выражал даже чуть окрашенную иронией симпатию к «этой столь сильно оклеветанной женщине. Было несчастьем, что ей никто не верил. Политик-макиавеллист в хорошем смысле этого слова, она не могла понять, почему люди настаивали на том, чтобы сжигать других или быть сожженными из-за бессмысленных утверждений».
Убийствами в Варфоломеевскую ночь Екатерина Медичи пыталась решить разом две задачи: покончить с внутренней войной, которая служила средством вовлечения Франции в вековой конфликт, и предотвратить внешнюю войну, которая также втянула бы страну в этот конфликт. Екатерине Медичи временно удалось достигнуть второй цели, но гугенотская партия не была сломлена, и гражданская война запылала с новой силой. Екатерина писала Филиппу II в связи с Варфоломеевской ночью, что меры, принятые ее сыном против «гугенотского заговора», усиливают «дружбу, связывающую две короны». Она заговорила даже о намерении женить своего сына Генриха Анжуйского (будущего короля Генриха III) на дочери Филиппа. Узнав о Варфоломеевской ночи, Филипп, принимая французского посла, возможно, впервые во время исполнения государственных обязанностей «разразился смехом». Он не скрывал от француза своего «большого удовольствия». Не было ли отчасти причиной такой радости сознание того, насколько кровавая «победа католицизма» ослабляла международные позиции Франции? Не прав ли был любимый астролог Екатерины Медичи Руджиери, заметивший своей повелительнице, что она действовала в интересах короля Испании?
Карл IX, король Французский
Гравюра И.Пунта.
Характерно, что габсбургская дипломатия и пропаганда пытались истолковать Варфоломеевскую ночь таким образом, чтобы дискредитировать французского короля и рассорить его с протестантскими союзниками в Европе. В протестантской части Европы парижское избиение вызвало негодование и тревогу. Елизавета I приняла французского посла в черном траурном платье, но тем не менее не выразила несогласия с официальной французской версией о том, что речь шла только о наказании заговорщиков. Вскоре английская королева даже возобновила переговоры о планах заключения ее брака с младшим сыном Екатерины Медичи герцогом Франсуа Алансонским. Уверяя Филиппа II и папу, что неизменной целью французской политики является уничтожение ереси, Екатерина вместе с тем направила в Германию специального посла Гастона де Шомбера, чтобы успокоить протестантских князей. Шомбер разъяснял им, что «совершенное в отношении адмирала (Колиньи. — Авт.) и его сообщников учинено не из ненависти к новой религии, не для ее искоренения, а как наказание за подготовленный ими злодейский заговор».
Варфоломеевская ночь имела отзвук даже в далекой России. Несколько неожиданное «возмущение» парижской резней, которое выразил Иван Грозный в письме к императору Максимилиану II, надо рассматривать в связи с неудавшейся попыткой царя побудить Габсбургов не поддерживать противников России в Ливонской войне, обешая взамен совместно выступить против турецкого султана — союзника французского короля. Как раз в это время гибель отборной турецкой армии под Астраханью (1569 год) и разгром крымских татар при Молодях (1572 год) знаменовали собой крупнейшее поражение турецко-татарской экспансии в Восточной Европе.
Московское государство, стремясь использовать в своих целях обстановку, созданную обострением векового конфликта, проявляло терпимость в отношении достаточно для него неприятных политических учреждений Западной Европы. Иван IV, правда, выговаривал Елизавете I, что она, вопреки его чаяниям, — не самовластная государыня, что, как оказывается, в Английском королевстве помимо нее «люди владеют и не токмо люди, но мужики торговые… а ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая девица». Однако надо отдать должное царю: проявленная им «принципиальность» не помешала ему стремиться к поддержанию добрых и даже союзных отношений с государством, имеющим столь «несуразное и предосудительное» устройство, в котором допускались не только дворяне («люди»), что еще куда ни шло, но даже «торговые мужики».
Варфоломеевская ночь имела совсем не те последствия, на которые рассчитывала Екатерина. До августа 1572 года гугеноты проводили различие между воинствующими католиками и законной королевской властью, даже заявляли, что защищают интересы короны от заговорщиков — Гизов. После кровавой оргии 24 августа и последующих дней положение круто изменилось. В 1573 году юрист-гугенот Франсуа Отман опубликовал трактат «Франко-Галлия», выступая в нем сторонником монархии, при которой власть короля ограничивается Генеральными штатами и аристократическими учреждениями. В следующем, 1574 году Теодор Беза издал трактат, в котором утверждал, что, поскольку Бог создал народы, а народы — королей, власть монархов проистекает из договора, заключенного им с его подданными. Несоблюдение королем его обязанностей, неисполнение долга является законной причиной для низложения такого недостойного правителя. Последующие трактаты, выходившие из-под пера гугенотских теоретиков, нередко содержали уже и оправдания умерщвления короля-тирана. Ближайшим сподвижником Генриха Наваррского был в 1579 году выпушен в свет трактат «Зашита против тиранов», развивавший идеи тираноборчества. Вскоре, как мы убедимся, эти идеи были заимствованы и католическим лагерем, приспособившим их для своих целей.
Варфоломеевская ночь не привела к резкому изменению внешнеполитического курса, проводившегося Екатериной Медичи. Показательно, что в переговорах, которые она в декабре 1573 года вела с германскими протестантскими князьями, королева — если верить донесениям шпионов Филиппа II — согласилась обсуждать прежний проект Колиньи об осуществлении французского вторжения в Нидерланды, которое и состоялось через несколько лет.
ПРОРОЧЕСТВА НОСТРАДАМУСА
У читателей «Королевы Марго» Александра Дюма остается в памяти таинственный предсказатель флорентиец Реми, парфюмер королевы-матери Екатерины Медичи. Эта фигура — не выдумка романиста. Реми действительно существовал и участвовал в интригах, которыми была заполнена жизнь Екатерины. Но Дюма приписал ему и черты другого исторического персонажа — астролога Доренио Руджиери. В 1559 году в Шамоне Руджиери якобы видел юного Генриха Наваррского, будущего Генриха IV, в магическом зеркале вслед за тремя сыновьями Екатерины, последовательно потом занимавшими престол: Франциском II, Карлом IX и Генрихом III, каждый из которых делал несколько кругов, означавших годы его царствования. Вероятно, Руджиери сам верил в свое предсказание, и это было главным мотивом, который побудил астролога, пользовавшегося полным доверием Екатерины, содействовать бегству Генриха Наваррского из Дувра.
Следуя другому варианту легенды, Бальзак делает одного из героев своей книги «О Екатерине Медичи» — Руджиери — «Великим магистром нового ордена тамплиеров». Однако Великим магистром астрологов стал, конечно, в глазах потомства другой прорицатель по звездам.
…В «Фаусте» Гете герой трагедии восклицает, обращаясь к самому себе: «Неужели недостаточно тебе руководствоваться той таинственной книгой, написанной собственной рукой Нострадамуса!» Мишель де Нотрдам, известный по латинизированной форме своей фамилии как Нострадамус, родился в декабре 1503 года в городе Сен-Реми в Провансе, на юге Франции, в семье нотариуса. Прозвище получил по церкви Нотрдам, где его крестили. В роду Нострадамуса были лекари и астрологи (нередкое тогда совмещение профессий). В 19 лет он начал изучать медицину в известном университете в Монпелье, втором по значению после Парижского, и через три года, в 1525 году, получил диплом лекаря. В последующие годы Нострадамус, судя по всему, успешно занимался врачебной практикой, потом получил должность в университете, но оставался здесь всего один год. С 1532 года начинаются его поездки по многим городам Южной Франции и Италии, которые с перерывом растянулись более чем на 10 лет. К этому времени якобы относятся и приписываемые Нострадамусу различные «предсказания» царствования Наполеона, будто бы изданные в 1542 и 1544 годах, а на деле впервые, по всей видимости, в 1820 и 1839 годах.
Возвратившись в родной Прованс, Нострадамус много практиковал в качестве лекаря, особенно в небольшом городке Салоне, расположенном между Марселем и Авиньоном, увлекаясь изучением магии и астрологии. С 1550 года стали выходить его альманахи с предсказанием событий на предстоящие 12 месяцев. Эти альманахи публиковались вплоть до смерти астролога. Хорошо знавший Нострадамуса в последний период его жизни Жан Шавиньи в 1594 году писал о происхождении книги его предсказаний: «Предвидя важные сдвиги и перемены, которые должны были произойти повсюду в Европе, кровавые гражданские войны, а также народные возмущения, которые роковым образом надвигались на Галльское королевство, полный энтузиазма и как бы обезумев от совершенно нового неистовства, он принялся за написание своих «Пророчеств» («Centuries», т. е. «сотен» стихотворных предсказаний)». Первое издание «Пророчеств» появляется, вероятно, в 1555 году (предсказания излагались обычно в форме четверостиший: четыреста стихотворных строк составляли «сотню»). В первом издании было напечатано три с половиной «сотни», остаток четвертой и пятая — седьмая «сотни» — позднее, но в том же году; во всяком случае все семь «сотен» опубликованы в сохранившемся издании 1557 года. За ним последовали новые, дополненные издания. Они содержат пророчества более чем на две тысячи лет вперед — до 3797 года.
Появление «Пророчеств» вызвало как восторженные отклики, так и насмешки. По приказу королевы Екатерины Медичи Нострадамус был вызван в Париж. Он был принят королевой, которая несколько часов обсуждала с ним самые различные темы — от гороскопов до косметики. Легенда утверждает, будто Нострадамус предсказал Екатерине Медичи, что три ее сына будут последовательно занимать престол. Однако этот эпизод очень напоминает рассказ о Руджиери. Домой, в Салон, Нострадамус вернулся европейской знаменитостью. Владетельные особы при поездках делали крюк, чтобы посетить пророка; его засыпали просьбами составить гороскопы тех или иных лии. О пророчествах Нострадамуса иностранные послы спешили уведомить свои правительства. «Он имел склонность к деньгам… — писал о Нострадамусе один из его новейших исследователей. — В целом все его уловки напоминают современного медика, который издает сенсационные книги на сексуальные темы и предлагает единое лекарство от всех видов психических расстройств».
В 1564 году Нострадамус, которому представили юного Генриха Наваррского, заявил, что он в должное время получит «все наследство». В октябре того же 1564 года Екатерина Медичи и Карл IX, совершая поездку по югу Франции, посетили в Салоне Нострадамуса. Его ученик, Шавиньи, так описывает внешность астролога: «Менее чем среднего роста, но крепкий и бодрый… у него большой открытый лоб, прямой нос, серые кроткие глаза и румяные шеки. Если бы не длинная густая борода, ему нельзя было бы дать его лет». 2 июля 1566 года Нострадамус скончался в Салоне от водянки, если верить рассказу Шавиньи, накануне точно предсказав время своей кончины.
В первой половине XVII в. популярность его «Пророчеств» значительно возросла. Интерес к ним сохранялся и позднее. В 1781 году «Пророчества» Нострадамуса были осуждены папой Пием VI. Это не значит, впрочем, что в Ватикане совсем сбрасывали со счетов дар прорицания, приписываемый Нострадамусу. Через столетие другой римский папа, Пий IX, под влиянием толкований, которые давал «Пророчествам» один из комментаторов Нострадамуса, некий кюре Торне, заявил в частной беседе: «Наполеон III именно и есть зверь из Апокалипсиса».
…Отдел редких книг Государственной библиотеки им. В. И. Ленина в Москве. Тонкая книжица небольшого формата — меньше 1/4 листа ученической тетради; 160 страниц, заполненных четверостишиями. Вероятно, единственный сохранившийся ныне экземпляр издания 1557 года, по крайней мере единственный в государственных публичных книгохранилищах всего мира. Нет сведений о нахождении экземпляров издания 1557 года и в какой-либо из частных коллекций. При этом речь идет о раннем издании «Пророчеств», которое имеет большое, если не сказать решающее, значение для их оценки. Полное название книги — «Пророчества господина Мишеля Нострадамуса, в числе которых около трехсот никогда еще не печатавшихся».
Не нужно разъяснять, насколько репутация прорицателя зависит от установления даты его пророчества. Более раннее издание — первое из них 1555 года, — вероятно, было у историка прошлого века Бареста, который перепечатал его текст в своей книге о Нострадамусе. В некоторых изданиях «Пророчеств», вышедших в конце XVI и в XVII в., утверждается, что они являются перепечаткой с трех ранних изданий — одного, появившегося в том же 1555 году, и двух, вышедших в 1556 году. Но нц одного из этих четырех изданий 1555 и 1556 годов не сохранилось, даже если все они действительно существовали, чему нет неопровержимых доказательств. Таким образом, книга, хранящаяся в Москве, является единственным свидетельством того, что «пророчества» Нострадамуса действительно были сделаны не позже 1557 года. А в таком случае уже несущественно, были ли опубликованы они именно в этом году или на год-два ранее, ибо они касаются того, что явно должно было произойти после 1557 года (хотя, как мы увидим, точная датировка Нострадамусом предсказываемых им событий являлась редчайшим исключением из правила). Итак, перед нами издание 1557 года. В нем нет никаких неожиданностей. Текст знаменитых пророчеств не отличается от последующих, более поздних публикаций «Пророчеств» (тем не менее в дальнейшем изложении, когда даются ссылки на издание 1557 года, что, конечно, возможно только в отношении первых семи «сотен», помимо номера «сотни» и четверостишия указывают и страницы, на которых они были напечатаны в указанном издании).
Как убедительно показывает американский историк Е. Леони, ссылки Нострадамуса на божественное откровение и на ясновидение делались им для самовозвеличения. Реальным «источником» предсказаний были магия и астрология. В «Пророчествах» можно встретить даже «формулы», явно заимствованные из выходивших тогда сочинений по магии.
При жизни Нострадамуса разгорались и сложно переплетались между собой международные конфликты. Нострадамус «предсказал» развитие этих конфликтов и не ошибся. Например, в сорок четвертом четверостишии девятой «сотни» (IX, 44) содержится предостережение либо жителям Женевы в отношении репрессий, которые могут предпринять Кальвин и его сторонники, либо же самим кальвинистам, что они будут истреблены испанским королем Филиппом II. В параграфах 50 и 51 послания к Генриху II говорится о преследовании, которому подвергнется в течение 11 лет католическая церковь со стороны нечестивого короля, действующего в союзе с мусульманами, намекается на возможность завоевания протестантами римского престола.
В «сотне» VI, 75 (с. 146) значится:
Король уполномочит великого адмирала
Оставить флот и занять более высокий пост.
Через семь лет после этого он поднимает мятеж.
Венеции придется опасаться армии варваров.
Первые строки относятся к Колиньи, который в 1559 году подал в отставку с поста адмирала и стал главой — генерал-лейтенантом — гугенотов в 1562 году, а с 1567 года — одним из главных руководителей гражданской войны. Республике св. Марка приходилось в это время опасаться победоносной армии Селима II, которая несколько позднее, в 1570 году, отняла у венецианцев часть их колонии.
Вот еще пример якобы удавшихся «пророчеств» (IX, 49). В прозаическом переводе оно звучит так:
Гент и Брюссель пойдут походом на Антверпен.
Сенат Лондона казнит своего короля.
Соль и вино свергнут его.
Чтобы иметь их, все королевство придет
в беспорядок.
Разумеется, наиболее известной является вторая строка, в которой видят предсказание казни по приговору парламента Карла I — король был казнен 30 января 1649 года, т. е. без малого через столетие после опубликования «Пророчеств». Однако трактовка остальных строк комментаторами, пытающимися поддержать «пророческую» репутацию Нострадамуса, оказывается очень натянутой.
«Поход Гента и Брюсселя против Антверпена» пытаются представить как военные действия испанцев, владевших Южными Нидерландами, против Голландии (это происходило в ходе Тридцатилетней войны). Однако в последние годы этого затяжного конфликта военные действия в Нидерландах велись крайне вяло, наступающей стороной всегда были голландцы, а 30 января 1648 года, за год до казни Карла I, был подписан мир. К тому же Антверпен, так же как Брюссель и Гент, находился в испанских руках. Поэтому первую строку приходится истолковывать как поход из Гента и Брюсселя через Антверпен на Голландию. Под «вином и солью» одни понимают силу и мудрость, которых не оказалось у Карла I, другие подразумевают под этим подати — а ведь спор о праве облагать налогами послужил поводом для начала конфликта между королем и парламентом, переросшего в гражданскую войну.
В «сотне» X, 100 говорится:
Англия будет владеть большой империей.
Всемогущей (или всесильной на море)
В течение более трех столетий.
Большая часть четверостиший относится к судьбам Франции, немало говорится об Италии, меньше — об Англии, странах Иберийского полуострова, Нидерландах, германских государствах, о Балканах, Ближнем Востоке, Северной Африке. О Восточной Европе, большинстве восточных стран, Новом Свете либо говорится совсем мало, либо они не упоминаются вовсе.
Еще одно из знаменитых «пророчеств» касалось царствующего тогда французского короля Генриха II. Его супруга Екатерина Медичи просила Люка Горика, астролога папы Павла III, составить гороскоп короля. Горик будто бы рекомендовал королю «избегать во всех случаях единоборства в месте, отгороженном для поединков, особенно в возрасте около сорока одного года, так как в это время его жизни будет угрожать опасность вследствие раны в голову, которая может повлечь за собой слепоту или смерть». Екатерина не поверила предсказанию — в каком это бою королю предстоит сражаться один на один? Тем не менее она запросила мнение наиболее авторитетных звезд астрологии — Гассенди, Габриеля, Симеони и Жерома Кардана, которые высказали весьма различные суждения о том, что несет королю сочетание звезд на небосводе. Тогда Екатерина обратилась к Нострадамусу, в своих «Пророчествах» заявившему (I, 35, с. 17):
Молодой лев превзойдет старого.
На поле битвы в поединке один на один
В его золотой клетке ему выколют глаза.
30 июня 1559 года, когда Генрих принял участие в рыцарском турнире, никто не думал, что состязание на копьях можно назвать «полем битвы», а «золотой клеткой» мог стать позолоченный шлем короля. Екатерина дважды просила мужа не участвовать в схватке, но Генрих не внял ее просьбам. Он приказал первоначально отнекивающемуся капитану шотландских стрелков графу Монтгомери участвовать вместе с ним в состязании. Копье Монтгомери задело панцирь и сломалось, но большой деревянный осколок, отскочивший вверх, приподнял шлем и вонзился в левый глаз короля. Генрих покачнулся в седле, но не потерял сознания. Рана была глубокой, медицина оказалась бессильной, и через десять дней король скончался. В гербе короля и его нечаянного убийцы Монтгомери был лев (правда, часть комментаторов отрицает, что эта эмблема действительно использовалась обоими участниками).
В «сотне» IV, 47 (с. 96) можно прочесть:
Когда Черный злодей станет испытывать
Свою окровавленную руку огнем, мечом и натянутыми луками,
Весь народ ужаснется,
Узрев самых великих повешенными за шею и ноги.
Черный злодей — в оригинале «Le noir farouche»; последнее слово может означать также «свирепый», «жестокий», «нелюдимый». Однако интереснее, что слово «noir», вероятно, означало анаграмму слова «roy» (roi) — «король». Получается «король-злодей», «свирепый король» или даже «нелюдимый король». И современники, и многие последующие комментаторы увидели в этом четверостишии предсказание кровавой Варфоломеевской ночи, когда, как гласила молва, свирепый, нелюдимый король Карл IX из окна Лувра стрелял из аркебузы по жертвам, пытавшимся спастись бегством от озверевших убийц. Растерзанный труп адмирала Колиньи толпа протащила по улицам и повесила за ногу.
В столь же знаменитом четверостишии (III, 30, с. 70) говорилось, что тот, кто раньше сражался с оружием в руках, будет поддерживать некоего более важного, чем он сам, что он, застигнутый врасплох, раздетый, в кровати будет шестью людьми пронзен пикой. Лидер гугенотов, воевавший против короля, помирился с ним и в 1572 году стал влиятельной фигурой при дворе. Он оказывал столь сильное влияние на Карла IX, что это вызвало недовольство даже королевы-матери Екатерины Медичи. Во время Варфоломеевской ночи Колиньи был убит ворвавшимися в дом адмирала герцогом Гизом, его слугой и несколькими солдатами-швейцарцами.
Не было ли предсказание Нострадамуса само одним из поводов для Варфоломеевской ночи? Накануне рокового события один из приближенных Карла IX, некто Шаррон, узнав, что рана адмирала Колиньи, полученная от руки наемного убийцы, не опасна, заявил во всеуслышание за ужином: имеется предсказание Нострадамуса по поводу предстоящей ночи 24 августа 1572 года. В одном из ежегодных альманахов, издававшихся астрологом, действительно содержалось запись о том, что должно было произойти в эту ночь. «Схвачены спящими» — гласила эта запись…
В «сотне» III, 55 (с. 76) говорилось, что, «когда двор будет испытывать большие трудности, повелитель Блуа убьет своего друга, и царствование окажется под двойным сомнением». Известно, что во время религиозных войн в 1589 году по приказу Генриха III, бежавшего из Парижа в Блуа, был убит его двоюродный брат, лидер католиков герцог Генрих Гиз. Вскоре после этого сам Генрих III пал, сраженный кинжалом монаха Жака Клемана, что поставило вопрос о престолонаследии «под двойное сомнение»: во-первых, из-за отсутствия наследника, исповедующего католическую веру, и, во-вторых, из-за того, что претендентом на престол выступал вождь гугенотов Генрих Наваррский.
В «сотне» X, 18 указывается:
Лотарингский дом уступит место Вандому.
Кто находился внизу, окажется наверху,
а кто наверху — снизу.
Сын Маммоны будет избран в Риме,
А двое великих понесут утрату.
Лотарингский дом (Гизы) был оттеснен Генрихом IV, герцогом Вандомским. Генрих, которого называли «маленьким Беарннем», стал королем вопреки герцогу Генриху Гизу и его брату, герцогу Майеннскому, — лидерам католической лиги. Еретик Генрих — «сын Маммоны» (или при другом чтении сын Амона — египетского бога, т. е. враг христианства) — был признан Римом.
Генрих, герцог Гиз
По портрету Чиньяни
К седьмой неполной «сотне» «Пророчеств» (она состояла в издании 1557 года из 40, а позднее — из 42 четверостиший) добавлено после 1557 года уже цитированное выше послание к французскому королю Генриху II, тоже содержащее прорицания, правда, написанные прозой. В 42-м абзаце этого послания говорится, что до 1792 года будет продолжаться начавшееся в не указанное точно время преследование христианской церкви и что этот год будут считать началом нового века. Об этом предсказании французская пресса писала в начале 1792 года. Можно говорить с известным основанием, что меры революционного правительства против духовенства были приняты начиная с 1792 года. С другой стороны, в августе 1792 года, пала монархия; новое летосчисление стали вести со времени провозглашения республики.
В «сотне» 1, 44 (с. 28–29) Нострадамус предсказывал возобновление мученичества. Не будет ни монарха, ни аббатов, ни послушников, вешал он, мед будет стоить много больше, чем воск [для свечей], — в этом опять стремились видеть предсказания событий Великой французской революции.
Или еще одно из самых известных четверостиший (IX,20):
Ночью проедут через лес Рейнса
Две пары кружным путем:
королева, [как] белый камень,
король-монах в сером в Варенне.
Избранный кап(ет) вызовет бурю, огонь, кровь и нож.
В этом четверостишии хотели видеть предсказание бегства в Варенн Людовика XVI, покинутого народом (король-монах, одинокий король), одетого в серое, и Марии-Антуанетты, одетой в белое, в пути изменивших маршрут. За превращением Людовика XVI в конституционного короля последовало падение монархии и казнь его на гильотине.
За 400 с лишним лет, прошедших со дня смерти Нострадамуса, его «Пророчествам» было дано не менее шести тысяч различных истолкований. Весьма впечатляющая цифра! Один из исследователей уже давно подсчитал, что из 449 предсказаний было 18 явно неверных, 41 можно считать исполнившимся (но многие из них были сформулированы так, что имели равные шансы осуществиться или не осуществиться), 390, подавляющее большинство, невозможно отождествить с каким-либо событием, происшедшим за первые 300 лет после опубликования «Пророчеств». Успех предсказаний при помощи подбрасывания монеты — какой стороной она упадет, — был бы значительно большим.
…Английский философ Гоббс еще в середине XVII в. объявил, что астрология не имеет ничего общего с наукой и является лишь средством разбогатеть за счет легковерия глупцов.
Нострадамус был «прорицателем» длительных внутренних и международных конфликтов, к нему обращались обычно именно в период таких конфронтаций.
Приведем некоторые из многих книг на эту тему: Рабб С. Нострадамус о Наполеоне и т. д. Нью-Йорк, 1942; Л. Мас-Кэнн. Нострадамус. Человек, который смотрел вперед через века. Нью-Йорк, 1942; Руиф Э. Нострадамус и его предсказания. 1948–2023. Париж, 1948; Лижуа де ля Комб Ж. Третья мировая война по предсказанию Нострадамуса. Бордо, 1961; Монтре Ж. Нострадамус, пророк XX века. Париж, 1963. В вышедшей уже в 1961 году книге Рабб относит к 1999 году время, когда «будет править Марс…» и произойдет нашествие инопланетян.
В начале 1980 года на экраны США и Западной Европы вышла картина «Предсказания Нострадамуса», где подчеркивалась точность его пророчеств, например предсказания судьбы Гитлера или Джона и Роберта Кеннеди. Вот прорицание относительно Эдварда Кеннеди оказалось менее точным — ему предрекалось избрание в 1980 году президентом США.
В 1976 году была опубликована книга М. Пижара де Гюрбера (доктора Фонбрюна) «Что в действительности говорил Нострадамус», в которой разъяснялась «божественная» природа прорицаний, содержащихся в «Пророчествах», и в очередной раз уточнялось, какие именно события XX в. были предсказаны астрологом и каких на основе его прорицаний следует ожидать до конца столетия.
В октябре 1980 года вышла книга Фонбрюна, в которой он, ссылаясь на Нострадамуса, «угадал» победу Ф. Миттерана на президентских выборах в следующем году. Реакционная пресса поспешила использовать приобретенную Фонбрюном славу истинного толкователя.
Некоторые из наиболее известных современных западных авторов, писавших на оккультные темы, — Серж Ютен, Луи Шарпантье, Андре Бриссо, Жан Монтре, — защищают еще более фантастическую версию: Нострадамус якобы был представителем скрыто существовавшего в веках ордена тамплиеров. Таким образом, звездочет из Салона стал центральной фигурой многовековой мифологии и секретных обществ, о чем пойдет речь ниже. «Пророчества» Нострадамуса, согласно этой версии, якобы не более и не менее как зашифрованные секретные инструкции для будущих поколений храмовников. А в качестве «доказательства» ссылаются на то, что боевым кличем ордена тамплиеров в битвах было Notre Dame — «Матерь Божья», от которого, мол, происходит и фамилия знаменитого астролога…
РАЗМЫШЛЕНИЯ В ВАРФОЛОМЕЕВСКУЮ НОЧЬ
Август 1572 года в Париже обещал быть одним из самых спокойных месяцев. После многолетних религиозных войн между католиками и протестантами (их во Франции называли гугенотами) наконец забрезжила надежда на прочное примирение обеих сторон. Недаром во французскую столицу, бывшую в то же время ревностной сторонницей католической партии, начали съезжаться вожди протестантов — и старый воин адмирал Колиньи, и молодой принц Конде, сын гугенотского полководца, погибшего в одном из сражений междоусобной войны, и король Наваррский Генрих Бурбон, мать которого, судя по упорным слухам, была отравлена матерью правившего тогда французского короля Карла IX, могущественной и коварной Екатериной Медичи. Более того, Парижу вскоре предстояло стать свидетелем торжественного бракосочетания «еретика» Генриха с сестрой короля Карла Маргаритой Валуа. Именно для присутствия на этих торжествах и съехались в Париж сотни дворян, составлявших цвет гугенотской партии.
А позади было десятилетие, отмеченное всеми ужасами ожесточенной войны, в которой крупные сражения перемежались бесчисленными вооруженными столкновениями между отдельными городами и местностями, между влиятельными дворянскими семьями одной и той же области, кровавыми избиениями мирного населения целых округов. Наряду с силой в ход пускались хитрость и обман. Засылка, лазутчиков во вражеский лагерь, постоянные попытки разузнать намерения врага, выявить его силы и ресурсы, ввести в заблуждение относительно собственных намерений, обмануть притворным согласием на переговоры, на уступки и захватить врасплох с помощью тайного заговора, использование кинжала и яда — все это были повседневные, многократно использовавшиеся приемы борьбы. Такой же «нормой» было обращение за помощью к иностранным государям. Католики опирались на поддержку испанского короля Филиппа II и его наместников в Нидерландах и на другого представителя Габсбургской династии — германского императора, на итальянские государства и католических князей в Германии, на папу и иезуитов. Протестанты обращались за помощью к Англии.
Еще в 1560 году был организован знаменитый Амбуазский заговор, с помощью которого принц Конде решил одним ударом захватить короля Франциска II и могущественных лидеров католической партии герцогов Гизов. Конде надеялся, что, расправившись с Гизами, прочно поставит короля под свой контроль. Заговор подготовлялся долго, и его главный организатор Жан дю Барри сьер де ла Реноди выполнял поручения не только принца Конде, но и английской королевы Елизаветы. Она охотно дала деньги, чтобы парализовать Гизов, из семьи которых вышла одна из королев Шотландии и которые активно вмешивались в дела этой северной соседки Англии. Заговор был очень опасным для влияния Гизов, но его тайну сохранить не удалось. О заговоре узнали, в частности, лазутчики герцога Савойского и кардинала Гранвеллы, испанского наместника в Нидерландах, поспешивших известить обо всем Гизов. Информация, хотя и довольно неточная, просочилась к Гизам и по другим каналам. Из попытки захватить двор врасплох в Амбуазе ничего не вышло, и протестантский заговор потерпел полную неудачу. Конде не осмелились тронуть, но десятки рядовых участников заговора поплатились жизнью. (Ла Реноди был убит в стычке с королевскими солдатами.)
Амбуазский заговор был лишь одним из многих примеров непрекрашавшейся тайной войны, происходившей за кулисами то затихавших, то снова разгоравшихся религиозных войн. Однако ни силой, ни хитростью сломить гугенотов оказалось невозможно. Основу протестантской партии составляла не та часть дворянства, которая под религиозным знаменем надеялась отстоять сохранившуюся у нее немалую долю независимости от короны. Этой основой была буржуазия Южной и Западной Франции, которая нашла в кальвинизме (той разновидности протестантства, которой придерживались гугеноты) идеологию, отражавшую ее классовые интересы. После бесплодной десятилетней борьбы ее бесперспективность как будто признала сама Екатерина Медичи и даже занимавшие крайнюю позицию Гизы. Однако мало было заключить перемирие.
В первой половине XVI в. таким оттяжным пластырем была Италия, где французы и испанцы оспаривали друг у друга преобладающее влияние. И совсем не случайно окончание итальянских войн совпало с началом религиозных войн во Франции. Вернувшееся тогда из Италии дворянство занялось привычным делом на французской земле. Теперь, естественно, среди сторонников соглашения в обеих партиях возникла мысль: скрепить его совместным участием в войне против Испании. А Нидерланды, восставшие против испанского ига и просившие о помощи, представляли идеальную возможность для такого отвлечения сил за рубеж.
Поэтому не только из интересов веры пытался Филипп II предотвратить соглашение между боровшимися силами во Франции, а многочисленные агенты испанского посла прямо организовывали провокации, чтобы не допустить примирения. Одного испанского посла, уличенного в этом, Филиппу пришлось даже отозвать по требованию французского двора. Новый посол, конечно, продолжал ту же линию. Хотя, казалось, все вело к прочному соглашению между партиями, чуткое ухо иностранных дипломатов как раз летом 1572 года уловило новые ноты в отношениях католиков и протестантов. Адмирал Колиньи приобретал, видимо, все большее влияние на слабохарактерного — если не просто слабоумного — Карла IX, пытаясь подорвать позиции Екатерины Медичи. Французский отряд, посланный адмиралом во Фландрию без объявления войны, был уничтожен войсками герцога Альбы, заранее получившего сведения об отправке отряда от своих шпионов в Париже. Екатерина Медичи воспользовалась неудачей, чтобы добиться на Королевском совете решения отказаться от планов войны против Испании.
Однако Колиньи не терял надежды изменить с помощью короля это решение. Стараясь сыграть на тщеславии Карла, он не без успеха убеждал его освободиться наконец от материнской опеки. Это было уж слишком. Екатерина Медичи и ее любимый сын герцог Анжуйский (будущий король Генрих III) решили любой ценой избавиться от адмирала. Им было обеспечено содействие Гизов, смертельно ненавидевших Колиньи. К этому времени иностранные послы, особенно папский нунций, уже были убеждены: от Колиньи рано или поздно попытаются отделаться раз и навсегда. 17 августа торжественно была отпразднована свадьба Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа. В последующие дни продолжались свадебные торжества. А в пятницу, 22 августа, когда Колиньи возвращался с заседания Королевского совета, из одного дома раздались выстрелы. Адмирал был ранен. Дворяне его свиты бросились в дом, но нашли там лишь ничего не знавших слуг. У одного окна наверху валялась еще дымящаяся аркебуза. Дом принадлежал герцогине Гиз. Вскоре установили и личность стрелявшего из аркебузы — им был некто Морвель, наемный убийца, услугами которого не раз пользовалась королева-мать. Преследуемый слугами Колиньи, он исчез в имении одного из приближенных Екатерины Медичи.
Карл IX узнал о покушении на адмирала во время игры в мяч. Бросив в гневе ракетку, король воскликнул с досадой: «Неужели у меня никогда не будет покоя? Опять беспокойство, снова беспокойство!» Карл поспешил передать главе гугенотов свои соболезнования. На другой день король самолично явился к раненому в сопровождении матери, брата и толпы придворных. Колиньи попросил поговорить с ним наедине. Все вышли, в том числе и Екатерина, едва сдерживавшая томившее ее беспокойство. На обратном пути она спросила Карла, что же говорил ему Колиньи. Адмирал советовал королю взять в свои руки власть, захваченную его матерью. Решимость Екатерины покончить с опасным врагом стала непреклонной. И она слишком хорошо знала сына, чтобы сомневаться в успехе.
В Лувре Екатерина и герцог Анжуйский прямо объявили королю, что Морвель стрелял по их приказанию, что сторонники адмирала все равно уже догадываются об истине и что надо идти напролом до конца — окончательно покончить с вождем гугенотов. После вялого сопротивления Карл сдался — раз уж это единственный способ сохранить спокойствие, ладно, пускай… Но, придя неожиданно в ярость, король добавил — пусть уж заодно с Колиньи истребят и остальных еретиков, чтобы никто не мог упрекать монарха за нарушение слова. Католические вельможи, сопровождавшие Екатерину, радостно одобрили план. Париж был разделен на округа, каждый из которых был поручен ведению специально назначенных лиц. Герцогу Гизу предоставили право убить адмирала.
Был спешно вызван бывший глава столичного купечества Марсель, один из ярых католиков и, по словам полицейских властей, никем не назначенный вице-король Парижа. Сколько человек сможет Марсель выставить за сутки в распоряжение короля? Тысяч двадцать или больше, ответил купеческий старшина. Марселю было приказано связаться с начальниками округов, которые должны были выставить одного вооруженного человека от каждого дома. В окнах домов должен был быть зажжен свет. Капитаны округов были собраны Гизом и получили подробные инструкции. Отдельные вельможи вроде маршала Таваннеса или герцога Невера получили задание убить того или иного из помощников адмирала и других видных гугенотов.
Лихорадочные приготовления уже в середине дня 23 августа вызвали плохо скрываемое возбуждение в Париже. К вечеру 1200 аркебузиров, вызванные за три дня до этого в столицу для лучшего поддержания порядка, были размешены вдоль реки Сены и особенно неподалеку от улицы Бетизи, где находился дом адмирала. Движение войск не могло ускользнуть от внимания гугенотов. Один из них поспешил в Лувр, чтобы просить у короля вооруженный отряд для охраны резиденции Колиньи. Король выглядел очень возбужденным и, выслушав гугенота, послал за матерью.
— В чем дело, что это значит?! — вскричал король при ее появлении. — Он говорит, что парижане вооружаются и готовятся к восстанию.
— Они не делают ни того ни другого. Если вы припомните, государь, сего дня утром вы отдали приказ всем оставаться по своим домам, чтобы избежать волнения.
— Это правильно, но я запретил носить оружие, — быстро ответил король.
Гугенотский посланец решил повторить просьбу. Пришедший вместе с матерью герцог Анжуйский вмешался в разговор:
— Вы правы. Возьмите Коссейна и пятьдесят солдат гвардии.
Гугенот осторожно заметил, что шести солдат будет достаточно, чтобы, опираясь на королевский авторитет, остановить толпу.
— Нет, нет, — настаивал король. — Берите Коссейна, вам не найти более подходящего человека.
Посланец не решился настаивать. Покидая Лувр, он встретил одного дворянина-гугенота.
— Они не могли бы найти большего врага, чтобы охранять вас, — сказал озабоченно этот дворянин своему единоверцу.
Коссейн и его 50 солдат разместились в двух лавках около жилиша адмирала. Вслед за ним прибыл королевский квартирмейстер и передал приказ короля жившим поблизости католическим дворянам очистить занимаемые ими помещения. Гугенотам было предписано занять освободившиеся квартиры, чтобы находиться в большей безопасности и всем вместе неподалеку от адмирала. Лишь часть гугенотов успела исполнить этот приказ.
Вечером на квартире у Колиньи состоялся совет руководителей гугенотской партии. Один из присутствовавших трезво и упорно настаивал на немедленном отъезде из Парижа. Если понадобится, можно пробить себе дорогу мечом. Но большинство не видело оснований для крайних мер. Собрание закончилось поздно, и участники мирно разошлись. Генрих Наваррский и принц Конде вернулись в Лувр. При Колиньи остались несколько его домашних и пятеро наемных швейцарских солдат. Возвращаясь во дворец, Генрих и его свита были поражены необычайно большим количеством огней в окнах, несмотря на поздний час. Во дворце также царило непонятное оживление — повсюду огни, все на ногах, натянутые улыбки и плохо скрываемое ожидание чего-то на лицах придворных…
Поздно вечером в Лувр был вызван Шаррон — официальный глава парижского купечества, преемник Марселя. Шаррону лишь сообщили об открытии гугенотского заговора, который решено предупредить рядом мер, обеспечивающих безопасность королевской семьи, столицы и всего государства. Шаррон получил приказ закрыть все городские ворота, стянуть в одно место и связать цепями все лодки на Сене, привести в готовность всех полицейских стражников и всех жителей, способных носить оружие, разместить отряды во всех районах и на всех перекрестках улиц, выставить пушки на Гревской плошали и у здания городской ратуши. Уже были отмечены все дома, где жили гугеноты. Об этих приготовлениях, считавшихся оборонительными мерами, в полночь были сделаны требовавшиеся по закону записи в протоколах парижского управления.
Последним гугенотом, которому разрешили покинуть Лувр, был Ларошфуко, добродушный толстяк, постоянный партнер короля в различных играх. К 11 часам атмосфера в Лувре стала казаться тягостной и для Ларошфуко. Перед уходом король посоветовал ему скоротать ночь в королевских покоях. Гугенот вежливо отказался и отправился к себе на квартиру на улице Сен-Оноре.
Ночью в назначенный час толпа убийц, возглавляемая герцогом Гизом, появилась на улице Бетизи. Гвардейцы присоединились к свите герцога. Быстро взломали двери. Слуги Колиньи падают под кинжалами людей герцога и королевских солдат. Нескольким гугенотам удалось бежать через окно. Толпа ворвалась в комнату Колиньи — и через минуту изуродованное бездыханное тело старого адмирала сбрасывается из окна к ногам Гиза. Герцог сошел с лошади и стер кровь с лица убитого. «Это он, — произнес Гиз, — Я знаю его». И подает сигнал: «Убивайте, убивайте!» По Парижу звучит набат. Тысячи вооруженных католиков врываются в дома гугенотов, умерщвляя всех подряд — молодых и стариков, мужчин и женщин, ребят на руках у матерей и больных, не могущих подняться с постели. Убивают повсюду: в комнатах и на лестницах, на узких улицах, где выступающие карнизы домов, казалось, сталкиваются друг с другом, на крышах, на площадях, в водах Сены, куда пытаются спастись объятые ужасом люди и куда бросают сотни изуродованных трупов. В Лувре хладнокровно истребляют свиту Генриха Наваррского. Он под угрозой смерти принимает католичество.
Три тысячи человек пали жертвой убийц на рассвете дня святого Варфоломея — 24 августа 1572 года. За Варфоломеевской ночью последовали в Париже другие, столь же кровавые. Потом побоище распространилось на многие города Франции.
Наблюдая за страшным зрелищем в Париже, испанский посол спешил порадовать своего господина: «Когда я это пишу, они убивают их всех; они сдирают с них одежду, волочат по улицам, грабят их дома, не давая пошады даже детям. Да будет благословен Господь, обративший французских принцев к служению его делу! Да вдохновит он их сердца на продолжение того, что они начали!» А из окон другого посольства за кровавым избиением наблюдал посол английской королевы. Сэр Френсис Уолсингем, прежде чем занять этот пост, успел пройти серьезную разведывательную школу, побывать в качестве тайного агента во многих городах Европы. За скупыми, осторожно отобранными фразами его донесений в Лондон, конечно, слишком много оставалось невысказанным. О чем должен был думать он, суровый протестант и трезвый, гибкий политик в эти залитые кровью августовские ночи? О том, что адмирал Колиньи и другие гугенотские лидеры, привыкшие с детства к войне и знавшие, что не может быть успеха, если неизвестные силы и намерения противника дали заманить себя в самую простую ловушку. Ловушку, оказавшуюся тем более безошибочной, что не была заранее предусмотрена. (Римский папа и Филипп II задним числом, правда, объявили Варфоломеевскую ночь результатом долго подготовлявшихся усилий, но делали это лишь для того, чтобы придать еще больше значения такому «святому делу».)
Нельзя сказать, что гугенотские лидеры вообще не имели своих лазутчиков во вражеском стане, не пытались получить информацию о действиях врага. Но это делалось от случая к случаю, каждым по своей инициативе и без связи с другими. Никто из гугенотских агентов не узнал или не успел сообщить о секрете, в который были посвящены тысячи и тысячи людей и в связи с которым им поручили проделать многочисленные приготовления, секрете, который позволил бы избежать смерти по крайней мере части обреченных на гибель, как спаслись, собравшись вместе и вскочив на коней, несколько гугенотских дворян (они переплыли Сену и ушли от преследователей). Разрозненные усилия агентов гугенотской партии — к тому же ослабленные в самый критический момент — оказались совершенно не соответствующими задаче. Они не подошли там, где требовались организация и система, где только суммируя полученную из разных источников информацию можно было догадаться о замысле врага, где неудача одного агента компенсировалась бы успехом другого, где решающие усилия в решающий момент можно было бы сконцентрировать в решающем месте.
Так или примерно так должен был формулировать свои выводы холодный, проницательный человек, которому вскоре Елизавета — королева Англии — поручила на долгие годы управление английской разведкой. По крайней мере таковы были принципы, которые он положил в основу британской разведывательной службы.
КОРОЛЕВА МАРГО
Династические вопросы в эту эпоху могли иметь совершенно различный политический смысл. Сталкивающиеся социальные группировки нередко оказывали поддержку соперничавшим претендентам на престол, классовая борьба облекалась в форму династического спора. Династические распри могли быть борьбой между участниками и противниками вовлечения страны в вековой конфликт. То же самое можно сказать и о придворных интригах, выступающих, подобно пене, на поверхности исторического процесса. И эта «пена» в конечном счете отражала существо происходивших событий. Бывали даже ситуации, когда в этой пене, поистине как в капле воды, отражались весьма значительные явления, когда она играла роль той случайности, в которой не только проявляется историческая необходимость, но которая накладывает свой отпечаток на дальнейшее общественное развитие. Было немало таких случайностей, влиявших на ход векового конфликта, на участие в нем различных стран. Династические браки давали возможность повернуть ход не только внутренней борьбы, но и противоборства на международной арене в нужном направлении. И когда силы, стоящие за то или иное решение, более или менее уравновешивали друг друга, тот или иной поворот династических комбинаций приобретал относительно самостоятельное значение. Порой в возникновении или повороте в развитии вековых конфликтов немалую роль играли случайности дипломатической и придворной истории, а может быть, они служили и детонатором больших исторических событий.
…В романе «Королева Марго» (первом из серии, посвященной драматическим событиям 70-х и 80-х годов XVI в. во Франции) А. Дюма широко использовал мемуары современников, в том числе и «Воспоминания» самой Маргариты Наваррской, которые писались через два с половиной десятилетия после Варфоломеевской ночи. Образ этой «знатной дамы эпохи Ренессанса» претерпел значительные изменения под пером романиста. Он воспользовался своим правом изобразить ее во время расцвета молодости и красоты, оставляя в забвении другие, более поздние годы ее жизни, когда она стала объектом сатирических куплетов и непристойных острот. Правда, и ко времени ее брака с Генрихом Наваррским, если верить ее последующим признаниям, она успела побывать любовницей своих трех братьев — Карла IX, Генриха 111 и герцога Франсуа Алансонского — и герцога Гиза в придачу (на что, впрочем, не раз намекал и Дюма).
Маргарита Наваррская, несмотря на свое активное участие в политических интригах, целиком определявшееся ее страстями и любовными приключениями, никогда не была политическим деятелем — каким несомненно была ее ближайшая родственница Мария Стюарт, — и тем не менее она занимала такое положение, которое придавало политическое значение многим ее поступкам. Роль, которую ей пришлось сыграть, сама по себе была следствием политической обстановки, сложившейся во Франции и Европе в целом. Романы Дюма подробно повествуют о заговорах и интригах, в центре которых находилась первая жена Генриха Наваррского. Эти заговоры — тоже не вымысел писателя, но в действительности они происходили иначе, чем описывает Дюма, при иной расстановке сил и ином составе участников, чьи мотивы нередко отличались от созданных неистощимой фантазией знаменитого романиста. Следует отметить, что цели заговоров были тесно связаны — если не прямо определялись — с вековым конфликтом, который раздирал Европу этой эпохи.
Дюма изображает графа де Ла Моля, завоевавшего сердце ветреной красавицы королевы, молодым человеком 24–25 лет, приехавшим в Париж из Прованса. В действительности он был на 20 лет старше — почти старик по понятиям того времени. Простаивая три или четыре мессы ежедневно, чтобы замолить свои грехи, де Ла Моль не уступал никому в галантных приключениях, составлявших скандальную хронику двора. Де Ла Моль был далеко не новичком в политических интригах. По поручению очень благосклонного, к нему Карла IX граф ездил в Лондон искать руки королевы для герцога Алансонского. Де Ла Моль вроде бы произвел впечатление на Елизавету, но миссия его не привела к успеху. Из приближенных короля он перешел в свиту герцога Алансонского, которого надеялся превратить в орудие своих честолюбивых планов. К этому времени де Ла Моль из-за своих любовных похождений успел снискать ненависть ряда влиятельных соперников, особенно герцога Анжуйского — будущего Генриха III. Тогда в окружении герцога Алансонского оказался и пьемонтец Аннибал Коконнасо, известный больше под именем графа де Коконнаса.
В конце 1573 года Екатерина Медичи, убедившись в неудаче своей попытки подавить протестантизм во Франции, снова стремилась добиться мира, как в месяцы, предшествовавшие Варфоломеевской ночи. Приближенные к власти «политики», особенно маршал Монморанси, вновь стали выдвигать идею войны против Испании, а Екатерина — вновь резко осуждать эти планы. В последовавшем очередном туре интриг де Ла Моля обвиняли в попытке организовать покушение на герцога Гиза по поручению Монморанси и герцога Алансонского. Монморанси получил отставку, но де Ла Моль решил сам попробовать осуществить план вовлечения Франции в войну против Филиппа II.
Как раз к этому времени — к январю — февралю 1574 года — и относится начало романа опытного соблазнителя и королевы Наваррской, казавшегося для современников необычным из-за разницы в положении и возрасте затронутых лиц. Королева Марго в это время под влиянием де Ла Моля примкнула к партии «политиков». Успехи провансальца вызвали ревность у герцога Алансонского и самого Карла IX, которые даже сговорились задушить его на дворцовой лестнице. Ле Ла Моль ускользнул с помощью Коконнаса и его любовницы герцогини де Невер, об этом подробно повествует Дюма. Де Ла Моль и Маргарита убедили герцога Алансонского принять участие в заговоре, составленном «политиками» и протестантами. Он предусматривал восстание против Карла IX и фактически передачу власти в руки герцога Алансонского. Попытка бегства герцога Алансонского и Генриха Наваррского, назначенная на 10 апреля 1574 года, не удалась — они были выданы Шарлоттой де Сов, являвшейся одновременно любовницей их обоих и шпионкой королевы-матери.
14 апреля испанские войска разгромили в сражении при Моор-Керхейде отряд одного из участников заговора. Трусливый герцог Алансонский поспешил выдать своих сообщников. Де Ла Моля предали суду парламента, но он даже под пыткой не сделал никаких признаний. Напротив, Коконнас, зарекомендовавший себя свирепым убийцей во время Варфоломеевской ночи, пытался спасти себе жизнь, донося на всех, кого только знал, и приписывая им любые преступления. Однако 30 апреля его казнили вместе с де Ла Молем, у которого нашли фигурку Маргариты с короной на голове. Магические действия нет такими, обычно восковыми, фигурками считались способными вызвать страсть или навести порчу. Было удобно счесть, что фигурка является изображением короля, и суеверная Екатерина даже всерьез приписывала ухудшение здоровья Карла действию колдовских чар. По приказу королевы-матери начались поиски астролога Руджиери, делавшего такие фигурки. Переодетого крестьянином астролога — он пытался укрыться во флорентийском посольстве — доставили к Екатерине Медичи. Она решила его пошалить, рассчитывая, что Руджиери сумеет исцелить короля.
На основе материалов процесса де Ла Моля Карл IX приказал произвести аресты маршалов де Монморанси и де Коссе. Это еще более сплотило «политиков» и гугенотов, началось новое восстание. Английская королева Елизавета ходатайствовала за Генриха Наваррского и герцога Алансонского, но натолкнулась на твердый отказ.
В 1573 году Екатерине Медичи удалось добиться большого успеха — ее любимый сын Генрих был избран на польский престол. Имея у себя в тылу короля из дома Валуа, австрийские Габсбурги должны были теперь занять более осторожную позицию в отношении Франции. Карл IX, желавший избавиться от нелюбимого брата, заставил его ускорить не раз откладывавшийся отъезд в Варшаву. Впрочем, новый польский король только и думал о возвращении в Париж, как только он получит известие о близкой кончине его больного брата.
Карл IX скончался в разгар нового восстания гугенотов 30 мая 1574 года. Спешно вызванный Екатериной из Польши герцог Анжуйский наследовал престол под именем Генриха III. Началась долгая цепь интриг Маргариты против нового короля. Герцог Алансонский и Генрих Наваррский бежали из Парижа.
Во второй половине 70-х годов Генрих III не раз обращался к мысли о войне против Испании, чтобы посадить на трон Нидерландов своего младшего брата Франсуа — герцога Алансонского (потом герцога Анжуйского), немало досаждавшего королю во Франции. А Екатерина Медичи в это же время строила совершенно, как оказалось, нереальные планы женитьбы своего младшего сына на ее собственной племяннице — инфанте Изабелле, дочери Филиппа II, которая должна была принести в качестве приданого Нидерланды.
Что касается королевы Марго, то она будет и дальше участвовать во множестве интриг, примыкая к разным партиям. По настоянию Маргариты один из ее мимолетных любовников убьет 31 октября 1575 года королевского фаворита де Гаста, настаивавшего на решительной борьбе против Испании, а по наушению Генриха III ревнивый муж графини Монсоро и его слуги зарежут другого возлюбленного королевы — легендарного дуэлянта Бюсси. Таких драматических эпизодов будет еще немало в жизни «жемчужины Валуа», «волшебницы», «новой Минервы», как именовали королеву Марго придворные льстецы. Впрочем, ее обаянию поддавались Ронсар и Малерб, Брантом и Монтень, и ей сопутствовала слава покровительницы наук.
В июле 1585 года Маргарита Валуа покинула мужа, чтобы присоединиться к католическому лагерю, и заперлась в крепости Ажан в центре протестантского Юго-Запада, обратившись за помощью к Гизам и Филиппу 11. Помощь, однако, запоздала, и крепость была взята штурмом войсками Генриха Наваррского. Маргариту заключили в крепость Юсон, откуда она бежала с помощью агента Гизов, однако лишь для того, чтобы вскоре быть снова схваченной и возвращенной под стражу. Филипп 11 обвинял Генриха 111 в помощи Генриху Наваррскому при захвате Ажана, а французский король упрекал испанцев за помощь королеве Марго не только деньгами, но и солдатами-арагонцами. Маргарите пришлось испытать многие превратности судьбы (ее мать даже подумывала об убийстве дочери, чтобы женить Генриха Наваррского на какой-то из своих родственниц), снова и снова менять возлюбленных, один из которых убил другого на глазах у королевы. Подобный же случай потом повторился, и на этот раз убийце отрубили голову по просьбе самой Маргариты. К этому времени Генрих Наваррский стал Генрихом IV, а Марго сумела выторговать крупные уступки за свое согласие на развод. В последний раз ее судьба соприкоснулась с большой политикой, когда королева Марго оказалась замешанной, правда, косвенно, в заговоре, приведшем к убийству Генриха IV (об этом будет говориться дальше). Она умерла в 1615 году, когда ее политическая роль была уже давно сыграна.
ТРИ ГЕНРИХА
Во Франции во время растянувшихся на полвека религиозных войн изредка прибегали к оружию политических процессов. Осенью 1572 года в Париже происходил суд над Брикмо и Кавенем — двумя приближенными лидера гугенотов адмирала Колиньи, убитого 24 августа, в кровавую Варфоломеевскую ночь. 21 октября они были повешены на Гревской плошали в присутствии членов королевской семьи. Был совершен и обряд казни над изображением Колиньи. Цель этого процесса и казней была не совсем обычная — утвердить официальную версию событий Варфоломеевской ночи. Ведь гугеноты считали ее заранее подготовленной бойней безоружных людей. (Даже если решение об избиении было принято королем Карлом IX и стоявшей за ним королевой-матерью Екатериной Медичи внезапно, как склонна считать новейшая историография, оно было подготовлено годами проводившимся натравливанием парижского населения на еретиков.) Процесс приближенных адмирала должен был доказать и Франции, и иностранным державам недоказуемое. Варфоломеевская ночь была якобы карой, которая обрушилась на мятежников, составивших заговор против короля.
В течение двух с лишним десятилетий, отделяющих Варфоломеевскую ночь от окончания гражданских войн, партия «политиков» не прекращала своих попыток достигнуть компромисса внутри страны и вывести таким путем Францию из векового конфликта. В 1575 году им удалось на юге Франции, в Лангедоке, создать администрацию, обязавшуюся соблюдать веротерпимость, а в 1576 году добиться от Генриха 111 издания так называемого эдикта в Болье, который разрешал гугенотам исповедовать свою религию повсюду, за исключением Парижа.
В октябре 1584 года в Париж прибыл новый испанский посол дон Бернардино де Мендоса. Может быть, это событие и не слишком бы обратило на себя внимание современников, если бы не прошлое этого посланца Филиппа II и обстановка во Франции, раздираемой религиозными войнами.
Дон Бернардино уже сумел зарекомендовать себя одним из наиболее опасных, решительных исполнителей воли Филиппа II, одним из самых верных слуг испанской великодержавной политики. Мендоса успел побывать послом в Англии и в течение целых шести лет — с 1578 по 1584 год — являлся центральной фигурой во всех католических заговорах, направленных на свержение Елизаветы.
Ко времени прибытия дона Мендосы в Париж положение там обострилось до крайности. Три крупные силы находились в состоянии неустойчивого равновесия, то и дело переходившего в вооруженные стычки. Во-первых, слабый, совершенно дискредитировавший себя в глазах подданных последний Валуа — Генрих Ill, которым руководила его мать властная Екатерина Медичи. Во-вторых, гугеноты — французские протестанты, тесно связанные с восставшими Нидерландами. Признанным главой гугенотов был король небольшого пограничного королевства Наварры Генрих, претендовавший на то, чтобы стать наследником французского престола. В-третьих, Католическая лига, находившая широкую поддержку в Центральной и Северной Франции, опиравшаяся на Париж и Орлеан. Глава Католической лиги герцог Генрих Гиз также мечтал о королевском престоле.
Лига была очень пестрым конгломератом сил — аристократии, пытавшейся оградить свою независимость от короны, буржуа отдельных городов, отстаивавших свои средневековые привилегии, даже городских низов, искавших под религиозным знаменем выхода из отчаянной нужды, которая все более усугублялась многолетней междоусобицей. Однако все это было густо замешено на слепом католическом фанатизме. Его неустанно подогревали иезуиты, доминиканцы и другие церковные проповедники, являвшиеся по сути дела преданными агентами испанской монархии.
Королевская партия, в свою очередь, могла утверждать, что «сатанинскими» идеями убийства монархов лигеры продают свою родину Францию испанцам. И действительно, руководители Католической лиги все более превращались в орудие испанской политики. Вечно нуждавшийся в деньгах герцог Гиз был готов к услугам в обмен на испанское золото. С конца 1581 года в секретной переписке Филиппа II Генрих Гиз фигурировал как Геркулес, а с апреля 1584 года — как Луцио. Гиз стал систематически получать испанские субсидии примерно с сентября 1582 года.
Постоянные тайные контакты — и личные, и путем переписки — поддерживала с послом испанского короля доном Мендосом и сестра Гиза — деятельная герцогиня Монпансье, прозванная Фурией лиги. Одним из важных направлений активности испанской дипломатии стали попытки расколоть влиятельную партию «политиков» и переманить на свою сторону ее наиболее видных лидеров. Особые усилия начиная с 1582 года Филипп II предпринимал, чтобы добиться перехода в лагерь лиги полунезависимого губернатора провинции Лангедок герцога Генриха Монморанси. Ему предоставили крупную денежную субсидию, соблазняли возможностью создать прочный союз Гизов и Монморанси путем брака между их детьми. В конечном счете эти усилия оказались напрасными, и Монморанси постепенно перешел в лагерь противников лиги.
Еще до приезда Мендосы во Францию испанские дипломаты Тассис и Морео заключили в декабре 1584 года в Жуанвиле тайный договор с лигой, представленной герцогом Майеннским, младшим братом Генриха Гиза. По этому договору обе стороны обязывались препятствовать воцарению во Франции «еретика» Генриха Наваррского, способствовать всеми силами искоренению протестантизма во Франции и Нидерландах, возвращению испанскому королю городов, которые он считал своими и которые находились в руках Генриха 111 (Камбре и др.). Лига соглашалась отказаться от традиционных союзных отношений Франции с Турцией, направленных против Испании, признать испанскую монополию на торговлю с Новым Светом и т. д. Взамен Филипп II обещал выплачивать руководителям лиги ежемесячную субсидию в 50 тыс. эскудо для ведения войны против ее врагов. Лига обязалась также способствовать тому, чтобы ряд владений Генриха Наваррского, юридически находившихся за пределами французской территории (Нижняя Наварра и Беарн), были переданы Филиппу II.
Генрих III, король Французский.
Гравюра Иоанна Вьеркса.
Жуанвильский договор был важным, но еще только первым шагом на пути превращения лиги в послушное орудие испанской политики и позднее — в прямую агентуру Филиппа во Франции. Он еще не предусматривал ни передачи французского престола Габсбургам, ни привлечения испанских войск для участия в религиозных войнах, раздиравших Францию. Но начало было положено. А Мендоса, официально аккредитованный при Генрихе III, стал важнейшей закулисной фигурой, направлявшей всю деятельность Католической лиги.
Прежде всего Мендоса занялся созданием разветвленной шпионской сети во Франции, которая позволяла ему быть в курсе быстро менявшихся отношений между различными партиями и группами. Так, переговоры, начавшиеся весной и летом 1585 года между Екатериной Медичи и Генрихом III, с одной стороны, и руководителями лиги — с другой, велись через посредство придворного врача Франсуа Мирона, который, по всей видимости, стал и главным осведомителем Мендосы о содержании этих переговоров. Мендоса установил тесные связи и с главными министрами короля — Вильруа и другими, которые, не превратившись прямо в испанских агентов, тем не менее снабжали посла ценнейшей информацией обо всем, что происходило во французских придворных и правительственных кругах.
Генрих III, устрашенный быстрым ростом влияния лиги, пытался ввести в восточные районы Франции отряды швейцарских и германских наемников, но Гизы сумели не допустить этого. Король уединился в Лувре, окружив себя новой охраной — 45 дворянами, преимущественно гасконцами, о чем читателю, вероятно, известно прежде всего из популярного романа А. Дюма «Сорок пять». Екатерина Медичи весной и в начале лета 1585 года постаралась достигнуть соглашения с вождями лиги (о ходе этих переговоров дона Мендосу регулярно информировал его тайный агент — личный лекарь короля Франсуа Мирон).
7 июля в Немуре был заключен договор между Екатериной и главами Католической лиги. Он был уже на другой день ратифицирован Генрихом III. Немурский договор являлся полной капитуляцией короны перед требованиями лиги. Он предусматривал отмену всех прежних королевских эдиктов, содержавших уступки гугенотам, запрещал исповедание во Франции любой другой религии, кроме католической; все протестантские священники должны были в течение месяца покинуть пределы страны, «еретикам» запрещалось занимать любые общественные должности. По одной из статей договора все королевские подданные в течение полугода должны были объявить о своей приверженности католичеству или быть изгнанными из страны. Захваченные гугенотские крепости, включая Верден, должны были быть переданы Гизам и их сторонникам. Казалось, чего могли еще желать в Эскуриале? Генрих III всячески стремился добиться от Филиппа II одобрения договора. В беседе с доном Мендосой король говорил, что «такое святое и справедливое» соглашение приведет и к сближению обоих королевств. В действительности дело обстояло иначе.
Немурский договор содержал, хотя и выраженное в крайне осторожной и ненавязчивой форме, обещание Гиза порвать соглашения, заключенные с иностранцами. Вдобавок герцог Гиз, заключая договор, не уведомил об этом предварительно Испанский двор и не испросил его согласия. Дон Мендоса, пересылая Филиппу II копию Немурского договора, писал, что «действия лигеров были продиктованы, скорее, их собственными интересами, чем религиозным рвением». Филипп стал даже опасаться, что Генрих III и Гизы, одержав объединенными усилиями победу над Генрихом Наваррским, сделаются слишком сильными по отношению к Испании. Иначе говоря, полное сокрушение гугенотской ереси во Франции может пойти вразрез с мечтами о создании вселенской монархии с центром в Мадриде. Вероятно, именно это обстоятельство трезво учел только что избранный папа Сикст V, ненавидевший и боявшийся испанцев. Не доверяя Гизам, папа тем не менее решительно одобрил договор и в сентябре 1585 года издал буллу, в которой главы гугенотов Генрих Наваррский и прини Конде отлучались от иеркви как лииа повторно, после раскаяния, впавшие в ересь, и объявлялись лишенными прав на наследование престола. Однако соглашение между Генрихом III и лигой было далеко не прочным, и Гиз счел благоразумным полностью сохранить свои испанские связи. Опасения Мендосы рассеялись.
В свою очередь, Генрих III был также далеко не в восторге от соглашения, ставившего его в сильнейшую зависимость от лиги. Задачей дипломатии Филиппа II стало поэтому не допустить ни в коем случае возможного примирения Генриха с протестантами, к которому тот склонялся под предлогом, что сумеет убедить Генриха Наваррского отказаться от ереси. Секретные переговоры двух Генрихов велись через посредство командующего королевскими войсками маршала Бирона. Генрих III не подозревал, что Мендосе удалось установить дружеские отношения с маршалом и добывать у него нужные сведения о ходе переговоров. Переговоры продолжались до конца года, но, приводя к мимолетным успехам, вроде заключения недолгого перемирия, окончились неудачей.
Весной 1588 года лигеры готовились к похищению короля, с тем чтобы заключить его в крепость. Планы лигеров были выданы Генриху III его шпионом Николя Пуленом, чиновником парижского городского управления и видным лигером, пользовавшимся полным доверием Гизов. Однако король отказался поверить сообщению Пулена, тем более что губернатор Парижа Вилькер убедил его, что Пулен — агент Генриха Наваррского, стремившегося вбить окончательный клин между королем и лигой. Король ограничился приказом Гизу покинуть бурлившую столицу.
Между тем для Испании было важнее, чем когда-либо, полностью обессилить Генриха III. Великая армада собиралась в путь. Ей крайне необходимо было иметь возможность заходить по пути во французские гавани, спасаясь от опасных штормов в Атлантике. Кроме того, герцог Пармский мог посадить свою армию на корабли армады только в том случае, если он получил бы гарантию от удара во фланг со стороны Франции. В марте 1588 года Филипп II отправил Гизу сразу 300 тыс. эскудо; этих денег должно было хватить, чтобы полностью связать руки французскому королю. Одновременно испанские дипломаты пообещали Гизу, что, как только он захватит Генриха III, Мадридский двор порвет официальные отношения с французским королем и признает Гиза и лигу временным правительством Франции впредь до возведения на престол их кандидата — безличного кардинала Бурбона. В случае успеха Филипп II обещал, что в распоряжение Гиза будет сразу же предоставлена армия численностью в 6 тыс. пехотинцев и 1 тыс. кавалеристов, а также дополнительная субсидия в 300 тыс. эскудо.
Гибель армады отнюдь не привела к ослаблению активности Мендосы. Скорее, напротив. Еще до этого испанской дипломатии удалось с помощью золота Филиппа и его обещаний главарям лиги организовать выступление фанатизированного духовенством парижского населения против Генриха III. Этот день баррикад (9—12 мая 1588 года) закончился полной победой лигеров и бегством Генриха из мятежной столицы. Однако именно бегство короля сделало победу лиги далеко не полной. В Блуа были собраны Генеральные штаты, на которых, правда, король шаг за шагом должен был отступать перед требованиями делегатов-лигеров. Бегство Генриха из Парижа спутало планы лигеров и сильно обеспокоило Филиппа и его наместника в Нидерландах Александра Пармского. Иной была позиция папы Сикста V, выразившего неудовольствие малодушием французского короля, который, по мнению римского первосвященника, должен был бы вызвать к себе герцога Гиза, «отрубить ему голову и выбросить ее на улицу», после чего, уверял папа, быстро воцарился бы порядок.
Как бы то ни было, Генрих не забыл совета, поданного ему из Рима. Правда, первоначально он действовал с крайней осторожностью. Достаточно осведомленный своими лазутчиками, король знал о роли испанского посла в организации мятежа лиги, союзницы Филиппа. Генрих приказал французскому послу в Мадриде письменно выразить протест против участия Мендосы в подготовке парижских событий. В ответ Филипп II не только не осудил дона Мендосу, но, напротив, высоко отозвался о его рвении в защите интересов католической религии и упрекал французского короля за отсутствие у него такой же преданности святому делу. Этот ответ был по сути дела формальным заявлением Филиппа о присвоенном им «праве» на вмешательство во внутренние дела Франции под предлогом зашиты интересов лагеря контрреформации. Тем не менее Генрих III все же не рискнул пойти на открытый разрыв с Испанией.
«День баррикад» вызвал перегруппировку политических сил во Франции. Группа «политиков» значительно более откровенно и резко выступила против лиги, осознав растушую опасность ее действий для единства и независимости Франции. Армия короля и присоединившиеся к ней войска гугенотов осадили Париж. Генрих вызвал к себе в Блуа герцога Гиза и приказал своим телохранителям убить главу лигеров. В кармане герцога нашли его письмо Филиппу II, в котором указывалось: «Для ведения гражданской войны требуются ежемесячно 700 тысяч ливров».
После убийства Гиза война между Генрихом III и Католической лигой продолжалась. Во главе лиги встали младший брат Гиза герцог Майеннский и его сестра герцогиня Монпансье, которые решили любой ценой разделаться с ненавистным королем, последним представителем династии Валуа. Его смерть открыла бы Гизам дорогу к трону.
Орудием осуществления замысла Гизов был избран доминиканский монах, 22-летний Жак Клеман. Это был резкий, решительный и вместе с тем туповатый малый, целиком находившийся во власти самых нелепых суеверий. Приор монастыря на улице Святого Якова убедил Клемана в том, что ему предопределено совершить великий подвиг для блага церкви. Монаху даже внушили, что он обладает чудесной силой делать себя невидимым для чужих глаз.
Когда королевская армия подошла к Парижу, Клеман сам заявил своим духовным начальникам, что стремится совершить великое дело. Осторожно, не спрашивая о существе дела, приор постарался укрепить брата Клемана в его решимости. Ходили слухи, что для «верности» ему дали какое-то наркотическое средство. Клемана также представили герцогине Монпансье. Несмотря на свою нескладную фигуру и короткие ноги, роскошно разодетая аристократка произвела большое впечатление на молодого монаха и постаралась убедить Клемана ни в коем случае не оставлять своего похвального намерения. В ход были пушены все средства обольщения, обещание кардинальской шапки и вечного блаженства на небесах. Кроме того, добавляла герцогиня, она прикажет арестовать в качестве заложников большое число сторонников Генриха III, так что никто не осмелится в королевской ставке и пальцем тронуть Жака. Вскоре монах узнал, что герцогиня сдержала свое слово — были взяты под стражу 300 лиц, обвиненных в равнодушии к делу Католической лиги и в скрытом сочувствии партии короля.
Клеман поспешил к приору и попросил разрешения перебраться в монастырь в Сен-Клу, где находилась королевская штаб-квартира. Приор, ни о чем не расспрашивая Клемана, достал ему пропуск на выезд из Парижа и передал несколько писем (одно — настоящее, остальные — подложные) от арестованных в Париже сторонников Генриха III.
Заговорщик отправился к королю под видом секретного гонца от противников лиги. Придворные поверили его рассказу и на следующий день устроили ему аудиенцию у Генриха, которому посланец обещал открыть важную государственную тайну. Клеман передал королю письмо, а затем вонзил нож в его живот.
«Проклятый монах, он убил меня!» — в ужасе закричал Генрих. Клеман даже не пытался бежать, твердо надеясь на чудо. Прибежавшая стража в ярости подняла его на пики. На следующий день, 2 августа 1589 года, Генрих III умер…
Римский папа Сикст V публично изобразил убийство как святое дело, исполнение воли Провидения. Однако, как мы знаем, Сикст V вовсе не собирался целиком солидаризироваться с испанской политикой, так как не менее других страшился установления гегемонии Габсбургов в Европе.
Перед смертью Генрих III завещал престол Генриху Наваррскому. Унаследовав трон, Генрих IV мог опираться на гугенотов и часть вельмож-католиков, державших сторону убитого короля. Другая часть королевской партии колебалась и ставила условием признания Генриха Наваррского его переход в католичество.
Между тем в Париже Мендоса явно сам возглавил руководство лигой, обещая ее формальному главе — герцогу Майеннскому всяческую помощь Испании. Лига провозгласила королем своего кандидата — кардинала Бурбона под именем Карла X. А так как последний находился в плену у своего родственника Генриха Наваррского, он, естественно, не мог ни в какой мере оспаривать действия, совершавшиеся от его имени под диктовку испанского посла. (Любопытно, что сам мнимый «король» выступал за возведение на трон Генриха Наваррского и рекомендовал ему принять католичество.)
Значительно более тревожным был тот факт, что герцог Майеннский и другие вельможи, в отличие от послушных Мендосе парижских лигеров, стали подумывать о компромиссе с Генрихом, в случае если он откажется от протестантства. Подобные же планы еще ранее возникли у Сикста V, что очень взволновало испанскую дипломатию. 28 февраля 1590 года произошла бурная сцена между папой и испанским послом графом Оливаресом, потребовавшим, чтобы Генрих Наваррский навсегда оставался отлученным от церкви. В ответ раздраженный первосвященник вскричал: «Его величество претендует предписывать нам законы поведения? Пусть остерегается: мы его отлучим от церкви и поднимем против него народы Испании и других стран!». В конце концов конфликт был кое-как улажен, а 27 августа Сикст V скончался. За две недели до смерти он сказал венецианскому послу: «Эти испанцы убивают меня». Он имел в виду, вероятно, жаркие словесные схватки с испанскими дипломатами. Однако эти слова могли иметь и другой смысл; недаром современники подозревали, что Сикст V был отравлен иезуитами не без поощрения со стороны Мадрида. В Париже один священник публично объявил в проповеди, что смерть Сикста — «одно из великих благодеяний и чудес», совершенных Богом для избавления Франции. Новый папа Григорий XIV предпочел следовать курсу мадридской политики.
Летом 1590 года войска Генриха IV осадили Париж — главный опорный пункт лиги. Филипп II, невзирая на то, что он после разгрома армады понес потери и что его армия в Нидерландах была полностью занята борьбой с голландцами, принял решение о новой интервенции. Александру Фарнезе было предписано идти на выручку парижских лигеров, несмотря на угрозу, что голландские «еретики» постараются вести наступление против занятой испанцами южной части Нидерландов.
В конце августа 1590 года армия Александра Пармского повернула на юг и ускоренными маршами двинулась на Париж. Началась открытая вооруженная интервенция Испании в поддержку лиги. Александр Фарнезе в этом походе снова продемонстрировал свой недюжинный талант лучшего полководца того времени. Искусными маневрами он принудил Генриха IV снять осаду Парижа и отступить в Нормандию. Укрепив положение лиги, герцог Пармский поспешил обратно во Фландрию для продолжения борьбы против голландцев.
Лига была спасена от крушения, но положение ее оставалось шатким. Ее «король» в это время умер в плену.
Не сумев взять Париж осадой, Генрих IV прибегнул к более гибкой тактике, пытаясь отрезать все линии связи столицы с внешним миром. Особое значение приобрела борьба за Руан, окруженный армией Генриха в конце 1591 года. Потребовалась новая вооруженная интервенция Испании, чтобы сохранить город для лиги. В марте 1592 года отборные ветераны Александра Пармского сумели обойти осаждавших и войти в Руан. После этого, однако, испанцы снова должны были быстро отступить в Бельгию, а Александр Фарнезе, как уже указывалось, умер в декабре 1592 года от раны, полученной в одном из сражений этой кампании.
Тем временем в Париже испанская дипломатия продолжала лихорадочные усилия, чтобы сохранить свои позиции. В январе 1593 года были собраны делегаты от территорий, находившихся под контролем лиги, которые объявили себя Генеральными штатами Французского королевства. Новый испанский посол Фериа сначала попытался добиться у них отмены салического закона и провозглашения инфанты королевой Франции. Он натолкнулся на решительный отказ, свидетельствовавший о быстром нарастании оппозиции к испанским домогательствам даже среди лигеров. Тогда, сменив тактику, Филипп II поручил Фериа добиваться возведения на престол молодого герцога Карла Гиза и одновременного заключения им брака с испанской инфантой. Это был по существу лишь слегка прикрытый план утверждения полного испанского господства над Францией. Он встретил быстро усиливавшееся сопротивление среди испанской партии, не говоря уже о других группировках лиги.
Дальновидный политик Генрих IV понял, что настало время для решительного шага. Его переход в католичество должен был обеспечить ему поддержку большинства лигеров, все дальше отходивших от испанской партии.
ГЕНРИХ IV — «ПАРИЖ СТОИТ ОБЕДНИ»
В июле 1593 года Генрих присутствовал на торжественной мессе, что означало принятие им католичества. Именно тогда была брошена им (или приписана ему) знаменитая фраза: «Париж стоит обедни». Хотя часть лигеров и иезуиты громко доказывали неискренность обращения закоренелого еретика, ряды их сторонников редели. И еще через полгода Париж открыл ворота королю, против которого выступал в течение многих лет. Теперь оставалось лишь с помощью оружия, земельных и денежных подачек побудить к подчинению еще сопротивлявшихся вельмож — сторонников лиги. На это ушли последующие два-три года. В январе 1596 года капитулировал и глава лигеров — герцог Майеннский.
Смена Генрихом IV — третьей по счету — веры была чисто политическим шагом. Филипп II убеждал всех, и особенно нового папу Климента VIII, не верить «раскаянию» еретика. Однако в Риме, хотя и тянули более года с признанием возвращения Генриха в лоно католицизма, делали это больше в угоду Филиппу II, чтобы открыто не ссориться с ним. А в целом папский престол был явно доволен маневром Генриха, который наносил окончательный удар по планам Мадридского двора. Поэтому после посещения испанского посла, уговорившего Климента VIII не вступать в соглашение с Генрихом, папа нравоучительно заметил: «Небо более радуется одному покаявшемуся грешнику, чем тысяче праведников». В сентябре 1595 года с Генриха было снято отлучение, и Климент VIII направил к нему своего посланиа с письмом, в котором выражал радость по поводу столь счастливого события. доказывающего всеблагость Провидения…
Наиболее упорными оказались иезуиты. 27 декабря 1595 года король принимал приближенных, поздравлявших его с победой.
Не менее 19 раз совершались покушения на жизнь Генриха IV. В него метили направляемые иезуитами кинжал и пуля. 27 декабря 1595 года к королю, принимавшему придворных, подбежал неизвестный и попытался сразить ударом ножа в грудь. Убийца промахнулся — Генрих как раз в эту минуту наклонился, лезвие скользнуло по лицу и вышибло королю зуб. Покушавшийся Жан Шатель был орудием иезуитов — отцов Гиньяра и Гере. Гиньяра казнили, а иезуитов выгнали из Франции. Но через восемь лет, в 1604 году, Генрих вернул их во Францию и даже сделал одного из членов ордена — отца Коттона — своим духовником.
В январе 1595 года Генрих IV мог уже официально от имени Франции объявить войну Филиппу II. Она длилась еще три года. 2 мая 1598 года по мирному договору в Вервене границы между Францией и Испанией были за немногими частностями восстановлены в том виде, какой они имели до религиозных войн. Дипломатическая и вооруженная интервенция Филиппа II во Франции, растянувшаяся более чем на полтора десятилетия, окончилась полным провалом. Через четыре месяца после заключения договора в Вервене Филипп II умер. Но в Мадриде все еще не собирались отказываться от мысли о новой интервенции. А для подготовки ее прибегали к испытанному оружию — тайным заговорам и политическим убийствам. Если в какой-то момент орден и испытывал колебание — стоит ли продолжать с полной силой борьбу против бывшего еретика, занявшего французский престол, — то испанская политика, напротив, активизировалась. Испанский губернатор Милана граф Фуентес продолжал плести сети новых заговоров против Генриха IV. Он заявил в 1602 году агенту руководителя одного из таких заговоров маршала Бирона: «Первое дело — убить короля. Надо устроить это так, чтобы уничтожить всякие следы соучастия».
Генрих IV, король Французский
Гравюра И. Гольниуса
Генриху IV приписываются слова о том, что он не верит в три вещи: в невинность Елизаветы I, именовавшейся «королевой-девственницей», в полководческие таланты эрцгерцога Альберта, правителя Испанских Нидерландов, и в то, что преемник короля Филиппа II — Филипп III — является добрым католиком. Действия главных сил контрреформации стали приобретать характер уклончивой неопределенности. Наиболее крайний лагерь — Габсбурги, папство, иезуитский орден — по-прежнему ставил непосредственной целью устранение Генриха IV.
Победив своих врагов, Генрих IV стал проводить политику, направленную на решение двух задач — восстановление экономики страны, разрушенной во время религиозных войн, и укрепление королевской власти.
При решении второй задачи Генриху сразу же пришлось столкнуться с сопротивлением вельмож, в том числе и тех, которые сражались на его стороне против Католической лиги.
Правление Генриха IV резко изменило соотношение сил в Европе. Окончились религиозные войны, обессилившие Францию. Генрих и его главный министр Рони, получивший титул герцога Сюлли, провели различные меры, несколько облегчившие нестерпимый налоговый гнет и положение крестьянства. Экономически истощенная страна начала оправляться, стала на путь нового экономического подъема. Отсюда и та несомненная популярность Беарнца (так называли Генриха по месту его рождения). В народной памяти сохранился полусказочный образ «короля Анри», не очень притеснявшего народ, смелого полководца и веселого гуляки, любившего доброе вино и красивых женщин — совсем как герои старика Рабле.
В конце своего правления, когда Генриху давно перевалило за пятьдесят лет, он уже являлся почти легендарной фигурой. Этот коренастый могучий человек, с густой шевелюрой, не тронутой временем, со сверкающим взором, звучным голосом и белой бородой, окаймляющей живое лицо, которое часто озаряла хитроватая усмешка, привлекал внимание всей Европы. Временами казавшийся беззаботным прожигателем жизни, делившим свои часы между охотой и любовными приключениями, гасконец справедливо считался одним из лучших полководцев эпохи (это доказывали многочисленные сражения, которыми он проложил себе путь к престолу), проницательным политиком, опытным администратором и, что особенно важно, зорким дальновидным дипломатом, умело использовавшим выгоды своего положения. Генрих твердо знал свою цель — ликвидацию гегемонии испанских и австрийских Габсбургов, зажавших в клеши Францию. Ему было отлично известно, что для достижения этой цели можно мобилизовать такие разнородные силы, как английского короля Якова 1 («Самого умного дурака во всем христианском мире», — как говорили тогда), голландские Генеральные штаты или протестантских князей Германии, швейцарские кантоны и наместника святого Петра, не порывая до поры до времени связей с Мадридом, обсуждая с министрами Филиппа III планы династических браков, которые должны были связать семейными узами Бурбонов и Габсбургов. Генрих IV все больше становился арбитром в столкновениях между европейскими странами, накапливая силы и поджидая удобного момента для решительной схватки, которая должна был» увенчать дело его жизни. А в Мадриде отлично понимали, что устранение Генриха необходимо для осуществления новых попыток утверждения испанской гегемонии в Европе, восстановления утраченного влияния на французские дела. Надежда на успех еще не была потеряна.
В самой Франции далеко еще не все было спокойно. Побежденные сторонники лиги продолжали с настороженностью смотреть на короля, уже неизвестно сколько раз менявшего свою религию и введшего веротерпимость. Остряки утверждали, что Генрих, бывший попеременно то католиком, то протестантом, «имел больше веры, чем все его предшественники». Гасконец даже иронически спросил одного из своих приближенных, проделавших с ним бесчисленные суровые походы прежних лет:
— Почему я обладал таким аппетитом, когда я был королем Наварры и у нас почти не было чего есть, а теперь, когда я король Франции, мне ничто не по вкусу?
— Это потому, государь, — отвечал находчивый придворный, — что вы тогда были отлучены от церкви, и в качестве отлученного ели, как дьявол.
И оба собеседника громко расхохотались.
Нет, это совсем не был государь во вкусе иезуитов. Конечно, покушения прежних лет ушли в прошлое. В 1604 году Генрих допустил иезуитов обратно во Францию, а один из влиятельных членов ордена, сладкоречивый интриган отец Коттон стал даже одним из духовников короля. Этот иезуит, видимо, вкравшийся в доверие Генриха, был своего рода послом от католической партии, внимательно следившей за всеми тайными маневрами и планами недавнего еретика, занявшего трон Валуа. Быть может, однако, Генрих держал при себе Коттона, чтобы дурачить «общество Иисуса»? По просьбе Генриха орден даже осудил ряд сочинений, написанных усердными фанатиками, в которых содержались оправдания убийства монарха, если он выступал против интересов католической церкви. Однако были осуждены не все такие сочинения, да и влияние этих книг, во множестве появлявшихся в прошлые годы, нельзя было уничтожить формальным порицанием. А в искренности его можно было вдобавок усомниться, узнав, что святые отцы по-прежнему берегли как реликвию зуб Жана Шателя, который попытался убить Генриха. Отдельные иезуиты продолжали демонстративно осуждать распутную жизнь короля. Да к тому же нельзя, по правильному замечанию одного историка, обязательно приписывать иезуитам инспирирование всех политических убийств той эпохи. Были ведь еще и доминиканцы, и капуцины, и другие ордена, каждый из которых легко мог направить руку будущего Клемана или Шателя. В 1607 году полиция обнаружила, что некий нормандский дворянин Сен-Жермен де Ракевилль вместе с женой и слугами пытались волшебством извести Генриха, производя различные магические манипуляции над изображениями короля. В то суеверное время мало кто сомневался в действенности таких средств. Ракевиллю отрубили голову на Гревской площади, были казнены и большинство его сообщников, но под многими крышами Парижа продолжались попытки погубить Генриха, протыкая иглой восковую фигурку, изображавшую нечестивого гасконца.
Огорчительная неприятность произошла и с самим достопочтенным отцом Коттоном, исповедником короля, видимо, окончательно запутавшимся в лабиринте придворных интриг. Однажды к Сюлли, известному противнику иезуитов, зашел друг Жак Гийо, советник парижского парламента, и принес ему любопытную бумагу. Он обнаружил ее в книге, одолженной у отца Коттона. В бумаге содержался длинный список вопросов, которые королевский духовник собирался поставить дьяволу, вселившемуся в некую Адриенну де Френ из Пикардии. Иезуит хотел разузнать у Сатаны все, что князю тьмы было известно по широкому кругу проблем, начиная от того, как поили животных в Ноевом ковчеге и какие сыны Божьи влюблялись в дочерей человеческих, и кончая способами обращения английского короля Якова I в католичество. Однако это было всего лишь проявлением природной любознательности. А по долгу службы отец Коттон собирался специально допросить владыку преисподней, что надлежит сделать для заключения прочного мира с Испанией… Генрих лишь пожал плечами, когда Сюлли принес ему опросный лист отца Коттона, и попросил держать дело в тайне. Правда, тот не выполнил просьбы, и придворные немалое время трепали доброе имя иезуитского исповедника. Но король, несмотря на все, стремился сохранить, хотя бы внешне, хорошие отношения с могущественным орденом.
Ему удалось в том смысле, что разведка иезуитов не была уже, как прежде, простым ответвлением тайной дипломатии Габсбургов. Однако испанская секретная служба во Франции нисколько не ослабила своей активности. Ею руководил в эти годы энергичный испанский губернатор Милана граф Фуентес, решительный сторонник продолжения великодержавной политики Филиппа П. Не было ни одного из нередких заговоров во Франции против Генриха, нити которого не тянулись бы в Милан, во дворец испанского наместника. Генрих отвечал в 1605 году попытками организовать в Валенсии восстание морисков (принявших католицизм испанских мавров), которых должны были поддержать их соплеменники из Африки. Однако в последние годы своего правления гасконец сам создал дополнительные возможности для действия неутомимого герцога Фуентеса. Волокитство Генриха, по-прежнему, как и в молодые годы, не пропускавшего ни одной красивой женщины при дворе, не раз превращало его, теперь уже пожилого человека, в персонаж какой-то нелепой комедии. Конечно, не стоило бы обращаться к этой теме, с таким рвением изученной французскими буржуазными историками, если бы не одно обстоятельство. Амурные дела неисправимого селадона, чем дальше, тем больше, приобретали немаловажное политическое значение.
Французские историки насчитали у Генриха IV 57 любовниц и 19 покушений на его жизнь. Обе эти линии, неизменно сопутствовавшие Генриху до гробовой доски, часто оказывались тесно связанными друг с другом. Некоторых из королевских фавориток (например, Габриэль д’Эстре), вероятно, отравили католики. В истории не раз случалось, что враждебные политические силы выступали под знаменем зашиты прав соперничавших представителей правящей династии. В соответствии с обстановкой такие враждебные группировки в годы правления Генриха стали формироваться вокруг наиболее влиятельных королевских фавориток. К их числу относилась надменная Генриетта д’Антрег. Она, ее мать — Мария Туше, бывшая некогда любовницей Карла IX, и их жадное семейство постарались извлечь все возможные выгоды из королевского увлечения. 100 тыс. экю и титул маркизы де Верней были лишь началом. В пылу страсти Генрих, потеряв свою обычную осторожность, дал письменное обещание жениться на фаворитке. Разумеется, король и то; гда не собирался выполнять это обязательство, однако оно легко могло быть использовано сеятелями смуты. Первый жар чувств вскоре угас, и Генрих, не принимавший своего обещания всерьез, поручил министрам вести переговоры о браке с племянницей великого герцога Тосканского. Когда же новоиспеченная маркиза, узнав об этих переговорах, потребовала от своего возлюбленного выполнения своего обещания, король предложил ей временно отдать драгоценный документ на сохранение знакомому капуцину отцу Илеру, который должен был переслать бумагу самому римскому папе. Получив ее, вкрадчиво уверял маркизу ее лукавый любовник, церковь решительно выступит против тосканского брака, что обречет его на неудачу. На деле Генрих надеялся как раз на противоположное: - обещание, выпушенное из изящных рук маркизы, никак не попадет в цепкие длани наместника Христова. Ведь Генрих намеревался добиться через своего посла, чтобы капуцина арестовали у ворот Рима и отобрали роковую бумагу. Однако поистине гладко было на бумаге… Фаворитка оказалась хитрее, чем это предполагал Генрих, и, не попав в подготовленную ловушку, отказалась передать королевское обязательство монаху. Более того, несколько позднее король сам едва не очутился в изобретенной им западне: по поручению маркиза отец Илер все же отправился в Рим к папе, чтобы добиться от него запрещения брака короля с флорентийкой, дочерью герцога Тосканского. С трудом удалось французскому послу кардиналу д’Осса, нажав на все пружины, добиться того, чтобы неудобного капуцина упрятали в монастырь.
В результате семейство д’Антрег: ее отец и сводный брат — сын Карла IX граф Овернский, — приняло участие в заговоре маршала Бирона, а в 1604 году устроило и свой заговор. Они ставили целью убить Генриха и возвести на трон малолетнего сына фаворитки Генриха — Гастона. Заговор был раскрыт, отец и брат маркизы брошены в Бастилию и приговорены к смерти, а она сама заточена в монастырь Бомон Ле Тур. Однако вскоре желание уладить ссору с любовницей взяло верх, и Генриетта вернулась в Париж, отец ее был прошен и выпушен на свободу, а более опасный интриган — граф Овернский помилован, но оставлен в Бастилии. Произошло внешнее примирение, но упрямая маркиза не оставила своих планов. Она с помощью родни взялась за создание собственной партии, вербуя в нее феодальных вельмож, недовольных возрастанием королевского абсолютизма. Секретная служба маркизы Верней, как и полагалось по схеме, завязала, конечно, связи с Испанией, которая тайно признала Гастона законным наследником французского престола. Маркиза заимела своих агентов и среди приближенных новой королевы — Марии Медичи.
Это имя еще со времен ее родственницы — Екатерины Медичи — было хорошо известно как во Франции, так и во Флоренции. С известного портрета Марии на нас смотрит крупная, белотелая, почти тучная женщина с круглыми невыразительными глазами, в которых легко читались сварливость, леность мысли, взбалмошность, надменное упрямство, составлявшие отличительные черты ее характера. Ношеных придворных коробили ее грубые жесты, неистребимая вульгарность. Флорентийка привезла с собой целую армию слуг и служанок, вплоть до авантюристов всех мастей, астрологов, соглядатаев и брави — наемных убийц, привлеченных надеждой сделать быструю карьеру при французском дворе. Среди приближенных Марии наибольшее значение имела молочная сестра королевы, карлица Леонора Лори, со смуглым лицом, покрытым ранними морщинами и обезображенным пятнами, которая перед отъездом во Францию приняла аристократическое имя Галигаи. Болезненная, подверженная истерическим припадкам, убежденная, что ее заколдовали, Галигаи пыталась скрываться под черной вуалью от дурного глаза. И тем не менее на ней остановил свой выбор красавец Кончино Кончини, прибывший в Париж в числе других искателей приключений. Перед своим отъездом он объявил друзьям, что он ишет на чужбине: богатство или смерть!
Его ожидало там и то и другое. Но смерть пришла много позднее, уже после того, как он стал фактическим правителем Франции во время регентства Марии Медичи, когда пистолет капитана де Витри прострелил ему череп, а голова Галигаи, обвиненной в убийстве Генриха IV, скатилась под секирой палача. А пока что супруги Кончини могли, как хотели, вертеть недалекой супругой короля, значение которой сильно возросло после рождения дофина. Она с восторгом слушала бесчисленные рассказы, которыми развлекал ее Кончини, и щедро делилась с Леонорой тем золотом, которое настойчиво вымогала у скуповатого мужа.
Между Марией Медичи и маркизой Верней шла открытая война. Однако от внимательных наблюдателей не укрылось, что супруги Кончини были готовы за спиной у своей повелительницы завязать связи с партией маркизы. Семейство фаворитов королевы, так же как фаворитка короля, могла только выиграть от устранения Генриха. Генриетта, как уже говорилось, имела своего человека в окружении королевы. Это была пожилая придворная дама — Шарлотта дю Тилле, которая в молодости была любовницей, да и позднее сохранила тесную дружбу с герцогом д’Эперноном. Этот знатный вельможа, всесильный временщик при правлении последнего Валуа, в последний момент религиозных войн переметнулся на сторону Генриха IV, сохранив в результате свои огромные владения и должность королевского губернатора многих важных крепостей. Он с 1595 года был агентом Испании, участвовал и в заговоре Бирона, и в комплотах маркизы Верней, но у Генриха не было прямых доказательств виновности герцога. Генрих не раз задевал интересы д’Эпернона, например, поместив своих солдат в крепости Мец. А главное, герцог втайне презирал выскочку-короля, ненавидел Сюлли, мечтал о первом месте в государстве, которое он мог бы получить как регент при малолетнем дофине. Это был еще один участник пока еще молчаливого союза между главными силами, надеявшимися выиграть от смерти короля. Их объединяла и установленная по разным каналам связь с Мадридом.
Кончини обеспечивали испанский двор подробной информацией, пересылая ее через великого герцога Тосканского. Многое из этих новостей супружеская пара узнавала из-за неосторожности самого Генриха, не всегда умевшего держать язык за зубами.
Однако было ли действительно лишь безмолвным соглашение между Кончини, маркизой Верней и герцогом д’Эперноном?
В Париже жила в это время некая Жаклин — «демуазель» д’Эскоман — так именовали ее, чтобы подчеркнуть, что она не принадлежит к благородному сословию, хотя и носит дворянскую фамилию мужа. Эта уроженка деревни Орфен, некрасивая, с небольшим горбом и прихрамывающей походкой, умела, несмотря на природные недостатки, нравиться мужчинам. У нее был дар вести приятную, остроумную беседу. Впрочем, замужество Жаклин оказалось неудачным. Ее муж, гвардейский солдат, не только жестоко избивал несчастную женщину, но и принуждал заниматься проституцией, а потом бросил ее с ребенком без всяких средств к жизни. Однако Жаклин не растерялась. Отдав ребенка на воспитание, она сумела после нескольких неудач устроиться в дом к сестре маркизы Верней и быстро стать незаменимым человеком в организации любовных свиданий и выполнении других секретных поручений своей хозяйки. А та вскоре уступила столь полезную служанку самой маркизе. Неожиданно для себя Жаклин оказалась в самом центре оживленных политических интриг, которыми продолжала деятельно заниматься бывшая фаворитка Генриха.
В конце 1608 года на Рождество толпа народа заполнила церковь Святого Иоанна на Гревской площади. Под ее высокими сводами гремел голос проповедника отца Гонтье, обличавшего замыслы короля против папы, наглость еретиков, угнетавших верных сынов церкви. Во дворце иезуит Коттон рассыпался в комплиментах, а здесь его собрат по ордену, который славился непоколебимым единством действий, предрекал устрашенным парижанам ужасы апокалипсиса под управлением лицемерного монарха, не очистившегося от скверны.
Богомольная маркиза ежедневно в сопровождении Жаклин посещала церковь Святого Иоанна. Но на этот раз обличительным речам отца Гонтье внимал еще один пышно одетый вельможа, герцог д’Эпернон. Он, разумеется, с церемонной вежливостью поспешил выразить почтение знатной даме. Под аккомпанемент громоподобных пророчеств иезуита между ними завязался негромкий разговор, который для всех присутствующих казался привычной, ничего не значащей светской болтовней случайно встретившихся знакомых. Для всех, кроме Жаклин, которая внимательно следила, чтобы ни одно слово из этого разговора не донеслось до толпившихся неподалеку прихожан. Однако сама д'Эскоман была потрясена услышанным: маркиза и герцог самым деловым тоном обсуждали планы убийства Генриха IV. Эти планы ужаснули «демуазель д’Эскоман», еще не вошедшую вполне в роль политической заговорщицы. Ей стало казаться, что она предназначена судьбой спасти короля и государство.
Маркиза уехала из столицы, а к д’Эскоман вскоре явился мрачного вида мужчина, принесший лаконичное письмо от герцога д’Эпернона, в котором значилось: «Я Вам его рекомендую. Позаботьтесь о нем». Незнакомец разъяснил, что ему поручено ведение одной тяжбы, для разрешения которой просил содействия маркизы Верней. Д’Эскоман впоследствии утверждала, что этот человек назвался Равальяком. А когда в руках д’Эскоман очутилось письмо, адресованное Государственному совету в Мадриде, она решила действовать. Д’Эскоман связалась с некоей мадемуазель де Гурне, которую считали духовной наследницей Монтеня. А та сумела добиться для Жаклин аудиенции у герцога Сюлли, ближайшего друга короля. Сюлли в очень осторожных выражениях рассказал Генриху о новом заговоре, о котором стало известно из столь сомнительных уст. А Генрих, не желавший ссориться с фавориткой, лишь мимоходом, вручая очередные драгоценности, упрекнул за бесполезные интриги!
Хотя Генрих не упомянул об источнике своей осведомленности, маркиза сразу заподозрила Жаклин. Но потом фаворитка сочла, что у ее служанки не хватило бы ума и смелости для того, чтобы пробиться к королю и донести на свою госпожу. Поэтому маркиза лишь удалила д’Эскоман от себя и отдала на выучку к своему агенту в придворном штате королевы к уже знакомой нам Шарлотте дю Тилле. Подозрение постепенно исчезло. Жаклин осталась в курсе дальнейших действий заговорщиков, заделавшись ближайшей наперсницей дю Тилле.
Пока медленно зрел заговор, в который оказались вовлеченными окружение королевы и главная фаворитка, Беарнец коротал время среди многих других привязанностей. И Мария Медичи, и маркиза Верней обходили презрительным молчанием эти мимолетные связи, не оказывавшие влияние на тайную борьбу за власть. Однако всему приходит конец.
Как-то раз суеверная королева пожелала иметь гороскоп своего младшего сына, обратившись за помощью к старому Руджиери, тому самому астрологу, который, если верить ходившим слухам, заранее предсказал ошеломленной Екатерине Медичи правление трех ее сыновей — Франциска II, Карла IX и Генриха III и последующее вступление на престол Генриха Наваррского. Многоопытный итальянец, передавая гороскоп Марии, заметил стоявшему рядом королю: «Я убежден, что вас скоро ждет новая любовь, и вы забудете или покинете все старые привязанности».
Конечно, Руджиери в данном случае не требовалось особенно напрягать свои способности оракула. «Бес в ребро», который по известной пословице сопровождает седину в голове, никогда не покидал короля. Вскоре, в январе 1609 года, он оказался у ног дочери коннетабля Монморанси, молоденькой Шарлотты. Генрих был человеком действия. Он быстро расстроил намечавшийся брак Шарлотты с одним из своих приближенных, Бассомпьером, по-дружески разъяснив ему: «Если ты женишься, и она тебя полюбит, я тебя возненавижу. Если она полюбит меня, тогда ты меня возненавидишь. Я решил выдать ее замуж за моего племянника Конде и сделать приближенной моей жены… Своему племяннику, который молод и предпочитает охоту женщинам, я буду ежегодно выдавать сто тысяч ливров на развлечения».
Бассомпьер, человек вежливый, не стал выдвигать бесполезных возражений, но Генрих, принц Конде, первоначально согласившийся, стал подумывать, как донесли королю, не сбежать ли в приют всех заговорщиков — в Испанию. Генрих прибег к новым заманчивым обещаниям, потом перешел к угрозам, и принц капитулировал. В мае 1609 года состоялось бракосочетание. Казалось, все устроилось к общему удовольствию. Однако после свадьбы Конде неожиданно снова взбунтовался и окружил супругу неусыпным надзором, а потом вдруг увез из Парижа. Генриху лишь один раз удалось увидеть Шарлотту, помчавшись для этой цели в Амьен, где на короткое время остановились молодожены. А еще через несколько дней Конде увез Шарлотту за границу, во Фландрию. Принцу помогла осуществить побег испанская разведка.
Испанский наместник, эрцгерцог Альберт, противник войны с Францией, не знал, что и делать со знатными беглецами, выдачи которых сразу же стал требовать Генрих. Потерявший голову любовник на время победил в Генрихе осторожного политика. Он открыто обвинял Испанию в заговорщических связях с принцем. Это был один из редких случаев, когда обвинение против Мадрида не вполне соответствовало действительности, и посол Филиппа III дон Иниго де Карденас заявил резкий протест. (Генрих потом утверждал, что Карденас за пять дней до бегства принца предупредил об этом испанское правительство.) Отношения между Парижем и Мадридом заметно обострились. На решение эрцгерцога не выдавать принцессу явно повлияли тайные просьбы Марии Медичи и маркизы Верней. Ни той ни другой не улыбалась перспектива утверждения влияния новой фаворитки, представительницы целого дворянского клана. Разве не ясно было к тому же, что Генриха столь же мало остановил бы развод, как и перемена религии. Опасность для Марии Медичи становилась вполне реальной, и это отлично поняли Кончини.
Между тем специальный королевский уполномоченный в Брюсселе де Кевр после неудачных попыток добиться выдачи принцессы предложил Генриху организовать ее похищение. С Шарлоттой поддерживался постоянный контакт через супругу французского посла де Берни и фрейлин принцессы. В ночь с 13 на 14 февраля она должна была переодетой выскользнуть из дворца, ее ожидали бы два десятка вооруженных всадников. Весь большой отряд должен был галопом мчаться к французской границе… 13 февраля в 11 часов утра всадник на взмыленном коне остановился у ворот дворца. Это был курьер от испанского посла во Франции. Он предупредил о предстоящем бегстве принцессы. Сразу же были приняты чрезвычайные меры предосторожности, похищение не удалось. Генрих громко объявил, что Шарлотта — это новая Елена, из-за которой началась Троянская война.
…И в эти самые месяцы, когда разыгрывалась подобная мелодрама, часто граничившая с фарсом, в котором Генрих выступал в роли престарелого фавна, другой Генрих — тонкий политик и дипломат — продолжал осуществлять свой «великий план» подрыва габсбургской гегемонии в Европе.
Некоторые исследователи, будучи не в состоянии отождествить потерявшего голову селадона с дальновидным политиком и полководцем, начали задумываться, не путают ли они причину и следствие. Быть может, попытки вызволить принцессу Конде не усилили воинственность короля, а были лишь благовидным прикрытием широко задуманных политических планов? Как бы то ни было, эти попытки на деле лишь усилили тревогу всех, кому угрожали далеко идущие намерения Генриха и кто мог выиграть от его устранения.
…Город Ангулем немало испытал, когда герцог д’Эпернон как генерал Генриха III был осужден в городе местными буржуа, сторонниками лиги, в годы религиозных войн. Войны и сопровождавшие их лишения только укрепили фанатический католицизм его жителей, враждовавших с протестантами, которые населяли окрестные места. В числе пострадавших был писей городской ратуши Равальяк. Его сыну Жану Франсуа с детства привили ненависть к гугенотам и их вождю, ставшему потом королем Франции. С 18 лет он заделался стряпчим и не раз бывал по делам в Париже. Этот мрачный, богатырского вида детина, с рыжей шевелюрой, не отличался умом. Равальяк все время находился во власти религиозной экзальтации, собирался вступить в иезуитский орден, но не был принят святыми отцами. Потом он был брошен за долги в тюрьму, откуда вышел еще более возбужденным и уверенным в своей миссии осуществить божественное правосудие. Во время нередких галлюцинаций ему слышались трубные звуки, призывавшие к мести. Он жадно внимал проповедям, осуждавшим королевскую милость, оказываемую гугенотам, читал произведения сторонников лиги, объявлявшие богоугодным делом убийство антихриста на троне. Вероятно, уже тогда к Равальяку приглядывались, понимая, что придурковатый малый может послужить отличным исполнителем чужой воли. Впоследствии вскрылась одна чрезвычайно важная деталь. Уже знакомая нам мадемуазель дю Тилле — та самая, которой маркиза Верней поручила шпионить за королевой, — призналась, что знала Равальяка и несколько раз подбрасывала ему различные подачки. А д’Эскоман утверждала, что все это происходило весной 1609 года и что в разговорах с нею Равальяк открыто говорил о своем намерении убить короля.
Как раз в это время должен был отправиться очередной курьер в Испанию. Жаклин д’Эскоман сделала еще одну попытку сообщить о подготовляемом заговоре. На этот раз она решила обратиться прямо к Марии Медичи. Жаклин попросила королевскую камеристку сообщить своей госпоже, что она задержала на сутки письма, адресованные Государственному совету в Мадриде. Ответ, который принесла камеристка, сводился к тому, что королева на три дня уезжает в Шартр и только после возвращения сможет поговорить с посетительницей. Д’Эскоман не могла, не возбуждая подозрения, задержать пакеты на столь долгий срок, и они были отправлены в Мадрид. Однако через три дня Жаклин вновь явилась в апартаменты Марии Медичи. Время приема не было указано. Потекли томительные часы ожидания. Под вечер Жаклин сообщили, что королева забыла о своем обещании принять ее и уехала в Фонтенбло. Жаклин все же не оставила своих усилий. Через несколько недель она попыталась сделать еще один шаг: верующая католичка, она решила известить обо всем королевского духовника отца Коттона. Д’Эскоман отправилась в резиденцию иезуитов и попросила свидания с Коттоном, но его не было дома. На следующий день та же картина. Оказывается, отец Коттон тоже отбыл в Фонтенбло. По настоятельному требованию д’Эскоман принял другой важный иезуит. Жаклин, изложив ему все, ставшее ей известным о заговоре, попросила известить короля.
— Я сделаю все, что посоветует мне Господь, — последовал ответ. — Иди с миром и молись Богу.
Жаклин попыталась напомнить, что королю грозит опасность.
— Короля хорошо охраняют, занимайтесь своими делами или вас обвинят как участницу заговора, — угрожающе заметил святой отец.
Он, видимо, смягчился лишь после того, как Жаклин заявила, что сама поедет в Фонтенбло и обвинит иезуита в том, что он желает смерти короля. Монах ласково пообещал принять меры и, видимо, принял.
От д’Эскоман неожиданно потребовали уплаты значительной суммы за содержание ее сына. Жаклин не имела таких денег, и ей пришлось взять ребенка у воспитателя. Но куда его вести? Она приняла отчаянное решение оставить малыша на улице в надежде, что его подберет какая-нибудь добрая душа. Но за всеми действиями Жаклин внимательно следили. Она была немедленно арестована и долгое время кочевала из одной тюрьмы в другую. Подкидывание ребенка каралось смертью. Правда, судьи сжалились над д’Эскоман и отправили в монастырь, где она должна была содержаться за счет мужа. Была ли эта снисходительность результатом мягкосердия или платой за молчание? Д’Эскоман во время своего процесса ни одним словом не обмолвилась о заговоре. Судьи так и не узнали, что Жаклин в тюрьме сумела поговорить с аптекарем королевы и поведать ему о готовящейся измене.
Это предупреждение, вероятно, не достигло Генриха. Однако он получил и другое. Королю был представлен прибывший из Италии Пьер де Жарден, именуемый капитаном Лагардом. Этот офицер, в прошлом участник мятежа Бирона, привез рекомендательное письмо от французского посла в Риме. Типичный ландскнет, Лагард пережил множество приключений. В Неаполе судьба свела его с французскими эмигрантами, непримиримыми сторонниками лиги, людьми, замешанными в различных заговорах против Генриха IV. Один из эмигрантов лейтенант Лабрюйер представил капитана иезуиту Алагону, дяде испанского министра герцога Лермы. Беседуя с Лагардом, иезуит распространялся о враждебных планах короля против церкви и потом прямо предложил 50 тыс. экю, если капитан сумеет убить Генриха и таким образом избавить мир от нечестивого монарха. Лагард попросил время на размышление и ускорил свой отъезд. В Риме он через общих знакомых добился свидания с французским послом. Тот, сразу поняв не только значение сведений, сообщенных ему Лагардом, но и опасность того, что от капитана постараются избавиться, включил его в свиту великого маршала Польши, отправлявшегося в Париж.
Лагард утверждал, что герцог д’Эпернон — в это время генерал-полковник пехоты — вел секретную переписку с графом Баневентом, испанским вице-королем Неаполя. Капитан показал и письмо Лабрюйера, где прямо говорилось о планах покушения на Генриха IV. Гасконец поблагодарил Лагарда и посоветовал сопровождать великого маршала в его предполагаемой поездке по различным странам Европы. В Париже человеку, рискнувшему раскрыть планы испанцев и иезуитов, оставаться было неблагоразумно.
Генрих получил известие из Рима, что граф Фуентес, рассуждая о желательности вновь разжечь религиозную войну во Франции и отвечая на замечание, что это нелегкая задача, бросил такую фразу:
— Напротив, это очень простое дело, король часто ездит в открытой карете…
Из Мадрида французский посол доносил, что его флорентийский коллега знает в деталях все намерения Генриха и что секретные гонцы постоянно пересекают испано-французскую границу. Испания и Австрия были уверены, что со смертью Генриха будет проложена дорога к союзу с Францией, что резко укрепит преобладающее положение Габсбургов. Папа, не желавший такого усиления Испании и императора, не менее, однако, страшился надвигавшегося конфликта этих держав с Генрихом, при котором союзником Франции выступили бы Англия, Голландия и протестантские князья Германии. Этот конфликт, исходя из своих интересов, пытались предотвратить различные фракции испанской партии — Мария Медичи и Кончини, маркиза Верней, герцог д’Эпернон. В Париже и других частях страны кем-то усиленно распространялись слухи о намерении короля свергнуть с престола римского папу, о зловещих знамениях, даже о готовящейся «гугенотской Варфоломеевской ночи» для католиков.
Эти темные слухи с жадным вниманием ловил Равальяк. Он убежден, что народ жаждет смерти тирана. Ангулемец снова появляется в Париже и дважды пытается проникнуть в Лувр, но пока еще не для того, чтобы убить короля; прежде всего он стремится спасти заблудшую душу Генриха. Стража не пропускает мрачного верзилу, требующего свидания с королем. Когда Равальяк приходит в третий раз, караульные приводят его к своему начальнику, лейтенанту де Кастельно. У Равальяка к ноге, ниже колена, привязан нож. Кастельно в нерешительности, он вызывает своего отца де Лафорса, капитана гвардии. Тому, истовому протестанту, тоже кажется подозрительным мрачный рыжеволосый великан, требующий допустить его к королю.
— Откуда вы родом? — спрашивает Лафоре.
— Из Ангулема.
— Знакомы ли вы с герцогом д’Эперноном? — задает новый вопрос капитан, зная, что герцог — губернатор этого города.
— Да, — отвечает Равальяк и прибавляет: — Это католик, позволяющий себе многое, запрещенное церковью.
Лафоре доложил Генриху о незнакомце.
— Обыскать его, — приказал Генрих, — и если у него ничего не найдут, прогнать и запретить, если он не желает быть высеченным, приближаться к Лувру и к моей особе.
Поверхностный обыск не дал результата. Равальяка отпустили, и он снова оказался во власти преследующих его маниакальных идей. Беседы с отцом Обиньи, уклончивые ответы ученого иезуита не внесли успокоения в его смятенную душу.
Еще раз, уже на улице, он пытается приблизиться к королевской карете с возгласом:
— Во имя Господа нашего Иисуса Христа и девы Марии я обращаюсь к вам, государь!
Напрасно — слуги отталкивают Равальяка, карета скрывается из виду.
Именно в это время, по-видимому, Равальяк, совершенно лишенный средств к жизни, получил деньги от дю Тилле, приятельницы д’Эпернона. Правдоподобно ли, что ни у нее, ни у отца Обиньи — в отличие от капитана Лафорса — не возникло никаких подозрений при разговоре с этим человеком, явно не в своем уме, все время твердившим о божественном отмщении?
В апреле и в начале мая 1610 года обстановка во Франции еще более накаляется. Война близка — король не скрывает намерения вскоре покинуть Париж, чтобы возглавить армию в предстоящей кампании. Идет война и внутри королевского семейства. Мария Медичи демонстративно обличает неверного супруга. Чтобы восстановить домашний мир, Генрих готов на уступку: короновать Марию Медичи, это сделает еще более проблематичной возможность развода с ней и жениться на принцессе Шарлотте. Однако эта же мера повышает права Марии Медичи стать регентшей при своем малолетнем сыне в случае смерти короля. 13 мая происходит коронование.
«Она будет причиной моей смерти», — пророчески замечает Генрих. Он, конечно, не может знать, что Равальяк решил отложить осуществление своего плана до коронации. Ему неизвестно, что уже несколько дней в различных французских городах и за границей, в Брюсселе, в Кельне, Ахене ходят слухи об убийстве короля Франции. На 15 мая назначена королевская охота, на 16-е — торжественное вступление в столицу королевы, на 17-е и 18-е — большие празднества по случаю свадьбы герцога Вандома. А 19 мая король должен отправиться на войну. Только придворным были известны эти планы. Ясно, что лишь 14 мая, когда не было торжеств, нож ангулемца мог пронзить грудь Генриха. 14 мая Генрих отправился в большой карете на прогулку. На узкой улице путь кареты неожиданно преградили какие-то телеги. Равальяк успел вскочить в экипаж и трижды нанести королю удары кинжалом. Раны оказались смертельными…
В первые часы после убийства д’Эпернон предпринимает лихорадочные усилия, чтобы захватить власть. Напрасно, она ускользает от него. Правительницей Франции становится Мария Медичи, а ею управляют супруги Кончини.
Несколько суток после смерти Генриха д’Эпернон держит Равальяка под своим контролем. Именно в это время его посещают несколько священников и многозначительно советуют: «Сын мой, не обвиняй добрых людей!»
Судьи парижского парламента, производившие следствие, приложили особые усилия, чтобы нечаянно не обнаружить сообщников убийцы (это было невыгодно никому из власть имущих), сознательно не расспрашивали свидетелей, которые могли пролить свет на мотивы преступления. Согласно официальной версии, Равальяк действовал в одиночку, по собственному почину. Да и самому душевнобольному убийце казалось, что так и было на самом деле — ведь прямо его никто не подбивал на убийство короля! «Признание» в таком смысле, сделанное убийцей во время пытки, не было занесено в протокол, где лишь значится, что оно является «секретом суда». Об этом же Равальяк заявил на эшафоте, за минуту до начала жестокой казни. Ему отказывают в отпущении грехов, так как он не назвал сообщников.
— Дайте мне отпущение, действительное при условии, если я сказал правду, уверяя, что не имел сообщников, — говорит осужденный.
— Хорошо, но если ты солгал, твоя душа станет добычей ада, — предупредили Равальяка.
Он с готовностью принял отпущение грехов на таком условии.
Немало историков считали это доказательством, что у Равальяка действительно не было сообщников. Однако, как правильно замечает французский исследователь Ф. Эрланже, поведение Равальяка доказывает только то, что он сам верил, будто действовал в одиночку.
Стоит напомнить слова руководителя испанской разведки графа Фуентеса, сказанные еще в 1602 году одному из агентов Бирона:
— Первое дело — убить короля. Надо устроить это так, чтобы уничтожить всякие следу соучастия.
Однако все следы уничтожить не удалось. В январе 1611 года Жаклин д’Эскоман покинула монастырь, где ее содержали после тюрьмы, и возобновила свои попытки вывести заговорщиков на чистую воду. На этот раз она обратилась за помощью к королеве Маргарите — первой жене Генриха. Маргарита выслушала Жаклин и попросила прийти на следующий день. Когда та явилась и сообщила дополнительные подробности, ее помимо Маргариты внимательно слушали скрывавшиеся за портьерой д’Эпернон и несколько лиц, посланных Марией Медичи. По словам Жаклин, Равальяк часто встречался с дю Тилле, маркиза Верней надеялась провозгласить своего сына королем, выйти замуж за герцога Гиза, герцог д’Эпернон должен был стать коннетаблем Франции. Д’Эпернон, не выдержав, выскочил из-за укрытия, обрушившись с бранью и угрозами на Жаклин. Д’Эскоман была снова брошена в тюрьму, за ложные показания ей грозила по действовавшим тогда законам смертная казнь. Вызванный в качестве свидетеля слуга дю Тилле сообщил, что не раз видел Равальяка у своей госпожи. Процесс стал принимать нежелательное для властей направление. В конце концов его прервали, «учитывая достоинства обвиняемых». Президент суда был заменен ставленником двора. В тюрьме Жаклин по поручению Галигаи посетил епископ Люсонский Ришелье (впоследствии он использовал полученные им показания против Марии Медичи). Жаклин должна была быть либо оправдана, либо отправлена на виселицу за дачу ложных показаний, чего рьяно добивался д’Эпернон. Несмотря на давление со стороны двора, голоса судей разделились поровну. Д’Эскоман была приговорена к вечному заключению. Ее продолжали держать в темнице даже после падения Марии Медичи и Кончини — так опасались показаний этой «лжесвидетельницы». Она и умерла в тюрьме. Не избегнул заключения и другой человек, пытавшийся раскрыть заговор. В 1616 году был брошен в Бастилию капитан Лагард, которого освободило только падение Марии Медичи. Зато это падение сопровождалось, как уже отмечалось, убийством Кончини и казнью его жены: их объявили участниками убийства Генриха IV.
Кажется, единственным, на кого не пали подозрения в соучастии, был принц Конде, вернувшийся во Францию вскоре после смерти короля.
Правда, и подозрения против главных участников заговора в какой-то мере еще прямо не доказаны. По существу наши сведения восходят лишь к показаниям двух лиц — капитана Лагарда и Жаклин д’Эскоман. Можно поставить под сомнение и те, и другие. О свидетельстве Лагарда мы знаем из составленного им мемуара, который ныне хранится в Национальной библиотеке в Париже. Капитан написал его, находясь в Бастилии, откуда был вскоре после этого выпушен на свободу. К этому времени Кончини и его жена были мертвы, а Мария Медичи, отстраненная от регентства, была главным противником маршала де Люиня, любимца молодого короля Людовика XIII (Люинь оставался у власти до своей смерти в 1621 году, после чего настало время для Ришелье). Мария Медичи в союзе с тем же д’Эперноном подняла мятеж против нового временщика. Поэтому в своих показаниях Лагарду было, видимо, выгодно обвинить бывшую регентшу и д’Эпернона в причастности к заговору, приведшему к убийству Генриха IV. В показаниях Лагарда есть не очень правдоподобный пункт, будто он видел Равальяка в Неаполе вместе с бывшим секретарем маршала Бирона, неким Эбером, которому будущий убийца привез письма от герцога д’Эпернона.
Свидетельства д’Эскоман не подкреплены другими прямыми доказательствами. Они были опубликованы в 1616 году еще в правление Марии Медичи, когда ее правительство также боролось с мятежом крупных вельмож и было заинтересовано обратить против них народный гнев. Но свои показания Жаклин сделала явно до 1616 года. Наконец, не исключено, что существовал «испанский заговор», но выглядевший иначе, чем мы себе его представляем на основе имеющихся документов.
Стоит добавить, что и главный сподвижник Генриха IV' герцог Сюлли, и позднее кардинал Ришелье прямо заявляли, что король пал жертвой иностранного заговора. Фактом является то, что власти в Испании и ее владениях в мае ожидали со дня на день убийства Генриха и даже сообщали о нем в своей переписке раньше, чем оно произошло на деле. Вряд ли это могло быть лишь случайным совпадением желаемого и действительного. Стоит добавить, что еще в прошлом веке исследователи перерыли архивы Испании и других габсбургских держав, пытаясь найти ключ к тайне. Архивы Брюсселя — столицы Южных (Испанских, а позднее Австрийских) Нидерландов, — перевезенные в Вену, содержат зияющую лакуну с конца апреля по 1 июля 1610 года. Исчезли документы, относящиеся к этим месяцам, и в Турине, где хранились архивы испанских наместников в Северной Италии.
Весной 1610 года под руководством Сюлли формировался артиллерийский парк для невиданной по тем масштабам более чем 200-тысячной армии: полки подтягивались к границам Южных Нидерландов и испанских владений в Северной Италии. На вопрос испанского посла, против кого направлены французские вооружения, Генрих IV ответил почти неприкрытым вызовом. Устранение Генриха IV, готовившегося к войне с Габсбургами, отвечало важнейшим интересам контрреформации, собиравшейся вновь разжечь вековой конфликт. «Я возношу хвалу Богу, — писал один из министров эрцгерцогу Альберту, правителю Испанских Нидерландов, — увидев Ваше высочество освобожденным от столь могущественного соседа… Особенно можно узреть провидение Бога, который в подобных трудных положениях часто помогал светлейшему австрийскому дому». Намек был достаточно прозрачным. Убийства Колиньи, Вильгельма Оранского, Генриха III были еще свежи в памяти.
Если и существовал «испанский заговор», то его организаторы лишь частично достигли своей цели, поскольку внешнеполитический курс Франции после убийства Генриха IV претерпел значительно меньшие изменения, чем этого хотелось бы Мадриду. Кардинал Ришелье, с 1624 по 1642 год бывший фактическим правителем Франции и во многом являвшийся продолжателем политики Генриха IV, сделал очень много для обуздания сепаратизма знатных вельмож и утверждения королевского абсолютизма.
КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ И АННА АВСТРИЙСКАЯ
Правление Ришелье сыграло не меньшую роль в истории тайной войны, чем в истории Франции и всей Западной Европы.
Арман Жан дю Плесси, кардинал и герцог Ришелье, родившийся в 1585 году, вырос в атмосфере дворцовых интриг. Он рано начал делать придворную карьеру и превосходно овладел всей «техникой» разведывания намерений противника и тщательной маскировки собственных планов, которая часто была необходимым условием успеха. Первоначально Арман предполагал стать военным, но по семейным обстоятельствам вскоре принял решение сделаться священником: неожиданно освободилось место епископа Люсонекого, которое было фактически наследственным в роду дю Плесси. Имелось одно препятствие — Арману шел только двадцать первый год, он был слишком молод, чтобы, по церковным правилам, стать епископом. Король Генрих IV, хорошо относившийся к его отцу, конечно, не обратил внимания на такую мелочь и назначил Армана дю Плесси епископом. Однако посвятить в епископский сан мог только папа Павел V.
Угрюмый старик молча выслушал цветистую латинскую речь бледного худощавого юноши, который выглядел моложе своих лет. Папа спросил:
— А вы достигли уже возраста, который установлен церковными уставами?
— Достиг, ваше святейшество, — отвечал дю Плесси, кладя, как положено, земной поклон перед римским первосвященником.
Когда торжественный обряд был окончен, новый епископ Люсонский неожиданно простерся ниц перед папой и вскричал:
— Ваше святейшество, отпустите мне великий грех, я ведь еще не достиг надлежащего возраста!
Павлу V оставалось лишь дать епископу отпущение грехов и многозначительно заметить, что этот «плут» далеко пойдет. Может, папа предчувствовал, что «плута» вскоре придется сделать кардиналом и прощать ему куда большие грехи и неприятности — за то, что он попытается ограничить влияние любимых сыновей церкви — испанских и австрийских Габсбургов, «чрезмерное» могущество которых очень беспокоило святой престол. Ришелье, начавший карьеру фаворита Марии Медичи, предполагал вести совсем другую линию. Предав свою покровительницу и заручившись доверием короля, Ришелье с 1624 года стал фактическим правителем Франции. Он сразу же круто изменил направление и цели французской политики.
Ришелье был прямым продолжателем внешнеполитического курса Генриха IV. Еще в 1616 году он писал: «Исповедуя разную веру, мы остаемся едиными под властью одного монарха, находясь на службе которого ни один католик не будет настолько слеп, чтобы считать испанца лучше французского гугенота». Придя к власти, Ришелье решительно взялся за уничтожение политической самостоятельности гугенотов, образовавших своего рода государство в государстве. Добиваясь консолидации королевской власти и с этой целью ликвидировав политическую автономию гугенотов, Ришелье одновременно активно поддерживал протестантский лагерь против императора в Тридцатилетней войне. Ришелье принадлежит характерное замечание: «Различие религиозных верований может создавать раскол на том свете, но не на этом».
Кардинал Арман-Жан Дюплесси, герцог Ришелье
Дю-Шампиэн. Гравюра Нантейла
В течение почти двадцати лет — с 1624 года и до самой смерти в 1642 году — кардинал Ришелье был фактическим правителем Франции при ничтожном Людовике XIII. Чтобы не быть низвергнутым с высот могущества, Ришелье пришлось не только научиться играть на слабостях и капризах непостоянного, подверженного посторонним влияниям Людовика XIII, но и быть все время в курсе непрекрашавшихся дворцовых интриг. В этих интригах принимали активное участие мать, жена и брат короля, а также другие принцы крови, не говоря уже о влиятельных вельможах.
На протяжении тех без малого двух десятилетий, когда Ришелье являлся первым министром, не прекращались попытки свергнуть его путем ли придворной интриги, дворцового заговора или мятежа вельмож, нередко стремившихся воспользоваться в своих интересах недовольством народа, который нес бремя быстро увеличивавшихся налогов. Однако, какую бы форму ни принимали действия врагов кардинала, они, как магнитная стрелка к северу, были сориентированы в сторону Габсбургов.
В своем противодействии Ришелье его противники почти неизменно прибегали к излюбленному средству — к сговору с Габсбургами, против которых, продолжая линию Генриха IV, вел упорную борьбу кардинал. Поэтому разведка Ришелье должна была решать многосторонние, хотя и тесно переплетавшиеся, задачи: выслеживать противников кардинала при дворе, обнаруживать их связи с Испанией и германским императором и, наконец, прямо обслуживать внешнюю политику, включавшую, в частности, мобилизацию протестантского короля Швеции Густава-Адольфа и протестантских немецких князей против того же императора. Легко понять также, почему в таких условиях Ришелье предпочитал придать разведывательной службе частный характер, оплачивая своих лазутчиков из собственного кармана, который, впрочем, после этого быстро пополнялся за счет казны.
Ришелье не верил даже своим собственным секретарям. Когда они переписывали важные бумаги, кардинал сам смотрел за их работой: он хотел лично убедиться, что при этом не будут сняты дополнительные копии с секретных документов. К числу тех немногих лиц, которые пользовались неограниченным доверием Ришелье, был его ближайший помощник в дипломатии и придворных интригах, фактический глава его секретной службы, монах капуцинского ордена отец Жозеф («серый кардинал», как его иронически именовали враги).
Анна Австрийская, супруга Людовика XIII
Гравюра Нантёйля
Жозеф дю Трембле был действительно способным дипломатом и ловким разведчиком, помощь которого постоянно требовалась кардиналу. Одной из наиболее крупных удач отца Жозефа была его миссия летом 1630 года ко двору германского императора Фердинанда II. Поскольку отец Жозеф формально не занимал никакого правительственного поста, официальным представителем стал французский посол в Швейцарии Брюлар, но все дела, конечно, вел только капуцин. По дороге отец Жозеф встретился с лучшим полководцем императора Валленштейном. Беседа шла с глазу на глаз. Ее участники уже ранее, вероятно, по инициативе капуцина, поддерживали связь. Возможно, речь шла о тайном намерении Валленштейна стать главой какого-либо независимого княжества.
Прибыв к императору, посланец Ришелье сумел уверить Фердинанда, что Франция будет соблюдать нейтралитет в происходившей тогда Тридцатилетней войне (1618–1648 годы). Более того, капуцину удалось возбудить подозрения императора против Валленштейна, который был вскоре уволен в отставку. Это помогло союзнику Франции шведскому королю Густаву-Адольфу разбить имперские войска. После этого, правда, Валленштейн был восстановлен на своем посту командующего, однако, будучи недоволен императором, он вступил в тайные сношения с французскими агентами, подбивавшими его к попытке стать королем Чехии. В конечном счете Валленштейн был убит офицерами его армии, действовавшими по приказу из Вены. Император и германские католические князья лишились своего лучшего генерала.
Еще в первые годы правления Ришелье против него был составлен заговор во главе с братом короля Гастоном Орлеанским. В заговоре участвовали жена Людовика Анна Австрийская, побочные братья короля принцы Вандом, маршал Орнана и граф Шале. Заговорщики хотели похитить Людовика ХIII и Ришелье, а в случае неудачи — поднять вооруженное восстание, которому была обещана полная поддержка в Вене и Мадриде.
В раскрытии заговора большую роль сыграл один из лучших разведчиков отца Жозефа — Рошфор. Он, вероятно, многим известен по знаменитому роману «Три мушкетера» Александра Дюма. Рошфор нарядился капуцином и, получив от отца Жозефа подробные инструкции, как подобает вести себя монаху этого ордена, отправился в Брюссель. Чтобы сбить со следа шпионов враждебной партии, Рошфор в дополнение говорил по-французски с сильным валлонским акцентом и при случае не забывал упоминать о своей ненависти к Франции. В Брюсселе мнимый монах сумел вкрасться в доверие к маркизу Лекю, любовнику одной из заговорщиц — герцогини де Шеврез. Вскоре Лекю уже передал услужливому монаху несколько писем для пересылки в Париж. «Таким путем, — добавил Лекю, — вы бкажете большую услугу Испании». Рошфор для верности разыграл комедию, уверяя, что не имеет возможности проникнуть во Францию, обманув шпионов кардинала, и уступил лишь тогда, когда Лекю обещал достать ему разрешение на поездку от духовного начальства. На полдороге Рошфора встретил курьер отца Жозефа, который быстро доставил письма в Париж. Письма оказались зашифрованными, но код был скоро раскрыт, и Ришелье смог ознакомиться с планами заговорщиков.
После прочтения письма были снова переданы Рошфору, который вручил их адресату — некоему адвокату Лапьерру, жившему около улицы Мобер. За Лапьерром была установлена постоянная слежка. Таким путем вскоре было открыто, что подлинным адресатом был королевский придворный, граф де Шале, в отношении которого уже давно сгущались подозрения. Однако особенно важно было то, что в письмах, доставленных Рошфором, обсуждался вопрос о желательности смерти не только Ришелье, но и самого Людовика XIII. Это позволило потом Ришелье разделаться с заговорщиками как участниками покушения на священную особу монарха. Ришелье был склонен сразу арестовать и отправить на эшафот графа Шале, но «серый кардинал» настоял на более изощренном методе действия. Стали непрерывно следить за Шале, чтобы открыть остальных заговорщиков. А Рошфор, получивший ответы на привезенные им письма, снова был послан в Брюссель.
Шале был далек от мысли, что он опутан сетью агентов кардинала, и спокойно отправил курьера к испанскому королю с предложением заключить тайный договор, о котором уже велись переговоры с испанскими властями в Бельгии. Испанский двор выразил полнейшую готовность удовлетворить все просьбы заговорщиков. Однако на обратном пути из Мадрида курьер был арестован, и Ришелье получил в свои руки все доказательства того, что заговорщики, помимо всего прочего, виновны в государственной измене. После того как разведке кардинала удалось распутать все нити заговора, брат короля Гастон Орлеанский, прирожденный предатель, с готовностью выдал своих сообщников. Шале кончил жизнь на эшафоте.
Джордж Виллье, герцог Бёкингемский
Гравюра Лельффа, по картине Миревельтса
Примерно к этому времени относится и знаменитый эпизод с брильянтовыми подвесками королевы Анны Австрийской, составляющий стержень интриги в романе «Три мушкетера» Александра Дюма. Впервые об этом случае рассказал современник событий, французский писатель Ларошфуко. В Анну Австрийскую был влюблен герцог Бекингем — фаворит двух английских королей: Якова I и Карла 1 — и всесильный министр Англии. Если верить рассказу Ларошфуко, Анна Австрийская подарила на память герцогу Бекингему брильянтовое ожерелье, которое было незадолго до этого преподнесено ей королем. Кардинал, узнав от своих шпионов обо всем этом, решил воспользоваться случаем, чтобы нанести удар по своему врагу — королеве. В романе Дюма Ришелье поручает коварной леди Винтер срезать у Бекингема на балу два брильянтовых подвеска и спешно переслать их в Париж. После этого кардинал намекнул Людовику XIII, чтобы он попросил королеву надеть ожерелье на ближайшем приеме. У Дюма д’Артаньян и его храбрые друзья мушкетеры доставляют из Лондона — несмотря на тысячи всевозможных препятствий, подстроенных агентами Ришелье, — королеве в Париж ее ожерелье с двумя спешно изготовленными новыми подвесками, которые невозможно было отличить от украденных леди Винтер. Кардинал, заранее торжествовавший победу, был посрамлен. В действительности роль леди Винтер сыграла графиня Карлейль, любовница Бекингема, если… если только весь этот эпизод не является плодом фантазии Ларошфуко или, что еще вероятнее, передачей им слуха, который ходил в придворной среде.
Борьба против Ришелье не прекращалась.
Главой следующего заговора была мать Людовика XIII Мария Медичи, ранее не выступавшая против министра, который в молодости был ее фаворитом и даже был обязан ей своим возвышением. Воспользовавшись болезнью короля, Мария Медичи и ее сторонники стали упрашивать короля, чтобы он не уезжал в действующую армию в Савойе, как того требовал кардинал. Болезнь короля усилилась, и Марии Медичи совместно с Анной Австрийской слезами и мольбами удалось выманить у Людовика согласие расстаться с кардиналом. Королева-мать торжествовала победу и грубо выгнала вон Ришелье, явившегося к ней на прием. Толпы придворных лизоблюдов уже сочли своевременным перекочевывать из передней кардинала в прихожую королевы-матери. Но они слишком поторопились. Людовик XIII выздоровел и, забыв о своем обещании, немедля вызвал к себе кардинала, который снова стал всемогущим правителем страны. Недаром этот день — 10 ноября 1630 года — вошел в историю под названием «дня одураченных». Многие из «одураченных» были удалены от двора, а Мария Медичи после неудачной попытки поднять восстание в крепости Каппель, неподалеку от испанской Фландрии, была выслана за границы Франции.
«День одураченных» был поражением не только партии «благочестивых». Он нанес сильнейший удар по шансам военной победы габсбургского блока. Ришелье мог начать, теперь уже бесповоротно, проводить антигабсбургскую политику. Однако ему пришлось вести борьбу против все новых заговорщиков, которые все, какие бы личные цели они ни преследовали, неизменно выдвигали программу перемены внешнеполитического курса Франции в сторону союза с габсбургскими державами.
Гастону Орлеанскому все же удилось поднять восстание в Лотарингии и заключить тайный договор с Испанией, обещавшей помощь противникам Ришелье. Чтобы навести страх на мятежников, по приказу кардинала суд вынес смертный приговор их стороннику маршалу Марильяку, который 10 мая 1632 года был казнен на Гревской площади. Королевская армия вступила в Лотарингию и разбила войска восставших. Один из руководителей мятежа — герцог Монморанси — был обезглавлен на эшафоте. Гастон Орлеанский опять «раскаялся», предал своих сообщников, со слезами уверял кардинала в вечной любви… и снова начал плести интриги против Ришелье.
Вскоре после казни Монморанси Ришелье сам попал в ловушку. В начале ноября 1632 года, расставшись с королем на пути из Тулузы, больной Ришелье прибыл в замок Кадайяк. Он принадлежал губернатору Гиени герцогу д’Эпернону (одному из возможных участников заговора, приведшего к убийству Генриха IV). Ришелье сопровождала лишь небольшая группа придворных. Ночь прошла в тревоге, быть может, кардинала спасла лишь уверенность окружавших в том, что больному остались считанные дни до смерти. Наутро кардинал поспешил уехать в Бордо, но и там он по существу оставался во власти д’Эпернона. Королева и герцогиня де Шеврез, путешествовавшие вместе со двором, торжествовали. Они поспешили покинуть прикованного к постели врага в городе, где герцог должен был стать орудием их мести. Их сообщник канцлер Шатнеф — креатура герцогини — уже примерял костюм первого министра короля. Д’Эпернон решил, если болезнь не унесет Ришелье в могилу, заточить кардинала в неприступном замке Тромпет. Однажды герцог явился к дому Ришелье в сопровождении 200 своих приверженцев, чтобы, по его словам, осведомиться о здоровье кардинала. Не надо было быть Ришелье, чтобы разгадать намерения д’Эпернона. Все это происходило в самый напряженный момент Тридцатилетней войны, когда предстояла решительная схватка между армией шведского короля Густава-Адольфа и войсками императора, возглавлявшимися Валленштейном. От исхода битвы зависели судьбы Германии и вместе с тем судьбы всей внешней политики Ришелье…
13 ноября Ришелье была сделана операция, устранившая опасность для жизни. Дворецкий королевы Лапорт, явившийся, чтобы узнать, не унес ли с собой наконец дьявол неудобного министра, возвратился с печальным известием, что больной поправляется. Оставалась надежда на д’Эпернона… 20 декабря из дома, где остановился министр, несколько человек из его свиты вынесли какой-то тюфяк, покрытый шелковым ковром. Под ковром лежал Ришелье, которого так и доставили на корабль, сразу же поднявший паруса.
Заговор Монморанси нашел без перерыва продолжение в заговоре наперсницы королевы герцогини де Шеврез и канцлера Шатнефа, опиравшихся на полную поддержку Анны Австрийской, принца Гастона Орлеанского и других врагов кардинала. Разведка Ришелье раскрыла и этот заговор. Шатнеф в 1633 году был отправлен в Ангулемскую тюрьму, где провел 10 лет. Герцогиня де Шеврез, высланная в свой замок Дампьер, неподалеку от Парижа, тайно по ночам посещала Лувр для совещания с Анной Австрийской. После этого неутомимую заговорщииу выслали в угрюмый замок Кузьер в Турени. Оттуда потекли письма к Анне Австрийской, к английской королеве — сестре Людовика XIII, к испанскому двору, к герцогу Лотарингскому. «Шевретта» завербовала в число своих воздыхателей 80-летнего архиепископа Турского, а также юного князя Марсийяка, будущего герцога Ларошфуко, автора знаменитых «Максим». Разведке кардинала приходилось наблюдать и за другими поклонниками герцогини. Один из них, шевалье де Жар, связанный с английским двором, был схвачен, подвергнут пыткам и приговорен к смерти, но помилован уже на эшафоте. Ришелье получил важную информацию от жившего в Париже португальского ювелира Альфонса Лопеса, который был связан со многими купцами в Испании. Однако Лопес был шпионом-двойником, и правительству в Мадриде также поступали от него сведения о действиях кардинала.
В первой половине 1634 года Гастон Орлеанский заключил тайный договор с Мадридом, дав обязательство в случае франко-испанской войны принять в ней участие на стороне «августейшего Австрийского дома» (т. е. габсбургских держав) и с помощью субсидии, которая ему была предоставлена, набрать армию для действий против Франции. Текст этого договора был отправлен в Мадрид на испанском судне, которое, преследуемое голландскими кораблями, село на мель около Французского побережья. Губернатор Кале изъял многие документы, находившиеся на этом судне, и переслал их Ришелье, получившему доказательство измены брата Людовика XIII. Но, поскольку речь шла о наследнике французского престола, Ришелье пришлось не карать Гастона, а попытаться перетянуть на свою сторону, задабривая крупными денежными подачками. Ну а в Мадриде своевременно вспомнили, что уже дважды Бог устранял врага веры и испанской короны: в 1572 году во время Варфоломеевской ночи — адмирала Колиньи, а в 1610 году — Генриха IV. При этом длань Господню — и руку убийцы — подкрепляли закулисные происки испанской секретной дипломатии и разведки. Одному убийце в последний момент помешали совершить покушение.
Другой в осторожной форме осведомился у доминиканского монаха, будет ли умерщвление министра угодно небу, но получил (не в пример Равальяку) отрицательный ответ. Мария Медичи пыталась из Фландрии разжечь новую междоусобицу во Франции. Война стучалась в двери Франции. Ришелье все еще выжидал, не желая ввязываться в конфликт в неблагоприятный момент. Он говорил Мазарини (уже тогда пользовавшемуся его доверием), что ухаживает за миром, как за возлюбленной. Когда война из-за поведения Венского двора стала неизбежной, Ришелье, как писал Мазарини в марте 1635 года, беседуя с ним, «плакал, уверял, что он отдал бы свою руку, чтобы сохранить мир». В Мадриде глава правительства герцог Гаспар Оливарес не меньше кардинала опасался войны с Францией, того, что она и при удачном ходе дел приведет к «полному разорению Испании». В 1635 году, когда война все же началась, и Оливарес, и Ришелье надеялись, что она будет кратковременной, но они оба ошибались.
После открытого разрыва Франции с габсбургскими державами на Париж двинулись имперские войска под командой Пиколомини и других опытных генералов. 5 августа имперцы пересекли Сомму. Поспешно отступавшая французская армия находилась под началом графа Суасонского, на верность которого, как показали события, никак нельзя было полагаться. Он вел тайные переговоры с испанцами и Марией Медичи. В Париже стали формировать ополчение, спешно сооружали и усиливали укрепления вокруг столицы.
Несколько важных крепостей было предательски сдано имперцам почти без боя. Казалось, Франции снова, как после битвы при Павии в 1525 году, после поражения при Сен-Кантене в 1557 году и во время гражданских войн, угрожала опасность быть низведенной до роли вассала Габсбургов. Ришелье пришлось мириться с частью противников, особенно с Гастоном Орлеанским.
Людовик XIII и Ришелье с армией осадили важную крепость Корби, занятую неприятелем. Тогда, уверенные в своей безнаказанности, Гастон Орлеанский и граф Суасонский договорились с испанцами, что добьются снятия осады, убив кардинала. На этот раз, видимо, контрразведка кардинала упустила из виду подготовку покушения. И все же оно не удалось, так как Гастон по своему обыкновению струсил и не подал условного знака убийцам. Вскоре Ришелье получил все сведения об этом заговоре, а Гастон и граф Суасонский, проведав, что их планы открыты, поспешно бежали за границу. Лишь в 1637 году имперская угроза была устранена.
Оставалась еще Анна Австрийская, выступавшая против политики кардинала и поддерживавшая тайную переписку с Мадридом и Веной. Разведка Ришелье неустанно следила за каждым движением королевы. После осады Корби шпионы Ришелье сумели раздобыть целый ворох писем, собственноручно написанных Анной Австрийской и адресованных герцогине де Шевреа Ришелье стремился окружить Анну Австрийскую своими шпионами, среди которых особо важная роль была отведена мадам де Ланнуа. Однако у королевы сохранялись преданные слуги — конюший Пютанон и дворецкий Ла Порт, которые с помощью герцогини де Шеврез научились обходить ловушки, расставленные людьми кардинала. Ришелье не раз пытался очаровать Анну Австрийскую и герцогиню де Шеврез, памятуя, как ему некогда удалось с таким успехом покорить сердце Марии Медичи. Однако эксперимент, повторенный через два десятилетия, не увенчался успехом. Самолюбие кардинала было избавлено от совсем тяжелого удара только тем, что его разведка не сумела перехватить послание королевы к «Шевретте», в котором кардинал именовался «старой развалиной» (это еще очень смягченный перевод употребленного весьма энергичного французского выражения).
…Летом 1637 года разведка Ришелье — вероятно, через куртизанку мадемуазель Шемеро, известную под именем «прекрасной распутницы», — сумела завладеть письмом бывшего испанского посла во Франции маркиза Мирабеля, являвшимся ответом на письмо королевы. В свою очередь, Анна Австрийская ответила на это письмо испанца, и людям Ришелье не удалось перехватить важный документ. Зато они установили, что главную роль в доставке корреспонденции играл Ла Порт. Опасаясь, что Анна Австрийская успеет уничтожить компрометирующие бумаги, кардинал добился разрешения Людовика XIII произвести обыск в апартаментах королевы в аббатстве Сент-Этьен. 13 августа посланные Ришелье парижский архиепископ и канцлер Сегье обнаружили там лишь ничего не значащие письма. Еще за день до этого Ла Порт был заключен в Бастилию, в темницу, которую занимал до него алхимик Дюбуа, несколько лет дурачивший министра надеждой на фабрикацию золота из неблагородных металлов. При аресте у Ла Порта нашли записку королевы к герцогине ле Шеврез: «Податель сего письма сообщит Вам новости, о которых я не могу писать». Тогда же Сегье явился в комнату Ла Порта в отеле де Шеврез и приказал тщательно ее обыскать. Однако от внимания людей Сегье ускользнуло самое главное — скрытый гипсовой маской тайник в стене, в котором хранились наиболее важные бумаги и ключи к шифрованной переписке.
Анна Австрийская утверждала, что она в своем письме к Мирабелю и другим лицам в Мадриде просила передать выражение своих родственных симпатий и осведомлялась о состоянии здоровья членов испанской королевской семьи. Королева попыталась искусно разыграть комедию полного примирения с ненавистным кардиналом. Ей казалось, что она преуспела в этом, в действительности же дело было не столько в неотразимых чарах испанки, сколько в политической необходимости. Для упрочения абсолютизма — иначе говоря, для торжества политики Ришелье — было особенно важно появление на свет наследника престола. Ришелье понимал, что ему не удастся добиться от Рима согласия на развод короля, так что матерью дофина могла стать только Анна Австрийская.
«Я желаю, — написал Людовик XIII под диктовку Ришелье, — чтобы мадам Сеннесе отдавала мне отчет о всех письмах, которые королева будет отсылать и которые должны запечатываться в ее присутствии. Я желаю также, чтобы Филандр, первая фрейлина королевы, отдавала мне отчеты о всех случаях, когда королева будет что-либо писать, и устроила так, чтобы это не происходило без ее ведома, поскольку в ее ведении находятся письменные принадлежности». Анна Австрийская написала внизу этого документа: «Я обещала королю свято выполнять содержание вышеизложенного». Обещание это стоило недорого.
Людовик XIII, король Французский
Юс. ван Эгмонт. Гравюра Фалька
21 августа Ришелье лично в своем дворце допросил /1а Порта, тот заявил, что сможет давать показания, если получит приказ королевы. Людовик XIII потребовал от жены, чтобы она письменно повелела Ла Порту сообщить все ему известное, угрожая, что иначе ее дворецкий будет подвергнут пытке. Обеспокоенная королева поспешила сделать дополнительные признания: она действительно дала шифр Ла Порту для поддержания связи с Мирабелем, принимала переодетую герцогиню де Шеврез, но, по словам Анны Австрийской, корреспонденция носила сугубо невинный характер. Королева должна была написать Ла Порту, что она предписывает ему открыть все ее тайны. Весь вопрос заключался в том, примет ли Ла Порт, которого теперь допрашивал страшный Лафма, прозванный «кардинальским палачом», за чистую монету предписание королевы.
Приближенная Анны Австрийской Мария д’Отфор, совмещавшая роли фрейлины королевы и фаворитки короля, переоделась в мужское платье и сумела проникнуть к одному из узников Бастилии, смертельному врагу кардинала, уже известному нам кавалеру де Жар. А тот ухитрился пробить отверстие в камеру Ла Порта и передать инструкции королевы. Ла Порт, как искусный актер, когда Лафма передал ему приказ королевы, сначала сделал вид, что сомневается в том, каковы действительные намерения его повелительницы, но потом, будто бы уступая угрозам «кардинальского палача», дал показания, в точности совпадающие с тем, что согласилась признать Анна Австрийская.
Мадемуазель д’Отфор отправила к герцогине де Шеврез гонца с известием о благополучном окончании дела. Однако в спешке д’Отфор перепутала шифр и вместо Часослова с переплетом из зеленого бархата послала томик в красной обложке — знак опасности. Переодевшись в мужской костюм, герцогиня де Шеврез бежала в Испанию.
Против Ришелье усердно интриговал исповедник Людовика XIII иезуит Коссен, действовавший с помощью королевской фаворитки, богомольной Луизы Лафайет. Натравливая короля на кардинала, Коссен упоминал о 6 тысячах церковных зданий, сожженных в Германии протестантами, которых Ришелье сделал союзниками Франции. Кардинал, со своей стороны, вновь и вновь доказывал Людовику, что нельзя осуждать договоры с протестантскими князьями, поскольку они направлены против габсбургских держав, угрожавших самому существованию Франции как независимого государства. Кроме того, добавлял кардинал, эти договоры обеспечивают свободу отправления католического культа на всех территориях, завоеванных протестантами.
В декабре 1637 года Коссен с помощью Луизы Лафайет доставил письмо Марии Медичи. Через два часа кардинал получил известие об этом и сумел нанести контрудар. Назавтра Коссен узнал от короля, что в его услугах больше не ну ждаются; вскоре после этого иезуита выслали из столицы, на его бумаги был наложен арест.
В 1637 году вспыхнуло восстание, поднятое графом Суасонским и комендантом крепости Седан герцогом Бульонским. Как и прежде, заговорщикам была обещана помощь испанского короля и германского императора. К войску мятежников присоединился отряд в 7 тысяч имперских солдат. Королевская армия потерпела поражение в битве при Марсе. Но в 1641 году пришло неожиданное известие — глава заговора граф Суасонский пал от руки неизвестного убийцы. После смерти графа Суасонского герцог Бульонский предпочел договориться с Ришелье, остальные заговорщики скрылись за границей.
Однако уже в том же году начал формироваться еще более опасный для Ришелье заговор, в который удалось наполовину втянуть самого Людовика. Один из королевских фаворитов — Анри де Сен-Мар, сын сторонника Ришелье маршала д'Эффиа, — стал душой этого заговора, в который опять были вовлечены неизменный Гастон Орлеанский, герцог Бульонский и, вероятно, Анна Австрийская. Заговорщики подписали тайный договор с первым министром Испании герцогом Оливаресом. Испанцы должны были напасть с севера на Францию, а герцог Бульонский — сдать им Седан, что помешало бы продвижению французской армии в Каталонии.
Габсбургские державы к тому времени потеряли надежду добиться победы военным путем. «Остается. — писал испанский губернатор Южных Нидерландов в 1641 году, — единственная возможность — создать себе сторонников во Франции и пытаться благодаря им побудить правительство в Париже стать благоразумным». От успеха или неудач нового заговора против Ришелье зависел во многом дальнейший ход Тридцатилетней войны.
Наиболее ловким агентом Сен-Мара был его друг виконт де Фонтрай, калека, изуродованный двумя горбами. Переодетый монахом-капуцином, Фонтрай ездил в Мадрид для встречи с Оливаресом и вернулся, имея на руках подписанный договор. Ришелье был осведомлен своей разведкой, следившей за Фонтраем вплоть до границы, о поездке какого-то француза в Мадрид, но не был, по-видимому, еще посвящен в детали заговора. После возвращения в Париж Фонтрай имел смелость несколько раз появляться при дворе и даже в апартаментах кардинала с опасными бумагами, зашитыми в камзоле.
Однако даже переслать несколько экземпляров договора заговорщикам, находившимся в тот момент в разных местах, оказалось делом очень нелегким. Повсюду сновали шпионы кардинала. Сен-Мар, например, подозревал аббата ла Ривьера, доверенного советника Гастона Орлеанского. И не без основания — ла Ривьер был агентом Ришелье. Пока шла пересылка договора, один экземпляр его очутился в руках кардинала! Уже современниками высказывались различные предположения, откуда Ришелье получил копию договора с Испанией. Одни называли находившуюся в Брюсселе герцогиню де Шеврез как источник утечки информации. Может быть, это было и так, но Ришелье нисколько не смягчился в отношении заговорщицы, не раз пытавшейся сорвать его планы. И в своем политическом завещании отозвался о ней с явным презрением. Некоторые считали, что кардинал узнал о договоре из писем испанского губернатора Южных Нидерландов дона Франческо де Мельоса, перехваченных разведкой Ришелье. Согласно еще одному слуху, копию договора нашли на судне, которое во время шторма село на мель неподалеку от Перпиньяна. Надо учесть, что с 1636 года Ришелье имел важного агента в Мадриде — провансальского барона, участника прежних заговоров против кардинала. В сохранившейся корреспонденции имеются намеки на то, что именно от него, по-видимому, исходили известия о договоре.
Некоторые историки считают, что заговорщиков мог выдать сам Оливарес в обмен на определенные компенсации со стороны Ришелье. Если это так, Оливарес, вероятно, переслал договор через французского командующего в Каталонии де Брезе, шурина кардинала. Однако многое говорит против этой гипотезы. Предателем мог быть Гастон Орлеанский. Но выдать заговор могла и Анна Австрийская — ведь ее приближенным и любовником был кардинал Джулио Мазарини, ближайший советник и преемник Ришелье на посту первого министра Франции. Загадка так и не была решена.
Заговорщики тщетно надеялись на скрытую неприязнь, которую, по их мнению, питал Людовик XIII к своему министру. Сохранившаяся переписка свидетельствует о самом тесном сотрудничестве между королем и кардиналом, она доказывает, что внешние знаки неудовольствия и даже зависти монарха по отношению к Ришелье были со стороны Людовика XIII, скорее, игрой и симуляцией, в которых он проявлял немалую ловкость. Такая симуляция и побудила многих современников считать — это общее убеждение отразили знаменитые «Мемуары» Ларошфуко, — что король будто ненавидел своего слишком проницательного и непогрешимого министра. Получив текст договора, тяжелобольной Ришелье послал его Людовику XIII, и король согласился на арест Сен-Мара. Конечно, королеву и Гастона Орлеанского тронуть было нельзя. Герцога Бульонского спасла его жена. Герцогиня довела до сведения Ришелье, что, если ее мужа казнят, она сдаст крепость Седан испанцам. Герцог был помилован, но он заплатил за это отказом от Седана. Сен-Мар 12 сентября 1642 года взошел на эшафот. Ему было тогда 22 года. Вместе с ним был казнен его лучший друг — де Ту. Он не участвовал в заговоре, но знал о нем и не донес кардиналу. Фонтрай успел бежать за границу. Он сразу же сообразил, что игра проиграна, когда получил известие о посещении короля посланцем от кардинала.
Заговоры против Ришелье объективно были направлены на то, чтобы снова повернуть курс внешней политики Франции в сторону Мадрида и Вены. Их неудача означала победу линии на поддержку противников габсбургского лагеря. Формулируя цели своей внешней политики, Ришелье писал: «До предела, до какого простиралась Галлия, должна простираться Франция». Это была идея, восходившая ко времени Генриха IV. В «Географии», издававшейся с 1593 по 1643 год во Франции, доказывалось, что эта страна должна иметь такие же границы, как древняя Галлия. Идея естественных границ будет позднее подхвачена выдающимся французским военным инженером маршалом Вобаном, который, однако, рассматривал ее как довод против безудержных завоевательных планов. В написанном около 1700 года сочинении «Нынешние интересы христианских государств» Вобан писал: «Все честолюбивые притязания Франции ограничиваются вершинами Альп и Пиренеев, Швейцарией и двумя морями». «Естественные границы» — эти слова еще не были в ходу в XVII веке, и они обосновывались и ссылками на языковые границы (их можно найти уже у Генриха IV, и их повторял его внук Людовик XIV). Когда же приходилось оправдывать «естественную границу», далеко выходившую за область господства французского языка — Рейн, идеологи монархии ссылались на древних авторов — Цезаря, Страбона, указывавших на эту реку как границу античной Галлии.
Французские публицисты времен Ришелье выдвигали Францию на роль арбитра в спорах между европейскими державами, в частности между германскими князьями и императором, чтобы противодействовать при этом испанским планам господства. Характерен пример Анри де Рогана, активного участника политической борьбы в первые годы правления Ришелье. Первоначально он, протестант, был противником кардинала, но после падения Ла-Рошели перешел на сторону всемогущего министра и стал ярым сторонником его внешней политики. Роган выполнял роль агента Ришелье в Венеции и других государствах, позднее снова рассорился с кардиналом и, поступив солдатом в армию Бернарда Веймарского, был смертельно ранен в сражении в 1638 году. Роган был автором ряда сочинений по политическим и военным вопросам. В трактате «Об интересах монархов и государств христианского мира», посвященном Ришелье, Роган подчеркивает, что государственные интересы должны определять действия государя. По мнению Рогана, судьба христианского мира определяется конфликтом между Испанией и Францией, который может окончиться только торжеством одной из этих держав. Однако этот результат может быть достигнут лишь в далеком будущем, а в настоящем неизбежно равновесие между этими державами.
В своих работах Роган на примере Испании анализирует использование религии как орудия внешней политики, как прикрытия завоевательных планов. Испанской дипломатии удалось убедить папу и итальянских князей, что Филипп 11 являлся защитником их веры. Испания пыталась использовать и французских протестантов против короля, и английских католиков против монархов-протестантов. Географическое положение определяет политику Франции — она призвана поставить преграду испанскому напору и вместе с тем убедить папу, что равновесие сил — единственная возможная гарантия его независимости. В 1641 году в Гааге был издан на французском языке трактат «Свободная война», доказывавший законность действий католиков, нанимающихся солдатами к государям, воюющим против католических монархов. «Государственный интерес может продиктовать подобные же действия и целым государствам».
Ришелье умер вскоре после раскрытия заговора Сен-Мара. Узнав о смерти кардинала-министра, римский папа Урбан VIII воскликнул: «Если существует Бог, Ришелье за все заплатит. Если Бога нет, ему повезло». Впрочем, казалось, что более всего повезло габсбургским державам, но это только казалось.
КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ, КАДРИЛЬ ФРОНДЫ
Преемником Ришелье стал кардинал Мазарини — один из самых крупных государственных деятелей Франции XVII в.
Молодой итальянский офицер Джулио Мазарини, еще находясь на службе у папы и выполняя различные дипломатические поручения, предоставил себя в распоряжение Ришелье. В своих донесениях в Рим он не скупился на похвалы по его адресу, явно надеясь, что письма будут перехвачены агентами кардинала. Уже в том, как Мазарини, худородному иностранцу, удалось завоевать доверие аристократа Ришелье, сказались недюжинный ум и вкрадчивая настойчивость, которые проявлял итальянец, добиваясь намеченной цели. Ришелье выхлопотал для Мазарини кардинальскую шапку. Говорят, что, представляя его Анне Австрийской, министр заметил:
— Он вам понравится, Ваше Величество, он похож на герцога Бекингема (английский герцог был за несколько лет до этого, если верить скандальной хронике, возлюбленным королевы).
Эта фраза почти наверняка не была произнесена, но нет сомнения, что Мазарини, ближайший помощник Ришелье, стал фаворитом Анны Австрийской и помог раскрыть заговоры против первого министра, где участвовала и королева.
Ришелье принял твердое решение назначить Мазарини своим преемником и добился согласия Людовика XIII. Министр умер вскоре после этого, в декабре 1642 года, а через полгода за ним последовал и король. Наследнику престола Людовику XIV не было еще пяти лет. Регентшей при нем стала королева Анна Австрийская. Придворная знать теперь не скрывала своего торжества. Вельможам, которых уже не сдерживала железная рука кардинала, казалось, что настало их время. Тем большее изумление (и недовольство) вызвало у них назначение на пост первого министра Мазарини. Анна Австрийская одобрила выбор Ришелье. Решение Анны определялось прежде всего тем, что Мазарини оказался последовательным продолжателем линии на усиление королевской власти, которую она стремилась сохранить и укрепить для своего сына.
Политике Мазарини предстояло выдержать серьезное испытание во время пятилетней гражданской войны, так называемой Фронды (1648–1653), когда использование судебного учреждения как орудия политической борьбы, процессы и тайная война переплетались самым причудливым образом.
На первых порах Фронда приняла форму выступления судебного учреждения — Парижского парламента, поддержанного трудящимися массами, против налоговых притеснений со стороны правительства Мазарини. Однако корни движения лежали значительно глубже. Фронда возникла на волне не прекращавшихся десятилетиями крестьянских и городских восстаний, а также под явным влиянием событий в Англии, где буржуазная революция вступила в высшую стадию своего развития.
Здесь нам достаточно отметить, что французская буржуазия еще не созрела до роли руководителя борьбы против феодализма и прорвавшееся бурное народное недовольство было использовано крупными вельможами, желавшими урвать побольше уступок от короны. Началась беспрерывная цепь верхушечных заговоров и контрзаговоров, участники которых пытались утилизировать в личных целях создавшуюся политическую обстановку. На смену «парламентской Фронде» пришла «Фронда принцев». Последние, по обычаю, вступили в сговор с Испанией, все еще воевавшей против Франции.
Организация «парламентской Фронды» во многом была делом парижского коадъютора (помощника парижского архиепископа) Гонди. Его жизнь могла бы послужить материалом для доброго десятка приключенческих романов. Гонди был прирожденным заговорщиком, для которого жизнь без головоломных интриг, без многочисленных донжуанских похождений, чему он со страстью предавался и в пожилые годы, казалась очень пресной. Гонди даже утверждал, что «пороки архиепископа могут стать в бесконечном числе случаев добродетелями главы партии». Энергичный и самоуверенный, он писал: «Одним из признаков, по которым узнаются посредственные умы, является их неумение проводить различие между необыкновенным и невозможным».
Беспринципный политикан, мечтавший занять место Мазарини, и опытный демагог, Гонди не только сумел приобрести популярность среди парижан, особенно в буржуазных кругах, выставляя себя защитником их интересов, но и создать собственную секретную службу. Она позволяла коадъютору следить за действиями различных придворных партий, а при случае быстро организовывать выступление значительной массы парижского населения против правительства. Эта секретная служба коадъютора немало способствовала знаменитой «Ночи баррикад», которыми 26–27 августа 1648 года покрылась столица в ответ на арест двух советников парламента. Гонди впоследствии утверждал, что он один организовал восстание. Это явное преувеличение. Однако оно постоянно повторяется буржуазными историками, приводящими фразу коадъютора, брошенную им после беседы с оскорбившей его королевой:
— Завтра до полудня я буду хозяином Парижа.
Уже во время «парламентской Фронды» часть придворной аристократии, включая принцев королевской крови (принца Конти, герцога Бофора, старого герцога Бульонского), приняла сторону противников Мазарини. Разведка кардинала пыталась определить позицию других вельмож, которые хотя и оставались в королевском лагере, но на верность их никак нельзя было положиться. Гонди, вступивший в тесный союз с дядей короля герцогом Гастоном Орлеанским, стремился перетянуть дворянскую знать на свою сторону. Частично ему это удалось, например в отношении талантливого полководца, младшего брата герцога Бульонского — Тюренна, командовавшего французскими войсками в Германии.
Другой крупный французский полководец — принц Конде, — неоднократно побеждавший в битвах испанцев, возглавил королевские войска. После отъезда Анны Австрийской с сыном и Мазарини из Парижа армия Конде осадила мятежный город. В эдикте парламента от 8 января 1649 года Мазарини был объявлен «нарушителем спокойствия, врагом короля и его государства», кардинал приговаривался к изгнанию из Франции. Но уже через два месяца, в марте 1649 года, руководители парижской буржуазии по существу капитулировали, и двор возвратился в столицу.
Однако сразу же возникли новые препятствия: Анне Австрийской и Мазарини приходилось теперь больше всего опасаться Конде; надменный принц явно претендовал на всю полноту власти при несовершеннолетнем короле. Конде и Мазарини наперебой старались перетянуть на свою сторону вельмож, недавно участвовавших в «парламентской Фронде». Опять разразился ураган закулисных интриг и тайных переговоров. Между тем целая армия секретных агентов — одни из них находились на службе у Мазарини, другие — у коадъютора — пыталась организовать выступления парижан за и против правительства. Во французских архивах сохранились архивные грамоты, подписанные молодым королем Людовиком XIV и министром Ле Телье. В них гарантировалась безопасность провокаторам, действовавшим по приказанию Мазарини. Теперь эти люди получили приказ настраивать парижан против Конде.
Одновременно кардинал рассчитывал подорвать все еще сильное влияние коадъютора, использовав для этой цели судебные полномочия парламента. В декабре 1649 года парижскому парламенту по указанию короля было предложено расследовать показания тайного агента некоего Канто и нескольких его коллег, объявивших, что Гонди и герцог Бофор поручили убить Конде. В ночь накануне судебного разбирательства один из участников расследования, генеральный адвокат Биньон, сумел доставить коадъютору доказательство, что Канто и его компания являются лжесвидетелями, в прошлом уголовными преступниками, спасенными Мазарини от петли и даже снабженными охранными грамотами. Гонди приберег эти разоблачения до суда, начавшегося 13 декабря 1649 года. Он их сделал уже после того, как были заслушаны показания Канто. Разразился шумный скандал, шпионы, не надеясь на свои грамоты, поспешили скрыться, а коадъютор сумел таким образом укрепить свое пошатнувшееся положение. Это поражение в суде, впрочем, более отразившееся на Конде, чем на Мазарини, убедило изворотливого итальянца, что пришло время для смены союзов. Подобно танцующим кадриль, противники не раз менялись местами, которые они занимали в борьбе.
На авансцену выдвинулась опытная интриганка герцогиня де Шеврез, участница многих заговоров против Ришелье. В это время она была ближайшим другом Гонди и даже благосклонно наблюдала за тем, как ее собственная дочь Шарлотта стала одной из многочисленных любовниц коадмотора. (Почтенный прелат считал, что «женщины могут сохранить свое достоинство в амурных делах только благодаря заслугам своих любовников».) Вместе с тем герцогиня никогда не прекращала своего старого знакомства с Анной Австрийской. Однажды на приеме во дворце кардинал отвел к окну приятельницу коадъютора и спросил:
— Любите ли вы королеву? Если да, то почему бы вам не привлечь к ней симпатии ваших друзей?
Вечером герцогиня получила от королевы записку для Гонди. Недавно столь ненавистному коадъютору назначалось тайное свидание на завтра в полночь. При этой встрече королева и кардинал (ловкий комедиант даже облобызался по этому случаю с фрондером) просили содействия Гонди в аресте принца Конде. В обмен коадъютору было обещано возведение в сан кардинала.
Разумеется, были соблюдены все необходимые приличия. Гонди согласился принять обещание кардинальской шапки только после настойчивых упрашиваний со стороны Мазарини. Коадъютор даже добавил:
— Имеется много достойных лиц, которые связаны со мной и будут служить королеве. Если Вашему Величеству будет угодно предоставить одному из них какой-либо значительный пост, я был бы этому гораздо больше рад, чем десяти кардинальским шапкам.
Кардинал Мазарини
Гравюра Роберта Нантёйля
В переводе на обычный язык эти тирады означали, что коадьютор готов продать Мазарини и услуги своих друзей. На последующих тайных встречах с королевскими министрами были оговорены детали, в частности цена, которую пришлось заплатить за поддержку со стороны герцога Орлеанского. Гонди, многократно подчеркивавший свое полнейшее бескорыстие, одновременно выторговывал все новые уступки, якобы защищая интересы своих союзников.
Конде не мог похвастаться такой тайной службой, которую имели Мазарини и Гонди. Он легко дал усыпить себя выражениями подобострастного почтения, которыми осыпал его кардинал. Когда 18 января 1650 года в Пале-Рояле к Конде подошел капитан дворцовой стражи Гито и объявил, что арестует его по приказу короля, принц первоначально счел это дурной шуткой. Одновременно были задержаны его брат принц Конти и зять герцог Лонгвиль. Их переводили из одного места заключения в другое, пока не доставили в Гавр. Однако, если сотрудничество Гонди позволило без помехи осуществить этот арест, оно не воспрепятствовало родственникам и союзникам Конде поднять восстание в разных частях Франции. Началась «Фронда принцев». К концу года, правда, королевским войскам удалось добиться заметных успехов в борьбе против новых фрондеров.
В этих условиях Мазарини решил, что излишне выполнять обещание, данное коадъютору. А тот, напротив, более чем когда-либо стремился заполучить заветную кардинальскую шапку: ведь только она могла служить для него некоторой гарантией в случае возможного примирения Мазарини и Конде. Гонди менее всего хотел признать себя одураченным и растерявшим влияние. Между тем сам Мазарини ускорил разрыв. Он приказал опубликовать сведения о притязаниях коадьютора на сан кардинала, чтобы окончательно подорвать популярность Гонди среди парижан.
Тогда коадъютор сделал новый поворот, громко требуя освобождения приниев, арестованных по приказу Мазарини. Он получил поддержку со стороны герцога Орлеанского, тайных и явных сторонников Конде. Парижский парламент занялся вопросом о законности ареста принцев. На этот раз кардинал просчитался: он сам способствовал объединению всех своих врагов, как сторонников «парламентской Фронды», так и «Фронды принцев». Его оставило даже то меньшинство советников парламента, которые обычно поддерживали корону. Народ на улице вздернул на виселицу его изображение. Парламент потребовал отстранить кардинала от командования войсками, призвал маршалов не подчиняться приказам министра.
6 февраля 1651 года кардинал, переодетый в костюм простого дворянина, под охраной 300 солдат своей личной гвардии бежал из Парижа. Анна Австрийская собиралась последовать за Мазарини, но тут сработала секретная служба Гонди. Министр Шатнеф, назначенный на этот пост при посредстве Гонди и являвшийся креатурой герцогини де Шеврез, разведал, что королева собирается бежать в ночь с 9 на 10 февраля, и поспешил известить об этом герцога Орлеанского и Гонди. Коадъютор и его сторонники, не теряя времени, быстро подняли на ноги вооруженное ополчение парижан. Волнующаяся толпа окружила Пале-Рояль. Надменная королева вынуждена была согласиться принять представителей собравшихся горожан. Анна заявила, что у нее не было и мысли покидать столицу, и показала на мирно спящего, вернее, притворившегося спящим в своей кровати молодого короля. Королева потом не простит коадъютору этого унижения. Но пока что Гонди победил. Королева оказалась под контролем фрондеров.
Между тем бежавший Мазарини прибыл в Гавр и выпустил из заключения принцев (прежде чем их освободили бы сторонники Фронды). Он попытался поставить это себе в заслугу. Конде на сей раз не дал себя провести. Не вступая ни в какие соглашения с фаворитом, принц поспешил в Париж, где был с триумфом встречен своими сторонниками. А Мазарини счел за лучшее покинуть французскую территорию, перебравшись в Германию.
Кардинал великолепно знал, насколько непрочным был «союз двух фронд». Вельможи начали ссориться с парламентом вскоре же после прибытия Конде в Париж. Анна Австрийская получила возможность маневрировать, договариваясь с каждым из принцев поодиночке. А герцогиня де Шеврез рассорилась с принцем Конти, который по тайному сговору с Гонди обещал жениться на ее дочери, любовнице коадьютора, а теперь счел выгодным нарушить свое обязательство. Гонди мало что получил от своего союза с принцами. Вместе с тем уступки, на которые пошла Анна Австрийская, чтобы помириться с Конде, делали его некоронованным королем Франции. И у королевы, и у коадьютора снова появились мотивы для «смены союзов»…
Мазарини расположился неподалеку от французской границы в маленьком рейнском городке Брюле, около Кельна, курфюрст которого с готовностью предоставил убежище беглецу. Парижский парламент продолжал в грозных декларациях и эдиктах осуждать фаворита, обвиняя его, между прочим, в разграблении королевской казны. Сам кардинал, наоборот, горько сетовал на бедность. Эти жалобы, конечно, не следует понимать слишком буквально. Много позднее один современник, аббат Шуази, иронически рассказывал в своих мемуарах:
«…когда кардинал был близок к смерти, его духовник сказал ему со всей откровенностью, что он будет проклят, если не возвратит неправедно приобретенного богатства. «Увы, — со вздохом отвечал тот, — я не имею ничего, кроме полученного от шедрот короля». — «Однако, — возразил исповедник, — нужно различать то, что вам дал король, от того, что вы дали сами себе». — «Ах, если бы дело обстояло так, — сказал кардинал, — то пришлось бы все вернуть».
Пока же кардинал думал не о возврате, а о приобретении земных сокровищ, что ему удавалось делать даже в изгнании. Ведь, находясь за пределами Франции, он продолжал управлять страной. Недаром современники считали Мазарини волшебником, околдовавшим королеву, или по крайней мере тайным супругом Анны Австрийской. Последнее, может быть, и соответствует действительности, хотя главную роль, несомненно, играла умелая зашита кардиналом интересов короны. А продолжать осуществление своей роли фактического правителя Франции кардиналу помогал не «князь тьмы», а хорошо налаженная разведка.
Быть может, секретная служба Мазарини, который продолжал оставаться первым министром Франции, никогда не была столь эффективной, как в эти месяцы, когда он вынужден был укрываться во владениях кельнского курфюрста.
Почти каждый день Мазарини обменивался письмами с королевой. Эту тайную корреспонденцию доставляли агенты, действовавшие под началом Ондедея (будущего епископа) и Барте. Кардинал был настолько уверен в своих агентах, что даже не считал нужным шифровать переписку. Лишь фамилии обозначались цифрами или часто весьма прозрачными псевдонимами. Королева именовалась Серафимом или «15», Мазарини — Небом или «16», Гонди — то Трусом, то Немым (намек на то, что коадьютор в течение некоторого времени не высказывал своего отношения к текущим политическим вопросам) и т. д.
Не менее любопытно и другое: все меньше оставалось лидеров Фронды, за исключением самого Конде и герцога Орлеанского, которые не вели бы секретных переговоров с кардиналом. В конечном счете в 1651 году к Гонди явился посланец королевы маршал дю Плесси-Праслен с известием, что Мазарини крайне не одобряет уступок, сделанных Конде, и советует договориться с коадьютором. Маршал даже показал ему письма кардинала. Гонди не удивился приходу маршала: он поддерживал секретную переписку с герцогом Орлеанским и министром Шатнефом, которые отлично информировали его о том, что происходило при дворе. Еще менее произвел на него впечатление возвышенный тон послания кардинала. Гонди иронически отмечает в своих «Мемуарах», что ему уже приходилось получать не менее прекрасные письма, подразумевая предшествующий этап своего флирта со двором. Коадъютору была передана записка от Анны Австрийской. Снова, как и в прошлый раз, Гонди было назначено тайное свидание в полночь, только на этот раз не на завтра, а в тот же день.
Помощник парижского архиепископа Гонди
Как и ожидал коадьютор, ему прямо предложили кардинальскую шапку. Он согласился. Но чтобы побороть популярность Конде, разъяснял Гонди, он будет… с еще большей силой нападать на кардинала. После короткого колебания Анна Австрийская согласилась, что полезно применить этот обманный маневр. Гонди убедил Гастона Орлеанского присоединиться к соглашению. Тот рад был возможности тайно помириться с королевой, вместе с тем продолжая открыто нападать на ее фаворита. Через несколько дней Гонди был вызван еще раз на ночное свидание во дворец. Анна Австрийская, очень довольная ловкостью коадьютора, решила посоветоваться, как изыскать наилучший способ ареста Конде. Коадьютор предложил поручить герцогу Орлеанскому пригласить Конде в гости и там без шума взять его под стражу.
Вскоре после этого разговора, около четырех часов утра, Гонди, находившемуся у одного из своих друзей, передали, что его спрашивает министр Лионне. Он сообщил коадьютору, что нельзя мешкать с арестом принца. Гонди насторожился. Как будто ничего не произошло за те немногие часы, которые истекли после его встречи с королевой, что оправдывало бы поспешность Лионне. Коадьютор стал держаться очень настороженно и имел, как выяснилось вскоре, для этого все основания. Лионне просто-напросто решил переметнуться в лагерь Конде, считая, что тот наверняка одержит победу при дворе. Тепло попрощавшись с коадъютором около шести утра, Лионне уже через два часа сообщал о содержании беседы с прелатом маршалу Граммону, который тут же передал полученную информацию другому министру — Шавиньи — ставленнику Конде, назначенному по его настоянию на этот пост. Шавиньи немедленно известил об этом Конде. Впрочем, как только тот получил информацию о предстоящем аресте, начала работать тайная служба коадъютора — в шесть часов вечера Гонди был уже извещен, что принц знает о планах королевы. А вечером то же известие получила и королева через одну великосветскую интриганку.
Через два дня Гонди был снова у королевы. Она показала ему письмо Мазарини, горячо одобрявшее планы Анны Австрийской и коадъютора. Королева объявила, что, поскольку вскоре — 2 сентября — ее сын станет совершеннолетним (по закону для этого ему должно было исполниться 13 лет), она сменит министров, назначив новых из числа друзей Гонди и Гастона Орлеанского. Она обещала поторопить Рим с принятием решения о возведении Гонди в сан кардинала. Не надо давать возможность Конде начать интриги против коадъютора при папском дворе, любезно заключила Анна Австрийская.
На деле такими интригами занялся изгнанник в Брюле, считавший нежелательным, чтобы коадьютор получил красную кардинальскую шапку, по крайней мере до возвращения его, Мазарини, во Францию, когда, может, и вообще отпадет нужда награждать ею этого вдохновителя Фронды. Позднее к этим интригам подключился и Конде. Со своей стороны, Гонди откомандировал в Рим своего агента — аббата Шарье с поручением подкупить молодую княгиню Олимпию Россано, которая от имени святого отца бойко торговала кардинальскими шапками и аббатствами. Гонди переслал ей через своего агента несколько десятков тысяч ливров, драгоценные камни и богатые туалеты. Однако прошло много месяцев, прежде чем коадъютору вопреки махинациям его противников удалось получить право именоваться кардиналом Рецем.
А пока что он должен был выполнять условия своего соглашения с двором, поддерживая его против Конде. Ярость королевы против принца была настолько велика, что она подумывала даже о назначении Гонди первым министром для лучшего противодействия Конде. (Это намерение Анны вызвало сильное беспокойство Мазарини, который предписал начальнику своей разведки Ондедею всячески советовать королеве отказаться от осуществления столь рискованного плана.)
5 июля мимо резиденции Конде проезжал отряд гвардии. Принц решил, что солдаты прибыли арестовать его, и поспешно бежал из столицы. Он вернулся через две недели, после того как Анна Австрийская обещала дать отставку трем министрам, которых принц считал креатурами Мазарини. Его возвращение вместе с тем означало настоящее объявление войны королеве. В парламенте Конде разъяснил, что не намерен посещать Пале-Рояль, где ведутся секретные совещания о его аресте. При этом Конде свирепо посмотрел на Гонди. Все взоры обратились к коадъютору, но тот, будучи прекрасным актером, хладнокровно предложил начать следствие против тех, кто замешан в этих совещаниях. Ответом был взрыв хохота: ни для кого уже не было тайной, что их главным участником является Гонди. Тогда, нисколько не смутившись, коадъютор предложил арестовать Ондедея, главу разведки кардинала, и других агентов Мазарини. Это предложение, встретившее единодушную поддержку, несколько восстановило влияние Гонди.
Людовик, принц Конде ("Великий Конде”)
Гравюра Пуайльи
Конде отомстил, в ту же ночь распространив в Париже текст проектировавшейся в июле сделки между Гонди, Мазарини, Шатнефом и герцогиней де Шеврез. Документ был перехвачен солдатами принца у курьера, посланного одним из друзей старой интриганки. Вряд ли можно сомневаться в аутентичности этого текста: отрывки из него совпадают с параграфами, которые советовал включить в договор Мазарини (эти предложения кардинал излагал в своей секретной переписке с королевой). В ответ Анна выдвинула против Конде обвинение в связи с Испанией, которое поддержали в парламенте Гонди и Шатнеф. 17 августа 1651 года принц прибыл в парламент в сопровождении толпы вооруженных приверженцев, требуя признать его невиновным. Парламент, не приняв никакого решения, отложил заседание. На следующий день не только Конде, но и коадъютор явился во главе вооруженной свиты. Дело несколько раз едва не доходило до вооруженной схватки. Герцог Ларошфуко, сторонник Конде, угрожал убить коадъютора. Тот бросил ему в лицо:
— Вы трус, а я священник. Мы не причиним друг другу большого вреда.
Дома Гонди предался грустным размышлениям. Если бы возникла стычка и Конде был убит, его, коадъютора, считали бы виновником гибели принца крови, королева и Мазарини со вздохом облегчения отреклись бы от тяготившего их союзника. Конде тоже счел невыгодным продолжать схватку в столице и быстро покинул Париж. Карете принца преградила дорогу религиозная процессия, во главе ее шествовал коадъютор. Конде сошел с коляски… и попросил благословения святого отца. Прелат величественно исполнил желание принца, который после этого снова двинулся в путь.
В начале сентября король был объявлен совершеннолетним. Под этим предлогом правительство было переформировано в соответствии с договором между Мазарини и коадъютором. Но это послужило лишь сигналом для новой гражданской войны. В «кадрили Фронды» сторонники различных партий снова поменялись местами. Конде возглавил противников королевы и Мазарини, бывший фрондер Тюренн стал во главе королевской армии. Гастон Орлеанский последовательно изменил всем партиям, герцогиня де Шеврез поссорилась с Гонди и перешла на сторону Анны Австрийской, а потом снова примкнула к партии коадъютора. Великосветские интриганы и интриганки продолжали плести паутину заговоров, войска испанцев объединились с отрядами Конде и других принцев. Пожары, насилия, убийства, разоренные города и ограбленное, обнищавшее население — вот чем обернулась «Фронда принцев» для французского народа.
В конце 1651 года Мазарини вернулся во Францию во главе наемного войска немецких ландскнехтов. В июле 1652 года сторонники Конде впустили его армию в Париж, покинутый Анной Австрийской. Однако чаша весов все более склонялась в пользу короны. Буржуазия, напуганная разорением страны, жаждала мира. Гонди — теперь уже кардинал Рец, — начавший было создавать партию середины (ни Конде, ни Мазарини), снова вступил в тайные переговоры с кардиналом. В октябре Конде покинул Париж, в который вступили королевские войска. Постепенно Мазарини поодиночке договорился с большинством вельмож, Конде уехал за границу. Несколько позднее его брат принц Конти с восторгом принял предложение жениться на одной из племянниц Мазарини. Когда принцу предложили остановить свой выбор на той, которая ему больше нравится, он ответил:
— Неважно какая, я ведь желаю жениться на господине кардинале.
Последовать примеру принца никак не мог (к великому своему сожалению) другой кардинал — Рец. С прекращением Фронды он превратился из необходимого союзника в подозрительного, опасного смутьяна.
19 декабря сразу после того, как Реца внешне вполне благосклонно принял король, к прелату подошел капитан гвардии Вилькер и сказал, что имеет приказ о взятии его под стражу. Верные люди заранее предупредили Реца, что, по слухам, его собираются бросить в тюрьму. Поэтому перед посещением королевского дворца он из предосторожности сжег компрометирующие его бумаги. Арестованный был доставлен в Венсенский замок.
Однако если Рец давно растерял свою былую популярность, то он сохранил немало сторонников, в том числе тех, кто выполнял роль агентов его секретной службы (а как кардинал он даже оказывал влияние на парижское духовенство). Поэтому сторонники Рена вскоре же сумели наладить с ним связь через охрану, привыкшую за деньги оказывать услуги знатным узникам. Деятельно обсуждался план побега, а пока что Рец отправлял на волю послания, доказывая незаконность ареста его, высшего сановника церкви. Вернувшийся к этому времени в Париж Мазарини тщетно менял тюремщиков в Венсенском замке: новые стражники оказывались не менее продажными, чем их предшественники.
Реи находился уже более года в заключении, когда его агенты помогли ему начать борьбу против Мазарини. 21 марта 1654 года скончался парижский архиепископ, преемником которого по церковным законам должен был стать Реи. Однако для вступления на этот пост требовались известные юридические формальности, особенно декларация, собственноручно подписанная Реием. Его сторонники заблаговременно преодолели возникшее препятствие. Нотариус архиепископства, переодевшись маляром, под предлогом переклейки обоев проник в комнату Реца и дал ему на подпись нужную бумагу.
Не успел старый архиепископ испустить последний вздох, как была немедленно представлена декларация Реца, извещавшая о том, что он приступает к исполнению своих апостольских обязанностей. Во дворце это вызвало настоящий припадок ярости: формально правительство не имело права сместить архиепископа, законно занявшего свою должность. Начали шептаться о том, не предстоит ли еще одна Фронда — на этот раз церковная. Королевский совет поспешил запретить духовенству подчиняться приказам Реца. Было решено потребовать от узника добровольного отказа полномочий. С этим и был послан от Мазарини в Венсенский замок де Бельер, президент парижского парламента и старый знакомый Реца. Королевский посланец, по-видимому, прибег и к угрозам, и к щедрым обещаниям. Рецу предлагалось в обмен на его согласие несколько доходных аббатств и разрешение уехать в Рим. Кардинал ответил категорическим отказом. Тогда его поспешно под сильной военной охраной перевезли в замок, расположенный в городе Нанте, подальше от столицы. А секретная служба Реца деятельно занялась подготовкой его побега, одновременно откомандировав в Рим аббата Шарье, чтобы воспрепятствовать попыткам Мазарини оказать влияние на Иннокентия X (Шарье очень успешно выполнил свою задачу).
В августе 1654 года Рец спустился на канате из окна замка и с помощью ожидавших его друзей бежал, далеко опередив погоню. После многочисленных приключений он сел на корабль и покинул берега Франции. По дороге прелат едва не попал в руки пиратов, пока наконец через Испанию не добрался до Рима. Там деятельный заговорщик с головой ушел в политические интриги, постоянно путая расчеты парижского двора. Мазарини пришлось создать из-за этого целую агентурную сеть в Риме. Шпионы постоянно доносили в Париж, как Рецу удается обводить вокруг пальца французских дипломатов.
Людовик XIV на 51 году жизни
Гравюра П.Симона
Правительство Людовика XIV первоначально предписало парижскому парламенту начать процесс против Реца. Этот указ вызвал большое волнение среди французского духовенства, считавшего, что он нарушает его привилегии. Тогда французский двор попытался добиться через папу предания Реца церковному суду. Новый французский посол Лионне в декабре 1654 года отправился в Рим с письмом, содержавшим обвинительное заключение против Реца. Папа Иннокентий X, к которому было обращено это послание, умер в начале января 1655 года. Началась борьба, связанная с выбором нового первосвященника. В это время с блеском развернулись таланты Реца.
Неутомимый заговорщик решил возобновить большую политическую игру, опираясь на поддержку части парижского духовенства. И опять на помощь были призваны методы тайной войны. Агентом Реца был, между прочим, любовник супруги французского посла Лионне, некий Фуке де Круаси. Он регулярно пересылал Рецу копии писем посла к королевским министрам в Париже относительно бывшего главы «парламентской Фронды». Рец мог убедиться из этой переписки, насколько нежные чувства питал к нему Мазарини, припомнивший все прегрешения Гонди со времени «Ночи баррикад».
В одном из писем Лионне к Мазарини летом 1655 года указывалось, что новый папа Александр VII наконец внял ходатайствам посла и обещал начать против Реца судебный процесс.
Однако тут же возникли процессуальные сложности. Для того чтобы начать суд над Рецем, необходимо было восстановить его на посту архиепископа. К тому же он являлся французским подданным; его преступления, сводящиеся к оскорблению монарха, были совершены во Франции и относились к юрисдикции короля. Кто должен был возбудить дело против Реца: генеральный прокурор парижского парламента или генеральный королевский прокурор? И кто должен был вести расследование: французские епископы или комиссары, присланные римским папой? Все это служило предметом обильной служебной переписки между Лионне и королевскими министрами, а Рец благодаря Фуке де Круаси был полностью в курсе дела. 9 июля 1655 года Мазарини направил Лионне длинный «меморандум о преступлениях, за которые следует предать суду кардинала Реца». Этот документ представлял собой превосходную биографию достойного прелата. Лионне предложил назвать депешу «Меморандумом о некоторых (или различных) преступлениях Реца» — это должно было служить намеком на то, что французское правительство воздерживается пока от перечисления остальных прегрешений кардинала. 29 июля папа неожиданно обещал посадить Реца в замок Святого Ангела. Рецу удалось отвести готовившийся удар.
Со своей стороны кардинал не переставал возбуждать волнения среди парижского духовенства. Королевская разведка перехватила некоторые из писем Реца, адресованные в Париж. Папа, изменив прежнее решение, стал склонять короля к примирению с кардиналом. Одновременно Рец и сам попытался вступить в переписку с королем и Анной Австрийской, нащупывая почву для полюбовного соглашения. Посредником при переговорах вызвалась быть шведская королева Христина, прибывшая для этого в Рим (Мазарини, получивший от своих разведчиков данные сведения, едва успел через Лионне отговорить ее от непрошеного вмешательства). Отчаявшись в успехе и опасаясь, что папа наконец уступит домогательствам Франции, Рец в 1656 году покинул Рим, а вскоре уехал из Италии в неизвестном направлении.
В течение шести лет о кардинале не было ни слуху ни духу. Разведка Мазарини сбилась с ног, отыскивая его следы. В бумагах французского первого министра сохранились многочисленные донесения, в которых передавались самые различные (почти все ложные) слухи и предположения относительно местопребывания Реца. Однажды французские разведчики все же обнаружили беглеца в Швейцарии и собирались похитить его в тот момент, когда кардинал гулял без охраны. Однако Рец, давно приобретший привычку к переодеванию, успешно избежал ловушки.
Кардинал Мазарини
Вскоре Рец поселился у одного аббата в Франш-Конте и отправил в Париж руководителей своей разведки Жоли и Ламета восстанавливать нарушенные связи. Агенты Мазарини получили приказ во что бы то ни стало выследить курьеров Реца. Некоторые из его лазутчиков, включая маркиза Фоссеза, а также одного из секретарей короля и других видных лиц, были обнаружены и посажены в Бастилию. Однако связь, установленная Жоли, продолжала работать бесперебойно. «Почтовым ящиком» служил некий Брюле, секретарь председателя парижского парламента Бельера. В его обязанности входила расшифровка всех писем кардинала и пересылка различным лицам, включая герцогиню де Шеврез, а также отправка их корреспонденции в Германию к Жоли, который, в свою очередь, доставлял ее Рецу. Эта довольно громоздкая система функционировала многие годы, несмотря на все усилия Мазарини ее обнаружить. Рец продолжал доставлять неприятности первому министру, выступая время от времени с осуждением его особо непопулярных действий. В конце 1656 года, находясь в Кельне, заговорщик узнал, что туда прибыло полтора десятка солдат с поручением похитить его или убить. Осуществить эту операцию взялся уже известный нам Фуке де Круаси. Но планы провалились.
Рец скрылся в Голландии и повел оттуда переговоры с Конде, находившимся во Фландрии, в Брюсселе. Конде предложил попытаться поднять восстание в Нормандии. Неутомимый кардинал принимал деятельное участие в интригах, связанных с реставрацией Карла 11 Стюарта на английском престоле в 1660 году. Потом, уже в Лондоне, он вел эффективную борьбу с Барте, одним из руководителей секретной службы Мазарини, которому были поручены переговоры о намечавшейся женитьбе Карла II на племяннице всемогущего министра. Разумеется, неудача этих планов не усилила расположения Мазарини к Рецу. Утверждают, что, чувствуя приближение смерти, Мазарини даже взял обещание с Анны Австрийской и Людовика XIV, что они не простят Реца.
Людовик, сам ненавидевший кардинала, дал слово, что Рецу никогда не будет позволено вернуться во Францию. Мазарини умер в марте 1661 года. А уже в феврале 1662 года Рец вернулся на родину (он получил это разрешение как плату за отказ от парижского архиепископства). Несмотря на огромные старания, Рецу не удалось втереться в милость к «королю-солнцу». Однако, когда у парижского двора возник конфликт с Римом и король лихорадочно подыскивал средства давления на папу, Людовик обратился за советом к Ондедею (епископу Фрежюскому). Тот переадресовал своего государя к Рецу. Кардинал немедленно дал совет — аннексировать Авиньон, принадлежавший римскому престолу. Совет оказался дельным, Ватикан должен был уступить. После этого Рец не раз выполнял различные секретные поручения короля в Риме, особенно при избрании нового папы.
Опасность отлучения от церкви, грозившая кардиналу, который нарушал тайну дискуссий на конклаве до окончания его заседаний, мало беспокоила Реиа. Во время конклава в 1670 году он вел деятельную переписку со своим давним знакомым — французским послом.
В последние годы жизни (Рец умер в 1679 году) он написал свои знаменитые «Мемуары». В них можно найти и некоторые из известных уже теперь читателю подробностей жизни этого столь характерного деятеля Фронды, знатного сеньора, считавшего себя прирожденным руководителем аристократической «партии», противостоящей короне, опытного политикана, умевшего использовать недовольство столичной толпы, мастерски владевшего оружием интриг.
Как видим, действительность не уступала самой богатой фантазии великого Дюма, выведшего Гонди в романе «Двадцать лет спустя». Однако читателей и почитателей Дюма, конечно, должно заинтересовать, какую роль сыграл в тайной войне этой эпохи д’Артаньян. Если верить роману Дюма, храбрый гасконец оказывается закулисным участником многих политических событий на протяжении почти четырех десятилетий — при Ришелье, Мазарини и в первые годы самостоятельного правления Людовика XIV. Роман не история, но многим, вероятно, известно, что основную канву для своего произведения Дюма заимствовал из книги Гасьена де Куртиля «Мемуары д’Артаньяна», увидевшей свет в 1700 году. Добавим, что Куртиль еще за 13 лет до этого, в 1687 году, опубликовал «Мемуары графа де Рошфора», которые были также использованы Дюма.
Неизвестно, однако, знал ли сам Дюма, что автор «Мемуаров д’Артаньяна» писал свое произведение с живого лица, что действительно существовал гасконец д’Артаньян (его полное имя Шарль де Батц-Кастльмор д’Артаньян), родившийся в 1623 году, имевший друзей Атоса, Портоса и Арамиса, принимавший участие в событиях, о которых повествуется в книге Гасьена де Куртиля, и убитый при осаде Маестрихта в 1675 году.
Гасьен де Куртиль родился в 1646 году (по другим сведениям — в 1647 году) и, следовательно, мог встречаться с д’Артаньяном или по крайней мере с людьми, хорошо знавшими лейтенанта мушкетеров. Возникает, однако, вопрос, можно ли доверять сведениям, содержащимся в «Мемуарах д’Артаньяна», или же они являются плодом воображения де Куртиля? Начав свою карьеру в армии и дослужившись до капитана, Гасьен де Куртиль стал впоследствии плодовитым писателем. Его перу принадлежат несколько сатирических описаний придворного быта, которые он анонимно издал, находясь в эмиграции в Голландии. Вернувшись в 1693 году во Францию, Гасьен де Куртиль был посажен в Бастилию, где провел шесть лет. Выйдя на свободу, он снова отправился в Голландию, где и опубликовал в числе других книг «Мемуары д’Артаньяна». Потом опять вернулся во Францию и вновь перекочевал надолго в Бастилию. Умер он в Париже в 1712 году.
Несомненно, что в произведениях Гасьена де Куртиля, которого иногда не без основания считают автором первых во Франции исторических романов, переплетаются правда и какая-то доля вымысла. Вместе с тем надо учесть, что современники ссылались на его «Мемуары» как на солидный и заслуживающий доверия источник.
Конечно, д’Артаньян де Куртиля оставался бледной тенью литературного героя, созданного талантом Дюма. Удалой сорвиголова, равно непобедимый на поле брани и в споре за дружеским столом, лучшая шпага королевства и проницательный ум, непоколебимая верность и трезвый расчет, не знающая преград неукротимая отвага, презрение к любой опасности, находчивость в беде и ясное понимание своих интересов, пылкость чувств и практическая смекалка, юношеский задор и глубокое знание людей, благородное бескорыстие там, где затронута честь и дружба, рядом с прижимистостью делового человека, знающего себе цену и умеющего дорого продавать свои услуги, — только этот д’Артаньян, которого мы узнали из романов Дюма, полный противоречий и огня, непосредственности и обаяния, завоевал сердца миллионов. Его прототип вряд ли обладал многими из этих достоинств, полюбившихся читателям Дюма, но он тоже был личностью не совсем заурядной.
Вначале нас ждет разочарование. Дюма отнес рождение д’Артаньяна на 16 лет назад по сравнению с действительностью, и храбрый гасконец никак не мог по возрасту принимать участие ни в одном из исторических событий, описанных в «Трех мушкетерах», поскольку они происходили между 1625 и 1628 годами. Однако ряд приключений, которые пришлось пережить д’Артаньяну в романе, например столкновение со знатным придворным (у Дюма — Рошфором) на пути в Париж или борьба со зловещей красавицей леди Винтер, если верить де Куртилю, действительно имели место, только примерно на полтора десятка лет позднее, уже после смерти Ришелье. Надо лишь добавить, что кое-кто из противников д’Артаньяна на дуэлях — здесь опять у Дюма фигурируют действительно существовавшие люди — не были убиты, а благополучно дожили, иные до очень преклонных лет. Зато во многих событиях, о которых повествуется в романах «20 лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», д’Артаньян действительно являлся немаловажным участником, пусть и не столь значительным, как в романах Дюма.
Начиная с 1646 года д’Артаньян выполнял ряд секретных поручений Мазарини как военного, так и дипломатического характера. Однако сообщение де Куртиля, что после «Ночи баррикад» и бегства королевской семьи и Мазарини кардинал поручил д’Артаньяну секретную миссию в Англии, кажется, не находит подтверждения в документах. Когда Мазарини в марте 1651 года должен был временно покинуть Францию, д’Артаньян служил его доверенным лицом, которого он посылал то к кельнскому курфюрсту, то к Кольберу, Фуке и другим своим сторонникам во французской столице. В конце декабря того же года Мазарини вернулся во Францию, и д’Артаньян стал осуществлять ловкий план переманивания вельмож и других влиятельных фрондеров на сторону кардинала. Задания, которые выполнял д’Артаньян, представляли собой обычно причудливое сочетание тайной дипломатии и разведки. Многие из них, вероятно, остались нам неизвестны. Сохранился отрывок письма Мазарини от 9 ноября 1655 года одному из своих сторонников: «Англичанин, которого я направил Вам при посредстве иезуита отца д’Артаньяна, несомненно, сообщит весьма секретные и важные сведения, так как я разведал другим путем часть того, что замышляют Кромвель, испанцы, находящиеся во Фландрии. и принц Конде». Д’Артаньян в роли Арамиса и к тому же по поручению Мазарини — такой сцены не изобрел и Дюма!
В 1655 или 1656 году д’Артаньян был назначен на важный пост капитана гвардии, позднее стал лейтенантом и капитаном мушкетеров, принимал участие в сражениях с испанцами вплоть до заключения Пиренейского мира в 1659 году, а позднее — в войнах Людовика XIV против Голландии.
В начале правления «короля-солнца» он сыграл немаловажную роль в процессе Фуке.
КОРОЛЬ ФИНАНСОВ
Суд над Николя Фуке принадлежит к числу наиболее крупных процессов XVII в. Эту известность он приобрел не столько вследствие своей значимости, сколько благодаря самой личности обвиняемого, близкого знакомого писателей, которые выступили в его защиту. В деле Фуке многое объясняется непримиримой враждой между ним и Кольбером, выдающимся государственным деятелем Франции той эпохи. К этому прибавилось чуть ли не личное соперничество Фуке с молодым королем Людовиком XIV.
Выходец из богатой семьи банкиров и судовладельцев, Николя Фуке делал обычную карьеру разбогатевших буржуа, которые путем покупки государственных должностей всеми правдами и неправдами пролезали в ряды дворянства. Генеральный прокурор парламента Фуке твердо принял сторону преемника Ришелье кардинала Мазарини и оставался верным ему, несмотря на все неожиданности и перемены. Когда кардинал вынужден был временно уехать в Германию, Фуке выполнял важные поручения Мазарини в Париже. Награда не заставила себя ждать. В 1653 году победивший кардинал назначил Фуке одним из двух сюринтендантов (министров) финансов. Пользуясь полным доверием регентши Анны Австрийской, Фуке стал правой рукой кардинала, долгое время был даже его личным банкиром. Фуке и ранее был очень состоятельным человеком, а теперь еще больше разбогател, не проводя строгой границы между государственными и собственными финансами. Именно к этому времени относится широкое меценатство Фуке, щедрые пенсии, которые получали от него писатели и ученые. Он жил богатым патроном, окруженным многочисленными друзьями и клиентами.
Кольбер, тоже сотрудник Мазарини, видел в Фуке противника, устранить которого нужно было для того, чтобы сосредоточить в своих руках руководство экономической политикой правительства. Кольберу была ненавистна расточительность Фуке: вполне уверенный в безнаказанности, сюринтендант бесцеремонно транжирил казенные миллионы, например для строительства своего замка Во, с которым по роскоши могли соперничать разве что королевские дворцы. Пытаясь настроить против Фуке всемогущего правителя страны, Кольбер играл на самой чувствительной струне скупого Мазарини. Кольбер обвинял Фуке в том, что тот недобросовестно управлял личными финансами кардинала, не говоря уже о растрате средств, принадлежавших казне. Он настаивал на том, чтобы Фуке внезапно (иначе он уничтожит компрометирующие бумаги) сняли с должности и предали суду. Секретный меморандум, подробно обосновавший эти предложения, Кольбер переслал по почте кардиналу, который находился в Сен-Жан де Люс, где заканчивалась подготовка к женитьбе молодого короля на испанской принцессе. Однако люди Фуке контролировали почтовую корреспонденцию (сюринтендант завел настоящий «черный кабинет» для перлюстрации писем).
Фуке поспешил к Мазарини. На столе у кардинала сюринтендант увидел знакомый ему и, по-видимому, только что прочитанный министром меморандум Кольбера. Тем не менее лукавый итальянец предполагал, что Фуке ничего неизвестно об этом документе, принял очень ласково своего недавнего любимца и с видимым сочувствием выслушал тирады Фуке против клеветников, пытающихся опорочить его доброе имя. Кардинал ни словом не обмолвился о существовании меморандума Кольбера — это было для Фуке лучшим доказательством того, что Мазарини находился под впечатлением присланной ему бумаги и собирался последовать советам врагов сюринтенданта.
Вывод был лишь отчасти правильным, Мазарини нравилась способность Фуке в критические моменты находить нужные миллионы. Кардинала страшил скандал, который разразился бы при аресте и осуждении его многолетнего помощника. Поэтому он до поры до времени молчал. Лишь весной 1661 года, накануне смерти, Мазарини передал Людовику XIV через своего духовника сведения о предосудительных действиях Фуке и рекомендовал в качестве его преемника Кольбера.
Со своей стороны, Фуке, предчувствуя недоброе, еще до этого решился на крайне опрометчивый шаг: укрепить купленный им остров Бель-Иль, вместе с верными людьми обороняться там, если наступит крайняя необходимость. Самым неосторожным было фиксирование этих планов на бумаге, а также то, что они были оставлены среди других документов в замке Во.
После смерти Мазарини Людовик XIV твердо решил, что он сам будет собственным первым министром. Получив от кардинала компрометирующие материалы о Фуке, король первоначально не только не предпринял никаких шагов против сюринтенданта, но даже внешне выражал ему полную благосклонность, поручая ведение секретных переговоров с Англией, Нидерландами. Это была лишь маска. Более того, Фуке не только не умиротворил Людовика устройством в его честь пышных празднеств, но даже вызвал ненависть монарха, ухаживая за королевской фавориткой ла Вальер.
Расстройство французских финансов давало Людовику XIV все основания уволить в отставку Фуке и отдать его под суд. Но сюринтендант был настолько влиятельной фигурой, что король, приняв весной 1661 года это решение, некоторое время сохранял его в тайне. Прежде всего надо было убедить Фуке продать свою должность генерального прокурора парижского парламента. Дело в том, что лицо, занимавшее эту должность, обладало привилегией быть судимым судом себе равных. Людовик XIV еще не считал удобным нарушать существующий закон и не мог положиться на членов парижского парламента в деле Фуке. Выход был найден. Сюринтенданту дали понять, что он сможет стать преемником канцлера Сегье, который вскоре по старости оставит свой пост. Прельщенный этой перспективой, Фуке уступил место генерального прокурора, которое служило ему известной зашитой.
1 сентября 1661 года в Нант, где находился тогда двор, Людовик XIV приказал вызвать д’Артаньяна, чтобы поручить ему арест Фуке. Королю доложили, что лейтенант мушкетеров нездоров. Людовик не поверил, подозревая, что гасконец пытается уклониться от неприятного поручения. По приказу Людовика мушкетера на носилках доставили в королевский кабинет. Лишь убедившись, что офицер действительно болен, Людовик смягчился. Он настолько полагался на верность и ловкость д’Артаньяна, что отложил арест Фуке на три дня, пока гасконец не выздоровеет. 5 сентября в Нанте Фуке был арестован д’Артаньяном. Когда мушкетер узнал, что его прочат на роль стража при Фуке в Пинеро ле, он заявил Кольберу:
— Я предпочитаю служить простым солдатом, чем заделаться тюремщиком.
— Пойдите и заявите об этом королю, — иронически ответил Кольбер.
Мушкетер неожиданно последовал этому совету и сообщил Людовику XIV о своем отказе. Король, хорошо относившийся к д’Артаньяну, лишь улыбнулся:
— Я вас за это только еще больше уважаю, ведь ремесло тюремщика обогащает, тогда как военное ремесло…
Снисходительность короля, вероятно, была вызвана тем, что он уже понял, насколько мушкетер не подходил для роли, на которую его прочили. Была найдена куда более подходящая Кандидатура в лице Б. де Сен-Мара, помощника д’Артаньяна.
Не желая предавать Фуке суду парижского парламента, Людовик XIV 15 ноября 1661 года опубликовал эдикт о создании специальной «Палаты правосудия» для расследования злоупотреблений в финансовом ведомстве за предшествовавшую четверть века. Столь обширная программа ревизии была призвана послужить объяснением, почему связанный с нею процесс Фуке был изъят из ведения парижского парламента, который обладал правом судить своих членов. Кроме этого, всестороннее выяснение непорядков в управлении государственными финансами должно было обратить против Фуке гнев французского населения, задавленного налоговым гнетом. Состав комиссии подбирался из числа врагов обвиняемого и лиц, на которых можно было рассчитывать как на простых исполнителей королевской воли.
Заседания палаты начались 3 декабря 1661 года, но лишь в марте следующего года было прямо названо имя Фуке как виновника дурного управления финансами. Он был вызван для допроса. Обвиняемый выдвигал различные возражения, утверждая, что он не может сообщить палате многие особо секретные сведения. Он имел право докладывать лишь покойному Мазарини и самому королю. Фуке жаловался на конфискацию принадлежавших ему бумаг, которые будто бы содержали доказательства его невиновности. В ответ бывшему сюринтенданту предъявили собственноручно написанный им план обороны Бель-Иля, что могло считаться доказательством государственной измены. Фуке был потрясен, увидев эту бумагу. О ее существовании он успел забыть, считал ее давно уничтоженной. Пытаясь оправдаться, Фуке уверял, что это были лишь какие-то туманные проекты, вызванные охлаждением его отношений с Мазарини, что после примирения с кардиналом эти пустые мечты были полностью забыты и он, Фуке, даже сам предлагал Бель-Иль королю.
Данные, собранные палатой, говорили о другом: Фуке уже принял меры к осуществлению своего плана, закупил корабли якобы для торговых целей, а в действительности для организации собственного военного флота, рассчитывая на поддержку друзей, занимавших посты комендантов ряда крепостей. В планы Фуке входила и попытка развернуть агитацию за созыв Генеральных штатов — сословного представительства, не собиравшегося уже почти полстолетия, — чтобы опереться на них в сопротивлении королю. Все это казалось правдоподобным. Ведь сторонники павшего министра не дремали и после его ареста. Были выпушены памфлеты в его защиту, наиболее известный из них был написан поэтом Пелиссоном. Это способствовало известному повороту общественных настроений в пользу обвиняемого. Выступления Фуке на суде получили широкое распространение и были частично опубликованы. Он добился дозволения взять двух адвокатов, в чем ему раньше отказывали (это не разрешалось в делах, касающихся государственной измены). Впрочем, Фуке мог беседовать со своими адвокатами только в присутствии д’Артаньяна. Судебное разбирательство все более затягивалось, к крайнему неудовольствию Людовика XIV. Король фактически отстранил от ведения дела председателя палаты, не оправдавшего его надежд. Руководство процессом было поручено канцлеру Сегье. Были заменены и другие лица, но даже эти меры не очень ускорили ход процесса. Фуке, которого тем временем перевозили из одной парижской тюрьмы в другую (побывал он и в Бастилии), временами переходил в наступление, подвергая сомнению протоколы заседаний, обвиняя Кольбера в подлогах или напоминая Сегье его собственное двусмысленное поведение в годы Фронды, когда канцлер поддерживал тайные связи с испанцами.
Два докладчика палаты, представившие к концу 1664 года свои заключения по делу Фуке, разошлись в оценках. В обоих заключениях Фуке признавался виновным в растратах и расточительстве казенных средств, но лишь один из докладчиков инкриминировал ему оскорбление величества и государственную измену. Палата большинством голосов отвергла предложение присудить обвиняемого к смерти и ограничилась приговором к конфискации имущества и пожизненному изгнанию из Франции.
Король открыто заявил, что без колебаний утвердит смертный приговор. Поэтому он воспринял столь мягкий, по его мнению, вердикт палаты как вызов: ведь Фуке с его энергией мог за границей сколотить новое состояние и стал бы насмехаться над наказанием, которому его подвергли. Вскоре члены палаты испытали на себе всю силу королевского раздражения. Один из них лишился своих постов, другим предложили покинуть Париж. Вопреки обычаю, по которому король должен был либо согласиться с приговором, либо смягчить его, на сей раз Людовик изменил решение палаты в противоположном смысле. Взамен изгнания Фуке был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Бывшего министра под строгой охраной направили в крепость североитальянского города Пинероля, принадлежавшего тогда Франции. В Пинероле Фуке предстояло провести в суровом заключении последние пятнадцать лет своей жизни. Надежды друзей Фуке, что он будет вскоре помилован, не осуществились вследствие неугасавшей ненависти Людовика XIV к осужденному.
Еще современники недоумевали: в чем причина не ослабевавшего со временем королевского гнева? Одна из загадок — полная пассивность и беззаботность Фуке накануне ареста, ведь он имел более чем достаточно времени, чтобы оставить далеко позади любое преследование, укрыться на Бель-Иле (остров охранял нанятый им гарнизон); наконеи, просто бежать за границу на одном из своих кораблей. Трудно представить, что Фуке ничего не было известно о надвигавшейся опасности, о действиях его врагов, включая Кольбера и все еще неугомонную герцогиню де Шеврез. Был ли Фуке болен, дал ли усыпить себя лестью, или твердо рассчитывал на поддержку парижского парламента, где имел немало сторонников, или, наконец, он предпочитал публично оправдаться? Или, может быть, он знал такие тайны, которые, как он считал, могли быть его верной зашитой (на это Фуке не раз намекал впоследствии)? Но Людовик XIV неплохо разгадал характер своего опального министра: если он и владел такими секретами, то не проговорился об этом ни на процессе, ни во время долгих бесед в тюрьме Пинероля с другим заключенным, герцогом Лозеном. Когда Фуке умер, в Париже ходили упорные слухи, что бывший сюринтендант финансов отравлен по приказу короля. Это дало новую пишу для толков, которые потом расцвечивались домыслами и фантазией ученых и романистов и способствовали включению едва ли не самого известного процесса эпохи — суда над Фуке — в полную загадок историю внесудебной расправы с узником, носившим железную маску на лице. Впрочем, какая-то связь между ними, несомненно, существовала и в действительности.
Трехвековая загадка таинственного арестанта в железной маске все еще остается нерешенной, несмотря на то, что ей посвящена уже целая библиотека книг. Когда-то история эта имела политическое звучание, в ней ярко выразились монархический произвол, режим бесправия для подавляющего большинства населения Франции в период абсолютизма. Потом история узника в железной маске перешла в разряд исторических тайн, неразгаданность которых время от времени создает основу для различных экстравагантных теорий.
ЗАГАДКА «ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКИ»
В три часа после полудня 18 сентября 1698 года в Париж через Сент-Антуанское предместье проехала большая карета с плотно занавешенными окнами. Со всех сторон ее охраняли вооруженные всадники. Карета принадлежала Сен-Мару, который в молодости (в середине века) служил мушкетером под началом знаменитого Шарля д’Артаньяна. Когда король поручил д’Артаньяну арестовать всемогущего министра финансов Фуке, лейтенант, в свою очередь, приказал Бениню Доверию де Сен-Мару задержать одного из приближенных этого министра. Сен-Мар удачно выполнил приказ, чем заслужил милость короля. С тех пор он бессменно служил начальником различных крепостей, которые были превращены в тюрьмы для государственных преступников. И вот теперь — венец карьеры: Людовик XIV назначил этого верного слугу губернатором Бастилии, которому полагалось огромное жалованье, «маршалом тюремщиков», как его называл один из французских историков.
Экипаж, в котором ехали Сен-Мар и еще одно лицо, остановился перед подъемным мостом Бастилии. Мост был немедленно опушен, ворота распахнулись и снова захлопнулись, пропустив карету. Вместе с ней Бастилия скрыла тайну, которую надежно охраняли толстые стены средневекового замка и которую вот уже более двух с половиной веков пытаются разгадать ученые…
Возникла целая легенда о «железной маске». Не реальные факты, а только она известна большинству тех, кто слышал что-либо об этой знаменитой истории. О ней написана целая библиотека книг. И среди них, конечно, прежде всего «Три мушкетера» Дюма, точнее, одно из продолжений этой книги — «Десять лет спустя, или Виконт де Бражелон». Этот роман немало способствовал популяризации легенды.
«Вы сын короля Людовика XIII, вы брат короля Людовика XIV, прямой и законный наследник французского трона… Ваше право на царствование оспаривают — значит, вы имели на него право; пролить вашу кровь, как проливают кровь ваших слуг, не осмелились — значит, в вас течет священная кровь; теперь взгляните, как много даровал вам Господь, тот Господь, которого вы столько раз обвиняли. Он дал вам гербы, лицо, рост, возраст и голос вашего брата, и все, что побуждало ваших врагов преследовать вас, все это станет причиной вашего триумфального воскресения», — с такими словами в романе «Виконт де Бражелон» один из мушкетеров, Арамис, ставший генералом ордена иезуитов, обратился к бастильскому узнику Филиппу, носившему железную маску.
Людовик XIV, на сутки брошенный в Бастилию, возвращается с помощью д’Артаньяна на свой трон, а эфемерный король Филипп снова становится арестантом, кочующим из одной темницы в другую с лицом, навсегда скрытым под железной маской. Увлекательный рассказчик отнес этот эпизод к началу 60-х годов XVII в., за три с половиной десятилетия до того времени, когда человек в маске действительно был водворен в Бастилию. (По мотивам Дюма создано несколько известных кинофильмов «Железная маска».) К истории «железной маски» обращались Альфред де Виньи в поэме «Тюрьма», Виктор Гюго в драме «Близнецы» и тот же Люма в «Узнике Бастилии». Существует много романов и второстепенных французских писателей о «маске», печатавшихся еще с середины XVIII в. вплоть до наших дней: де Муши (1750), Реньо-Варена (1804), Ле Турнера (1849), де Робвиля (1860), Лейнадье (1874), Буагобея (1870), Лядусета (1910), Дюнана (1929), Бернеда (1930) и др.
…10 октября 1711 года вдова герцога Орлеанского, брата Людовика XIV, Шарлотта-Елизавета Баварская писала тетке Софье, герцогине Ганноверской: «Один человек долгие годы был заключен в Бастилии и там умер в маске». Через две недели, 22 октября, та же Шарлотта-Елизавета сообщила своей родственнице в Ганновер дополнительные подробности: «Я только что узнала, кто такой человек в маске, умерший в Бастилии. Если он носил маску, это вовсе не следствие варварства; он — английский лорд, который был замешан в предприятии герцога Бервика против короля Вильгельма. Он умер таким образом, чтобы король (Англии. — Е. Ч.) не смог никогда узнать, что с ним стало». Таковы были сведения, которые дополнительно сообщала 60-летняя невестка «короля-солнца» своей тетке, которой перевалило за восьмой десяток и склонность которой к придворным сплетням была общеизвестна. Эти сведения привлекают внимание именно тем, что явно не соответствовали действительности и даже были неправдоподобны сами по себе. Герцог Бервик был побочным сыном Якова II, свергнутого с престола в 1688 году (его матерью была Арабелла Черчилль, сестра знаменитого герцога Мальборо). После «славной революции» 1688 года Бервик эмигрировал во Францию, участвовал в войнах Людовика XIV (в том числе и против Англии), подавил крестьянское восстание камизаров и в 1706 году получил звание маршала Франции. «Предприятие герцога Бервика против короля Вильгельма» могло быть только одним из многочисленных якобитских заговоров. В правление Вильгельма Оранского Англия большей частью находилась в войне с Францией, кроме периода между Рисвикским миром 1697 года и началом войны за Испанское наследство в 1701 году. Непонятно, зачем было держать участника якобитского заговора против Вильгельма в Бастилии и вдобавок, скрывая его лицо под маской, сохранять такие меры предосторожности даже после смерти Вильгельма в 1702 году. Одним словом, письмо от 22 октября 1711 года содержало столь очевидное абсурдное объяснение загадки, о которой проговорилась в своем предыдущем послании Шарлотта-Елизавета, что невольно наводит на мысль о сознательной дезинформации, к которой прибегла невестка Людовика XIV, снабдив свою престарелую родственницу хоть каким-то объяснением загадки и, возможно, давая ей понять нежелательность дальнейшего обсуждения щекотливой темы.
Далее. Свидетельство Вольтера, с 16 мая 1716 года по 14 апреля 1717 года сидевшего в Бастилии (а также еще раз 9 дней — с 17 по 26 апреля 1726 года, после чего писатель был выслан в Англию). Приступив в 1732 году к созданию своего капитального труда «Век Людовика XIV», Вольтер через шесть лет, 30 октября 1738 года, писал аббату Любо: «Я довольно осведомлен о приключениях человека в железной маске, умершего в Бастилии. Я разговаривал с людьми, которые при нем служили». Это письмо, в котором впервые использован образ человека в железной маске, говорит, что Вольтер был знаком с людьми, в той или иной степени посвященными в тайну. В 1751 году появился «Век Людовика XIV». В ней Вольтер сообщает отдельные подробности относительно содержания и поведения узника. Однако надо отметить одно важное обстоятельство. Вольтер относит арест «маски» к 1661 году, через несколько месяцев после смерти кардинала Мазарини. При этом писатель подчеркивает, что это беспримерное происшествие осталось неизвестным для всех ранее писавших историков. Иными словами, Вольтер опирается здесь на собственные, остававшиеся прежде недоступными источники. Писатель явно знал немало о «маске» — и о его пребывании в различных тюрьмах, и о его смерти в 1703 году. Правда, Вольтер, как до него и Ренневиль, сообщает, что «маску» сразу направили на остров Сен-Маргерит и в 1690 году (а не в 1698 году, как на самом деле), когда губернатор Пинероля Сен-Мар был назначен губернатором Бастилии, он взял с собой с острова заключенного в маске. До этого узника посетил Лувуа и разговаривал с ним стоя, с вниманием, свидетельствующим о большом почтении, — факт, соответствующий действительности и свидетельствующий об осведомленности автора «Века Людовика XIV» о деле узника в железной маске. Заключая свой рассказ, Вольтер писал: «Еще более удивительно то, что, когда его («маску») отослали на остров Сен-Маргерит, в Европе не исчез ни один значительный человек». Не стремился ли Вольтер такой внешне простой констатацией факта дать ключ к разгадке тайны, которая была ему известна больше, чем он мог публично заявить об этом?
Учитывая интерес, который вызвал рассказ о «маске», Вольтер в издании 1752 года добавил ряд новых деталей, в частности эпизод с рыбаком, который нашел серебряную тарелку, выброшенную «маской» из темницы, и которого спасла неграмотность. Посвящен в секрет был военный министр Шамийяр. Его зять маршал Лафейяд рассказывал Вольтеру, что он на коленях умолял Шамийяра открыть секрет «маски», но тот решительно отказал ему в этом, ссылаясь на свою клятву хранить молчание. Вольтер далее пишет, что другими лицами, сообщившими ему сведения о «маске», были, в частности, герцог Ришелье, министр Торси, лорд Болингброк, герцогиня Мальборо, некоторые из них могли быть в какой-то степени посвящены в тайну. В добавлении, написанном в 1753 году, Вольтер решительно отметает возможность, что «маской» был герцог Вермандуа, как это считал автор «Секретных записок по истории Персии». Вместе с тем Вольтер называл еще людей, снабдивших его сведениями о «маске»: Риуса — бывшего служащего военного ведомства в Канне (неподалеку от Сен-Маргерита), видевшего в юности, как узника перевозили с острова в Париж; личного хирурга Ришелье Марсолана; зятя врача в Бастилии, который лечил «маску», — эти и другие люди были еще живы в 1753 году и могли подтвердить слова писателя.
В 1771 году во втором издании «Вопросов, касающихся энциклопедии» имеется «Добавление издателя», в котором указывалось, что «маска» — сын Анны Австрийской, незаконный старший брат Людовика XIV. Можно усомниться в том, что это известное прибавление написано Вольтером или было предварительно одобрено им. Стиль прибавления слабо напоминает вольтеровскую манеру письма. Писатель говорит, что тот, кого стали называть «маской», был арестован после смерти Мазарини. Если бы речь шла о старшем брате короля Людовика XIV, родившегося в 1638 году, то держать в одиночном заключении незаконного сына Анны Австрийской пришлось бы ранее 1661 года (впрочем, в «Добавлении» говорится, что арест был произведен по личному приказу Людовика XIV, как только он после кончины кардинала принял бразды правления и узнал тайну). Вместе с тем против гипотезы, что «маска» — старший брат короля, говорит, во-первых, то, что, если Мазарини и Анна Австрийская хранили секрет до 1661 года, им не было причин тогда открывать его молодому королю, и, во-вторых, то, что если «маска», находясь минимум до 24 лет на свободе (1637–1661 годы), не сообщила никому о своем происхождении, следовательно, она не знала о нем. Да и другие не подозревали о тайне. Это означало бы, что внешнее сходство «маски» с его братом не бросалось в глаза. Откуда же «маска» могла узнать тайну, находясь в заточении, а если не узнала, зачем было нужно так тщательно изолировать ее от любых контактов с окружающими? Кроме того, само предположение, что королева скрыла от окружающих рождение ею ребенка, могло возникнуть только при незнании придворных обычаев. (Впрочем, последнее, как мы увидим, оспаривается.)
И наконец, в списке авторов XVIII в. есть еще один свидетель, аббат Папон, который в 1780 году опубликовал книгу «Литературное путешествие в Прованс» и также не разделял мнения барона Хейса, который за 10 лет до этого отождествил «маску» с графом Маттиоли, именуя узника «неизвестным». Повторяя и подтверждая на основе собственных источников многое, уже известное из произведений Вольтера и других писателей, Папон сообщает со ссылкой на одного отставного офицера, которому было уже около восьмидесяти, о таком происшествии. Лекарь его роты, направленный нести службу в крепость-тюрьму на острове Сен-Маргерит, однажды увидел, что узник выбросил в море какой-то белый предмет: это был кусок, оторванный от рубахи. Лекарь выловил его и принес к губернатору острова Сен-Мару. Губернатор развернул полотно, на внутренней стороне которого было что-то написано. После этого Сен-Мар стал строго допрашивать лекаря, прочел ли он эту своеобразную записку. Тот клялся, что не читал. Через два дня врача нашли мертвым в его постели. Папон сообщает еще несколько важных штрихов. Во-первых, «маску» считали настолько значительным лицом, что ему разрешили иметь слугу. Во-вторых, он с годами не терял этого значения, так как ему подыскивали другого слугу. В-третьих, его слуги уже не должны были выйти на свободу — дополнительное указание, что «маска» была обречена на вечное заключение в тюрьме.
Таковы свидетельства авторов XVIII в., которые надо принять во внимание при решении загадки. Это далеко не всегда делалось в книгах о «маске». Существовала версия, согласно которой «железная маска» — это не брат, а отец Людовика XIV, которым был, оказывается, один бедный дворянин, добившийся благосклонности королевы Анны Австрийской и заключенный в тюрьму за слишком большое внешнее сходство со своим царствующим сыном.
Появилось немало и других претендентов. Так, «маской», как уже отмечалось, считали графа де Вермандуа, сына Людовика XIV и его любовницы ла Вальер. Вероятно, кандидатура Вермандуа была самой популярной в XVIII в. Обратимся сначала к не вызывающим сомнения фактам, чтобы их можно было бы сопоставить с доводами, приводимыми сторонниками этого кандидата.
Вермандуа и его сестра были двумя из пятерых детей Людовика XIV и ла Вальер, оставшимися в живых. Ко времени рождения Вермандуа король уже порвал со своей любовницей, которая вскоре ушла в монастырь. Сын и дочь ла Вальер вызывали глухую ненависть со стороны новой королевской фаворитки маркизы де Монтеспан, которая видела в них соперников для ее собственных детей, прижитых от Людовика. Но это не помешало королю признать Вермандуа и его сестру своими детьми. Вермандуа был еще двухлетним ребенком официально назначен Великим адмиралом Франции, отдан на воспитание министру финансов Кольберу. Его сестра была выдана замуж за близкого родственника Людовика XIV принца Конти. Шестнадцатилетним юношей Вермандуа отправился в действующую армию во Фландрию, в рядах которой принял участие в нескольких небольших сражениях. Неожиданно стало известно, что он тяжело болен, о ходе болезни ежедневно посылались специальные депеши Людовику. 18 ноября 1683 года Вермандуа скончался. Его тело было доставлено в Аррас, где и похоронено со всеми полагающимися почестями. Король прислал 10 тысяч франков на оплату расходов по похоронам и поминовения души покойного. Через столетие, в 1786 году король Людовик XVI приказал вскрыть гробницу Вермандуа. Это было произведено в присутствии епископа Арраса и генерального прокурора. В подписанном ими заявлении было отмечено, что тело хорошо сохранилось. Но — задавали вопрос — действительно ли это были останки Вермандуа? Ведь тогда уже не было никого, кто видел Вермандуа живым. Во время революции кафедральный собор Арраса был полностью разрушен, что сделало невозможным повторное вскрытие могилы.
В уже известных нам «Секретных записках по истории Персии», в которых Вермандуа выведен под именем Жиафера, рассказывается о его бурной ссоре с наследником престола. О ней молчат все современные источники, что трудно объяснить лишь тем, что такой ссоры не было в действительности. Напротив, имеется много свидетельств того, что Вермандуа находился в отличных отношениях с дофином, который был старше его на шесть лет, очень большая разница в молодые годы. Сестра Вермандуа оставалась близким другом дофина. Правда, незадолго до отъезда в армию Вермандуа сильно проштрафился, по крайней мере так уверяет дочь герцога Гастона Орлеанского, графиня де Монпансье, которая принадлежала к партии маркизы де Монтеспан и поэтому недоброжелательно относилась к детям ла Вальер. Король был недоволен компанией, которую его сын завел себе, в виде наказания ему запретили посещать Версаль, за исключением присутствия на утренней мессе и в учебных помещениях. Предполагалось, что наказание заставит провинившегося впредь вести себя должным образом. Даже в изложении враждебно настроенной к Вермандуа графини Монпансье этот эпизод выглядит как юношеское прегрешение, что определило и мягкость наказания. Вряд ли возможно представить себе, что карой за него могло стать пожизненное одиночное заключение.
Автор XVIII в. Анри Гриффе, державший в руках некоторые документы, относящиеся к заключенному в маске (об этом ниже), считал, что имя Marchiali, как была названа «маска» в свидетельстве о смерти, является анаграммой слов his amiral (адмирал в этом пространстве), то есть содержит прямо намек на Вермандуа, имевшего чин Великого адмирала Франции. Но так можно доказать все, что угодно.
В 1789 году один журналист привел рассказ некоего венецианского туриста, который видел, как рабочие разрушают Бастилию, которую было предписано сравнять с землей. Он купил у одного из них за 3 ливра одну старую бумагу. Тот, по его словам, обнаружил ее в стене третьей камеры башни Бертодьер. Бумага якобы была письмом Вермандуа, датированным 2 октября 1701 года. В нем он сообщает, что заключен в тюрьму за какую-то провинность по приказанию «варварски жестокого отца» и что, вероятно, ему предстоит закончить жизнь в темнице. Все давно считают его умершим, и с помощью своего письма он пытается дать знать, что пока еще жив. Эта бумага представляла бы неопровержимое доказательство, если она была бы продемонстрирована воочию. А журналист не только не представил ее, но даже не назвал фамилию венецианца, которому она будто бы принадлежала… Подлинные же документы свидетельствуют, что Вермандуа умер за полтора десятка лет до появления «маски» в Бастилии. И пока не будет доказано, что они, напротив, подложны, обсуждение кандидатуры Вермандуа остается беспредметным.
Аналогично обстоит дело и с кандидатурой герцога де Бофора, которая тоже неоднократно выдвигалась в литературе. Франсуа де Вандом герцог де Бофор был внуком короля Генриха IV (отец Бофора герцог Цезарь де Бурбон являлся незаконным сыном этого монарха). Бофор родился в 1616 году и был, таким образом, более чем на двадцать лет старше другого внука Генриха IV — короля Людовика XIV. Во время царствования Людовика XIII Цезарь де Бурбон участвовал в заговорах против Ришелье, в которых была замешана и королева Анна Австрийская. После смерти кардинала и Людовика XIII Анна Австрийская, ставшая регентшей, поручила Бофору охранять ее детей, опасаясь, что брат скончавшегося короля герцог Гастон Орлеанский попытается похитить наследника престола — пятилетнего Людовика XIV.
Однако согласие Бофора с королевой длилось недолго. Фаворит Анны Австрийский кардинал Мазарини стал фактическим правителем государства. Бофор выступил против кардинала, за что был арестован и посажен в государственную тюрьму — Венсенский замок. Рассказ о том, как гериогу удалось бежать из заключения, составляет значительную часть романа Дюма «Двадцать лет спустя». После бегства Бофор стал одним из лидеров Фронды, кумиром парижской толпы. Ко двору он вернулся через десятилетие после поражения Фронды, когда умер Мазарини. Герцог получил чин Великого адмирала и возглавлял несколько экспедиций против арабов на северо-западе Африки. В 1669 году Людовик XIV поручил ему командование экспедиционным корпусом, направленным на остров Крит для оказания помощи венецианцам, сражавшимся против турок. 25 июня при отражении турецкой атаки Бофор оторвался от своей свиты, и что произошло с ним в конце этого сражения — так и осталось неизвестным. Лазутчики, засланные в турецкий лагерь, также ничего не смогли выяснить о судьбе герцога. Бофора не оказалось среди пленных. Позднее ходил слух, что великий визирь отправил отрубленную голову Бофора в Константинополь, где ее три дня носили на шесте по столичным улицам как свидетельство поражения неприятельской армии. Пост же Великого адмирала Людовик XIV, как уже говорилось выше, предоставил своему сыну Вермандуа.
Во Франции многие отказывались верить в смерть Бофора. Через столетие Лагранж-Шансель со слов губернатора Бастилии, преемника Сен-Мара, главного тюремщика «маски», уверял, что загадочный арестант — герцог де Бофор. Этому противоречит письмо самого Сен-Мара, если не считать его донесение сознательной дезинформацией, к которой тюремщик нередко прибегал — как подозревают некоторые исследователи — даже в официальных депешах, уведомляя по другим каналам свое начальство об истинном положении дел. В письме приводился в качестве примера нелепых домыслов слух о том, что арестант в маске — это Бофор.
Лагранж-Шансель рисует, со слов губернатора Бастилии, преемника Сен-Мара, что Бофор был похищен на Крите французской разведкой и тайно доставлен в тюрьму Пинероля (город в Северной Италии, принадлежавший тогда Франции). Это было осуществлено при участии брата влиятельного королевского министра Кольбера, командовавшего наряду с Бофором экспедиционным корпусом на Крите. Король и Кольбер считали Бофора опасным смутьяном, способным организовать новую Фронду. Кроме того, Кольбер строил планы постройки мощного военного флота, и в этом деле Бофор был бы соперником и помехой. Лицо Бофора было знакомо многим, отсюда и стремление сохранить важную государственную тайну, заставив арестанта носить маску. Добавим, что Бофору ко времени смерти «маски» в Бастилии должно было быть без малого 90 лет, это плохо вяжется с тем, что известно об этом заключенном.
Некоторые считали, что «железная маска» — это Фуке, министр финансов, который был смешен с должности и арестован по приказу короля, питавшего к нему личную ненависть. А. Вагеман в книге «Железная маска, или Через два столетия» поделилась догадкой, что под маской скрывался… король Карл 1, вместо которого был публично обезглавлен другой человек во время английской революции, 30 января 1649 года, как «тиран, убийца и враг государства». По уверению Вагеман, Карла заменил какой-то похожий на него роялист. Недаром, мол, Кромвель подошел к телу казненного короля и остановился в недоумении (этот эпизод тоже относится к разряду вымыслов). Зачем было Людовику XIV держать в темнице «спасшегося» Карла I, ответить, разумеется, невозможно. Надо добавить, что, по версии Вагеман, Карл I отличался завидным долголетием, ко времени смерти «маски» ему должно было быть уже 103 года. А одним из главных доказательств своей теории Вагеман считала, что и Карл I, и «маска» любили тонкое белье.
Кого только еще не подставляли под эту «маску»: английского герцога Монмаута, поднявшего восстание против Якова II и казненного после разгрома повстанцев; армянского патриарха Константинополя и Иерусалима по имени Аведик, которого тайно схватили и доставили во Францию стараниями иезуитов. Далее идут уже совсем малоизвестные лица, вроде некоего графа Керулза. Один автор с особенно развитой фантазией назвал, напротив, имя, знакомое каждому, — Мольер! Великий писатель, оказывается, не умер в 1673 году, как это принято считать, а был по наущению иезуитов, ненавидевших автора «Тартюфа», заключен в тюрьму. В отношении некоторых из этих кандидатур еще приводились какие-то, при ближайшем рассмотрении оказывавшиеся, впрочем, совершенно не состоятельными доводами. В остальных случаях «теории» просто были взяты, как говорится, с потолка. Тем не менее доказательству каждой из этих гипотез было посвящено по одной, а то и более книг. В число кандидатов входят и вымышленные лица, вроде даже незаконного сына Людовика XIV, что уже является совсем абсурдом, если считать, что человек-«маска» прибыл в Пинероль в 1668 году, когда самому королю было еще неполных 30 лет.
Жан-Батист Покелен-Мольер
По портрету Белльяра
Еще несколько примеров. В 1873 году Т. Юнг опубликовал книгу «Правда о «железной маске»», в которой пытался связать таинственного заключенного с аристократическим участником одного действительного или мнимого заговора против Людовика XIV. В конце XIX в. появилось исследование Бюрго (написанное в сотрудничестве с Базри) «Железная маска. Раскрытие шифрованной корреспонденции Людовика XIV». Работа произвела большое впечатление, так как авторы ее, специалисты по кодам, утверждали, что их выводы базируются на расшифровке секретной переписки «короля-солнца». А главным выводом было, что «маской» являлся некий генерал Бюлонд. Источники подтверждают: он был действительно посажен в тюрьму. Однако его арест власти нисколько не держали в тайне. Они, напротив, официально довели о нем до всеобщего сведения. Кроме того, в корреспонденции Людовика XIV имелось единственное упоминание о «маске», которое только и способно было как-то подтвердить новую гипотезу. Ее дешифровка Бюрго была на самом деле не более чем простым предположением. К тому же в большой работе по дешифровке не было никакой необходимости. Во Французском национальном архиве сохранились копии документов, расшифрованных еще в XVII в. чиновниками французского министерства. В довершение всего было установлено, что Бюлонд умер в 1709 году, то есть значительно позднее, чем «маска».
Впрочем, фиаско, которое потерпела теория Бюрго, не помешало немецкому исследователю Ф. Шейхлю издать в 1914 году работу, в которой «маской» объявлялся еще один генерал…
Жак Бретель, шевалье де Гремонвиль, родился в Руане в дворянской семье. Он был младшим сыном и, не рассчитывая на наследство, как это было нередко в ту пору, стал священником. Духовное звание послужило ему лишь трамплином для дипломатической карьеры. В 1664 году Гремонвиль был назначен французским послом в Вену. Любезный француз сумел очаровать стареющую императрицу Элеонору, мать императора Леопольда. Посол стал любовником императрицы и получил значительное влияние на ее сына. 19 января 1668 года ему удалось подписать тайный договор о разделе владений Испании между Францией и австрийскими Габсбургами в случае смерти бездетного испанского короля Карла II. Весной 1669 года содержание этого договора сделалось известным иностранным дворам. Чтобы сохранить французское влияние в Вене, Гремонвилю было поручено добиться заключения союзного договора с императором. Посол окунулся с головой в вихрь придворных интриг. Ему удалось получить лишь обязательства Леопольда не воевать против Франции, если не будут затронуты границы габсбургских владений в Испании. Но и это было большим успехом. Вскоре последовали неудачи, и Гремонвиль растерял свое влияние при Венском дворе. Император все более склонялся к союзу с врагами Людовика XIV, стремившегося к европейской гегемонии и уже начавшего войну против Голландии. В конечном счете Леопольд заключил союзный договор с Испанией и Голландией против Франции. Гремонвиль проиграл. Французскому послу были вручены паспорта, но он все еще не терял надежды отыграться и не спешил покидать Вену. Тогда его выслали под военным конвоем. Хотя Гремонвиль вряд ли нес главную долю вины за такой ход событий, бывших прямым следствием агрессивных действий Людовика XIV, гнев короля обратился против злополучного дипломата. Гремонвиль прибыл в Париж 12 ноября 1673 года — после этого о нем ничего не было слышно. Утверждали, будто он умер от огорчения (об этом сообщалось в изданной в 1696 году в Аугсбурге «Истории императора Леопольда»). Датой смерти считали 1683-й или 1686 год. Таковы факты, на основе которых Ф. Шейхль построил гипотезу о том, что «железной маской» был Жак Бретель, шевалье ле Гремонвиль.
Франсуа-Мария-Аруэ де Вольтер
Один из новейших авторов обратит! внимание на то, что кое-кто из его предшественников при выборе кандидата на роль «маски» вольно или невольно следовал своим симпатиям. Юнг и Базри, будучи офицерами, «нашли» «маску» среди военных чинов, католический епископ Бэрнс заключил, что «маска» — духовное лицо. Некоторые из авторов работ о «маске», число которых определяется уже четырехзначными цифрами, тенденциозны до наивности, отбирая документы, говорящие в пользу своей концепции, и игнорируя все остальные, иногда даже при цитировании источников пропуская «неудобные» места, замалчивая аргументы сторонников других гипотез.
Вольтер сообщал существенную деталь: Шамийяр в ответ на настойчивые вопросы Лафейяда и де Комартена (покровители Вольтера в его молодые годы) отвечал иногда, что «это был человек, посвященный во все секреты Фуке». Он признал этим, следовательно, по меньшей мере то, что неизвестный был схвачен некоторое время спустя после смерти кардинала Мазарини. К чему же тогда столь неслыханные предосторожности в отношении доверенного человека Фуке, если считается, что «в это время не исчез ни один значительный человек»? Повторяя в последней фразе уже ранее отмеченный им факт, не намекает ли Вольтер снова, что она содержит — если содержит — ключ к разгадке? Быть может, поэтому Вольтер добавлял: «Следовательно, ясно, что это был чрезвычайно важный узник, судьба которого все время оставалась тайной». Вольтер приводит еще свидетельство некоего Пальто, который, надо добавить, был сыном племянника Сен-Мара. В нем, между прочим, указывалось, что узника называли «башней», рассказывалось о том, какие предосторожности принимались Сен-Маром при его содержании, подчеркивалось, что он говорил без всякого иностранного акцента.
Чтобы приблизиться к разгадке, нужно, отбросив вымыслы и фантазии, обратиться к немногим известным, точно установленным и могущими быть легко проверенными фактам, к сохранившимся, не вызывающим сомнения подлинным документам, которые исходили от непосредственных участников событий.
18 сентября 1698 года губернатор острова Сен-Маргерит в Средиземном море вступил в должность губернатора Бастилии. Привезенный им арестант, ранее содержавшийся в тюрьме на Сен-Маргерите, носил на лице черную бархатную маску; о том, кто этот арестованный и в чем заключалось его преступление, власти хранили строгое молчание. Комендант Дю Жюнк, второе после губернатора должностное лицо Бастилии, 18 сентября 1698 года в своем дневнике (в него он с 1690 года заносил для себя сведения о поступлении и убытии — в результате смерти или освобождения — заключенных) сделал запись о прибытии губернатора Сен-Мара с таинственным узником, который был ранее заключенным в государственной тюрьме в Пинероле. Это небольшое селение у подножия Альп в Северной Италии перешло к Франции по договору 1631 года. Учитывая выгодное стратегическое положение Пинероля, Ришелье приказал построить там крепость, включая цитадель и отделенную от нее высокой стеной тюрьму. Пинероль имел сильные фортификации, его цитадель охранялась сильным гарнизоном. Это неудивительно, если учесть, что из Пинероля французы легко могли проникнуть в глубь Италии. Тюрьма Пинероля была почти так же известна, как Бастилия, и пользовалась еще более зловещей репутацией (когда герцог Лозен узнал, что король приказал заключить его в тюрьму Пинероля, он попытался покончить с собой). В тюрьме содержалось всего несколько — 5 или 6 — «государственных заключенных». А численность тюремной охраны была больше в 10 с лишним раз. Некоторым из заключенных разрешалось иметь слуг. С 1665 года по приказу военного министра Лувуа тюрьма находилась в полном распоряжении Сен-Мара.
В дневнике отмечается, что имя заключенного остается неизвестным. Вначале он был помещен в первой камере башни Базиньер, а через несколько часов после этого препровожден в третью камеру башни Бертодьер, которая заранее, за несколько дней до этого, была хорошо обставлена по приказу Сен-Мара. Узник ел вместе с губернатором, слуга передавал им блюда из соседней комнаты. Перед едой губернатор тщательно запирал двери камеры. Сен-Мар спал в одном помещении с заключенным.
Сохранилось письмо губернатора, где он описывает чрезвычайные предосторожности, которые ему приходилось принимать на случай своей болезни, для того чтобы офицеры и солдаты, приносившие заключенному еду, не увидели его лица. Совершенно ясно, что с узником обращались весьма внимательно, хотя сведения об исключительной почтительности, с которой относился губернатор к «маске», о роскоши, которой он якобы был окружен в своей камере, не находят каких-либо подтверждений в документах и поэтому, вероятно, относятся к области мифов.
Выдержки из дневника Дю Жюнка были опубликованы более чем полстолетия спустя, в 1769 году, священником при Бастилии Р. П. Грифе. Он уверял, что воспоминания о необычайном заключенном десятилетиями жили среди офицеров и солдат Бастилии. Утверждалось, что впоследствии были уничтожены все вещи, связанные с пребыванием «маски» в Бастилии, спешно побелены и покрашены стены и переложен пол в камере, в которой он находился, с целью ликвидировать любые возможные следы. Показания Грифе подтверждаются заметками майора Шевалье, занимавшего пост одного из главных чиновников Бастилии с 1749 по 1787 год. Этот исполнительный и трудолюбивый служака, который среди своих заметок исторического характера воспроизвел записи Дю Жюнка, сообщает, что таинственный узник, не болевший во время нахождения в Бастилии, однажды почувствовал себя нездоровым и через несколько часов умер. Он был похоронен 20 ноября 1703 года.
Не стоит придавать особого значения всем показаниям Грифе и Шевалье, кроме тех, в которых сообщаются вполне определенные факты. Оба эти свидетеля писали в то время, когда легенда о «маске» получила уже широкую известность и могла повлиять на их рассказы.
Обращаясь снова к подлинным документам, нетрудно убедиться, что легенда игнорировала одно важное обстоятельство. Строгость заключения постепенно ослабевала. Как показывают регистрационные записи, 6 марта 1701 года «маску» перевели во вторую камеру башни Бертодьер и, что особенно интересно, в камере он находился не один. В ней еще за несколько месяцев до того был помешен молодой слуга Тирмон, обвиненный в тяжелом уголовном преступлении. (Тирмон 14 декабря 1701 года был переведен в другую тюрьму и умер в 1708 году, лишившись до этого рассудка.) Эти факты интересны не только тем, что исключают отождествление этого Тирмона с «маской» (были и такие попытки), но и доказывают, что человека, знакомого с «маской», вскоре поместили в другую тюрьму, где не могла соблюдаться такая секретность, как в Бастилии.
Более того, после Тирмона у «маски» появился другой сосед по камере — 60-летний Жан Александр де Маранвиль (псевдоним — Рикарвиль), который попал в Бастилию за критические замечания по адресу правительства. В 1708 году Маранвиля перевели из Бастилии в Шарантон — в так называемую «открытую тюрьму», где заключенные имели право поддерживать связь друг с другом и с внешним миром. Умер Маранвиль в следующем, 1709 году. Трудно совместить несомненный факт соблюдения строгой секретности в отношении «маски» и нахождение его в одной камере с арестованными, которым впоследствии сама администрация дала возможность разгласить сведения, полученные от таинственного узника. Вдобавок в этом не было никакой нужды — камер в Бастилии было в тот период значительно больше, чем заключенных, и заключенные, как правило, содержались в одиночных камерах. Так, в ту же вторую камеру башни Бертодьер, которую одно время занимала «маска», с 22 февраля 1703 года был помешен аббат Гонзель, обвинявшийся в шпионаже.
Любопытно отметить, что уже в заметках Шевалье содержится утверждение, видимо, даюшее ключ к идентификации «маски». Он указывает, что тот был похоронен под фамилией Марширг. О смерти узника есть, как уже отмечалось, и запись в дневнике Лю Жюнка, опубликованная в XIX в. В ней также указывается, что заключенный умер внезапно. Но тут же сообщается, что незнакомцу в регистрационном списке умерших было дано какое-то чужое имя, после чего на полях записи было добавлено, что, как он (Дю Жюнк) узнал позднее, неизвестный был занесен в реестр умерших заключенных под именем де Маршиоли. Был обнаружен наконец и сам реестр, в нем значилось: «19 (ноября 1703 года) Маршиоли, приблизительно 45 лет, умер в Бастилии». Далее шли сведения о похоронах на следующий день и о присутствовавших при погребении тела официальных лицах. В этой второй части записи обращает на себя внимание небрежность: имя врача Бастилии, наблюдавшего за похоронами, написано совершенно по-разному в самом тексте и в подписях, скреплявших этот документ (Relge и Rellhe). Таким образом, тюремный писарь не отличался особым вниманием (или грамотностью), даже когда вписывал в документы фамилии немногих и хорошо знакомых ему чиновников Бастилии. Тем более вольно мог он обращаться с совершенно неизвестным для него, впервые называемым именем заключенного.
Итак, Маршиоли. Это имя, возникшее от чтения документов, разысканных в XIX в., серьезно подкрепляет теорию, родившуюся за 100 лет до этого. Уже в 1770 году один библиофил, барон Хейс, в письме в «Журналь энциклопедию» отождествил «маску» с графом Маттиоли, и эта точка зрения была потом подтверждена многими исследователями. Противоречили ей эффектная история, рассказанная Вольтером, и ее дальнейшая популяризация у Дюма.
Версия Хейса защищалась в опубликованной в 1825 году монографии Делора и еще в некоторых работах. Среди них особое место принадлежит книге М. Топена «Человек в железной маске» (Париж, 1870 год), в которой впервые был опубликован ряд важных документов, в том числе письма Сен-Мара. «Кандидатура» Маттиоли получила преобладание в конце XIX — начале XX в. Ее активным сторонником был, в частности, известный французский историк Ф. Функ-Брентано, который привел многочисленные доводы в пользу этой гипотезы в своих неоднократно переиздававшихся исследованиях, посвященных «железной маске», а также истории Бастилии. Он утверждал, что тождество «маски» с мантуанцем доказано с «математической точностью». Доводы Функ-Брентано воспроизводились и в работах большинства нефранцузских авторов, которые писали о «маске», например в книгах В. Брекинга или историка Бастилии Ф. М. Кирхейзена. (Позднее, в 30-х годах, версия о Маттиоли стала подвергаться критике. Но об этом ниже.)
Кто же такой был граф Маттиоли и что послужило причиной его таинственного заключения? Для ответа на этот вопрос нам придется обратиться к борьбе французской и австрийской дипломатии и разведок в Италии.
…13 мая 1678 года, когда часы на башне Компаниле возвестили наступление полночи, на опустевшей плошали Святого Марка в Венеции встретились четверо мужчин. Богатство костюмов говорило, что все они знатные и влиятельные люди, а низко надвинутые широкополые шляпы и маски из черного шелка могли бы свидетельствовать о желании сохранять инкогнито, если бы не происходивший карнавал, во время которого венецианцы — от дожа до последнего гондольера — показывались на улицах с закрытыми лицами. После кратких приветствий вся четверка поспешно направилась ко дворцу дожа, около которого темнели величественные статуи, слабо освещенные луной. Никто не потревожил оживленной беседы, участниками которой были мантуанский герцог Карл IV, его министр граф Маттиоли, посол Людовика XIV аббат д’Эстрад и его главный разведчик Джулиани.
…Граф Эрколе Маттиоли родился в 1640 году. Уже в молодости Маттиоли удалось приобрести благосклонность Карла III, герцога Мантуанского, а потом и его наследника Карла IV. Последний был типичным итальянским князьком той эпохи, думавшим только о своих удовольствиях. Карл IV на несколько лет вперед запродал государственные доходы откупщикам и проводил время в Венеции, растрачивая полученные деньги. (При нем находился и государственный секретарь Маттиоли.)
Все это вполне соответствовало планам Людовика XIV. Еще с 1632 года французы находились в Пинероле (где, как мы уже знаем, помешалась и одна из французских государственных тюрем). Людовик хотел пополнить свои итальянские владения за счет Казаля, входившего в состав Мантуанского княжества. Город был нужен из-за его выгодного географического положения. Овладев им, французы могли бы эффективнее оказывать давление на Пьемонт, что, в свою очередь, было весьма важно и для борьбы за Италию, и для дипломатических комбинаций Людовика в других частях Европы. И он решил купить Казаль.
У Людовика в Венеции был предприимчивый посол — аббат д’Эстрад. По его поручению один издатель газеты, некий Джулиани, бывший на деле французским разведчиком, окружил Маттиоли своими шпионами. Собранные сведения оказались благоприятными. Джулиани быстро договорился с Маттиоли об уступке Казаля. 12 января 1678 года Людовик, оказывая особую честь Маттиоли, написал ему собственноручно благодарственное письмо. А еще через два месяца во время венецианского карнавала д’Эстрад и герцог Мантуанский встретились, будто случайно, на площади и уточнили все условия соглашения. Обычно вездесущие венецианские разведчики, которые не спускали глаз с посла Людовика XIV, прозевали эту встречу, столь опасную для интересов республики…
В декабре 1678 года Маттиоли в Париже подписал договор. Карл IV получал взамен Казаля 100 тыс. экю. Не был забыт и государственный секретарь. Во время частной аудиенции Людовик XIV подарил ему ценный бриллиант и приказал выдать 100 двойных луидоров. Людовик платил Маттиоли не только за заключение самого договора, но и за соблюдение тайны, ибо «король-солнце» надеялся в этом случае, как и в ряде других, поставить Европу перед совершившимся фактом. Иначе противники Людовика, конечно, не согласились бы на такое, ничем им не компенсированное усиление французских позиций.
Но тайна не была сохранена. Не прошло и двух месяцев после поездки Маттиоли во Францию, как о договоре уже знали и в Вене, и в Мадриде, и в Турине (столице Пьемонта), и в Венеции. А вскоре перестало быть секретом не только само соглашение, но и то, каким путем его содержание стало известно во всех заинтересованных европейских столицах. Получив деньги с Людовика XIV, Маттиоли немедля запродал сведения о договоре всем противникам французского короля. (Одни испанцы заплатили за раскрытие секрета солидный куш — 4 тыс. пистолей, как сообщал Джулиани его шпион священник Рандоки.) А герцогиня Савойская сочла выгодным для себя раскрыть Людовику двойную игру мантуанца.
Гнев короля против одурачившего его итальянца еще больше усилился, когда благодаря интригам Вены по дороге в Венецию, где находился Карл IV, был арестован тайный посланец Людовика, ехавший для обмена ратификационными грамотами.
Д’Эстрад был не только взбешен, но и опасался за свою карьеру. Он предложил похитить коварного итальянца. Это было важно сделать не только для мести изменнику, но и для того, чтобы вырвать из рук Маттиоли секретную переписку, компрометировавшую французское правительство. Кроме того, расторопный Джулиани, сумевший завести дружбу с приближенными Карла IV, сообщал, что герцог после исчезновения Маттиоли явно будет склонен возобновить переговоры о продаже Казаля.
После некоторых колебаний Людовик XIV согласился на предложение д’Эстрада, к тому времени переведенного послом в Турин, но особо приказывал, чтобы похищение было совершено без малейшей огласки. Оставалось осуществить одобренный королем план.
Д’Эстрад, делая вид, что ему ничего не известно об интригах Маттиоли, предложил мантуанцу поехать вместе в Париж для получения новых наград от благодарного французского короля. Маттиоли попался в ловушку. Вскоре после того, как карета д’Эстрада пересекла французскую границу, ее окружил отряд драгун, а еще через несколько часов Маттиоли уже находился в крепости Пинероль, начальником которой был Сен-Мар. Это произошло 2 мая 1679 года. Следует добавить, что в то время в Италии существовал обычай надевать маску на заключенных (так часто поступали, например, в Венеции).
В Пинероле Маттиоли после недолгого отпирательства под угрозой пытки сознался, что тайная переписка с Парижем спрятана в доме его отца в Падуе. Джулиани, которого снабдили письмом от Маттиоли, написанным под диктовку тюремщиков, поспешил в Падую. Отец нового пинерольского узника, который, конечно, еще ничего не знал об участи сына, поспешил выполнить его просьбу и передал секретные бумаги Джулиани. А французский разведчик немедля отправился в Венецию, откуда с дипломатической почтой эти документы были сразу же отосланы в Париж.
Если предположить, что «маской» был Маттиоли, многое находит свое объяснение. У Людовика были серьезные основания для того, чтобы скрывать совершенное им вопиющее нарушение международного права — похищение министра иностранного государства. Но шли десятилетия, эпизод уходил в далекую историю, и необходимость в соблюдении строгой секретности постепенно ослабевала. И вот мы видим, что власти Бастилии идут даже на то, чтобы поместить «маску» с другими заключенными, хотя те потом могли разгласить полученные ими сведения. Даже сама бархатная маска могла служить не соблюдению тайны, а смягчению тюремного режима. В маске узник мог выходить из камеры, что не допускалось правилами в отношении государственных преступников.
Но всего этого, конечно, еще далеко не достаточно для полной уверенности, что «маска» — Маттиоли. Есть, однако, и дополнительные доказательства. Сохранилась депеша Людовика XIV к д’Эстраду, где король одобрял идею похищения мантуанца и предписывал доставить Маттиоли в Пинероль. Имеется и отчет начальника отряда, которому было поручено выполнить этот приказ. В отчете, предназначенном для военного министра Лувуа, подчеркивалось, что дело было осуществлено в глубокой тайне и что имени арестованного не знали даже офицеры, помогавшие задержать итальянца и препроводить его в тюрьму. Наконец, имеется изданная в Италии в 1682 году по свежим следам события брошюра «Благоразумие, восторжествовавшее в Казале», в которой подтверждается, что Маттиоли был схвачен и доставлен в Пинероль (таким образом, полной тайны соблюсти все же не удалось).
Мы знаем из записей Дю Жюнка, что «маска» находилась в Пинероле под наблюдением Сен-Мара. Там содержалось тогда (в 1681 году) всего пять государственных преступников. Трое умерли до того, как «маска» была доставлена в Бастилию, дата смерти четвертого неизвестна. Пятым был человек-«маска», скончавшийся в 1703 году в Бастилии. В тюремном реестре умерших «маска» назван, как уже отмечалось, «Маршиоли», но если читать по-итальянски, то получится «Маркиоли». А сам Сен-Мар в ряде документов писал «Мартиоли» — это уже совсем близко.
Через несколько десятилетий после смерти Маттиоли, когда вопрос о «маске» вызвал обшее любопытство, всесильная фаворитка Людовика XV маркиза Помпадур настояла перед королем, чтобы он приказал произвести расследование. Позднее Людовик XV сказал, что «маской» был «министр одного итальянского князя». Фрейлина королевы Марии-Антуанетты сообщает в своих мемуарах, что по просьбе жены Людовик XV! расспросил о «маске» одного из приближенных, хорошо помнившего начало века. Тот указал, что «маской» являлся один опасный итальянский интриган, подданный князя Мантуи. Этого итальянца доставили сначала в Пинероль, а потом в Бастилию.
Как будто доказательств вполне достаточно. И все-таки… И все-таки почти любое из них можно поставить под сомнение, каждый документ трактовать по-разному. Ведь можно допустить, что была сознательно выдвинута ложная версия для сокрытия истины. Тем более что не очень понятны все же мотивы соблюдения строгой секретности, если «маской» был Маттиол и. О его аресте было известно. Никаких протестов со стороны единственного лица, которое могло протестовать, Карла IV, ждать не приходилось. Ведь он, кроме всего прочего, так же как и Людовик XIV, был обманут Маттиоли (Карл IV, напротив, явно желал, чтобы Маттиоли не вышел из французской тюрьмы).
Словом, арест Маттиоли не был секретом. Разговоры о нем велись вне зависимости от того, насколько строго соблюдалась тайна пребывания узника в различных государственных тюрьмах Франции. Нельзя, видимо, и преувеличивать мстительность и злопамятность Людовика. Было бы, вместе с тем, опрометчивым искать строгую логику в его поведении, которым часто управляли каприз, минутное настроение. А однажды отданный монархом приказ мог исполняться десятилетиями без того, чтобы кто-либо осмелился беспокоить «короля-солнце» мелким и к тому же неприятным делом. (Впрочем, как правило, Людовик был очень внимателен к таким «мелочам».)
Довольно рано возникла версия, что все посвященные в тайну умерли в начале XVIII в. Существовало также мнение, будто тайна «железной маски» передавалась только царствующим королем наследнику престола. В таком случае, однако, эта тайна должна была умереть вместе с Людовиком XIV, ибо он не мог сообщить ее своему малолетнему преемнику Людовику XV и вряд ли доверил регенту герцогу Орлеанскому. Или если все же допустить, что старый король открыл тайну герцогу Орлеанскому, то Людовику XVI уж явно было не до того, чтобы делиться ею со своим братом и наследником Людовиком XVIII, когда они оба — только в разных экипажах — бежали из революционного Парижа. Людовик XVI был задержан, а его брату удалось скрыться за границу. В момент бегства, добавим, был еще жив сын Людовика XVI, который умер 10 лет от роду. Так что Людовик XVI и не предполагал, когда последний раз виделся с братом, что тот станет его преемником. Поэтому, вопреки утверждениям некоторых современников, Людовик XVIII уже никак не мог знать тайну «маски». Вообще вся эта история не выглядит правдоподобной, особенно учитывая, что, как мы знаем, Людовик XV и Людовик XVI по просьбе своего окружения наводили справки о «маске». Вряд ли у них были причины заниматься мистификацией.
Людовик XVI
Дюплесси
За последние десятилетия исследователями выдвинуто несколько новых кандидатов на роль «маски», также сыгравших ту или иную роль в тайной войне. Среди них некий Эсташ Доже, о котором следует сказать несколько подробнее. Но для этого надо снова вернуться далеко назад — в Пинероль, куда 2 мая 1679 года был помешен Маттиоли.
Обращает на себя внимание, что военный министр Лувуа — начальник Сен-Мара — и этот последний не делали никакой тайны в своей служебной переписке из заключения Маттиоли в крепость. 7 сентября 1680 года Сен-Мар в незашифрованном письме к Лувуа сообщал о целом ряде столкновений, которые он имел с итальянцем, называя его по фамилии. Напротив, о лицах, содержание которых в крепости хотели сохранить в секрете, не только писали шифром, но и избегали употребления подлинных фамилий, используя взамен вымышленные имена или просто говоря о некоем заключенном, доставленном из такого-то места в таком-то году или по повелению такого-то лица. Маттиоли был едва ли не наименее таинственным из государственных преступников, об аресте которого в 1682 году была опубликована книга и, как показали новейшие исследования, даже писали в тогдашних голландских газетах.
В 1679 году, когда в Пинероль был доставлен Маттиоли, там содержалось еще шестеро государственных преступников. Мантуанец, следовательно, был седьмым. В 1680 году умер один из семи — бывший министр Фуке, а в 1681 году был освобожден другой заключенный — Лозен. Следовательно, оставалось пять заключенных. Это были: первый — Маттиоли; второй — «слуга» Эсташ Ложе; третий — бывший камердинер Фуке — Ла Ривьер, который после смерти арестованного министра был оставлен в заключении; четвертый — «шпион» Дюбрей. Дюбрей уже побывал в тюрьме в Бордо. Выйдя на свободу, он перебрался в Базель и попытался стать агентом-двойником, продававшим информацию одновременно и командующему французскими войсками на Рейне графу Монклеру, и неприятельскому генералу Монтекуккули. Раскрывший игру Дюбрея французский генерал-интендант Лагранж послал своего шпиона наблюдать за Дюбреем в Базеле, с тем чтобы арестовать его, как только он вступит на французскую территорию. Когда Дюбрей вернулся во Францию, ему удалось один раз ускользнуть от преследователей, но в апреле 1676 года он был арестован, помешен в крепость Брисаш и в июне того же года привезен в Пинероль. С ним было предписано обходиться без церемоний и, если он будет делать глупости, считать сумасшедшим. Дюбрей действительно постепенно сходил с ума и, кажется, совсем лишился рассудка, когда к нему подсадили еще одного заключенного — пятого в нашем списке. Этим пятым был монах, вероятно, к этому времени также сошедший с ума. В числе этой пятерки, несомненно, находился «человек в маске». Когда впоследствии он был перемешен в Бастилию, Дю Жюнк отметил в своем дневнике, что Сен-Мар привез с собой «своего старого заключенного, которого он ранее держал в Пинероле».
В мае 1681 года Сен-Мар был назначен комендантом форта Экзиль, расположенного в Альпах в нескольких десятках лье от Пинероля. Это, кстати, являлось значительным продвижением по службе. Экзиль до этого не служил тюрьмой. При подготовке к приему арестантов пришлось под личным присмотром Сен-Мара проделать дорогостоящий ремонт и переоборудование помещений в одной из башен, чтобы можно было соблюдать строгий режим содержания двух заключенных. Тех, которые, как писал Дувуа Сен-Мару, «имели достаточно важное значение, чтобы оставить их только в Ваших руках». Вместе с тем отметим, что ранее Сен-Мар пренебрежительно именовал этих арестантов «Дроздами», а Дувуа одного из них — «Слугой». Эти двое узников, видимо, только и заботили военного министра. В отношении остальных Дувуа проявлял столь мало интереса, что забыл, кто они, и даже наводил у Сен-Мара справки на сей счет. Арестантов отправили из Пинероля тайно, двух «Дроздов», не значившихся теперь ни в каких списках, сопровождали 45 солдат, не считая Сен-Мара и его офицеров. Нам неизвестно точно, кто были эти двое арестантов. Ранее историки думали, что в их числе был Маттиоли. Однако уже более 100 лет назад французский ученый М. Топен (сам сторонник кандидатуры Маттиоли) отыскал письмо Сен-Мара к аббату д’Эстраду от 25 июня 1681 года, который, как мы помним, принимал деятельное участие в аресте итальянца. Оно сохранилось потому, что осело в архиве аббата, тогда как соответствующее письмо Сен-Мара к Лувуа, конечно, исчезло. Все это придает намекам Лувуа, что «маска» — Маттиоли, характер сознательной дезинформации не посвященных в тайну. Ту же игру продолжал его сын и преемник Барбезье.
В Экзиле тратилось на пропитание заключенных столько же, сколько уходило на содержание 30 солдат. Поэтому требования Лувуа соблюдать экономию служили лишь для маскировки этого факта. После смерти Ла Ривьера Ложе оставался единственным заключенным, но его по-прежнему стерегли 45 солдат, 6 младших офицеров и, наконец, сам Сен-Мар с двумя помощниками. Как мы уже знаем, Маттиоли не было в числе двух арестантов, перевезенных в Экзиль. Историкам это стало известно из письма Сен-Мара аббату д’Эстраду от 25 июня 1681 года. А из одного из последующих писем Лувуа явствует, что в их числе был Любрей. Поскольку, видимо, в Пинероле находился сумасшедший монах, в Экзиль, вероятно, были увезены Доже и Ла Ривьер.
Мы не можем в точности установить, входил ли заключенный в маске в состав «тройки», оставленной в Пинероле, или «двойки», увезенной в Экзиль. Фраза Дю Жюнка, что Сен-Мар привез вместе с собой в Бастилию «своего старого заключенного, которого он ранее держал в Пинероле», ничего не говорит о том, находился ли этот узник постоянно под надзором Сен-Мара после отъезда тюремщика из Пинероля и до того, как он принял обязанности губернатора Бастилии. Однако логика как будто подсказывает, что «человек в маске» должен был быть в числе «двойки». Ведь Сен-Мар взял заключенных, которых не считалось целесообразным доверять надзору нового коменданта тюрьмы, вероятно, чтобы не приобщить еще одно лицо к тайне этих арестантов. Кроме того, именно к этим двум государственным преступникам было приковано внимание Лувуа. Но в то же время (вопреки мнению новейших исследователей истории «маски») нельзя отрицать, что в переписке Лувуа с Сен-Маром встречаются презрительные упоминания об узниках, перевезенных в Экзиль. Сен-Мару были разрешены довольно продолжительные отлучки из Экзиля, что также не вяжется с заботой о сохранении тайны «маски».
Через пять с половиной лет после переезда Сен-Мара в Экзиль, в конце 1686 года или в начале 1687-го, один из двух узников, доставленных из Пинероля, скончался. Это был заключенный, «страдавший водянкой». Об этом 5 января 1687 года Сен-Мар уведомил Лувуа. Остался один заключенный. Мы знаем, что в отношении него принимались особые меры предосторожности. Во время отлучек Сен-Мара замешавшему его офицеру было категорически запрещено говорить с арестантом. А вскоре Сен-Мара (очередное повышение по службе) перевели на новое место — комендантом крепости на острове Сен-Маргерит, неподалеку от Канна, сохранившейся и поныне, и предписали перевезти вместе с ним оставшегося заключенного. Этому снова предшествовало, как и при переезде в Экзиль, весьма дорогостоящее переоборудование того помещения, в котором после смерти Ла Ривьера предполагалось поместить всего одного-единственного заключенного — Доже. Камера представляла собой комнату размером 30 квадратных метров с высоким потолком и большим окном. Узник был в это время — в апреле 1687 года — болен, и его целых 12 дней переносили в новую темницу на наглухо закрытых носилках, отчего он едва не задохнулся.
Привезенного узника, как сообщал 8 января 1688 года Сен-Мар в письме к Лувуа, поместили в комфортабельное помещение и держали там под крепкой стражей. Между прочим, в этом же письме Сен-Мар писал, что заключенного принимают за герцога де Бофора или за «сына покойного Кромвеля» (явно отсюда идет версия о «маске» как англичанине). Отметим также, что на Сен-Маргерит Сен-Мар прибыл только с одним узником, потом там появилось еще несколько арестантов. Ни их число, ни их имена, ни причины ареста неизвестны. Среди них были протестантские пасторы, подвергавшиеся гонениям после отмены в 1685 году Нантского эдикта (изданного еще Генрихом IV и гарантировавшего права гугенотов). Один пастор что-то писал всюду — на стенах, на белье, царапал на посуде. Отсюда, вероятно, возник рассказ о серебряном блюде.
В 1691 году умер Лувуа. Пост военного министра был передан Людовиком сыну Лувуа — Барбезье. 13 августа того же года в первом своем письме к Сен-Мару Барбезье предписал ему соблюдать прежние предосторожности в отношении заключенного (только один узник интересовал и нового министра). В письме упоминалось, что этот заключенный находился под надзором Сен-Мара в течение 20 лет. Не дает ли это указание ключа к установлению личности томившегося в крепости человека? (Если, конечно, не предположить, что эта цифра неверна и указана на случай перехвата письма, чтобы те, в чьи руки оно попало, не могли по дате ареста определить подлинное имя узника.)
Вернемся опять к нашей «пятерке» 1681 года. Монах был доставлен в Пинероль, по всей видимости, 7 апреля 1674 года, Дюбрей — в июне 1676 года, Маттиоли — в мае 1679 года, Ла Ривьер — вообще до 1680 года был не заключенным, а слугой заключенного. Наконец, Эсташ Доже был помешен в Пинероле с 1669 года, иначе говоря, только он мог находиться к 1691 году под надзором Сен-Мара уже в течение 20 лет, остальные же заключенные — много меньше. Из них монах — 17 лет, Дюбрей — 15, а Маттиоли — 12 лет; 12 и 20 — слишком большая разница, чтобы допустить возможность ошибки со стороны Барбезье.
Уже по одному этому в письме явно говорится не о Маттиоли. Кроме того, в этом письме упоминается о том, что Сен-Мар постоянно охранял узника. Сен-Мар же, как мы знаем, уехал в 1681 году из Пинероля (всего через два года с лишним после ареста Маттиоли), а итальянец остался в крепости. Однако имеется и более веское доказательство. Даже в 1693 году Маттиоли еще находился в Пинероле. Это следует из переписки Барбезье с комендантом тамошней тюрьмы Дапрадом. Из ответного письма Барбезье к коменданту от 27 декабря 1693 года явствует, что Маттиоли имел при себе камердинера. Отметив пока это обстоятельство, пойдем дальше. Упомянутое выше письмо — последнее, в котором фигурирует имя Маттиоли. Некоторые историки на основании этого делали заключение, что мантуанец скончался через короткий срок в Пинероле, тем более что в письме Лапрада шла речь о просмотре каких-то вешей заключенного, очевидно, после его смерти. Но это был бы слишком поспешный вывод. Из, возможно, случайного неупоминания имени нельзя заключать о кончине итальянца, а осмотр его вешей был, вероятно, просто очередным обыском.
Однако вскоре кто-то из прежней «тройки» заключенных действительно умер. 11 января 1694 года Барбезье известил Сен-Мара о новости, полученной от Лапрада: о смерти «самого старого» из узников бывшего коменданта Пинероля. Между прочим, Барбезье писал, что комендант тюрьмы в Пинероле Лапрад не знает фамилии умершего арестованного, наибольшее время просидевшего в заключении, и просит Сен-Мара шифром сообщить это имя в Париж. Трудно представить более веское доказательство, насколько вообще мало интересовали военного министра арестанты, оставленные в 1681 году Сен-Маром в Пинероле. А еще через полтора месяца — 26 февраля 1694 года — Барбезье уведомил Сен-Мара о приказе короля перевести в крепость Сен-Маргерит государственных преступников, содержащихся в Пинероле. Сколько было этих заключенных? Из дальнейшей переписки выясняется, что трое. В том числе двое оставшихся в живых из «тройки» узников, оставленных в 1681 году Сен-Маром в Пинероле. Было установлено также и имя третьего. Это некто д’Эрз, заключенный в тюрьму в Пинероле с августа 1687 года (единственный «новичок» после 1681 года). Д’Эрз находился еще даже в 1700 году на острове Сен-Маргерит, уже после отъезда Сен-Мара в Бастилию, и по одному этому не мог быть «маской».
Итак, к моменту, когда все выжившие из «пятерки» узники 1681 года снова в 1694 году были заключены в одну тюрьму на острове Сен-Маргерит, их число сократилось до трех. Но нам неизвестно, кто умер и кто остался в живых.
Положение становится еще более запутанным вследствие весьма неясного по смыслу письма Барбезье к Сен-Мару от 20 марта 1694 года. Военный министр писал, что из трех присылаемых узников «по меньшей мере один имеет более важное значение», чем заключенные, уже находившиеся на Сен-Маргерите. Барбезье здесь явно противоречит своему отцу Лувуа, который в 1681 году считал, что Сен-Мар увез из Пинероля в Экзиль двух наиболее важных из содержащихся там государственных преступников.
Неясность еще больше возрастает оттого, что, как показывает последовавшая переписка, из Пинероля на деле перевезли не троих, а четверых заключенных. Может быть, четвертым был какой-то арестант, доставленный в Пинероль незадолго до перевода всех содержавшихся там государственных преступников на остров Сен-Маргерит. (Пинероль находился под угрозой неприятеля и позднее был уступлен Пьемонту.) Перевод заключенных в новую тюрьму состоялся в апреле 1694 года, так что у коменданта Пинероля не было времени получить новые инструкции из Парижа относительно четвертого арестанта.
В апреле 1694 года под охраной Сен-Мара находились: во-первых, один из узников, увезенных в 1681 году из Пинероля; во-вторых, какое-то число протестантских пасторов и еще некий шевалье Тезю (или Чезю), которого Сен-Мар нашел на Сен-Маргерите, заняв там пост коменданта, и о котором нам ничего не известно; в-третьих, четверо арестантов, недавно прибывших из Пинероля, в том числе двое из «пятерки» 1681 года (возможно, Дюбрей и Маттиоли, последний со слугой).
В конце апреля 1694 года какой-то арестант умер, но был ли это один из «пятерки» 1681 года? Барбезье, получив известие о смерти этого заключенного, сразу же в письме от 10 мая 1694 года поспешил сообщить Сен-Мару, что одобряет распоряжение коменданта крепости Сен-Маргерит о содержании под стражей и в изоляции слуги скончавшегося заключенного. Как мы помним, слуга безусловно был у Маттиоли.
Имел ли слугу кто-либо еще из арестантов? Это маловероятно. Заключенным разрешалось держать слуг явно в виде редкого исключения.
Такое дозволение получили бывший министр Фуке, аристократ Дозен и бывший министр граф Матгиоли. Вряд ли право иметь слугу получили «шпион» Дюбрей, сумасшедший монах, протестантские пасторы, Ла Ривьер, сам бывший лакей, и «слуга» Эсташ Доже, который, как мы увидим, также исполнял роль камердинера Фуке. Кроме того, пасторы, очевидно, не были отнесены к числу государственных преступников, которые только одни были подведомственны военному министру Барбезье. 27 июля 1697 года Барбезье писал о четырех государственных преступниках, содержащихся на Сен-Маргерите (т. е. явно и о заключенном, взятом в 1681 году Сен-Маром в Экзиль), и трех из «четверки», доставленной в апреле 1694 года.
Итак, умерший в конце апреля 1694 года государственный преступник, имевший слугу, не мог быть ни одним из пасторов, ни четвертым заключенным из Пинероля, ни, естественно, д’Эрзом (поскольку тот был жив в 1700 году), ни, вероятно, кем-либо из «пятерки» 1681 года, за исключением Маттиоли. Напомним, что после апреля 1694 года имя Маттиоли совершенно исчезает из официальной переписки. Отметим также еще одно обстоятельство: с «маской» должны были общаться только Сен-Мар и его помощники, что исключает возможность наличия у узника слуги.
Итак, в конце апреля 1694 года из «пятерки» 1681 года остались в живых двое. Но мы опять не можем точно установить, кто же остался в живых.
В письме от 17 ноября 1697 года Барбезье особо предупреждал Сен-Мара о необходимости сохранять строгие меры предосторожности в отношении его «старого заключенного». Но из этого выражения неясно, идет ли речь о взятом в 1681 году Сен-Маром с собой арестанте или об одном из оставленных в Пинероле и лишь позднее переведенном на остров Сен-Маргерит. 15 июня 1698 года Барбезье предварительно уведомил Сен-Мара, что ему предстоит по воле короля занять пост губернатора Бастилии и взять с собой его «старого заключенного». А 19 июля 1698 года Сен-Мару было направлено уже официальное предписание министра известить Дю Жюнка о подготовке заранее помещения для этого арестанта. «Старый заключенный» стал обычным наименованием «маски»; под этим прозвищем, как мы знаем, Дю Жюнк и отметил факт доставки его в Бастилию 18 сентября 1698 года. Через полтора месяца, 3 ноября 1698 года, министр королевского двора официально известил Сен-Мара о «королевской милости» в отношении нового узника Бастилии. Губернатор мог теперь разрешить, когда сочтет это нужным, пускать к «маске» духовника. 3 октября 1698 года в издававшейся в Голландии «Газетт д’Амстердам» было напечатано любопытное сообщение: «Господин де Сен-Мар занял пост губернатора Бастилии, куда он поместил привезенного им с собой заключенного, другого же он оставил в Пьеран-Сазе, когда проезжал Лион». Речь, вероятно, как мы убедимся, шла о Дюбрее. (Кстати сказать, только при переезде в Бастилию Сен-Мар приказал надеть на заключенного маску из черного бархата. Нет сведений, что он носил ее ранее, по крайней мере постоянно, иначе он просто не мог бы бриться.)
Кто же все-таки был доставлен 18 сентября 1698 года в Бастилию из «пятерки» 1681 года? Историк Функ-Брентано, наиболее авторитетный защитник кандидатуры Маттиоли, считал, что презрительное упоминание о двух заключенных, содержащееся в одном из писем Лувуа, относилось к Эсташу Доже и Дюбрею и что именно их Сен-Мар перевел в Экзиль. Но это утверждение ничем не доказано. Оно не объясняет интереса, который проявлял Лувуа именно к двум заключенным, переведенным в Экзиль, и, главное, Функ-Брентано явно ошибается в отношении Дюбрея — имеется доказательство того, что тот в 1682 году еще находился в Пинероле. А низкое происхождение еще не доказательство, что Людовик XIV не мог считать этих лиц опасными для него, если они владели важными тайнами.
Одни исследователи полагают, что в Экзиле в конце 1686 года или в начале 1687 года умер Ла Ривьер, другие — что сумасшедший монах. Но ведь известно лишь, что это был заключенный, «страдавший водянкой». Эти же имена называются, когда говорится о заключенном, скончавшемся в конце 1693 года или в начале 1694 года в Пинероле. И опять без реальных доказательств. Функ-Брентано считал, что в апреле 1694 года на острове Сен-Маргерит умер один из протестантских священников, но не смог, конечно, обосновать свое мнение.
Подытожим теперь для ясности доводы «за» и «против» кандидатуры Маттиоли. В пользу версии, что «маской» был мантуанец, говорят следующие факты:
во-первых, он был одним из «пятерки» 1681 года;
во-вторых, он был наиболее важным по своему положению из заключенных, составлявших эту «пятерку»;
в-третьих, при пересылке четырех заключенных из Пинероля в 1694 году Барбезье отмечал, что «по меньшей мере один» из них более важен, чем те, которые уже содержались в крепости острова Сен-Маргерит;
в-четвертых, после доставки Маттиоли в 1694 году в крепость Сен-Маргерит впервые появляется (в 1697 году) выражение «старый заключенный» Сен-Мара;
в-пятых, сходство имени Маттиоли с тем именем, под которым «заключенный в маске» был занесен в реестр умерших в Бастилии. (Правда, Маттиоли было бы тогда 63 года, а не 45 лет, как записано в реестре.)
Против кандидатуры Маттиоли можно привести не менее веские ДОВОДЫ:
во-первых, его арест не являлся секретом;
во-вторых, он не был взят в Экзиль в числе двух заключенных, которых Лувуа считал имеющими «достаточно важное» значение и которыми он интересовался больше, чем Маттиоли;
в-третьих, Барбезье в 1691 году предписывал Сен-Мару особо стеречь арестанта, который был у него под надзором 20 лет (это явно не Маттиоли). В 1698 году Барбезье писал Сен-Мару, что узник находится под его охраной «в течение 28 лет», это снова подводит к 1669–1670 годам как дате ареста и заключения в тюрьму арестанта в маске. Антуан Рю, ведавший ключами в тюрьмах Пинероля, Экзиля и острова Сен-Маргерит, заметил в том же 1698 году в Бастилии, что «маска» находится под стражей уже 30 лет, то есть примерно с 1669 года. Особую камеру для «маски» оборудовали в 1669 году, за 10 лет до ареста Маттиоли;
в-четвертых, после 1693 года имя Маттиоли исчезает из официальной переписки; неясно, какие могли быть основания начиная с 1697 года именовать итальянца «старым заключенным», когда ранее открыто называлась фамилия бывшего мантуанского министра;
наконец, в-пятых, умершим в апреле 1694 года узником, который имел слугу, мог, вероятно, быть только Маттиоли (это порождает, впрочем, новый вопрос: зачем было оставлять в строгом заключении этого слугу?).
Имеются и дополнительные аргументы «против». Во время переезда Сен-Мара в 1687 году из Экзиля на Сен-Маргерит его единственного заключенного несли на носилках специально нанятые носильщики-итальянцы, чтобы они, не зная французского языка, не могли переговариваться с «маской». Следовательно, он не являлся итальянцем. Маттиоли помешали в камеру вместе с безумным монахом.
На содержание двоих заключенных — Доже и Ла Ривьера (безусловно, слугу) — тратили 12 ливров в день, а на Маттиоли — только 2 ливра. Доже при переезде из Пинероля в Экзиль в 1681 году и из Экзиля на Сен-Маргерит несли на носилках с плотно закрытыми шторами, а Маттиоли в 1694 году из Пинероля на Сен-Маргерит (около 100 километров) гнали больного пешком, что, вероятно, ускорило его смерть (к этому мы еще вернемся).
Дюбрея, кажется, еще никто не предлагал кандидатом на роль «маски». Ла Ривьер явно отпадает, как будет пояснено ниже. Остается Доже.
Начнем с того, что этот странный «слуга» — единственный из четырех, который особенно интересовал Лувуа, — это уже немало. У Фуке было двое слуг. Один из них умер в 1674 году. Остался Ла Ривьер, который тогда не считался арестантом. В помощь к нему Сен-Мар решил приставить заключенного Эсташа Доже. Лувуа одобрил эту идею, но со странным условием: чтобы Доже не видел никого, кроме Фуке (и, естественно, Ла Ривьера). Министру это условие казалось почему-то очень важным, и он не поленился неоднократно повторять свое предписание в письмах к Сен-Мару и при этом особенно подчеркивал: ни в коем случае не следует допускать, чтобы Лозен, имевший позволение приходить к Фуке, встречался с Доже. Не означает ли, что они были знакомы ранее? Более того, Лувуа пошел уже на совершенно непонятный шаг. Он написал письмо непосредственно заключенному Фуке, содержание которого запрещал сообщать Сен-Мару. В этом письме Лувуа требовал от Фуке, чтобы он воспрепятствовал возможной у него встрече между Доже и Лозе ном. Ответ Фуке Лувуа сообщил Людовику XIV. Зачем нужны были все эти предосторожности в отношении простого слуги? И не потому ли после смерти Фуке Ла Ривьер был оставлен в тюрьме, что ему были известны какие-то тайны скончавшегося министра и Эсташа Доже? (В 1669 году, когда Ла Ривьер еще не был знаком с Доже, Лувуа писал Сен-Мару, что слугу Фуке можно освободить, если он того захочет, но до этого все же продержать семь или восемь месяцев в тюрьме, чтобы он не сумел вовремя передать на волю какое-либо поручение от своего господина.)
После смерти Фуке Сен-Мар получил от Лувуа приказание объявить Лозену ложное известие об освобождении Ла Ривьера и Доже. Лувуа добавлял, что такова воля короля. Обоих бывших слуг Фуке предписывалось держать совместно в строгой изоляции. Вероятно, именно о них говорится впоследствии в переписке Лувуа, где упоминаются какие-то два лица, заключенные в «нижней башне» крепости Пинероля. Оба они явно знали какую-то общую тайну. В корреспонденции Лувуа и Сен-Мара содержатся глухие указания о применении Эсташем Доже «ядов» или «симпатических чернил» (некоторые растворы можно было использовать и для той, и для другой цели). Несомненно, что Лувуа очень интересовался Эсташем Доже с момента ареста того в 1669 году и до 1681 года, а Ла Ривьер знал секреты Доже. Поэтому есть серьезное основание считать, что именно Доже и Ла Ривьера взял с собой Сен-Мар по поручению Лувуа, переезжая в Экзиль.
Кто же из этих двоих умер в Экзиле в 1687 году? Это, вероятнее всего, мог быть Ла Ривьер. Ведь об оставшемся в живых заключенном Барбезье писал в 1691 году, что он был под стражей у Сен-Мара в течение 20 лет. Доже находился под надзором Сен-Мара 22 года (с 1669 года), а Ла Ривьер был заключенным только 7 лет, хотя и до этого служил камердинером у находившегося в тюрьме Фуке. Интересен еще один, не упоминавшийся до сих пор штрих в письме Барбезье от 13 августа 1691 года. Военный министр предписывал Сен-Мару хранить молчание о том, что сделал его узник. Но Ла Ривьер явно ничего не совершал. А Доже был за что-то арестован в 1669 году и подвергнут строжайшему одиночному заключению, не говоря уж о его каких-то действиях накануне смерти Фуке. Поэтому, вероятнее всего, речь идет о Доже. Следовательно, Ла Ривьер умер в конце 1686 года или в начале 1687 года, а оставшимся в живых был Эсташ Доже. Если верно, что Ла Ривьер и Доже были увезены в 1681 году в Экзиль, то в Пинероле остались Маттиоли, Дюбрей и монах. В конце 1693 года или в начале 1694 года умер «самый старый» заключенный Сен-Мара. «Самый старый» из оставшихся — монах, доставленный в Пинероль в 1674 году. В таком случае к началу апреля 1694 года остались живы Доже, Маттиоли и Дюбрей. В конце апреля 1694 года умер заключенный, имевший слугу. Возможно, это был Маттиоли, менее вероятно — Доже. В 1697 году Барбезье пишет Сен-Мару о «старом заключенном». Это, конечно, не Дюбрей, которым ни разу не интересовались Лувуа и Барбезье. «Старым заключенным» мог быть либо Маттиоли, либо Доже. Причем Доже был несомненно более «старым».
Зачем было его держать в тюрьме? Доже, возможно, знал секреты Фуке, которые он мог разгласить. Еще были живы жена и дети Фуке, Лозен, который считал, что Доже исчез, а бывшему министру были известны многие факты из быта двора, особенно из личной жизни матери короля Анны Австрийской, которые Людовик XIV стремился предать забвению. Это было одной из причин, почему Фуке около 20 лет просидел в строгом заключении. Он мог рассказать известные ему тайны Эсташу Доже, а тот поплатился за знание опасных секретов еще двумя десятилетиями тюрьмы с маской на лице.
Но говорят, что «маску» в Бастилии помещали вместе с другими заключенными, а это плохо вяжется со стремлением сохранить тайну. Однако более тщательный анализ документов — записей Дю Жюнка — показывает, что смысл их далеко не ясен. Возможно, Дю Жюнк имел в виду, что «маску» содержали не в одной камере, а в одной башне (на каждом этаже которой находилось по одной камере) с другими заключенными. Аргумент же, что «маска» была похоронена под именем «Маршиоли», также оказывается далеко не таким безусловным, как это могло показаться первоначально. Дело в том, что существовал обычай при похоронах государственных преступников указывать ложные имена (и возраст — отсюда ссылка, что умершему заключенному было 45 лет). Кроме того, все же «Маршьель» и даже «Маршиоли» — это еще не Маттиоли. Вместе с тем в истории с «маской» прилагались такие усилия для сохранения тайны, что, быть может, Сен-Мар сознательно попытался направить внимание на хорошо известного Маттиоли, умершего еще в 1694 году, чтобы скрыть, кем был заключенный в маске. Можно допустить: заметание следов удалось настолько хорошо, что при Людовике XV уже никто не знал истины, и любопытствующей мадам Помпадур король мог лишь сообщить, что «маска» — министр одного итальянского князя. Наполеон I, добавим между прочим, не поверил этому. В связи с легендой об отправлении сына «маски» на Корсику Наполеон приказал произвести розыски в архивах Франции и за границей. Они не дали никаких результатов, несмотря на само собой разумеющееся рвение чиновников, старавшихся получше выполнить императорский приказ.
Почему, однако, Сен-Мару было желательно в таком случае, скрывая истину, намекать рядом деталей (вроде записи в регистрационной книге Бастилии), что «маска» — это Маттиоли, а не Доже? Может быть, Сен-Мар так поступал, зная, что под «маской» скрывалось лицо арестанта, а под кличкой «Эсташ Доже» — его подлинные имя и фамилия.
В 1934 году историк П. Бернардо опубликовал книгу «Врач королевы», утверждая, что хирург Анны Австрийской П. Гондине при вскрытии тела умершего короля обнаружил, что он не мог иметь потомства и, следовательно, не был отцом Людовика XIV. Об этой опасной тайне лекарь сообщил своему племяннику — судье, а тот (непонятно зачем) — начальнику полиции Ла Рейни. Остальное ясно без слов.
Однако вскоре же исследователями было установлено, что Гондине только в 1644 году стал врачом королевы и не мог участвовать во вскрытии умершего за год до этого Людовика XIII. А судья мирно скончался в своем родном городе в декабре 1680 года, оставив завещание, которое и поныне сохраняется в местном архиве…
Недаром после такого фиаско отдельные историки обратились к старой версии, обновив ее рядом домыслов. Доже — согласно этой версии — какой-то дворянин, возможно, незаконный сын или внук Генриха IV (и, следовательно, брат или племянник Людовика XIII), который по поручению Ришелье стал любовником Анны Австрийской и отцом Людовика XIV. Эта версия отвечает на вопрос, почему от «маски» просто не избавились с помощью яда или каким-либо другим способом. Однако гипотеза совсем не объясняет других известных нам фактов о «маске» и «слуге» Эсташе Доже. Между прочим, принимая эту гипотезу, следует считать, что заключенный умер в возрасте свыше 80 лет. Поэтому сторонники этой версии играют на уже известном нам двусмысленном выражении, не раз встречающемся в переписке Сен-Мара, который писал о «маске» как о «моем старом заключенном». «Старый» здесь может означать и преклонный возраст и, напротив, являться лишь констатацией того, что «маска» — заключенный, давно находящийся на «попечении» Сен-Мара. Совсем недавно французский академик М. Паньоль выпустил книгу «Железная маска». Автор возвращается к версии Вольтера и доказывает, будто под псевдонимом Эсташа Доже скрывали брата-близнеца Людовика XIV. Во избежание политических неурядиц Ришелье и Людовик XIII отправили его на воспитание в Англию к жене Карла 1, французской принцессе Генриетте. В 1669 году «маску» заманили во Францию и отослали в Пинероль.
Исторически случай с «маской» — совсем незначительный эпизод, но он все еще продолжает дразнить и занимать воображение. Недаром не прекращаются попытки найти новое решение этой старой загадки.
РАЗВЕДКА «КОРОЛЯ — СОЛНЦА»
В последнюю треть XVII в. претендентом на всеевропейскую гегемонию, на создание «универсальной» монархии выступала абсолютистская Франция. Общеевропейская обстановка как будто на редкость благоприятствовала честолюбивым планам и интригам короля Людовика XIV. Некогда грозная габсбургская Испания переживала полный упадок при жалких преемниках Филиппа II: обнищавшая страна с жадным дворянством и прожорливым духовенством, чахнувшие ростки промышленности, доведенные до полного разложения армия и флот. В Англии реставрированная монархия Стюартов настолько опасалась внутренних врагов, что ей было не до сопротивления планам могущественного французского короля. К тому же буржуазию Англии разделяло острое соперничество с буржуазией Голландии, приводившее к неоднократным англо-голландским войнам. А за восточными границами Франции находились бесчисленные мелкие княжества, на которые была поделена Германия, вдобавок до крайности истощенная только недавно окончившейся Тридцатилетней войной. Германский император (он так же, как и испанский король, был из рода Габсбургов) являлся господином лишь в своих наследственных австрийских и других владениях. Искусная дипломатия всегда могла создать коалицию недовольных им князей.
Первые войны Людовика XIV приносили ему успех за успехом. Его дипломаты и разведчики стали действовать совсем бесцеремонным образом. Подобно тому как в XIV — начале XVII в. католическая партия в Англии ориентировалась на Испанию, так теперь английские католики, являвшиеся сторонниками крайнего абсолютизма, искали поддержки у французского короля.
Широкие завоевательные планы побудили «короля-солнце» обратить внимание на совершенствование своей разведки и контрразведки. Опасаясь неприятельских разведчиков, Людовик XIV до крайности сужал круг посвященных в свои военные планы. Так, о плане осады плохо укрепленного города Монса (Испанские Нидерланды) в 1691 году знали только сам король, дофин и военный министр Лувуа. В тайну не был посвяшен даже маршал Люксембург, которому было поручено осуществление одной из военных операций, связанных с этой осадой. Руководителем французской контрразведки был генерал-лейтенант полиции Ла Рейни. Его на этом посту сменил Марк Рене д’Аржансон. Сохранились его отчеты с 1697 по 1718 год, рисующие роль полиции в обнаружении вражеских шпионов.
Представление о деятельности французской разведки в «век Людовика XIV» можно составить на примере одного из ее агентов — маркиза Гаспара д’Эспиншаля. Уже смолоду (он родился в 1619 году) маркиз приобрел у себя на родине, в Оверни, сомнительную известность своей, как писали, «беспорядочной жизнью», проще говоря — уголовными преступлениями. Он пытался отравить жену, изуродовать собственного сына, за ним числилось несколько убийств, а также ограбление местных духовных лиц, и это не считая жестокого притеснения крестьян в своих владениях. Суд приговорил маркиза к обезглавливанию, но этот вердикт был приведен в исполнение лишь над изображением д’Эспиншаля. Сам же он ухитрился скрываться сначала в Париже, а потом бежать за границу. Через несколько лет о нем забыли, и тогда д’Эспиншаль счел, что настало время самому напомнить о себе. Он предложил свои услуги в качестве разведчика министру иностранных дел Помпонну, и они были приняты.
В 1676 году маркиз организовал наблюдательный пост во Фридбурге, через который возвращались из Вены офицеры имперской армии, и выведывал у них массу полезной информации о численном составе и вооружении их полков. Не раз д’Эспиншаль объезжал районы дислокации имперских войск и отправлял в Париж выуженные им сведения о планах неприятельского командования. Отчеты д’Эспиншаля настолько ценились королем, что после его возвращения в 1679 году во Францию ему не только было даровано полное прощение, но даже присвоен высокий чин генерал-майора.
Совсем иначе пришел в разведку «короля-солнца» другой удачливый разведчик — Робер Лефевр д’Орваль. Он принадлежал к уже иному поколению. Лефевр родился 1671 году, и его успехи на поприще шпионажа относятся к самым тяжелым для Франции годам войны за Испанское наследство, когда войска Людовика XIV потерпели крупные поражения и армии вражеской коалиции готовились вторгнуться на французскую территорию. В 1706 году военный министр Шамийяр, приехавший в Лилль для организации зашиты этого города, познакомился там с парламентским советником Лефевром, который предложил ему создать разведывательную сеть в тылу неприятелей. Л’Орваль получал от своих агентов и пересылал в Париж очень точные известия о переговорах Голландии с другими участниками антифранцузской коалиции, массу сведений о состоянии финансов, вражеских крепостей и по множеству других вопросов, в том числе и с моральном духе французской армии. После отставки Шамийяра Лефевр с согласия нового министра Вуазена стал посылать копии своих наиболее важных донесений маршалу Вилару. В 1712 году точные сведения, сообщенные Лефевром, помогли французам выиграть сражение при Денэне. Шедро награжденный Людовиком XIV разведчик продолжал свою деятельность еще более двух десятилетий после смерти «короля-солнца», являвшуюся одним из важных источников сведений Версальского двора о положении в различных германских государствах.
Столь же активно действовала и дипломатическая разведка. Так, французский посол в Нидерландах граф Жан Антуан д’Аво писал в 1682 году о помощи, которую тогда голландцы надеялись получить от Испании, также опасавшейся гегемонистских притязаний Франции, в борьбе против Людовика XIV: «Хотя за прошедшие десять лет ни один вопрос, обсуждавшийся в (нидерландских) Генеральных штатах, не требовал такой секретности и стольких предосторожностей, а также таких клятв в соблюдении тайны, я тем не менее каждодневно получал точную информацию о том, что происходило на заседаниях голландской ассамблеи и Совета городов. Это позволяло королю принимать должные меры». Надо, впрочем, добавить, что коллеги графа д’Аво, которые не могли похвастать действительными успехами, приписывали себе мнимые победы на разведывательном поприще.
Накануне войны за Испанское наследство (1700–1714 гг.) французская разведка, естественно, проявляла особую активность в самой Испании. В этой стране престол занимал последний представитель династии Габсбургов слабоумный Карл II. После его смерти трон должен был перейти либо к австрийским Габсбургам, либо к французским Бурбонам, находившимся в наиболее близком родстве с бездетным испанским монархом. Мадрид снова превратился в центр тайной войны.
Одним из наиболее деятельных французских агентов сделалась племянница кардинала Мазарини, некогда первая (хронологически) фаворитка Людовика XIV Олимпия Манчини, ставшая графиней Суассон. В мае 1686 года она прибыла в Мадрид как приближенная испанской королевы Марии-Луизы, француженки, активно интриговавшей в пользу планов Версальского двора. Сторонники австрийской партии повели против королевы тайную войну, не останавливаясь перед фабрикацией фальшивок — любовных писем за ее подписью. 11 февраля 1689 года королева неожиданно заболела и на следующий день скончалась, по мнению многих, от действия яда. Французский посол граф Ребенак прямо обвинил имперскую дипломатию, другие, впрочем, не исключали виновности… самой графини Суассон. Однако и после смерти королевы французская партия отнюдь не сложила оружие и даже усилила свою активность. Этому немало способствовали разведчики и разведчицы, засланные по приказу Людовика XIV в Мадрид.
Большую роль среди них сыграла некая Анжелика ле Кутелье, которая после второго замужества стала носить фамилию маркизы Гюдан. Это была особа с весьма сомнительным прошлым. Еще в 1669 году она поспешно покинула Францию, где ей угрожал судебный процесс по обвинению в вымогательстве. Англичанин А. Стенгоп рассказывал, что встречал будущую маркизу в 1676 году в Риме. Там она стала любовницей секретаря французского посольства и во время одного свидания выкрала у него дипломатические бумаги, представлявшие чрезвычайный интерес для Мадридского двора. Документы оказались настолько важными, что испанское правительство, далекое от щедрости, назначило француженке ежегодную пенсию и разрешило поселиться в Мадриде.
В свете последующих интриг маркизы этот эпизод представляет особый интерес. Остается неясным, был ли он сознательной провокацией французской разведки, решившей таким путем заслать своего человека в Мадрид, или лишь впоследствии маркиза была «перекуплена» правительством «короля-солнца». Сохранились письма, которые Гюдан регулярно с февраля по декабрь 1693 года пересылала в Париж и которые содержали массу информации о придворных делах, полученной из первых рук — от министров и других важных государственных сановников. Тщательный анализ писем показывает, правда, что маркиза кое-что и присочиняла для придания большего веса сообщаемым ею сведениям.
Особняк маркизы Гюдан в Мадриде имел сад, примыкавший к важному правительственному зданию, что облегчало ее шпионские занятия. Однако роль Гюдан отнюдь не сводилась лишь к сбору информации. В сотрудничестве с другими французскими агентами она по указанию посла Аркура держала салон, где встречались министры и дипломаты, придворные и великосветские куртизанки, модные поэты, парижские аббаты и монахи-доминиканцы из различных испанских монастырей. Здесь Гюдан во время непринужденных бесед за столом узнавала нужные новости и плела заговоры в целях усиления французской партии. (Аркур был ярым противником проекта раздела испанских владений, считая, что все они должны перейти по наследству одному из французских принцев.) Активными агентами Парижа были также французские купцы, банкиры, ювелиры, мастера, которые не покидали Мадрида и в годы, когда Испания была втянута в войну против Франции.
Одним из наиболее важных заданий, порученных маркизе Гюдан, было привлечение на сторону Франции гессенской баронессы Берлепш, фаворитки новой королевы Анны-Марии Нейбургской. Вдовствовавшая баронесса — вульгарная особа с манерами престарелой кокотки — приобрела при дворе почти неограниченное влияние. Она единолично принимала решения, кого допустить к королеве, которая, в свою очередь, управляла как марионеткой Карлом II. Гюдан действовала через патера Реджинальда, бывшего исповедником и любовником фаворитки. Баронесса питала слабость к деньгам еще большую, чем к монахам, и за французское золото взялась служить правительству Людовика XIV. Это продолжалось до 1700 года, когда сторонникам императора с большим трудом удалось добиться почетного удаления Берлепш. Гюдан выслали еще раньше, в 1698 году, с запрещением приближаться ближе чем на 30 миль к испанской столице. Но все это не помогло австрийской партии одержать победу.
В годы войны за Испанское наследство иезуитский орден и его разведка в целом действовали на стороне Людовика XIV. Это было тем более важно для французского короля, что иезуиты пользовались сильным влиянием в Вене, при дворе императора, одного из главных противников Людовика. В 1708 году иезуитская разведка пыталась устранить наиболее способного императорского полководца принца Евгения Савойского. Занятый осадой Лилля, командующий австрийскими войсками однажды получил письмо, адресованное «Его Преосвященству принцу Евгению». Титул «преосвященства» употреблялся при обращении к лицам, посвященным в сан кардинала. А принц таковым не был. И эта ошибка сразу же возбудила подозрение Евгения, догадывавшегося, что имеет дело с иезуитскими кознями. Принц разорвал конверт, внутри оказалась серая бумага с сальным пятном, которую Евгений поспешил бросить на пол. Вскоре у него начала кружиться голова. Адъютант и слуга генерала, также страдая от головокружения, засунули бумагу в горло собаки, животное проглотило роковое послание и вскоре околело, хотя ему дали сильное противоядие. Евгений открыто обвинял иезуитов в покушении на свою жизнь, и это обвинение никогда не было опровергнуто.
СЮРПРИЗЫ ДОМА СВИДАНИЙ
9 декабря 1718 года 30 королевских мушкетеров, одетых в штатское платье, заняли здание испанского посольства и арестовали князя Челлемаре — посла короля Филиппа V (внука Людовика XIV), для утверждения которого в Мадриде Франция вела изнурительную «войну за Испанское наследство».
Правда, минуло уже более трех лет, как сошел в могилу сам Людовик, которому раболепствовавшие перед ним придворные при жизни ставили памятники; под мордой лошади его конной статуи днем и ночью горели лампады, как перед иконой. Человек, который провозгласил: «Государство — это я», оставил потерпевшую военное поражение, обнищавшую страну. Престол перешел малолетнему внуку «короля-солнца» — Людовику XV, регентом стал его дядя герцог Филипп Орлеанский, фактическим главой правительства — бывший воспитатель регента и участник всех его распутных оргий кардинал Дюбуа. Именно старому цинику Дюбуа принадлежит крылатое определение абсолютизма: «Правительство, которое объявляет банкротство когда хочет».
Автор известных мемуаров герцог Сен-Симон писал о Дюбуа: «Все пороки соперничали в нем, претендуя на главенство. Честолюбие, корысть, беспутство были его богами: коварство, лесть, прислужничество — его средствами; полнейшая нечестивость, убеждение, что порядочность и честность — это химеры, являлись его достоинствами. Он занимался самыми низменными интригами…». Здесь нам придется прервать столь колоритную аттестацию — у Сен-Симона она занимает целые две страницы. Надо лишь добавить, что такие черты характера Дюбуа оказались ему очень кстати, когда он возглавил французскую дипломатию и разведку.
В 1716 году Дюбуа был направлен послом в Лондон, чтобы подготовить крутую смену внешнеполитического курса — союз с Англией, оказавшийся, впрочем, недолговечным. Новый посол нередко покидал свою официальную резиденцию на Дьюк-стрит и спешил на конспиративную квартиру, где он получал секретную корреспонденцию и разведывательные донесения, адресованные на имя «учителя танцев Дюбюссона». Назначение Филиппа Орлеанского регентом вызвало сильное недовольство в Мадриде — не столько у самого слабовольного Филиппа V, сколько у его жены Екатерины Пармской и ее первого министра Альберони. Хотя. Филипп V, заняв испанский престол, должен был под давлением держав отказаться от притязаний на французский трон, он никогда не рассматривал этот отказ как окончательный. В испанской столице считали, что в случае смерти Людовика XV (в детские годы он часто болел) ему наследует Филипп V. А пока что он был готов поддержать план передачи регентства в руки сына Людовика XIV (от его фаворитки Монтеспан) герцога Мэна. За кулисами всей этой интриги стояла жена Мэна, внучка «великого Конде» — участника Фронды, а непосредственное осуществление плана взял на себя князь Челлемаре. Все было задумано в духе уже знакомых нам заговоров XVII в. — использование народного недовольства, сепаратистских настроений провинциальных дворян, вторжение испанских войск. Одно время заговорщики намеревались арестовать регента, когда он будет совершать прогулку, и произвести государственный переворот.
Дюбуа, создавший довольно действенную секретную службу, был осведомлен о подготовлявшемся заговоре. В числе приближенных герцогини Мэн была шпионка мадам де Шовиньи. Она ввела в общество, собиравшееся в замке Мэна, бывшего капуцина, а ныне наемного писаку аббата Камю, которому герцогиня поручила составить записки о законности притязаний заговорщиков. Камю с готовностью предоставлял герцогине требуемые ею литературные сочинения, а регенту (ради надлежащей оплаты) — не только копии этих произведений, но и протоколы тайных совещаний в замке, к которым допустили столь обязательного человека. Писец, которому поручили переписывать черновики писем, отправлявшихся в Испанию, уразумел, что попал в опасную историю, и по совету приятеля отправился к Дюбуа. Кардинал поручил ему составить список заговорщиков и вообше лиц, посещавших испанского посла. С помощью этого писца глава полиции граф д’Аржансон взял под наблюдение секретных агентов герцогини Мэн. «Черный кабинет» д’Аржансона перехватил несколько писем судей парламента и военных, вовлеченных в заговор. Авторы этих писем, адресованных испанскому министру Альберони, без всякой конспирации предлагали свои услуги Мадридскому двору.
Не обошлось без курьезов. Некто Теодор де Шевиньяр, очутившийся в Гааге без всяких средств к жизни, завоевал сердце одной служанки гостиницы. Он находился со своей возлюбленной в одной из комнат отеля, когда девицу позвала хозяйка. Шевиньяр едва успел укрыться в шкафу, как в комнату вошли двое знатных иностранцев. Не подозревая о присутствии злополучного любовника, они принялись детально обсуждать планы свержения регента. Шевиньяр решил использовать этот случай. Он не только записал слово в слово разговор незнакомцев, но с помощью служанки еще неоднократно прятался в нише, подслушивал беседы заговорщиков. Несколько раз он писал регенту, но тот не поверил ему и не удостоил ответа. Тогда Шевиньяр отправился в Париж и добился приема у Филиппа Орлеанского. И при личном свидании рассказ Шевиньяра показался регенту неправдоподобным, тем более что тот не раскрыл, каким путем он получил свои сведения о заговоре. Но Шевиньяр не растерялся:
— Прикажите посадить меня в Бастилию и держите там до смерти, если известия, которые я вам сообщаю, не подтвердятся.
Регент согласился, а когда заговор был раскрыт, то возымел столь высокое мнение о способностях Шевиньяра, что… назначил его послом в Португалию.
Однако главную роль в раскрытии заговора сыграл дом свиданий мадам де ла Фийон. Это заведение осведомленные современники считали филиалом министерства иностранных дел, которым заправлял Дюбуа. Девицы, нанятые Фийон и наставляемые этой весьма опытной особой, смогли выудить не один секрет у иностранных дипломатов, не умевших противостоять чарам обитательниц веселого заведения. Фийон составляла доклады для Дюбуа и регента.
Пополняя постоянно свой штат, эта облеченная государственным доверием дама приняла на службу молодую девушку, некую Марианну, которую предназначала для особо богатых гостей и пока не вводила в курс ее обязанностей. Марианна влюбилась в одного из посетителей — секретаря князя Челлемаре, и когда тот не пришел на назначенное ночное свидание, устроила ему сцену ревности. Все оправдания принимались с недоверием. Наконец испанец не выдержал и разъяснил, что участвует в заговоре против регента, что он провел ночь, переписывая бумаги, которые князь Челлемаре отправляет кардиналу Альберони в Мадрид.
…Мадам Фийон не упустила ни одного слова из этого взволнованного объяснения влюбленных. За отчет о нем она получила от регента несколько десятков тысяч ливров в звонкой монете. Впоследствии мадам Фийон удачно вышла замуж, стала графиней. Но это произошло много позднее, а вот резиденцию князя Челлемаре королевские мушкетеры заняли через неделю после беседы, подслушанной содержательницей филиала министерства Дюбуа (о заговоре донесли и шпионы кардинала из Лондона). Рядовые участники этой авантюры поплатились головой, знатные руководители сумели отделаться незначительными наказаниями.
«ПАНСИОНАТ» МАРКИЗЫ ПОМПАДУР
В 1745 году начала всходить звезда маркизы Помпадур, которая сумела два десятилетия сохранять место главной фаворитки, несмотря на быструю смену других привязанностей любвеобильного Людовика XV. А это уже имело политическое значение. Маркиза получала решающий голос при назначении и смешении министров. Во второй половине 50-х годов Помпадур активно содействовала сторонникам переориентации французской внешней политики от союза с Пруссией, которая заключила соглашение с Англией, к союзу с Австрией. Эта крутая перемена противоречила прочным традициям французской политики, нацеленной на борьбу с Англией на море и с притязаниями Габсбургов на главенство в Европе. И хотя Австрия давно уже перестала представлять прежнюю силу, новый курс политики Версаля вызывал серьезные сомнения. Поэтому свалить Помпадур пытались не только ее многочисленные соперницы, но и опасавшиеся за свое положение министры, и противники австрийского союза, и. наконец, действовавшие заодно с ними агенты прусского короля Фридриха II.
Маркиза взяла на себя руководство перлюстрацией писем. Директор почт докладывал Помпадур ежедневно о результатах работы «черного кабинета» и по другим вопросам, связанным с секретной корреспонденцией. Помпадур возложила на начальника полиции Беррье, содержавшего обширную шпионскую сеть, задачу развлекать вечно скучавшего короля подробными скабрезными «рапортами» о происшествиях в публичных домах, в частности при тайном посещении сих мест иностранными дипломатами. (Парижский архиепископ Кристоф де Бомон после настойчивых просьб добился, чтобы ему доставляли копии этих отчетов.) Монаршее благоволение вскоре выразилось в форме приказа, повелевавшего включать в отчеты и пикантные материалы, добываемые от перлюстрации частной переписки. Вместе с тем расторопному генерал-лейтенанту полиции было предписано строго-настрого следить за точным исполнением королевского указа от 8 июня 1747 года. Этот указ запрещал печатать и распространять книги, содержание которых противно религии и отеческой заботе Людовика о чистоте нравов.
Историк А. Кастело объясняет поведение Людовика «генетическим фурором»: в королевских семьях браки заключались между родственниками и король имел лишь 28 предков в шестом поколении вместо 64, как все другие люди. Зато он не имел недостатка в незаконных отпрысках, которые все вместе, как подсчитал Ж. Валинзель в книге «Дети Людовика XV», могли бы составить население целого городка.
Некоторые французские биографы Людовика XV делят его любовниц на два ранга — больших и малых; последние, часто сменяясь, не нарушали влияния настоящих фавориток. А маркиза Помпадур, принявшая на себя заведование увеселениями монарха, сама регулировала отбор и поставку малых — а нередко и малолетних — метресс своему повелителю.
Порой фаворитками становились сразу несколько сестер: например, молва утверждала, что пять дочерей маркиза де Флавакура были удостоены королевской милости. Впрочем, очень благосклонные к Людовику его новейшие биографы считают это явным преувеличением, полагая, что из списка надо исключить третью и четвертую дочь, а первая, Луиза, почти совсем лишилась милости, когда наибольшую силу в 1742 году забрала младшая Мария-Анна, которая получила титул герцогини де Шатору и поместья, приносившие 80 тыс. ливров ежегодного дохода («в компенсацию за ее преданность королеве», как значилось в акте дарения). Постепенно Людовик пришел к мысли, что нельзя зависеть от случая. Воспитание будущих фавориток было поручено специальному закрытому пансионату («Оленьему парку»), покровительницей которого стала Помпадур. От дворянских семей, желавших пристроить дочерей в столь перспективное учебное заведение (после его окончания выдавалось 100 тыс. ливров), не было отбоя, так что отбор претенденток пришлось вверить заботам дотошного Беррье.
«Что только не думали об этом скверном месте, которое памфлетисты конца века рисовали ареной оргий и гнусных махинаций, рассчитанных на совращение бедных невинных девушек! — с негодованием писал в 1965 году историк Ж. Леврон. — Какой бы тяжелый ни являлась действительность, кажется, нет надобности рисовать ее в еще более черных красках». Нужды в этом и вправду нет. Все происходило проще. С полицейской точки зрения «Олений парк» был очень даже удобным предприятием, если бы не все новые королевские причуды, при которых альковные секреты не раз вплетались в перипетии тайной войны.
Опасным моментом для Помпадур и руководимого ею «пансионата» была весна 1753 года, когда король увлекся некоей Марией-Луизой О’Мэрфи, настойчиво добивавшейся положения официальной фаворитки. Этой проблемой пришлось всерьез заняться дипломатии и разведке ряда стран. Папский нунций монсеньор Дурини сообщал в Рим о близком падении Помпадур: «По всей видимости, главная султанша теряет свое положение». Однако и на этот раз нереальность планов, связанных с «концом режима Помпадур», выяснилась еще до конца 1753 года.
Летом 1756 года, в самый острый момент дипломатической борьбы накануне Семилетней войны, некая мадам де Куаслен прорвалась в официальные фаворитки, ее поддерживали все враги Помпадур и противники австрийского союза. Маркиза уже подумывала о том, чтобы покинуть Версаль. В конце концов королевский лакей Лебедь нашел подходящую замену для Куаслен. Внутренний конфликт был таким образом улажен. Оставался внешний — война против Англии и Пруссии.
Уже во время войны Людовик, прогуливаясь однажды по саду Тюильри, обратил внимание на некую мадемуазель Тьерселен. почти ребенка. Агенты Беррье быстро определили адрес Тьерселен и столь же оперативно сломили первоначальное сопротивление родителя. Словом, молодая Тьерселен под новым именем мадам де Бонваль была помешена во внутренних покоях Версальского дворца, а отец ее стал активным участником придворных интриг. Через некоторое время влияния Тьерселена начал опасаться даже министр иностранных дел Шуазель. Новичок в придворных лабиринтах, Тьерселен вскоре стал деятельным агентом прусской партии. Однако Помпадур с ее хорошо поставленной разведкой и на этот раз провести не удалось. Маркиза разобралась в хитросплетениях замыслов врагов и сумела представить свою соперницу в виде слепого орудия прусского короля, которого Людовик совершенно не выносил. В результате Беррье получил повеление направить Тьерселена в Бастилию, а его дочь — в монастырь (мадам де Бонваль содержали в заключении, пока продолжалось царствование ее галантного поклонника).
Маркиза Помпадур выслушала последний доклад министра почт, лежа на смертном одре. А на следующий день в кабинет умершей проник под каким-то благовидным предлогом министр иностранных дел герцог Шуазель. Хотя на улице было тепло, герцог явился в широком пальто из красного драпа, под которым ему удалось унести наиболее важные секретные бумаги скончавшейся фаворитки.
НАСТАВНИК «ПИКОВОЙ ДАМЫ»
Приходилось ли вам слышать фамилию графа Сен-Жермена, того загадочного человека, который сообщил старухе графине из пушкинской «Пиковой дамы» тайну трех карт? Это имя давно уже было окутано темным покровом легенд. В романе известного английского писателя середины прошлого века Э. Булвер-Литтона «Занони» образ главного героя, обладающего неземным могуществом, мудростью и бессмертием, явно списан с Сен-Жермена. Булвер-Литтон уверял читателя, что этот роман основан на рукописи, принадлежавшей мистическому обществу розенкрейцеров, которые, по распространенному поверью, поддерживали связи с потусторонними. сверхъестественными силами.
Еще в 1785 году, после смерти Сен-Жермена, одна газета объявила, что он жив. Подобные сведения получили широкое распространение. Мадам де Жанлис утверждала, что встретила Сен-Жермена в 1821 году в Вене. Его видела также фрейлина графиня д’Адемар, которой он якобы еще перед смертью обещал явиться пять раз. Приходил он всегда перед какими-нибудь историческими событиями, казавшимися особо важными для фрейлины, например, перед казнью Марии-Антуанетты или расстрелом по приказу Наполеона I герцога Энгиенского. Одно только сомнительно, жила ли вообще на свете графиня д’Адемар, точнее — была ли какая-либо представительница этого действительно существовавшего дворянского рода фрейлиной в Версале и не являлись ли вышедшие в 1863 году под ее именем «Воспоминания», как считают некоторые ученые, подделкой, изготовленной малоизвестным французским романистом Ламот-Лангоном. А в мемуарах некоего Франца Греффера, опубликованных в Вене в 1845 году, Сен-Жермен пророчески объявлял их автору: «В конце (XVIII] столетия я исчезну из Европы и отправлюсь в Гималаи. Я буду отдыхать, я должен отдыхать. Ровно через 85 лет люди опять увидят меня». Однако в мемуарах заботливо обойден вопрос о точной дате этого пророчества. В 1938 году утверждали, что Сен-Жермен еще живет в Венеции «в одном из дворцов на Большом канале».
В США даже возникла в 30-х годах XX в. секта баллардистов, которые в своих церквах почитают Сен-Жермена наравне с Иисусом Христом. Вплоть до наших дней появляются книги, в которых подробно повествуется о встречах с таинственным незнакомцем, который оказывается Сен-Жерменом, открывшим секрет физического бессмертия.
Однако, если читатель сделает отсюда вывод, что граф Сен-Жермен вообще с самого начала являлся мифом, это будет ошибкой. Нет, это был вполне реальный человек, после которого остались собственноручно написанные им письма и о котором мы имеем многочисленные свидетельства очевидцев — от рассказов мемуаристов до хроникерских заметок в газетах и архивных документов. Современники, бывшие свидетелями многих казавшихся необъяснимыми действий и поступков Сен-Жермена, заложили первые основания той волшебной сказки, в которую обратились рассказы о его жизни. В середине XIX в. император Наполеон III приказал собрать все, что сохранилось в государственных архивах относительно Сен-Жермена. Однако во время вскоре начавшейся франко-прусской войны и осады Парижа здание, где хранились документы, сгорело. И тайна стала еще более непроницаемой. От ученых потребовалось немало терпения и усиленных поисков достоверных сведений, чтобы приподнять хотя бы частично завесу неизвестного. И при этом открылись факты, имеющие прямое отношение к нашему повествованию о тайной войне.
Пока не удалось установить ни места, ни года рождения Сен-Жермена. Сам он распускал слухи, что является одним из сыновей Ракоци, руководителя венгерского национального восстания против власти австрийских Габсбургов, которого он действительно напоминал чертами своего облика. Имеется много и других предположений о происхождении Сен-Жермена, но все они остаются малообоснованными догадками. Гораций Уолпол утверждает, что еще в 1743 году этот авантюрист был арестован в Лондоне как «якобитский агент». Примерной датой рождения графа считают 1710 год. Впрочем, встретившая Сен-Жермена в Париже в конце 50-х годов XVIII в. вдова французского посла в Венеции мадам де Жержи объявила, что видела его в этом знаменитом итальянском городе в 1710 году и что тогда ему было примерно 45 лет. Поскольку через полвека Сен-Жермен выглядел не старше 45–50 лет, возможно, отсюда и возникла молва о его бессмертии. Стоит лишь добавить, что самой мадам де Жержи, конечно, не удалось так хорошо сохраниться: ей было уже больше 80 лет, и на память старой дамы вряд ли можно было очень полагаться. Между прочим, на это иронически обратил внимание и сам Сен-Жермен, когда его стали расспрашивать по поводу утверждений мадам де Жержи. Однако у загадочного графа была одна особенность — ему всегда удавалось таким образом отрицать связи со сверхъестественными силами, что его собеседники, напротив, окончательно убеждались в обоснованности ходивших на сей счет слухов.
А слухи нарастали, как снежный ком. В Париже в начале 60-х годов появился «двойник» Сен-Жермена. Это был повеса и ловкий самозванец, известный и под фамилией лорда Гоуэра. Свой псевдоним он приобрел во время Семилетней войны, когда, будучи французским шпионом, выдавал себя за чистокровного британца и посылал донесения о состоянии английской армии. Мнимый Сен-Жермен, имя которого принял столь же мнимый «лорд Гоуэр», небрежно разъяснял, например, что ему случалось присутствовать на Вселенском церковном соборе в Никее, состоявшемся в IV в.
«Настоящий» Сен-Жермен действовал более осторожно, рассказывая в деталях о многих исторических событиях отдаленных эпох. У его собеседников возникала мысль, что эти детали могли быть известны только очевидцу. Блестящее знание многих языков помогало Сен-Жермену придавать правдоподобие этому «подтексту» своих рассказов. «Не выучил ли он эти языки во время одного из своих прежних «перевоплощений»?» — задавали себе вопрос его знакомые. Иногда Сен-Жермен очень обдуманно «проговаривался».
Однажды, когда разговор зашел о Христе, Сен-Жермен заметил мимоходом:
— Я был с ним близко знаком. Это был лучший человек в мире, но неосмотрительный и романтически настроенный. Я часто предсказывал ему, что он плохо кончит.
Подлинный Сен-Жермен, появившийся в Париже около 1757 года, успел стать предметом всеобщего любопытства. Даже вечно одолеваемый скукой Людовик XV был заинтересован, когда приезжий на его глазах одним движением руки уничтожил трещину на бриллианте, что сразу повысило втрое стоимость этого драгоценного камня. Чудотворца стали приглашать к королевскому столу, создали небольшую лабораторию, где он показывал опыты королю. Правда, речь шла не о «жизненном эликсире», а о предмете более прозаическом — новых красках для французских тканей. Но и здесь Сен-Жермен умел не только придать своим занятиям ореол таинственности, но и убедить короля, что он открывает новые источники доходов для французской казны.
Влияние приезжего незнакомца стало настолько велико, что с ним начали советоваться по государственным делам и ему удалось добиться смешения некоторых сановников. Симпатии графа Сен-Жермена были явно на стороне Пруссии, воевавшей с Францией. Он был сторонником антиавстрийской политики, от которой отказалась Франция, выступая в союзе с Веной против Фридриха II. Прорицания Сен-Жермена приобретали политический характер. Он предрекал, что сокрушительные поражения, которые были нанесены русской армией войскам Фридриха II, не приведут к поражению Пруссии. (Этого действительно не произошло. После смерти Елизаветы Петровны вступивший на русский престол Петр III, ярый поклонник прусского короля, поспешил заключить мир со своим кумиром.) Скептически настроенные люди, в которых не было недостатка во Франции, стали подозревать, что граф Сен-Жермен просто являлся агентом Фридриха II. Это подозрение никогда не было доказано. Быть может, оно было и несправедливым и граф отражал в своих высказываниях пропрусские взгляды военного министра маршала Бель-Иля, с которым он был в то время тесно связан. Такая линия не могла не вызвать столкновения с министром иностранных дел Франции герцогом Шуазелем, который строил всю свою карьеру на политике союза с Австрией.
Сен-Жермен сделался тайным агентом Людовика XV. Граф становился одним из людей, осуществлявших личную дипломатию французского короля. В том же году графа направляют с секретными поручениями в Гаагу. Он выражал настроения той части французского правительства, которая была склонна закончить войну, приведшую к крупным неудачам для Франции. К этой группе принадлежали военный министр Бель-Иль и маркиза Помпадур. Действуя в обход официальной французской дипломатии, возглавлявшейся герцогом Шуазелем, активным поборником продолжения войны, Сен-Жермен должен был вести тайные переговоры с английским послом в Гааге генералом Йорком. Другим французским агентом, посланным в это время в Гаагу, был известный международный авантюрист Казанова. Ранее, в 1757 году, французский министр-кардинал Франсуа де Берни послал Казанову в Дюнкерк, который по Утрехтскому миру англичане могли использовать как гавань для военных кораблей. В Дюнкерке Казанова, представившись офицером венецианского флота, познакомился со многими британскими моряками и выведал у них всю нужную Берни информацию об английской эскадре. В 1759 году он встретился в Гааге с Сен-Жерменом. Оба они выполняли тайные поручения, неизвестно точно, какие именно (формально речь шла о голландском займе Франции). Венецианец рассказывал, что проживал с Сен-Жерменом в отеле «Принц Оранский». Казанова постарался очернить Сен-Жермена как опасного конкурента в глазах французского посла в Гааге д’Афри. Посол, вероятно, способствовал неудаче тайных переговоров Сен-Жермена с английскими и прусскими представителями. Однако наибольший вред нанес Сен-Жермен себе сам. Ему еще удавалось создавать ореол загадочности вокруг собственной персоны, но сохранить в секрете порученное дело оказалось выше его сил. Граф явно вел свою опасную дипломатическую и разведывательную работу как авантюрист. Секретный агент с готовностью рассказывал о предпринятых им действиях, чтобы повысить мнение окружающих о своем влиянии и талантах. Кроме того, как передает саксонский представитель в Гааге Каудербах, Сен-Жермен распространялся также на тему о слабости французского короля и пороках Версальского двора.
Французский посол д’Афри некоторое время колебался — зависть боролась с робким почтением к сверхъестественным силам, которыми повелевал Сен-Жермен и с которыми побаивался связываться осторожный французский дипломат. Однако в конце концов он послал подробные и крайне враждебные Сен-Жермену сведения в Париж своему начальству — герцогу Шуазелю. Тот действовал быстро. Шуазелю удалось упросить маркизу Помпадур показать ему донесения, посылавшиеся ей Сен-Жерменом. На заседании министров, на котором присутствовал король, Шуазель продемонстрировал эти документы. Людовик XV и другие министры, посвященные в тайну, поспешили отречься от Сен-Жермена. После этого Шуазель послал д’Афри инструкцию, чтобы тот вызвал Сен-Жермена и объявил ему повеление не вмешиваться больше в политику под угрозой тюрьмы. Более того, Шуазель попробовал даже добиться выдачи графа голландскими властями и препровождения его во Францию. Незадачливого ясновидца спас один его влиятельный поклонник, предупредивший об опасности и убедивший его бежать в Англию. Однако английские власти решили не допускать пребывания в стране уволенного агента, который мог осложнить их переговоры с Шуазелем. Из Англии Сен-Жермен перебрался в Германию.
В своих мемуарах Казанова утверждает, что вновь встретил Сен-Жермена в Париже в мае 1761 года, прогуливавшегося с маркизом д’Юрфе. Казанова считал, что до этого Сен-Жермен выполнял в Лондоне задания Шуазеля, точнее говоря, был французским контрразведчиком, действовавшим на вражеской территории. С этим перекликаются сведения еще одного мемуариста, ссылающегося на того же маркиза д’Юрфе. Тот якобы рассказал Шуазелю о присутствии Сен-Жермена в Париже и получил неожиданный ответ: «Я не удивляюсь этому, так как он провел ночь в моем кабинете». Однако другие бесспорные факты делают малоправдоподобной эту версию.
В последующие годы Сен-Жермен бывал при различных дворах Европы, всюду предлагая свои мнимые и действительные секреты. Не владея ни «эликсиром жизни», ни «философским камнем», ни умением превращать неблагородные металлы в золото, он, кажется, действительно знал рецепт нескольких важных химических красителей, которые и пытался применять в производстве тканей.
Умер Сен-Жермен в Германии, в Экернферде, 27 февраля 1784 года и похоронен 2 марта, о чем были сделаны соответствующие записи в церковно-приходской книге. Таким образом, место и дата смерти Сен-Жермена зафиксированы совершенно точно — в отличие от места и даты рождения. Но его мистически настроенные последователи продолжали распространять легенды о таинственном графе, наделенном многими талантами и знаниями, обладателе секрета бессмертия.
ФИГАРО В ЛОНДОНЕ
Первоначально прибытие в Лондон французского дворянина шевалье де Ронака не привлекло особого внимания — мало ли иностранцев ежедневно приезжало в многолюдную английскую столицу. Однако те из французских эмигрантов, находившихся в Лондоне, к которым этот приезд имел непосредственное отношение, без труда узнали все нужное о человеке с никому не говорившей фамилией Ронак.
Надо сказать, что и сам прибывший явно не очень стремился сохранять инкогнито, иначе он не выступал бы под прозрачным псевдонимом, который легко расшифровывался как анаграмма слова «Карон». Это была фамилия Пьера Огюстена Карона, добавившего к ней аристократически звучащее «де Бомарше». Человек, которому предстояло обессмертить себя созданием «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро». успел прожить к этому времени бурную, полную приключений жизнь, послужившую во многом материалом для создания образа главного героя знаменитых комедий. Сын зажиточного часовых дел мастера, Бомарше, как и другие выходцы из буржуазии, правдами и неправдами втерся в ряды привилегированного дворянского сословия, окунулся в вихрь спекуляций и придворных интриг, вступил в конфликт с парижским парламентом — тогда бюрократическим судебным учреждением. Его блестящие «Мемуары», разоблачавшие порядки, царившие в парламенте, снискали Бомарше громкую общественную известность. Но их автор менее всего был сознательным борцом против абсолютизма. Он с удовольствием воспользовался представившимся случаем услужить Людовику XV, который за это решил бы в его пользу затянувшуюся тяжбу с парламентом. А «деликатное» поручение, которое принял на себя Бомарше, было вполне в духе многих других предприятий, осуществлявшихся личной дипломатией и разведкой короля.
В Лондоне в это время жил некто Тевено де Моранд, француз по национальности, мошенник и вымогатель по профессии. За ним числилось немало историй чисто уголовного характера, но любимой специальностью Моранда был шантаж. Конечно, это было дело беспокойное (один из невольных «клиентов» Моранда, например, жестоко отколотил его прямо на улице), но, как оказалось, довольно прибыльное.
Моранд собирал компрометирующие сведения о различных лицах и заставлял дорого платить за свое молчание. Перебравшись в безопасный Лондон, он быстро использовал возможности существовавшей тогда там свободы печати (надо сказать, весьма ограниченной, поскольку дело шло об обсуждении серьезных политических вопросов). Теперь уже шантажируемым лицам Моранд угрожал появлением печатных разоблачений. А в число этих лиц Моранд решил включить и такого богатого клиента, как Людовик XV. Влияние над королем захватила в это время новая любовница мадам Дюбарри. И ей, и Людовику, конечно, мало улыбалось увидеть появление в свет книги под броским названием «Тайные мемуары публичной женщины». Там излагалось немало скабрезных эпизодов из весьма красочного прошлого новой фаворитки. Самыми невинными из них были изложенные со всеми подробностями срамные рассказы о том, как архиепископ Реймсский и канцлер Мопу выполняли роль камеристок Дюбарри…
Сначала Версальский двор решил было действовать испытанным методом. В Лондон был откомандирован отряд переодетых полицейских. Они должны были под предлогом увеселительной поездки заманить или просто силой затащить Моранда на корабль, который немедля бы доставил шантажиста во Францию, или, точнее, за решетку одной из многочисленных французских тюрем. Но здесь нашла коса на камень. Полицейские должны были вскоре убедиться в этом буквально на своих боках. Не на того напали — решил опытный мошенник… и любезно пригласил незадачливых шпионов к себе на квартиру. Сначала Моранд там, между прочим, выиграл у них немалую толику казенных денег, а потом поднял отчаянный крик. Сбежались люди, и Моранд без труда натравил лондонскую толпу на агентов «версальского деспота». Агентов едва не линчевали и в виде предостережения бросили в Темзу. Случай этот получил широкую огласку и вызвал большое возбуждение. После этого нечего было и думать о насильственном увозе Моранда. Французские полицейские чины грустили и терялись в догадках, что делать. Бомарше считал, что после изобретения денежных знаков эти размышления по крайней мере излишни.
Правда, когда он приехал в Лондон, Моранд некоторое время отказывался встречаться с шевалье де Ронаком. «Разве это не новая попытка вероломного похищения или убийства?» — вопрошал набивавший себе цену вымогатель. В конце концов встреча состоялась. Моранд не скрыл от шевалье де Ронака, что «Тайные мемуары» должны вот-вот выйти из печати. Впрочем, Бомарше удалось уговорить шантажиста задержать их выход в свет до тех пор, пока тайный посланец Людовика не съездит в Версаль за новыми инструкциями. Тот принял к сведению разъяснения памфлетиста, что он, Моранд, кроме всего прочего, нуждается в возмещении убытков за ущерб, который он претерпел от попытки его похитить. Неясно, требовал ли Моранд еще и оплаты тех усилий, которые ему пришлось затратить, чтобы обыграть в карты и выудить деньги у полицейских. Однако положительно известно, что вернувшийся из Парижа Бомарше передал мошеннику 32 тыс. ливров и обязательство французского правительства выплачивать Моранду пожизненную пенсию размером в 4 тыс. франков в год. Заботливый издатель «Тайных мемуаров» добился включения в это обязательство пункта, гарантирующего его жене после смерти Моранда продолжение выплаты пенсии в половинном размере. Один достойный приятель Моранда — о нем пойдет речь в следующей главе — иронически упрекал своего дружка, что тот позволил провести себя, не воспользовавшись прекрасной возможностью обеспечить государственными пенсиями своих незаконных детей, а также собак и кошек в его доме.
Как бы то ни было, весь тираж «Тайных мемуаров» был торжественно сожжен в присутствии Бомарше и других французских представителей. У Бомарше даже возникла мысль превратить вполне удовлетворенного теперь Моранда (за особую плату, конечно) в шпиона, наблюдающего за французскими эмигрантами, чтобы избежать появления новых «пасквилей» против французского короля. Опьяненный успехами, Бомарше вернулся в Париж, но сообщить о них было уже некому: Людовик XV успел к этому моменту скоропостижно скончаться, и Дюбарри лишилась всякого влияния при дворе. «Какая разница между мной и Вами! — жаловался Бомарше в письме своему новому знакомцу Тевено де Морайду в Лондон. — Вы без труда заработали 100 000 франков, а я, проехавший за шесть недель 780 миль и истративший 500 гиней, не знаю даже, возместят ли мне мои дорожные расходы. И к тому же Ваша книга через неделю потеряла бы какое-либо значение!»
Впрочем, автор «Фигаро» не терялся и в более тяжелых ситуациях. Король умер, да здравствует король! Нет Людовика XV, но есть Людовик XVI, который также будет озабочен потоком памфлетов против его жены Марии-Антуанетты. (Моранд, отвечая добром на добро, прислал из Лондона Бомарше полный каталог этих сочинений.) Бомарше не только получает новое задание, но и добивается личного письма Людовика XVI, уполномочивающего его на выполнение «секретных поручений» в Англии и Голландии.
Началась новая серия приключений Бомарше в Лондоне: шевалье де Ронак усердно разыскивал и умиротворял «пасквилянтов». Вскоре Бомарше бросился преследовать одного из них, взявшего деньги, но не уничтожившего «пасквильную рукопись». Преследование продолжалось на континенте. Здесь были все приметы приключенческого романа: переодевания, бешеные скачки, разбойники, ограбившие Бомарше, наконец, интриги в Вене, где ему хотелось завоевать доверие императрицы Марии-Терезии, матери Марии-Антуанетты. Но мы не будем следовать за неутомимым Фигаро в его странствиях. В Вене ему не повезло: Бомарше даже попал под арест, — но в Париже он снова оказался в фаворе. А потом последовала еще более головокружительная эпопея, в которой Бомарше выступал как глава фирмы «Родерик Хорталес и К», занимавшейся тайными поставками оружия восставшим английским колониям в Северной Америке.
Еще во время своих визитов в Лондон для улаживания дел с д’Эоном Бомарше занялся, как известно, шпионажем, посылая в Версаль подробные отчеты об английских планах в отношении бурливших от недовольства и вскоре открыто восставших британских колоний в Северной Америке. Бомарше, ранее находясь в Испании, подружился с британским послом в Мадриде лордом Рочфордом, который был страстным меломаном и обожал распевать дуэты со своим всегда любезным и занимательным приятелем-французом. Вернувшись в Лондон, Рочфорд вплоть до конца 1775 года занимал пост министра, ведавшего американскими делами, да и после этого, оставаясь приближенным короля Георга 111, был в курсе всех намерений и действий британского кабинета. Если меломания была еще извинительной слабостью для дипломата, то этого никак нельзя сказать о другой слабости Рочфорда — чрезмерной говорливости, которая позволяла Бомарше без труда выуживать у него секреты британской политики. Одновременно Бомарше завязал связи с агентами колонистов в Лондоне, которые с помощью оппозиционных кругов в самой Великобритании пытались закупить и переправить за океан оружие, столь нужное американским революционерам.
Бомарше с категоричностью, делавшей честь его проницательности, сообщал в Версаль, что попытки Лондона достичь компромисса с колонистами окончатся неудачей, что конфликт неизбежен и что попытки подчинить силой восставших обречены на провал. Эти выводы, содержащиеся в меморандумах, посланных Бомарше 21 сентября 1775 года Людовику XVI и министру иностранных дел графу Верженну, несомненно, оказали влияние на политику Версальского двора. Именно с того времени Верженн стал оказывать денежную и всяческую другую помощь нескольким купиам в Нанте, которые должны были доставлять контрабандным путем оружие в британские колонии.
Первоначально эта тайная торговля не приобрела больших размеров, пока за нее не взялся Бомарше. Для этого Верженну при помощи Бомарше надо было рассеять опасения Людовика XVI. Мечтая взять реванш за поражение в Семилетней войне, в результате которого Франция уступила Англии свою колонию Канаду и большинство владений в Индии, Людовик вместе с тем боялся войны. Тем более неприятной для него была мысль о войне в поддержку американских колонистов, восставших против своего монарха, помазанника Божьего. Правда, испанский король (тоже из династии Бурбонов, которая правила там с 1700 года) Карл III предлагал своему племяннику Людовику ХУЛ совместное выступление против общего врага, но и это не покончило с колебаниями недалекого и боязливого французского монарха. Верженн и Бомарше пытались сломить нерешительность Людовика XVI, подчеркивая, что Франция упустит счастливую возможность отомстить Англии, что Лондон может пойти на уступки колонистам, помириться с ними и с их помощью захватить богатые французские владения в Карибском бассейне, являвшиеся тогда одним из главных производителей сахара. Но и это не переубедило короля, как и не сняло возражения министра финансов Тюрго, угрожавшего, что война может привести к полному экономическому банкротству. Поэтому Верженн предложил политику, которая сводилась к оказанию тайной помощи колонистам и обещанию в будущем заключить с ними военный союз с целью воспрепятствовать их примирению с метрополией. План Верженна встретил полную поддержку Испании. И в Париже, и в Мадриде надеялись, что затяжная война между Англией и восставшими колониями истощит силы обеих сторон к выгоде французского и испанского дворов. К тому же к Франции перейдет торговля с колониями, ранее сосредоточенная в руках Англии. Наконец можно будет подумать и об отвоевании потерянных владений.
2 мая 1776 года Людовик ХУЛ, согласившись с планом Верженна, приказал выделить 1 млн. ливров для тайной помощи колонистам и предписал продавать для этого по низкой иене лишнее оружие, хранившееся во французских арсеналах. Покупателем выступила фирма «Хорталес и К», которую возглавлял Бомарше под именем Дюрана и капитал которой был составлен из ассигнованного королем миллиона.
Английская разведка не сразу заметила новый этап, в который вступила французская политика поддержки колонистов. 1 мая, за день до подписания Людовиком XVI приказа о предоставлении для тайной помощи колонистам 1 млн. ливров, из Парижа было отправлено донесение на имя лорда Уэймауса, преемника лорда Рочфорда на посту министра, относительно подозрительных вояжей французского писателя Бомарше в Лондон. За предшествовавшие 18 месяцев он совершил восемь поездок в Великобританию. По мнению английского агента, Бомарше посещал Англию, чтобы добыть деньги для закупки оружия, которое собирался переправить колонистам. Эта информация могла только запутать английское правительство относительно планов Версальского двора.
Получив деньги и королевское разрешение, Бомарше начал действовать с присущей ему энергией, которая преодолевала даже инертность и некомпетентность французской бюрократии. Переписываясь с американским делегатом Артуром Ли, Бомарше ни единым словом не упоминал, что фирма получила деньги из правительственных фондов. Предполагалось, что в обмен на оружие «Хорталес и К°» будет поставлена крупная партия американского табака.
В начале июля 1776 года в Париж прибыл представитель колонистов Сайлес Дин — сын кузнеца, в прошлом школьный учитель, а позднее делец, преуспевший в торговых операциях. 4 июля Второй континентальный конгресс провозгласил независимость колоний, но эта новость вследствие медлительности тогдашних сообщений и британской блокады достигла Дина лишь через три месяца. Дин изображал богатого купца с Бермудских островов, впрочем, не очень искусно играя взятую роль. Верженн некоторое время колебался, принимать ли Дина. Дело в том, что английская разведка заранее узнала о его прибытии и британский посол в Париже лорд Стормонт выразил протест Верженну. Решившись все же принять Дина, Верженн предложил дальнейшие переговоры вести через первого секретаря французского министерства иностранных дел Жерара де Райвеналя. При этом и Жерар предпочитал письменно договариваться только о дате и месте очередной встречи и не рисковал подписывать свои записки Дину. А Верженн еще при первом свидании специально предостерегал американца против британских шпионов и советовал остерегаться всех англичан, находившихся во Франции.
По всей вероятности, даже сам многоопытный французский министр не подозревал, насколько своевременным было его предупреждение. Вскоре Сайлес Дин узнал, что вслед за ним, когда он уехал из Бордо в Париж, двигались двое джентльменов — сэр Ганс Стенли и сэр Чарлз Дженнинсон — английские разведчики, которым было поручено следить за действиями представителя колонистов во Франции. Дин поспешил сменить имя и гостиницу, в которой проживал в Париже. Еще через некоторое время Дин известил, что для наблюдения за ним прибыли из Лондона очень важные персоны — генеральный прокурор Уэддерберн и бывший министр лорд Рочфорд, не говоря уж о мелких агентах. «Все кафе, театры и другие общественные места кишат их эмиссарами», — писал на родину встревоженный Дин. Однако более опасным, чем все эти агенты, оказался человек, которому Дин по рекомендации своих американских друзей и советников считал нужным оказывать полное доверие, которого не заподозрил никто — ни Верженн, ни посол колоний — известный ученый Бенджамин Франклин, ни Джон Адамс и Томас Джефферсон, оба последних ставшие последовательно президентами Соединенных Штатов. Его заподозрил только Артур Ли, но тот настолько впал в шпиономанию, что его подозрения стоили очень мало. Истина вскрылась лишь более полувека спустя…
Бомарше поспешил связаться с Сэйлесом Дином. Верженн, намекнув американцу, что он может целиком полагаться на Бомарше, долгое время делал вид, что ему ничего не известно о деятельности фирмы «Хорталес и К», которая заняла спешно отремонтированное здание «Отель де Голланд», где некогда размешался нидерландский посол. Если Дин и был новичком, путавшимся в сложных сплетениях европейской политики, то в вопросах торговли он оказался искушенным человеком. Где же видано, писал он в Америку, чтобы человек, который, подобно Бомарше, еще несколько месяцев назад скрывался от кредиторов, теперь ворочал огромными суммами. Это столь «необычный факт, что он перестает быть тайной», добавлял практичный американец.
К тому времени французское правительство ассигновало для тайной помощи американским колонистам уже два миллиона, миллион был ими получен от Испании и такая же сумма в виде кредитов от частных лиц — судовладельцев и купцов. Позднее последовали и новые миллионы из французской казны. За короткий срок, к октябрю 1776 года, в Марсель, Бордо, Нант и другие французские порты было доставлено обмундирование на 30 тыс. человек, 200 артиллерийских орудий, много тысяч ружей, большие запасы пороха, пушечных ядер и других видов военного снаряжения. Были зафрахтованы восемь кораблей, благополучно, правда, после длительных проволочек, доставившие это снаряжение колонистам. Только один из кораблей этого флота был перехвачен англичанами и то после выгрузки части товаров на острове Мартиника. Задержки были вызваны помимо разных бюрократических неурядиц резкими протестами лорда Стормонта. Дин пытался побудить к посылке кораблей в колонии и другие купеческие фирмы во Франции, Голландии и Германии, однако со значительно меньшим успехом. Колонисты терпели в первый период войны одно поражение за другим, и среди негоциантов находилось мало охотников рисковать своими капиталами в столь неверном деле. Постепенно положение изменилось. В 1777 году уже более 100 французских кораблей участвовало в контрабандной доставке оружия колонистам. За годы войны «Хорталес и К°» предоставила Америке товаров на сумму 42 млн. ливров, большая часть которых осталась неоплаченной.
«ЗАВЕЩАНИЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
Весна 1812 года. Наполеон I стягивает свои войска к Неману, готовясь к вторжению в пределы России. И как раз в эти месяцы в Париже выходит в свет объемистый труд «О возрастании русского могущества с самого его начала и до XIX столетия». Этот пухлый том в 500 страниц был написан, как указывается в заголовке, историком Лезюром, состоявшим на службе во французском министерстве иностранных дел. Французское правительство приложило особые усилия к распространению этой книги. А когда зимой того же года разгромленная русским народом и войсками наполеоновская великая армия бежала за пределы России, солдаты Кутузова обнаружили в захваченных неприятельских штабах сотни экземпляров этого объемистого сочинения. Современники прямо указывали, что книга Лезюра была издана по личному распоряжению Наполеона, который пытался, используя ссылки на «русскую угрозу», оправдать свое вторжение в Россию.
В книге Лезюра, между прочим, сообщалось: «Уверяют, что в домашнем архиве русских императоров хранятся секретные записки, писанные собственноручно Петром I, где со всей откровенностью сообщаются планы этого государя, на которые он обращает внимание своих преемников и которым многие из них следовали, можно сказать, почти с религиозной настойчивостью. Вот сущность этих планов». И далее излагается совершенно фантастическая программа завоевания всей Европы и Азии.
В книге Лезюра содержался лишь пересказ этих заметок, получивших сразу название «Завещание Петра Великого». Но впоследствии во Франции был опубликован и полный текст «Завещания» Петра. С тех пор на протяжении многих десятилетий он неизменно использовался дипломатией и публицистикой тех европейских держав, которые находились во враждебных отношениях с Россией. А в 1941 году, когда гитлеровцы совершили вероломное нападение на Советский Союз, германское министерство пропаганды по указанию доктора Геббельса сразу же вспомнило об этом «Завещании». Не оставалось оно без употребления и в послевоенные годы. Немало поборников «холодной войны» по обе стороны Атлантического океана спекулировали все на том же «Завещании», уверяя, что большевики продолжают начертанную в нем программу.
Бросается при этом в глаза одно любопытное обстоятельство. Все многочисленные западные пропагандисты, оперировавшие «Завещанием», с редким единодушием старались забыть о том, как оно появилось на свет. И старались, конечно, далеко не случайно. А между тем история его появления связана с одним очень любопытным эпизодом тайной войны в XVIII в.
…Стояло лето 1755 года. По пыльным дорогам Восточной Германии, а потом через Польшу и побережье Балтийского моря ехала карета, в которой находились, не считая прислуги, двое путешественников. Точнее, пассажир и пассажирка, так как пожилого путника, явно чужеземца, сопровождала молодая девушка, его племянница, к которой он относился со всеми внешними знаками внимания и заботы. Путником был шотландский дворянин Дуглас-Макензи, якобит, хотя приверженность изгнанному дому Стюартов давно уже вышла из моды. Быть может, якобитство Дугласа поддерживала ненависть к англичанам, которую он не очень скрывал. Впрочем, шотландец не раз во всеуслышание говорил, что отошел от политики и отдался своему любимому занятию — геологии. И действительно, проезжая через чешские земли, Дуглас особенно интересовался тамошними копями и даже сделал большой крюк, чтобы заехать в Саксонию и осмотреть некоторые пользовавшиеся широкой известностью рудники.
До поры до времени вряд ли кто-нибудь догадывался, что все это было лишь маской и что якобит вместе со своей спутницей едет выполнять задание Людовика XV, осуществляя «секрет короля». Под этим названием скрывалась секретная дипломатия Людовика, иногда полностью противоречившая официальной дипломатии Версальского двора.
«Секрет короля» можно с полным правом назвать и его разведкой. (Агентами «секрета короля» был и Сен-Жермен, и Бомарше во время уже знакомых читателю событий.) Может быть, вернее было сказать, что Людовик XV с помощью разведки усердно пытался подорвать позиции собственной дипломатии.
Казалось, Людовик считал обременительным для себя принуждать министра иностранных дел и послов придерживаться своей политической линии. Зато у него хватало терпения противопоставлять им целую сеть тайных агентов, которые должны были разрушать усилия официальной французской дипломатии. Порой того или иного французского посла посвящали в «секрет короля», и тогда его обязанностью становилось в одно и то же время выполнять инструкции министра иностранных дел и мешать их выполнению. Чаше, однако, последние функции поручались секретарю посольства или мелкому служащему, который дополнительно должен был и шпионить за послом.
Постепенно король все больше втягивался в организацию заговоров против самого себя, в игру с таинственными переодеваниями, фальшивыми паспортами и другими реквизитами, прочно вошедшими в арсенал авторов авантюрных романов. Более того, продолжая эту игру, Людовик начал создавать, наряду с, так сказать, официальным «секретом короля», другой, неофициальный, действовавший не только за спиной первого, но и часто опять-таки вопреки ему. В письме к одному из руководителей «секрета короля» Терсье Людовик жаловался, что он сам уже с трудом разбирается в созданном им лабиринте. Эти две, потом три и четыре секретные дипломатии и разведки, тянувшие каждая в свою сторону, вносили совершенный хаос в дела и, конечно, крайне вредили интересам Франции. Но подобные пустяки уже, разумеется, интересовали Людовика XV меньше всего.
Во время, к которому относится наш рассказ, т. е. в середине 50-х годов, «секретом короля» руководил принц Конти. Ему-то и поручил Людовик направить Дугласа и его спутницу — и отнюдь не для осмотра саксонских рудников, а для прощупывания возможностей возобновления переговоров между Парижем и Петербургом. Отношения между двумя державами в силу ряда существенных и совсем несущественных причин были испорчены до предела. Послы были отозваны. Французская дипломатия подготовляла крутой поворот: от традиционного векового соперничества с австрийскими Габсбургами к союзу с ними для противодействия крайне беспокоившей обе стороны политике Фридриха II. Прусский король не только пытался рядом захватов изменить в свою пользу соотношение сил в Германии, но и вступил в союз с Англией, которая продолжала упорную борьбу против Франции за колониальное и морское преобладание.
В этих условиях позиция России имела огромное значение для Парижа, занятого формированием антипрусской коалиции. А между тем в Петербурге настолько еще преобладали настроения, враждебные Людовику XV, что он опасался официально предложить возобновление обмена послами, боясь наткнуться на отказ, болезненный для престижа французского двора. Лаже посылать тайных послов было небезопасно: один из них, шевалье Вилькруассан, был без всяких церемоний признан шпионом и посажен в Шлиссельбургскую крепость. Пограничная стража получила приказ отправлять за решетку и других французских агентов. Так что во всех столицах Людовик имел не менее двух послов (одного явного, другого — тайного), а в Петербурге — ни одного. Вот почему поднимала пыль на бесконечных дорогах Восточной Европы карета Дугласа и его племянницы.
Данное ему деликатное поручение совсем не располагало к экстравагантным поступкам, и Дуглас, конечно, не предполагал облачаться в традиционный национальный костюм — шотландскую юбочку. Этого нельзя было сказать о его спутнице, которая не только не была его племянницей, но и, кажется, не более, чем бравый якобит, имела основания обряжаться в женские одежды. А почему только «кажется» не имела — это станет ясным из дальнейшего. Дело в том, что современники так и не сошлись во мнении, была ли она женщиной или мужчиной.
«Племянница», или иначе — шевалье д’Эон де Бомон, родился в 1728 году. Некоторые биографы утверждают, что в детстве его одевали как девочку, а лишь потом заставили носить мужское платье. Объясняют это желанием не совсем нормального отца обязательно иметь сына, которое он решил осуществить вопреки самой природе. А иногда более прозаически — с помощью такого маскарада родители надеялись получить для своего ребенка какое-то выгодное наследство, которое иначе ускользнуло бы из фамильного владения. Однако пари, которые заключались на большие суммы относительно пола д’Эона, и споры по этому вопросу, продолжавшиеся долгое время, давно уже решены. Имеются неопровержимые доказательства, что д’Эон несомненно был мужчиной. (Об этом говорит и протокол медицинского вскрытия.)
В этих условиях причины, по которым он в ряде случаев должен был продолжать мистификацию, оставаясь в женском платье, становятся не всегда понятными. Наименьший вес при этом имеют заявления самого д’Эона, надо признаться, не отличавшегося твердостью во мнении, к какому полу он принадлежал. Некоторые французские исследователи на этом основании даже делают вывод о «женском» непостоянстве взглядов, но мы убедимся, что в этом непостоянстве была система.
Если верить мемуарам д’Эона (а им и их издателю вряд ли можно доверять хоть в чем-нибудь), он однажды шутки ради явился на придворный бал в женском костюме, и это переодевание понравилось Людовику XV. Однако откуда у короля возникла шальная мысль посылать д’Эона в женском платье в Россию, так и остается загадкой. Ясно лишь, что этот французский разведчик нисколько не собирался в духе героев модных тогда плутовских романов проникать переодетым в женский монастырь или мусульманский гарем. Новоиспеченной девице, разумеется, по положению вещей было неразумно злоупотреблять кокетством. Наоборот, приходилось принимать робкий, застенчивый вид, чтобы не подпускать близко ретивых поклонников. Это было не очень удобно, но считалось, что в таком наряде д’Эону будет легче втереться в круг приближенных императрицы Елизаветы Петровны и нашептывать ей веши, годные «секрету короля».
д'Эон (в мундире и в женском наряде)
Надо заметить, между прочим, что руководитель «секрета» принц Конти имел и собственные галантные планы. Именно поэтому он довольно щедро за личный счет снабдил д’Эона роскошными женскими туалетами. Честолюбивый принц собирался ни больше и ни меньше как предложить себя в супруги царице, а если это дело не выгорит, то просить, чтобы Елизавета предоставила ему, Конти, командование русскими войсками или уж, совсем на худой конец, посадила его на престол какого-либо княжества, например Курляндии. (О своих планах заделаться также польским королем Конти предпочитал пока помалкивать.) Скажем заранее, что из всех этих планов, конечно, ничего не вышло. А несколько позже русский посол уже сообщал из Парижа о раздорах принца с маркизой Помпадур: «Конти с Помпадуршей был в великой ссоре». После ссоры принцу, понятно, пришлось расстаться и с «секретом короля».
Но случилось это, повторяем, позднее, а пока Конти условился с Дугласом и д’Эоном о шифре. Самому Дугласу разрешалось отправить из Петербурга только одно письмо. Поскольку он должен был демонстрировать интерес к торговле мехами, то и шифр был составлен соответствующим образом. Так, усиление австрийской партии должно было обозначаться как «рысь в цене» (под рысью подразумевался канцлер А. П. Бестужев-Рюмин), а при ослаблении его влияния следовало сообщить, что «соболь падает в цене»; «горностай в ходу» — означало преобладание противников австрийской партии; «черно-бурой лисицей» именовался английский посол. Собственно говоря, для того чтобы «черно-бурая лисица» не пронюхала ни о чем, и составлялся прежде всего этот код.
Но он был не единственным. Явившись на тайное свидание с вице-канцлером М. И. Воронцовым, которого считали сторонником улучшения отношений с Францией, новоявленная мадемуазель де Бомон была буквально нашпигована шифрами и тайными бумагами. При ней была книга Монтескье «Дух законов». В кожаном переплете этой книги, предназначавшейся для Елизаветы, были вложены секретные письма Людовика XV. В подошве башмака оборотистая девица носила ключ от шифрованной переписки. Наконец, в корсете было зашито полномочие на ведение переговоров.
Конечно, не стоит переоценивать роль, сыгранную новоявленной «чтицей императрицы», которой, похоже, устроился ловкий авантюрист. Недаром некоторые серьезные исследователи, и среди них Вандаль и Рамбо, отрицали достоверность всей этой истории в целом и утверждали, что д’Эон появился в Петербурге лишь в 1756 году. Напротив, Гайярде, Бутарик, а из авторов новейших работ — А. Франу, А. Кастело не сомневались в ее правдивости. (Намеки на поездку «Лии де Бомон» встречаются в корреспонденции французского дипломата Л’Опиталя и в письме самого Людовика XV от 4 августа 1763 года, адресованном д’Эону.) Миссия Дугласа и д’Эона удалась, конечно, больше всего потому, что у самих руководителей русской политики появились серьезные основания для сближения с Версалем. Вернувшись на короткое время в Париж, д’Эон снова отправился в Петербург уже в качестве секретаря посольства (поверенным в делах стал Дуглас). Д’Эон продолжал некоторое время служить посредником между обоими дворами даже после того, как в 1757 году в Петербург прибыл официальный французский посол маршал де Л’Опиталь. Когда же после ссоры с «Помпадуршей» Конти был заменен другими лицами (Терсье и Моненом), д’Эон получил новые шифры, и переписка не прекращалась.
Еще в молодости д’Эон проявлял склонность к сочинительству и даже написал трактат о доходах, что подало Людовику XV мысль занять будущую «Лию де Бомон» в финансовом ведомстве. Эта склонность, как мы увидим, не пропала у него и в зрелые годы. Не будем останавливаться на тех придворных и дипломатических интригах, в которые был вовлечен в Петербурге д’Эон. Его роль и в них была, вероятно, значительно меньшей, чем он это представляет в своих мемуарах. Именно во время вторичного пребывания в русской столице д’Эон, по его словам, и сумел похитить из самого секретного императорского архива в Петербурге копию «Завещания» Петра 1.
Рассказ об этом выглядит более чем неправдоподобно и рассчитан на большой запас легковерия у читателя. Но еще больше разоблачает д’Эона текст «Завещания». Достаточно самого беглого анализа, чтобы сделать бесспорный вывод: этот документ не исходит и даже не мог исходить от Петра. А вот от д’Эона и его начальников по «секрету короля» он вполне мог исходить! Временами это «Завещание» весьма напоминает ответ на вопросник, который был включен в тайную инструкцию для Дугласа и д’Эона.
Сфабриковал ли «Завещание» сам д’Эон? Во всяком случае оно несомненно было составлено лицом, обладавшим самым приблизительным знанием русской политики. Среди массы нелепостей и очевидных выдумок вкраплены и «планы», действительно отражавшие цели политики царского правительства. Но это мог сделать любой современник, сколько-нибудь знакомый с дипломатической историей первой половины XVIII в. Нет сомнения, что д’Эону было чрезвычайно выгодно похвастать перед Людовиком XV якобы выкраденным в Петергофе документом. А проверить точность снятой копии все равно было невозможно — не обращаться же было Людовику в Петербург с подобной просьбой! Впрочем, тогда французское правительство не придало документу особого значения. Копия эта так и оставалась в архивах, пока не попалась на глаза Лезюру в 1812 году. Тот, решив, вероятно, что не стоит текстуально воспроизводить явно поддельное «Завещание», пересказал его в сокращенном виде. Возможно, что Лезюр так поступил по указанию Наполеона. А потом, при издании тоже в основном подложных «мемуаров» д’Эона, был уже напечатан полный текст фальшивки, откуда она перекочевала в бесчисленные сочинения антирусски настроенных литераторов и журналистов.
Как же сложилась дальнейшая судьба предполагаемого автора (или одного из авторов) фальшивого «Завещания»?
Во время краткого возвращения на военную службу д’Эон дослужился до чина капитана драгунов, но вскоре он возобновил свою карьеру разведчика. В качестве секретаря фран цузского посла в Лондоне герцога Нивернэ д’Эон вновь проявил свои способности. Он сумел незаметно стащить портфель английского заместителя министра иностранных дел Роберта Вуда, когда того радушно принимали во французском посольстве, и скопировать ультиматум, который британский кабинет предполагал направить Франции. Д’Эон пересылал королю разведывательные доклады французского военного инженера де ла Розьера, который обследовал укрепления на Английском побережье. После благополучного завершения этого шпионского предприятия д’Эон получил чин посланника.
Дипломатическая карьера д’Эона, несмотря на его заслуги, шла с большим скрипом. Еще во время одной из поездок в Петербург, являясь одновременно и дипломатом, и тайным агентом короля, д’Эон недолго — между отъездом старого и прибытием нового французского посла — управлял делами посольства и растранжирил большую сумму денег. Новый посол отказался принять расходы секретаря посольства на казенный счет. А к тому же маркиза Помпадур обнаружила, к крайнему негодованию, что д’Эон продолжал поддерживать связи с ее неприятелем принцем Конти. Помимо «Помпадурши», д’Эон успел нажить и множество других врагов.
Как представитель «секрета короля» д’Эон находился в конфликте с французским послом в Англии де Герши и министром иностранных дел герцогом Прасленом, а подчинялся официально впавшему в немилость графу де Бролье. Ни Герши, ни Праслену, ни тем более их покровительнице Помпадур не полагалось знать, что удаленный от двора Бролье теперь заведовал «секретом короля»! А если к этому добавить, что д’Эону поручалось составить планы французского вторжения в Англию как раз накануне окончательного подписания мирного договора (1763 год), то положение даже для такого прожженного авантюриста нельзя назвать слишком простым! Пока Герши не прибыл к месту своего назначения, дело еще как-то шло. Но вскоре после его прибытия начались ссоры между послом и временным поверенным в делах, ставшим теперь снова только секретарем посольства. Д’Эон избрал своего начальника мишенью для оскорбительных острот. После этого неожиданно был доставлен подписанный Прасленом приказ д’Эону вернуться во Францию. Д’Эон не имел ни малейшего желания повиноваться. Праслен ведь не знал, что д’Эон был в Лондоне не просто секретарем посольства, а личным представителем Людовика. Для оправдания своего неповиновения д’Эон сослался на письмо короля. Весьма вероятно, что это письмо было сочинено самой «девицей де Бомон», но, может быть, оно действительно исходило от Людовика XV. Вынужденный под давлением фаворитки и министра выразить немилость своему агенту, который обладал крайне важными секретными бумагами, Людовик мог попытаться в личном письме загладить обиду.
Устраивая шумные скандалы послу, о которых на другой день говорил весь Лондон, открыто отказываясь подчиняться министру иностранных дел, д’Эон в то же время делал вид, что является по-прежнему верным агентом «секрета короля», и продолжал переписку с его руководителями Терсье и графом де Бролье. При этом письма заполнялись жалобами на попытки посла отравить или похитить д’Эона и уверениями, что он «дрался, как драгун, за короля, его секретную корреспонденцию и графа де Бролье». Прочитав эти письма, полные чудовищных преувеличений, Людовик XV не на шутку перепугался за судьбу своей тайной переписки. Не посоветовавшись даже с де Бролье и Терсье, он послал спешно курьера к Герши, сообщая, что он одобрил официальное письмо герцога Праслена, требовавшее от Англии выдачи д’Эона. В случае же ареста непокорного секретаря послу надлежало немедленно изъять «все бумаги, которые могут быть обнаружены у господина д’Эона, не сообщая никому (т. е. — должен был понять Герши — в том числе и герцогу Праслену) их содержания». Бумаги надлежало запечатать, и сам посол лично позднее должен был привезти их Людовику в Париж. Король надеялся, посвятив отчасти Герши в «секрет короля», обеспечить молчание посла относительно бумаг д’Эона в переписке с министром иностранных дел.
Бролье и Терсье пришли в ужас от поспешного шага Людовика, раскрывшего послу «секрет короля». Но, главное, все это являлось дележом шкуры неубитого медведя. Драгун показал, что его нельзя взять голыми руками. Выдача явно противоречила бы английским законам, и британское правительство не имело никаких причин идти особенно навстречу просьбам Людовика, тем более что случай с д’Эоном приобрел шумную огласку. Когда же из Парижа прибыли полицейские агенты с приказанием похитить непокорного разведчика, д’Эон стал показываться на улице только в сопровождении нескольких знакомых. А большей частью сидел дома, который превратил в настоящую крепость, охранявшуюся несколькими солдатами его бывшего полка и французскими дезертирами, которых он разыскал в Лондоне.
Убедившись, что прямую атаку драгунский капитан отбил, де Герши решился на обходной маневр. С помощью наемного писаки он опубликовал отчет о своих стычках с д’Эоном, надеясь, что тот не удержится от резкого ответа и сможет быть привлечен к ответственности по законам о клевете. Но д’Эон не попался в ловушку и отвечал очень сдержанно. В свою очередь уже де Герши подготовил злобное изобличение д’Эона. В спор вмешалось много посторонних лиц, и за несколько месяцев появилась обширная памфлетная литература — за и против д’Эона. Тогда тот, чувствуя, что наступил час мести, в марте 1764 года опубликовал книгу, полную язвительных разоблачений прошлого де Герши, а главное, цитат из писем Праслена и Нивернэ, убийственно отзывавшихся об умственных способностях посла. После этой книги английское правительство решило начать преследование д’Эона за клевету. Праслен рвал и метал, настаивая на любых мерах, обеспечивавших доставку д’Эона во Францию. Но Людовик XV был более сдержан — он-то отлично знал, какие бумаги скрывает в тайниках его секретный агент. Вероятно, опубликование этих документов и не вызвало бы войну с Англией (как думали некоторые современники), но во всяком случае вполне разоблачило бы «секрет короля», да и многие другие закулисные стороны жизни Версальского двора.
Не получив поддержки от «секрета короля», д’Эон неожиданно сблизился с лидером английских буржуазных радикалов — Уилксом и его сторонниками. Они надеялись получить у д’Эона доказательства, что английский премьер-министр лорд Бьют был подкуплен французским правительством во время мирных переговоров, приведших к окончанию Семилетней войны. После этого Людовик решил подослать своего тайного эмиссара к д’Эону, но тот отверг предложения короля.
Осенью состоялся суд, и д’Эон был осужден за клевету. Но когда судебные приставы в сопровождении военной охраны явились для исполнения приговора к нему на дом, они нашли там только трех женщин. Где уж полицейским было разобрать, что одной из дам и был осужденный за оклеветание иностранного посла кавалер д’Эон! А тот завел тем временем свою личную «секретную службу», которая вела неустанное наблюдение за полицейскими, пытавшимися разыскать д’Эона. Передвигаясь, по его собственным словам, «только с предосторожностями, которые должен соблюдать драгунский капитан на войне», д’Эон успешно избежал ареста и подвел контрмину под торжествовавшего посла. Один из агентов Герши, некий Трейссак де Вержи, посаженный в тюрьму за долги, был перекуплен д’Эоном и сделал важные разоблачения. А именно: что Герши подготовлял похищение или убийство д’Эона. Теперь тот мог начать контрпроцесс против посла! Д’Эон имел наглость послать письмо де Бролье (т. е. королю) с просьбой прислать ему денег на покрытие судебных издержек, поскольку он будет бороться в суде за интересы Людовика против преступного посла де Герши! Положение стало настолько серьезным, что де Бролье с разрешения Людовика решил сам отправиться в Лондон для переговоров с д’Эоном.
Но в это время обстановка еще более осложнилась. В Кале был арестован слуга д’Эона, некто Югонне, служивший курьером для доставки донесений «секрету короля». Югонне имел при себе письма Друэ, секретаря де Бролье. Закованный в кандалы, Югонне был доставлен в Бастилию. Вскоре последовал арест Друэ. Герцог Праслен торжествующе сообщил королю, что наконец у него в руках доказательства связей между графом де Бролье и государственным преступником д’Эоном. Людовик, верный себе, не смел открыто прекратить преследование, которое угрожало раскрыть «секрет короля». Вместо этого он приказал начальнику полиции де Сартену тайно изъять из следственного дела Югонне и Друэ все бумаги, относившиеся к Бролье, Терсье и другим лицам, связанным с «секретом короля». Бролье сам просмотрел все захваченные документы и оставил в деле лишь совершенно неважные бумаги. После этого Терсье тайно посетил Югонне и Друэ и прорепетировал с ними их будущие показания на суде. Праслен, хоть и сообразил, что его одурачили, был вынужден признать свое поражение. Друэ выпустили через несколько дней. Что же касается Югонне, то с целью не вызывать подозрения таким милостивым отношением к шпионам, его оставили на два с лишним года в Бастилии и довели до совершенной нищеты.
Между тем в Лондоне 1 марта 1765 года столичные присяжные вынесли решение о привлечении графа де Герши к суду по обвинению в попытке убить кавалера д’Эона. Международное право оказалось на этот счет не очень ясным, а тем более невозможно было точно разобраться в джунглях английских законов, основанных на прецедентах — прежних решениях судов по подобным делам. Единственным подходящим прецедентом была казнь португальского посла во времена Кромвеля!
Положение Герши, ежеминутно ожидавшего ареста, стало совсем невыносимым; не привыкшая церемониться лондонская толпа недвусмысленно продемонстрировала ему свое враждебное отношение. Экипаж посла забросали камнями. Де Герши, торопливо спрятавший свои ордена, должен был заявить толпе, что он вовсе не французский посол, а секретарь посольства. Словом, де Герши пришлось спешно убраться из Англии. Ему потом, приличия ради, еще раз разрешили на короткое время съездить в Лондон — и на этом дипломатическая карьера де Герши и закончилась. Вскоре его без шума уволили в отставку.
Место де Герши занял временный поверенный в делах Дюран, являвшийся одновременно агентом «секрета короля». Людовику XV пришлось вступить в сделку с д’Эоном, который к этому времени завел уже широкие знакомства в Лондоне (и, по мнению некоторых исследователей, активно играл роль шпиона-двойника). Один за другим прибывали к д’Эону тайные посланцы из Версаля со все более и более заманчивыми предложениями. Тот твердо решил не продешевить.
Д’Эон предъявил королевской казне претензию на круглую сумму в 317 тыс. ливров и пригрозил, в случае, если ему будет отказано в иске, обнародовать секретную переписку короля с рядом его агентов. А пока что он опубликовал через подставных лиц несколько королевских писем, прозрачно разъясняя, что это самые невинные из его коллекции, и снабдил их сведениями об «Оленьем парке» — тайном гареме, который содержали для Людовика XV и где он появлялся под именем одного польского графа… В 1766 году король капитулировал и приказал любой ценой договориться с д’Эоном о продаже писем. Тот обменял их на большую ежегодную пенсию в 12 тыс. ливров в год. Некоторые, наиболее «пикантные» письма он, однако, оставил у себя как гарантию регулярности денежных выплат из Парижа. Кроме того, д’Эон вновь стал разведчиком «секрета короля» и в течение ряда лет посылал в Париж секретную информацию о политическом положении Англии, подписывая шифрованные депеши своим собственным именем, а остальные — псевдонимом Уильям Уолф.
Однако в заключенной сделке был, по некоторым сведениям, один странный пункт: д’Эон должен был получать регулярно следуемые ему деньги только в том случае, если он скинет мундир драгунского капитана и облачится в женское платье. Зачем было все это нужно Людовику XV, можно лишь догадываться. В литературе высказывается предположение, что таким путем король хотел, во-первых, наказать шантажиста, а во-вторых, превратив в старую деву, — «убить смехом» и лишить тем самым всякого доверия исходящие от него сведения. Другим объяснением считается попытка предотвратить столь оригинальным способом дуэль д’Эона с молодым Герши, который хотел отомстить за отца.
Если верить мемуаристам, то, убеждая д’Эона исполнить приказ короля, новый министр иностранных дел герцог Эгуийон писал, что все прежние победы драгунского капитана в дипломатии и на поле битвы, если они принадлежат мужчине, не прославят его. Иное дело, если все это подвиги женщины: «Никому не известный как мужчина, Вы сделаетесь знаменитой женщиной… Шевалье! Его величество предоставил Вам патент на чин лейтенанта, а потом капитана драгунов. То, что король ныне желает предоставить Вам, является патентом на бессмертие». Эти ли аргументы или сопровождавший их звон золота оказали свое действие. Еще не скинув драгунский мундир, бравый капитан при встрече с секретарем французского посольства поспешил сообщить: «Я — женщина!»
Английский парламент, согласно известной пословице, может все, кроме того, чтобы превратить мужчину в женщину. Французской разведке удался и этот эксперимент. Но все же есть документы, свидетельствующие, что по крайней мере инициатива принадлежала самому д’Эону. Возможно, идея возникла у него в связи с тем, что слух о том, будто он женщина, давно гулял по Лондону (вероятно, отзвук петербургских похождений «девицы де Бомон»), что полемика по этому вопросу проникла в печать и даже заключались пари на сей счет. Враги обвиняли кавалера, что он сам — через подставных лиц, разумеется, — участвовал в этих пари. Д’Эон, конечно, с благородным негодованием отвергал обвинение. Некоторые благосклонные к д’Эону историки и поныне передают версию, будто он был любовником английской королевы и, будучи застигнутым в ее покоях, решил не ставить под сомнение законность наследника престола и обрек себя на ношение женского наряда. Остряки сравнивали д’Эона… с Жанной д’Арк. А Вольтер даже иронически заметил: «Наши нравы явно смягчились. Д’Эон — это орлеанская девственница, которую не сожгли на костре».
Мысль о ношении женского костюма укрепилась у авантюриста, видимо, тогда, когда он убедился в беспочвенности своих надежд на возобновление дипломатической карьеры и обдумывал способы подольше сохранить свою дешевую, но выгбдную популярность. Кавалер неоднократно жаловался на стеснительность для него женского наряда, уверял, что быстро устает от хождения в дамских туфлях, и просил разрешения надевать этот наряд только по воскресеньям (в чем ему было отказано). Однако возможно, что жалобы носили демонстративный характер и также преследовали цель дать пишу для скандальной хроники. В то же самое время д’Эон писал о себе изумленному графу де Бролье, много лет отлично знавшему своего агента, «как о самой несчастной из женщин». В других письмах бывший драгунский капитан обыгрывал тему о непорочности своей девичьей чести, которую он сохранил, несмотря на все превратности военной жизни. С самым серьезным видом д’Эон сегодня клялся, что намерен стать монахиней, чтобы завтра ошеломить своих собеседников утверждением, будто решил сражаться в рядах английских войск против восставших колонистов в Северной Америке. Бомарше, встречавшийся с д’Эоном в Лондоне, писал, что девица де Бомон очень небрежно бреется и отпускает остроты, от которых покраснел бы даже немецкий ландскнехт.
Шли годы… Незадолго до смерти Людовика XV последовал новый скандал с «секретом короля» — французские власти арестовали двух агентов графа де Бролье — Фавье и Дюмурье. Их приговорили к нескольким месяцам тюрьмы. Когда в 1774 году Людовик XV умер, «секрет короля» стал секретом полишинеля. Правительство Людовика XVI занялось вопросом об агентах «секрета» и, конечно, о д’Эоне, получавшем (с точки зрения властей) огромную, ничем не заслуженную пенсию, а по его собственному мнению — жалкую подачку за его верность и тяжкие испытания. Министр иностранных дел Верженн потребовал от д’Эона в обмен на гарантию продолжения уплаты пенсии, чтобы тот выдал наиболее ценные секретные бумаги, которые заботливо им сохранялись, и вернулся во Францию. В качестве тайного агента для переговоров с д’Эоном в Лондон прибыл маркиз де Прюнево. Однако д’Эон выдвинул совершенно фантастические требования — уплаты ему капитанского жалованья за 15 лет, проведенных в Лондоне, возмещения всех понесенных им расходов за время нахождения в британской столице. Он требовал даже круглую сумму за все не принятые им подарки от различных лиц, которые якобы ему предлагались во время нахождения на государственной службе… Одним словом, четверть миллиона ливров. В Париже были в ярости, но переговоры не прервали. Их доверили на этот раз вести Бомарше, который, как мы знаем, уже раньше ездил в Лондон с аналогичным поручением умиротворить Моранда. В конце концов после долгой торговли соглашение было достигнуто. Д’Эону была сохранена пенсия и сделаны другие уступки, но взамен его обязали по-прежнему носить женское платье. Д’Эон отомстил автору «Севильского цирюльника» за этот последний пункт, разыгрывая фарсовую «влюбленность» к Бомарше. «Все сообщают мне, — писал тот в ярости Верженну, — что эта сумасшедшая дама влюбилась в меня. Какой дьявол мог предполагать, что с целью верно служить королю я должен буду превратиться в галантного рыцаря драгунского капитана?» Однако никакое негодование не воспрепятствовало прославленному драматургу стать героем малоприличных любительских спектаклей, которые ставились во многих парижских домах.
Д’Эон не раз делал попытки уклониться от обязательного ношения женского платья (его явно заставляли теперь носить его, чтобы избежать еще более громкого скандала). Когда д’Эон вернулся на некоторое время во Францию и должен был представиться ко двору, он жаловался, что у него нет хороших нарядов. Ему тут же прислали королевскую модистку. Пытался капитан построить и такую, довольно сложную, конструкцию: он, мол, конечно, — кто спорит — женщина, но женщина, которой стал издавна ненавистен собственный пол и поэтому желающая носить мужскую одежду. Однако кавалера даже арестовали в 1779 году за неповиновение и обязали подпиской не надевать драгунский мундир. Впрочем, по словам одной современной газеты, скверно выбритый кавалер «выглядел более чем когда-либо мужчиной теперь, когда он — женщина». Утверждали, что все же пример д’Эона соблазнил немалое число эксцентричных девиц, выражавших желание служить в драгунах.
Бывший разведчик снова вернулся в Лондон. Один из его аристократических друзей заметил:
— Господин д’Эон превратился во вдову самого себя.
Самое любопытное, что и после начала революции, когда прекратилась выплата королевской пенсии, д’Эон остался в женском костюме. Очевидно, он носил его для оригинальности. Жизнь шевалье очень напоминала комедию плаща и шпаги. Теперь он снова стал зарабатывать себе на жизнь шпагой, сделавшись учителем фехтования. Рядом с Кенсингтонским парком была открыта зала, где мадемуазель д’Эон давала уроки обращения с холодным оружием. Полиция склонна была считать шевалье фальшивомонетчиком. Так протекли последние годь этой «кавалерист-девицы» наизнанку.
ГРАФ КАЛИОСТРО И ОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ
Склонные придавать большое значение альковным историям буржуазные исследователи пишут, что падению королевской власти в XVIII в. во Франции способствовали две вещи: неверность жившего более чем двести лет назад короля Генриха II своей жене Екатерине Медичи и старческое сластолюбие Людовика XV, на котором покоилось влияние его последней фаворитки мадам Дюбарри. Если бы не эта поздняя привязанность короля, парижским ювелирам Бомеру и Бассанжу не пришло бы в голову создавать ожерелье из невиданных по ценности бриллиантов. А если бы Генрих II не заимел своей любовницей Николь де Савиньи, то не возник бы род, последней представительницей которого была некая Жанна Валуа, родившаяся в 1756 году. Конечно, читателю известно, что королевская власть во Франции пала от куда более серьезных причин — не об этом здесь речь. Но в условиях растущего разложения французского абсолютизма такие, казалось бы, мало относящиеся к делу события подлили масла в огонь, помогли сильно дискредитировать королевскую власть.
Калиостро
Жанна Ламот, именовавшая себя Валуа (т. е. присвоившая фамилию прежней королевской династии), родилась в совершенно разорившейся семье. В детстве мать Жанны заставляла ее нищенствовать. С юношеских лет она сумела приобрести достаточный жизненный опыт по части различных способов добывания денег. В этом занятии усердным помощником оказался ее муж — жандармский офицер, который называл себя графом Ламот. В начале 80-х годов почтенная парочка перекочевала в Париж. Здесь Жанна познакомилась с одним из самых богатых и знатных вельмож, Луи де Роганом, кардиналом Страсбурским. Кардинал в это время был ближайшим другом и покровителем знаменитого графа Калиостро (под этим именем, как выяснилось впоследствии, скрывался итальянец Джузеппе Бальзамо). Калиостро говорил о себе, что родился в неведомой для европейцев Аравии, жил во дворце муфтия Ялахаима, что его самого звали Ахаратом и был он похищенным мусульманами ребенком из знатного христианского рода. Впрочем, как мы увидим, это была еще наиболее правдоподобная версия, имелись и другие, куда более странные. Новый таинственный чародей затмил своей славой даже Сен-Жермена. Калиостро уверял, что познал «универсальную тайну» медицины, позволяющую лечить все болезни, великие секреты древних египетских жрецов и философский камень, обращающий любой металл в золото и дающий бессмертие. Создание искусственных алмазов, чудесное исцеление неизлечимо больных, загадочное знание самых тайных мыслей и намерений своих собеседников — все это было далеко не самое важное и непонятное в сверхъестественных способностях, которыми обладал великий маг. Да и как было не удивляться, когда на своих вечерах Калиостро вызывал перед присутствующими призраки великих людей прошедших веков!
В многочисленных отчетах об этих вечерах подробно рассказывается, кто именно из умерших писателей, философов и государственных деятелей почтил их своим присутствием. Тут были и Монтескье, и Руссо, и Дидро. Бросалось, правда, в глаза, что их ум заметно потускнел со времени их смерти. Ни одному из них не удавалось обронить ни одной свежей мысли.
Однако если имена умерших тщательно фиксировались, то имена живых участников встреч оставались всегда неизвестны.
В «Утрехтской газете» от 2 августа 1787 года помешен рассказ о том, как Калиостро передал одной старой кокетке небольшой флакон с эликсиром молодости, который должен был скинуть ей с плеч целых двадцать пять лет. В отсутствие владелицы флакона содержавшуюся в нем жидкость выпила служанка Софи, которой было тридцать лет от роду. Зрелая женщина разом превратилась в пятилетнюю девочку. Калиостро много смеялся по поводу этого происшествия, но категорически отказался дать престарелой даме еще одну бутылку чудодейственного эликсира. И таких басен о Калиостро ходило великое множество.
Многие трюки Калиостро были прямым плагиатом у пресловутого графа Сен-Жермена. Однажды в Страсбург знаменитый маг, прогуливаясь в роскошном костюме, украшенном огромными бриллиантами, остановился с возгласом изумления перед скульптурой, которая изображала легендарную сиену распятия Иисуса Христа. На вопрос окружавших, что его так удивило, Калиостро небрежно заметил — он не может понять, как художник, который наверняка не видел Христа, достиг такого полнейшего сходства.
— А вы сами были знакомы с Христом?
— Я был с ним в самых дружеских отношениях, — ответил Калиостро. — Сколько раз мы бродили с ним по песчаному, покрытому ракушками берегу Тивериадского озера! У него был бесконечно нежный голос. Но он не хотел меня слушать. Он странствовал вдоль берега моря; он собрал вокруг себя толпу ниших, рыбаков, оборванцев. И он проповедовал. Плохо ему пришлось от этого. — И повернувшись к своему слуге, граф спросил: — Ты помнишь вечер в Иерусалиме, когда распяли Иисуса?
— Нет, сударь, — ответил с глубоким поклоном слуга. — Вам ведь известно, что я нахожусь у вас на службе всего полторы тысячи лет.
Калиостро утверждал, будто он родился через 200 лет после всемирного потопа, был хорошо знаком с библейским пророком Моисеем, участвовал в оргиях древнеримских императоров Нерона и Гелиогабала, во взятии Иерусалима крестоносцами в XI в., словом, был очевидцем всех выдающихся событий всех столетий.
Великий маг составил новую тайную ложу, участниками которой могли быть лица с доходом не менее 500 тыс. ливров в год. Он обещал довольно заманчивый подарок — продлить их жизнь до 5557 лет с перевоплощением через каждые полстолетия. Конечно, достижение этого возраста было поставлено в зависимость от многих условий, так что граф мог не очень беспокоиться о выполнении своего обещания. Число членов ложи было строго ограничено — 13, но в нее стремились попасть сотни людей.
Калиостро не только обладал «философским камнем», который давал ему бессмертие. Человеку со столь долгим жизненным опытом было бы, конечно, странно не уметь предугадывать будущее. И те из знакомых Калиостро, которые пережили Великую французскую революцию конца XVIII в., были и сами убеждены, и других убеждали, что маг в точности предсказал весь ход революционных событий.
Кардинал Роган, как это ни зазорно было для высокого сановника церкви, целиком подпал под обаяние Калиостро и не скупился на средства для продолжения его алхимических опытов. Одного лишь, как оказалось, не могла обеспечить Рогану даже магическая сила графа — вернуть ему прежнее положение и влияние при дворе.
В первые годы царствования Людовика XVI Роган был французским послом в Вене. Австрийской императрице Марии-Терезии не понравился француз, чуть ли не ежедневно устраивавший шумные охоты и пиры, отличавшийся в стрелковых состязаниях и вообще явно не принимавший всерьез свой духовный сан. Чопорную императрицу шокировали ироническая вежливость и высокомерная почтительность кардинала, так не вяжущиеся с чинными и в то же время раболепными манерами ее придворных. Эту антипатию к кардиналу Мария-Терезия сумела передать и своей дочери — жене Людовика XVI Марии-Антуанетте. Когда же Марии-Терезии стало известно об очень непочтительных выражениях по ее адресу, которые содержались в одном письме Рогана, отправленном в Париж, она потребовала отозвать французского посла. В Париже Роган был принят королем, но всесильная Мария-Антуанетта отказалась его видеть. Кардинал, в своих мечтах уже видевший себя первым министром Франции, впал в совершенную немилость. Несмотря на все усилия Рогана и его слезные мольбы, излагаемые в письмах к королеве, которые валялись непрочтенными, доступ кардиналу ко двору оставался закрытым.
Обо всем этом в деталях и разузнала Жанна Ламот. Отчасти от самого кардинала, но большей частью путем умелого расспрашивания ряда лиц, имевших то или иное отношение к придворным кругам и посвященных в их секреты. Разобравшись в сложной сети дворцовых интриг, Жанна составила свой план. Вначале он сводился просто к выколачиванию денег из кардинала под предлогом, что Жанна сумеет добиться изменения отношения королевы к Рогану. Но потом план претерпел существенные изменения. Жанне было известно, что ювелиры Бомер и Бассанж настойчиво пытались убедить Марию-Антуанетту купить ожерелье, изготовленное для мадам Дюбарри. Смерть помешала Людовику XV сделать этот дорогостоящий подарок своей фаворитке, и ювелиры не могли ума приложить, что же им делать, тем более что для приобретения составлявших его бриллиантов они влезли в большие долги. Мария-Антуанетта отказалась купить сделанное без особого вкуса ожерелье, громогласно объявив, что на такие деньги можно построить куда более важный для Франции линейный корабль (шла война с Англией). Французские финансы действительно находились в отчаянном состоянии, и подобная «экономия» должна была стать свидетельством заботы королевы о благе страны. Правда, во многих других случаях, когда дело шло о трате миллионов на постройку дворца Трианон, отделанного с неслыханной роскошью, или на пышные придворные празднества, Мария-Антуанетта почему-то не вспоминала об экономии. Но как бы то ни было, ожерелье не находило покупателей. Ювелиры были в отчаянии.
Жанна Ламот прежде всего попыталась — и с успехом — убедить кардинала Рогана в том, что она является интимным другом королевы. Для этой цели авантюристка использовала тщательно собираемые сведения о всех мелочах жизни и быта королевской семьи. Жанна имела любовника, некоего Рето де Вильета, «специалиста» по фабрикации фальшивых документов и писем. Убедившись в его талантах, Жанна и решилась наконец в апреле 1784 года намекнуть Рогану, что ей удастся добиться изменения в настроениях королевы. При этом кардиналу были продемонстрированы подложные письма Марии-Антуанетты к Жанне Ламот, составленные, разумеется, в самом дружеском и доверительном тоне.
Вскоре Рогану было предложено написать оправдательное письмо. Испортив дюжину черновиков, кардинал наконец составил достаточно дипломатическое послание. На него был получен благоприятный ответ. Завязывается переписка. Письма королевы, вначале холодные, становятся все более дружественными. Чудесную перемену в настроениях королевы подтвердил и высший для кардинала авторитет — Калиостро. Он устроил специальный сеанс в доме Рогана. Пятнадцатилетняя племянница Жанны рассматривала магический кристалл графа и, конечно, увидела там все, что было угодно Калиостро. Призывая на помощь светлого и черного духов — Михаила и Рафаила, Калиостро объявляет, что Рогану удалось внушить к себе большой интерес со стороны королевы. Увы, ясновидение нисколько не помогло великому магу разглядеть действительные намерения Ламот.
Летом 1784 года у снабженной дополнительными подробными сведениями о дворцовых делах Жанны окончательно созрел план похищения бриллиантов. Если на первом этапе оказались полезными таланты любовника Жанны — подделывателя бумаг Рето де Вильета, то теперь необходимо было обратиться к услугам любовницы мужа, молодой модистки Николь Лаге.
Жанна не ревнива. Она приглашает мадемуазель Лаге к себе в дом и нарекает баронессой Ге д’Олива. Эта молодая особа представляла собой, по уверению одного современника, «крайнее сочетание честности и беспутства». Конечно, ее не посвящали ни в какие планы, а просто объяснили, что королева хочет разыграть одну веселую шутку и за помощь, которую может оказать в этом королевском капризе «баронесса», ее вознаградят крупной суммой денег. Д’Олива должна будет лишь раз поздно вечером в аллее Версальского парка передать одному знатному вельможе записку и розу. «Баронесса» согласилась и была вполне удовлетворена теми объяснениями, которые получила от Жанны Ламот. «Мне нетрудно было, — говорила впоследствии Жанна Ламот, — убедить д’Оливу сыграть свою роль, так как эта девица чрезвычайно глупа». Следует добавить, что д’Олива фигурой напоминала королеву, хотя, судя по портретам, была совершенно не похожа на нее лицом.
11 августа 1784 года д’Олива, одетая в белую блузу, подобную той, которую часто с подчеркнутой простотой носила Мария-Антуанетта, отправилась в Версаль в сопровождении супругов Ламот. Вечер был безлунный, и темнота в аллее усиливалась от каменной массы грота Венеры. Д’Олива осталась в одиночестве. Вдали скрипнул песок, и показались трое мужчин. Один из них, закутанный в плаш, и в шляпе, надвинутой на глаза, приблизился к д’Оливе. Она, как было условлено, уронила розу, но забыла передать незнакомцу письмо, лежавшее у нее в кармане. Человек в плаще почтительно поцеловал подол ее платья. Д’Олива что-то пробормотала от волнения, и стоявший перед ней кардинал убедил себя, что слышал слова: «Вы можете надеяться, что прошлое забыто». Он горячо благодарил и кланялся. В этот момент появилась какая-то тень, шепнувшая, чтобы все скорее уходили, так как приближаются принцессы — жены братьев короля. «Граф» Ламот увел д’Оливу. Поспешно удалившийся Роган потом утверждал, будто он узнал в человеке, который прошептал эти слова, Вильета. Может быть. Кардинал, однако, не проявил особой остроты зрения, признав д’Оливу за хорошо знакомую ему королеву.
Итак, решительный шаг был сделан, и заговорщики весело отпраздновали его успех. Его надо было развивать, и Жанна стала приносить кардиналу новые, все более дружеские письма королевы. Слепота Рогана, в общем человека совсем не глупого, была настолько поразительна, что многие впоследствии объясняли ее тем, что Ламот была любовницей кардинала. Она и сама давала подобное объяснение, но Роган его решительно отрицал. (И, кажется, в данном случае, судя по обстоятельствам дела, прелату можно поверить.) А пока что авантюристка выудила у кардинала большие суммы денег якобы для королевы, нуждавшейся в них для различных благотворительных целей. На эти деньги Ламот приобрела и роскошно обставила дом в Париже. Для себя Жанна просила лишь какие-то мелочи, и Роган был убежден, что она сильно нуждается.
Осенью 1784 года Ламот познакомилась с ювелирами Бомером и Бассанжем, которые все еще не могли найти покупателя для ожерелья. В январе 1785 года вернувшийся из поездок в свое епископство в Эльзасе Роган узнал, что Мария-Антуанетта просила его взять на себя роль посредника в переговорах о приобретении этого ожерелья. Королева хочет иметь его, чтобы надеть на празднике 2 февраля, и обещает заплатить стоимость бриллиантов, равную 1 600 тыс. ливров, несколькими платежами, производимыми раз в три месяца. Роган попросил Жанну взять у Марии-Антуанетты для ювелиров письменное обязательство об уплате. Жанна пыталась вначале увильнуть от этого, но после настояний Рогана принесла документ с просьбой от имени королевы держать его в секрете — ведь покупка ожерелья производится без ведома короля. После этого кардинал быстро уладил дело с ювелирами и подтвердил гарантию погашения долга, содержавшуюся в документе, который доставила Жанна и который был подписан «Марией-Антуанеттой Французской». Как впоследствии указал Рогану Калиостро, королева вряд ли могла подписаться таким совершенно непринятым образом. Но это соображение ясновидец высказал, когда было уже поздно что-либо исправить. Документ не вызвал сомнений ни у Рогана, ни у ювелиров. Кардинал привез ожерелье Жанне, которая в его отсутствие передала бриллианты в соседней полутемной комнате какому-то лицу, по ее словам, посланцу королевы. Кардиналу показалось, что он узнал человека, который предостерег его шепотом о необходимости удалиться во время свидания около грота Венеры. Это был действительно Вильет.
Заговорщики немедленно разрезали ожерелье. Муж Жанны отправился с большим количеством бриллиантов в Англию, где распродал их лондонским ювелирам. Вильета случайно арестовали и нашли при нем часть бриллиантов, но Жанна сумела добиться освобождения своего любовника. Все развивалось, как она предполагала. Расплатившись с долгами, Жанна торжественно отправилась в свой родной город Барсюр-Об, чтобы покрасоваться перед местными жителями, ранее презрительно третировавшими «нишую Валуа». Вслед за нею везли шесть карет, набитых дорогими вещами. Правда, вскоре Жанна ненадолго съездила в Париж.
Там в ее отсутствие события развивались быстрыми темпами. На празднике 2 февраля, к изумлению кардинала и ювелиров, королева так и не надела купленного ею ожерелья. Но у Жанны был и на это ответ: королева находит цену слишком большой. Ювелиры делают уступку. Тогда Жанна разъясняет, что Мария-Антуанетта не хочет носить ожерелья, так как до полной расплаты с ювелирами не считает его своим.
12 июля Бомер поехал в Версаль с письмом к Марии-Антуанетте, составленным под диктовку кардинала. В письме выражалась радость по поводу того, что великая королева теперь обладает наилучшим в мире ожерельем. Бомер передал через слуг письмо и уехал, не дожидаясь ответа. Королева прочла письмо и, считая, по-видимому, ювелира сошедшим с ума, велела своей придворной, мадам Кампан, передать ему, что она не собирается покупать бриллианты. Однако Мария-Антуанетта не сочла нужным потребовать от Бомера объяснения непонятного для нее содержания письма.
Подошел срок первого платежа, и Жанна опасалась, что дело вскроется раньше времени. Поэтому Роган 31 июля получил записку от «королевы», где содержалась просьба перенести срок первого взноса с 1 августа на 1 октября, с тем чтобы тогда было выплачено не 400 тыс., а 700 тыс. ливров — половина новой иены ожерелья. В первый раз у Рогана возникает смутное подозрение. Он сравнивает полученную записку с оставшимися у него от прежних лет письмами королевы. Никакого сходства! Но Жанне удается успокоить прелата: она привозит якобы от имени королевы первые 30 тыс. ливров в счет уплаты за ожерелье. Получив от продажи бриллиантов много сотен тысяч, можно пойти на такой расход для выигрыша времени. Кардинал снова убежден — откуда у такой бедной женщины, как Ламот, могут появиться 30 тыс. ливров, если они не переданы ей королевой? Но беспокойство уже передалось ювелирам. Тогда 3 августа Жанна решилась на смелый шаг. Она прямо объявила Бассанжу, что обязательство королевы об уплате — подделка. Авантюристка рассчитывала, что прижатый к стене Роган для предотвращения скандала покроет сам полностью стоимость колье.
Перепуганные ювелиры, не осмеливаясь показаться на глаза Рогану, бросились к мадам Кампан. Та им подтвердила, что Мария-Антуанетта не получала ожерелья. Лишь на следующий день, 4 августа, Бассанж задал Рогану роковой вопрос: уверен ли он в честности послание королевы, которому было передано ожерелье? Это «лиио» — Рето де Вильет — как раз в это время, пришпоривая коня, скакал в Женеву, чтобы очутиться за пределами Франции; д’Олива, сменившая Ламота на нового возлюбленного, была отправлена в Брюссель. Удалив других участников похищения, Жанна сама решила не бежать, вместо этого она снова вернулась в Барсюр-Об и стала выжидать дальнейшего развития событий. А кардинал все еще уверял ювелиров, что он сам лично получил поручение от королевы и уже ему переданы в счет уплаты за ожерелье первые 30 тыс. ливров. Однако после ухода ювелиров обеспокоенный прелат вызвал своего главного советника Калиостро. Великий маг был человеком практичным и немедленно указал Рогану, что гарантийное письмо, подписанное «Мария-Антуанетта Французская», безусловно, является подделкой. Калиостро рекомендовал Рогану поспешить, пока не поздно, признаться самому во всем перед королем и просить прошения. Но Роган продолжал колебаться. Между тем Мария-Антуанетта 12 августа 1785 года узнала от ювелиров все известное им о похищении.
15 августа, в праздник Успения, кардинал должен был служить торжественную службу, но ему не дают произнести проповедь — Рогана арестовывают по приказу короля. Узнав об этом, Ламот спешно вернулась домой в Париж и сожгла все компрометировавшие ее бумаги. Вскоре и она была взята под стражу. Вильет и д’Олива были выданы французским властям и вместе с главными героями «дела об ожерелье» предстали перед судом парижского парламента. Были привлечены к суду даже Калиостро и его жена. С исключительной изворотливостью Жанна пыталась свалить всю вину на Рогана, по ее словам, якобы собиравшегося похитить ожерелье, и на Калиостро, по ее утверждению, подделавшего гарантию королевы и надеявшегося использовать бриллианты для своих магических сеансов. Однако показания Рето и д’Оливы вскоре прояснили суть дела. В результате Роган и Калиостро были полностью оправданы. Олива также была объявлена невиновной. Вильет отделался изгнанием из Франции. Он цинично доказывал, что состряпанная им «гарантия» не является подделкой, веда королева никогда не подписывалась «Мария-Антуанетта Французская», что он по приказу Рогана изготовил заведомо фальшивый документ, дабы засвидетельствовать ее невиновность!
Мягкий приговор был вовсе не случайностью и не результатом давнишнего фрондирования парижского парламента, недовольного вмешательством короны в его права. Такой приговор был следствием общественного возбуждения, связанного с процессом. Калиостро и Роган становятся широко популярными людьми. Дамы носят модные красно-желтые ленты (красный цвет кардинальской шапки и желтый цвет соломы, служившей постелью для узников Бастилии). Тайная типография печатает отчеты о процессе, тексты речей адвокатов продаются за баснословные деньги. Повсюду слышатся издевательские стихи по адресу королевы. Говорили, что в случае обвинительного приговора в Париже вспыхнули бы волнения. Народное недовольство нашло предлог /ыя выражения.
Мария-Антуанетта
Современная гравюра
Виновность самой Ламот не вызывала сомнения. На суде она в припадке гнева бросила тяжелый бронзовый подсвечник в Калиостро. Маг, возведя очи к небу, ответил потоком брани на многих известных и неизвестных языках. Потом Ламот изображала сумасшедшую. В камере она постоянно сидела под кроватью. Приговор гласил: подвергнуть Жанну Ламот публичному сечению и заклеймить буквой «V» (voleuse — воровка). 21 июня 1786 года приговор над бесновавшейся от ярости Ламот приводится в исполнение, и после этого Жанну отправляют в исправительную тюрьму.
Король отдал приказ выслать Рогана в его епархию. Калиостро было предписано покинуть Францию, и он уехал в Лондон.
Однако скандал, произведенный свиданием в гроте Венеры, потушить не удалось. Подозрения против королевы вряд ли были обоснованными. Мария-Антуанетта была надменным и жестоким человеком, глубоко презирала народ и привыкла не считаться ни с чем, когда дело шло об удовлетворении ее прихотей. Несколькими годами позже, во время революции, королева была готова пролить море народной крови. Но она не была воровкой. Ей это было просто ни к чему.
Уголовный в сущности процесс об ожерелье приобрел большое политическое звучание, нанес огромный моральный ущерб, сыграл большую роль в дискредитации французской монархии, и в этом смысле он сыграл немалую роль в росте революционных настроений. Оправдание парижским парламентом Рогана и Калиостро праздновалось как победа над королевским произволом. В обстановке всеобщего недовольства Калиостро и без магического кристалла было нетрудно предсказать скорое разрушение Бастилии. До начала революции оставалось всего около трех лет.
ФАЛЬШИВЫЙ ПАСПОРТ БАРОНЕССЫ КОРФ
В 1789 году вспыхнула Великая французская революция, открывшая новую страницу в мировой истории. Она оказалась важной вехой и в истории тайной войны.
В ночь с 20 на 21 июня 1791 года на площади Карусель стояли две большие старомодные кареты. Постепенно стали собираться пассажиры, и экипажи тронулись в путь. В одном из них, судя по паспорту, сидела баронесса Корф, вдова полковника царской службы. После смерти мужа баронесса поселилась в Париже, из которого уезжала теперь вместе с детьми за границу, вероятно, почувствовав себя неуютно в охваченном революционными событиями городе. Баронессу сопровождали несколько горничных и слуг. Ничто не могло возбудить подозрения в этом отъезде богатой иностранки. Ведь встречающиеся по дороге патрули национальной гвардии не могли знать, что одна баронесса Корф с точно таким же паспортом уже успела уехать в Германию.
На деле происходило весьма важное событие революционной эпохи. Роялистские заговорщики, включая фаворита Марии-Антуанетты графа Ферзена. давно готовились к похищению короля, ставшего пленником революционного Парижа. Бежавший за границу Людовик XVI должен был стать центром притяжения для контрреволюционеров и с помощью иностранных армий двинуться против непокорного народа Франции.
Дубликат паспорта баронесса Корф получила под предлогом, что оригинал сгорел. Роль баронессы играла воспитательница королевских детей герцогиня де Турзель. Людовик изображал лакея, а Мария-Антуанетта и сестра короля — горничных баронессы Корф. Карету сопровождали, также под видом лакеев, трое дворян из лейб-гвардейского полка. Действительные горничные ехали в другом, ранее отбывшем экипаже. Наконец, по другой дороге уехал и добрался до Бельгии брат короля граф Прованский. Бегство короля происходило на два дня позже намеченного срока, и поэтому некоторые отряды, выставленные заранее роялистским генералом Буйе на пути следования кареты, пришлось отвести, чтобы не возбуждать подозрения. По дороге у экипажа сломалось колесо, что тоже вызвало потерю целого часа драгоценного ночного времени. Но все бы это сошло с рук, если бы не бдительность революционного народа, которую не могли правильно оценить заговорщики.
В то время, когда не существовало фотографии, нелегко было узнать по рисункам человека, переодетого в чужую одежду. Однако почтмейстер небольшого селения около Варенна Жан Баптист Друэ был стойким и проницательным революционером. Он знал о том, что уже неоднократно предпринимались попытки увезти Людовика XVI из революционного Парижа. Друэ поразило сходство лакея в карете баронессы Корф с портретом короля на ассигнациях: та же толстая фигура и нос с горбинкой на типичном бурбонском лице! Другие факты сразу подтвердили мелькнувшее подозрение: лошади для экипажа баронессы заказаны были самим герцогом Шуазелем, а кавалерийский отряд под командованием дворян-монархистов, приближавшийся к городу, явно был послан для охраны Людовика. Друэ не терял времени: быстро созвал местную национальную гвардию, чтобы задержать отряд, вскочил на коня и помчался в Варенн, куда отбыла королевская карета. Окольными путями почтмейстер обогнал экипаж мнимой баронессы. За немногие минуты, которые были в его распоряжении, Друэ и несколько встреченных им жителей перегородили с помощью опрокинутой телеги мост, по которому должна была проехать карета. Потом Друэ разбудил мэра, который призвал к оружию национальную гвардию Варенна. Зазвенел набат, со всех сторон из города и окрестных деревень сбегались вооруженные ЛЮДИ; когда показался королевский экипаж, все было подготовлено к встрече. Король и его спутники были арестованы. Прибывшие кавалерийские эскадроны отказались повиноваться офицерам-роялистам и перешли на сторону народа. Роялистский заговор потерпел полное крушение. Арестованных отправили обратно в Париж.
В истории бегства в Варенн остается неясным, насколько царский посол барон Симолин был посвяшен в планы заговорщиков. В его переписке с Петербургом имеются фразы, которые можно истолковать в том смысле, что посол не знал о назначении выданного по его приказу дубликата паспорта баронессы Корф. Но в то же время это неведение царского дипломата, игравшего одновременно роль разведчика и полицейского, наблюдавшего за поведением русских, которые оказались в революционном Париже, не очень вероятно. Симолин, осуществлявший контрреволюционные планы царицы Екатерины II, создал свою шпионскую сеть. Через секретаря посольства Мешкова он завербовал себе на службу в качестве секретного агента одного из чиновников французского министерства иностранных дел. Таким путем Симолин получил и переслал в Петербург шифр, которым пользовались в своей переписке министр иностранных дел Франции граф Монморен и французский поверенный в делах в России Жене. В результате французская дипломатическая переписка свободно прочитывалась в Петербурге. Даже когда Симолин покинул революционную столицу, он продолжал получать подробные разведывательные донесения от своих осведомителей во Франции.
СУДЕБНЫЕ ТРАГЕДИИ 1793 ГОДА
С огненными годами Великой французской революции неразрывно связано представление о суровых судебных процессах, не только являвшихся порождением той грозной эпохи, но и наложивших на нее свой неизгладимый отпечаток. В разные периоды революции эти процессы имели различный политический смысл, по-разному они проходили, неодинаково и заканчивались.
Началом революции справедливо принято считать взятие штурмом Бастилии 14 июля 1789 года. Но монархия была свергнута 10 августа 1792 года, а суд над королем Людовиком XVI, начавший серию политических процессов, открылся еще через несколько месяцев. Измены двора, его пособничество иностранным интервентам развеяли монархические иллюзии.
После свержения монархии были обнаружены секретные документы, которые раскрывали связи Людовика XVI с дворянами-эмигрантами, участвовавшими в подготовке интервенции; происки короля против революционного народа, включая выдачу военных тайн пруссакам и австрийцам; подкуп депутатов Законодательного собрания, на что было истрачено полтора миллиона ливров. Ничтожный король, ограниченность, вялость и безличность которого в конце КОНЦОВ превратили его в марионетку более умной и властной Марии-Антуанетты, проявил всю энергию, на которую только был способен, пытаясь удушить революцию.
Городское управление столицы — Парижская коммуна — 1 октября 1792 года представила обнаруженные документы народному представительству — Конвенту. Они вызвали крайнее волнение уже потому, что члены Законодательного собрания, подкупленные королевским золотом, могли быть и депутатами Конвента. Главное, однако, заключалось в том, что эти документы служили неопровержимым доказательством справедливости требований народа о суде над королем. Конвент назначил Комиссию 24-х, включавших как якобинцев, так и жирондистов, для изучения найденных бумаг короля.
Жирондисты стремились спасти Людовика XVI вовсе не из-за каких-то симпатий к королю, а из желания опереться на остатки престижа монархии и на реалистические силы в борьбе против монтаньяров. Но они столь же мало могли открыто объявить о своей цели, как и о мотивах, которые побуждали Жиронду стремиться к ее достижению. Опасаясь навлечь подозрение (их могли обвинить в стремлении гарантировать себя на случай реставрации монархии), жирондисты мотивировали свою позицию «интересами республики», которой, мол, надо учитывать, что казнь короля увеличит число государств, участвующих в контрреволюционной интервенции. Англия действительно воспользовалась вопросом о судьбе Людовика как предлогом, чтобы возглавить интервенционистский лагерь. Но причины для этого были совсем другие (политические и экономические), и повод все равно бы нашелся. Жирондисты проявили куда больше усилий спасти Людовика, чем интервенты или его эмигрировавшие братья, которые предпочитали видеть короля мертвым, но не пленником в руках народа.
6 ноября Комиссия 24-х представила доклад Конвенту. Лаже жирондист Валазе, выступавший от имени комиссии, вынужден был подчеркнуть, что неприкосновенность короля, гарантированная ему конституцией 1791 года, может относиться лишь к его легальным действиям, за что несут ответственность министры, а не за тайные козни и преступления. Впрочем, ряд жирондистских ораторов продолжали настаивать на неприкосновенности короля. Но здесь на ход прений повлияло сообщение о находке новых документов. Слесарь Гамен в конце ноября сообщил министру иностранных дел жирондисту Роллану, что он сделал в спальне короля тайник, где Людовик хранил особо важные бумаги. Роллан поспешил изъять их из этого потайного железного ящика и, просмотрев, представил — неизвестно, все ли, — на рассмотрение Конвента. Сразу же возникло сомнение, не утаил ли Роллан часть документов, которые, возможно, компрометировали жирондистских лидеров: ведь среди них вполне могли оказаться члены Законодательного собрания, принявшие из рук короля полтора миллионов ливров.
В стране, особенно в Париже, росло недовольство тактикой жирондистов. Под давлением народных масс они должны были согласиться на составление обвинительного акта против короля. Однако и после этого жирондистские депутаты продолжали ставить палки в колеса народному правосудию. Они старались провести декрет об изгнании всех Бурбонов из Франции, что могло спасти Людовика, предлагали издать закон о смертной казни для тех, кто пытается установить диктатуру, — это был и улар, нацеленный против монтаньяров, и еще одна интрига, рассчитанная на то, чтобы отвлечь внимание от вопроса о короле. Эти политические маневры оказались безуспешными. Более того, чем дальше, тем яснее становилось, что суд над королем, чье имя объединяло все реакционные силы, стал условием дальнейшего развития революции.
11 декабря король был доставлен в Конвент, где его допросили о найденных секретных документах. Людовик не нашел ничего лучше, как прибегнуть к жалким уверткам. Он то отрицал «неудобные» факты, то ссылался на плохую память, то сваливал вину на министров. Трудно было яснее разоблачить самого себя, убедить даже колеблющихся в справедливости выдвинутых против него обвинений.
Жирондисты активизировали свои попытки остановить руку народного возмездия. Суд над королем заслонил на время все другие сложные проблемы, выдвинулся в центр политической борьбы. Лагерь монтаньяров казался единым в решимости добиться осуждения короля. Но так ли это было в действительности? Знаменитый французский историк А. Матьез в начале XX в. опубликовал работы, в которых давался отрицательный ответ на этот вопрос. Матьез считал, что один из главных лидеров якобинцев, Дантон, вел двойную игру и что это повлияло на процесс Людовика XVI.
Однако независимо от оценки роли Дантона не подлежит сомнению, что предпринимались серьезные закулисные попытки спасти Людовика XVI и что реакция имела своих агентов в революционном лагере.
Все тайные и явные происки, направленные на то, чтобы предотвратить вынесение приговоров королю, потерпели неудачу. В обстановке крайнего народного возбуждения даже жирондисты должны были 14 января смириться с прекращением прений. На следующий день Конвент приступил к поименному голосованию по трем вопросам. На первый из них: «Виновен ли Людовик XVI?» — подавляющее большинство — 683 человека — ответило утвердительно.
Значительно большие споры вызвал второй вопрос: «Следует ли любое принятое решение передавать на обсуждение народа?» Большинством голосов Конвент отклонил попытку оттянуть решение вопроса о короле, передав его на референдум.
Главное сражение развернулось по третьему вопросу: «Какого наказания заслуживает Людовик?» Народное негодование, давление публики, заполнившей галереи для зрителей, заставили жирондистских лидеров отказаться от мысли прямо выступить против смертного приговора. Верньо, ранее рьяно защищавший короля, произнес свой вердикт: «Смерть». За ним последовали Бриссо, Луве и другие жирондисты, выступавшие за смертную казнь, но с отсрочкой — до принятия новой конституции. За смертную казнь без всяких условий голосовали 387 человек, за смертную казнь условно или за тюремное заключение — 334. Большинством в 53 голоса Людовик был приговорен к смерти. Но жирондисты все еще пытались спасти положение. Лишь после новых жарких прений 19 января Конвент постановил немедленно привести в исполнение смертный приговор. 21 января 1793 года Людовик XVI был казнен.
Казнь короля была важным этапом в развертывании революционного террора. Эффективным орудием его были внесудебные учреждения, особенно революционные армии в департаментах.
Среди судебных органов, осуществлявших террор, главная роль принадлежала парижскому Революционному трибуналу.
9 марта 1793 года для разбора судебных дел политического характера путем реорганизации Чрезвычайного уголовного трибунала, который начал действовать еще 17 августа 1792 года, почти сразу же после падения монархии, был образован новый судебный орган. Решения этого органа, получившего название Революционного трибунала, являлись окончательными; обвиняемые не имели права апелляции.
Более чем полтора века в исторической литературе и публицистике не прекращаются идейные споры вокруг оценки деятельности этого трибунала. Еще оппоненты И. Тэна, написавшего в конце XIX в. крайне тенденциозную и клеветническую историю Великой французской революции, подчеркивали: «Нельзя понять революционный террор, не представляя себе активности врагов якобинской Франции. Это все равно что на картине, изображающей двух схватившихся в смертельном поединке людей, замазать краской фигуру одного из бойцов. Оставшийся предстанет тогда в напряженной, неестественной позе, с налитыми кровью глазами, яростно пытаясь повалить наземь несуществующего врага». Либеральный историк А. Олар, который подверг критике такую концепцию террора, рассказывал, что в 80-х годах XIX в. была даже произведена попытка покушения на его жизнь за положительное отношение к французской революции.
Весной 1793 года жирондисты во время ожесточенной борьбы против «друга народа» Марата решили использовать в своих целях Революционный трибунал. Все началось с того, что 8 апреля секции Сент-Антуанского предместья обратились с петициями в Конвент, настаивая на предании суду Бриссо, Верньо, Барбару и других жирондистских депутатов. В ответ жирондисты 12 апреля потребовали суда над Маратом, которого обвиняли в призыве к расправе над рядом членов Конвента, в возбуждении продовольственных волнений и требовании голов изменников. Жирондисты воспользовались отсутствием 374 депутатов, направленных Конвентом в провинцию для выполнения важных заданий. В ночь на 14 апреля Конвент одобрил обвинительный акт против «друга народа». Марат, впрочем, и сам заявил, что не имеет ничего против суда над ним. Решение об аресте Марата тут же, в Конвенте, не было осуществлено: жандармы явно не хотели выполнить этот приказ. «Друг народа» сумел скрыться, но 22 апреля он добровольно отдался в руки властей. 24 апреля начался процесс Марата. Он выступил на нем грозным обличителем жирондистов. Общественный обвинитель (прокурор) Фукье-Тенвиль заявил, что, по его убеждению, Марат — верный друг народа. Марат был оправдан.
Ж.П.Марат
Гравюра Бриссона по картине Бозэ
Перед трибуналом была поставлена задача защиты революции. Ведь ход процессов, выносимые приговоры должны были служить этой и только этой цели. Трибунал мало внимания обращал на тонкости процессуального характера. Степень суровости приговора во многом определялась социальным происхождением обвиняемого. Для осуждения представителей старых господствующих классов — дворянства и духовенства, а также буржуазной аристократии требовалось обычно меньше доказательств вины, чем для подсудимых — выходцев из народа. Трибунал карал за контрреволюционную деятельность, за измену, за шпионаж в пользу интервентов, за спекуляцию, а также за нарушение законов о регулировании цен и заработной платы (законов о максимуме), о конфискации золота, за поставку недоброкачественного вооружения, боеприпасов и продовольствия в армию и другие аналогичные преступления.
Наряду с Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности, комиссарами Конвента и революционными комитетами в провинции столичный Революционный трибунал принадлежал к числу наиболее важных органов революционной диктатуры. Он сделал немало для обеспечения победы над силами внутренней и внешней контрреволюции, к которым летом 1793 года присоединились жирондисты.
Деятельность Революционного трибунала, особенно во время террора, ярко отражала ход политической борьбы.
25 сентября 1793 года якобинский Конвент поручил Революционному трибуналу рассмотреть дела бывшей королевы Марии-Антуанетты и 21 депутата-жирондиста, после выступления парижских масс 31 мая — 2 июня изгнанных из Конвента и арестованных. Революционные власти знали, что роялистское подполье и иностранная агентура после казни Людовика XVI предпринимали лихорадочные усилия для организации бегства королевы. Первая попытка была сделана весной 1793 года доверенным лицом Марии-Антуанетты, мужем одной из ее фрейлин генералом де Жаржейсом, который в 1791 году был посредником в ее тайных переговорах с одним из лидеров партии фейянов (конституционные монархисты) — Барнавом, а еще ранее — в доставке королю денег от роялистского заговорщика барона Батна. Переодетый фонарщиком, де Жаржейс посетил королеву в Тампле и изложил ей план побега при содействии тюремных надзирателей Тулана, Лепитра и Тюржи. Не посвященных в заговор тюремщиков — супругов Тисон — намеревались угостить нюхательным табаком, в который было подсыпано снотворное.
Члены королевской семьи должны были покинуть тюрьму Тампль переодетыми в костюмы стражников или фонарщиков, дофина предполагали унести в корзине для грязного белья. Поджидавшие беглецов небольшие экипажи должны были доставить их в порт Дьепп и далее на корабле — в Англию. Один ир заговорщиков, Лепитр, который ведал в Коммуне выдачей паспортов, согласился обеспечить нужные бумаги. План сорвался из-за того, что после измены в середине апреля генерала Дюмурье, перешедшего на сторону врага, Коммуна временно запретила выдачу паспортов. Перепуганный Лепитр отказался предоставить поддельные документы. В результате уличных беспорядков были закрыты городские ворота. Оставались еще какие-то шансы бежать одной Марии-Антуанетте, но она отказалась покинуть Тампль без сына. Жаржейс спешно исчез из Парижа. После этого роялист барон Бати, о котором еще много будет говориться на последующих страницах, под именем де Форжа взял на себя руководство подготовкой к побегу.
Здание Тампля, где содержалась королевская семья, до революции принадлежало графу д’Артуа, брату Людовика XVI (впоследствии, в 1824–1830 годах, он занимал престол под именем Карла X). Несмотря на прямой запрет Коммуны, среди персонала, обслуживающего тюрьму, было немало бывших слуг графа д’Артуа. К ним следует прибавить большое число подкупленных полицейских чиновников, особенно начальника тюремной охраны капитана Кортея и крупного чиновника Мишониса. Шестидесятилетний торговец лимонадом Жан-Батист Мишонис с 10 августа 1792 года являлся членом Генерального совета Коммуны, он участвовал в сентябрьском самосуде толпы над сторонниками монархии. Для обеспечения его верности роялисты должны были прибегнуть к более веским или, точнее, звонким аргументам, чем апелляция к монархическим убеждениям. Будучи служащим полиции, Мишонис кроме всего прочего ведал специальными полицейскими фондами. Одновременно он являлся инспектором тюрем. В связи со своими обязанностями Мишонис был связан с прокурором Коммуны левым якобинцем Шометтом и его заместителем Эбером.
Некоторые историки сомневались в том, что попытка бегства в апреле вообще имела место, ссылаясь при этом на то, что Кортей и Мишонис не подверглись преследованию. Стоит, однако, обратить внимание на другое: ведь Тулану и Лепитру все же было выражено порицание за потворство заключенным членам королевской семьи. По-иному обошлись власти с тюремным надзирателем Тисоном и его женой. Они 19 апреля 1793 года донесли мэру Пашу, что Мария-Антуанетта поддерживает контакты со своими сторонниками на воле. Об этом же сообщал некий Лешнер. Результат оказался неожиданным: супругу Тисона заключили в сумасшедший дом, а его самого держали под надзором в самом Тампле, откуда ему удалось освободиться уже после 9 термидора. Показания Лешнера отвели, ссылаясь на то, что он пьяница. В итоге Мишонис и Кортей продолжали службу как ни в чем не бывало, Тулан предпочел бежать из Парижа в Бордо. Важно добавить, что все расследование, связанное с неудавшейся попыткой бегства королевы, проводилось лично Эбером. Не создается ли впечатление, задают вопрос некоторые историки, что он занялся этим со специальной целью ничего не раскрыть? Но об этом подробнее ниже.
Бегство королевы назначили в ночь с 21 на 22 июня 1793 года. 21 июня секция Лепелетъе, в которой активно действовали агенты роялиста барона де Батца Кортей и Руссель, направила 30 человек для охраны Тампля. Командир отряда Кортей отобрал в него скрытых роялистов, часть из которых получила щедрые денежные подарки. Бати в форме муниципального гвардейца и с бумагами на имя Форма был в числе чиновников Коммуны, дежурство которых в Тампле приходилось на эту ночь. Среди них был и полицейский инспектор Мишонис, агент Батиа. Неподалеку от тюрьмы беглецов ожидала другая группа заговорщиков, среди которых был молодой Гай де Невиль, впоследствии, при реставрации, морской министр в правление Карла X. Его «Мемуары», а также отчет, составленный секретарем Комитета общественной безопасности Сенаром, являются единственными источниками, из которых известно об этой попытке бегства Марии-Антуанетты. Попытка не удалась, так как сапожник Симон, назначенный воспитателем дофина, получил анонимную записку: «Берегитесь, Мишонис предаст вас этим вечером». Симон поспешил сообщить о полученной записке Коммуне. Посты были заменены, и планы заговорщиков потерпели крушение. Мишониса подвергли допросу, но власти не приняли против него никаких мер. Быть может, потому, что в это время намечались переговоры с Веной об обмене королевской семьи на членов Конвента, арестованных австрийцами в результате измены Дюмурье. Революционное правительство не хотело, чтобы создавалась почва для слухов, что и без этой сделки королева находилась накануне освобождения.
Как явствует из мемуаров полицейского чиновника Сенара. Комитет общественной безопасности не был обманут и лишь сделал вид, что никакой попытки бегства королевы не было, все свелось к простой мистификации — посылке анонимного письма Симону. В историографии высказывалось мнение, будто это было следствием тайных переговоров с Австрией. 2 мая 1793 года австрийский посол в Гааге Франсуа де Меттерних (отец будущего канцлера Клемента Меттерниха) писал: «Я сейчас узнал, что Национальный конвент приказал предложить господину фельдмаршалу Кобургскому выпустить на свободу королевскую семью при условии одновременного освобождения членов Конвента и г-на Берновиля, арестованных Дюмурье». Через несколько дней посол добавлял: «Это предложение сопровождалось еще условием заключения перемирия на неограниченный срок». Считая вопрос о выдаче королевы и членов ее семьи определенным козырем при переговорах, французские власти не хотели создать впечатление, что этот козырь мог быть отнят у них путем возможного похищения «заложников» из Тампля.
Англичанка Шарлотта Аткинс в свою очередь попыталась организовать бегство и с помощью подкупа проникла в Тампль. После отказа Марии-Антуанетты принять предложенный ей план Аткинс съездила в Англию и, добыв новые средства, снова через два-три месяца появилась в Париже и опять сумела проникнуть в камеру королевы. Единственным документом, свидетельствующим о первой попытке Шарлотты Аткинс, являются записки роялиста Луи де Фротте, который как свидетель заслуживает доверия. Он, безусловно, получил сведения из первых рук — от Аткинс, которая, будучи сама жертвой легковерия, отнюдь не имела обыкновения обманывать своих друзей, и тем более Фротте. К тому же сам Фротте не был склонен ни к повторению пустых слухов, ни к сообщению ложных сведений. Что же касается второй попытки, то она как будто засвидетельствована Людовиком XVIII со слов аббата Эджуорса, узнавшего об этом от ближайшей подруги Шарлотты Аткинс мадам де ля Тремуай. (Ныне эта запись, сделанная Людовиком XVIII, находится в частном и, следовательно, трудно или вовсе не доступном архиве.)
2 августа королева была переведена в тюрьму Консьержери, где привратником был роялист Бол и где среди охраны имелись его единомышленники. Новую попытку организации побега Марии-Антуанетты предпринял шевалье Ружвиль. Он явно послужил прототипом для главного героя известного романа А. Дюма «Шевалье де Мэзон Руж» («Кавалер Красного замка»), изображенного рыцарем без страха и упрека. Даже в конце XIX в. правый историк Ж. Ленотр, хорошо знакомый с архивами, представил в книге «Подлинный шевалье де Мэзон Руж, шевалье де Ружвиль» своего героя едва ли не главой роялистского подполья. Позднее Ленотр признал сделанную им ошибку, отметив, что Ружвиль был «лишь орудием Батца, который был душой заговора». Одну из своих книг о нем Ленотр назвал «Подлинный кавалер де Мэзон Руж, барон де Батц». Насколько финансовый спекулянт и политический интриган Батц был похож на благородного рыцаря из романа Дюма, читатель сможет убедиться на следующих страницах этой книги. Но Ружвиль — и того меньше.
Александр-Ломиник-Жозеф Гоне — таково было настоящее имя этого маленького толстолицего лысого человека, присвоившего себе дворянскую фамилию Ружвиль по названию соседней мельницы. Ружвиль подделал даже свою метрику, сделав себя на десять лет старше, дабы претендовать на то, что он якобы во время войны английских колоний в Северной Америке за независимость был прикомандирован к штабу самого генерала Вашингтона (возможно, в этом штабе служил какой-то другой Ружвиль), и добился награждения в 1791 году орденом Св. Людовика. Это был не сдержанный на язык хвастун, волокита и кутила, временами казавшийся наполовину помешанным авантюрист, который участвовал во многих роялистских интригах.
Ружвиль, например, сообщал желавшим его слушать, что составил план взорвать помещение Законодательного собрания вместе с депутатами; он был в числе защитников королевского дворца во время свержения монархии в августе 1792 года, и был замечен королевой, но вскоре после этого исчез, не уплатив долгов. Какое-то время о нем не было ни слуху ни духу, считали, что Ружвиль убит — так полагала и некая Луиза Лакутюр, бывшая с 1790 года любовницей шевалье. Однако однажды она могла убедиться в ошибочности своего мнения, столкнувшись в мае 1793 года с Ружвилем и его новой возлюбленной Софьей Лютилель, известной как особа легкого поведения. Соперницы тут же попытались выяснить отношения, буквально вцепившись друг другу в волосы. Ружвиль и Софья сбежали, но Луиза, не потерявшая их след, в ярости донесла на неверного любовника властям. 3 июня 1793 года Ружвиля арестовали. Ему пришлось бы очень несладко, если бы Софья не была знакома с привратником Консьержери Болем и его супругой, а те хорошо знали Мишониса, который мог привлечь на помощь своих сообщников в составе тюремной администрации Фруадара, Ланже, Суля. Короче говоря, уже через неделю, 10 июня, Ружвиля без всяких объяснений выпустили на волю.
«Чудесное» избавление Ружвиля явно произошло не без влияния агентов Батца, хотя, возможно, Ружвиль для верности тоже истратил некоторую сумму на взятки и без того подкупленным полицейским чинам. Потратившись, Ружвиль более чем когда-либо был склонен получить миллион, который Бати обещал за освобождение королевы. В конце августа Мишонис, неоднократно посещавший камеру королевы с целью инспекции, явился в сопровождении известного королеве человека с двумя гвоздиками в петлице. Это был де Ружвиль. Он вынул цветы из петлицы и бросил их за ширму, где находились вещи королевы. Цветы были обернуты листом бумаги, в нем королеве предлагалось дать согласие на новый план бегства. Мария-Антуанетта ответила шифрованной запиской, выражая согласие.
В 11 часов в пятницу 2 сентября Мишонис и Ружвиль вновь появились в камере. Мишонис передал старшему тюремному надзирателю бумаги, предписывавшие перевод Марии-Антуанетты обратно в Тампль. На деле королеву собирались переправить в замок мадам Жаржейс близ Парижа, а оттуда за границу, в Германию. Два подкупленных стражника согласились помочь заговорщикам. Однако в последний момент один из них, жандарм Жильбер, отказался разрешить королеве покинуть тюрьму. На другой день он, перепуганный насмерть, сообщил о заговоре властям. Мишонис предпринимал отчаянные попытки выйти сухим из воды, власти тогда так и не получили прямых доказательств его участия в заговоре. Ружвилю удалось бежать в Бельгию. (Позднее он за участие в новых заговорах попал за решетку в занятой французами Бельгии, где и пребывал с 1795 по 1797 год. При правлении Наполеона Ружвилю было приказано жить под присмотром полиции в Реймсе, а накануне крушения режима империи, в марте 1814 года, Ружвиля расстреляли за переписку с неприятельскими офицерами.)
«Заговор гвоздики», как он впоследствии был назван, не был авантюрой нескольких одиночек. Он имел различные ответвления. 5 сентября испанский дипломат Лас Казас писал своему другу роялисту д’Антрегу: «Граф д’Артуа покинул Гамбург, поскольку в Германии распространился слух, что маршал Кобургский двинулся на Париж для освобождения королевской семьи, но в Дюссельдорфе граф д’Артуа узнал, что ничего из этого не вышло».
4 сентября 1793 года Мишонис был арестован по обвинению в должностном преступлении, выразившемся в разрешении постороннему посетить в тюрьме «вдову Капет». 19 ноября Революционный трибунал приговорил его к тюремному заключению вплоть до окончания войны. Мишонис был помещен в тюрьму Ла Форс. Остальные обвиняемые были оправданы.
Депутат Конвента Фабр д’Эглантин, которому тогда еще доверял Робеспьер, утверждал, что Эбер подкуплен Батцем. По мнению французского историка А. Луиго, один из руководителей Коммуны, Шометт, который до сих пор прикрывал своего заместителя Эбера, был сильно встревожен. Тогда Эбер решился на важный ход для отвлечения внимания. 6 и 7 сентября подвергся подробным расспросам дофин, которого склонили к нелепым обвинениям против его матери, способным лишь вызвать сочувствие к ней. Это должно было восстановить репутацию Эбера как непримиримого врага королевы в глазах его последователей. Историк А. де Летали отмечал, что и в это время Фукье-Тенвиль пытался превратить процесс служащих Тампля, обвинявшихся в потворстве к арестованным — Мишониса, Ланже, Жобера и нескольких других, — в комедию, направленную на оправдание подсудимых. Лишь благодаря действиям Фабра этот процесс вообще состоялся.
В истории попыток организации бегства королевы многое осталось неизвестным. Ряд главных действующих лиц — полицейский инспектор Мишонис, командир отряда Национальной гвардии Кортей и некоторые другие были казнены в числе «красных рубашек» 17 июня 1794 года (об этом ниже), а расстроивший их планы сапожник Симон был гильотинирован среди других робеспьеристов — членов Коммуны после переворота 9 термидора. Далеко не все об этих попытках организовать бегство королевы стало известно властям, а то, что они узнали позднее, сообщили населению в самых общих словах. Еще в июне 1794 года комиссар Комитета общественного спасения предписывал Фукье-Тенвилю «утаить детали», по-видимому, чтобы не сообщать нужные сведения возможным новым заговорщикам.
Фактом является, что по какой-то причине стремились замолчать или по крайней мере всячески принизить значение «заговора гвоздики» и ради этого весьма снисходительно отнеслись к замешанным в этом заговоре лицам; лаже Мишонис, участие которого в нем не подлежало сомнению, был приговорен лишь к «содержанию под стражей впредь до заключения мира». Однако после процессов весны 1794 года можно лишь гадать о причине снисходительности, столь явно проявленной к нему в ноябре 1793 года, когда правительственные комитеты уже имели общее представление об «иностранном заговоре», о котором пойдет речь в последующих главах. Во время суда над Марией-Антуанеттой прокурор Фукье-Тенвиль заявил, что «заговор гвоздики» — это всего лишь тюремная интрига, которая не может фигурировать в обвинительном акте, представляющем столь большой интерес.
На процессе Мария-Антуанетта голословно отвергала все инкриминируемые ей действия против французского народа. Общественный обвинитель Фукье-Тенвиль добавил к политическим обвинениям различные, не шедшие к делу утверждения, касавшиеся личной жизни подсудимой. Эти выпады могли лишь унизить Революционный трибунал, недаром они вызвали гнев Робеспьера. 16 октября бывшая королева была приговорена к смерти и в тот же день казнена.
Через неделю, 24 октября 1793 года, начался процесс жирондистов. И снова политические обвинения, выдвинутые против подсудимых, невозможно было опровергнуть. В число этих обвинений входило втягивание Франции в «революционную войну», к которой она не была готова, но которая лишь облегчила попытки интервентов изображать себя обороняющейся стороной. Проповедь «революционной войны» была по существу порождением страха перед углублением революции. Этот страх побудил жирондистов сначала к тайному, а затем и к открытому союзу с реакцией и иностранными державами, к поощрению измены генералов, к организации контрреволюционных восстаний в Бордо, Марселе, Лионе и других местах. Жирондисты призывали истреблять якобинцев, поощряли акты индивидуального террора против вождей революции, в том числе убийство Марата Шарлоттой Корде.
Шарлотта Кордэ
Якобинцы настаивали на быстром окончании разбора дела, которое могло затянуться на длительный срок. 28 октября Конвент принял закон, ускорявший судебную процедуру. По истечении трех дней председатель с согласия присяжных имел право прекращать судебное разбирательство и объявлять приговор. Председатель трибунала уже 30 октября воспользовался этим законом, чтобы предложить присяжным закончить процесс жирондистов, который еще находился на стадии судебного следствия. Через три часа присяжные на вопросы о виновности подсудимых во всех предъявленных им обвинениях ответили утвердительно. Некоторые из осужденных пытались заколоться кинжалами тут же, в зале суда. Другие обращались к собравшимся зрителям и народу, утверждая, что их обманывают. На другой день руководители жирондистов сложили головы на гильотине.
ЗА ШИРМОЙ ТАЙНОЙ ДИПЛОМАТИИ
Общественное мнение в первые месяцы 1794 года было взбудоражено упорными слухами о зловещем заговоре, который был организован эмиссарами вражеских держав и роялистами вместе с их тайными сообщниками в высших органах власти якобинской республики. Об этом подробнее ниже. Здесь же отметим, что французская революция была едва ли не первой, в которой инкриминированное противной стороне сотрудничество с внешним врагом стало нередким, а иногда и главным пунктом в списке деяний, приписываемых обвиняемым во время политических процессов. Это было прежде всего отражением тех масштабов и значения, которые приобрела война. Часто эти обвинения соответствовали действительности, но в целом ряде случаев дело шло лишь о подозрениях и догадках, не подкрепленных доказательствами и даже просто неправдоподобных. Представления о размерах этих связей с внешней и внутренней контрреволюцией, даже когда они были преувеличенными, сами становились весомым политическим фактором, влиявшим на ход событий. Вдобавок некоторые руководящие деятели республики по собственной инициативе, не уведомляя своих коллег, которые могли воспрепятствовать их планам, действительно устанавливали тайные дипломатические контакты с правительствами вражеских держав, чтобы прозондировать возможность заключения мира. Эти секретные переговоры легко могли казаться контактами с врагом или выдаваться за таковые. Они составляли постоянный фон политических процессов 1794 года. Сложность выяснения обстоятельств, связанных с тайной войной и секретной дипломатией осенью 1793 года, зимой и весной 1794 года, вызвана прежде всего остротой борьбы внутри якобинского блока, тем, что она закончилась гибелью большинства руководителей, которые унесли в могилу многие тайны, относящиеся к закулисной стороне этой борьбы.
До поздней осени 1793 года вопрос о войне и мире сводился только к дилемме — победить или умереть. У интервентов не было мотивов всерьез подумать о заключении мира, в результате которого они упустили бы, как им казалось, уже близкую победу. Положение изменилось в конце 1793 года, когда были одержаны крупные военные победы: 15–16 октября Журдан разбил неприятеля при Ваттиньо, 18 декабря пал Тулон, 26–27 декабря генерал Гош нанес поражение австрийцам при Вейсенбурге. «К концу 1793 года границы были почти обеспечены, 1794 год начался благоприятно, французские армии почти повсюду действовали успешно». К этому времени стал уже вполне возможным мир с главными силами коалиции на основе признания ими республики.
Как справедливо отмечал Ф. Энгельс, революционное правительство в это время искало «мира посредством раскола коалиции. Дантон хотел мира с Англией, то есть с Фоксом и английской оппозицией, которая надеялась в результате выборов прийти к власти, Робеспьер интриговал в Базеле с Австрией и Пруссией и хотел сговориться с ними».
Однако настроения в якобинских кругах были таковы, что за любой попыткой прозондировать возможность заключения мира увидели бы предательство революции. Каждый из политических лидеров, которые были готовы все же предпринять такую попытку, должен был не только действовать окольными путями, но и держать свои действия в глубокой тайне, в том числе и от большинства членов революционного правительства. Именно поэтому приобрела такое значение тайная дипломатия, причем в узком смысле этого слова, т. е. не просто переговоры, содержание которых не предавалось гласности, но и контакты, завязанные отдельными политиками (поскольку речь шла о французской стороне), осуществлялись без санкции и ведома официальных правительственных инстанций.
В конце октября 1793 года, еще до главных побед республиканских армий в том году, в Париж' прибыл натурализовавшийся в Женеве англичанин Питер Льюис Робин, имевший различные поручения от д’Андре. Этот торговец пряностями, в прошлом член Законодательного собрания, уже год находившийся в эмиграции в Англии, осенью 1793 года явно являлся агентом-двойником: он получал деньги и от англичан, и из Парижа на организацию восстания в Ирландии и Шотландии. Перед отъездом Робина д’Андре, ссылаясь на указания неназванного члена английского министерства, предложил выяснить, нет ли сторонников быстрого заключения мира среди членов французского правительства. Фамилии лиц, к которым д’Андре рекомендовал Робину обратиться, свидетельствуют о том, что французский эмигрант имел неплохую информацию о происходящем в правительственных кругах Парижа. Робин привез письма к депутатам Конвента Шабо и Жюльену из Тулузы, которые вскоре были вовлечены в политический скандал, связанный с делом Ост-Индской компании (об этом ниже). Робин имел встречу с Дантоном, который заявил, что Франция не желает никаких завоеваний (кроме Савойи), выступает за признание независимости и за союз с Бельгией (Робин в своем отчете, доставленном в английское военное министерство, ошибочно писал: «Голландией». Он явно спутал Австрийские Нидерланды с Нидерландами — Голландией). После консультации с членами Комитета общественного спасения Дантон направил через Робина и отправившегося вместе с ним швейцарца профессора г. Хайстера предложения, которые в Дондоне д’Андре изложил в специальном меморандуме британскому премьер-министру Уильяму Питту.
Проблема войны и мира остро стояла в конце 1793 года. Военные успехи (взятие Тулона, поражение вандейцев, победа генерала Гоша в Германии и др.) ослабили стремление к миру части тех, кто недавно еще считал переговоры с неприятелем единственным разумным выходом из сложившейся ситуации. Однако мотивы сторонников продолжения войны были различными. Одни видели в этом средство путем новых военных успехов добиться упрочения нового строя, созданного революцией. Другие, в том числе эбертисты, продолжали поддерживать идею «революционной войны», «освобождения» других народов, создания «универсальной республики» с центром в Париже (эту идею настойчиво проповедовал Анахарсис Клоотс).
Дантон был наиболее влиятельным политиком, считавшим целесообразным заключение мира. Если верить информаторам главы роялистской разведки графа д’Антрега, до начала декабря 1793 года и Робеспьер, и Дантон стояли за скорый мир без аннексий или по крайней мере за мир с Англией (принималась в расчет и вероятность падения кабинета Питта). В депеше д’Антрега, посланной в Лондон 31 января 1794 года, говорилось, что якобы 20 января французский министр иностранных дел Дефорж ознакомил Комитет общественного спасения с письмом, полученным на имя Дантона от д’Андре через некоего Роблена (явное искажение фамилии Робина). К этому времени Робеспьер уже принял решение продолжать войну. 7 января он выступил с речью, содержащей резкие обличения английского правительства; были введены суровые меры против англичан, еще находившихся во Франции. Между тем Дантон продолжал считать нужным заключение мира с Англией. Д’Андре и его покровитель английский дипломат Майлс пытались в январе и феврале продолжать переписку с Дантоном; он не ответил им, но переговоры зашли достаточно далеко, чтобы скомпрометировать вождя «снисходительных» — как стали именовать дантонистов за их требования о смягчении террора (через полгода в аналогичном положении оказался сам Робеспьер).
9 ноября 1793 года английский дипломат и разведчик Ф. Дрейк в письме из Генуи британскому министру иностранных дел сообщил, что 17 октября в Париж прибыл некто по фамилии Болдуин, имевший там встречи с членами Комитета общественного спасения и Коммуны Эро де Сешелем, Дефоржем и Эбером. 19 января Дрейк вновь сообщал, что Болдуин был арестован, но потом освобожден по приказу Коммуны «без получения согласия Комитета общественного спасения и вопреки Робеспьеру». Ссылаясь на депеши Дрейка, историк А. Матьез именовал Болдуина «ярым якобинцем». Однако, как указывалось в литературе, знаменитый историк был введен в заблуждение сознательно двусмысленной фразой Дрейка: «Болдуина представляют ярым, отчаянным якобинцем». Видимо, Дрейк считал, что в Лондоне и так отлично известно, кем был Болдуин на самом деле.
Английский историк Н. Хеймпсон нашел во Французском национальном архиве анонимное письмо от 23 марта 1794 года, из которого явствовало, что этот бывший английский учитель, преподававший в Орлеане, Артуа и Провансе, являлся британским агентом и все еще находился под арестом как британский шпион. Тем более интересно его свидание в октябре 1793 года не только с Эро и Дефоржем, уполномоченным заниматься иностранными делами, но и с Эбером, не имевшим к этому прямого отношения. Однако вполне возможно, что Эро, Дефорж и Эбер принимали Болдуина не как английского агента, а как «ярого якобинца», кем, по словам Дрейка, того «представляли». Упомянутый выше дипломат и разведчик У. Майлс писал в феврале 1794 года: «Влиятельные лица, связанные с французским правительством, выразили желание увидеть восстановленным мир между двумя нашими странами. Я конфиденциально информировал об этом мистера Питта».
Член Конвента дантонист М.-А. Бодо, очень осведомленный современник, в своих воспоминаниях писал: «Вероятно, предложения были сделаны Англией сначала Дантону, а потом Робеспьеру. Они имели несколько совещаний по этому вопросу… Дантон был умерщвлен, чтобы Робеспьер остался хранителем тайны этих переговоров. Англичане Сертон и Воген были агентами (через них вели переговоры. — Е. Ч.)».
До сих пор в нашей историографии, с одной стороны, «рационализировали» разногласия между Робеспьером и Дантоном в политических вопросах, а с другой — проходили мимо тех обвинений, которые были предъявлены дантонистам в Революционном трибунале, или прямо отвергали, чтобы спасти их личную честь как революционеров. Но надо ясно понять, что, оправдывая их, наша историография тем самым прямо обвиняет Робеспьера, который еще накануне ареста Дантона вел с ним переговоры о союзе, а через считанные дни инкриминировал ему сотрудничество с врагами Франции. Не означает ли признание того, что Робеспьер на деле следовал принципу «цель оправдывает средства», что, прокламируя идею добродетели, он действовал исключающими ее методами? «Как мог человек, которому чужда всякая идея морали, быть защитником свободы?» — писал Робеспьер о Дантоне. Как согласуется «идея морали» с поведением самого Робеспьера, если принять утвердившуюся у нас интерпретацию мотивов его поведения?
Внешняя политика, которую проводил Робеспьер, была значительно более изобретательной в отношении средств, использовавшихся для достижения поставленных целей. Поскольку, не доверяя ни официальному внешнеполитическому ведомству, ни курирующим его членам Комитета общественного спасения, Робеспьер вынужден был действовать, используя собственных секретных агентов, и переписка между ними не сохранилась, историки вряд ли смогут составить достаточно полное представление о многих сторонах дипломатии Неподкупного. В частности, о его усилиях не допустить объединения сил «чистых» и конституционных монархистов, разобщенность которых не только ослабляла лагерь контрреволюции, но и затрудняла совместные действия иностранных держав против Республики. Видимо, в этой связи следует рассматривать его интерес к группе бывших фейянов в Швейцарии — Теодора Ламета, Бремона, Матье-Дюма и установивших с ними контакты Малле дю Панна и Мунье, в свою очередь связанных с Лон Джоном.
Весной 1794 года трещины в антифранцузской коалиции стали заметными. «Кажется очевидным, что король Пруссии хочет мира», — передавал в Париж сведения, полученные в начале апреля из Франкфурта, французский представитель в Швейцарии Бартелеми. Он был весьма осведомленным лицом. В начале 1794 года министр иностранных дел Дефорж по поручению Комитета общественного спасения перевел Бартелеми 100 тыс. экю золотом и поручил возглавить разведывательную службу, направить секретных агентов во все столицы неприятельских держав с целью сеять несогласие и раздоры между ними. Бартелеми, как он утверждал, «под различными предлогами» отказался от выполнения поручения.
Двойным (или, вернее, тройным) агентом, очевидно, был французский дипломат, ближайший сотрудник Бартелеми Бюшо; назначенный робеспьеристским Комитетом общественного спасения главой разведывательного центра в Швейцарии (формально — национальным агентом в Базеле), он направлял в Париж очень полезную информацию. Но не меньший интерес к поставляемым им сведениям проявлял и прусский дипломат и губернатор Невшателя Гарденберг. Впрочем, Бюшо находился еще вдобавок и на австрийской службе, как и на прусской, еще с дореволюционных лет. Один из тайных агентов, Монгайяр, утверждал, что комитеты «бесстыдно хвастались», будто получают разведывательные данные о всех тайнах европейских кабинетов. «Трудно будет, однако, отрицать, что несколько важных операций стали им известны задолго до их осуществления».
Граф Монгайяр, осуществлявший контакты между Парижем и Веной, видимо, стал двойным или тройным шпионом и подвизался в этой роли еще в течение добрых двух десятилетий. «Я никогда не был и никогда не буду сторонником и наемником врагов моей Родины», — так горделиво начинал Монгайяр свое повествование, изданное в 1804 году в Париже, о том, как он — на деле в качестве английского шпиона — склонял к измене генерала Пишегрю. Свои действия Монгайяр объяснял имевшимися у него иллюзиями в отношении бурбонских принцев, теперь же (во Франции правил Наполеон) «отдалился от них, полный презрения, которое возбуждают люди, претендующие на права, присущие им по происхождению, а не по храбрости и достоинствам». Тут же, естественно, дается отповедь и бывшим нанимателям: «Вся моя ненависть обратилась к кабинету, уже восемь лет торгующему несчастьями Европы, к кабинету — подстрекателю стольких беспорядков и махинатору, повинному в стольких преступлениях». В 1794 году Монгайяр разом обслуживал многих клиентов, в том числе и «кабинет, торгующий несчастьями Европы». По утверждению Монгайяра, на аудиенции, которую ему дали австрийский император Франц II в Брюсселе и английский командующий герцог Йоркский, он убедился, что они имели ложные и крайне ошибочные представления о событиях в Париже и что «страх, который вызывал у них Комитет общественного спасения, был равен их неведению того, что там обсуждалось». Однако, возможно, дело было не столько в «неведении», сколько в недомыслии, неумении более или менее правильно осознать полученную информацию.
Другой эмигрант, английский шпион Вертей, характеризуя Монгайяра — «горбун с искрящимся умом и храбрец», отмечал, что его коллега (граф ведь также состоял на службе в британской разведке) ввязался в авантюру. Тот же Вертей, просматривая по заданию командующего австрийскими войсками в Бельгии генерала Клерфайта и другого австрийского генерала, Мака, перехваченную корреспонденцию, обнаружил, что при посредстве Монгайяра 19 мая 1794 года начались переговоры между австрийским правительством и Робеспьером и что эти переговоры тщательно стараются скрыть от Англии. Об этом Вертей исправно сообщил своим тайным (в отличие от явных, австрийских) нанимателям, точнее, британскому министру иностранных дел Гренвилю.
Через пять дней после переворота 9 термидора французский дипломатический представитель в Базеле Бюшо в письме к послу Бартелеми, уже именуя Робеспьера «новым Кромвелем», уверял, что тот якобы «согласовал свои действия с Австрией; этим объясняется намек, сделанный одним представителем императора». Бартелеми через месяц в письме к Бюшо в свою очередь констатировал: «Несомненно, что Венский двор приступил к переговорам с Робеспьером через посредство графа де Монгайяра. Несомненно, что иностранные дворы ожидали узреть Робеспьера диктатором и надеялись затем завершить дело. Прусский посол в Берне сказал по поводу смерти Дантона: “Наконец Робеспьер станет диктатором и будет известно, с кем переговоры”».
После встречи с императором Францем II «горбун с искрящимся умом» — Монгайяр — отправился по приглашению герцога Йоркского в Лондон, где состоялась его беседа с Питтом. Монгайяр утверждает, что Питт в беседе с ним якобы отзывался весьма сдержанно о Робеспьере и вместе с тем холодно воспринимал обвинения против него. По словам Монгайяра, Питт заявил: «Смерть Робеспьера — это важнейшее событие для Франции и всего мира, она вносит беспорядок во многое. Нужно посмотреть, что произойдет, я не думаю, что…» Здесь британский премьер неожиданно прервал разговор о 9 термидоре и не захотел больше касаться затронутой им темы. Вскоре после этой беседы, состоявшейся в самом конце июля или в августе 1794 года, Монгайяр должен был покинуть Англию, может быть, потому, что английское правительство потеряло к нему интерес (хотя и не отстранило совсем от службы). В своем донесении уже упомянутый Вертей писал, что «Робеспьер обязался конституционным путем восстановить на престоле юного короля; им должен был быть образован регентский совет, который он бы возглавил». Насколько достоверны эти сведения? Надо учитывать, что одной из целей Вертея было скомпрометировать своего соперника — Монгайяра. Кроме того, он муссировал широко распространившиеся слухи о тайных переговорах между Францией и Австрией.
Со слов французского публициста аббата де Прадта, находившегося тогда в эмиграции в Бельгии, стало известно, что видный австрийский дипломат граф Мерси д’Аржанто вскоре после 9 термидора вздыхал: «Какая жалость, что господин Робеспьер не прожил еще несколько недель: он стал бы хозяином Франции, император, мой государь, признал бы его как главу правительства, и мы сразу заключили бы мир». Надо лишь добавить, что эти сведения переданы опять-таки Монгайяром, который утверждал, что Робеспьер «поддерживал тайные связи с кабинетами Вены и Лондона, а также с братом казненного короля, будущим Людовиком XVII, в Хэме».
В мемуарах прусского министра Гарденберга, изданных в 1828 году, говорится о том, что к лету 1794 года в Вене и Лондоне возникло убеждение относительно Робеспьера как человека, с которым можно и нужно вести переговоры. Это убеждение разделялось также в Риме, Турине и Мадриде. Прусский дипломат Герцберг в свою очередь настаивал на ведении Берлином переговоров, опасаясь, как бы Пруссию не обошли ее союзники. Осторожный зондаж производился британской дипломатией через Б. Вогена, переписывавшегося с Робеспьером, а возможно, и через других лиц. Французский дипломат Сулави в донесении из Женевы от 10 августа 1794 года, явно подлаживаясь под нападки термидорианцев на Робеспьера, писал, что тот, мол, «вел переговоры (путями, которые вы легко раскроете в Париже): 1) со всеми правительствами, находящимися в войне с нами, и 2) со всеми аристократическими партиями в нейтральных странах». В переговорах с Англией, по уверению Сулави, Робеспьер предусматривал превращение Франции в государство, возглавляемое одним или двумя лицами, подобно тому как это было в Древнем Риме.
В письме к д’Антрегу от 14 термидора (оно написано симпатическими чернилами и ныне только лишь частично поддается прочтению) роялистские агенты утверждали, имея надежный, по их мнению, источник информации, что Робеспьер якобы готовился к заключению мира с Австрией, который предусматривал возведение на трон дофина, при котором сам Робеспьер занял бы пост регента. Роялистское подполье крайне враждебно относилось к этому плану, считая, что он противоречит интересам бурбонских принцев и эмигрантов. В письме отмечалось, что для осуществления этого плана Робеспьер пытался заменить члена Комитета общественного спасения Карно на посту руководителя военными операциями. Последнее, возможно, соответствовало действительности, поскольку позднее на допросе сторонника Неподкупного Симона Дюпле спрашивали, что ему известно о намерении Робеспьера руководить армиями.
Совсем необязательно верить всем слухам о планах Робеспьера, чтобы не отвергать сведений о его секретных переговорах с целью положить конец войне. Возможно, сожаления о гибели Робеспьера высказывались в связи с тем, что он был известен как сторонник оборонительной и противник завоевательной войны. Эти настроения проникли даже в печать. Английская «Таймс» через три недели после 9 термидора писала о том, что Робеспьер мог рассчитывать на долгое пребывание у власти, что он был неподкупен, но политика террора породила массу врагов, а как обходиться без него, «стремясь стать руководителем революционного правительства, которое может существовать только в бурях и борьбе фракций». Газета осуждала не Робеспьера, а революционное правление, вынуждавшее Неподкупного прибегать к террористическим актам. Историк А. Оливье, доверяя ходившим слухам, даже делает вывод: «Все заставляет думать, что Робеспьер действительно помышлял о подписании мира и признании королем Людовика XVII».
Один из авторов «экстравагантных» «непризнанных» гипотез касательно загадок революционного времени, А. Луиго, писал: «Робеспьера после его смерти обвиняли в тирании именно те, кто поклялся умертвить его без всяких оснований. На деле поведение Робеспьера значительно лучше объясняется государственной тайной, которую он должен был сохранять внутри комитета на протяжении немногим более двух месяцев с целью избежать постоянной утечки сведений за границу». Суть концепции Луиго в том, что Робеспьер был связан с роялистским заговорщиком бароном де Батнем и спасал его от преследования, поскольку тот был агентом «группы давления» в Берлине, с которой Неподкупный вел переговоры о мире! По мнению А. Луиго, Робеспьер использовал Монгайяра для переговоров с Австрией, которые служили лишь прикрытием переговоров с Пруссией, проводившихся через Бюшо и банкира Перрего, с прусским послом в Швейцарии Гарденбергом. Луиго утверждает, что М.-А. Бодо раскрыл факт переговоров Робеспьера с англичанами, которые проводили члены оккультного ордена розенкрейцеров Эдуард Сертон и Бернард Воген (орден имел в то время немало приверженцев в придворных и правительственных кругах Пруссии).
Многое из сведений о тайной дипломатии Робеспьера пока не может быть подтверждено документально и основано на пересказе слухов или даже на сознательных инсинуациях. А почва для них создавалась уже тем, что одни члены правительственных комитетов — каковы бы ни были их побуждения и цели — вели свою собственную секретную дипломатию втайне от других, когда единство правительства все более подрывалось внутренними разногласиями. Обнародование же данных о таких переговорах или даже просто сообщение о них под строжайшей тайной присяжным Революционного трибунала стало удобным средством повлиять на тех из них, кто колебался при вынесении смертных приговоров, тем более что большинство остальных обвинений были заведомо вымышленными.
Надо лишь иметь в виду, что тайная дипломатия Дантона и Робеспьера была далеко не единственным каналом связи между влиятельными политиками в Париже и дипломатами неприятельских государств и роялистской агентурой.
БАРОН ДЕ БАТЦ И РОБЕСПЬЕР
Барон де Батц, имя которого постоянно маячило за кулисами событий, происходил из гасконской дворянской фамилии, к которой принадлежал и живший до него за полтора столетия Шарль де Батц — Кастльмор д’Артаньян, которого уже через полвека после французской революции обессмертил Александр Дюма в своем цикле романов о трех мушкетерах. Разумеется, барон де Батц (хотя он, возможно, и слышал о «Мемуарах д’Артаньяна») никак не мог, конечно, предполагать, что его роду предстояло стать знаменитым, и, может быть, мечтал достигнуть славы, осуществив реставрацию свергнутой монархии. Мы говорим «может быть» потому, что все связанное с действиями Батца окутано дымкой неопределенности, позволяющей строить самые, казалось бы, невероятные предположения. История деятельности Батца не получила полного освещения в историографии прежде всего из-за отсутствия документов, которые проливали бы свет на многие секреты барона. Таких документов по понятным причинам либо вовсе не существовало (конспираторы не любят оставлять опасных следов), либо — поскольку речь шла о документах, исходивших от властей, — они сознательно искажали реальную картину событий.
Нельзя не учитывать также, что большая часть ключевых фигур, вовлеченных в эти действия, весной и летом 1794 года погибла на гильотине. Скорее, еще при жизни они были крайне заинтересованы в утаивании многих важных обстоятельств, являвшихся ключом к сложной интриге, затеянной Батнем. Напротив, нагромождая вокруг нее явные вымыслы, сам барон также предпочитал позднее давать различные и почти в равной мере ложные сведения о своих поступках. Один из биографов Батиа, известный историк правого направления Ж. Ленотр, писал: «Несомненно, что барон де Батц вел подлинную запись своих деяний, тайную историю революции. Его дневник был в префектуре департамента Сены или в архивах полиции еще в 1816 году и, конечно, оставался там забытым до 1871 года. Однако эти архивные фонды были сожжены Коммуной (во время Парижской коммуны. — Е. Ч.), и дневник барона безвозвратно утерян». В конце XIX в. некоторые историки-республиканцы относили к числу монархических басен сведения о попытке Батца освободить в январе 1793 года Людовика XVI, а в последующие месяцы — Марию-Антуанетту и ее сына. Это вызвало протесты, поскольку факты достаточно документированы, чтобы сомневаться в них. Кроме того, отрицая действия монархистов, эти историки невольно лили воду на мельницу клерикалов и других реакционеров вроде П. Тэна, доказывавших якобы полную бессмысленность революционного террора.
В конце XIX и начале XX в. появилось несколько солидно документированных книг о Батце — это прежде всего исследование Ж. Ленотра «Роялистский заговорщик во время террора: Барон де Батц. 1792–1795» (Париж, 1896), которое переиздавалось, а также переводилось на иностранные языки. Академик Е. В. Тарле слишком сурово писал о Ж. Ленотре, называя его «изящным великосветским сказочником». Не меньшее значение имел двухтомный труд барона де Батца (потомка заговорщика), основанный на семейных архивах, хранившихся в замке Мирпуа, — «Жизнь и заговоры Жана, барона де Батца». На этих исследованиях базировались и другие работы о Батле, например опубликованная в США книга М. Минниджерод «Сподвижник Марии-Антуанетгы: Карьера Жана, барона де Батла, во время французской революции», а также многочисленные монографии, посвященные Марии-Антуанетте, истории роялистов, монография П. Ляфю «Трагедия Марии-Антуанетты и заговоры с целью спасения королевы» и т. д. Наконец, в последние годы появились новые работы о Батие, о которых речь пойдет ниже.
Авторы двух основных работ о заговорщике — Ленотр и де Бати — по сути дела воспроизводят те оценки, которые давались роли этого главаря роялистского подполья революционными властями в 1793 и 1794 годах (хотя и отрицают его тесную связь с иностранной разведкой). Более того, Ленотр) считает, что, не учитывая роли барона, нельзя понять причины, по которым революционные вожди, ранее действовавшие в согласии, имевшие общие интересы и знавшие, что раздоры приведут их и Республику к гибели, тем не менее вступили на этот роковой путь. Непонятно, «как эти люди неожиданно, как в припадке галлюцинации, вдруг начали ненавидеть, подозревать, разоблачать и убивать друг друга и пошли на плаху с таким смирением, которое близко к фанатизму. Все они сгинули менее чем за один год».
Подобная позиция противостояла наиболее плодотворной, прогрессивной линии в развитии историографии, раскрывавшей борьбу классов, проявлением которой было столкновение различных политических группировок и их руководителей. Однако в результате возникла традиция пренебрежительно оценивать роль Батца и его агентуры, говорить о ней как о чем-то малозначительном, подчеркивать, что власти просто оправдывали ссылками на происки роялистского подполья расправу с политическими противниками. Позднее преобладание получило стремление считать вопрос о роли Баша открытым из-за отсутствия данных. Как полагал выдающийся историк Ж. Лефевр, махинации приписывались барону Башу «без убедительных доказательств». Известный английский историк Р. Кобб писал не так давно о «таинственном заговоре де Баша». Число подобных высказываний в новейших трудах по истории революции можно легко умножить. Историки говорят о «действительном» или «мнимом» заговоре Батиа. В этом есть своя логика. Против революции действовали несколько разведывательных центров; в отношении большинства из них имеются документальные свидетельства. освещающие разные стороны и формы их активности. Если говорить о деятельности Батца и его центра в 1794 году, то мы не имеем ни одного бесспорного доказательства попыток осуществить приписываемые ему планы свержения революционного правительства и удушения Республики. Одним словом, налицо только вопросы и загадки, которые породили самые экстравагантные гипотезы.
И все же нельзя ли пролить свет на этот «таинственный заговор Батиа»? А вопрос этот является крайне важным. Если заговор Батца — реальность, то он показатель того, какая смертельная, злокачественная опухоль развилась в самом верхнем эшелоне революционного лагеря. Если заговор является вымыслом, то, даже признавая элемент добросовестного заблуждения, можно ли преувеличить масштабы той колоссальной полицейской провокации, с помощью которой была насильственно устранена с политической сиены и из жизни большая часть лидеров якобинского лагеря?
Итак, нужно прежде всего выяснить, насколько реальным был сам заговор. А начать, естественно, следует с биографии самого барона в той мере, в какой это позволяют сохранившиеся и ставшие известными источники.
Барон Жан де Бати родился в 1754 году в Гаскони. В 18 лет этот невысокий юноша с орлиным носом и острым подбородком отправился, как некогда д’Артаньян, искать счастья в Париже и поступил в полк драгунов королевы. Через шесть лет в чине капитана он оставил военную службу и, установив наряду с великосветскими связями знакомство с видными банкирами, успешно занялся финансовыми спекуляциями, в частности игрой на повышение акций компании по торговле с Индией, монопольные права на которую, одно время отнятые, вновь были возвращены ей министерством Колонна в 1785 году. Амбициозный гасконец сумел оказать услуги самому Людовику XVI, удачно разместив займы, в которых была заинтересована казна. Высокое покровительство обеспечило Батцу получение чина полковника, ему уже мерещился министерский пост. Слухи о его успехах в столице дошли до родных мест, и он без труда добился выдвижения своей кандидатуры и избрания в 1789 году депутатом Генеральных штатов.
Разместив солидные суммы в английских банках, барон погрузился в крупную политическую игру. Уже тогда он вступил в резкое столкновение с герцогом Филиппом Орлеанским (впоследствии Филиппом Эгалите), которого считал своим опасным врагом. В качестве члена Учредительного собрания Бати принял поручение заняться «ликвидацией государственного долга» — речь шла о выплате возмещения лицам, ранее купившим различные должности, которые были уничтожены по решению этого законодательного органа. После неудавшегося бегства королевской семьи в Варенн Мария-Антуанетта, остро нуждавшаяся в деньгах, тайно обратилась за помощью к Батцу. Барон, ставший одним из главных действующих лиц секретной дипломатии короля, сумел раздобыть для него несколько миллионов ливров. Он завел агентов в Вене, Брюсселе, Лондоне, Женеве, не считая различных французских городов. Среди них фигурируют банкир Бертольд Проли, австрийские финансисты братья Фрей. В марте 1792 года Бати совершил поездку в Бельгию, вызвавшую особенное удовлетворение Людовика XVI. Во время падения монархии в августе Батц находился в Лондоне. В начале сентября мы застаем его в Бельгии, где он совещается с главным эмиссаром Марии-Антуанетгы графом Ферзеном, затем возвращается в Англию, где собирает большую сумму денег. 26 октября Батц возвращается во Францию, чтобы не быть внесенным в списки эмигрантов, а вскоре опять уезжает в Лондон, оттуда в Бельгию. Здесь 2 января 1793 года ему доставляют личное письмо Людовика XVI с просьбой отыскать средства для спасения короля, королевы и королевской семьи.
10 января «негоциант Жан Батц» появляется в Париже и начинает во время процесса Людовика XVI щедро раздавать крупные суммы, чтобы таким путем повлиять на исход голосования в Конвенте по вопросу о судьбе короля. Батц рассчитывал с помощью нескольких сот роялистов освободить Людовика XVI по пути к месту казни. Служащий Комитета общественной безопасности Габриель-Жером Сенар рассказывает о попытке мобилизовать от 400 до 500 роялистов и отбить короля на бульваре Боннувель, на углу улицы Дюн, рядом с церковью Сен-Дени. Власти, информированные об этих планах, отдали приказ, чтобы молодые мужчины под страхом наказания за участие в заговоре явились на указанные им сборные пункты по месту жительства. Несколько человек пытались все же побудить уличную толпу напасть на воинскую команду, сопровождавшую карету, в которой везли Людовика XVI. Главой всего предприятия (о котором писали в своих мемуарах роялисты, в частности Гай де Невиль) Сенар считал барона Батца, с которым уже после 9 термидора он лично познакомился. В числе участников был секретарь барона — Лево, впоследствии опознанный в тюрьме.
Принятые властями меры помешали успеху заговора. На призыв Батца никто не откликнулся. Через несколько дней барон тайно покинул французскую столицу и, прибыв в Лондон, несомненно, с помощью британских властей, сумел добыть новые крупные суммы. 13 февраля 1793 года Бати снова в Париже. Созданная им подпольная организация действовала совершенно независимо и без связи со шпионской сетью, сплетенной другими роялистскими центрами, включая агентов д’Антрега. Батца и д’Антрега разделяла личная вражда. К тому же д’Антрег одно время строил планы установления конституционной монархии, а Батц стремился к полной реставрации старого порядка. Барон к тому же презирал чисто шпионские функции, которые выполняла сеть д’Антрега, предпочитая вмешиваться в ход событий, а не ограничиваться лишь сбором информации. Есть убедительные доказательства того, что Батц стоял за «заговором гвоздики». Но дальше туман, окутывавший действия Батца, быстро сгущается. Точнее, имеется немало сведений о том, что предпринимал барон, а также члены созданного им центра, но достоверность их сомнительна.
Из известных нам далеко не полных данных круг лиц, которые являлись друзьями, близкими знакомыми Батца и на содействие которых он мог рассчитывать, достаточно широк. Это маркиз де Гиш (носивший теперь фамилию Селиньон), Ля Лезадьер, Робер, Десарди и два секретаря барона. Один из них, Лево, благодаря покровительству жирондистского министра Клавьера, многим обязанного Батцу, стал служащим государственного казначейства. Другой секретарь, Балтазар Руссель, владел загородным домом, расположенным в Бриеконт-Робер. Этот дом мог служить временным убежищем для королевской семьи, если бы ее удалось увезти из Тампля. Из многих сообщников барона стоит назвать адвоката Тюлорье, накануне революции получившего известность своей зашитой «мага» Калиостро на процессе об «ожерелье королевы», графа де Марсана, жившего неподалеку от Лево, виконта де Пона. Бати умел использовать и личные связи с людьми, казалось бы, совсем других политических убеждений. Так, одно время он скрывался в доме человека, которого считали другом Робеспьера, судьи гражданского трибунала Гийо Дегебье (между прочим, деда знаменитого поэта Альфреда де Мюссе). С Батцем был связан влиятельный член Конвента Мерлен из Тионвилля.
Подходящие люди нашлись и среди высших чиновников Парижской коммуны. Одним из них, как можно предполагать, был генеральный синдик Луи-Мария Люлье. До революции он завоевал репутацию ловкого юриста, умело улаживающего сложные финансовые дела, семейные тяжбы дворянских семей, а позднее — нескольких эмигрантов. Он получил некоторую известность в 1789 году, соглашаясь безвозмездно вести дела бедняков. В декабре 1792 года Люлье был избран помощником прокурора Парижского департамента — важный пост, требующий постоянных контактов с муниципальной полицией. Как вспоминал впоследствии Батц, он, вероятно, с помощью одного подкупленного полицейского, добился встречи с Люлье. Прокурор-синдик Коммуны первоначально очень сурово принял явившегося к нему негоцианта Жана Батца. Барон испрашивал в качестве лица, ведущего торговые дела с иностранными партнерами, право в любое время ездить по своим надобностям за границу и возвращаться во Францию. Люлье запросил мнение тогдашнего министра финансов жирондиста Клавьера, кстати, бывшего служащего барона, относительно этого прошения. Получив ответ, что поездки Батца будут способствовать общественным интересам, Люлье предписал выдать ему «коммерческий паспорт», дающий право пересекать в любое время границу страны.
Батц обеспечил себе очень нужную возможность для контактов с английскими властями и эмигрантами, а также для отъезда в особо опасные моменты, точнее, бегства за границу, чем он не раз воспользовался.
…7 марта 1793 года произошло неожиданное. Полиция явилась в дом Русселя, где скрывался в тот момент Батц. Барон открыл дверь, назвавшись одним из своих ложных имен. Полицейские передали ему ордер на обыск и арест некоего барона де Батца, видимо, подписанный Люлье! После ухода полицейских Батц, приняв новое обличье, отправился в канцелярию Люлье в ратуше. О чем шел разговор между Батцем и Люлье, остается неизвестным, однако после встречи этот важный чиновник Коммуны стал активным сообщником барона. Укрывая его у себя дома, Люлье (наряду с министром Клавьером) помог Батцу получить свидетельство о благонадежности, опечатанная было квартира Батца на улице Менар (формально снятая на имя его любовницы актрисы Мари Гранмезон) была возвращена ее владельцу. Люлье активно участвовал в восстании 31 мая — 2 июня 1793 года, приведшем к падению жирондистов. 31 мая в качестве главного прокурора департамента он от имени революционных властей потребовал от Конвента уступить желаниям нации. Люлье предлагал ввести максимум на зерно — меру, против которой тогда возражали Робеспьер и Коммуна.
Люлье фигурировал в доносе Шабо. Согласно мемуарам адвоката и полицейского Сенара, Люлье обвиняли в Комитете общественного спасения в том, что он пытался привлечь на сторону Батца члена этого комитета Эро де Сошеля, которого, правда, безосновательно, подозревали в передаче секретной информации дипломатам вражеских государств. Вместе с тем зимой 1794 года Люлье наряду с Дюфурни (о нем ниже) подвергся критике в Клубе кордельеров за «модерантизм» (умеренность). Один из критиков Люлье, виноторговец Маршан, был арестован. За ним последовал и сам Люлье. Он был единственным оправданным в процессе дантонистов, хотя и оставленным в заключении. Люлье, видимо, считал себя конченым человеком. Однажды его нашли в камере мертвым (заколол себя кинжалом).
В числе других полезных знакомых Батца были графиня Рошуар, в прошлом хорошо знавшая Эбера; графиня Бофор, ставшая близкой приятельницей издателя «Отца Дюшена» и его жены, бывшей монахини, урожденной Гупиль; представительницы парижского полусвета — деклассированные аристократки мадам Сен-Амарант и графиня Линьер, содержавшие крупный игорный дом в центре Парижа, который посещало немалое число видных членов Конвента и где лившееся рекой вино развязывало языки. Любовница Батца актриса Мари Гранмезон была подругой Каролины Реми, любовницы Фабра д’Эглантина, и Луизы Дену ан, любовницы Делоне из Инжера. Это были самые первые нити связей, которые начал использовать Батц, приступая к осуществлению своих замыслов. Очевидно, в то время заговорщики убедились, что на осторожного Паша — мэра столицы — вряд ли можно рассчитывать.
В своей исповеди Шабо сообщал, что он впервые был с Делоне и Жюльеном приглашен на ужин к Батцу в Шаронне. Там он встретил своих знакомых по Якобинскому клубу — братьев Фрей. Они уверяли его, что в числе гостей барона нередко бывали Эбер, Фабр д’Эглантин, Бентабол и целый ряд других членов Конвента, в том числе член Комитета общественной безопасности Лавиконтери.
У Батца были широкие связи и в финансовых кругах. Среди знакомых дельцов он мог рассчитывать на активное содействие банкира Пьера-Венсена Бенуа из Анжера, о котором мимоходом уже говорилось на предшествующих страницах. Именно Бенуа, благополучно избежавший карающей руки революционного правосудия, ставший графом во время реставрации Бурбонов, был тем человеком, который не только обеспечивал финансирование махинаций заговорщиков, но и вовлекал в конспирацию лиц, пользовавшихся влиянием в политическом мире.
В окружении Батца оказались и люди, которых объединяло то, что они в большинстве своем были иностранными финансистами, вдобавок, по крайней мере внешне, лояльно относились к левым якобинцам. Среди них надо прежде всего назвать банкира Проли, считавшегося незаконным сыном многолетнего главы австрийского правительства канцлера Кауница и как соотечественника Марии-Антуанетты вызывавшего подозрения. Его другом был виноторговец из Бордо Франсуа Дефье, живший по соседству с капитаном тюремной охраны Кортеем, несомненным агентом Батца. Публично Дефье выступал сторонником самых крайних мер. 27 февраля 1793 года он предложил якобинцам настаивать на лишении мандатов тех депутатов Конвента, которые ранее высказывались за проведение плебисцита по вопросу о судьбе короля. Вместе с Проли и рядом других лиц Дефье создал центральный комитет народных обществ. Все они приняли активное участие в развертывании кампании по дехристианизации. Дефье был связан с членом Комитета общественного спасения Колло д’Эрбуа, и, быть может, это обстоятельство охладило отношения между Колло и Робеспьером. Дефье получал деньги от короля, и, по данным полиции, в его доме одно время скрывался Батц.
Дефье перетащил из Бордо в Париж португальца Перейру, который проявил большую активность в кругах левых якобинцев. В эту же группу входили Дюбисон, а также уже известные нам банкиры братья Фрей, родственники Шабо. С большим или меньшим основанием сюда можно причислить голландского банкира Иоганна Конрада Кока. Выходец из дворянской семьи, он, покинув родину, поселился в Пруссии, потом прибыл в Париж, где стал компаньоном крупного банкира Сарториуса-Шокара. (Некоторые биографические данные о Коке сообщил много позднее его сын, известный бульварный романист Поль де Кок.) Иоганн Кок громогласно объявлял о своей ненависти к пруссакам и австрийцам, стал активным членом Батавского комитета и в октябре 1792 года вместе со сформированным под эгидой этого комитета отрядом добровольцев — голландских эмигрантов — отправился в армию генерала Дюмурье. Позднее, во время допроса в Революционном трибунале, Кок признал, что делал займы в Голландии для передачи денег Дюмурье, что знал о предательских планах генерала, но считал их невыполнимыми. После бегства Дюмурье к австрийцам Кок в конце апреля 1793 года вернулся в Париж и вскоре установил близкое знакомство домами с четой Эберов.
Большинство из перечисленных выше иностранцев было названо в доносе Фабра в качестве иностранных шпионов. Этому нет прямых доказательств. Несомненно, они были агентами международных финансов, но это далеко не то самое, что агенты иностранных разведок. К тому же, как иностранцы, ведущие дела с зарубежными банками, они заведомо вызывали подозрение. Между тем эти лица не делали тайны из своих финансовых связей с заграницей, их деловая активность протекала как бы параллельно с выражением горячих республиканских чувств и даже эгалитаристских симпатий. В этом не было ничего исключительного, можно привести немало примеров аналогичного поведения деловых людей, не заподозренных в контрреволюционных настроениях, ведь французская революция была буржуазной, а якобинский блок, стоявший у власти, возглавляла наиболее решительная часть буржуазии.
Правдоподобным ли является провоцирование агентами Батца установления максимума, или эгалитарных требований? Правительство, может быть, из-за отрицательного отношения к таким мерам, не сомневалось, что они выдвигались скрытыми роялистами. Барер 24 февраля (3 вантоза) 1794 года, выступая в Конвенте от имени Комитета общественного спасения, говорил о максимуме как о «ловушке», подстроенной врагами Республики, орудии Лондона, «чье контрреволюционное происхождение забыто».
Правые историки пытались представить бессознательными или даже сознательными орудиями Баша целый ряд левых якобинцев, осужденных по процессу эбертистов (к этому нам еще придется вернуться). Орудиями Батца они считают даже представителя утопического коммунизма Луи-Пьера Дюфурни де Вилье, который служил уполномоченным по производству пороха (он подвергался нападкам за свою будто бы причастность к «делу Ост-Индской компании»), и одного из идеологов «бешеных», народного агитатора Жана Варле. Оба активно участвовали в свержении власти жирондистов, что, возможно, входило в планы Батца. Надо напомнить также, что якобинцы, осуждая «бешеных», обвиняли их в пособничестве роялистам. В бумагах Робеспьера, найденных после его гибели, Варле назван «слугой аристократии». Со своей стороны, Варле в одном из памфлетов писал, что «правительство и революция несовместимы», а позднее (уже в мае 1795 года) добавлял, что «питал омерзение и отвращение к террористическим декретам, обрушившимся с жестокой суровостью на всех французов». Не на этих ли настроениях сыграл Бати?
Первоначально, весной 1793 года, Батц обратил главное внимание на полицию Коммуны, используя, в частности, и ее ревнивое отношение к государственной полиции. Барон установил контакты с четырьмя (возможно, даже с пятью) полицейскими инспекторами. Среди них трое были приятелями ранее завербованного Мишониса. Один из этих полицейских, Фруадюр, стал следователем, к которому доставляли подозрительных лиц для принятия решения: задержать их или отпустить на волю. Двое других — Марино и бакалейщик Данже — как члены Коммуны занимались рассмотрением стычек на улицах. Вместе с Мишонисом они были судьями трибунала тюрьмы Дя-Форс во время сентябрьских событий 1792 года. Марино руководил также полицейскими шпионами. Четвертым был тайно сочувствовавший роялистам Суль. Инспектор наблюдал за секциями и народными сборищами, а впоследствии, как и Фруадюр, стал также следователем. Пятым агентом Батца, вероятно, был полицейский Мишель. Все они, за возможным исключением Суля, были в прямом смысле наемниками Батца, усердно отрабатывавшими получаемые ими деньги.
По-иному сложились отношения Батца с чиновником муниципальной полиции, мировым судьей Бюрланде. Сей образцовой служака отличался тем, что выбалтывал роялистам ставшие известными ему планы Коммуны и, кроме того, за деньги выпускал из тюрьмы богачей, арестованных как подозрительные лица. Знакомство Батца с этим продажным полицейским состоялось по инициативе самого Бюрланде. Как вспоминал позднее барон, дело началось с того, что один из прежних камердинеров Батца, находившийся весной 1793 года в услужении у его любовницы актрисы Мари Гранмезон, был посажен в тюрьму по обвинению в краже у своей хозяйки. Батц, считавший его верным и полезным человеком, навел справки и выяснил, что он был арестован по доносу другого слуги, совершившего кражу. Вора прогнали, но бывший камердинер оставался за решеткой. Тогда-то к Батцу и явился Бюрланде. Он разъяснил, что в качестве мирового судьи имеет доступ к арестованным, что познакомился со слугой Батла, убедился в его невиновности и готов содействовать его освобождению, если тот согласится некоторое время играть роль тюремного шпиона.
— Это все, что будет нужно? — спросил барон, переходя к сути дела.
— Нет, не все, — после некоторого колебания ответил Бюрланле. — Мне потребуется десять тысяч ливров. — И пустился в объяснения насчет необходимых расходов, которые надо будет сделать, чтобы добиться цели… Барон обещал подумать (ведь 10 тыс. ливров — немалая сумма) и дать ответ через три дня. Обдумав, он решил, что чиновник типа Бюрланле будет крайне полезен для подкупа других нужных людей в полиции. Бюрланле получил требуемые им деньги и вскоре оказался полезным: он согласился содействовать бегству королевы из Консьержери, но запросил за это 100, а потом 200 тыс. ливров. Считая, что напал на золотую жилу, полицейский стал усердно предлагать барону свои услуги, скорее, даже навязывать их. Однажды он показал барону ордер на арест его сообщника виконта де Пона. Арест должен был произвести Бюрланле. При встрече с де Поном полицейский разорвал ордер, заявив, что он основан на лживом доносе. Приведенный Бюрланде на эту встречу друг «посоветовал» виконту дать образцовому полицейскому чину 300 ливров, которые и были тому вручены.
Батц понял, что станет объектом шантажа со стороны Бюрланде, открыто похвалявшегося заставить барона, если тот желает спасти свою голову, заплатить 100 тыс. ливров. Батц получил известие, что Бюрланде готовится донести о «заговоре гвоздики». В ответ он послал в Комитет общественной безопасности донос, в котором обвинял Бюрланде в вымогательстве взяток и шантаже арестованных. Прошло несколько дней, Бюрланде оставался на свободе — не значило ли это, что будет арестован сам Батц? По поручению последнего одна из заговорщиц, маркиза де Жансон, отправилась к тогдашнему главе Комитета общественной безопасности Алкье. Родом из Вандеи, Алкье до революции был судьей. Избранный, как и Батц, в Законодательное собрание, он там свел знакомство с бароном. Мадам Жансон изложила Алкье суть дела, разъяснила, что Бюрланде возводит совершенную напраслину на Батиа. Выслушав маркизу Жансон, Алкье не сказал в ответ ничего определенного. Тогда еще более встревоженный Батц решился на отчаянный шаг — через несколько дней после беседы маркизы Жансон он сам явился на прием к Алкье.
— Вы должны были быть арестованы сегодня, — заявил ему председатель комитета. — Ордер на арест подписан комиссаром. все подготовлено… Но успокойтесь, ордер подложный. Как выяснилось, Бюрланде сфабриковал этот ордер. Оказывается, он уже прибегал к такой уловке для вымогательства денег.
Батц на время поспешил покинуть столицу, а 14 или 15 сентября Бюрланде был арестован. Но однажды тот уже был задержан и вскоре выпущен на свободу при прямом содействии агентов Батиа, Теперь надо было, напротив, добиться, чтобы арестованный полицейский оказался надолго за решеткой. Позднее Шабо в Надежде спасти себя разоблачением других заговорщиков писал: «В сентябре де Батц предложил миллион нескольким гражданам, имена которых мне не назвали, за организацию бегства бывшей королевы. Он не был арестован и нашел средство заставить арестовать его обличителей как единственных виновников этого преступного замысла, который он с ужасом отверг». Миллион, по мнению Шабо, явно предназначался Эберу и его друзьям. Но в сентябре Алкье еще не имел никакого представления ни о Батце, ни о его занятиях.
…Допрашивал Бюрланде один из руководителей полиции Коммуны — Фруадюр. Арестованный поспешил сообщить, что знал о попытке Батна организовать бегство королевы, что барон — агент иностранных держав. Бюрланде не подозревал, что дает показания одному из важных агентов Батца. Пытаясь спасти себя, Бюрланде продолжал в тюрьме Ля Форс свои интриги. Он связался с находившимися в заключении некоторыми обвиняемыми по «делу Ост-Индской компании» — Эспаньяком, генералом Вестерманом, а также с полицейским Озаном и др. К тому же Бюрланде много знал, неоднократно встречался с бароном. Этого было более чем достаточно, чтобы в июне 1794 года отправить его на гильотину. Кстати, Фруадюра ждала та же участь, что и некоторых других агентов Батиа в муниципальной полиции.
Еще один пример — Станислав Майяр, один из эбертистов, выполнявших функции полицейских Коммуны. Участник штурма Бастилии, Майяр, по прозвищу Крепкий Кулак, «отличился» во время самосуда над заключенными в тюрьме в сентябре 1792 года. Став одним из руководителей секции Сите, он в октябре 1793 года был арестован в период развернувшейся кампании дантонистов против эбертистов. В ноябре Майяр был освобожден за отсутствием улик, но снова арестован в декабре по решению Конвента. Клуб кордельеров остался равнодушным к судьбе Майяра. Стоит, однако, вернуться на несколько месяцев назад, когда Майяр во главе деклассированных люмпенов выполнял задания секции по аресту подозрительных лиц. Не менее подозрительным был и он сам. Если верить мемуарам Баша, в сентябре 1793 года Майяр предложил ему свои услуги, добавив при этом, что позднее барону придется дороже платить за спасение жизни. Батц, по его словам, не счел нужным принять предложение. После этого 30 сентября Майяр, действуя по приказу, пытался задержать барона. Произвести арест Маяйр поручил своему подручному — полицейскому инспектору Сильвиану Пафосу (возможно, подкупленному Батием) и Николя Верну, комиссару комитета секции Лепелетье. В сопровождении полицейского отряда Пафос и Верн обыскали дома, где мог, по их сведениям, скрываться Батц, но упустили его, арестовав Русселя и Мари Гранмезон. (В феврале 1794 года Майяра освободили, но в апреле того же года он умер от чахотки.)
История с Майяром показывает, что, даже когда представителями полицейских властей предпринимались попытки — из каких бы то ни было побуждений — арестовать Батца, им мешали их же собственные подчиненные. Дело в том, что, установив тесные контакты с влиятельными чиновниками муниципальной полиции (выше были названы лишь наиболее важные из них), барон завязал знакомства и с рядовыми полицейскими чинами, в том числе со шпионами типа Пупара и Армана, сыгравшего потом немаловажную роль в судьбе «заговора Батиа». Что же касается Русселя, арестованного по приказу Майяра, то на допросе секретарь барона отрицал какие-либо связи с заговорщиками. Его отпустили, правда, под надзор двух жандармов, которых он, подкупив, весьма скоро превратил в своих сообщников.
Видимо, особо полезным «другом» Батиа в Комитете общественной безопасности был угрюмый и сварливый адвокат Сенар, служащий секретарем этого комитета и редактором его протоколов. Не ужившись со своим начальством, он покидает этот пост. Сенар оставил очень нелицеприятные — и часто необъективные — характеристики Вадье, Амара и других руководителей комитета. Арестованный после 9 термидора как сторонник Робеспьера, Сенар впоследствии написал воспоминания о революционных годах — «Великая история великих преступлений». 11 ноября 1795 года Сенар попросил одного знакомого передать Батцу отрывки из своих воспоминаний (барон и сам тогда собирался писать мемуары), добавив: «Если мне не посчастливится увидеть барона, хотелось бы уведомить, что тот, кто ему столь многим обязан, не является неблагодарным». Поскольку после 9 термидора Сенар сидел в тюрьме, он, вероятно, был «обязан» Батцу за что-то, имевшее место до переворота.
Американский историк М. Минниджерод считает, что Жан Батц «подкупом проложил себе дорогу в самое сердце государственной полиции, в сфере ее контролирующего органа — самого Комитета общественной безопасности, всучив взятки некоторым его членам и набив карманы его секретаря Сенара — одного из тех людей-флюгеров, которые держат нос по ветру». «Фантастично, насколько спутанными оказывались все нити, когда в комитете обсуждался вопрос о внушающем страх Батце, — замечает далее Минниджерод. — Это должно было стоить Жану кучу денег. Например, смешно смотреть, как Амар задерживает свой доклад о «деле» Шабо, и, наконец, когда он представил его Конвенту, то постарался из всех сил обойти те разделы, которые касались Батиа и Бенуа. В результате по требованию Робеспьера доклад должны были переписать. А когда этот доклад был напечатан, он содержал столько типографских ошибок, что имя Бенуа стало читаться как Бенуат, а Батц как Бес».
И все же утверждение, будто тот или иной политический деятель был связан с теми или иными членами шпионского центра, нуждается в уточнении. Иногда такие связи могут говорить о каких-то политических контактах, об участии в различных махинациях с банкирами, поставщиками в армию и другими дельцами, часть которых подозревалась в том, что они являлись иностранными агентами. Но такие контакты могли и не иметь политической окраски или, как максимум, свидетельствовать о желании того или иного дельца, даже не уличенного еще в противозаконных деяниях, заранее заручиться дружбой влиятельных политиков, повода прибегнуть к покровительству которых так и не представилось. Некоторые из знакомых барона могли искренне считать его «негоциантом», чья лояльность Республике не раз официально удостоверялась властями и тем самым не подлежала сомнению. Вместе с тем нужно учесть, что важные участники событий, например Бийо-Варенн, Амар, Вадье, прожили долгую жизнь после 9 термидора, но, насколько известно, ни один из них не дал объяснений некоторым непонятным действиям правительственных комитетов весной 1794 года.
Достаточно просмотреть комплект официального правительственного органа — газеты «Монитер» с октября 1793 по июль 1794 года включительно (т. е. до переворота 9 термидора), чтобы понять, какое место в сознании современников занимал «заговор Батца». Широкие масштабы этого заговора стали несомненными для Робеспьера после ознакомления с доносом Шабо и особенно после получения более подробной информации от Фабра д’Эглантина. Из заметки, сделанной Неподкупным в записной книжке, следует, что он считал заговор грозной опасностью для Республики. Робеспьер записал: «Во главе этого заговора стоит барон де Батц». Тем не менее Э. Дакост утверждал, будто комитеты ничего не знали о Батце до начала апреля 1794 года. Это неправда, учитывая, что о роли Батца Шабо говорил и писал начиная с середины ноября 1793 года. Как бы то ни было, в апреле, по крайней мере формально, были приняты меры к поимке Батца. Однако, как мы увидим, когда агенты Батца предстали перед судом, общественный обвинитель Фукье-Тенвиль на основе закона от 22 прериаля легко сумел лишить их возможности сделать какие-либо разоблачения, неугодные властям.
Вскоре после 9 термидора барон издал брошюру с вызывающим названием «Заговор Батца, или День шестидесяти». Она была напечатана небольшим тиражом и уже в 1816 году представляла библиографическую редкость. Даже сам Батц не смог раздобыть и перечитать свое сочинение. (К началу XX в. было известно о двух экземплярах «Заговора…».) В этих мемуарах Бати изображает себя мирным обывателем, проведшим весь период якобинского правления «в состоянии почти тупой пассивности». Он уже предполагал бежать из Парижа, однако этому помешал арест друзей, которых он не мог оставить в беде даже с риском для жизни, но и не осмелился спасать. Батц, по его словам, скрывался в доме одного из не названных им знакомых. «И в то же самое время, — продолжал он, — убийцы представляли меня в виде нового Протея, принимавшего различные обличья, ускользавшего от надзора властей, проявлявшего самую изумительную активность… Я никак не мог представить себя имеющим такое важное значение, что от моей персоны зависели судьбы Французской Республики… Я утверждаю, — писал далее Батц, — что не принимал никакого участия ни в одном из событий, ни в одном из тех заговоров, вину за организацию и результаты которых возлагали на меня. Пойду дальше. Я утверждаю для сведения всех тех, кто незнаком со мной, что для меня было бы невозможным быть гражданином Республики, втайне злоумышляя против нее. Искать помощи и покровительства ее законов и использовать их против Республики показалось бы мне низким и трусливым. Я утверждаю, что, находясь во Франции, я не поддерживал никакой переписки, не имел никаких, ни прямых, ни косвенных, связей с королями, князьями, генералами и министрами, главным агентом которых пытались представить меня комитеты, ни даже с кем-либо из иностранцев и эмигрантов…»
Батц с негодованием отвергал приписывавшуюся ему роль тайного главы роялистских и иностранных заговорщиков не только в Париже, но и в Тулоне, Бордо, Лионе и Марселе. «Я заявляю, — писал Жан Батц, — что не принимал участия ни в одном из этих событий, ни в одном из заговоров, которые мне приписывают, не играл роль зачинщика или действующего лица». В итоге Бати уверял: «…период, к которому комитеты относят мои мнимые заговоры, был как раз временем, когда мое поведение отличалось строжайшей осмотрительностью, изолированностью от всякой агитации в Париже и во Франции».
Возникает вопрос: чем могли быть вызваны эти категорические заявления барона, написанные сначала как мемуары для себя, явно носившие печать потрясения в связи с казнью друзей и любимой женщины? Легальный въезд во Францию был для Батца в любом случае закрыт, пока продолжалась революция, что бы он ни писал в свое оправдание. Напротив, отрицание всякого участия в роялистском движении вряд ли могло бы прибавить ему лавров в глазах эмигрантов и иностранных держав. Так что мотивы такого отрицания, если оно было ложным, остаются непонятными. А в другом случае, в частном письме, Бати писал нечто совсем иное: «Я был в Париже во время, когда был принят одиозный закон от 22 прериаля (в июне 1794 года — Е. Ч.), с миссией столь важной, что было совершенно необходимо посвятить ей всю мою жизнь». И далее Батц приводит текст письма Людовика XVI от 2 января 1793 года, содержащего просьбу найти способ освобождения короля и членов его семьи. После Реставрации Батц опять по-иному рассказывал о своей роли в 1793–1794 годах, но настолько в общих словах, что они способны вызвать лишь сомнения…
Надо заметить, что Батц однажды все же угодил под арест. Это произошло в 1795 году, менее чем через неделю после попытки роялистского восстания, подавленного войсками, точнее, артиллерией Конвента, которой командовал молодой бригадный генерал Наполеон Бонапарт. Батц принимал участие в этой попытке. Барона узнал на улице бывший знакомый, добившийся его задержания. До допроса Батцу удалось незаметно засунуть в щель кресла компрометирующие его бумаги. Вскоре выяснилось, что некогда опасный заговорщик не очень-то интересовал термидорианский Комитет полиции. Ведь в конце концов он организовывал заговоры против Робеспьера! Несколько дней Батиа держали в одиночной камере. Возможно, власти предпочли бы просто забыть о нем, оставив за решеткой. Бати, поняв это, стал громко требовать либо суда, либо освобождения. После допроса с бароном решили не связываться: он знал слишком много, да и ни к чему было вызывать призраки недавнего прошлого. Батиа освободили, оставив под присмотром одного жандарма. Барон обладал достаточно весомыми аргументами, чтобы беспрепятственно исчезнуть вечером того же дня.
Такова внешняя канва событий, за которой снова проглядывает не то беспечность, не то особое благоволение властей. Однако случайный арест и столь же необычное освобождение лииа, считавшегося матерым заговорщиком и появившегося в Париже во время роялистского мятежа, не проливают свет на вопрос о реальности заговора в 1793–1794 годах. А еще через три месяца после этого ареста, 9 февраля 1796 года, один из лидеров термидорианцев, Тальен, на заседании совета пятисот заявил, что Батц держит в руках всю полицию Парижа… Итак, со стороны барона наблюдается то полнейшее, категорическое отрицание, то полупризнание некоторых фактов, к тому же относящихся к началу 1793 года, т. е. ко времени, когда, по утверждению многих других информированных современников, начал осуществляться «заговор Батиа». Где же правда?
Пытаясь ответить на этот вопрос, один из новейших авторов, касавшихся истории Батца, А. Луиго, подходит к ней с совершенно неожиданной стороны. Он считает главным затруднением при определении роли Батиа как руководителя большой подпольной организации выяснение его личности. Да, именно так. Разумеется, речь идет не о том, существовал ли вообще в конце XVIII в. выходец из Южной Франции барон де Батц; напротив, таких было несколько. И даже не о том, являлся ли какой-то из этих Батцев владельцем страховой компании, проживавшим на улице Вивьен в Париже и избранным в Генеральные штаты. Но ведь этот-то де Батц находился в эмиграции в 1793–1794 годах! Вопрос, следовательно, заключается в том, кто же на деле принял его имя и совершил приписываемые ему деяния (или по крайней мере важнейшие из них).
А. Луиго отвергает отождествление Батиа — главаря тайной организации — с гасконским бароном де Батием, которое, мол, является лишь «гипотезой Ленотра». Не считает правильным Луиго и предположение, сделанное еще членом Комитета общественного спасения Лазарем Карно, идентифицировавшее неуловимого барона с другим уроженцем Гаскони — кондитером, разбогатевшим в Париже и купившим свое избрание в Генеральные штаты. Один де Батц, выходец из Гаскони, эмигрировал в начале 1792 года в Нидерланды и стал адъютантом принца Оранского, которому поручались различные миссии. Этого де Батца можно обнаружить в его владении в Оверни уже после падения Наполеона в 1815 году и реставрации Бурбонов. Однако ничто не доказывает, что это он прибыл в Париж 1 июля 1792 года и вступил в тайный контакт с Людовиком XVI. Известно лишь, что в этот день король сделал в тетради, в которую он заносил денежные счета, следующую запись: «Возвращение и безупречное поведение г-на де Батца, которому я должен 512 000 ливров». Эта сумма, как отмечал еще Ленотр, далеко превосходит средства, которыми мог располагать Жан де Батц — член Генеральных штатов, превратившихся в Учредительное собрание.
А. Луиго понимает, каким препятствием для его концепции являются бумаги де Батца, хранящиеся ныне в архивных фондах французского военного министерства и явно отождествляющие гасконца и руководителя роялистского подполья. Луиго, однако, считает эти бумаги «творением Реставрации, сугубо подозрительными по своему содержанию», но ничем прямо не обосновывает высказанного им подозрения. Во всяком случае псевдо-Батц мог без особого труда приобрести собственность, принадлежащую Батцу с улицы Вивьен, в частности дом в Шаронне. Дом был фиктивно продан Жаном Батцем перед отъездом в эмиграцию брату актрисы Гранмезон за 10 тыс. ливров, тогда как при покупке в 1787 году за это здание было заплачено 36 тыс. ливров. В книге Ленотра дом в Шаронне изображается как центр заговорщиков. Там же поселилась актриса Гранмезон. Возможно, полагает А. Луиго, псевдо-Батц это сделал с целью скрыть, что в доме в Шаронне собирались на совещание его главные помощники — секретарь Лево, псевдомаркиз Гиш (подлинный Гиш уже давно эмигрировал), который для еще большей конспирации стал именоваться Селиньоном. По одному письму, захваченному при аресте Лево, можно судить о том, что в распоряжении псевдо-Батца находились крупные суммы — например, на его счете у голландского банкира Ванденивера находилось 216 тыс. ливров. Некоторым финансистам он был должен, другие были ему должны крупные суммы.
По мнению Луиго, эти данные, приведенные еще Ленотром, свидетельствуют о том, что деньги не могли принадлежать эмигранту Батцу и что, следовательно, их владельцем был псевдо-Батц (но ведь допустимо и предположение, что подлинный барон Батц мог получить эти средства от одной из неприятельских держав на создание шпионской и диверсионной организации). Что речь идет именно о псевдо-Батце, как считает Луиго, следует из того, что он привлек к участию в своих замыслах австрийских банкиров братьев Фрей, «двух бывших баварских иллюминатов (т. е. членов ордена иллюминатов), которые «с его помощью проникли через Гамбург во Францию и, изображая себя революционерами, без труда втерлись в якобинские круги». (Заметим, что в это время вопреки мнению Луиго ордена иллюминатов уже попросту не существовало!) Имея своих людей в Коммуне, псевдо-Батц решил распространить свое влияние на Комитет общественной безопасности. Таково было начало пресловутого «дела Ост-Индской компании», которое действительно послужило катализатором борьбы группировок внутри якобинского блока.
Но если Батц, глава заговора, — это не Жан Батц, то кто же тогда скрывался под именем барона? По мнению Луиго, следы псевдо-Батца надо искать в ирландских архивах. Некоторые данные, проливающие свет на то, кем был человек, принявший облик Батна, можно найти в работах ирландского историка Р. Хейса, обратившись, в частности, к его труду «Ирландия и ирландцы во французской революции» (Лублин, 1932) и др.
Надо в этой связи напомнить, что за столетие, предшествовавшее 1789 году, во Франции возникла довольно значительная ирландская колония. Ее основу составили ирландские католики, сторонники свергнутой в 1688 году в Англии династии Стюартов (якобиты), бежавшие от преследований британских властей и пользовавшиеся, с голами, правда, уменьшавшимся, благоволением французского двора. Позиция ирландской общины во Франции определялась рядом факторов. Прежде всего социальной неоднородностью самой эмиграции. Немалое значение имело то, что Франция считалась традиционной опорой ирландцев против их угнетателя — Англии. Когда британское правительство в 1793 году открыто возглавило антифранцузскую коалицию, для ирландских эмигрантов было естественно поддерживать традиционного союзника против извечного врага. Однако для значительной части эмигрантов оказалось совершенно неприемлемым французское революционное правительство и его политика. Большое значение имело столкновение революции с духовенством, с католической церковью, принадлежность к которой в Ирландии долгое время служила формой сплачивания народа для сопротивления иноземному угнетению.
Британская разведка пыталась использовать доверие, которым пользовались во Франции ирландцы, для насаждения своей агентуры. Одним из английских шпионов стал ирландский священник Николас Мэджет. В 1792 году, приехав в Париж, он изображал себя якобинцем. В октябре того же года Мэджет был избран главой ирландского колледжа в Париже. За него голосовали революционно настроенные студенты, которые забаллотировали прежнего ректора, аббата Керни, считавшегося роялистом. Однако уже в начале 1793 года Мэджет уехал в Ирландию, где стал яростно обличать революцию, и нанялся на службу в английскую разведку. В августе 1794 года Мэджет был арестован в Бресте, но вскоре ухитрился бежать из тюрьмы. В июне 1795 года он с фальшивым паспортом на имя американца Уильяма Бэраса, торговца текстильными и другими товарами, которые могли бы понадобиться французской армии, снова оказался во Франции. Впрочем, шпиона быстро разоблачили, и вопрос о нем даже обсуждался в Конвенте. Шпион предстал перед военным судом. Хотя против него не оказалось прямых доказательств, его продолжали держать под арестом. Но ему вновь удалось бежать из-под стражи. Он предъявил солидный счет английской секретной службе для возмещения сделанных им расходов. Мэджет выполнял разведывательные задания еще в течение нескольких последующих лет.
Уроженец графства Уэксфорд священник Чарлз Сомерс принял присягу верности новому устройству французского духовенства и, освобожденный от обета безбрачия, женился на вдове сапожника. Вращаясь среди столичных санкюлотов, Сомерс выдавал себя за ревностного революционера, хотя уже стал платным агентом английской разведки. Возможно, Сомерс даже выполнял роль одного из главных ее резидентов во Франции, сменив на этом посту полковника Джорджа Монро, который в 1793 году должен был скрыться из Парижа. В течение двадцати лет Сомерс регулярно, раз в неделю, посылал разведывательные донесения, содержащие секретные данные о французских армии и флоте. Во время революции этот агент использовал в качестве курьера другого ирландского священника, ставшего британским шпионом, некоего Ричарда Ферриса. Иногда действия Сомерса вызывали подозрения, в 1797 году он был даже арестован, но сумел выйти сухим из воды. Его разоблачили в 1813 году из-за случайной оплошности. Он был арестован и в тот же день расстрелян по приговору военно-полевого суда. Это лишь отдельные примеры деятельности выходцев из Ирландии, оказавших услуги английским разведывательным организациям во Франции в годы революции.
Среди ирландцев, активно участвовавших в событиях революционных лет, привлекает особое внимание граф Джеймс Луис Райс, сын Томаса Райса из Бэллимакдойла, в графстве Керри. Подобно многим представителям старинных ирландских дворянских родов, чьи владения были конфискованы англичанами за участие в якобитских заговорах, Райс еще в молодые годы покинул родину. Большинство таких эмигрантов, как уже говорилось, направлялись во Францию. Среди тех, кто преуспел там в деловом мире, был некий Джордж Уотерс, ставший банкиром. Его сын, также носивший имя Джордж, дослужился до чина полковника французской армии, был возведен Людовиком XVI в дворянство и позже стал банкиром в городе Нанте. Джордж Уотерс-сын поддерживал тесные связи с очень богатыми, пользовавшимися европейской известностью банкирскими домами в Париже и в ряде других французских городов, владельцами которых были ирландцы, в частности Кантилоны, Уолфи д’Арси, Диллоны, Кэны. Последние представляли интересы сестер полковника Пауэрса, который стал другом Джорджа Уотерса. А сам Пауэрс позднее женился на племяннице Уотерса Мэри, родной сестре Джеймса Дуиса Райса. Таковы были родственные связи молодого графа, когда он, покинув родную Ирландию, отправился искать счастье на континенте.
Райс завершил свое образование в Дувене, расположенном в Южных, тогда австрийских, Нидерландах. Вступив в ряды австрийской армии, он сумел отличиться, был возведен в сан рыцаря Священной Римской империи и даже стал близким другом императора Иосифа II, родного брата Марии-Антуанетты. Во время революции Райс находился во Франции. По некоторым свидетельствам современников, он, по крайней мере внешне, придерживался республиканских убеждений. Когда английским властям предложил свои услуги в качестве шпиона Ричард Феррис, они засомневались в его лояльности, поскольку этот бывший священник, уроженец графства Керри, был связан с Райсом. Возможно, сомнения возникли из-за ошибки — сам Ричард Феррис в письме к британскому министру иностранных дел просил не смешивать его, Ферриса, с однофамильцем — «неблагонадежным подданным, посланным проповедовать революцию в Ирландию» (речь явно шла о студенте ирландского колледжа в Париже Эдварде Феррисе). Заметим, что если даже Райс действительно поддерживал контакты с Ричардом Феррисом, то это еще ни о чем не говорило. Феррис до поступления на английскую службу был французским шпионом. Вообще это была весьма многогранная личность. Неприсягнувший священник, он, однако, вопреки церковным правилам женился, и притом дважды — сначала на ревностной стороннице якобинцев, а потом на рьяной роялистке, т. е. в зависимости от того, что соответствовало его ближайшим намерениям и выгодам…
О республиканских симпатиях Райса говорят и другие свидетельства современников, в частности его отношение к организации французской пропаганды в Ирландии. Однако известно и другое. Райс составил план бегства Марии-Антуанетты. Он подготовил подставы почтовых лошадей на всем пути от Парижа до побережья, там курсировал корабль, готовый доставить королеву в Дингл, в графстве Керри, где находилось поместье Райса. Все дело сорвалось, так как в последний момент Мария-Антуанетта отказалась одобрить этот план бегства.
Таковы факты, приведенные в монографии Хейса, основанной на обстоятельном изучении английских и французских архивов. В них содержится указание на существование какой-то тайной роялистской организации, в которой участвовали ирландцы, но нет упоминаний о ее связи с английской секретной службой и нет вообще ни слова о бароне Батце. В своей книге «Старинные ирландские связи с Францией», изданной в 1940 году, Р. Хейс лишь повторил почти буквально сказанное им ранее о плане Райса организовать бегство королевы в графство Керри. При этом Хейс считал, что Рейс был «значительной фигурой в то время во французской столице». К сожалению, ирландский историк, использовавший в своих работах широкий круг неопубликованных архивных материалов, нередко не указывает, откуда взяты те или иные приводимые им данные. Это целиком относится и к сведениям о Райсе и его подпольной организации.
Пытаясь отождествить Джеймса Райса с бароном Батцем, А. Луиго со своей стороны обращает внимание на один важный эпизод в биографии ирландца. В 1778 году, находясь в отпуске на известном курорте Бат в Англии, Рейс убил на дуэли виконта Адольфа Дюбарри, близкого родственника последней фаворитки Людовика XVI. Арестованный за участие в этой дуэли, Райс заявил судье, что он познакомился с виконтом в Париже в 1774 году, когда тот попросил оказать ему протекцию в Вене. Английский суд оправдал Райса. Возможно, причиной дуэли была враждебность Марии-Антуанетты к Дюбарри. Райс избрал себе псевдоним по имени памятного для него курортного места — барон де Бат. Спутать правописание и произношение «Bath» и «Batz» было совсем не трудно. Все действия, которые в 1793–1794 годах приписывались революционными властями барону Батцу, в действительности предпринимались Джеймсом Райсом. Как мы знаем, в его планы входила организация бегства королевы из Парижа в Дьепп, а потом в Дингл, в графстве Керри. Помощником Райса был некий Чарлз Трэнт Томас, родом из Дингла, бывший участник американской войны за независимость. После попытки совместно с Райсом освободить Людовика XVI Томас сумел скрыться от полиции с помощью своей жившей в Париже кузины по фамилии Фитнжеральд.
Джеймс Райс (лже-Батц) был связан с Жюльеном из Тулузы, с Делоне (тот называл лже-Батца маркизом Карабасом из сказки Перро) и с давним знакомым этого депутата банкиром Бенуа из Анжера, в свою очередь поддерживавшим контакты с английским банкиром Бойдом, фактическим представителем английского Форин офиса. Используя Делоне и Жюльена, лже-Батц совместно с друзьями Эбера сплели разведывательную сеть в Коммуне. Райс под именем Батца спровоцировал скандал с Ост-Индской компанией, имевший столь большие политические последствия. После казни сообщников ему оставалось только одно — исчезнуть. Это было нетрудно сделать, так как не была установлена его личность, и Райс буквально «испарился». (Известно, что он умер в 1794 году в Дингле.) После исчезновения Райса на сцене появился подлинный барон де Бати, участвовавший в роялистском мятеже против Конвента, который произошел в Париже в октябре 1795 года.
Луиго полагает, что фамилия заговорщика Rice, которую французы читали как Рис (Ris), послужила поводом еще одного недоразумения. В 1800 году отряд неизвестных лиц, переодетых гусарами, похитил сенатора Клемана де Ри (или Риса — Clement de Ris), которого держали в качестве заложника в отдаленном лесном убежище, угрожая пытками, и вели переговоры о выкупе. Потом неожиданно де Ри вернули свободу. Этот таинственный эпизод (кстати сказать, использованный Бальзаком в его повести «Темное дело») Луиго считает связанным с тем, что министр полиции Фуше спутал Клемана Риса с Джеймсом Райсом и хотел выведать у него, где находится будто бы похищенный им из Тампля дофин (сын Людовика XVI).
Но почему же лица, знавшие Батца, например его соседи по улице Вивьен или особенно обвиняемые по процессу сообщники барона, даже под угрозой казни ничего не сообщили о Батце? Да потому, по мнению Луиго, что они были знакомы с давно эмигрировавшим банкиром Батцем и не знали персонажа, который принял его имя. К тому же действия лже-Батца никак не вязались с их представлением о «маленьком бароне», финансовом спекулянте. Они не могли себе представить его верхом на коне, с саблей в руках, пытавшегося отбить короля от военного отряда, который сопровождал Людовика XVI на место казни. А. Луиго считает, в частности, что ни Шабо, ни Базир не были знакомы с Батнем ни накануне, ни в первые годы революции и не могли определить, является ли человек, принимавший их в своем роскошном доме в столичном предместье, липом, за которое он себя выдавал (это относится и к человеку, который представился там же депутатам Конвента как де Гиш). Вместе с тем Луиго почему-то прошел мимо факта, как будто говорящего в пользу его концепции, а именно: что Жан Батц, как мы знаем, отрицал свое участие в приписываемых ему заговорщических деяниях, причем тогда, когда ему незачем было лгать.
Однако кто же занимался этим опровержением — Жан Батц или Джеймс Райс? Утверждение Луиго, что неоконченные «мемуары» Батна — фальшивка, ни на чем не основано, а в них барон не упоминает ни о каком своем двойнике. Трудно представить себе, чтобы Батц ничего не знал о нем, и в период Реставрации у барона вряд ли могли быть особые резоны скрывать существование лже-Батца. Вообще с фактами, которые не укладываются в его концепцию, А. Луиго обходится достаточно вольно, точнее, он просто их обходит. Вот пример. Бывший агент Комитета общественной безопасности Сенар — очень осведомленное лицо — в 1796 году, через два года после 9 термидора, в письме к Батцу, рассказывал о том, что было известно властям о попытке организации бегства королевы из Консьержери. Между тем письмо явно адресовано подлинному барону де Батцу. Луиго ограничивается констатацией, что письмо было направлено «так называемому главе заговора, которым для всех был барон де Батц с улицы Вивьен». Но ведь Сенар должен был бы знать, что он обязан многим не подлинному, а мнимому Батцу! Скорее, здесь в пользу концепции Луиго говорит одна не отмеченная им деталь — в своем письме Сенар почему-то говорит о Батце в третьем лице, что вполне естественно, если он и адресат — разные люди. Однако и это не является доказательством, так как самые различные мотивы могли побудить Сенара именовать адресата в третьем лице.
Попытка отождествления Батца с Райсом фактически игнорируется историографией, в том числе авторами работ, нацеленных на сенсацию. Одними — из-за бездоказательности этого домысла, другими — из-за пристрастия к своим собственным, нередко столь же экстравагантным, гипотезам. Об остальных историках и говорить нечего — для них существует только Жан Батц, пытавшийся отбить у охраны Людовика XVI, глава заговора. Так, автор новейшей биографии Дантона (1984 год), говоря о событиях весны 1794 года, речь ведет именно о гасконском бароне.
В незаконченных мемуарах, которые были обнаружены в Мирпуа, замке Батца, он писал о причинах, заставивших его ополчиться прежде всего на стоявших в 1792 году у власти жирондистов: «Тем временем Жиронда, эти ее Верньо, Бриссо, Петионы и все, кого называли жирондистами-бриссотинцами, не хотели Республики, но они не хотели также и Людовика XVI. Они желали, чтобы Францией управлял регентский совет от имени малолетнего короля (дофина — Е. Ч.). Перспектива десяти лет главенства возбуждала их честолюбивые устремления. Этот план был последним, на котором они остановились, и он не был самым безрассудным». Разумеется, заговорщику-роялисту, не верившему в долговечность Республики, не улыбалась такая перспектива, которая, по его мнению, упрочила бы некоторые из завоеваний ненавистной Революции. Здесь для нас важно не то, насколько анализ Батца соответствовал действительности, а то, что барон исходил из этого анализа и мог поэтому стать на время «союзником» якобинцев, точнее, начать поиски среди влиятельных лиц из их лагеря людей, которых возможно было бы использовать в своих целях.
Ночью 5 апреля 1793 года генерал Дюмурье — ставленник жирондистов — перешел на сторону врага. Батц поддерживал секционную агитацию против жирондистов. 14 апреля Комитет общественной безопасности отдал приказ об аресте негоцианта Жана Батца, но тот был заранее предупрежден об этом (в архиве замка Мирпуа находятся донесения Сенара барону).
Тактика Батиа родилась из ситуации, сложившейся к концу 1793 года. Точнее, он пытался применять ее и раньше, но тогда она имела лишь очень небольшое влияние на ситуацию. Революция 31 мая — 2 июня 1793 года была событием, в котором активное участие принимали народные массы, когда Республика переживала самый тяжелый этап в борьбе с иностранной интервенцией и внутренней контрреволюцией, когда исход этой борьбы был еще далеко не решен. В этих условиях ставка на тайную войну, которую еще раньше сделал Батц, оставалась единственной, имевшей (или казалась имевшей) шансы на успех. Военные победы и начавшаяся дезинтеграция якобинского блока создавали почву для резкой интенсификации тайной войны против революционной Франции. Батц, видимо, очень низко расценивал шансы вандейцев, считая, что смертельный удар Республике можно нанести только в Париже. Во всяком случае среди бумаг, сохранившихся после смерти барона, так же как в документах вандейских руководителей, нет ни малейшего указания на сотрудничество между этими двумя силами контрреволюции.
Батц считал свой образ действий единственно эффективным: «Возбуждайте разногласия между главарями, и они кончат тем, что вместе скатятся в пропасть, которая разверзнется перед ними… сеять между ними недоверие и подозрения — это, несомненно, единственный способ организовать заговор против такого правительства и ускорить его падение». План барона («гигантская концепция Батца»), по мнению его биографа Ленотра, состоял в том, чтобы резко обострить борьбу между лидерами различных фракций. В результате Конвент станет местом, залитым кровью, и вызовет такой ужас и отвращение у народа, что тот сам склонится к реставрации монархии. Он рассчитывал с помощью контактов, а точнее, подкупов некоторых из главарей этих группировок фактически диктовать их поведение, которое на деле, по крайней мере до конца 1793 года, определялось важными социальными причинами.
Однако реальную возможность осуществления этих планов признавал не кто иной, как Сен-Жюст. Более того, в своем знаменитом докладе 13 марта 1794 года в Конвенте, накануне ареста эбертистов, он заявил, что «все заговоры объединены воедино… Фракция «снисходительных», которая желает спасти преступников, и иностранная фракция, которая горланит, потому что она не может действовать иначе, не разоблачая себя… сближаются, чтобы удушить свободу». Планы Батца «натравить» друг на друга различные фракции революционеров, или, как их именовала роялистская эмиграция, «злодеев» и «разбойников», были вполне в духе ее идеологии и психологии и до 9 термидора, и в последующие годы. «Купить вождей термидорианской реакции, чтобы с их помощью путем внезапного переворота овладеть Парижем; купить важного военачальника, вроде Пишегрю, чтобы повернуть штыки против Конвента, — дальше этого их тактическая изобретательность не шла», — справедливо писал выдающийся советский историк Е. В. Тарле о планах роялистов после 9 термидора.
Возвращаясь к «иностранному заговору» начала 1794 года, заметим, что его руководитель — кем бы он ни был — вряд ли вдавался в глубинные социальные причины, порождавшие раскол среди якобинцев. Это не было свойственно людям его лагеря, хотя некоторые наиболее умные из них осознавали смысл тех или иных фактов, характеризовавший эти причины. (Такая относительная проницательность была в значительно большей степени свойственна иностранцам, особенно английским политикам — представителям буржуазной страны, не питавшим особых чувств к «ценностям» феодального строя.) Однако руководитель заговора явно должен был понять, что непосредственной причиной свержения революционного правительства может быть лишь нараставшая внутренняя борьба в лагере якобинцев и главная ставка контрреволюции должна быть сделана на всяческое разжигание этой борьбы.
По сути дела тактика Батца сводилась к тому, чтобы превратить объективно существовавшие разногласия по проблемам социальной и религиозной политики в непримиримую политическую конфронтацию, к попыткам каждой из группировок любыми доступными методами уничтожить остальные «клики». Эта тактика была нацелена на обострение разногласий в оценке сложившейся ситуации, источником которых было различие классовых интересов. То, что было по существу разногласиями в рамках одной и той же якобинской программы, трансформировалось в сознании участников борьбы в столкновение революции, к которой относили собственную партию, и контрреволюции вкупе с иностранными шпионами. К ним причисляли лидеров враждебной группировки монтаньяров, вожди которой вдобавок считались прямыми агентами неприятельских держав. Ведь даже пресловутые бесчестные «амальгамы» устраивал на процессах в Революционном трибунале не единолично Фукье-Тенвиль; он лишь выполнял волю правительства, пытаясь представить мнимые доказательства (поскольку под рукой не оказалось действительных) того, в чем и так было убеждено большинство членов обоих комитетов.
Робеспьер и его единомышленники полагали, что лидеры контрреволюции придерживаются как раз той тактики, которой следовал Батц, — натравливания одной фракции республиканцев на другую. Вместе с тем руководители революционного правительства стали смотреть на противостоящие правительству группировки в якобинском лагере как на агентов внутренней и внешней контрреволюции. Более того, к проискам заграницы стали относить ряд мер, которые выдвигали деятели этих группировок, отражая настроения масс. Так, Сен-Жюст считал результатом контрреволюционных интриг требование «максимума». Весной 1794 года он писал: «Заграница вследствие следовавших одна за другой превратностей и довела нас до этих крайних мер, она и предлагает средства избавления от них. Первая мысль о таксации пришла к нам извне, ее подал барон де Батц. Это был проект голода. А в настоящее время во всей Европе признано, что рассчитывали на голод, чтобы вызвать народный гнев, чтобы уничтожить Конвент, а на роспуск Конвента — чтобы растерзать и расчленить Францию».
Не будет преувеличением сказать, что «иностранный заговор» (вне зависимости от того, чем он был в действительности) приобрел в сознании современников такой размах и столь большое политическое значение потому, что действительные или мнимые «интриги» Батца были как бы зеркальным отражением планов Робеспьера. Эти действия барона были именно тем, в чем Робеспьер подозревал своих противников внутри якобинского блока, чего он ожидал от них, что он был заранее готов вменить им в вину, дабы устранить с политической арены. Поэтому еще в конце 1793 года Робеспьер безоговорочно поверил в «иностранный заговор» и что его возглавляет конкретное лицо — барон де Батц. Надо лишь повторить, что такой ход мыслей был свойствен не только Робеспьеру и его сторонникам, но и многим руководителям дантонистов и эбертистов. Мог же К. Демулен, долгое время бывший близким другом Робеспьера и ставший идеологом дантонистов, договориться до такого фантастического утверждения: «Наша революция в 1789 году была делом, устроенным британским правительством и частью дворянства». Напомним, что именно Демулен первым стал почти открыто повторять в своем журнале «Старый кордельер» обвинения Шабо против Эбера.
ИДЫ МАРТА
Роковые иды марта — 15 марта 44 года до н. э., день убийства Юлия Цезаря — стали в веках крылатым выражением на многих языках, обозначающим зловещий поворот в жизни как отдельных людей, так и целых народов. Иды марта 1794 года были днем, за немногие часы до наступления и вслед за окончанием которого переломился ход событий, стал явным необратимый распад якобинского блока. С середины марта революция начала гильотинировать саму себя. Этому предшествовал период напряженной борьбы, невидимой на поверхности.
Еще в начале осени 1793 года группировки, на которые раскололся якобинский лагерь, только формировались. В сентябре того же года во время неудавшейся попытки бегства Марии-Антуанетты и выступления парижских санкюлотов Дантон доверительно поведал художнику Давиду, ставшему членом Комитета общественной безопасности: «Эбер — это парень, которого я очень люблю». В начале января (14 плювиоза) Дантон выступил в Конвенте, требуя освобождения эбертистов Венсана и Ронсена. Но в конце 1793 года Дантон отклонил предложение о союзе, сделанное ему Эбером, представлявшее новую попытку к сближению между ними (первая была сделана еще в сентябре). Дантон решил поддержать Робеспьера в борьбе против кампании по дехристианизации, развернутой эбертистами, и одновременно атаковать «Отца Дюшена», используя обвинения, выдвинутые Шабо. Дантон рассчитывал таким образом ослабить Парижскую коммуну, где преобладали левые якобинцы. Поддерживая Робеспьера, он надеялся отвести от себя обвинения Комитета общественного спасения в коррупции, в сговоре — в прошлом — с изменником генералом Дюмурье.
Но планы Дантона шли дальше. Долгая безнаказанность заговорщиков-эбертистов могла быть поставлена в вину правительству, что привело бы при очередных перевыборах к изменению состава комитетов, где пока у Дантона были только враги. О содержании доноса Шабо знали сравнительно немногие люди, но оно было известно как Дантону и Демулену, так и Робеспьеру и Сен-Жюсту. И те и другие знали, что это не является тайной для руководителей эбертистов. В этих условиях разоблачение Эбера (все равно, был ли он виновен или только оклеветан Шабо) становилось ставкой в борьбе между «снисходительными» и правительством. Опасения Робеспьера, что такое разоблачение «обесчестит» Гору и подорвет режим, не были чужды и Дантону. Но Робеспьер учитывал, что раскрытие вины Эбера окажется выгодным Дантону. Понимание этого для Дантона было мотивом, чтобы предать огласке показания Шабо, хотя они должны были затронуть его собственных друзей — Фабра и Делоне. Все находилось в крайне неустойчивом равновесии, которое должно было быть нарушено.
Развертывая кампанию против эбертистов, Дантон намеревался направить против них правительственный террор. Выступая 6 фримера (26 ноября) 1793 года с нападками на дехристианизацию, Дантон заявил: «Необходимо, чтобы Комитеты подготовили доклад о том, что именуют «иностранным заговором». Мы должны предать силу и энергию правительству. Народ желает — и он прав в этом, — чтобы террор был поставлен в повестку дня. Но он желает, чтобы террор был направлен на достижение своей истинной цели — то есть направлен против аристократов, против эгоистов, против заговорщиков, против предателей — друзей иностранных держав». В этой речи Дантон явно приоткрыл свой план превратить разоблачение «иностранного заговора» в орудие для утверждения собственного политического курса. В своем анализе Дантон выделил три соперничавшие группировки — «ультрареволюционеров», настоящих революционеров и контрреволюционеров. Робеспьер же делил вторую из этих группировок на две — на «снисходительных» и подлинных патриотов.
До того, как атака дантонистов против эбертистов приобрела четкие очертания, она встречала сдержанную поддержку Робеспьера. Он не возражал против первых двух номеров газеты Демулена «Старый кордельер», однако отказался одобрить вышедший 25 фримера (15 декабря) 1793 года третий номер, в котором Демулен писал, что за эбертистами скрывался «санкюлот Питт», и в этой связи упоминал главу военного министерства Бушотта, видного сотрудника этого министерства Венсана, за деятельностью которых в конечном счете нес ответственность сам Комитет общественного спасения. Эбер, пытаясь парировать нападки Демулена, именовал того «жалким кляузником», «ослиной рожей», заговорщиком, усыпителем, оплаченным Питтом, человеком с подозрительными связями и т. д. В ответ в пятом номере «Старого кордельера» Демулен, цитируя эти обвинения, заявлял: «Ты говоришь о моих знакомых, думаешь, будто я не знаю, что твои знакомые — это некая Рошуар, агент эмигрантов, это банкир Кок… Думаешь, мне неизвестно, что именно к приближенному Дюмурье голландскому банкиру Коку великий патриот Эбер, оклеветав в своем листке самых чистых людей Республики, отправляется с великой радостью, он и его Жаклин (жена Эбера. — Е. Ч.), пить вино Питта и произносить тосты за гибель основателей свободы?» (Далее шли обвинения в связи с Шабо и Базиром, уже сидевшими в тюрьме, и особенно в получении с помощью военного министра Бушотта непомерно крупных сумм за распространение части тиража «Отца Дюшена» в армии, в том, что, будучи до революции театральным билетером, Эбер воровал хозяйские деньги.)
Эбер отвечал в плакатах и брошюрах на эти обвинения, в частности защищая «отличного патриота» Кока. Наименее убедительным было разъяснение Эбера насчет контактов с графиней Рошуар. Можно согласиться с оценкой французского историка О. Блана относительно деятельности графини во время господства якобинцев: «Она знала многих монтаньяров, видимо, была тесно связана с Эбером и тратила значительные суммы, чтобы подкупом добиться освобождения арестованных».
Дантонисты в своем наступлении устами К. Демулена достаточно прозрачно намекали на вину Эбера в связях с роялистами. Это ставило в сложное положение революционное правительство, поскольку было ясно, что дантонисты могли (и намеревались) обвинить его в потворстве «предателям». 6 марта Демулен закончил седьмой номер «Старого кордельера», в котором писал, что Ронсен попытается прибыть в Конвент, как «Кромвель в парламент», и повторить там требования «Пер Дюшена».
Резкая полемика между Демуленом и Эбером ставила комитеты перед выбором — либо предстать в глазах значительной части населения покровителями «снисходительных» и спекулянтов, что уже было на устах у эбертистов, либо, напротив, выступать молчаливыми соучастниками кампании, проводимой эбертистами. Это оттолкнуло бы как раз те общественные круги, которые составляли опору революционного правительства, и большинство депутатов Конвента.
Уже 17 января в письме к одному земляку Куток писал, что арест и осуждение Эбера — это предрешенное дело. Согласно Кутону, Фабр д’Эглантин и Эро де Сешель «сегодня отправятся в Революционный трибунал, чтобы присоединиться к Шабо, Эберам и другим злодеям этого рода». В постскриптуме к письму указывалось: «Сторонники Эбера, Ронсена и Венсана и других марионеток Питта рьяно, но тщетно пытались расположить умы людей в свою пользу: общественное мнение резко высказывается против этих предателей, народ требует, чтобы их быстро предали суду и подвергли наказанию». Ронсен и Венсан как раз в это время были арестованы, в тюрьме уже несколько недель находился Шабо, но Эро де Сешель и Эбер оставались на свободе. Это доказывает, что вопрос об аресте эбертистов был в принципе в середине января предрешен, но по каким-то неизвестным причинам был потом отложен на два месяца.
На другой день К угон более осторожно, не называя имен, раскрывал в письме подоплеку планов революционного правительства: «Недавно раскрыт гнусный план, целью которого было в определенный момент устроить резню депутатов-монтаньяров, освободить Антуанетту, которая тогда была в Консьержери, и после этого провозгласить маленького Капета королем Франции. Уже два десятка организаторов этого заговора арестованы и понесли кару за свои злодеяния. Уверяют, что число их соучастников огромно и что уже арестовано около четырех тысяч человек». Еще за день до первого из этих писем Кутона правительственный агент Роллен сообщал в докладе министру внутренних дел: «Утверждают, что существовал ужасающий заговор с целью похитить бывшую королеву, что замок Ванв был местом сбора, где происходили тайные совещания, что много молодых людей в Ванве замешано в этот гнусный заговор, что Эбер, Шометт, Базир, Шабо, Фабр д’Эглантин и т. д. были в большей или меньшей степени посвящены в тайну этих мерзостей». Очевидно, содержание доноса Шабо стало к этому времени довольно широко известно.
4 марта (14 вантоза) происходит заседание в Клубе кордельеров, означавшее открытый разрыв эбертистов с правительством. В своем выступлении на этом заседании Эбер после долгого перерыва снова произнес имя Шабо, именуя его агентом Питта и Коубурга, который, опасаясь разоблачения, явился с доносом в Комитет общественной безопасности. Однако, обрушиваясь на Шабо, Эбер ни одним словом не упомянул об обвинении, выдвинутом дантонистом против Батца, Бенуа, Делоне, Люлье и самого издателя «Отца Дюшена». Это можно было понять и как еще одну попытку заранее нейтрализовать возможные обвинения, в то же время не раскрывая без крайней нужды их существо перед слушателями. Интересно отметить, что другие лидеры эбертистов, Маморо и Венсан, прямо упрекнули Эбера (через три недели они вместе погибнут на эшафоте), что за последние два или даже четыре месяца он перестал говорить правду. Эбер защищался, ссылаясь на нападки врагов, которые заставляли его соблюдать осторожность.
Робеспьер
Гравюра Фиссингера
И тем не менее Робеспьер и его единомышленники все еще колебались. По некоторым сведениям, 10 марта утром Эбер, Шометт и Паш прибыли в Шуази на встречу с Робеспьером. Если верить роялистским шпионам, он предложил лидерам Коммуны перемирие на льготных для них условиях. Паш, убедившись в твердой позиции Робеспьера, вернулся на другой день в Шуази и сообщил Неподкупному о планах эбертистов произвести переворот, получив за это обещание, что его не будут преследовать за участие в заговоре. Через два месяца Паш и его зять Одуэн все же были арестованы, но не преданы суду. Робеспьер, вероятно, не хотел создавать впечатление, будто в заговоре эбертистов участвовала вся Коммуна в целом. Позднее общественный обвинитель Фукье-Тенвиль, находясь в тюрьме в ожидании суда и казни, писал, что Паша временно пощадили с целью внести раскол в ряды сторонников «Пер Дюшена».
13 марта Сен-Жюст произнес речь в Конвенте об «иностранном заговоре», замышленном с целью уничтожить путем коррупции республиканское правительство и уморить Париж голодом. Докладчик не назвал ни одного имени, но заметил, что «по-видимому, большое число лиц замешано в заговоре». Вместе с тем Сен-Жюст объявил ветвями этого заговора «фракцию снисходительных».
Обострение борьбы между правительством и эбертистами сразу же попыталась использовать лантонистская группа, которая испытывала растушую тревогу вследствие явной враждебности к ней Комитета общественного спасения.
Инициативу проявил уже знакомый нам Эспаньяк. Отлично осведомленный в тюремной больнице о быстро меняющейся обстановке, он решил повторить донос Шабо, который хотели замолчать власти. Эспаньяк был заинтересован не только в компрометации Эбера, столь выгодной дантонистам, но и в том, чтобы довести до всеобщего сведения роль, которую играл Бати (бывший аббат столкнулся с Батцем еще в канун революции на узкой дорожке финансовых спекуляций и с тех пор возненавидел своего конкурента, ставшего главой роялистских заговорщиков). Помощь Эспаньяку здесь мог оказать и бывший полицейский Озан, которому власти разрешили раз в декаду покидать на сутки тюрьму, чтобы изыскивать пропитание для своего семейства, и особенно служащий и компаньон арестованного спекулянта некий Анрион — управляющий крупным предприятием и давний личный враг Батца.
Сведения о связях Эбера с Батцем были переданы близкому к дантонистам генералу Вестерману, которого Эбер и его сторонники обвиняли в подражании своему старому другу изменнику Дюмурье. Вечером 13 марта Вестерман попросил аудиенции у общественного обвинителя Фукье-Тенвиля и сделал заявление о том, что ему стало известно о намерении эбертистов поднять восстание, опираясь на революционную армию. Он утверждал, как гласит протокол, что Эбер с женой и тешей явился к Шабо за 100 тыс. ливров, в получении которых оставил расписку. (В показаниях Вестермана говорится о «теше» Эбера, умершей за 13 лет до этого.) Все это записал секретарь Фукье-Тенвиля, но в записях, вероятно, сознательно кое-что опушено из того, что было сказано генералом. Когда вызвали для допроса самого Анриона, он давал показания не Фукье-Тенвилю, посвященному в намерения комитетов, а судье Сюблейру. Анрион показал, что Шабо, делая свое заявление, просил прислать к нему назавтра на дом секретных агентов, уверяя, что они обнаружат там участников заговора, «которыми являются Эбер, его жена и барон Бати». Имя Батца, по-видимому, было названо и Вестерманом, но опушено в протоколе секретарем по приказу его начальника. Взамен барона и возникла давно умершая «теша» Эбера. Показания Вестермана свидетельствовали о новой тактике дантонистов — обвинить Эбера, а вместе с тем бросить тень на комитеты общественного спасения и общественной безопасности, покрывающие преступников.
Через несколько часов после свидания с Вестерманом Фукье-Тенвиль прибыл в Комитет общественного спасения. Во время заседания, на котором присутствовали Робеспьер и Кутон, было принято решение об аресте в ту же ночь Эбера, Ронсена, Венсана и других лидеров левого крыла, за исключением Паша, на чем настоял, видимо, прежде всего Робеспьер. Комитет действовал быстро с целью не допустить широкого обсуждения заявления Вестермана. Очевидно также, что некоторые лица подверглись аресту только потому, что их имена были включены в список заговорщиков. Например, жена Эбера.
Различные мотивы, побуждавшие комитеты нанести удар по эбертистам, не исключали, а дополняли друг друга. Убеждение в том, что в лице вождей Клуба кордельеров правительство карает изменников революции, участников «иностранного заговора», запятнавших честь Горы, нисколько не противоречило желанию избавиться от них как от вожаков течения, за которыми шла значительная часть парижских санкюлотов, чьи социальные устремления оказались несовместимыми с интересами буржуазии и собственнического крестьянства и вместе с тем с задачами снабжения армии Республики, жесткой централизации власти в интересах эффективного ведения военных действий против внешних и внутренних врагов Республики.
Член Комитета общественного спасения Ж. Н. Бийо-Варенн, выступая 14 марта в Якобинском клубе, четко ограничил обвинение намерением поднять восстание против Конвента. Было решено рассматривать арестованных лидеров эбертизма в качестве отдельных «мятежников» и тщательно отделять их от остальных членов Коммуны Парижа, не допускать конфликта между этим центром парижских санкюлотов и правительством. Позднее в своей речи 8 термидора Робеспьер заявил: «Эбер, Шометт и Ронсен старались сделать революционное правительство непереносимым и смешным».
«Крайности» эбертистов, включая их «ультратерроризм», непристойная брань на страницах «Пер Дюшена» могли действительно произвести такой эффект. Но и в своей последней речи Робеспьер воздержался от обвинения Эбера в связях с Батцем.
После ареста Эбер и его единомышленники были сразу же заключены в тюрьму Консьержери, бывшую преддверием гильотины. Таким образом, их участь была решена вечером 13 марта, когда был подписан приказ об аресте. Чтобы разгром эбертистов не превратился в триумф дантонистской группы, робеспьеристский комитет немедленно обрушил суровые предостережения по адресу правых якобинцев. Это было сделано в речи Амара в Конвенте 16 марта 1794 года, в которой он сообщил об обвинениях, выдвигаемых против Шабо, Базира, Делоне и Фабра д’Эглантина.
Жан-Пьер Андре Амар (1750–1816), богатый адвокат из Гренобля, накануне революции купил за большие деньги должность казначея, которая возводила ее обладателя в дворянский сан. Об этом факте из биографии Амара вновь напомнил Эбер 4 марта (14 вантоза) в речи в Клубе кордельеров. На протяжении всего периода революции Амар постоянно находился под подозрением. Известный французский историк Ж. Мишле писал о нем: «Он чувствовал себя живущим из милости и считал себя обязанным делать больше, чем другой, чтобы заслужить эту милость». Вместе с тем даже в разгар террора Амар подчеркнуто одевался так, чтобы своим обликом напоминать знатного дворянина дореволюционного времени (Сенар даже обвинял его в содержании гарема). Амар проявил себя суровым следователем при допросе Марии-Антуанетты, по его докладу были преданы суду Революционного трибунала депутаты-жирондисты. Позднее жизненный путь Амара пролегал через активное участие в перевороте 9 термидора, через запоздалые сожаления — как и у других левых термидорианцев — о том, что в тот день была похоронена революция.
Он подвергался аресту после выступлений рабочего населения парижских предместий против Конвента весной 1795 года, а после освобождения по амнистии в конце того же года был связан с участниками «заговора равных» (хотя многие из соратников Бабефа ненавидели Амара за его участие в 9 термидора, а он сам остался чуждым коммунистическим идеям). Амар попал под суд вместе с бабувистами. Во времена консульства и империи он отказался пойти на службу к Наполеону. Но все это было потом, а в конце 1793 и начале 1794 года он стал активным участником расследования «дела Ост-Индской компании». Некоторые историки считают, что в это время Амара можно заподозрить в продажности. В записной книжке некоей мадам Крюсоль значился адрес Амара. Эта очень богатая особа взяла на хранение большие ценности, принадлежавшие эмигранту д’Алигру. В сентябре 1793 года Крюсоль арестовали. Предполагалось, что она находится в тюрьме, а она проживала у себя дома. В конечном счете, когда все это открылось, двое уполномоченных наблюдать за Крюсоль были арестованы и казнены, а вслед за ними и она сама была заключена в Консьержери, а затем гильотинирована. Судьи, однако, не рискнули поинтересоваться, кто и за какую цену помогал Крюсоль несколько месяцев избегать тюрьмы и как она была связана с Амаром.
В это время в Париже действовало много агентов-двойников. Так, гражданин Роме, содержатель лечебницы и официально тайный агент Комитета общественной безопасности, обязан был доносить Амару о заговорах с целью понизить стоимость ассигнатов и повысить цену звонкой монеты. Одновременно главная роль Роме состояла в незаконной переправе крупных денежных сумм за границу, обычно в Швейцарию, а также в финансовой помощи контрреволюционным заговорщикам. Это лишь отдельные примеры из возможных.
Амар первоначально, после ареста Шабо и Базира, просил Конвент только о лишении этих депутатов на несколько дней парламентского иммунитета, «ничего не предрешая на их счет». На деле же Шабо и Базир находились в тюрьме несколько месяцев. Не подлежит сомнению, что Амар сознательно затягивал составление отчета о «деле Ост-Индской компании», пока другие члены комитетов не потребовали от него прекратить проволочку. 11 вантоза Комитет общественной безопасности прямо упрекнул его в недопустимом промедлении: «Мы направили к Вам нашего коллегу Вулана, чтобы выразить наше нетерпение в связи с докладом, который Вы заставляете нас ждать четыре месяца. Вулан сообщил от Вашего имени, что Вы будете присутствовать на заседании Комитета сегодня вечером. Вы снова нарушили данное Вами слово. Вы обязаны покончить с этими отсрочками или Вы заставите нас принять меры, которые были бы весьма неприятны нам, Вашим друзьям».
Несмотря на резкий тон этого послания, Амар представит свой отчет Конвенту лишь 26 вантоза (16 марта), через трое суток после доклада Сен-Жюста, в котором разоблачался «иностранный заговор», но не назывались фамилии, и ареста Эбера. В докладе, сделанном Амаром от имени Комитета общественной безопасности, Шабо и его сообщники обвинялись лишь в финансовых махинациях и фальсификации текста декрета о ликвидации Ост-Индской компании. Возможно, в умолчаниях Амара, на которых до сравнительно недавнего времени настаивал и Робеспьер, немалую роль сыграло стремление докладчика спасти от гильотины часть обвиняемых (особенно Фабра д’Эглантина, Базира и Делоне, с которыми он поддерживал приятельские отношения).
С резкой критикой доклада выступил член Комитета общественного спасения Ж. Н. Бийо-Варенн, которого горячо поддержал Робеспьер. Они признали доклад неудовлетворительным, поскольку в нем совершенно смазывалась политическая сторона дела. Первоначальный текст этого доклада сохранился в кратком изложении двух газет — «Монитер» и «Батав». В новом варианте доклада Амара от 19 марта по-прежнему мало что говорилось о политике, а ранее упоминавшиеся имена Батца и Бенуа как участников финансовой аферы вообще исчезли. О намерении Батца оклеветать и дискредитировать Конвент, известном из заявлений Шабо, Базира и позднее генерала Вестермана и других, не говорилось ни слова. Через несколько дней эти планы будут приписаны Эберу, но опять-таки без упоминания о Батце.
«ТЫ ПОСЛЕДУЕШЬ ЗА МНОЙ, РОБЕСПЬЕР!»
13 жерминаля II года (2 апреля 1794 года), 10 часов утра. В помещении бывшей Главной палаты парижского парламента открывается заседание Революционного трибунала. Начало центрального из политических процессов, бросающего тень на предшествовавшие и последовавшие за ним судебные трагедии, на ход революции. Президент Революционного трибунала, друг Робеспьера Марсияль Герман, еще четверо судей и семеро присяжных заняли свои места. В кресле общественного обвинителя, как всегда, Антуан Фукье-Тенвиль. По приказу председателя вводят обвиняемых… Всего три недели прошло со времени ареста эбертистов, непримиримых врагов обвиняемых, немногим более недели истекло с окончания суда и казни автора «Пер Дюшена» и других руководителей Клуба кордельеров.
После ареста эбертистов дантонисты пытались представить себя жертвами теперь арестованных «злодеев», вместе с тем ставили вопрос о необходимости точного, подробного отчета о суде над заговорщиками. Они еще не догадывались о собственной участи. Впрочем, ничего еще окончательно не было решено, хотя комитеты сразу взялись за тех дантонистов, через которых генерал Вестерман мог получить сведения от Шабо и его арестованных сообщников. 19 марта Эспаньяку официально сообщили, что его вскоре переведут из тюремной больницы. Он пытался бежать, повторив маневр депутата Жюльена, однако был быстро задержан и водворен в тюрьму Ля-Форс. Его не вызвали для дачи показаний на процессе эбертистов, который велся таким образом, чтобы исключить обвинения в связях с Батцем, исходившие от Шабо и его друзей. Шабо и его сообщники, а также Эспаньяк и генерал Вестерман вскоре сами предстали перед Революционным трибуналом. Но как бы ни важна была возможная связь дантонистов с заговором Батца, главным все же в глазах Революционного правительства было другое. Дантон стал как бы «легальным» центром притяжения для разнородных оппозиционных сил, в том числе для скрытых роялистов, эмигрантов, для жирондистов и, что важнее, для торгово-промышленной буржуазии и верхушки деревни, всех недовольных экономическими мерами правительства — «максимумом», конфискациями и реквизициями. Многие из них верили, что цель Дантона — «освободить» дофина и провозгласить конституционную монархию. В немалой степени эти ожидания были тесно связаны с той кампанией против «новых бриссотинцев» (жирондистов), которую вели эбертисты. Среди немалого числа Якобинцев репутация Дантона пошатнулась — он не мог представить объяснения происхождению крупных денежных сумм, которыми располагал.
Но было бы упрощением выводить позицию Дантона из его грубой жадности к жизни, из желания сразу вкусить от плодов революции, что делало его вождем новой растущей буржуазии. Что же касается группы дантонистов, то она отнюдь не состояла только из рвущихся к богатству политических дельцов. К тому же большинство людей такого типа, как близкие к дантонистам Баррас, Фрерон, Тальен и другие, не были затронуты репрессиями весны 1794 года и составили костяк лагеря термидорианцев. Не только внешне, но и по существу разногласия между робеспьеристами и дантонистами возникли по вопросу о терроре. Ведь очевидно, что противники Дантона предлагали в' качестве панацеи усиление террора в условиях, когда он потерял свой прежний революционный смысл. Дантон противился в социальных вопросах «крайностям», которые восстановили против революции интересы всей собственнической Франции. С конца 1793 года то замаскированно, а то и все более открыто дантонисты требовали смягчения политики террора вплоть до полного отказа от нее, свободы печати, в конечном счете ослабления революционной диктатуры. Суть этой программы состояла в установлении «нормальной» буржуазной власти, лишенной тех черт, которые были приданы ей заведением революции за исторически возможные границы.
Субъективно лидеры дантонистов в программе создания режима буржуазной демократии видели средство укрепления республиканского строя и тем самым удовлетворения главных интересов французского народа. Когда в начале 1794 года стал неизбежным «откат» революции, отказ от такого отступления служил уже не укреплению (как это было раньше, в 1792–1793 годах), а, напротив, ослаблению прочности сделанных завоеваний. Рассматриваемая в этом ракурсе дан-тонистская программа потенциально была способна обеспечить этот «откат» с наименьшими потерями — без термидорианского переворота, с сохранением значительно большего влияния демократических революционных сил в правительстве и аппарате управления и т. д.
В исторической литературе принято упоминать, что Дантон стал героем буржуазной Третьей республики. Это полностью соответствует действительности. Совершенно неверно, однако, что это задним числом бросает тень на его репутацию революционера. Что же удивительного в том, что французская буржуазия избрала своим героем того, кто, с ее точки зрения, вполне оправданно, воплошал тенденцию к созданию максимально благоприятных условий для развития капитализма при сохранении возможных при капитализме институтов политической демократии? И не была ли позиция Дантона наиболее отвечающей интересам общественного прогресса в эпоху, когда он жил и действовал?
Дантонистская программа представляется предпочтительной также и еще с одной стороны — воздействия революции на Европу.
Террор, резко усилившийся, когда началась «пробуксовка» революции, был воспринят европейским общественным мнением как отказ от ее собственных принципов, как прямое попрание гуманистических идеалов Просвещения, принципов 1789 и даже 1793 года. Теперь даже первым этапам революции ставилось в вину, что они являлись лишь путем к 1794 году. Начиная с 1794 года события во Франции во многом утратили свою притягательную силу не только как пример для подражания, но и как фактор развития передовой идеологии. Революция продвинулась настолько далеко, что ею был почти потерян контакт с передовым лагерем в других странах. Во всяком случае «образ» революции, служивший таким импульсом, совершенно не включал события 1794 года.
Показателен пример Англии, где первоначально Французская революция получила широкую общественную поддержку даже в тех кругах, которые потом стали ее ярыми врагами. Однако позже события во Франции заставили английскую буржуазию отшатнуться не только от возникшего демократического движения, но временно даже от либеральных идей. Результатом было укрепление власти тори и блокирование с ними части вигов на платформе воинствующего «антиякобинизма». Что же говорить о других странах, где демократические силы были значительно слабее, чем в Англии! В Германии первоначальный «энтузиазм… сменился фантастической ненавистью к революции». В самоуничтожении якобинского руководства, в «бессмысленном терроре» 1794 года либеральные круги Европы увидели подтверждение своего отрицательного отношения к плебейским методам решения революционных задач и к революционной диктатуре.
Ожесточение политической борьбы достигло крайней точки весной 1794 года. Дело уже сводилось не к победе над недавними союзниками и друзьями, а к их физическому уничтожению. Не ограничиваясь обоснованием политической полезности террора, становилось обычным мстительное торжество по поводу участи побежденных, глумление над агонией жертв террора. Поражают та беспощадность, то кровожадное злорадство, которые считали нужным демонстрировать при публичном гильотинировании, насмешки, глумление или издевательства над стоической храбростью, нередко проявлявшейся осужденными на эшафоте. Этим особенно отличался «Пер Дюшен» в отношении жирондистов. Но то же самое демонстрировал К. Демулен, когда дошла очередь Эбера, члены обоих комитетов — в отношении дантонистов, термидорианцы — в отношении робеспьеристов. Ненависть душила и ослепляла людей. Глава Комитета общественной безопасности Вадье свирепо призывал к физической расправе над Дантоном. А тот в свою очередь передал через художника Давида, что если почувствует свою жизнь в опасности, то станет «более жестоким, чем каннибал», «съест мозг Вадье» и т. п. Дантон на словах перещеголял Вадье, зато последний сумел быстро на деле осуществить свои угрозы. Он был в числе тех членов комитетов, которые требовали немедленного разгрома дантонистов.
Жорж-Жак Дантон
Гравюра Сандо
Робеспьер, видимо, еще колебался. Известно, что в последнюю декаду марта он имел три встречи' с Дантоном, последнюю — 29-го числа. Внешне добрые отношения сохранялись и между прежними близкими друзьями — Робеспьером и Демуленом. Еще днем 30 марта их видели мирно беседовавшими в Конвенте. Это усыпило тревогу Дантона, которого со всех сторон предупреждали о нависшей смертельной угрозе. Ему предлагали бежать, он ответил: «Разве можно унести отечество на подошвах башмаков!» 30 марта комитеты приняли решение об аресте Дантона, Демулена, Фелиппо и Делакруа. Приказ был осуществлен той же ночью.
Сообщение об этой мере вызвало ропот в Конвенте, привыкшем покорно и безоговорочно одобрять распоряжения комитетов. Потребовался авторитет Робеспьера и Сен-Жюста, выступавших в зашиту этой меры (и в еще большей степени страх за свою жизнь, который диктовал поведение многих депутатов), чтобы Конвент и на этот раз единогласно одобрил предложение правительства о предании суду арестованных. Эта новость, мигом облетевшая Париж, породила смятение, смешанное с ужасом, хотя город уже успел насмотреться на зрелиша кровавых казней. Ведь предстоял суд над одним из признанных и популярных вождей революции, не раз возглавлявшим народ на штурм бастионов старого порядка, на борьбу за свержение монархии, устранение от власти тех, кто не хотел укрепления Республики. И вот теперь этот народный трибун, чей могучий голос еще недавно звучал, казалось, как революционный набат по всей Франции, обвинялся в предательстве, в стремлении низвергнуть ту самую Республику, в учреждении которой ему принадлежала такая важная и славная роль.
У правительства не было уверенности в том, что ему удастся осуществить задуманный план устранения с политической арены и физического уничтожения руководителей дантонистской группировки. У комитетов возникли сомнения даже в том, можно ли полагаться в организации процесса на руководителей Революционного трибунала, несмотря на многие доказательства их беспрекословного выполнения любого приказа правительства. Фукье однажды претендовал на дальнее родство с Демуленом, чтобы заручиться его поддержкой в получении какой-то должности, был обязан Дантону назначением в Революционный трибунал. Поэтому на всякий случай в поддержку ему был назначен преданный приверженец Робеспьера Флерио-Леско. Секретаря Трибунала Фабрициуса Пари, считавшегося другом Дантона, заменили неким Дюкре. Число присяжных пришлось ограничить семью вместо полагающихся 12. Фукье-Тенвиль лично отобрал, как он считал, абсолютно надежных людей.
Имеются даже свидетельства, будто бы был отдан приказ об аресте председателя суда Германа и Фукье-Тенвиля, когда они выразили сомнения, удастся ли им добиться от присяжных обвинительного приговора. Утверждали, что 2 апреля, в день открытия процесса, видели у Колло д’Эрбуа бумагу, отменявшую приказ об их аресте. Если это было именно так, то отмену приказа можно объяснить лишь опасением правительства арестом главных лиц в Революционном трибунале полностью подорвать всякую веру в беспристрастие суда. Для верности все же в Трибунале во время процесса постоянно дежурили члены Комитета общественной безопасности Вадье, Амар, Давид и Вулан. Тем не менее и недоверие комитетов к лицам, возглавлявшим Трибунал, и то, что решение об аресте Дантона и его главных сторонников было принято только в ночь с 30 на 31 марта (всего за два дня до начала процесса) привели к тому, что у Фукье буквально не было времени для составления обвинительного акта и других приготовлений. Ему еще 26 марта предписали подготовить суд над участниками «дела Ост-Индской компании», и он с обычным педантизмом составил список нужных свидетелей для обвинения Фабра, Шабо, Базира и других, процесс которых должен был начаться как раз 2 апреля.
Английский историк Н. Хеймпсон обнаружил любопытную «неувязку» в этих поспешных приготовлениях — обвинительное заключение включало и Люлье, который даже не был арестован («ошибку» поправили уже во время процесса). Поэтому для Фукье было совершенной неожиданностью, что в число обвиняемых ему нужно было включить Дантона, Демулена, Фелиппо и Делакруа. Отсутствие должной подготовки привело к тому, что вызванные в качестве свидетелей Люлье и генерал Вестерман были без всяких формальностей уже во время судебного заседания включены в число обвиняемых. Общественному обвинителю не предоставили никаких доказательств деяний, инкриминируемых лидерам дантонистов. Он должен был полагаться лишь на доклад Сен-Жюста в Конвенте. Фукье в спешке составил список материалов, которые должны были ему разыскать, но на это не хватило времени. В отношении обычных обвиняемых все это при опытности Фукье легко бы сошло с рук, но не в случае, когда на скамье подсудимых находился такой человек, как Дантон.
Над формально открытым судебным процессом была фактически опушена завеса секретности. Печать знала свое место, и газетные отчеты редактировались в соответствии с меняющимися обстоятельствами и настроениями. Содержание Бюллетеня Революционного трибунала — главного источника наших сведений о процессе (эти материалы перепечатаны в XXXII томе «Парламентской истории Французской революции» Буше и Ру) — также отражало лишь то, что власти считали нужным предать гласности. Некоторую информацию можно почерпнуть из показаний на процессе Фукье-Тенвиля, состоявшемся в 1795 году. Записи делал один из присяжных — Топино-Лебрен, но его рукопись погибла во время пожара в 1871 году. Сохранились лишь отдельные отрывки из нее. Неясно даже число присяжных. В официальном отчете утверждается, что их было семеро, по другим источникам (включая заметки самого Фукье) — тринадцать.
…10 часов утра 2 жерминаля. Забиты до предела места для публики. Вводят подсудимых. Перед собравшимися возникают хорошо известная всем массивная фигура Дантона, вслед за ним депутаты Конвента — Демулен, Фелиппо, Эро де Сешель, Лакруа, Фабр д’Эглантин, Шабо, Базир, Делоне, а также бывший аббат Эспаньяк, братья Фрей, испанец Гусман, датчанин Дидерисхен — явные спекулянты, банкиры, нечистоплотные дельцы, громко кричавшие о своей революционности. Они как две капли воды напоминали иностранцев, в своем большинстве из того же мира международных финансов, которые менее чем две недели назад уже фигурировали на процессе эбертистов и сложили голову на гильотине.
Открытый судебный процесс, но сколько в нем прямых и скрытых нарушений закона, исключающих саму мысль о правосудии! Те из судей и присяжных, отобранных Фукье-Тенвилем, которые в глубине души могли и не сочувствовать намерениям властей, знали, что, отказавшись одобрить смертный приговор, завтра сами окажутся на месте подсудимых. Члены Комитета общественного спасения и Комитета общественной безопасности позаботились уже в ходе суда довести до сведения самих Германа и Фукье-Тенвиля, что их участь также зависит от исхода процесса. Вместе с тем тщательно подобранный состав судей и присяжных должен был сохраняться в полной неприкосновенности. Никакой замены. Демулен попытался дать отвод одному из судей — Ренодену, которого он считал своим личным врагом. И не без основания. Когда менее двух лет назад, 10 августа 1792 года, в день свержения монархии, Демулен произносил в Якобинском клубе речь в пользу Республики, Реноден, бывший в то время еще ярым роялистом, набросился на него с намерением убить или покалечить.
Теперь Реноден сидел в числе судей, и Герман отверг отвод, сделанный Демуленом, на том основании, что такой отвод должен быть сделан в письменной форме в течение двух суток после ареста. Но Демулен в то время не мог иметь ни малейшего представления, что Реноден будет отобран Фукье-Тенвилем в качестве вполне «надежного» судьи. В числе других он без колебаний произнес клятву беспристрастного рассмотрения всех обвинений, выдвинутых против подсудимых, не позволяя ни страху, ни ненависти, ни, напротив, чувству привязанности повлиять на принятие решения, продиктованного совестью и твердым внутренним убеждением…
С самого начала выяснилось, что перед судом предстали люди, обвиняемые в совершении различных преступлений: одни — в коррупции, другие — в шпионаже, третьи — в попытках уничтожить Республику. Опять «амальгама», при которой заведомых преступников присоединяли к тем, кого хотели скомпрометировать такой связью, даже если бы она была лишь знакомством, впервые возникшим в судебном зале.
Наступило время идентификации личности. На вопрос о его имени и местожительстве Дантон ответил:
— Мне тридцать четыре года. Я родился в Арсисюр-Об, адвокат, депутат Конвента. Место жительства: вскоре — небытие, потом — в пантеоне Истории. Это неважно. Народ будет уважать мою голову, да, мою отрубленную голову.
Демулен на вопрос председателя суда ответил:
— Мне тридцать три года, возраст санкюлота Иисуса, когда он умер.
Процесс начался плохо для суда обвинения. Оно легко доказало виновность некоторых из обвиняемых в подкупе нескольких депутатов. Но обвинения против Дантона повисали в воздухе. Ему инкриминировали продажность, готовность вместе с Мирабо действовать для спасения монархии, соучастие в интригах генерала Дюмурье. Сведения о встречах Дантона с темными дельцами и спекулянтами перемежались с явно фантастическими утверждениями. Герман пытался уверить судей и присяжных, что целью Дантона было «двинуться во главе вооруженной армии, уничтожить республиканскую форму правления и восстановить монархию». Эти и другие подобные обвинения оставались недоказанными, а некоторые даже и невероятными в глазах публики, хорошо осведомленной о выдающейся революционной роли Дантона в событиях, приведших к падению монархии и утверждению Республики. Его ближайшие друзья — Демулен, Эро де Сешель и другие также с негодованием отвергали возводимые на них обвинения. Неукротимый полемист своим могучим громовым голосом, неистовым темпераментом в речах, наполненных неотразимыми доводами и меткими, язвительными репликами, которые находили все больший отклик, перекрикивал сулей. Дантон высмеивал утверждения Германа и Фукье-Тенвиля. Страстные слова трибуна склоняли в пользу обвиняемых симпатии не только зрителей, сидевших в зале заседаний, но и толпы, собравшейся около здания Трибунала.
— Мой голос, — гремел Дантон, — должен быть услышан не только вами, но и всей Францией!
В конце первого дня заседаний Дантон потребовал вызова в качестве свидетелей мэра Парижа, министра иностранных дел, более десятка членов Конвента, включая Робеспьера и Ленде (последний мог стать на сторону обвиняемых и раскрыть отсутствие единства в комитетах). Речь Дантона грозила повернуть весь ход процесса. Он не только защищался, он выдвигал обвинения против Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, против Бийо-Варенна, Вадье, Барера и других. Как сообщал Фукье-Тенвиль, предоставленных Трибуналу прав недостаточно, чтобы заставить замолчать подсудимых, «апеллирующих к народу».
Фукье и Герман докладывали Комитету общественного спасения, что процесс принимает неожиданный оборот, особенно в связи с просьбой вызова свидетелей, что «подсудимых нельзя будет утихомирить иначе, как с помощью декрета Конвента о прекращении прений». «Мы просим вас формально предписать нам, каков должен быть наш образ действий относительно этого прошения, поскольку правила судебной процедуры не содержат никаких оснований для его отклонения». Пока же в судебном зале Фукье маневрировал, даже как будто соглашался с вызовом некоторых свидетелей, за исключением депутатов Конвента (и, следовательно, членов комитетов), поскольку, по его словам, сам Конвент выступает в роли обвинителя. Через некоторое время Амар и Вулан, пришедшие из Конвента, вручили бумагу, которую Фукье принял с улыбкой, облегченно вздохнув. Он действительно очень нуждался в этой бумаге, поскольку в ней было все, что требовалось.
А произошло вот что. По получении письма Германа и Фукье-Тенвиля Сен-Жюст отправился в Конвент, где, не упоминая о содержании этого письма, заявил, что обвиняемые подняли бунт против суда и что он совместно с Бийо-Варенном раскрыл заговор в тюрьмах. Этот заговор возглавляли генерал Диллон и жена одного из подсудимых Люсиль Демулен с целью спасения подсудимых и убийства членов Комитета общественного спасения. Заявление Сен-Жюста основывалось на показаниях одного заключенного, некоего Лафлота, который позднее был осужден за лжесвидетельство по другому делу. Конвент принял решение: обвиняемые, которые оскорбляют Трибунал, должны удалиться из судебного зала и слушание дела должно продолжаться в их отсутствие. Одновременно было дано указание об аресте Люсиль Демулен.
Заседание 5 апреля началось в половине девятого, а не как обычно в десять часов. Вероятно, это было сделано, чтобы не допустить большого скопления людей. На вопрос Фукье к присяжным, достаточно ли они узнали в ходе судебного следствия для вынесения суждения, те ответили утвердительно. Раздались возмущенные протесты обвиняемых. И тогда Трибунал в соответствии с декретом Конвента постановил вывести их из зала суда. Как ни были покорны присяжные, однако в совещательной комнате между ними возникли споры. Член Конвента Куртуа (которому после 9 термидора было поручено разобрать и опубликовать бумаги, захваченные у Робеспьера и его сторонников) утверждал, что трое из них объявили о своем несогласии с предъявляемыми подсудимым обвинениями и считают их невиновными.
Один новейший американский историк назвал присяжных «тщательно отработанной группой людей, заранее враждебно настроенных и нарушающих данную присягу». По слухам, Фукье-Тенвиль и Герман даже входили в совещательную комнату, чтобы побороть сомнения присяжных, и показывали им какой-то неизвестный документ, свидетельствующий о виновности Дантона. Когда один из присяжных заколебался, другой спросил его:
— Кто больше полезен для Республики — Дантон или Робеспьер?
— Больше полезен Робеспьер.
— В таком случае нужно гильотинировать Дантона.
На вопрос, существовал ли «заговор, направленный на оклеветание и очернение национального представительства и разрушение с помощью коррупции республиканского правительства», присяжные ответили «да».
16 жерминаля (5 апреля) все подсудимые, кроме Люлье, были приговорены к смерти. В тот же день им зачитали в тюрьме Консьержери приговор и отправили на гильотину. Когда телега, на которой везли осужденных на казнь, проезжала мимо дома Робеспьера, Дантон громко крикнул: «Ты последуешь за мной, Робеспьер!»
…Закулисная история процесса дантонистов отнюдь не ограничивается отбором присяжных и маневрами с целью заткнуть рот подсудимым. Не исключено, что комитеты располагали против обвиняемых уликами, которые не были обнародованы. В руки революционных властей попало письмо из министерства иностранных дел Англии, датированное «пятницей 13» (сентября или декабря) 1793 года и адресованное банкиру Перрего из Невшателя (Швейцария), но найденное в бумагах Дантона после его ареста. Письмо уполномачивало произвести оплату нескольких шпионов, обозначенных инициалами. Деньги следовали этим шпионам за «важные услуги, оказанные ими нам в раздувании огня (выделенная часть фразы написана по-французски, тогда как остальной текст — по-английски. — Е. Ч.) и доведении якобинцев до пароксизмов ярости» (а таковы как раз и были планы Батца).
Бумага, на которой написано письмо, является доводом в пользу его подлинности. Матьез считает, что в конце 1793 года письмо было переслано Перрего действительному адресату — Дантону, но это лишь одно из возможных предположений. Можно допустить и то, что письмо не было найдено среди бумаг Дантона, а подложено в них.
«НОВЫЙ КРОМВЕЛЬ»
1793 год прошел под знаком неоднократного давления на Конвент со стороны столичного муниципалитета — Коммуны, выражавшей настроения народных масс Парижа, причем давления, почти неизменно приводившего к успеху, т, е. к полному или частичному удовлетворению высшим законодательным органом страны требований политически активной части столичной санкюлотерии. Напротив, 1794 год проходит под обратным знаком — наступления Конвента и его комитетов на Коммуну. После поражения эбертистов Конвент подвергается чистке и фактически перестает играть самостоятельную политическую роль, которую ему тщетно пытались вернуть в роковой день 9 термидора новые робеспьеристские руководители, те самые, которые в апреле поставили Коммуну под полный контроль комитетов.
Одновременно сам Конвент, победивший Коммуну, подпал фактически под контроль комитетов. Используя авторитет, завоеванный Комитетом общественного спасения — организатором победы над контрреволюцией, в обстановке террора. оба комитета, по крайней мере в вопросах о репрессивных мерах, получили возможность навязывать свою волю законодателям. Не приходится сомневаться, что согласие Конвента на усиление террористических мер весной и летом 1794 года, на арест ряда своих членов было вынужденным. Оно было буквально вырвано у него апелляцией к авторитету Неподкупного в соединении с едва прикрытыми или вовсе не прикрытыми угрозами в отношении несогласных как скрытых союзников уже разоблаченных «заговорщиков». В условиях, когда революционная законность была по существу отброшена и заменена полным произволом, хотя и рядившимся в подобие законных форм, несогласие с требованиями комитета могло стать прелюдией к аресту и казни. Свобода прений, выражения мнений в Конвенте были жестко ограничены страхом за собственную жизнь.
Революционные лидеры (1793 г.)
Лишаясь действительной, а не мнимой опоры в Конвенте, робеспьеристское ядро комитетов, по меньшей мере с весны 1794 года, теряло массовую базу в столице, хотя это до поры до времени оставалось благодаря установленному жесткому правительственному контролю над муниципальными органами власти и народными обществами. В этих условиях комитеты стали опираться прежде всего на подчиненную им административную машину и на внушавший страх аппарат репрессий. А это, в свою очередь, создавало тенденцию к сужению круга лиц, принимавших важнейшие политические решения. В рамках самих комитетов, где все еще преобладали робеспьеристы, согласие ряда членов на террористические меры было вынужденным у одних и принимало форму уклонения от участия в принятии этих решений со стороны других. Наблюдалось и стремление путем ужесточения террора бросить тень на Робеспьера.
Затоплявшие страну все новые волны террора превращали политическую полицию, аппарат репрессий, в центральное звено государственного механизма. Контроль над политической полицией становился все более равнозначным контролю над исполнительной властью вообще. А у исполнительной власти было много шансов установить фактически контроль над законодательной властью, над запуганным «болотом» — большинством Конвента. «Болото» возможно было удерживать и впредь в состоянии покорности, подчинения воле правительственных комитетов, в руках которых был контроль над машиной репрессий, над «национальной бритвой» — гильотиной. Но не приближалась ли ситуация, когда контролировать сами комитеты будет та группа их членов, которая сумеет установить контроль над политической полицией?
В научной исторической литературе обстоятельно исследованы социальные и политические причины термидорианского переворота. Историками довольно подробно изучена история заговора, прослежены действия тех или иных лиц, сыгравших важную или даже решающую роль в событиях 9 термидора. Однако остается еще далеко не выясненной их связь с тем, что получило название «иностранный заговор», и с его не только политическими и дипломатическими последствиями, но и с воздействием на социальную психологию, на мотивы поведения активных термидорианцев. Иными словами, связь между «иностранным заговором» и заговором, приведшим к 9 термидора.
Прогрессивными историками по достоинству оценены бесчисленные нападки на Робеспьера, которые исходили от всех его противников — от крайне правых до самых левых и которые потом наложили отчетливый отпечаток на последующую буржуазную и мелкобуржуазную историографию революции. Особенно большое значение имели злобные выпады против Неподкупного со стороны правых и левых участников контрреволюционного переворота 9 термидора. Однако это вовсе не равнозначно тому, что все факты, приводившиеся в их речах и памфлетах и призванные дискредитировать Робеспьера, являлись клеветническими вымыслами и должны быть отброшены как таковые. В этих выступлениях приводилось немало материалов, в том числе и документального характера, которые требуют тщательной проверки. Они могли иметь совсем другой смысл, чем это представлялось термидорианцам (это относится и к докладу, подготовленному и изданному в 1794 году комиссией под руководством правого термидорианца Е. Куртуа, которой было поручено разобрать бумаги Робеспьера и казненных вместе с ним его соратников, хотя этот доклад полон подтасовок и фальсификаций).
Несомненно, что Робеспьера никак нельзя считать единоличным диктатором в последние месяцы якобинской власти. Конечно, ему удавалось добиваться в Конвенте одобрения крайне непопулярных среди депутатов мер, вроде санкций на арест дантонистов, разрешения прекращать по желанию судей прения в Революционном трибунале, принятия прериальских законов. Он мог навязывать эти меры, подавив глухое недовольство со стороны не только сторонников побежденных группировок, но и молчаливого «болота». Однако летом 1794 года он уже не мог позволить себе риск, связанный с требованием голов неугодных депутатов, использовать свое еще сохранившееся преобладание в комитетах для организации помимо Конвента новых судебных процессов против своих недругов, включая и тех, кого с полным основанием подозревал в организации заговора против него, что ему казалось равносильным заговору против Республики. У Робеспьера не было намерения распустить Конвент и комитеты — это показало его поведение вечером 9 термидора, долгие колебания, предшествовавшие решению принять вызов со стороны Конвента.
Однако планы Робеспьера объективно вели к сосредоточению действительной власти в его руках. Он вынашивал планы «очищения» от своих врагов Конвента и комитетов, и слухи о подготовке им новых проскрипций несомненно способствовали формированию заговора, приведшего к 9 термидора. Здесь помимо всех глубинных причин сыграл важнейшую роль «человеческий фактор». Противники Робеспьера, по крайней мере их большая часть, действовали, прежде всего руководствуясь инстинктом самосохранения, поскольку альтернативой участию в заговоре и его успеху была только гильотина.
Термидорианцы, возводя всяческую хулу на Робеспьера, прибавляя к былям небылицы, многократно повторяли, что термидорианский переворот был «революцией» против «нового Кромвеля». Сравнение Робеспьера с Кромвелем, громко прозвучавшее в Конвенте 9 термидора, многократно повторялось европейской печатью в предшествующие три-четыре месяца. «Кромвель, — писала газета «Таймс», — всегда утверждал, что подозревает подготовку покушения на свою жизнь, и поэтому получил личную охрану, придавшую протектору внешность носителя королевского сана. Гражданин Робеспьер, видимо, следует такому же плану и станет королем по положению, если не по титулу. Однако между ними есть различие, заключающееся в том, что Робеспьер обратил хваленую Республику в самую воинствующую разновидность деспотизма и поэтому находит более необходимым защищаться против народного правосудия, чем английский цареубийца и узурпатор».
Если отбросить терминологию, характерную для торийской прессы тех лет, то ясно проглядывает уверенность, что развитие событий во Франции идет к установлению режима единоличной диктатуры, который одни в английских правящих кругах считали более приемлемым партнером для переговоров, а другие — менее серьезным противником, поскольку он обладал бы меньшим моральным авторитетом. Именно в этой связи надо рассматривать антиробеспьеристскую кампанию, которую повела «Таймс» в недели, предшествовавшие перевороту 9 термидора. 17 июля газета публикует статью «Характер Робеспьера», представляющую собой сведение воедино всех нападок на Неподкупного. Робеспьер предстает в этой статье как беспринципный политик, который, ловко маневрируя, прокладывает себе путь к власти. Сначала он в союзе с Маратом разгромил жирондистов, потом использовал некоторых из них, чтобы те убедили Шарлотту Корде убить Марата. Робеспьер подстрекал и Эбера, и Демулена, а Дантону, который также стремился к диктатуре, он дал обогатиться, до последнего момента уверял в своей дружбе, а потом погубил его и т. д. Это уж явно было не столько отражением в английских правящих кругах хода событий во Франции, сколько именно пропагандистским материалом против Робеспьера как возможного, наделенного диктаторскими полномочиями правителя Франции. Цитированные строки были напечатаны менее чем за две недели до 9 термидора.
Через много десятилетий член Комитета общественного спасения Б. Барер писал: «Я всегда считал Робеспьера республиканцем… Только с марта 1794 года мне показалось, что Робеспьер изменил свое поведение. Этому много способствовал Сен-Жюст, и этот наставник был очень молод». Робеспьер выдвинул проект диктатуры, с этого времени «были подорваны все знаки доверия в двух комитетах, и несчастья, которые следуют за раздорами в правительстве, стали неизбежными». И далее Барер замечал: «Это был человек бескорыстный, республиканец в душе, его несчастье произошло из-за стремления к диктатуре. Он считал ее единственным средством предотвратить разгул дурных страстей».
Говоря о «новом Кромвеле», современники подразумевали под этим не столько ликвидирующего гражданский строй, сколько установившего свою единоличную диктатуру правителя. Они считали, что культ верховного существа, верховным жрецом которого стал Робеспьер, был шагом на пути к культу самого Робеспьера.
Сохранившиеся после его гибели бумаги не содержат подтверждения этих обвинений. Тем не менее очевидно, что обвинение в намерении стать «новым Кромвелем» выдвигалось не столько потому, что было выгодно победителям 9 термидора, но и потому, что оно вызвало доверие (а возможно, что в него верили и сами участники термидорианского переворота). Основанием для этого было, скорее, неосознанное чувство, чем сознательное убеждение современников в том, что весь ход событий неизбежно привел бы к установлению режима личной власти Робеспьера, если бы развитие по этому пути не было прервано свержением диктатуры якобинцев. Допустим, что у Неподкупного субъективно не было намерения стать «новым Кромвелем». По некоторым сведениям, он отверг предложение, сделанное ему Сен-Жюстом, но не вели ли именно к этой цели намеченные им планы «очищения» комитетов и Конвента от наиболее опасных его противников? Не повторилось ли бы с этими органами власти то же, что уже произошло с Парижской коммуной, где вслед за устранением Эбера, Шометта и их сторонников власть сосредоточилась в руках Пейяна — прямого ставленника Неподкупного, опиравшегося на автоматическую поддержку депутатов-робеспьеристов?
Трудно представить, чтобы такой опытный политик, как Робеспьер, совсем не отдавал себе отчета, в каком направлении шло это развитие, в какие бы формы ни облекалась в его сознании перспектива установления режима его личной власти, какими бы доводами, исходящими из интересов революции, он ни оправдывал и ни обосновывал в собственных глазах путь, ведущий к личной диктатуре. Считать, что он совсем не видел эту перспективу, — значит очень низко оценивать его ум политика, политического мыслителя, который в других случаях оценивается так высоко (порой и не всегда заслуженно) в прогрессивной историографии. Словом, какими бы корыстными, низменными, эгоистичными ни были цели большинства организаторов переворота 9 термидора, какими бы клеветническими ни были их обвинения в адрес свергнутых «триумвиров» (Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона), утверждение, что переворот предотвратил переход диктаторской власти в руки Неподкупного, содержало зерно истины. А одним из орудий его диктатуры могла стать политическая полиция.
В революционное время, когда внутриполитическая борьба достигала наибольшей остроты, не раз случалось, что не только резко возрастало значение политической полиции, но и она переставала быть «просто» одним из карательных органов правительства. Политическая полиция приобретала относительную автономию, или начинала служить одной его части против другой, или даже фактически раскалывалась на две, на несколько полиций и вдобавок оказывалась инфильтрованной тайными агентами оппозиционных сил.
Не является ли случайностью, что первоначально столкновение Робеспьера и его противников в комитетах, тщательно скрываемое от посторонних взоров, приняло форму борьбы между Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности, причем не только внешне, но и по существу за контроль над политической полицией.
Законом, принятым 17 сентября 1793 года, Конвент наделил чрезвычайными полномочиями в сфере «расследований преступлений, производства арестов, содержания тюрем, революционного правосудия» Комитет общественной безопасности. До апреля 1794 года эти обширные полномочия принадлежали исключительно ему, хотя наиболее важные решения согласовывались им с Комитетом общественного спасения и подписывались членами обоих комитетов. Таким образом, контроль над политической полицией до весны 1794 года включительно находился в руках Комитета общественной безопасности. «Во все периоды смуты, во время всех гражданских войн, — писал А. Матьез, — политическая полиция выдвигается на передний план в заботах правящих кругов. Политическая полиция была душой террора… Задача заключается в том, чтобы установить связь между политической историей и полицейской историей, сравнить без перерыва день за днем перечень арестов и официальных актов, показать воздействие раскрытия «заговоров» на общую линию поведения правящих кругов». Надо заметить, что часто понятие «политическая полиция» знаменитый французский историк использовал в расширительном смысле, включая в него также разведку и контрразведку. Это было тогда тем более распространенным словоупотреблением, что исторически политическая полиция обычно выполняла и функции разведывательных служб. Однако в данном случае Матьез явно имел в виду политическую полицию в собственном, более узком значении этого слова.
Аппарат комитетов был заполнен сомнительными лицами. Если в Комитете общественного спасения при приеме в штат требовали (хотя далеко не во всех случаях) наличие минимальной подготовки, то в Комитете общественной безопасности дело обстояло много хуже. Амар и Жаго, в частности, принимали людей без всякой проверки на основе просьб того или иного депутата Конвента, иногда по рекомендации различных секций и народных обществ. Получить обманным путем в этих органах какую-нибудь, пусть даже весьма туманную, рекомендацию оказывалось не столь уж трудным делом. Полбеды было бы, что новые служащие Комитета мало подходили к новой должности — во время революции способные и преданные люди росли с небывалой быстротой. Значительно хуже было то, что немало чиновников Комитета по своему моральному уровню явно не заслуживали оказываемого им доверия. Взяточничество и — что порой бывало не менее вредным и опасным — канцелярская неразбериха, волокита аппарата Комитета общественной безопасности, естественно, вызывали недовольство Робеспьера. Подозрения Неподкупного еще больше возросли, когда он перестал доверять наиболее влиятельным членам Комитета, прежде всего Амару и Валье, разойдясь с ними по вопросам религиозной политики и другим. В своей последней речи 8 термидора Робеспьер резко обрушился на агентов Комитета общественной безопасности.
Кого же при этом имел в виду Неподкупный? Среди них, безусловно, был уже упоминавшийся выше Сенар. Юрист по профессии, именно он пытался с помощью дела полусумасшедшей старухи Катерины Тео скомпрометировать или по крайней мере представить в смешном свете Робеспьера, которого та считала мессией. Робеспьеру, конечно, было известно, что Сенар для пущего издевательства изменил в документах ее фамилию Theot на Theos («Бог» — по-гречески). Робеспьер мог подозревать, что именно он сфабриковал письмо «Богоматери» к Неподкупному. Поэтому, хотя Робеспьер имел своих людей среди штата служащих Комитета общественной безопасности, он решил создать параллельно ему полицию при Комитете общественного спасения. Учитывая растущее число своих врагов, которые могли помешать реализации этого проекта, Робеспьер осуществил его с необходимыми осторожностью и ловкостью.
В первой половине апреля (около 20 жерминаля) на объединенном заседании он потребовал в целях большей централизации административного аппарата создать секцию в составе Комитета общественного спасения. Смысл этого шага, видимо, ускользнул от противников Робеспьера в комитетах, и проект не вызвал возражений. От имени комитета был сделан соответствующий доклад Конвенту, и на следующий день, 27 жерминаля, был принят отредактированный Кутоном декрет, которым Комитету общественного спасения поручалось инспектирование органов власти и отдельных правительственных чиновников, преследование тех, кто использовал «против Свободы полномочия, которые были вручены». Принятие декрета означало резкое сужение прав Комитета общественной безопасности, который как раз и осуществлял такие контролирующие и карательные функции.
Созданным на основе декрета в рамках Комитета общественного спасения Бюро общей полиции руководил ближайший соратник Робеспьера Сен-Жюст. За работой Бюро постоянно следил и сам Неподкупный. Персонал нового Бюро в составе 30 человек был поставлен под начало Огюстена Лежена. Этот 23-летний выхолен из Суассона был близким знакомым Сен-Жюста. Несмотря на молодость, за спиной Нежена уже были служба в армии, ранение, служба в штате министерства иностранных дел. Позднее он заделался писателем, а в 1802 году стал руководителем таможни. После термидорианского переворота Нежена обвиняли в том, что он отправил на гильотину несколько своих земляков. В ответ он опубликовал перечень фамилий дворян из Суассона, внесенных в списки подозрительных и якобы спасенных им от Робеспьера (двое из них были даже арестованы, но через несколько дней выпушены на свободу благодаря заступничеству Нежена). Более того, он даже утверждал, что саботировал усилия Бюро, что туда поступило 20 тыс. заявлений, но благодаря его, Нежена, стараниям лишь по 250 из них были заведены дела и т. д. Большинство этих утверждений не поддаются проверке, но очевидно, что до 9 термидора Нежен пользовался полным доверием Сен-Жюста.
В числе чиновников Бюро был Симон, племянник столяра, в квартире которого проживал Робеспьер. Четыре секции Бюро поддерживали регулярную переписку с департаментами и ежедневно представляли доклад Комитету общественного спасения. Бюро имело своих осведомителей, среди которых стоит отметить Руссевиля, связанного с заговором Батца, и молодого Марка-Антуана Жюльена. Производство арестов было обязанностью Комиссии гражданской администрации, возглавлявшейся Германом.
Как утверждает осведомленный современник М. А. Бодо, сразу после принятия декрета Конвентом Робеспьер приказал изъять у Комитета общественной безопасности все досье с делами, относящимися отныне к ведению нового Бюро. В результате этого возникла неразбериха. Приказы об аресте, которые издавались одним из этих органов, отменялись другим, выпушенные на свободу лица вновь заключались в тюрьмы. С помощью Бюро обшей полиции Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон могли контролировать действия председателя Революционного трибунала Дюма, общественного обвинителя Фукье-Тенвиля, новых — с марта — апреля 1794 года — руководителей Коммуны Парижа Пейяна и Флерио-Леско. Противники Робеспьера в Комитете общественного спасения именовали полицейское бюро «синедрионом».
После создания Бюро обшей полиции возникли соперничество и скрытая борьба между его представителями и агентами Комитета общественной безопасности. Когда Сен-Жюста в качестве руководителя Бюро сменил Робеспьер, фактически ни одно из дел не передавалось в Комитет общественной безопасности. Он явно стал игнорировать этот комитет, который также проявлял склонность не сообщать Бюро обшей полиции сведения, относящиеся к сфере его деятельности. Полиции обоих комитетов фактически обладали правом арестовывать или освобождать из-под ареста лиц, обвиняемых в одних и тех же преступлениях. До времени своего последнего заседания 7 термидора Бюро изучило 3777 дел, что завершилось 250 арестами и 58 освобождениями из заключения.
Параллельно производились аресты Комитетом общественной безопасности и подчиненными ему народными комиссиями, которые должны были отбирать из числа арестованных лиц, отправляемых в Революционный трибунал. Две комиссии в Париже, созданные приказами от 24 и 25 флореаля (13 и 14 мая), представляли по требованию Робеспьера ежедневные отчеты Комитету общественного спасения. Бюро обшей полиции было обязано просматривать и окончательно санкционировать представленные списки. Первые из таких утвержденных списков были подготовлены в начале термидора, причем Сен-Жюст согласился, чтобы на этой стадии в их оформлении участвовал Комитет общественной безопасности.
В провинции функции политической ПОЛИЦИИ выполняли военные комиссии, чрезвычайные трибуналы, которые Конвент решил 19 флореаля (8 мая) упразднить, поручив их обязанности Комитету общественного спасения. Комитет отозвал и «ультрареволюционных» эмиссаров Конвента Тальена, Барраса, Фрерона, Каррье, считая, что своими действиями они «бесчестят революцию». Функции политической полиции в провинции осуществляли также революционные комитеты, поддерживавшие прямую связь с Комитетом общественного спасения, который намеревался контролировать их деятельность и их состав. Революционные комитеты представляли в Бюро обшей полиции списки арестованных. Комитет создал новое бюро по делам арестованных во главе с Лезюром. 21 мессидора (9 июля) по приказу за подписями Карно и Сен-Жюста революционные комитеты были подчинены Комиссии гражданской администрации.
На создание Бюро обшей полиции как причину напряженности в отношениях двух комитетов указывает в своих мемуарах важный свидетель — неоднократно упоминавшийся выше агент Комитета обшественной безопасности Габриель-Жером Сенар. Однако подлинность этих воспоминаний несколько сомнительная: Сенар скончался в 1795 году в тюрьме. Доссонвиль, о красочной карьере которого нам уже приходилось говорить, передал эти мемуары одному литератору. Он опубликовал их почти через тридцать лет после смерти автора. Кроме того, мемуары свидетельствуют об исступленной ненависти Сенара к Робеспьеру, как, впрочем, и к победившим термидорианцам. По одному этому содержащиеся в них сведения требуют тщательной перепроверки. Если Сенар придавал такое значение полицейскому бюро, непонятно, почему он не упомянул об этом ни в объяснительной записке, оправдывавшей его действия, ни в своих показаниях на процессе бывшего общественного обвинителя Революционного трибунала Фукье-Тенвиля. (Напротив, сам Фукье, линия зашиты которого состояла в том, что он выполнял лишь приказы обоих комитетов и не имел никаких личных связей со свергнутыми «триумвирами», отрицал, что у него были какие-то особые дополнительные контакты с Бюро общей полиции.)
М.-А. Бодо тоже писал, что ожесточенные столкновения между Бюро обшей полиции и Комитетом обшественной безопасности были в числе причин, приведших к 9 термидора.
Вопрос о Бюро обшей полиции фигурировал в нападках на Робеспьера 8 и 9 термидора. Вадье обвинял Робеспьера в том, что, создав свою «обшую полицию», он «угнетал патриотов», производил нужные ему аресты. Барер утверждал, что Робеспьер и Сен-Жюст были заняты лишь тем, чтобы руководить «созданной ими обшей полицией». Камбон, выступая на том же заседании Конвента, приводил в качестве свидетельства незаконного, по его мнению, преобладания Комитета общественного спасения над другими комитетами Конвента, «организованную тираном Робеспьером секцию обшей полиции. С ее помощью он пускал в ход свои проскрипции, препятствуя действиям Комитета общественной безопасности, снимал с постов патриотов, которые нередко были уполномочены осуществлять важные меры».
Левые термидорианцы — Бийо-Варенн и Колло д’Эрбуа, когда позднее их стали обвинять в сообщничестве с «триумвирами», также поспешили возложить на них ответственность за создание Бюро обшей полиции. В сентябре 1794 года Бийо-Варенн заявлял: «Конвент знает, что Робеспьер с целью привести к контрреволюции путем террора организовал общую полицию, руководство которой он осуществлял исключительно только с Сен-Жюстом». Этот тезис многие термидорианцы, бывшие члены Комитета общественного спасения, обвинявшиеся своими более правыми сообщниками, повторяли на разные лады. Подобные утверждения содержались в мемуарах, которые Вадье составил уже в годы Реставрации, находясь в эмиграции в Бельгии. Члены Комитета общественного спасения — Барер, Карно и другие — заявляли, что они не подписывали, по крайней мере первыми, в качестве ответственного лица приказы этого Бюро общей полиции, поскольку считали их актами произвола, попытками навязать свою волю Конвенту и т. д.
Одному из чиновников Бюро обшей полиции, Клоду Герену, и его помощникам было поручено ежедневно составлять доклады о состоянии Парижа, включая преступления политического и уголовного характера. В отчетах Герена в мессидоре содержатся обвинения против депутатов Конвента. Именно эти доклады дали повод термидорианцам утверждать, что Бюро было превращено в личную разведку Робеспьера. За Бурдоном (из Уазы) после его резкого столкновения с Неподкупным 27 прериаля следили агенты правительства, в частности Герен, который якобы был личным лазутчиком Робеспьера. Куртуа в своем отчете от 16 нивоза III года утверждал, что Робеспьер де имел намерение «сосредоточить всю власть в своем Комитете общественного спасения и добиться понемногу контроля над Комитетом общественной безопасности».
Действительно, ряд сторонников Робеспьера, в том числе глава Коммуны Пейян, предлагали ликвидировать Комитет общественной безопасности. Но сам Робеспьер, видимо, добивался лишь «очищения» этого Комитета. В своей речи 8 термидора в Конвенте, потом повторенной в тот же вечер в Якобинском клубе, Робеспьер говорил: «Что касается меня, то я дрожу при мысли, что враги революции, что прежние проповедники роялизма, что бывшие дворяне, быть может, эмигранты, вдруг сделались революционерами и превратились в чиновников Комитета общественной безопасности, с тем чтобы отомстить друзьям родины за рождение Республики и за ее успехи. Было бы весьма странно, если бы мы были настолько добры, что оплачивали бы шпионов Лондона и Вены за их помощь в работе республиканской полиции».
В конце речи, говоря о мерах пресечения действия заговорщиков, Робеспьер заявил, что они имеют «сообщников в Комитете общественной безопасности и во всех бюро этого комитета, где они господствуют, что враги Республики противопоставили этот комитет Комитету общественного спасения и таким образом установили два правительства; что в этот заговор входят члены Комитета общественного спасения; что созданная таким образом коалиция стремится погубить патриотов и родину. Как исцелить это зло? Наказать изменников, обновить все бюро Комитета общественной безопасности, очистить этот комитет и подчинить его Комитету общественного спасения, очистить и самый Комитет общественного спасения…»
При аресте Шабо, Базира и других участников «дела Ост-Индской компании» комитеты приложили усилия, чтобы лишить арестованных депутатов возможности выступить в Конвенте (Конвент должен был лишь задним числом санкционировать их арест). При аресте эбертистов речь шла о лицах, не являвшихся членами высшего законодательного учреждения страны. Лидеры дантонистов были депутатами, но Конвенту опять не позволили выслушать их оправдания, а высказывание, даже вполголоса, такого пожелания комитеты объявили доказательством соучастия в заговоре. Напротив, приказ об аресте Робеспьера и нескольких его ближайших соратников был издан Конвентом, где они оказались полностью изолированными. В юридическом смысле 9 термидора никак нельзя было считать государственным переворотом, хотя он был по своим последствиям именно таковым.
События развивались с молниеносной быстротой. Когда Анрио промчался по Антуанскому предместью с криком: «Робеспьер арестован, мошенники и негодяи торжествуют!» — это «могло вызвать лишь недоумение и беспокойство, потому что никто ничего в тот момент не понял…» Считают, что это не дало возможности мобилизовать сторонников Робеспьера. Но то же самое относится и к сторонникам Конвента. В такой обстановке огромную роль играют непредсказуемые случайности. Однако случайность, которая сломила сопротивление робеспьеристов, оказалась напрямую связанной с их социальной политикой и — с «иностранным заговором».
О более глубоких социальных причинах, приведших к победе термидорианского Конвента над робеспьеристской Коммуной, о колебаниях Неподкупного и его сторонника — начальника парижской национальной гвардии Анрио, которые помешали им использовать благоприятную возможность — примерно в 9 часов вечера 9 термидора захватить Конвент и арестовать главарей заговора, а те, напротив, действовали решительно, — в исторической литературе говорилось неоднократно. Особенно важная роль выпала на долю депутата Конвента Леонара Бурдона. Робеспьер писал о нем в сделанных им заметках: «Леонар Бурдон — интриган, презираемый во все времена, один из главных сообщников Эбера, неразлучный друг Клоотса… Он однажды пришел просить вместе с Клоотсом об освобождении голландских банкиров Вандениверов». (Банкир Ванденивер, в 1794 году отправленный на гильотину, был, как упоминалось выше, связан с Батцем, который имел на счету в его банке 216 тыс. ливров.) Бурдон сумел убедить военный отряд секции Гравилье (значительная часть руководства этой секции, на территории которой проживал бедный люд, высказалась за Коммуну), что Робеспьер собирается уничтожить Республику и жениться на дочери казненного короля. «Доказательства» этого, разумеется, никогда не были представлены. Но характерно, что эта, по выражению Матьеза, «смешная басня» могла оказать влияние на отряд национальной гвардии секции Гравилье.
Арест Робеспьера 28-го июля (9-го термидора) 1794 г.
Гравюра М. Слоана по рисунку Барбье
По дороге к зданию ратуши колонна, возглавляемая Бурдоном, повстречала отряд жандармов, принадлежавший к охране Тампля, который примкнул к колонне секции Гравилье. Этот отряд ворвался в ратушу в результате предательства адъютанта командующего парижской национальной гвардией Иоганна Вильгельма Улрика, выдавшего им пароль. В своих показаниях, данных 10 термидора в секции Гравилье, он рассказывал, что вначале 9 термидора исполнял распоряжение Анрио во время занятия его отрядами здания Комитета общественной безопасности, но потом, разобравшись, в чем дело, покинул свой пост. Однако Улрик предпочел умолчать о своих дальнейших действиях, о которых мы знаем из других источников. Небезынтересно отметить, что Улрик был вместе с Эбером частым гостем у банкира Кока. Допустимо усомниться в подлинности фамилии этого иностранца и задать вопрос, почему он руководил жандармами из охраны Тампля. Проникнув в ратушу, авангард жандармов, чтобы скрыть свои намерения, восклицал: «Да здравствует Робеспьер!»
Историки спорят, было ли ранение Робеспьера в челюсть результатом попытки самоубийства или выстрела, произведенного жандармом Меда, а может, еще кем-то из отряда, ворвавшегося в ратушу. Если была попытка самоубийства, Робеспьер направил бы взятое в рот дуло не горизонтально, а вертикально. Существует маска, как будто бы снятая с Робеспьера. Она демонстрирует, что наряду со следом пули, выпушенной в подбородок, о которой говорил Меда, видно и повреждение слева от нижней челюсти — результат выстрела, произведенного сзади. Это ранение не подтверждает подозрения, высказанного еще современниками, причем принадлежащими к разным политическим лагерям, включая бабувиста Буонарротти и роялиста англо-австрийского шпиона Малле дю Пана. Последний писал по свежим следам событий 9 термидора и утверждал, что был заговор заставить Робеспьера молчать вплоть до момента его казни. Робеспьера и его сторонников, объявленных Конвентом вне закона, гильотинировали 10 термидора без всякого судебного процесса. В последующие дни проходили новые казни робеспьеристов. Одна политическая полиция сфабриковала заговоры весны 1794 года, а также «заговор» робеспьеристов, якобы предотвращенный 9 термидора. А другая политическая полиция фактически проглядела и размах, и конкретные очертания вполне реального заговора, приведшего к термидианскому перевороту.
ЛЮДОВИК XVII — «ТАЙНА ТАМПЛЯ»
Было бы ошибкой относить вопрос о Людовике XVII к числу незначительных «мелочей», не заслуживающих внимания серьезной историографии. Речь идет об оценке политической линии ряда крупных деятелей революционного времени. Более того — о выявлении тех тайных намерений, которые в этой обширной литературе приписываются руководителям революционных группировок и которые, будь они истинны, радикально изменили бы наше представление об этих деятелях, об их подлинных убеждениях и политической программе.
Один из новейших исследователей вопроса о судьбе Людовика XVII, Андре Луиго, писал: «Тысячи томов написано об этом деле, и все же не удалось пролить свет на причины того, почему противниками теории бегства дофина не были представлены абсолютные доказательства смерти (дофина. — Е. Ч.), а сторонники этой теории не смогли убедительно доказать, что он был увезен из Тампля». «Проблема Людовика XVII, — писал в 1982 году историк вандейских войн Шьяп, — это бездонная тайна. Наиболее экстравагантные решения часто имеют успех у публики в ушерб разъяснениям более рациональным, но разочаровывающим, так как они лишены красочности».
Интерес к «тайне Тампля» подпитывался разными источниками. Первоначально он был продиктован явными политическими интересами. Во время Реставрации, когда речь заходила о судьбе дофина, сразу же вставал вопрос о «законности» занятия престола Людовиком XVIII, а потом Карлом X. После революции 1830 года, свергнувшей с трона старшую ветвь Бурбонов, также обсуждалась «законность» притязаний на престол официального претендента легитимистов графа Шамбора («Генриха V»). А ведь тот окончательно отказался от своих притязаний лишь в 70-х годах XIX в.
Вопрос о судьбе дофина постоянно возникал в конце 1793 года и первой половине 1794 года. Беспокойство по поводу того, что сын Людовика XVI может быть похищен и его имя использовано в качестве объединяющего знамени всех врагов революции, не покидало монтаньяров. В 1794 году Эбер в № 180 своей газеты «Пер Дюшен» вопрошал: «Вдобавок, что такое один ребенок, когда речь идет о спасении Республики? Разве те, кто удавил бы в колыбели его пьяницу-отца и его шлюху-мать, не поступили бы самым лучшим образом, который только можно вообразить? Вот мой совет, черт возьми». Одновременно обсуждался вопрос, как использовать дофина в интересах Республики. Член Комитета общественного спасения Бийо-Варенн говорил в Конвенте 19 фрюктидора I года (5 сентября 1793 года): «Заявите державам коалиции, что один лишь волосок поддерживает сталь над головой сына тирана и что, если они сделают дальше еще один шаг по нашей территории, он (дофин. — Е. Ч.) станет первой жертвой народа». Дантон изрек с угрозой: «Пусть остерегается Робеспьер, чтобы я не бросил ему дофина, как пешку в колеса!»
Фабр д’Эглантин доказывал, и немало единомышленников, разделяли его мнение, что правление Людовика XVII стало бы «лучшим способом спасти Республику». В своем докладе об аресте эбертистов, сделанном 26 вантоза (16 марта 1794 года), Кутон указывал: «Пытались доставить детям Капета письма, пакет и 50 луидоров золотом. Целью этой посылки было облегчить бегство сына Капета, так как заговорщики замыслили установить совет регентства и присутствие этого ребенка было необходимо для водворения регента». Напомним, что дофину в это время было 8, а его сестре — 15 лет. 9 термидора вопрос о дофине не раз фигурировал в заявлениях как сторонников, так и противников Робеспьера. Вечером между 8 и 10 часами Робеспьер-младший, выступая в ратуше, заявил, что заговорщики хотят поработить Конвент, уничтожить патриотов и выпустить молодого Капета из Тампля. Напротив, Леонар Бурдон заявил в секции Гравилье: «Комитеты имеют доказательства, что Робеспьер собирался жениться на дочери тирана». После 9 термидора Барер обвинял Робеспьера в том, что он «стремился восстановить на троне сына Людовика XVI» и к тому же «намеревался жениться на дочери монарха». А много позднее Камбасерес (имперский канцлер при Наполеоне) заявлял, повторяя старые россказни: «Они все желали на ней жениться, начиная с Робеспьера». Инсинуации, и не более того? Все же некоторые западные историки, отнюдь не только авторы сенсационных книг, склонны по крайней мере задавать вопрос, не стремился ли Робеспьер заполучить в свои руки дофина, заставив «официально умереть того, кто подменил его, с целью устранить возможность любой последующей идентификации».
Что же касается ряда других политиков того времени, то такое обвинение вообще нельзя считать неправдоподобным, учитывая то, что известно об их поведении до и после 9 термидора. Вопрос здесь только о выгодности для них и осуществимости такого плана.
Еще до смерти дофина в июне 1795 года и особенно после нее возникла легенда о его бегстве из Тампля, послужившая темой для многочисленных специальных исследований и исторических романов. Количество их продолжает увеличиваться и в наши дни. В работах эвазионистов (от французского слова evfsion — бегство) использованы ранее недоступные исследователям источники, фигурируют новые (другой вопрос, насколько веские) аргументы. В то же время авторы этих книг ссылаются на более чем сомнительные свидетельства, ставшие известными из вторых или третьих рук, на архивные фонды, сгоревшие при подавлении Парижской коммуны в 1871 году, на документы, подложность которых была давно уже твердо установлена, на частные коллекции документов, заботливо оберегаемые от постороннего глаза. Эти работы прежде всего бьют на сенсацию, некоторые из них относятся, скорее, к жанру «исторического детектива». Но не следует принимать за чистую монету уверения эвазионистов, что они, мол, толкуют о сюжете, давно потерявшем всякое значение, кроме удовлетворения страсти к загадкам истории. Важно даже не то, что в этой литературе сильна ностальгия по дореволюционному прошлому, — как раз здесь проглядывает скорее дань моде, кокетливая поза монархистов, опоздавших родиться на 100 или 200 лет. На деле сверхзадача книг о «тайне Тампля» заключается в консервативном истолковании истории революции.
Содержание дофина, сына Людовика XVI и Марии-Антуанетты, — Шарля Луи, герцога Нормандского, в тюрьме Тампль было прежде всего мерой предосторожности, а не какой-то местью восьмилетнему ребенку. Оно диктовалось необходимостью, чтобы Шарль Луи не попал в руки роялистов. Дофина и его сестру власти рассматривали и как заложников, которых можно было бы обменять на пленных республиканцев, находившихся в руках неприятельских держав.
В качестве воспитателя дофина был назначен сапожник Симон, искренний республиканец, судя по всему, стремившийся привить такие чувства и ребенку, отданному на его попечение. В этом он следовал желаниям главы Коммуны Шометта, который заявил в разговоре с одним роялистом: «Я хочу, чтобы ему дали некоторое образование: я удалю его из семьи, чтобы он забыл о своем ранге». Правда, заметитель Шометта Эбер во время судебного процесса Марии-Антуанетты в октябре 1793 года затеял недостойную игру, фабрикуя грязные обвинения от имени восьмилетнего ребенка против матери (известно, какое это вызвало возмущение Робеспьера, справедливо считавшего, что такие приемы способны были только запятнать честь революции и вызвать сочувствие к королеве). Ведь Марию-Антуанетту судили не за какие-то аморальные проступки или мнимые извращения, а за вполне реальные преступления против народа, за пособничество и подстрекательство интервентов, топтавших французскую землю, стремившихся потопить в крови молодую республику.
Действия Эбера подливали масло в огонь, помогали распространению слухов о жестоком обрашении с дофином. На деле есть много документальных доказательств противного — вплоть до денежных счетов за купленные Симоном игрушки, цветы и птицы для своего подопечного. Сохранились и счета прачки за стирку белья, которые, между прочим, также неожиданно были использованы эвазионистами для подкрепления своих концепций. Но об этом дальше.
Симон, очевидно, находился в добрых отношениях не только со своим воспитанником, но и с его сестрой, позже герцогиней Ангулемской. В 1816 году, испытывая одного из самозванцев, объявлявших себя ее братом, она задала вопрос, что Симон поручил дофину передать ей в день, когда она постригла волосы. Из этого вопроса следует, что Симон оказывал какие-то услуги заключенным. Герцогине не было нужды называть имя Симона, если бы оно было ей неприятно.
Тщательная, надежная охрана Тампля была непростым делом. По архивным данным, каждый месяц в Тампле выдавалось около 7 тыс. продовольственных карточек — для солдат, служащих, рабочих разных профессий. Сама обстановка, созданная вокруг дофина, многочисленная, ежедневно сменявшаяся стража Тампля, запрещение видеть Шарля Луи кому-либо, кроме строго ограниченного числа лиц, — все это плодило слухи. «Было известно, — пишет М. Гарсон, — что вокруг его имени плетутся многочисленные интриги». Летом и осенью 1793 года барон Батц предпринимал попытки организовать бегство королевы с дофином. В октябре 1794 года один из главарей «парижского агентства», Сурда, судя по письмам Бротье, вел подготовку к похищению дофина из Тампля. Бротье, к этому времени решивший придерживаться выжидательной тактики, видимо, отдалился от Леметра и Сурда — сторонников активных действий. Рассказывая о действиях Сурда, Бротье выражал опасения, не являются ли лица, которым тот доверяет, «австрийскими агентами». В письме от 7 ноября 1794 года Бротье не скрывал своего крайнего недоверия к возможности осуществления плана Сурда, который, мол, находится во власти «тысячи химер».
Еще 3 января 1794 года (14 нивоза) Генеральный совет Коммуны в связи с отсутствием на заседаниях большого числа своих членов постановил, что отныне им запрещается, если они хотят сохранить свое место в совете, занимать какую-либо оплачиваемую должность в административных органах. Предложение сделать исключение для Симона было отвергнуто, и 5 января (16 нивоза) Симон подал в отставку с поста воспитателя бывшего дофина. С этого числа и до 19 января не имеется никаких достоверных сведений о том, что делал в эти дни Симон. Утверждения, что он все это время отсутствовал в Тампле, — позднейшего происхождения и могут казаться подозрительными.
В ответ на запрос Генерального совета Комитет общественного спасения 27 нивоза (16 января) предписал, чтобы наблюдение за содержанием дофина было возложено на четырех членов Генерального совета, сменяемых каждые сутки. 19 января Симон и его жена окончательно покинули Тампль. Были переоборудованы помещения на втором этаже, где содержался «маленький Капет». Эта работа была, видимо, закончена 27 января (9 плювиоза), и дофин был заключен в одну из комнат. В течение последующих шести месяцев никто вовне не знал чего-либо определенного о его участи. Впрочем, возможность увоза или подмены «заложника» в промежуток между 4 и 17 января 1794 года не представляется сколько-нибудь реальной. После того как Симон подал в отставку, 7 января начались работы для изоляции помещения, в котором содержался дофин. В них участвовали работники, хорошо знавшие его в лицо, например трубочисты Маргерит и Фирно. Работы были закончены лишь 31 января. Даже если в это время был уже где-то спрятан «двойник», надо учитывать, что каждый вечер со времени отбытия Симона четверо дежурных комиссаров посещали дофина и разговаривали с ним. С 19 по 30 января 44 дежурных комиссара видели дофина, все они, за исключением троих новичков, знали «маленького Капета» в лицо, часто встречали его в Тампле. Ни один из них не заметил «подмены», не поднял тревогу. М. Гарсон подробно опровергает мнение о том, что с 31 января 1794 года «маленький Капет» был полностью изолирован в своей комнате и никто не имел возможности его видеть, — «легенду о замуровании или по крайней мере об абсолютном затворничестве». Комната, в которой содержался дофин, по мнению М. Гарсона, основанному на анализе целого ряда документов, имела дверь, ведущая в переднюю. Через эту дверь можно было входить к дофину, что и проделывали ежедневно дежурные комиссары и служащие Тампля. Это делало «подмену» и бегство, которые к тому же бы заметили, попросту невозможными. Без «легенды о замуровании» утверждения эвазионистов становятся еще более сомнительными. Но нашлись и аргументы в их пользу. Историк Л. Астье нашел в Национальном архиве план второго этажа Большой башни Тампля, выполненный в 1796 году. Из плана явствует, что дверь, ведущую в прихожую, нельзя было открывать, так как на ее месте была сложена печка, в низу которой была проделана форточка для связи с внешним миром. «Все было готово для осуществления возможной подмены», — утверждал на этом основании французский историк А. Кастело.
В ночь с 9 на 10 термидора, когда еще чаша весов колебалась и победа Конвента еще отнюдь не была обеспечена, он направил отряд из 200 человек в Тампль для укрепления находившейся там стражи, с тем, чтобы воспрепятствовать возможной попытке со стороны своего врага — робеспьеристской Коммуны — увезти важных заложников — дофина и его сестру. А уже в 6 часов утра Баррас, командовавший войсками Конвента, в сопровождении еще нескольких депутатов сам явился в Тампль, чтобы убедиться в том, насколько надежно охраняется «маленький Капет». Баррас рассказал о своем визите в «Мемуарах», написанных через десятилетия после 9 термидора. В числе дежурных комиссаров, которые 28 июля (10 термидора) несли охрану Тампля, был некто Дорине — врач, член секции столичного района Французского пантеона. Это был тот самый Дорине, который в прошлом, 19 января 1794 года, дежурил в Тампле, когда Симон, покидая тюрьму, передал дофина на попечение комиссаров, назначаемых Коммуной. Если бы Дорине увидел 28 июля не того же ребенка, который был ему знаком с 19 января, он наверняка сообщил бы об этом Баррасу. Приближенная королевы Полин де Турзел после казни Елизаветы, сестры Людовика XVI, в мае 1794 года заявила, что дочь короля осталась в Тампле одна из всей своей семьи. Это могло означать, что ее брата, дофина, уже не было в Тампле. Один из сопровождавших Барраса в ночь с 9 на 10 термидора, депутат Конвента Гупило де Фонтене, ранее бывший членом Законодательного собрания, видел дофина 10 августа 1792 года, когда королевская семья укрылась в помещении собрания. Он сопровождал Барраса при посещении Тампля 10 термидора, а потом был в тюрьме 14 фрюктидора (31 августа) и 7 брюмера (28 октября). Однако не заявил ли Гупило де Фонтене Баррасу, что показанный им ребенок — не дофин? Нам известно об этом заявлении лишь со слов родственников Гупило де Фонтене, причем сказанных через много десятилетий после революции. А сопровождавший его 7 брюмера Ревершон снова был 19 декабря 1794 года с инспекционным визитом в Тампле в сопровождении еще одного члена Конвента, Армана, и тем самым подтвердил, что ребенок тот же, которого он видел два месяца назад. 27 февраля Тампль посетил Арман, который, правда, много позднее подтвердил, что видел того же ребенка, что и при визите 19 декабря. Итак, от 10 термидора до 25 февраля 1795 года непрерывная цепь свидетелей подтверждает, что в Тампле содержался все это время один и тот же ребенок. Предположить, что похищение дофина состоялось когда-то в первой половине 1794 года (вероятнее всего, как уже отмечалось, между 4 и 19 января), означает допустить, что в последующие год-полтора никто из большого количества дежурных членов Коммуны, специально приставленных для наблюдения за «заложником», из тюремных служащих всех рангов не заметил подмены или, заметив, добровольно решил принять на себя смертельно опасную роль соучастника заговорщиков.
В 1795 году вопрос о судьбе дофина по-прежнему фигурировал в роялистских планах и в переговорах Франции с державами неприятельской коалиции. Как писал министр иностранных дел Великобритании Гренвил У. Уикхему 8 июня 1795 года, Гарденберг, который был прусским уполномоченным на переговорах, приведших к заключению Базельского мира, рассказывал министру какого-то из немецких князей, что член Конвента Мерлен из Тионвилля и французский генерал Пишегрю разработали в мае 1795 года план провозглашения Людовика XVII королем и что Гарденберг ездил в Берлин убеждать прусского короля поддержать этот проект. В ходе переговоров, вспоминал французский посол в Швейцарии, впоследствии член Директории Бартелеми, испанский уполномоченный д’Ириарте заявил, что ему поручено сделать предложения касательно Людовика XVII. Однако, поскольку Бартелеми не имел инструкций и не считал возможным их испрашивать, обсуждение этого вопроса не состоялось.
8 июня 1795 года дофин умер, подточенный золотухой и туберкулезом, от которых скончался до революции его старший брат.
Надо признать к тому же, что в отчетах об обстоятельствах смерти и погребения дофина имеется немало частных противоречий, неясных или даже как будто нарочитых двусмысленностей. Например, в медицинском заключении двое из четырех подписавших его врачей, по всем данным, еще до революции имели случай видеть умершего ребенка. Между тем в своем заключении они выражаются очень осторожно. Им, мол, было показано мертвое тело и сказано, что оно является трупом «сына Капета» (т. е. Людовика XVI). Это можно принять и просто как констатацию факта, и как многозначительную оговорку, что врачи не касаются вопроса, чей труп они осматривали, и что ими лишь зафиксированы результаты вскрытия тела умершего десятилетнего ребенка.
Незадолго до смерти Шарля посетили в Тампле представители термидорианского Конвента. Впоследствии один из них, Арман, рассказывал, что, хотя ребенок послушно выполнял дававшиеся ему приказания, от него нельзя было, несмотря на все усилия, вытянуть ни одного слова. Возникала мысль, что мальчик немой. Своими воспоминаниями Арман поделился с кем-то в 1814 году, когда вернувшийся во Францию Людовик XVIII назначил его префектом департамента Верхние Альпы. Через несколько месяцев после опубликования всех этих воспоминаний, которые явно не могли понравиться королю, Арман был смешен со своего высокого административного поста и умер в нишете.
Если верить Арману и при этом отвергнуть малоправдоподобную гипотезу, что ребенок месяцами молчал, «не желая иметь дело» с республиканскими властями, то напрашивается вывод, что дофина действительно подменили другим мальчиком. Любопытно, что опубликовавший в том же 1814 году первую книгу о дофине некий Экар утаил имевшуюся в его распоряжении заметку Сенара, агента Комитета общественного спасения. В этой заметке, составленной после медицинского вскрытия тела, прямо указывалось, что умерший — не дофин. Через несколько месяцев, в марте 1796 года, Сенар скончался. (Документ, о котором идет речь, впоследствии попал в руки одного французского историка.) Отмечали, что 1 июня 1795 года, то есть за неделю до смерти дофина, скоропостижно скончался наблюдавший его врач, известный хирург Десо. Он хорошо знал своего пациента и если бы был жив, то он уж во всяком случае не мог в медицинском заключении писать, что ему и его коллегам показали мертвое тело, разъяснив, что это труп «сына Капета». Племянница Десо мадам Тувенен в 1845 году показала под присягой, что ее тетка, вдова хирурга, сообщила ей о следующих обстоятельствах смерти своего мужа. Десо посетил Тампль и убедился, что дофин, которого он лечил, заменен другим ребенком. Когда он сообщил об этом, несколько депутатов Конвента пригласили его на званый обед. После возвращения домой Десо почувствовал себя больным, начались острые спазмы, и он вскоре скончался. Этот рассказ подтвердил в Дондоне доктор Аббейе, ученик Десо, который, по его словам, опасался также и за собственную жизнь и поэтому бежал из Франции.
Однако стараниями историков были опровергнуты некоторые утверждения и выяснены дополнительные обстоятельства, связанные с кончиной дофина. Незадолго до смерти его посещали чиновники Коммуны Герен и Дамон, которые знали его раньше и должны были бы обнаружить подмену. Оба они подтвердили (один в 1795 году, другой в 1817 году), что виденный ими ребенок был дофином.
Акт о смерти, как показывает сравнение его с другими аналогичными документами, был составлен строго в соответствии с принятыми тогда формальностями. Те странности в нем, на которые обращали внимание сторонники Наундорфа, оказались при ближайшем рассмотрении повторением в этом документе обычных формулировок. Что касается смерти Десо, — она последовала, к слову сказать, 20 мая, а не 1 июня 1795 года, как утверждалось ранее, — то в ней вряд ли было что-либо таинственное. В госпитале, где он служил, вспыхнула эпидемия, от нее помимо Десо умерли двое его коллег — Дюбю и Ферран, которые не видели дофина.
Если предположить, что дофин был действительно увезен и подменен другим ребенком, то у многих могло возникнуть желание убрать неугодных свидетелей. Во-первых, у тех, кто организовал или оказал помощь в организации побега и мог опасаться наказания со стороны правительства республики или стремился воспрепятствовать аресту беглеца, если он еще находился на французской территории. Во-вторых, у агентов графа Прованского, поспешившего объявить себя Людовиком XVIII. В-третьих, даже у официальных властей, которые, убедившись в бегстве дофина, могли счесть за лучшее объявить его умершим и дискредитировать как самозванца, если он появится за границей и станет центром притяжения для роялистов. В действиях властей не видно особого желания детально уточнить, кто в действительности умер 8 июня 1795 года. Закон требовал присутствия родственников умершего при составлении документов о кончине. В Тампле содержалась старшая сестра дофина, однако ее не сочли нужным привести для опознания трупа.
Правда, имеются показания, которые как будто исключают сомнения в том, что умерший 8 июня 1795 года ребенок был Шарлем Луи. Имеются свидетельства двух тюремных сторожей Тампля, приставленных к дофину, — Гомена и Лана, доживших до глубокой старости. В этих показаниях подробно излагаются все обстоятельства, связанные с болезнью и смертью дофина. Все же есть основания заподозрить эти свидетельства, относящиеся ко времени Реставрации и июльской монархии: у обоих бывших сторожей могли быть серьезные основания, чтобы скрывать правду. Томен, например, получал щедрую пенсию от Людовика XVIII, а герцогиня Ангулемская назначила его управляющим одним из своих замков. В их показаниях при сравнении с подлинными документами обнаруживается не только много неточностей, но и сознательная ложь.
Против этих показаний можно привести относящиеся к 1794–1795 годам письма Лорана, третьего тюремного сторожа. Письма эти не подписаны, но могли, если исходить из их содержания, быть написаны только Лораном.
Жан Жак Кристоф Лоран был креолом, выходием с острова Мартиника, как и Жозефина Богарне, в то время (в 1795 году) любовница члена Директории Барраса, ставшая несколько позднее женой Наполеона Бонапарта. Лоран исполнял обязанности надзирателя в Тампле с 29 июля 1794 года (через два дня после термидорианского переворота!) по 29 марта 1795 года. Как следует из сохранившихся служебных документов, Томен был помощником Лорана с 9 ноября 1794 года, Лан стал работать сторожем с 31 марта 1795 года, то есть после ухода Лорана со своей должности.
В первом письме, датированном 7 ноября 1794 года, сообщается, что Лоран укрыл дофина в «потаенном месте, где его не найдет сам Господь Бог», а взамен в комнате Шарля Луи находится какой-то немой мальчик. Во втором письме от 5 февраля 1795 года указывалось, что было легко перевести дофина на верхний этаж здания, но будет значительно труднее увезти его из Тампля. Отмечалось также, что Комитет общественного спасения вскоре пришлет для инспекции в Тампль членов Конвента, в том числе Матье, Ревершона и Армана из департамента Мез. Наконец, в третьем письме от 3 марта сообщалось о второй подмене — немой мальчик занял место дофина, а в комнате помешен новый «заместитель». Из этого следовало заключить, что дофин уже был увезен из Тампля. Эти письма Лорана — от 7 ноября 1794 года, 5 февраля и 3 марта 1795 года — до сих пор фигурируют в некоторых новейших трудах эвазионистов. Между тем надо помимо уже вышесказанного добавить: об этих письмах стало известно только летом 1833 года. Главное, никогда не были представлены оригиналы, а лишь неизвестно когда, где и кем снятые с них «копии». Текст «копий» был настолько не устоявшимся, что в них несколько раз производились изменения, в частности неким Габриэлем де Бурбон-Бюссе. Этот выходец из аристократической семьи прожил бурную жизнь, при разных режимах исповедуя разные политические взгляды. Его изгоняли в годы Первой империи из коллегии адвокатов, при Реставрации полиция делала обыск в созданном им явно шарлатанском «Полиматическом бюро», раздававшем орденские знаки «Благородного ордена Сен-Хюберта Лотарингского» и «Льва Гольштейна и Лимбурга», главой которых будто бы был сам Бурбон-Бюссе. А в 1817 году он был арестован и попал под суд за другие, уже чисто уголовные махинации. В то же время он поддерживал притязания одного из лжедофинов, а в 1833 году примкнул к числу сторонников другого претендента. Дополнительные доказательства подложности писем Лорана можно извлечь из анализа их содержания. Первое из писем датировано 7 ноября 1794 года, между тем в то время использовали только революционный календарь. Если бы оно было подлинным, на нем почти наверняка стояло бы «17 брюмера 111 года». В письме от 5 февраля 1795 года говорится о предстоящем визите Армана из Меза. В мемуарах Армана, изданных в 1814 году, действительно говорится, что он посетил Тампль в начале февраля 1795 года. Но это ошибка, поскольку официальные документы с бесспорностью установили, что визит состоялся 19 декабря 1794 года. Фальсификатор, не имея понятия об этих документах, неизвестных в 30-х годах XIX в., когда фабриковались фальшивки, взял дату — начало февраля 1795 года из мемуаров Армана. В письме от 7 ноября говорится, что «завтра» вступает в должность новый надзиратель. Это утверждение, возможно, взято из книги Экара «Исторические записки о Людовике XVII», изданной в 1814 году. На деле Гомен лишь прибыл 8 ноября, а вступил в должность 9 ноября. Но допустимо предположить ошибку самого Лана, спутавшего даты прибытия и начало исполнения Гоменом своих обязанностей. Еще одно доказательство. В письме от 3 марта говорится: «Лан может занять мое место, когда пожелает». Но 3 марта ни Лоран, ни кто-либо другой не знали о своем будущем назначении на пост в Тампль, которое состоялось лишь почти через месяц, 31 марта. В письмах Шарль Луи именуется «юный король», но его так никогда не называли в годы революции — автор подлога заимствовал эту фразу из той же книги роялиста Экара.
Приводимые доказательства подложности писем приобретают дополнительную весомость, поскольку исходят от одного из наиболее известных адвокатов Франции М. Гарсона, высокая профессиональная компетентность которого в такого рода криминалистическом анализе не может подлежать сомнению. И все же порой, пытаясь привести максимальное количество доказательств в пользу своего тезиса, он оперирует и малоубедительными доводами. Так, М. Гарсон считает решающим доказательством подложности писем Лорана, что он, разъясняя, как удалось произвести подмену дофина и его освобождение, добавляет, обращаясь к адресату: «Только благодаря Вам, господин генерал, достигнут этот триумф». Считается, что письма обращены к одному из руководителей шуанов — Фротте. Но из письма самого Фротте явствует, что его усилия ни к чему не привели. Это письмо стало известно лишь в конце XIX в., а в 1835 году фальсификатор находился под влиянием легенды, что Фротте преуспел в осуществлении своего плана. К тому же Фротте оставался в Лондоне до 6 января 1795 года, следовательно, Лоран не мог писать ему в Париж 7 ноября 1794 года. Но эти доводы ничего не доказывают, если считать, что письма обращены к Баррасу, которого в 1795 году нередко именовали «генералом».
Возникает вопрос, участвовала ли Жозефина Богарне в увозе дофина из Тампля. Можно ответить на него, что это довольно правдоподобно. Учитывая ее тогдашние роялистские симпатии, напомним, что ее любовник Баррас вел переговоры с роялистами о реставрации монархии Бурбонов и надеялся получить за предательство республики много миллионов ливров. Беспринципный политикан и взяточник, Баррас вполне мог попытаться превратить дофина в дополнительный козырь в своей сложной игре. Ведь владея тайной, где находится Шарль Луи, Баррас мог после Реставрации получить сильное орудие шантажа в отношении Людовика XVIII. Вряд ли случайно, что сразу же после 9 термидора и казни Робеспьера и других лидеров якобинцев Баррас поспешил в качестве представителя Конвента посетить дофина в Тампле. При этом он расспрашивал ребенка, нет ли у него жалоб на обращение со стороны надзирателей. Жена венецианского посланника Бролье-Солари, которая до революции была принята при французском дворе и много раз видела дофина, «узнала» его, встретив в 1810 году в Лондоне. В ее воспоминаниях рассказывается, что ею было сделано под присягой следующее заявление. Зимой 1803 года она встретила в Брюсселе своего хорошего знакомого Барраса. Свергнутый член Директории злобно поносил своего победителя — «корсиканского проходимца» и добавлял, что честолюбивые планы Наполеона не сбудутся, так как жив сын Людовика XVI. После смерти Барраса, уже в годы Реставрации, его бумаги были конфискованы по приказу Людовика XVIII, но для этого могло быть вполне достаточно причин и без дофина: бывший член Директории знал слишком много и тайно переписывался с «королем эмигрантов».
В воспоминаниях современников (в том числе русских — княгини Воронцовой, дочери генерал-адъютанта Александра I князя Трубецкого) встречаются намеки на то, что в 1814 году в Париже Жозефина Богарне сообщила царю тайну бегства дофина из Тампля. Александр I в то время пользовался огромным влиянием (русские войска, победившие Наполеона, стояли в Париже!), и понятно, с каким беспокойством Людовик XVIII должен был следить за подобными слухами. Известный ей секрет, судя по некоторым воспоминаниям, Жозефина якобы открыла и некоторым лицам из свиты Александра. С этим связывают и внезапную смерть Жозефины, которую многие считали отравленной. Ее бумаги были немедленно захвачены полицией. Гортензия Богарне впоследствии передавала со слов своей матери рассказ о похищении дофина из Тампля. Наполеон, добавим, в своих последних воспоминаниях на острове Святой Елены заметил, что императрица Жозефина была в курсе бегства дофина, и добавил: «Утверждали, что на самом деле дофин был увезен из тюрьмы с согласия комитета». Под комитетом Наполеон всегда имел в виду робеспьеристский Комитет общественного спасения.
Имеются и другие показания в пользу версии о бегстве дофина. Во-первых, свидетельства вдовы Симона, в течение долгого времени жившей в инвалидном доме. Она на протяжении ряда лет — и во время наполеоновской империи, и при Реставрации — в разговоре с разными лицами выражала убеждение, что дофин был подменен другим ребенком. Однако в заявлениях бывшей «приемной матере», хотя она и ссылалась на разговоры с людьми, близко знакомыми с положением в Тампле в 1795 году, имеются явно неправдоподобные вещи. В 1816 году вдовой Симона занялась полиция Людовика XVIII, которая предписала ей под угрозой сурового наказания прекратить все разговоры о дофине.
Слухи о «бегстве» и «подмене» дофина стали ходить много раньше, по крайней мере сразу после неудачного бегства королевской семьи в Варенн в июне 1791 года. Фигурировала даже версия, что дофин еще в 1790 году был переправлен в Канаду в сопровождении шотландского адвоката Оэка, а взамен его в Тюильри поместили другого ребенка, некоего Лароша, уроженца Тулузы. Подобные слухи воспроизводились и на страницах печати в месяцы, предшествовавшие падению монархии 10 августа 1792 года. Передача дофина на попечение четы Симон вызвала новую волну слухов о том, что Коммуна и Гора хотят использовать его как знамя в борьбе против их противников, что Шарль Луи уже переведен в Сен-Клу… Слухи эти получили такое распространение по всей стране, что Робеспьер счел нужным 7 июля 1793 года публично опровергнуть их с трибуны Конвента. «Смерть сына Людовика XVI породила различные слухи, басни, одна нелепее другой. Одни утверждают, что дофин вполне здоров и будет передан иностранным державам, другие — что он был отравлен… «Смерть отняла у Франции… «драгоценного заложника», — писала «Газетт франсез» 12 июня 1795 года. Конституционные монархисты уже на следующий день после смерти дофина, отмечал Матьез, «излили свою досаду в пушенных ими слухах о том, что дофин не умер естественной смертью, что его отравили, так же как и лечившего его врача Лесо, который умер за четыре дня до него. Некоторые утверждали, что дофин не умер, что его подменили другим ребенком, и т. п.»
Глава вандейцев Шаретт в своем манифесте от 26 июня 1795 года прямо обвинял республиканское правительство, что оно «отравило» Людовика XVII. У Шаретга не было никакой причины, если бы в его лагерь прибыл дофин, скрывать это. Утверждение, что бурбонские принцы якобы преследовали спасшегося дофина, лишено смысла. Во второй половине 90-х годов Людовик XVIII и его брат ни сами не имели для этого никакой возможности, ни шансов получить в этом деле содействие со стороны презрительно третировавших их иностранных правительств. Возможна гипотеза, что похищение было организовано кем-то из революционеров, кто погиб, унеся в могилу свою тайну. Однако к моменту бегства дофину было бы девять или десять лет. Если бы он остался жив, то рано или поздно дал бы о себе знать. Если бы он умер, это сделали бы за него участники похищения, ведь при Реставрации это стало бы для них источником всяческих благ и почестей.
Большинство европейских дворов предпочло не поверить в смерть дофина. За отсутствием доказательств такую позицию занял австрийский министр Тугут, считая, что объявлением в «Мониторе», возможно, предполагалось отнять у роялистов веру в успех и облегчить заключение мира с Испанией, а также на всякий случай сохранить в своих руках важного заложника. Возможно, это были лишь доводы, выдвигаемые для сокрытия подлинных мотивов Вены, не желавшей связывать себе руки «признанием» Людовика XVIII и подыскивавшей благовидный, с точки зрения монархистов, предлог для своего отказа от такого «признания».
В условиях, когда продолжали циркулировать многочисленные слухи об увозе дофина из Тампля, второстепенный, но весьма плодовитый писатель С.-Ж. Реньо-Варен (1775–1840) в 1800 году издал роман «Кладбище Мадлейн», который должен был удовлетворить любопытство тех, кто интересовался и доверял этим слухам. Первые два тома романа были тотчас распроданы. Вскоре потребовалось новое издание, потом автор прибавил к своему сочинению еще третий и четвертый тома. (Не меньшим свидетельством успеха было то, что сразу же после публикации романа его название было присвоено каким-то анонимным литературным поденщиком.) В своем романе Реньо-Варен рассказывает о том, как он встретил на кладбище незнакомца, им оказался аббат Эджуорс де Фирмонт (который, между прочим, еще был жив в то время!). Аббат поведал автору историю Людовика XVI и его семьи в годы революции. Далее повествуется об увозе 20 января 1794 года дофина, спрятанного в корзинке для белья, к шуанам, о том, как Шарль Луи был отправлен в Америку, но перехвачен французским фрегатом, снова заключен в темницу и там умер.
Роман полон всяческих несообразностей, анахронизмов и просто чепухи. Тем не менее стали задавать вопрос, не рассказана ли в форме романа, включавшего много «документов», вроде «секретного дневника» доктора Десо, подлинная история. Издание «Кладбища Мадлейн» было, вероятно, инспирировано министром полиции Фуше. Но успех романа Реньо-Варена вызвал недовольство первого консула Бонапарта. После появления второго тома, по иронии судьбы, издателя заключили в Тампль, а автора — в тюрьму префектуры полиции, где содержались уголовные преступники. Их освободили через 10 дней. Полиция разбила набор и конфисковала экземпляры, попавшие в библиотеки. Реньо-Варену, однако, вскоре удалось убедить власти, что речь идет лишь о беллетристическом произведении. Запрет был снят, а автор в предисловии к двум последним томам сравнивал консульскую администрацию с великими мужами древности, с Августами и Траянами, приходившими на смену Неронам и Домининианам (под последними подразумевались власти революционного времени, которые фигурировали в романе). Сочинение Реньо-Варена стало одним из главных «источников», из которого впоследствии черпали свое вдохновение авантюристы, выдававшие себя за чудом спасшегося Людовика XVII.
Раскопки на кладбище Сен-Маргерит, где был похоронен дофин, производившиеся неоднократно со времен Реставрации, привели как будто к обнаружению его могилы, однако нельзя точно установить, чьи останки были обнаружены. Остается непонятным подчеркнутое равнодушие Людовика XVIII к памяти племянника. За исключением 1814 года, во все последующие годы Реставрации не было заупокойных служб по Людовику XVII, хотя это неукоснительно делалось в отношении других покойных членов королевского семейства. Из «Монитера», остававшегося официозом и в период Реставрации, мы узнаем, что Людовик XVIII неоднократно давал балы в разные годы 8 и 9 июня. Даты же смерти Людовика XVI и Марии-Антуанетты отмечались как дни национального траура. Траур соблюдался и в дни кончины других членов королевской семьи. Для самой версии о бегстве из Тампля враждебность Людовика XVIII к дофину оказалась весьма полезной: она позволила объяснить то, иначе никак не объяснимое обстоятельство, что о дофине, «спасенном») в 1795 году и попавшем на территорию государств, враждебных Французской республике, ничего не было слышно, что он появился снова лишь через несколько десятилетий.
НАПРАСНОЕ СХОДСТВО
Вопрос о законности монарха или наследника престола всегда имел важное значение в феодально-абсолютистских государствах. Даже когда борьба в связи с вопросом законности определенного претендента чисто династическим спором и нз принимала, как это случалось сплошь и рядом, форму, в которую облекались те или иные общественные противоречия.
Разумеется, споры о законности рождения или «подмены» лиц, имевших права на престол, приобретают исторический интерес только в случае, если они явно или тайно принимали политический характер, влияли на поведение государственных деятелей, служили мотивом их тех или иных важных поступков.
Говоря о «тайне Тампля» и связанных с нею загадках, было бы неисторичным не учитывать, насколько субъективно многие роялисты считали превыше всех других соображений безоговорочное соблюдение принципов легитимизма (иными словами, соблюдение династических прав, законов престолонаследия, даже если это могло нанести политический ущерб). Поэтому вопрос о судьбе дофина сохранял значение на протяжении десятилетий, в периоды Реставрации и июльской монархии.
Слухи о похищении дофина, как отмечалось выше, не могли не вызвать появления претендентов, уверявших, что каждый из них является этим чудесно спасшимся наследником французского престола. Все они оказались более или менее искусными мошенниками и были разоблачены без особого труда. Претендент обнаружился даже за океаном. Им оказался уроженец штата Нью-Йорк метис Элизар Вильямс, который имел немалое число последователей. В разное время объявилось не менее 40 претендентов! (Окончательно деградировавшего представителя этой малопочтенной компании «Людовик XVII» Марк Твен весьма красочно изобразил, повествуя о приключениях Гекльберри Финна.)
Внимание к ним не ослабевало ввиду столкновения личных и политических интересов влиятельных кругов в период, когда речь шла о реставрации монархии Бурбонов, которая вновь стала правящей династией в 1814–1830 годах. Ла и позднее, после их падения, возможность новой реставрации Бурбонов отнюдь не исключалась, причем многие современники считали ее значительно более реальной, чем это было в действительности. В эпоху Реставрации и июльской монархии притязания будто бы «спасшегося» дофина вызывали смущение среди приверженцев Бурбонов и нескрываемую иронию среди республиканцев, остривших по поводу появления каждого нового «самого законного», «легитимного» из всех претендентов на французский престол.
Как уже отмечалось, в претендентах не было недостатка. Они появились еще в годы правления Наполеона. Один из них, авантюрист Жан Мари Эрваго, по всей видимости, даже пользовался в 1802 году тайным покровительством наполеоновского министра полиции. Остается неясным, что при этом имел в виду многоопытный предатель Фуше: объявить от имени фальшивого дофина о его отказе от своих прав в пользу первого консула Бонапарта или, напротив, держать под рукой человека, которого при благоприятном стечении обстоятельств удобно было бы противопоставить Наполеону? Зная характер Фуше, можно смело предположить, что он учитывал и ту и другую возможность.
Министр полиции Директории Фуше
С пропавшими дофинами иногда происходили курьезы. После смерти одного из претендентов, Эрваго, в 1812 году появился «претендент в претенденты», утверждавший, что он — Эрваго. Это был некий Жан Демазо, доживший до 1846 года. В числе претендентов было немало и просто психически больных людей.
В 1967 году была опубликована в Париже книга Л. Бланкали (промелькнуло сообщение, что это псевдоним какого-то весьма важного лица) «Король неизвестный и король исчезнувший», в которой сообщалось родословное древо потомков Людовика XVII и… «железной маски», среди которых фигурирует много известных исторических персонажей, включая даже Гарибальди! И поныне во Франции и других странах насчитывается около 60 семейств, объявляющих своим предком дофина, бежавшего из Тампля. И все же надо сказать, число их сократилось по сравнению с прошлым веком.
После смерти Эрваго в 1812 году новые «дофины» оказывались явными мошенниками. К тому же очень быстро и без особого труда удавалось выяснить их действительные фамилии и место рождения. Самое интересное, что в отношении их полиция во времена Реставрации, а потом, после 1830 года, — июльской монархии по существу не предпринимала никаких действий, не мешала выходу в свет книг, которые они выпускали под именем Людовика XVII. Один из претендентов, Ришмон, в 1834 году был за различные «художества» приговорен к 12 годам каторжных работ и… вскоре отпущен на все четыре стороны. Уже тогда задавали вопрос, не состояли ли все эти (или большинство) заведомо фальшивые «Людовики» платными полицейскими агентами, единственным смыслом появления которых было сделать смешным в глазах общественного мнения «подлинного» претендента.
Таким претендентом, притязания которого нельзя было отвергнуть с легкостью, был некий Карл Вильгельм Наундорф, появившийся неизвестно откуда в Берлине и ставший часовщиком. По его словам, в 1810 году он явился к полицей-президенту прусской столицы Лекоку и передал имевшиеся у него документы, которые свидетельствовали о его истинном имени и происхождении. Лекок взял бумаги для передачи прусскому королю, а взамен претендент получил паспорт на имя Наундорфа, уроженца Веймара, и поселился в Шпандау. Бесспорным фактом является то, что не удалось найти следов происхождения Наундорфа, и прусские власти пошли на выдачу ему заведомо фальшивого паспорта. Это было установлено, когда Наундорф связался с какими-то темными личностями при покупке дома и в результате попал на скамью подсудимых. Выяснилось, что в Веймаре не родился и не проживал никакой Карл Вильгельм Наундорф. Рассказы Наундорфа о своем происхождении вызвали, естественно, недоверие судей, и претендент, ставший к этому времени главой умножавшегося семейства, попал на три года в тюрьму (1825–1828 годы). После выхода на свободу, получив известие о том, что прусский король якобы отдал распоряжение о его новом аресте, претендент бежал из Пруссии и после скитаний по другим германским государствам в 1833 году прибыл во Францию. (Изучение вопроса о Наундорфе сильно облегчено публикацией корпуса всех относящихся к этому претенденту первоисточников в двухтомном труде архивиста Мантейера «Подложные Людовики XVII», Париж, 1926).
Когда Наундорф появился в Париже, его сразу признали Жоли, последний министр юстиции при Людовике XVI, и мадам Рамбо, гувернантка дофина. Насколько имеет цену это узнавание — отождествление 50-летнего человека с 5-летним ребенком, которого они видели много десятилетий назад? Другие «доказательства» уже совсем малоубедительны. Пытаются связать «тайну» бегства из Тампля с расстрелом герцога Энгиенского Наполеоном и самоубийством после июльской революции его отца принца Конде, огромное наследство которого досталось сыну Луи Филиппа герцогу Омальскому. Сторонники претендента уверяют, что герцог Беррийский был склонен «признать» Наундорфа и что убийство герцога в 1820 году ремесленником Лувелем было спровоцировано полицией. Наундорф утверждал, что получил письмо герцога Беррийского, в котором говорилось: «Или я обеспечу успешное восстановление Ваших прав, или погибну». Между прочим, в донесении прусского посла в Париж графа Гольца указывалось, что герцог Беррийский за несколько дней до покушения Лувеля предсказывал свою смерть. Ходили слухи, что отношения герцога с Людовиком XVIII стали крайне обостренными. Однако, если даже это было правдой, отсюда вовсе не следует, что причиной был вопрос о претенденте. Между прочим, защитники Наундорфа указывают, что окончательный отказ графа Шамбора, по мнению легитимистов, законного короля Франции, от возникшей в 1873 году перспективы новой реставрации Бурбонов будто бы был связан со стремлением не нарушать права наследников претендента. На деле этот отказ был вызван нежеланием признать трехцветный национальный флаг Франции — наследие революции XVIII в., а главное, конечно, осознание, что попытка восстановления монархии не имеет шансов на успех.
Сестра Шарля Луи Мария-Тереза, герцогиня Ангулемская, демонстративно отказывалась вступать в какие-либо переговоры с Наундорфом и обсуждать детские воспоминания, о которых он рассказывал и источником которых, если бы они соответствовали действительности, мог быть только Шарль Луи. Однако герцогиня была замужем за сыном графа д’Артуа, позднее короля Карла X, и ее шансы стать королевой Франции зависели от признания брата умершим. По утверждению Наундорфа, на него не раз совершались покушения в Париже и в Лондоне, куда он перебрался после высылки из Франции.
В 1845 году претендент умер. Его наследникам, натурализовавшимся в Голландии, нидерландский король предоставил право носить фамилию Бурбонов. Французские суды столь же неизменно отказывали им в этом праве. Вопрос постепенно терял политическое значение, превращаясь в одну из неразгаданных загадок истории. Интерес к ней подогрел известный французский историк А. Кастело, опубликовавший в 1947 году книгу «Людовик XVII. Раскрытая тайна». Главное внимание в этой книге привлекал рассказ о произведенной судебно-медицинской экспертизе — сравнении прядей волос Наундорфа и дофина (сохранившихся в его деле). Экспертиза подтвердила, что они принадлежат одному и тому же лину! К этому надо добавить процесс в Высшем апелляционном суде, который был затеян потомками Наундорфа, настаивавшими на аннулировании акта о смерти дофина и признании его умершим в 1845 году. В ходе судебного разбирательства, отвергшего притязания истцов, была внесена ясность в ряд вопросов.
Например, было установлено, что переговоры с Мадридом могли побудить некоторых членов термидорианского правительства участвовать в похищении мальчика или способствовать усилиям роялистов в этом деле. Испанские Бурбоны ставили условием заключения мира (весьма выгодного для Франции, которая, как отмечалось, была вынуждена воевать с вражеской коалицией держав) выдачу дофина. Открыто согласиться с этим требованием термидорианцы не могли, не роняя своего престижа; тем более желательным становилось для них «исчезновение» Шарля Луи.
Многие считали утверждение Наундорфа о том, что он передал свои бумаги полицей-президенту Лекоку, выдумкой, притом не очень ловкой. Трудно представить себе, чтобы бумаги могли сохраниться после всех тех бесчисленных приключений и злоключений, которые, по уверению Наундорфа, ему пришлось пережить. Однако один немецкий аристократ клятвенно засвидетельствовал в 1949 году, что принц Август Вильгельм Прусский сообщил ему в 1920 году, будто видел в немецком архиве эти бумаги, безусловно подтверждавшие притязания Наундорфа.
Таковы новые аргументы «за». Но число доводов «против» или по крайней мере недоуменных вопросов возросло еще более. Мог ли Наундорф не знать французского языка, если он был дофином и до 10 лет говорил только по-французски? Между тем в своей декларации Наундорф прямо заявил, что «забыл» родной язык. Сторонники его пытаются ослабить силу этого аргумента «против» ссылками на то, что после приезда во Францию Наундорф уже умел говорить по-французски, объясняясь со многими «признавшими» его лицами. Очень серьезным доводом «против» является отсутствие сведений о том, кем именно было осуществлено похищение.
Сторонники Наундорфа в течение целого века упорно утверждали, что герцогиня Ангулемская сообщила всю правду в своем завещании, которое по ее желанию должно было быть вскрыто через 100 лет после ее смерти, то есть 19 октября 1951 года. Однако и после этой даты не было найдено никаких следов завещания. На запросы ученых заведующий архивом Ватикана, где, по слухам, хранилось завещание, ответил, что не обнаружено никакого подобного документа. (Это не мешает сторонникам претендента утверждать, что позднее папа Иоанн XXIII, ознакомившись с досье Наундорфа, признал притязания его потомков.) На запросы, посланные в Вену, были получены менее категоричные ответы. Вместе с тем опубликованные сравнительно недавно письма герцогини Ангулемской доказывают, что она, вопреки своим публичным заявлениям, не верила в смерть брата в Тампле.
Была проведена новая экспертиза волос. А. Кастело приложил много усилий, чтобы раздобыть пряди волос дофина, сохранившиеся еще со времени до августа 1792 года, и сравнить с локоном, срезанным дежурным комиссаром Дамоном у ребенка, скончавшегося в Тампле 8 июня 1795 года. Судебно-медицинская экспертиза доказала, что они принадлежат разным людям. Если не оспаривать безусловную аутентичность этих прядей, то следует, видимо, признать, что мальчик, умерший в июне 1795 года в Тампле, не являлся дофином. Кастело пришлось выпустить новое издание своей книги, доказывая, что Наундорф — самозванец.
Уже знакомый нам А. Луиго попытался в своих книгах доказать, что вопреки всем сомнениям Наундорф был действительно увезенным из Тампля дофином, для обоснования этого Луиго свел воедино ряд «частных» гипотез, которые были почерпнуты в статьях, опубликованных в различных журналах конца прошлого и начала нашего века. В этих гипотезах фигурировала в качестве достоверной информация, требовавшая, однако, тщательной проверки, которая так и не была проведена.
Лондон, пишет Луиго, вскоре после победы французов при Флерюсе и особенно после 9 термидора узнал, что Берлин фактически разорвал секретный англо-прусско-нидерландский союз и повел сепаратные мирные переговоры с Парижем. Сохранение в тайне контактов между Пруссией и Францией приобрело для прусского правительства первостепенную важность. Пруссия держала «Капета» заложником на случай, если понадобится использовать его в своих интересах. Возможно, в 1815 году Гарденберг, Фуше и бывший французский маршал Бернадотт, ставший шведским наследным принцем, строил планы обнародования факта, что Людовик XVII жив. Быть может, им удалось бы склонить к этому и царя Александра I. Но вмешательство Талейрана, опиравшегося на поддержку Англии и Австрии, положило конец этим планам.
Как и некоторые другие эвазионисты, Луиго считает, что отдельные претенденты были теми лицами, которыми подменили подлинного дофина. Именно одного из них в 1803 году Баррас угрожал бросить к ногам первого консула Бонапарта. После бегства из Тампля дофин будто бы нашел убежище в Швейцарии. Луиго опирается здесь на показания Марии Лешот (1834–1919). Она была племянницей Фридриха Лешота, которого отождествляют с «Фридрихом» из рассказа Наундорфа о своих скитаниях, и внучкой Сюзанны Екатерины Лешот, урожденной Химели (1755–1845), о которой уже говорилось. Мария Лешот составила записку (своего рода мемуары), насчитывавшую 60 страниц, в которой излагала тайну, которую в 11 лет узнала от бабки. Эта записка была опубликована в журнале «Лежитиме» в марте 1900 года, но оригинал потом оказался утерянным. Эту записку использовали в своих книгах два швейцарских историка — сторонники кандидатуры Наундорфа. Речь идет о работах Э. Навиля (1908) и Ф. Макюа (1922). Μ. Лешот писала о прибытии в Женеву в 1798 году ребенка, увезенного из Тампля. (Оба упомянутых историка относят этот приезд к 1803–1804 годам.) Луиго считает, что речь идет о двух его приездах (в 1794–1795 и 1804 годах). Интерпретация Луиго базируется на том, что «молодой Капет», как мы знаем из ряда свидетельств, страдал от нервного заболевания. Больного лечил доктор Бартелеми Химели — широко известный специалист по заболеваниям нервной системы. К 1804 году доктора уже не было в живых, и речь шла о предоставлении временного убежиша потерявшему память больному. Доктор Химели был врачом прусского короля Фридриха II и после его смерти вернулся в Женеву, сохранив тесную связь с придворными кругами Берлина. Семейство Химели, видимо, было знакомо с прусским дипломатом Гарденбергом (впоследствии министром и главой правительства). В 1794 году он был губернатором Невшателя — владения прусского короля — и послом в Берне. Вскоре после вступления на престол нового прусского короля Фридриха Вильгельма III сын доктора пастор Жан Жак Химели и его 10-летний племянник Фридрих Лешот посетили Берлин и были приняты королем и королевой Луизой, известной в истории Пруссии.
Отцом Фридриха был Жан Фредерик Лешот (1746–1824), до революции живший во Франции. Он участвовал в создании кукол-автоматов, рисовавших или игравших на музыкальных инструментах. Эти куклы были модной забавой в Версале накануне 1789 года. Жан Фредерик в 1786 году женился на Сюзанне Екатерине Химели, дочери доктора Бартелеми Химели. Его кузен Тите ди Генри Лешот (1752–1792) служил в швейцарской гвардии короля и был женат на Елизавете, кузине Сюзанны Екатерины. Оба Лешота были лично знакомы с членами королевской семьи. После падения монархии Жан Фредерик под псевдонимом Леба помогал роялистам бежать в Швейцарию. А его жена Сюзанна Екатерина рассказала своей внучке Марии Лешот (тогда маленькой девочке), что поддерживала переписку с Шарлоттой Робеспьер и сожгла эту корреспонденцию в присутствии Марии. Елизавета, овдовевшая в 1792 году, оставалась в Париже. Наряду с Жаном Фредериком Лешотом (по-немецки — Фридрихом), о котором уже шла речь, в семье были младший сын Георг, ставший отцом Марии Лешот (автора «Мемуаров»), и две сестры. Старшая была с 1805 года замужем за неким Луи Шеневьером. Он некоторое время жил в Англии и лишь в 1798 году отправился в Швейцарию, где выявились его тесные связи с известным роялистским шпионом Фош-Борелем, который под маской книгоиздателя являлся руководителем разведывательного центра, работавшего на графа Прованского (и, добавим, в какой-то мере также на английскую разведку). По мнению Луиго, «Шеневьер и его единомышленники пытались раскрыть тайну дофина с чувствами Ирода к Иисусу». Однако он не проник в тайну, которой владели другие члены семьи, хотя тщетные поиски следов дофина от Вандеи до Рима и были причиной ссоры между ним и его шурином Фридрихом Лешотом.
После 9 термидора «тайну Тампля» знали лишь Гарденберг, Бартелеми Химели и его племянница Елизавета Лешот, остававшаяся в Париже. Самый факт похищения, не более того, был известен Сюзанне Екатерине Лешот и Шарлотте Робеспьер. Все это и тогда, и в последующие годы совершенно ускользнуло и от находившегося поблизости в Солере центра группы конституционных монархистов, и от Фош-Бореля, который к тому же перебрался из Невшателя на север Германии, в Гамбург, продолжая свою активность в качестве роялистского разведчика. Местная легенда утверждает, что на ферме семьи Химели жил ребенок, которого считали французским принцем. Он исчез из поля зрения, когда в 1803 году к нему было привлечено внимание наполеоновской полиции (Швейцария была тогда оккупирована французскими войсками).
В 1806 году Фридрих неожиданно уехал, не сообщив родным о том, куда направляется. Позднее стало известно, что он принял участие в боевых действиях вольных стрелков против французских войск в Германии и был одно время заключен в тюрьму в Страсбурге (о том же рассказывал и Наундорф). После освобождения Фридрих совершил еще несколько таинственных путешествий и, как узнали родители, вновь был арестован французами в Вестфалии. На выручку Фридриха был послан Шеневьер, хотя трудно было сделать худший выбор. Шеневьер недолюбливал или даже ненавидел брата жены и в своих последующих рассказах родственникам пытался представить его в крайне невыгодном свете. Вместе с тем Шеневьер не догадался, кем является какой-то бродяга, которому покровительствовал Фридрих. В бродяге было легко узнать Наундорфа. Все это как будто подтверждают рассказы Наундорфа о его «бегстве» из Тампля и последующей жизни, вплоть до появления в Берлине. Первые мемуары Наундорфа появились в 1834 году, но потом были дезавуированы и заменены в ноябре 1836 года новыми, озаглавленными «Очерк истории несчастий дофина, сына Людовика XVI». Они были напечатаны в Лондоне адвокатом Грюо де ла Баром и другими советниками Наундорфа, без сомнения, с его полного согласия.
Наундорф не перенапрягал свою фантазию. Другой кандидат в дофины — Ришмон — ловко включил в свой рассказ для придания ему правдоподобия Фротте, Шаррета и еще нескольких известных персонажей. Новый же претендент не упоминал ни одной фамилии. «Он рассказывал совершенно фантастическую историю, которая ни с чем не совмещалась и не допускала никакой проверки, — отмечал М. Гарсон. — Неизвестно, ни кто вмешался в его судьбу, ни каким образом этот неизвестный смог проникнуть в Тампль… Дальше следовала цепь загадочных приключений, ни одно из которых не могло быть увязано с каким-либо известным фактом…»
Во втором, более подробном варианте своих воспоминаний Наундорф демонстрирует лучшее знание бытовых деталей жизни в Тампле, сообшает о ряде эпизодов, которые либо были уже известны из опубликованных сочинений, либо не поддаются проверке. Он вдобавок намекает, дабы избегнуть неприятных вопросов, что ему приходится многое скрывать, хотя неясно, какие мотивы требовали в Лондоне в 1836 году сохранения в секрете происшествий, происходивших в Тампле более чем за 40 лет до этого, в 1794 году. В рассказе содержится настоящая басня о том, что у него в Тампле была даже какая-то неизвестная гувернантка. Далее следовало повествование, как его, подменив манекеном, перевели из комнаты на втором этаже в тайник на четвертом этаже, где он провел сравнительно долгое время. Потом манекен заменили немым ребенком, а того, в свою очередь, — рахитичным мальчиком, который вскоре умер.
После посмертного вскрытия труп перенесли в тайник, а дофина, которому дали большую дозу опиума, спустили на второй этаж. Дальше его положили в гроб, который поставили в фургон. По дороге дофина спрятали в ящике на дне повозки, а гроб набили старыми бумагами, чтобы он сохранял прежний вес. После того как гроб был зарыт в братской могиле, дофин и его друзья вернулись в Париж. (Заметим, что, как явствует из официальных документов, гроб ребенка, умершего 8 июня 1795 года, был отнесен на руках, а не доставлен в карете на кладбище Сен-Маргерит в сопровождении муниципальной стражи.) Как повествуется дальше, в каком-то неизвестном месте в Швейцарии дофина поручили заботам гувернантки, он стал говорить по-немецки, забыл свой родной язык. Однажды ночью дом, где он жил, подвергся нападению, его увезли силой, провели через подземный ход в одиночную камеру, через некоторое время заставили принять снотворное и доставили связанным по рукам и ногам в какое-то огромное здание и поместили в сводчатом зале. Дофин ожидал, что его убьют, но в этом помещении появился закутанный в плащ человек с потайным фонарем в руках. Он вывел дофина в коридор, где тот увидел труп сторожившей его жестокой старухи тюремщицы. Спаситель проводил мальчика в какой-то гостеприимный дом, где поручил заботам молодой девушки по имени Мария.
Вскоре, однако, было решено, что этот дом является недостаточно надежным убежищем, и дофин вместе со своим покровителем отправился в дорогу. Их путь лежал через Милан в Венецию. В Триесте путники сели на корабль и после долгого путешествия и страданий, причиненных морской болезнью, высадились в незнакомом месте, про которое рассказчику сообщили, что оно находится в Северной Америке. Там дофин вновь встретился со своей гувернанткой, у которой брал уроки немецкого языка. Эта женщина вышла замуж за часовщика, который обучил его своему ремеслу. Часовщик и его жена умерли. Оставшись один на свете, дофин в свои 15 лет обручился с Марией. Вскоре на сиене появился его прежний спаситель, сопровождаемый человеком, которого называли «охотником». Тем временем неизвестные преследователи снова напали на след дофина. Пришлось спешно бежать. Его дом оказался заминированным и взлетел на воздух после их отъезда. Беглецы скрывались в пешере, потом сели на корабль, не подозревая, что его капитан был в числе преследователей. Мария и спаситель были отравлены, а дофин и «охотник» доставлены во Францию и брошены в тюрьму. Вскоре после этого дофина с завязанными глазами в закрытой карете доставили в какую-то небольшую комнату, где от него тщетно требовали подписать отречение от престола. Однажды в комнату, где содержали дофина, вторглись трое незнакомцев в черных масках. Они привязали его к стулу, двое при этом держали его силой, тогда как третий вынул из кармана какой-то портрет и, кидая взгляд то на последний, то на связанную жертву, подал знак своим сообщникам, которые вооружились небольшими инструментами с множеством острых шипов, напоминающими связки иголок. Этими инструментами они искололи лицо юноше, нанеся бесчисленные ранения. Дофин истекал кровью. Люди в масках губкой, пропитанной какой-то жидкостью, обмыли лицо, что только еще больше изуродовало его, и удалились с сатанинской усмешкой, не произнеся ни единого слова. (Это происшествие, как отметил М. Гарсон, легко объясняет недоумение, которое могло бы возникнуть из-за несхожести некоторых черт лица Наундорфа с сохранившимися портретами Шарля Луи, что, впрочем, не помешало сторонникам претендента «узнать» в нем дофина.)
Через несколько дней незнакомцы в масках вернулись и усадили дофина в карету. У одного из незнакомцев случайно сдвинулась маска, и дофин с изумлением узнал в нем «охотника». Тот сразу же подал ему знак молчать. «Охотник» втерся в ряды преследователей, чтобы спасти его. Карета опрокинулась, воспользовавшись этим, дофин и «охотник» бежали, сумели встретиться в Эттенгейме с герцогом Энгиенским, близким родственником королевской семьи. Потом беглецов снова поймали и препроводили в тюрьму Страсбурга, а оттуда дофина увезли и бросили в подземную темницу какого-то замка. Дофин с помощью «охотника» опять бежал, его поймали, ему снова удалось спастись и после многих приключений добраться до герцога Брауншвейгского. Тот дал ему эскорт, который подвергся нападению. Дофина еще два или три раза заключали в тюрьму, откуда он снова и снова спасался бегством. Ему приходили на помощь какие-то старики и старухи. Однажды в дороге он встретил неизвестного, который дал ему паспорт на имя Наундорфа, что позволило ему обосноваться в Берлине в качестве часовщика. Там он передал бумаги, которые сумел сохранить и которые устанавливали его подлинное имя и происхождение, полицей-президенту Берлина Лекоку. Бумаги бесследно исчезли, и он был лишен возможности доказать, кем является.
Впрочем, один эпизод, хотя он тоже не поддается полной проверке, все же сам по себе не выглядит неправдоподобным. Первоначально в своем заявлении властям Брандербургской тюрьмы 23 сентября 1825 года и впоследствии в своих рассказах Наундорф утверждал, что в 1810 году на границе Чехии вступил в отряд вольных стрелков под руководством герцога Брауншвейгского — Эльса, который вел партизанскую войну против наполеоновских войск, расквартированных в Германии. В стычке под Дрезденом дофин был тяжело ранен, попал в плен и после излечения был направлен этапом во Францию. Там в одной церкви, где колонна пленных остановилась на отдых, ему вместе с неким Фридрихом удалось бежать. Они отправились в Берлин и пытались поступить в гусары. Наундорфу как иностранцу это не было разрешено. Тогда-то он и явился к полицей-президенту Берлина Лекоку. Пленных стрелков, которых французские власти рассматривали как преступников, действительно направили на каторгу в Тулон, откуда они были освобождены по амнистии в следующем году. Нет ничего невероятного в том, что в данном случае Наундорф передает подлинный эпизод из своей жизни, который, разумеется, не подтверждает ни одну из остальных частей его повествования.
Рассказ Наундорфа о последовавших событиях в отличие от всего предшествующего легко поддается проверке. Из Берлина он перебрался в Шпандау, потом в Кроссен, был (разумеется, ложно, по его уверениям) обвинен в фальшивомонетничестве и тогда открыто объявил о своем подлинном имени. Рассказ Наундорфа заполнен ссылками на анонимных «покровителей» и «преследователей», мотивы действий которых не поддаются разумному истолкованию, а все повествование составлено так, что не допускает возможности никакой проверки. Нередко явно для достижения такого результата Наундорф заявлял, что в том или ином случае опускал ряд подробностей и эпизодов, поскольку, мол, это необходимо из каких-то только ему известных соображений предосторожности. Рассказ этот вдобавок, как справедливо напоминал М. Гарсон, повествует о времени, когда во Франции, Австрии и Пруссии, где происходили эти таинственные и не оставившие ни малейших следов в документах аресты, преследования, бегства, существовали четко действовавшая полиция и судебная система. М. Гарсон назвал рассказ Наундорфа «попросту смешным романом». Краткий пересказ этих мемуаров не способен передать их характер, по словам А. Кастело, «колеблющийся между абсурдным и невозможным».
Напротив, А. Луиго, отвергая некоторые несуразицы мемуаров, готов видеть доказательства правдивости рассказа Наундорфа в его… явной неправдоподобности, поскольку выдумать можно было бы нечто не столь невероятное. Однако, сколь ни кажутся вымышленными отдельные эпизоды, они свидетельствуют, что Наундорф продолжал все это время находиться под наблюдением каких-то закулисных политических сил. Сторонники Наундорфа ссылаются на важные показания, приписываемые целому ряду лиц, причем показания, будто бы зафиксированные письменно, но все соответствующие бумаги неизменно оказываются исчезнувшими. Читателю предлагают основываться на пересказах из третьих рук, причем отделенных полувековым, а то и вековым промежутком от самих свидетельств. А. Луиго, опять возведя нужду в добродетель, предлагает видеть в этом существование таинственной руки, из «государственных интересов» систематически уничтожавшей «опасные» документы. Как уже отмечалось, Луиго хотел бы видеть доказательство правдивости Наундорфа из материалов, которые обнаруживаются при изучении «швейцарского следа».
Можно было бы согласиться с Луиго, если не вспомнить, что все поездки Фридриха Лешота и Шеневьера нам известны лишь из рассказа племянницы Фридриха Марии, которая, по ее собственным словам, узнала о них маленькой девочкой из уст своей бабушки через почти 40 лет после описываемых событий, и что сама Мария Лешот впервые поведала об этом миру еще через полстолетия с лишним, уже в конце XIX в. Стоит ли добавлять, что в 1845 году — год смерти Наундорфа — его претензии и рассказанные им приключения были широко известны и вполне могли повлиять на «признание» бабушки, которой, кстати, было в то время уже 90 лет, своей внучке, которой было всего 11? Неясно также, что побуждало Марию Лешот молчать более чем полстолетия. Именно этих соображений, думается, достаточно, чтобы не следовать за рассказом Марии Лешот о дальнейшей судьбе Фридриха Лешота, который, видимо, с умыслом или без такового был написан для того, чтобы подкрепить утверждения Наундорфа.
Как мы упоминали, в рассказах Наундорфа о его приключениях немалое место занимает некий «охотник», «егерь Жан», который, как позднее выяснилось, носил фамилию Монморен. Это наводило на мысль, что речь, возможно, идет о каком-то родственнике королевского министра иностранных дел Монморена. Однако в 1929 году была сделана попытка другой идентификации личности «егеря Жана». Майор Казенав де ла Рош, наундорфист, в книге «Людовик XVII, или Заложник революции» на основе изучения архивов наполеоновской полиции утверждает, что «Монморен» — псевдоним Казимира Лесейньера, морского офицера. Вымышленную фамилию он использовал, подвизаясь в качестве агента «Корреспондас», крупной разведывательной организации, созданной английской разведкой в сотрудничестве с роялистами и действовавшей с 1792 года в течение целых полутора десятков лет.
Из официальной переписки о Лесейньере, в которой участвовали сам наполеоновский министр полиции Фуше, министр внутренних дел Шампаньи, генералы, префекты, видно, что он предпринимал неоднократные попытки как-то легализовать свое положение во Франции в годы Директории, Консульства и Империи, даже стремился занять место мэра города Сен-Валери, чрезвычайно важного пункта для переправки шпионских донесений и занятия контрабандой. Французские власти, в целом отлично осведомленные о роли Лесейньера в «Корреспонданс» и других подобных организациях, решительно пресекли его планы заделаться мэром и другие подобные прожекты, но от соблазна использовать опытного разведчика в качестве шпиона-двойника, видимо, не удержались, хотя и не строили на его счет никаких иллюзий. В качестве капитана корабля Лесейньер совершил в 1801 году путешествие на острова Карибского бассейна, в Вест-Индию, а не в Ост-Индию, как первоначально давал понять. На обратном пути его корабль был перехвачен англичанами, но потом отпущен. Вернувшись в Гавр, он на короткий срок посетил Швейцарию. Лесейньер стал, видимо, шпионом в пользу Англии, наблюдая за передвижением французских кораблей. В 1808 году Лесейньер исчез из Гавра, имея при себе необходимые документы на право поездки, но больше уже не возвращался. Майор Казенав, обследовавший место рождения разведчика, не обнаружил среди документов, отражающих акты гражданского состояния родственников Лесейньера, никакого свидетельства о его смерти.
А. Луиго считает, что ничто не противоречит отождествлению Лесейньера-Монморена с «егерем Монмореном» в рассказах Наундорфа. Мы не будем следовать за А. Луиго в его стремлении подыскать приемлемые «кандидатуры» для Марии и ее отца, найти свидетельства, подтверждающие их путешествие в Европу и гибель, роль во всем этом «егеря Монморена» из «Мемуаров», отождествить других лиц, там упоминаемых, с реальными персонажами во Франции и Ирландии, объяснить все неувязки тем, что Наундорф пережил во второй раз нервное потрясение, приведшее к полной потери памяти, и т. п.
В 1908 году появилась книга некоей Лжорджины Уэлдон, бывшей актрисы варьете, заполненная по большей части различными фантазиями по поводу «тайны Тампля». В частности, Дж. Уэлдон утверждала, что в XVIII в. в Пруссии под именем графа Наундорфа проживал Александр Тронсон дю Кудре, которого считали незаконным сыном Людовика XV. Из этой информации можно извлечь, что в Пруссии фамилия Наундорф была псевдонимом для «незаконных» отпрысков династии Бурбонов. Книга Уэлдон, из которой А. Луиго позаимствовал многое для своей концепции, была написана в начале XX в., в годы расцвета антимасонского мифа. Уэлдон, а вслед за ней и Луиго, как и следовало ожидать, включили многие детали этого мифа в свои сочинения. А. Луиго ссылается на вышедшую в 1970 году действительно фундаментальную монографию Л. Ле Форестье об оккультном течении в германском масонстве XVIII в., но ссылки на этот труд служат лишь для утверждения решительно отвергнутых современной наукой слухов, будто ордена иллюминатов и золотых розенкрейцеров существовали и после их роспуска в 80-е годы XVIII в. Это, мол, был лишь отправной пункт «секретного движения», которое глубочайшим образом затронуло французскую революцию, стояло за борьбой партий, в частности политических группировок внутри якобинского блока в 1794 году, и, конечно, за увозом дофина из Тампля. Не будем останавливаться на этих давно опровергнутых вымыслах.
Вызывает вопросы или по крайней мере чувство недоумения содержание договора, заключенного между голландским правительством и Наундорфом 30 июня 1845 года, менее чем за два месяца до смерти претендента. Согласно этому договору, часовщик из Берлина неизвестного происхождения назначался директором Политехнической мастерской с выплатой ему в первые четыре года 72 тыс. флоринов, а после доработки его изобретений — фантастической суммы — 1 млн. флоринов. Хотя «бомба Бурбона», изобретенная Наундорфом, использовалась потом в голландской армии в течение целых 60 лет, тем не менее, как писал в 1953 году голландский архивист Остербан, этот документ напоминает все же не деловую сделку, а галлюцинации, знакомые по романам Гофмана. Мотивы, определившие поведение голландского правительства, остаются неясными. Объяснения эвазионистов, утверждавших, что оно диктовалось желанием раскрыть наконец тщательно охранявшуюся (в течение целого полувека!) тайну, в сохранении которой было заинтересовано несколько европейских держав, весьма невразумительны. Но не очень убедительным кажется и предположение М. Гарсона, что это поведение было продиктовано желанием голландского короля Вильгельма II и его правительства путем такого признания «прав» Наундорфа причинить неприятности французскому королю Луи Филиппу, войска которого в 1830 году активно содействовали отделению Бельгии от Нидерландов.
Один из еще не опровергнутых аргументов защитников претендента — это сохраняющаяся неизвестность места рождения Наундорфа. Но мало ли есть людей, происхождение которых не удается выяснить, особенно если они сами принимали меры, чтобы скрыть свое прошлое! Поиски обнаружили, что Наундорф даже после своей женитьбы выдавал некоторое время себя за лютеранина, а не за католика. Путем сопоставления ряда бумаг из немецких архивов можно с известной долей правдоподобия отождествить Наундорфа с Карлом Вергом — дезертиром из прусской армии.
Тем не менее это отождествление базируется лишь на предположениях. К тому же во время произведенного в сентябре 1950 года медицинского анализа останков Наундорфа эксперт доктор Хулст заявил, что, судя по скелету, исключено, чтобы Наундорф умер в возрасте старше 60 лет. Если бы Наундорф был дофином, ему в момент смерти, в 1845 году, было бы как раз 60 лет, а Карлу Вергу, родившемуся в 1777 году, было бы 68 лет.
В паспорте, полученном Вергом в 1812 году, указывалось, что у него черные глаза и волосы. Если верить этим данным, исключается отождествление Верга с Наундорфом. Добавим, что паспорт был выдан тем же берлинским полицмейстером Лекоком, который еще в 1810 году снабдил документами Наундорфа. Верг служил в полку герцога Брауншвейгского, а в него, если верить точности разысканных архивных данных, принимали рекрутов ростом не ниже 1,76 метра. Наундорф был значительно ниже — 1,68 метра.
Имеется свидетельство, будто бы дочь герцога Беррийского подтверждала признание ее отцом притязаний Наундорфа, о чем претендент неоднократно заявлял. Очевидно также, что часовой подмастерье в 1810 году возбуждал почему-то особый интерес у берлинского полицмейстера Лекока.
Может быть, Наундорф имел какое-то отношение к бегству из Тампля, если оно имело место. Это может объяснить знание им каких-то подробностей жизни дофина, чем он и убедил мадам Рамбо и других бывших придворных Марии-Антуанетты. Один из участников судебного процесса 1954 года, затеянного потомками Наундорфа для юридического признания его «прав», заметил, что вопрос может получить окончательное решение, вероятно, только в двух случаях — если будут найдены какая-то тайная бумага, которая исходила бы от Бурбонов и признавала бы притязания Наундорфа, или документ, который устанавливал бы происхождение «берлинского часовщика».
В 1986 году в Париже вышел в свет роман Жаклин Монсиньи «Король без короны», в которой автор сообщает, что будто бы нашла в небольшом городке в Новой Англии (на северо-востоке США) документы, свидетельствующие о пребывании там дофина, который уже носил фамилию Наундорф.
Полемика продолжается. Вышли в свет новые объемистые книги эвазионистов и их оппонентов. П. Сори издал книгу «Людовик XVII. Маленький прини Тампля» (Париж, 1987), демонстративно даже не упоминая о «загадке» и не касаясь ни одного из документов (подлинных или подложных), введенных в научный оборот эвазионистами.
Одновременно появилась книга Эдмона Люплана «Жизнь и смерть Людовика XVII» (Париж, 1987). В ней были использованы и новые архивные материалы, которые освещают некоторые обстоятельства, сопутствующие пребыванию дофина в тюрьме, но не очень продвигающие решение «загадки Тампля».
ФУКЬЕ-ТЕНВИЛЬ — «НЕУМОЛИМОЕ ОРУДИЕ ЗАКОНА»
Если имеется образ, который в сознании и современников, и потомства олицетворял злоупотребление террором, то это прежде всего общественный обвинитель Фукье-Тенвиль. Кем же был этот человек, ставший воплощением «национального мщения», как было принято говорить в 1793 и 1794 годах, неумолимое орудие закона, как любил представлять себя Фукье-Тенвиль, «людоед», «чудовище», «кровопиец», как стали именовать общественного обвинителя после 9 термидора?
Антуан-Кентин Фукье родился в 1745 году неподалеку от города Сен-Калтен в Пикардии, в селении Эруэль. Он был вторым ребенком в многодетной, довольно богатой дворянской семье. Фукье-Тенвилем он стал называться по названию унаследованных земельных угодий. Фукье избрал карьеру юриста, и после завершения долгих лет работы в качестве писца, что считалось необходимой подготовкой, в 1774 году мать (отец к тому времени умер) и дядя купили ему за 34 тыс. ливров должность прокурора в Париже. Она давала право выступать в роли частного поверенного в делах. Современники оставили немало свидетельств, рисующих Фукье не только моральным, но и физическим уродом. Его физиономия напоминала морду «дикого осла», уверял один из современников, другой писал, что он был рябым, а его поведение — «притворством желчного хама» Большинство современных рисунков представляет его в столь же отталкивающем виде. Исключением являются одна или две гравюры, не напоминающие злобные карикатуры. Впрочем, и на этих гравюрах Фукье-Тенвиль предстает в не слишком симпатичном виде.
В 1775 году Фукье-Тенвиль женился. Жена — Женевьева-Доротея, урожденная Сонье из Перонны, — принесла ему 6000 ливров приданого. К этому времени дела у Фукье пошли неплохо, и он владел уже небольшим состоянием. В 1782 году Женевьева родила уже пятого ребенка, дочь, прожившую всего несколько месяцев, но сама мать скончалась вскоре после родов. Фукье женился вторично. Новая его супруга — Генриетта Жерар д’Окур — была еще несовершеннолетней. Неизвестны причины, побудившие эту хорошенькую девушку, притом с согласия семьи, выйти замуж за вдовца с четырьмя детьми, вдвое старше ее. Однако вряд ли это были чисто материальные соображения: родня дала за Генриеттой 10 000 ливров приданого. К 1791 году семья Фукье увеличилась еще на троих детей. Между тем его финансовое положение пришло в явный упадок. Он обитал в квартале, где жила парижская беднота. Семья явно нуждалась и, вероятно, жила в это время на приданое жены. Фукье-Тенвиль говорил, что он был тогда больным, чувствовал отвращение к своим занятиям и поэтому продал свою должность. Что стоит за этим решением, осталось неизвестным, как и то, чем именно он занимался в то время. После 9 термидора в печати фигурировало много обвинений Фукье-Тенвиля в том, что в годы до революции он был завсегдатаем игорных домов и притонов, содержал любовниц-балерин, устраивал пьяные дебоши. Эти обвинения позже подхватили правые историки, особенно Ж. Ленотр. Однако кроме старых слухов, порочащих Фукье-Тенвиля, в этих работах приводились лишь два-три документа, свидетельствующих, в частности, о том, что однажды его и других членов Революционного трибунала (некоторые из них были под хмельком) задержал патруль. Но это вряд ли относилось к самому Фукье-Тенвилю.
…Уже с утра 9 термидора, как и в предшествовавшие сутки, стояла давяшая предгрозовая жара. В Революционном трибунале день начался как обычно. В своей канцелярии появился общественный обвинитель Фукье-Тенвиль. Царила привычная рутина. Шли последние приготовления к началу заседаний. Писцы заканчивали снятие копий с обвинительных заключений. В Зале свободы двадцать семь подсудимых должны были предстать перед председателем Трибунала Дюма. Обвинителем выступал Фукье-Тенвиль. Судьбу еще двадцати восьми человек предстояло решить в Зале равенства. Председателем был судья Селье, обвинение поддерживал заместитель Фукье-Тенвиля Гребоваль. Подсудимых оказалось только двадцать три, остальных не удалось разыскать по тюрьмам. Постепенно залы заполнялись другими судьями и присяжными, многие из которых были назначены после принятия прериальского закона об упрошенном судопроизводстве. Жандармы ввели подсудимых.
Все они были выходцами из мелкобуржуазных кругов, служилым людом, интеллигенцией, за одним-двумя исключениями — члена Учредительного собрания и бывшего высокопоставленного чиновника финансового ведомства. Обвиняемым инкриминировалось участие в различных преступлениях. Всех подсудимых объединили чисто механически в две группы. Прериальский закон не требовал для такой «амальгамы» никаких доказательств того, что обвиняемые действовали сообща. Один из них обругал патриотов, казнивших короля, другой, директор театра марионеток Луазон, якобы заявил, что меры Конвента — это «свинство», а его жена плохо отозвалась о Марате, третий подсудимый способствовал бегству жирондиста Петиона, четвертый зарыл в саду столовое серебро; остальным инкриминировались скупка зерна и звонкой монеты, фабрикация фальшивых ассигнаций, переписка с эмигрантами — преступления, которые по закону должны были караться смертной казнью.
Зловещая и обыденная процедура с заранее предопределенным роковым исходом началась. Около двух часов, когда заседание в Зале свободы подходило к концу и присяжные собирались удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора, вдруг послышался топот сапог, и в залу быстрыми шагами вошел отряд жандармов. Судьи и присяжные остолбенели при виде такого неслыханного нарушения прерогатив и достоинств Трибунала. Не давая времени председателю прийти в себя от изумления, жандармский офицер объявил Дюма, что имеется приказ о его аресте, и предъявил в качестве доказательства документ, содержащий распоряжение Конвента. Жандармы, окружив Дюма, увели его, а заседание пошло своим чередом. Председательское кресло занял другой судья. Известие об аресте Дюма мигом распространилось по зданию Трибунала. Хотя никто не знал причины ареста, новость не показалась ошеломляющей: ведь не так давно был арестован предшественник Дюма на посту председателя — Монтане, все еще находящийся в заключении. Между тем в Зале равенства через полчаса 21 обвиняемый был приговорен к смерти. Оправдан был один человек, процесс одной женщины, учитывая состояние ее здоровья, был отложен. Фукье подписал приказ о казни осужденных и удалился вместе со своими коллегами Селье и Гребовалем. У входа, где толпились любопытные, желающие поглядеть на отбытие фургонов с осужденными, Фукье встретил палача Сансона.
— В Сент-Антуанском предместье происходят волнения, — заявил Сансон. — Поскольку осужденных надо провезти через это предместье, я считаю, что было бы разумным отложить казнь на завтра.
— Ничто не должно приостанавливать исполнение правосудия, — ответил Фукье. — Вы имеете вооруженную силу для оказания поддержки при казни. Отправляйтесь в дорогу.
Действительно, отсрочка была бы прямым нарушением закона, требовавшего без промедления гильотинировать всех приговоренных к смерти. Вскоре колесницы с осужденными двинулись в свой путь, а Фукье, Селье и Гребоваль отправились на званый обед к бывшему адвокату Лаверню. Там уже находился заместитель председателя Трибунала Кофиналь. Через час после того как гости сели за стол, явственно послышалась барабанная дробь. Послали слугу узнать, в чем дело. Он вскоре возвратился и сообщил, что шум вызван сборишем рабочих в связи с «максимумом». Надо сказать, что за четыре дня до этого, 5 термидора, робеспьеристская Коммуна Парижа утвердила слишком низкую таксацию заработной платы, что вызвало раздражение в рабочих районах столицы. Обед продолжался, но около пяти часов снова стали доноситься звуки барабана — в секциях били сбор. Посланный вторично слуга вернулся с ошеломляющим известием об аресте Робеспьера, его брата, Сен-Жюста, Кутона, Леба. Пораженные гости поспешили разойтись каждый своей дорогой — Фукье отправился во Дворец правосудия, где размешался Революционный трибунал.
Там царили страх и растерянность. По приказу Конвента прибыли солдаты, арестовавшие главу жандармерии Революционного трибунала подполковника Дюмниля. Незадолго до возвращения Фукье в канцелярию общественного обвинителя зашел его бывший заместитель, а с весны 1794 года — мэр Парижа робеспьерист Флерио-Деско. Он был очень раздосадован отсутствием Фукье-Тенвиля и попросил служащих канцелярии разыскать его, чтобы он прибыл в ратушу. Фукье был в нерешительности. В такие моменты «меж двух начальств колеблется усердье и преданность вдруг чувствует зазор», — говорит Сатана в «Дон-Жуане» А. Н. Толстого. Кто же все-таки является властью? Ответ на этот вопрос было нелегко найти вечером 9 термидора. Надо ли следовать приглашению Флерио-Леско, очень напоминавшему приказ? Фукье не мог еще знать, что Коммуна противопоставляет себя Конвенту. Но вряд ли у него возникли сомнения, что робеспьерист Флерио-Леско, приглашая его к себе, не собирался исполнить волю Конвента. Фукье-Тенвиль решил остаться в своей канцелярии и направил одного из секретарей прокуратуры, Малларме, известить Комитет общественного спасения, что находится на своем посту и ожидает приказаний начальства.
Но Комитету, целиком поглощенному борьбой с робеспьеристской Коммуной, было не до Фукье-Тенвиля. Можно лишь догадываться, что передумал в те часы Фукье. Все, что он рассказывал впоследствии о своем поведении 9 термидора в записках, составленных в тюремной камере, для оправдания себя в глазах термидорианцев, было, вероятно, очень далеко от его действительных раздумий в этот роковой вечер. Что же руководило, однако, в те вечерние часы решением Фукье — инстинкт законника, сообразующего свои действия с подчинением инстанции, имеющей юридическое право отдавать ему приказания? Тесные связи с рядом членов Комитета общественной безопасности и — в меньшей мере — Комитета общественного спасения, ставших летом 1794 года открытыми или скрытыми врагами Робеспьера? Правильно сделанный расчет, на чьей стороне будет победа (если такой расчет шансов вообще был возможным 9 термидора)? Как бы то ни было, выбор оказался верным в том смысле, что позволил Фукье-Тенвилю оказаться в лагере победителей, правда, всего на восемь месяцев отсрочив день своей казни…
Не получая никаких указаний, Фукье в сопровождении нескольких жандармов под проливным дождем отправился в Комитет общественного спасения. Он сообщил находившимся там членам Комитета, в том числе Бийо-Варенну, что остается на своем посту. Но это мало кого интересовало. Члены Комитета знали, что Робеспьер и его соратники были освобождены, что они находятся в ратуше, возле которой сосредоточены вооруженные отряды секций, и с тревогой ожидали наступления этих отрядов на Конвент и комитеты. Фукье вернулся во Дворец правосудия. Мимо окон его кабинета проследовал отряд секции Гравилье во главе с Леонаром Бурдоном, тайно проникший в здание ратуши и арестовавший Робеспьера и его сторонников.
Утром 10 термидора, пробудившись после нескольких часов беспокойного сна, Фукье-Тенвиль узнал, что большинство членов Революционного трибунала принимали участие в выступлении робеспьеристской Коммуны против Конвента. В тот же день Конвент предписал Революционному трибуналу предстать перед Комитетами общественного спасения и общественной безопасности и сообщить о мерах по осуществлению декретов 9 и 10 термидора, поставивших вне закона побежденных «заговорщиков». Поэтому в задачу Трибунала входило лишь устанавливать личности обвиняемых и немедля отправлять их на гильотину. В их числе был недавний председатель Трибунала Дюма. (Освобожденный 9 термидора из тюрьмы по приказу Коммуны Дюма оказался в здании ратуши, когда в него ворвались войска Конвента. Дюма тщетно пытался укрыться в каком-то чулане. Впрочем, мы знаем об этом из доклада Барера Конвенту, которому нельзя верить на слово.)
Как бы то ни было, Дюма вместе с бывшим присяжным Трибунала Клодом Пейяном, ставшим руководителем робеспьеристской Коммуны, а также с бывшим судьей Вивье, который в ночь с 9 на 10 термидора занимал председательское кресло в Якобинском клубе, с бывшим заместителем и другом Фукье-Тенвиля мэром Парижа Флерио-Деско предстали перед своими прежними коллегами, возглавляемыми судьей Селье. Фукье-Тенвиль устроил так, чтобы не он произнес слова, означавшие смертный приговор Флерио-Деско. Все подсудимые, включая Робеспьера и его ближайших сподвижников, были казнены немедля после вынесения решения Трибунала. В числе второй большой группы робеспьеристов, отправленных на эшафот, были снова присяжные и служащие Трибунала. Целый ряд присяжных считались подозрительными, некоторые из них были сразу же арестованы. Этой же участи 12 термидора подвергся бывший председатель Революционного трибунала Герман. Несколько последних месяцев он находился на посту министра внутренних дел и комиссара гражданской администрации, полиции и судов, проводил следствие по поводу пресловутого «заговора в тюрьмах», приведшего к массовым казням. Арест Германа по приказу Комитета произвел полицейский Доссонвиль. Доссонвиль, быстро сориентировавшись в обстановке, не ограничился арестом Дюма и занялся интенсивным розыском судьи Революционного трибунала Кофиналя.
Дело в том, что Кофиналь принимал самое активное участие в выступлении Коммуны вечером 9 термидора против Конвента. Более того, поскольку первоначально в здании ратуши еще не было мэра Флерио-Леско, Кофиналь принял руководство движением. Узнав, что Комитет общественной безопасности арестовал командующего парижской национальной гвардией Анрио, Кофиналь с группой жандармов с саблей наголо ворвался в помещение Комитета. Угрожая уложить на месте членов Комитета Амара и Вулана, Кофиналь освободил Анрио. В этот момент Кофиналь вполне мог разогнать заседавший тут же рядом Конвент, но не воспользовался этой возможностью. Именно Кофиналь освободил Робеспьера и доставил его в ратушу. Когда ратуша была захвачена войсками Конвента, Кофиналь сумел скрыться, хотя здание подверглось тщательному обыску. На другой день Конвент объявил его вне закона и назначил вместо него на пост заместителя председателя Трибунала Дельежа.
Кофиналь ускользнул и на лодке достиг пустынного островка, где оставался до 17 термидора. Голод заставил его тайно пробраться в Париж, где он обратился за помощью к одному знакомому, которого считал многим обязанным себе. Кофиналь попросил хлеба и убежища. Хозяин дома успокоил его ложными обещаниями, а сам донес на него в секцию. Через несколько часов Кофиналь находился уже в Консьержери. Всю ночь он оглашал камеру неистовыми воплями, жалобами, проклятиями по адресу командующего национальной гвардией Анрио, который, напившись, не использовал 9 термидора возможности взять верх над противниками робеспьеристов, а также по поводу беспечности членов Коммуны. На следующее утро Конвент, узнав об аресте Кофиналя, поручил Уголовному суду Парижского департамента (Революционный трибунал в его прежнем составе был распушен) установить личность Кофиналя. Менее чем через час после этой формальности Кофиналя затолкнули в фургон, отправлявшийся к месту казни. Как-то, приговорив одного учителя фехтования к смерти, Кофиналь снабдил приговор еще и шуткой:
— Ну, старина, попробуй-ка отразить этот удар!
Толпы, бежавшие за телегой с осужденными, кричали Кофиналю:
— Попробуй-ка отрази этот удар!
Естественно, что Доссонвиль, начав розыск Кофиналя, не мог знать всего этого. Зато он быстро выяснил, что делал Кофиналь до того, как вечером появился в ратуше. Этот поиск привел сыщика в дом адвоката Лаверня, где, как мы знаем, Кофиналь и еще несколько человек, включая Фукье-Тенвиля, были 9 термидора на званом обеде. Доссонвиль постарался выдать сам факт участия Фукье-Тенвиля в обеде за свидетельство его измены. В докладе Комитету общественной безопасности Доссонвиль прямо именовал Фукье «предателем» и «заговорщиком». Возможно, что этот доклад сыграл свою роль в решении участи Фукье-Тенвиля. Как уже отмечалось, большинство руководителей очень разношерстной группы активных участников переворота 9 термидора и не думали о прекращении или ослаблении политики репрессий и лишь несколько позже поняли, насколько выгодно для них выступить в роли противников массового террора. Поэтому в первые дни после переворота не было нужды избавляться от Фукье-Тенвиля, тем более что его никак нельзя было считать близким к Робеспьеру человеком. Напротив, у него были тесные связи с врагами Неподкупного из числа членов обоих правительственных комитетов.
10 термидора бывшие дантонисты потребовали очистки Революционного трибунала от сторонников Робеспьера. На следующий день Эли Лакост от имени Комитета общественной безопасности предложил вообще ликвидировать Революционный трибунал. Напротив, Бийо-Варенн, выступавший по поручению Комитета общественного спасения, считал невозможным упразднить Трибунал, поскольку ему еще предстояло покарать «шайку» сторонников Робеспьера. В конечном счете предложение вернули на рассмотрение комитетов. Вечером того же дня Барер обвинил Робеспьера, что тот якобы был против учреждения революционного правительства и воздал хвалу Революционному трибуналу — «этому спасительному учреждению, которое уничтожает врагов Республики и очищает почву свободе». Заявив, что Трибунал надо не упразднять, а лишь очистить, Барер предложил новый список судей и присяжных, в котором он оставил Фукье-Тенвиля.
Однако это предложение натолкнулось на сильное сопротивление Конвента, который отказался одобрить список новых членов Революционного трибунала, представленный Барером. (Это было лишь частью мер по ликвидации революционного правительства.) Вот в такой-то обстановке и появилось уже знакомое нам донесение Доссонвиля, в котором Фукье-Тенвиль именовался «предателем» и «заговорщиком».
Еще через два дня, 14 термидора, по предложению представителя дантонистской группы депутатов Лекуантра был отменен закон 22 прериаля, а другой дантонист, развратник и фат Фрерон, проливший, прежде чем примкнуть к «снисходительным», море крови в Тулоне и Марселе, заявил: «Весь Париж требует от вас казни Фукье-Тенвиля, вполне заслуженной им. Вы отправили в Революционный трибунал гнусного Дюма и присяжных, которые вместе с ним участвовали в преступлении злодея Робеспьера. Я докажу вам, что Фукье так же виновен, как они. Если президент, если присяжные находились под влиянием Робеспьера, это относится и к общественному обвинителю, ибо он составлял обвинительные акты в том же духе». Фрерон призывал к тому, чтобы Фукье искупил пролитую им кровь. Члены Комитета общественной безопасности, чьим верным и покорным орудием был Фукье, предпочли промолчать. Не раздалось ни одного голоса в защиту бывшего общественного обвинителя. Участь Фукье была решена. Конвент предписал немедленно арестовать его и направить в Революционный трибунал. Интересно, что через два месяца после этого Фрерон послал письмо новому общественному обвинителю Леблуа, которое представляло дополнительные доказательства вины Фукье. Ими оказалось на этот раз то обстоятельство, что тот, мол, добился оправдания двух лиц, отосланных комиссарами Конвента в Марселе (т. е. Баррасом и самим Фрероном) в Париж для предания суду Революционного трибунала!
…Фукье-Тенвиль обсуждал в буфете с новым вице-председателем Трибунала Дельежом создавшуюся обстановку, когда один из служащих сообщил ему о только что принятом декрете, предписывающем арестовать общественного обвинителя. Фукье-Тенвиль внешне спокойно принял эту новость, заметив:
— Я вполне спокоен и ожидаю, когда придут меня арестовывать. — Он поднялся в свой кабинет и сказал:
— Я отправляюсь в Конвент.
Эти слова он повторил и жене, прежде чем покинуть Дворец правосудия. В коридорах Конвента Фукье подтвердили, что принят декрет о его аресте. В это время в квартиру Фукье ворвались агенты Комитета общественной безопасности. Не найдя его, они начали допытываться, кто предупредил его о декрете Конвента. Пока шло это расследование, стало известно, что Фукье никуда не скрылся, он сам явился в Консьержери и сдался тюремным властям. В тюрьме его встретили враждебными криками заключенные, многие дни проводившие в ожидании вызова в Революционный трибунал и казни:
— Подлец! Злодей!
Тюремщики поспешили запереть Фукье в темную одиночку, приставив к двери камеры жандарма. А на следующий день Фукье-Тенвиль с присущей ему холодной методичностью занялся в камере составлением заявления Комитету общественной безопасности, в котором оправдывался в своих действиях. Это заявление — первое в ряду других — озаглавлено: «Оправдательная записка, адресованная Комитету общественной безопасности Конвента от Антуана-Кентина Фукье, бывшего общественного обвинителя Революционного трибунала, добровольно явившегося в Консьержери и декретом 14 термидора преданного суду Трибунала». Он отвергал обвинение в том, что составлял обвинительные акты против патриотов, что был «одной из креатур Робеспьера и Сен-Жюста» (он, Фукье, даже не знает, где жил последний, а у первого, т. е. у Робеспьера, был только один раз по долгу службы, когда пытались убить Колло д’Эрбуа). Он не имел ни малейшего представления о «заговоре» 9 термидора (в котором термидорианцы обвиняли робеспьеристов), а, напротив, назавтра обеспечил осуществление закона, т. е. отправку на гильотину Робеспьера, Сен-Жюста, Флерио, Пейяна, Дюма, Анрио. Он говорил ранее депутатам Конвента (Мерлену из Тионвиля и Декуантру), насколько ему «ненавистен деспотизм Робеспьера». Тот даже собирался вычеркнуть его, Фукье, из списка членов Революционного трибунала.
Он, Фукье, не раз указывал Комитету общественной безопасности на суровость прериальского закона. Однако как общественный обвинитель, он должен был осуществлять законы, иначе его «рассматривали и поступили бы с ним как с контрреволюционером». Он был очень занят в предшествующий месяц и потому не мог посещать Якобинский клуб и не слышал ни речей Робеспьера, подготовлявшего заговор, ни «диатриб злодея Дюма». Член Конвента Мартель может подтвердить, что примерно за 8 дней до «заговора» 9 термидора он, Фукье, осуждал деспотическую власть Робеспьера над Комитетом общественного спасения. И далее Фукье-Тенвиль описывал, как он провел 9 термидора, ссылаясь на свидетелей, видевших, что он не покидал Дворца правосудия. «Трудно представить себе более безупречное поведение». Им были составлены обвинительные заключения против всех главных заговорщиков, которые в результате не избежали меча правосудия. И тем не менее он находился в тюрьме, где аристократы именуют его «подлецом» и «злодеем», его, «прирожденного врага всех контрреволюционеров». Ему нечего бояться самого строгого изучения его бумаг. Зачем содержать его далее в заключении? Большинство обоих комитетов знакомо с его принципами и его действиями, и ему остается «лишь полностью положиться на их справедливость».
В своих «мемуарах» и оправдательных записках Фукье пытался отвергнуть одно за другим предъявлявшиеся ему обвинения в нарушении служебного долга. Так, ему инкриминировали приказы заранее воздвигать гильотину и заказывать телеги для осужденных. Дело в том, разъяснял он, что Комитет общественного спасения обсуждал, но так и не принял решения постоянно сохранять гильотину на месте производства казней. Поэтому гильотину каждый раз разбирали на части и отвозили на хранение, причем в места, совсем не близкие от площади Революции, где совершались казни. А для доставки оттуда ее в разобранном виде и установки на прежнем месте требовалось пять, а то и пять с половиной часов. Ему же, Фукье, предписывалось обеспечить казнь осужденных в день вынесения смертного приговора. Как тут быть? Пришлось подыскивать более близкое место для хранения частей разобранной гильотины, чтобы сократить время для ее доставки к месту казни. Этим и определялись его, Фукье, хлопоты, а не тем, что он отдавал приказ о сборке и наладке гильотины еще до начала судебного заседания. То же самое следует сказать и о фургонах — их было нелегко нанять в Париже, вот и приходилось заранее позаботиться, чтобы они, если потребуется, оказались на месте. В другом случае Фукье разъяснял, что вообще какой может быть спрос с него, ведь приговор выносился не им, а судьями и присяжными.
Фукье-Тенвиль попытался использовать в своих интересах обнаружившиеся столкновения между правыми и левыми термидорианцами. 21 термидора (8 августа) председательствующий Марлен де Дуэ зачитал письмо Фукье с просьбой выслушать его, поскольку он может сообщить сведения, важные с точки зрения общественных интересов и могущие вместе с тем служить для его, Фукье, оправдания. Дантонист Лекуантр немедля поддержал эту просьбу — следует узнать из уст самого Фукье, кто побуждал его к действиям на посту общественного обвинителя. Раздавались голоса протеста — Фукье должен предстать только перед революционным судом, не следует давать ему возможности сеять вражду между членами Конвента. Однако большинство высказывалось за то, чтобы выслушать Фукье. Вскоре его доставили из тюрьмы в зал заседания и дали слово. Его показания внесли мало нового.
Главной его целью было возложить всю ответственность на Робеспьера. Именно он заставил его, Фукье, лично представлять ежедневно отчеты о деятельности Трибунала, хотя формально общественный обвинитель был подчинен не Комитету общественного спасения, а Комитету общественной безопасности. Робеспьер не раз пытался сместить и арестовать Фукье. Он отнюдь не доставлял Робеспьеру списки лиц, которых следовало предать суду Трибунала. Но у Робеспьера были свои шпионы в Трибунале, прежде всего председатель Дюма. В ходе процесса Дантона Фукье считал необходимым заслушать свидетелей, которых требовали вызвать обвиняемые, но взамен получил приказ сверху, который замкнул ему уста, и он подчинился закону. Дюма предлагал ежедневно судить по 160 человек, уверял, что таков приказ Комитета, а он, Фукье, добился, чтобы этих подсудимых разделили на три группы. И так далее. Показания Фукье не произвели впечатления. Делались попытки лишить его слова. Тальен в крайне враждебном тоне подчеркнул, что Фукье, посвященный в разные чудовищные тайны, не сообщил ничего заслуживающего внимания. «Не стоит его обвинять, его уже давно обвиняет вся Франция». Но его все-таки дослушали до конца — и возвратили в Консьержери.
12 и 13 фрюктидора (29 и 30 августа) Лекуантр, основываясь на документе, написанном Фукье-Тенвилем, обвинил семерых бывших членов комитетов — Бийо-Варенна, Колло д’Эрбуа, Барера, Вадье, Амара, Вулана и Давида — в том, что они виновны в преступлениях, вызванных политикой террора. Однако Лекуантр не представил никаких доказательств, помимо записки Фукье. В ответ Бийо-Варенн заявил:
— Кому не видна здесь адская интрига Фукье с целью запятнать нас всех гнусностью своих действий?
Э. Лакост потребовал даже декрета об аресте Лекуантра. В заключение Камбон предложил принять резолюцию, объявляющую обвинения против названных членов Конвента клеветой. Предложение было принято единогласно.
Фукье адресовал свои «мемуары» Лекуантру, но они попали к тому через других членов Конвента (Мерлена де Дуэ, М. Бейля или Луи из департамента Нижний Рейн). Назавтра после обсуждения его обвинений в Конвенте Фукье «из глубины тюрьмы, куда его не следовало заключать», поспешил объяснить, что он никогда не обвинял Амара, Вадье, Вулана в том, что они пытались через председателя Трибунала Германа заставить колебавшихся присяжных проголосовать за смертный приговор Дантону и угрожали им местью комитетов в случае ослушания.
26 фримера (16 декабря 1794 г.), в день, когда Каррье и еще двое обвиняемых были приговорены к смертной казни, общественный обвинитель Леблуа приступил к составлению обвинительного заключения против своего предшественника. Оно включало прежде всего «амальгамы», массовые поспешные осуждения. В этих процессах «обвиняемые по внешности, осужденные в действительности, были казнимы без того, чтобы быть судимыми и осужденными». Фукье обвиняли в подмене одного обвиняемого другим; в приказах еще до суда собирать гильотину и готовить фургоны для приговоренных к казни; подписывать обвинительные заключения, в которых лишь потом вписывались фамилии обвиняемых; в лишении обвиняемых слова, права иметь защитника и вызывать свидетелей. Ему инкриминировали подтасовку списков присяжных, секретное посещение совешательной комнаты, чтобы повлиять на решение присяжных, а также инструктирование свидетелей. Фукье, по словам Леблуа, осуществлял деспотическую власть над всеми служащими Трибунала и принуждал их к незаконным действиям. Фукье ложно утверждал, что некоторые обвиняемые (речь шла о процессе дантонистов) находятся в состоянии мятежа против Трибунала. Он лживо пытался уверить, что существовали заговоры в тюрьмах; добивался принятия «ужасающего» закона 22 прериаля; подбирал из низких, опустившихся лиц доносчиков и с их помощью составлял проскрипционные списки. Он почти всегда противился исполнению отдельных оправдательных приговоров и всячески добивался гибели лиц, признанных судом невиновными.
Леблуа обвинял Фукье в совершении различных должностных преступлений, в том, что он был столь же кровожадным, сколь и склонным к утаиванию денег, пересылавшихся заключенным, в нелегальном хранении этих средств в различных местах, тогда как единственным законным держателем их мог быть лишь секретарь Трибунала; в злонамеренном запутывании отчетности о суммах, прошедших через его, Фукье, руки. Леблуа инкриминировал Фукье пособничество Робеспьеру, Сен-Жюсту, Кутону и другим, якобы «обещавшим обезлюдить Францию». В целом Фукье приписывался заговор против внутренней безопасности государства и французского народа, стремление таким путем ликвидировать представительное правление, республиканский режим, восстановить монархию, попытки путем террора натравить одних французов на других и разжечь гражданскую войну. Все обвинительное заключение было составлено с расчетом заранее опровергнуть главный довод, приводимый Фукье в свою защиту, — что он лишь добросовестно и неукоснительно выполнял приказы комитетов, назначенных Конвентом.
Процесс Фукье начался через два дня после составления обвинительного акта, 28 фримера (18 декабря). Но как раз в этот день Конвент принял решение обновить состав Трибунала. Процесс был прерван в самом начале, и Фукье возвращен в тюрьму. 28 декабря 1794 года Конвент принял решение о реорганизации Революционного трибунала. Судьи Трибунала должны были быть вызваны в Париж из провинции, и срок их полномочий не должен был превышать трех месяцев. Термидорианцы стремились подчеркнуть в изменениях, которые были произведены в политическом курсе после свержения робеспьеристов, самую выигрышную перемену — прекращение ежедневных массовых казней. Новым председателем Трибунала стал Ажье, в прошлом судья, уволенный в отставку после свержения монархии 10 августа 1792 года и восстановленный в должности лишь после 9 термидора. Он заявил, что в прошлом Трибунал лишь как бы случайно карал отдельных виновных, одновременно посылая на смерть тысячи ни в чем не повинных людей. Трибунал действительно перестал быть орудием массового террора. Если с апреля 1793 года по 9 термидора Трибунал осудил на смерть свыше двух тысяч шестисот человек, напротив, судьи Трибунала, назначенные по закону 28 декабря 1794 года, послали на гильотину 17 человек.
Этот факт не означал ограничения казней по приказу термидорианских властей. Участников выступлений рабочих предместий Парижа весной 1795 года судила военная комиссия. В том же году военными судами, или без всякой судебной процедуры, были приговорены к расстрелу взятые в плен роялисты. Но ежедневным публичным казням на плошали Революции пришел конец. Что же касается 17 смертных приговоров, вынесенных обновленным Трибуналом, то среди них была некая Мария Жаке, обвинявшаяся в шпионаже. Остальные шестнадцать были Фукье-Тенвиль и лица, считавшиеся соучастниками его преступлений. Чтобы продемонстрировать беспристрастие нового Трибунала, во время суда над прежним общественным обвинителем старались соблюсти все требуемые законом процессуальные формальности. Этим подчеркивалось отличие от суммарного разбора дел в бытность Фукье общественным обвинителем. Было вызвано большое число свидетелей — секретарей и писцов прежнего Трибунала, чиновников канцелярии общественного обвинителя, юристов, тюремщиков и кучеров фургонов, отвозивших осужденных на гильотину, жандармов, помощников палача, служащих буфета, полицейских провокаторов, подвизавшихся в тюрьмах, и лиц, которые по воле случая избежали обвинительного приговора и казни.
Показания подавляющего большинства свидетелей, а это были свидетели обвинения, являлись крайне неблагоприятными для Фукье. Один из них имел основание ненавидеть бывшего общественного обвинителя, на других, возможно, влияла атмосфера враждебности, давно сгустившаяся вокруг Фукье. Тем не менее нет основания подвергать сомнению то, что рассказывали свидетели, может быть, отбрасывая лишь отдельные преувеличения. В целом же показания рисовали человека, который если не упивался своей кровавой работой, то рассматривал ее как рутинную деятельность — пусть и в необычных условиях революции — и считал ее крайне полезной, которой пытался заставить бесперебойно функционировать машину уничтожения от момента доставки подсудимых из тюрем до их обезглавливания на плошали Революции. Неутомимый работник, Фукье рассылал в день по 80–90 писем (впрочем, десятки и сотни писем он оставлял без ответа, даже не распечатывал конверты), и это помимо участия в судебных заседаниях, ежедневных докладов комитетам и тысячи других дел. Фукье явно бравировал образцовым, методическим исполнением своего «долга».
Возможно, что в его понимание долга входило запугивание подчиненных, недостаточно усердно выполнявших его приказы, угрозы, что им придется разделить участь контрреволюционеров, «снисходительных» и т. п. Негодование по поводу отдельных оправдательных приговоров нередко приправлялось частыми высказываниями, что намечаемые на ближайшую неделю сто, двести, триста казней, мол, упрочат Республику и революцию. Обвиняемые превратились для него в единицы, составляющие сумму лиц, которых надо ежедневно отправлять на эшафот. Поэтому он с такой легкостью приговаривал к смерти людей, оказывавшихся просто однофамильцами внесенных в список. Все это сопровождалось выглядевшими как чудовищное лицемерие проявлениями «гуманности», также предписанными законами. Как уже указывалось, Фукье заказывал помощнику палача еще утром, до начала судебного заседания и тем более до вынесения приговора, нужное количество фургонов для отправки осужденных на гильотину. Однако на каждой телеге везли не более семи человек, иначе приговоренные к смерти будут испытывать излишние страдания от тесноты. Фукье в соответствии с законом настаивал на том, чтобы гильотинирование производилось в день вынесения приговора, на приведение его в исполнение в течение одного-двух часов, дабы (опять-таки из соображений гуманности) сократить осужденным время предсмертного томления и агонии.
Быть может, это демонстративное изображение себя слепым орудием закона было для Фукье следствием не столько внутреннего убеждения, сколько своеобразной игры с самим собой, самоубеждения в полезности своих действий. А может быть, не столько самооправдания, сколько попытки обелить себя в глазах окружавших на случай, если придется нести ответ за содеянное.
— Ужасно гнусное ремесло! — повторял Фукье после принятия закона 22 прериаля о своих занятиях. — Жестокое время, оно не может долго длиться.
Уже известный нам секретарь Комитета общественной безопасности Сенар показал, что слышал, как Фукье, идя вместе с ним и другим полицейским, Гороном, и рассуждая о «победах, одержанных гильотиной», заметил, что доволен ее успехами. Однако на нее взошли известные патриоты, а другим еще предстоит взойти.
— Я опасаюсь, — добавил Фукье, — как бы со мной не сыграли подобную шутку. Я видел тени некоторых патриотов. С недавнего времени мне кажется, что эти тени преследуют меня. Чем все это кончится? Я ничего не знаю об этом.
На основании показаний свидетелей общественный обвинитель нового Трибунала Жюдиси составил 4 жерминаля новый обвинительный акт против Фукье и 29 его сообщников. Он в целом повторял уже выдвинутые ранее обвинения. 8 жерминаля в том же зале, где Фукье выступал столько раз обвинителем, начался его процесс совместно с еще 23 бывшими судьями и присяжными Трибунала (шестеро обвиняемых скрывались от термидорианской юстиции). Судья и присяжные, прибывшие из провинции, были настроены явно против революционного правительства и террора в период якобинской диктатуры. Суд демонстративно, для контраста с действиями прежнего Революционного трибунала, тщательно проверил все пункты обвинительного заключения. Подсудимым было разрешено иметь адвокатов, были вызваны 419 свидетелей. Суд длился долго — целый месяц и девять дней (от 8 жерминаля до 17 флореаля).
Процесс был заполнен острыми стычками между представителями обвинения и Фукье, который не раз разражался гневными выкриками и взрывами ярости, попытками, как в былые дни, подавить волю свидетелей. Однако в целом линия зашиты Фукье была заранее обречена на неудачу, и не только из-за заведомой враждебности судей и присяжных. Общественный обвинитель не рискнул сказать ни слова, которое звучало бы как оправдание террора, столь усердно проводившегося им на его посту. Поэтому зашита Фукье сводилась к утверждению, что он был лишь исполнителем приказов правительства — Комитетов, назначенных Конвентом, что это являлось его «служебным долгом», а также к попыткам оспорить факты, доказывающие, что он нередко выходил за пределы этого «долга». Фукье старался отрицать свою роль в казни отдельных, пользовавшихся известностью и симпатиями людей, против которых вообще не было выдвинуто никаких конкретных обвинений. Однако документы уличали его в том, что он не только не пытался спасти этих лиц, а, напротив, всячески способствовал их гибели. Часто он отрицал совершенно очевидное — даже собственную подпись на незаполненных бланках со смертным приговором, твердил, что заказывал телеги для осужденных еще до начала заседания только потому, что в Париже испытывается недостаток в фургонах. В заключительном слове Фукье снова возложил всю вину на прежних членов комитетов — уже отправленных в ссылку Барера, Бийо-Варенна, Колло д’Эрбуа и других, находившихся в тюрьмах. В их отсутствие он, Фукье, был представлен «главой заговора, о котором никогда ничего не знал». Его сделали-де козлом отпущения.
17 флореаля (6 мая) Трибунал приговорил к смерти Фукье и еще пятнадцать обвиняемых, в том числе прежнего председателя Революционного трибунала Германа и судью Селье. Осужденные просили казнить их в тот же день, но было уже слишком поздно. Фукье-Тенвиль оставил записку: «Мне не в чем себя упрекнуть. Я всегда подчинялся законам. Я никогда не был креатурой ни Робеспьера, ни Сен-Жюста. Напротив, четыре раза я находился на грани ареста. Я умираю за свою родину без упреков и удовлетворенным, позднее признают мою невиновность».
В работах, авторы которых пытались опровергнуть «термидорианскую легенду» о Фукье, приводились его письма к жене, которые рисуют жестокого прокурора преданным супругом и отцом семейства, письма к нему как общественному обвинителю, письма-просьбы за родных и близких, друзей, выражающие уверенность в его беспристрастии, в том, что он не покарает невиновных. (Стоит ли эту уверенность, выражавшуюся в разгар террора, принимать за чистую монету?) Предпринимались изыскания с целью доказать, что вовсе не Фукье-Тенвилю принадлежала мысль воздвигнуть в зале заседания Революционного трибунала платформы, на которых было бы возможно разместить одновременно 150 подсудимых, что, мол, эта идея принадлежала председателю Трибунала Дюма и что платформы вдобавок были разрушены почти сразу после их сооружения. (Доказательствами считаются письменные показания Фукье-Тенвиля, когда он сам сидел в тюрьме, ожидая неминуемых суда и казни…)
Большего внимания заслуживают отдельные свидетельские показания, поскольку они никак не могли быть продиктованы желанием угодить судьям, крайне враждебным Фукье. Вдова буфетчика Трибунала заявила о Фукье: «Он облегчал положение несчастных заключенных». Бывший секретарь отдела прокуратуры Революционного трибунала В.-Д. Дюшато, занявший в реорганизованном после термидора Трибунале должность судебного исполнителя, показал на процессе: «Я видел Фукье, принимавшего участие и выказывавшего много милосердия в отношении отцов отчаявшихся семей, которые ходатайствовали за своих детей, арестованных за какие-то сказанные ими слова». Показание члена Конвента Мартеля: «Я видел Фукье действующим в соответствии с принципами справедливости и гуманности. Я поддерживал связи с ним, чтобы спасти жизнь невиновных».
Некоторые историки считали, что на процессе дантонистов Фукье действительно хотел заслушать свидетелей, вызова которых добивались подсудимые и показания которых могли повлиять на ход процесса, но этому помешал Сен-Жюст, добивавшийся принятия Конвентом закона, который позволял Трибуналу прекращать прения. Эти историки упоминают дело 94 жителей Нанта, уцелевших из группы в 132 человека, которые были отправлены Каррье в Париж в конце ноября 1793 года, но предстали перед Революционным трибуналом уже после термидора, в сентябре 1794 года. Председатель Трибунала Герман, ознакомившись с выдвинутыми против них обвинениями, считал неизбежным их осуждение и беспокоился только о том, удастся ли послать такое большое число людей на гильотину в тот же день, а заставлять их целые сутки томиться в ожидании казни противоречило, как он докладывал членам Комитета общественного спасения, «нашим принципам». Между тем Фукье целых семь месяцев 1794 года оттягивал появление жителей Нанта перед Трибуналом, считая, что не представлены достаточно веские доказательства их вины. Так уверял Фукье, когда сам предстал перед судом, и его заявление подтверждает в своих показаниях секретарь отдела прокуратуры Революционного трибунала. В случайных разговорах со служанками в буфете или в признаниях матери, в словах, оброненных дочери, Фукье говорил о том, что он тяготится своими зловещими обязанностями и если бы смог, то подал в отставку.
Чем были вызваны эти припадки слабости — укорами совести, сомнениями в оправданности той политики, которой он служил с рвением педанта-законника, чуждого всяких сантиментов? Или опасением, что при быстрой смене партий у власти ему самому настанет очередь свести знакомство с «национальной бритвой»? Что же касается отдельных жестов великодушия, то с большей долей вероятности каждый из них мог иметь свои особые причины, которые не находили отражения в сохранившихся документах. Это вовсе не обязательно была, в частности, прямая коррупция. Обвинение в продажности выдвинула в своих «Мемуарах» мадам Ролан. Эта талантливая и неукротимая в своей ненависти к якобинцам женщина, входившая в тесный круг главных руководителей Жиронды, писала свои воспоминания в тюрьме, в ожидании суда и гильотины. Она утверждала: «Общественный обвинитель Революционного трибунала Фукье-Тенвиль, известный своим дурным поведением и бесстыдством, с которыми он без основания составлял обвинительные акты, получал обычно деньги от заинтересованных сторон. Мадам Рошуар заплатила ему 80 ООО ливров за эмигранта Мони. Фукье-Тенвиль получил эту сумму, Мони был казнен, а мадам Рошуар предупредили, что, если она проговорится об этом, ее посадят туда, где она больше не увидит дневного света». Хотя мадам Ролан ненадежный свидетель, ее трудно заподозрить в сознательном искажении фактов. К тому же свои сведения она, вероятно, почерпнула от мадам Монтане, супруги бывшего председателя Революционного трибунала, считавшей Фукье-Тенвиля виновником ее ареста.
Монтане был смешен с поста и заключен в тюрьму из-за донесения, посланного общественным обвинителем 29 июля 1793 года Конвенту. В этом донесении Монтане инкриминировалось изменение текста смертных приговоров Шарлотте Корде и девяти жителям Орлеана, признанным виновными в покушении на члена Конвента Леонара Бурдона, с целью исключения из этих вердиктов пункта о конфискации имущества. Арестованный Монтане признал справедливость обвинения, ссылаясь в свое оправдание лишь на отсутствие преступных намерений. Тем не менее напрашивающимся объяснением поведения Монтане был подкуп, как раз именно то преступление, в котором позднее его жена обвиняла Фукье-Тенвиля. Одержав победу, Фукье, однако, не погубил поверженного противника. Он отложил процесс Монтане, фактически заставил забыть о нем. На процессе Фукье-Тенвиля Монтане заявил: «Я ему обязан жизнью».
К этой аргументации, приводимой историком Г. Флейшманом, надо добавить, что и графиня Рошуар менее всего может считаться особой, показания которой заслуживают особого доверия. Все старания врагов Фукье-Тенвиля доказать, что он был взяточником, остались безрезультатными. Однако очевидно, что он «прикрывал» неблаговидные дела членов комитетов вплоть до сокрытия следственных документов, содержавших показания, которые компрометировали этих высокопоставленных деятелей. Трудно сказать, пытался ли Фукье таким путем заручиться их покровительством или использовать это как средство для шантажа таких лиц. По всей вероятности, и то и другое. Быть может, лучшим опровержением обвинения в коррупции служит тот факт, что Фукье-Тенвиль, который был заботливым супругом и отцом, оставил свою семью без всяких средств к существованию. Чтобы понять психологию общественного обвинителя, надо избегать и повторения термидорианской клеветы, и попыток апологии такой мрачной фигуры, как Фукье-Тенвиль.
Фукье, как и весь Трибунал, в разное время подчинялся политическому курсу разных партий и обращал меч правосудия против различных группировок. Первоначально он являлся орудием подавления монархистов различных мастей, потом главной мишенью стали жирондисты, затем представители различных фракций якобинского блока. Последнюю из них — робеспьеристскую — добивали уже победившие термидорианцы с помощью того же Трибунала. При этом, конечно, производилась постепенная смена состава судей и присяжных (многим из которых, в свою очередь, предстояло предстать перед Трибуналом уже в качестве подсудимых). Однако смена происходила обычно не сразу, после переориентировки Трибунала на преследование тех лиц, по рекомендации которых попали на свои должности и судьи, и присяжные. Назначенный одной партией, Трибунал не раз творил волю другой партии, сменившей первую у кормила правления. А одновременно Трибунал карал сотни, тысячи людей, более или менее случайно попавших под колеса машины террора.
…Огромная толпа сопровождала 18 флореаля (7 мая 1795 года) три телеги с осужденными. Раздавались гневные возгласы: «Верни мне моих родных, брата, мужа, жену, мать, отца моих детей», «Присоединись к своим жертвам, злодей!» Напоминая об упрошенном судопроизводстве на основе прериальского закона, Фукье кричали, что через две минуты будут «прекращены прения» о нем, издевательски вопрошали, достаточно ли он «просвещен» насчет происходящего. Фукье не молчал. По словам правительственного органа «Монитер» от 21 флориаля, Фукье, бледный, с горящими глазами, отвечал «самыми страшными предсказаниями». Один из очевидцев передает, что Фукье крикнул толпе: «Гнусные канальи, пойдите поищите хлеба!», намекая на голод, усилившийся после 9 термидора в результате отмены «максимума». Эти слова были брошены толпе после первого (жерминальского) и незадолго до второго (прериальского) восстания парижских предместий, жестоко подавленного войсками термидорианского Конвента.
Фукье был казнен последним. Палач, подчиняясь яростным крикам собравшихся, схватил за волосы отрубленную голову Фукье и показал ее парижанам. Было 11 часов утра. Существует мрачная легенда, будто имя Фукье-Тенвиля было вписано в незаполненный бланк, содержащий приказ о казни, подписанный самим Фукье в бытность его общественным обвинителем…
Термидорианцы пришли к власти под лозунгом прекращения террора. Однако при расправе с Робеспьером и его сторонниками победители не утруждали себя судебными формальностями. А когда весной 1795 года было подавлено последнее выступление парижских предместий, для суда над инсургентами была создана Военная комиссия. Термидорианский Комитет общественной безопасности потребовал, чтобы она действовала без «медлительности, несовместимой со справедливым и устрашающим характером, который должна иметь Военная комиссия во время мятежа». За 21 день комиссия рассмотрела 98 судебных дел и вынесла 20 смертных приговоров. Комиссия выслушивала только тех свидетелей, которых считала нужным вызвать; зашиты не полагалось, приговоры приводились в исполнение в тот же день.
ГЕНЕРАЛ БОНАПАРТ И ГЕНЕРАЛ МОРО
Еще до переворота 18 брюмера, приведшего Наполеона к власти, он стал объектом ряда заговоров, организованных против него стараниями английской разведки.
Шел 1798 год. Молодого генерала Бонапарта, одержавшего ряд блестящих побед в Италии, Директория мечтает отослать куда-нибудь подальше от Франции. Бонапарт делается слишком популярным. Честолюбивый генерал становится все более грозным соперником для непрочного и не внушающего уважения правительства. И вот во главе Армии Востока Бонапарта направляют в Египет и втайне вздыхают с облегчением, когда английский адмирал Нельсон при Абукире уничтожает французский флот. Теперь для французской армии и ее генерала путь на родину прочно отрезан английской морской блокадой. В битве при пирамидах Наполеон одержал победу над мамлюками — феодальным войском правителей Египта, но так и не смог подавить сопротивление народа завоевателям. Многие месяцы Франция не имеет никаких достоверных сообщений о победах и поражениях своей Армии Востока.
Зато британская разведка получает их в изобилии. Египет и Сирия буквально кишели ее агентами. Английская разведывательная паутина окутывает всю французскую армию. Для наблюдения за портами, захваченными французской армией, выделены специальные сторожевые фрегаты английского флота. На военном корабль «Лайон» находилась штаб-квартира разведки. Здесь у одного из ее руководителей, Джона Барнета, и зародилась идея обезглавить вражескую армию, убив Наполеона. Конечно, шансы проникнуть к хорошо охраняемому генералу могли быть только у какого-нибудь офицера его армии, желательно — лично известного командующему. Барнет решил, что наилучшим образом эту роль сможет сыграть французский офицер, от которого Бонапарт как раз хотел поскорее избавиться.
Это был молодой человек по фамилии Фуре. Его жена Полина в мужском платье проникла на военный транспорт и вместе с Армией Востока добралась до Египта. Белокурая красавица вскоре привлекла внимание Бонапарта и стала его любовницей.
Неудивительно, что у услужливого начальника штаба Армии Востока генерала Бертье возникла мысль: Фуре — идеальный курьер для доставки в Париж известий о действиях французских войск в Египте! Конечно, учитывая английскую блокаду, предстояло опасное путешествие, и молодому офицеру нечего было и думать брать с собой жену, отправляясь выполнять возложенную на него важную миссию. Итак, Полина Фуре, которую солдаты-республиканцы именовали «нашей восточной королевой» и Клеопатрой, осталась в Египте, а ее муж с депешами сел на корабль, чтобы попытаться прорваться через блокаду.
Вскоре, однако, он очутился не во Франции, а в плену на английском корабле «Лайон», и Джон Барнет, отлично осведомленный обо всем, открыл глаза обманутому супругу. (Опытный разведчик умолчал лишь о том, что вначале попытался было превратить в своего агента саму мадам Фуре и лишь потом, когда дело сорвалось, решил прибегнуть к услугам ее мужа.) Хорошо разыгранный на английском корабле спектакль, когда Барнет внешне очень тактично и ненавязчиво дал понять Фуре, какую роль ему отвели Наполеон и Бертье, почти подготовил француза к той роли, для которой его предназначал английский разведчик. Пылая гневом, оскорбленный офицер решил вернуться, чтобы отомстить генералу. Он пробрался в расположение Армии Востока, однако здравый смысл и солдатская честь побудили его отказаться от того, чтобы стать орудием неприятельской разведки. Фуре вышел в отставку и сумел добраться до Франции.
Аппарат французской разведки, вернее — тайной политической полиции, выполнявшей ее функции во Франции, был немаловажным фактором во время переворота 18 брюмера, приведшего к свержению Директории и установлению режима Консульства во главе с Наполеоном Бонапартом.
Министр полиции Директории Жозеф Фуше, в прошлом «ультрареволюционер», а потом активный участник свержения якобинской диктатуры, сразу нашел общий язык с генералом Бонапартом, оставившим свою армию в Египте и спешно прибывшим в Париж. Участие Фуше в намечавшемся перевороте должно было сводиться к тому, что его вездесущая полиция на этот раз обязана была показать себя глухой и слепой.
Три консула: Сиейс, Бонапарт и Дюко
По рисунку Вангорна
Впрочем, сторонники Бонапарта не очень доверяли профессиональному предателю Фуше. (От него даже пытались скрыть точную дату намеченного выступления.) А Фуше, со своей стороны, стремился не связывать себе рук, чтобы в случае неудачи переворота сыграть роль верного слуги Директории, разоблачившего опасный заговор. Он, кажется, даже наслаждался двойной ролью, позволявшей ему не только обезопасить себя на случай неудачи попытки переворота, но чувствовать в эти решающие дни, что именно в его руках судьба страны. Фуше не мог даже отказать себе в удовольствии дать понять заговорщикам, насколько они в его власти. Министр полиции воспользовался тем, что Бонапарт в конспиративных целях не сообщил своим сторонникам об участии Фуше в заговоре.
Однажды вечером, за несколько дней до переворота, Фуше принимал у себя видных участников заговора, в том числе Редерера, Реаля, адмирала Брюи. Улыбающийся хозяин подвел к ним позже других приехавшего Наполеона и заметил генералу:
— Я хочу представить вам наиболее приятных для вас особ.
Заговорщикам показалось, что они попали в западню.
В другой раз на светском приеме, беседуя с членом Директории Гойе, Фуше приблизился к Жозефине, жене Наполеона.
— Какие новости, гражданин министр? — допытывался Гойе.
— Новости? — отвечал Фуше. — Да никаких.
— Ну а все же?
— Все время та же болтовня!
— О чем?
— О заговорах.
— О заговорах? — воскликнула встревоженная Жозефина.
— Да, о заговорах, — спокойно отвечал Фуше. — Но я-то знаю, как к этому относиться. Поверьте мне, я их хорошо умею различить, гражданин директор. Я не принадлежу к тем, кто дает на себя напасть. Если бы существовал заговор, вы получили бы тому доказательство на площади Революции.
После этого уже сам Гойе успокаивал Жозефину: она может спать спокойно, министр полиции — человек, знающий свое дело. А до 18 брюмера оставалось всего несколько дней…
После переворота Бонапарт — правитель Франции с неограниченной властью. Понятно, что в таких условиях желание Лондона «убрать» Наполеона отнюдь не пошло на убыль. И осуществить это желание британская разведка попыталась руками роялистов.
Еще весной 1800 года шуаны (вооруженные сторонники Бурбонов, которые продолжали свою партизанскую войну) предполагали напасть на конвой, сопровождавший карету первого консула, и похитить Наполеона на пути из Парижа в Мальмезон, где находился дворец Жозефины. В этот раз на улице Сен-Никез произошел взрыв. Только бешеная скорость, с которой мчался экипаж, спасла Наполеона. В следовавшей в нескольких десятках метров позади карете Жозефины от сотрясения разлетелись стекла. Пространство между двумя экипажами было залито кровью и завалено телами убитых и раненых. О силе взрыва, вызванного адской машиной, красноречиво свидетельствовало и то, что было повреждено 46 расположенных вблизи домов. Демонстрируя неустрашимость, бледный, с трясущимися губами Наполеон все же выслушал ораторию и затем спешно покинул театр.
В тот же вечер первый консул объявил министру полиции Фуше: он уверен, что адская машина была подложена якобинцами. Намеки Фуше, что, возможно, заговор был другого происхождения, встретили лишь насмешку: конечно, бывший член Конвента, бывший «левый» якобинец теперь стремится выгородить своих прежних единомышленников. Уверенность Наполеона подкреплялась тем, что адская машина, взорванная на улице Сен-Никез, представляла собой точную копию машины, изготовленной как раз в это время революционером, противником режима Консульства, неким Шевалье. Фуше через одного из своих агентов узнал об этом изобретении. В ночь с 7 на 8 ноября друзья Шевалье были захвачены и брошены в тюрьму Тампль. Теперь, после покушения на улице Сен-Никез, нескольких якобинцев отправляют на эшафот. Составляются проскрипционные списки революционно настроенных людей, их ссылают на каторгу, в колонии. Фуше послушно выполняет приказ первого консула — раздавить «якобинскую» оппозицию новому режиму.
Но министр полиции теперь уже окончательно убеждается в том, что заговор — роялистский. В Бретань был послан один из опытных лазутчиков, Дюшателье, с задачей разузнать о связях руководителей шуанов Жоржа Кадудаля с Парижем. Дюшателье быстро разведал, что два помощника Кадудаля — Сен-Режан и Лимоелан — тайно отправились в Париж. Однако Кадудаль считал, что не имеет смысла убивать первого консула: его место займет кто-либо другой, а роялисты останутся ни с чем. Лучше было похитить Бонапарта и держать его в качестве заложника.
Сен-Режан и Лимоелан прибыли в Париж как раз тогда, когда полиция сообщила об обнаружении взрывного устройства Шевалье. Шуаны решили последовать примеру Шевалье и, опираясь на имевшиеся у них связи в столице, принялись за изготовление адской машины. 24 декабря они поставили на улице Сен-Никез телегу, где находился заряженный механизм. Но они подорвали ее на секунду позже, чем следовало по плану, — и карета Наполеона промчалась мимо. Шуаны скрылись в одной из конспиративных квартир.
Фуше и его помощник Реаль возглавили следствие. На месте взрыва был обнаружен труп лошади, запряженной в телегу с адской машиной. Произведенный опрос торговцев лошадьми позволил быстро установить, что эта лошадь была куплена неким Карбоном. Полиция еще раньше узнала, что Карбон — слуга шуанов, прибывших в Париж. Начались поиски. Лиемоелан успел с помощью родственников сбежать в Бретань, прежде чем ловушка захлопнулась. Потом он эмигрировал в Америку. Карбон 18 января 1801 года был схвачен в кабаре, куда захаживал, покидая свое тайное убежище. Карбон выдал двух шуанов, помогавших Сен-Режану и Лимоелану. Самого Сен-Режана сначала захватить не удалось — он покинул конспиративную квартиру за два часа до прихода полиции, но забыл сжечь бумаги. На этой квартире полицейские Фуше нашли письмо Кадудаля и отчет Сен-Режана о подготовке покушения. Получив дополнительные данные, полиция стала арестовывать одного за другим помощников заговорщиков, кроме нескольких, за которыми было установлено наблюдение. Оно навело на след Сен-Режана, который был захвачен и вместе с Карбоном казнен 20 апреля 1801 года. Фуше подослал к Кадудалю двух агентов, чтобы отравить руководителя шуанов. Кадудалю удалось раскрыть план министра полиции. Суд был скорый: оба агента были повешены на ближайших деревьях. Чувствуя, что земля начала гореть под ногами, Кадудаль снова вынужден был покинуть пределы Франции.
Через несколько месяцев после неудачного покушения на улице Сен-Никез, в другой столице Европы — Петербурге увенчался успехом заговор гвардейских офицеров против императора Павла, начавшего проводить политику сближения с Францией. Иля всех было ясно, что нити заговора, как и при парижском покушении, тянулись в Лондон. Недаром Наполеон, узнав о событиях в русской столице, воскликнул: «Англичане промахнулись по мне в Париже 3 нивоза, но они не промахнулись в Петербурге!» Английская разведка, впрочем, пыталась исправить и свой «промах» в Париже.
В начале 1803 года находившиеся в Англии Кадудаль и его помощники предложили графу д’Артуа, брату Людовика XVIII, план нового покушения на Наполеона. В случае удачи власть должны были захватить популярный генерал Моро (которого считали республиканцем, находившимся в оппозиции к Бонапарту, но который скрыто сочувствовал роялистам) и генерал Пишегрю, высланный в колонию и бежавший оттуда в Англию. Позднее для руководства роялистами во Францию должен был приехать кто-либо из принцев королевского дома — граф д’Артуа или герцог Беррийский. Кое-что о новом заговоре (но без конкретных имен и точных данных) Наполеон узнал от своих разведчиков, подосланных к английским дипломатам. Консульская полиция долгое время не мешала действиям роялистов. Наполеон хотел, чтобы Моро скомпрометировал себя участием в заговоре и чтобы во Францию прибыли и попали в заранее расставленную ловушку бурбонские принцы.
Кадудаль решил с группой своих сторонников похитить первого консула. Среди шуанов, собранных в столице, стало известно, что 30 августа 1803 года в Париж прибыл их главный шеф Кадудаль, пользовавшийся у них непререкаемым авторитетом. О его прибытии они сообщили одному, по их мнению, вполне заслуживающему доверия лицу, на деле — полицейскому агенту. Но информация, раздобытая им, была недостаточной для поимки Кадудаля, из предосторожности ни разу не ночевавшего дважды в одном и том же доме. Месяцами продолжалась охота. Обнаружить главаря шуанов не удавалось, хотя правительство Наполеона вновь, как в годы борьбы против вандейского мятежа, создало подвижные колонны для сплошного прочесывания многих районов в Вандее и Бретани, где, как предполагали, скрывался Кадудаль. А Фуше пустил в ход свое тайное оружие — «щуанскую географию» — так он называл составленную министерством полиции картотеку, в которой имелись подробные сведения о 1000–1200 наиболее активных роялистах, об использовавшихся ими явках и т. д.
В январе 1804 года во Францию в сопровождении нескольких эмигрантов приехал Пишегрю. 28 января произошла встреча Моро, Пишегрю и Кадудаля. Из них единственным человеком, пользовавшимся влиянием в новой, послереволюционной Франции, был Моро, но он колебался, следует ли ему способствовать реставрации Бурбонов. Стороны расстались, недовольные друг другом.
А тем временем полиция первого консула все же напала на след. Был арестован один из шуанов, он указал на некоторые используемые ими конспиративные квартиры. Там обнаружили слугу Кадудаля и после основательного допроса «с пристрастием» (точнее, просто под пыткой) заставили арестованного выдать, что он знал о конспиративных квартирах, где бывал Кадудаль.
Однако прошло еще несколько недель, прежде чем полиции, шедшей буквально по пятам руководителя шуанов, удалось наконец схватить его. Остальных участников заговора полиция постепенно выловила одного за другим. Многие из них, включая Кадудаля, кончили жизнь на гильотине. Пишегрю нашли мертвым в тюремной камере. Моро приговорили к пожизненному изгнанию из Франции. Так закончилась очередная попытка английской разведки руками роялистов свергнуть Наполеона.
Оставался главный обвиняемый — Моро, не имевший прямого отношения к заговору. Наполеону очень не хотелось, чтобы осуждение Моро выглядело как месть недавнему товарищу по оружию, опасному только из-за его военного таланта. Бонапарт отказался от предложения передать дело Моро как генерала в военный трибунал, в составе которого находились высшие чины армии. Это ведь означало бы, что обвиняемого судили липа, лично преданные первому консулу. С другой стороны, направлять дело в обычный, гражданский суд было опасно, так как, учитывая популярность Моро, присяжные могли вынести решение о его невиновности. В результате сенат издал в феврале указ о приостановке на два года проведения судов с участием присяжных по делам о государственной измене.
Процесс Моро качался 28 мая 1804 года в трибунале по уголовным делам. Генералу инкриминировалась попытка разжечь гражданскую войну и свергнуть законное правительство (тоже пришедшее к власти в результате военного переворота за четыре с небольшим года до этого). Моро утверждал, что советовал Пишегрю отказаться от участия в каких-либо действиях против правительства, а заговор считал слишком несерьезным, чтобы сообщать о нем властям. К тому же адвокат Моро доказал, что в данном случае неприменим закон, изданный еще Людовиком XI (вторая половина XV в.); а если так, то недонесение не является преступлением. Попытки найти предосудительные действия в прошлом Моро также не дали убедительных доказательств. Моро, учитывая смягчающие вину обстоятельства, был присужден к двухлетнему тюремному заключению. Наполеон заменил тюремное заключение изгнанием. Генерал эмигрировал в Соединенные Штаты; через девять лет он поступил на службу к противникам Наполеона и был смертельно ранен в битве под Дрезденом.
Бонапарт использовал раскрытие заговора не только для того, чтобы избавиться от Моро; ему удалось окончательно похоронить Республику, на смену которой в том же году пришла Империя.
СОДЕРЖАНИЕ
АНАТОМИЯ ИСТОРИИ
Е. Б. Черняк ТАЙНЫ ФРАНЦИИ
Оформление С. Морозов
Редактор Б.Тормасов Художественный редактор А.Томчинская Корректор О.Попова Компьютерная верстка А.Сливко-Кольчик OCR — Давид Титиевский, май 2017 г., Хайфа ЛР № 070512
Подписано в печаль 31.05.96. Формат 60x90 / 16. Бумага офсетна». Печаль офсет. Усл. печ. л. 32. Тираж 10000 экз. Заказ 757
Издательство «Остожье». 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 4 При участии *Бук Чембэр Интернэшнл*
Отпечатано в типографии издательства «Дом печати* 432601, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14
Сокровища тамплиеров и казнь рыцарей Христа............. 5
Была ли сожжена Жанна д’Арк............................................... 9
Синяя Борода.................................................................................. 72
Письмо Франциска 1..................................................................... 82
Оправдание Екатерины Медичи............................................... 87
Пророчества Нострадамуса....................................................... 105
Размышления в Варфоломеевскую ночь............................... 1 1 8
Королева Марго............................................................................. 127
Три Генриха.................................................................................... 133
Генрих IV — «Париж стоит обедни»....................................... 146
Кардинал Ришелье и Анна Австрийская.............................. 171
Кардинал Мазарини, кадриль Фронды.................................. 193
Король финансов........................................................................... 2 1 9
Загадка «железной маски».......................................................... 2 2 6
Разведка «короля-солнца»........................................................... 2 6 7
Сюрпризы дома свиданий.......................................................... 2 7 4
510
«Пансионат» маркизы Помпадур.............................................. 2 7 8
Наставник «Пиковой дамы»....................................................... 2 8 2
Фигаро в Лондоне........................................................................ 2 8 9
«Завещание Петра Великого».................................................... 2 9 8
Граф Калиостро и ожерелье королевы................................. 3 1 6
Фальшивый паспорт баронессы Корф.................................. 3 2 9
Судебные трагедии 1 7 9 3 года................................................. 3 3 2
За ширмой тайной дипломатии................................................ 3 4 8
Барон де Бати и Робеспьер...................................................... 3 6 0
Иды марта......................................................................................... 3 9 3
«Ты последуешь за мной, Робеспьер!»................................... 4 0 4
«Новый Кромвель»......................................................................... 4 1 7
Людовик XVII — «тайна Тампля»............................................ 4 3 6
Напрасное сходство...................................................................... 4 5 5
Фукье-Тенвиль — «неумолимое орудие закона»................ 4 7 6
Генерал Бонапарт и генерал Моро........................................ 501

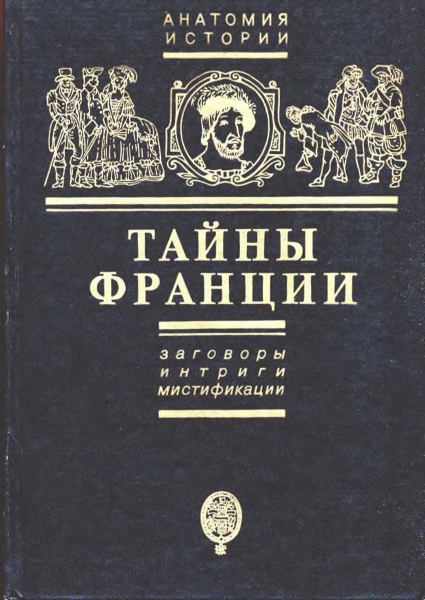






Комментарии к книге «Тайны Франции. Заговоры, интриги, мистификации», Ефим Борисович Черняк
Всего 0 комментариев