Ханна Кент Темная вода
Hannah Kent
THE GOOD PEOPLE
© 2016 by Hannah Kent
Published in the Russian language by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency
Russian Edition Copyright © 2019 Sindbad Publishers Publisher and Editor-in-Chief Alexander Andryushchenko
Перевод с английского Елены Осеневой
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2019
* * *
Моей сестре Брайони
Жила-была старуха, жила она в лесах, Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, Жила она в лесах, Что возле речки Сайле. И был у ней младенчик, Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, Трехмесячный младенчик, В лесах у речки Сайле. И был у ней острый ножик, Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, Острый как бритва ножик. В лесах у речки Сайле. Вонзила нож старуха, Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, Младенчику прямо в сердце. В лесах у речки Сайле. В дверь трижды постучали, Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, В дверь трижды постучали. В лесах у речки Сайле. — Убила ты младенца, Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, Свершила ты злодейство, Теперь готовься к казни! Петлей сдавили горло, Вейле-вейле-вейле, вейле-вейле-вайле, Повесили старуху. В лесах у речки Сайле. Старинная ирландская баллада о злодействе (1600 г.)Когда все уже сказано и совершено, то исконное наше неразумие, как знать, не целительней ли будет иной разумной истины, ибо, согретое теплом родных очагов и пламенем наших сердец, готово оно приять и диких пчел истины, дабы роились они, давая свой сладкий мед.
У. Б. Йейтс. Кельтские далиЧасть первая БЕДНЯКОВ ВРАЧУЕТ СМЕРТЬ (LIAGH GACH BOICHT BAS) 1825
Глава 1 Мать-и-мачеха
ПЕРВОЙ МЫСЛЬЮ НОРЫ, когда ей принесли тело, было, что это не ее муж. Бесконечно долгий миг она глядела, как мужчины несут тяжелое тело Мартина на мокрых от пота плечах; от холода перехватывало дыхание, а она думала, что все это лишь злая шутка, подмена, грубая подделка, страшная своей похожестью. Рот Мартина и глаза его были открыты, но голова безжизненно свесилась на грудь. Кузнец и пахарь принесли ей что-то неодушевленное, что не было ее мужем. Это вовсе не он.
Мартин окапывал канавами поля на склонах. Питер О’Коннор сказал, что видел, как он вдруг перестал копать, прижал руку к сердцу, как будто давая клятву, и повалился на рыхлую землю. Он не вскрикнул от боли. Ушел без страха и не попрощавшись.
Потрескавшиеся губы Питера дрожали, глаза были красными.
— Сочувствую тебе в твоем горе, — шепнул он.
И тут у Норы подкосились ноги, и она упала наземь, прямо в грязь и солому двора. Осознание ужасной правды сжало сердце.
Сильные, покрытые шрамами от кузнечной работы руки Джона О’Донохью и его плечо приняли тяжесть Мартинова тела, чтоб Питер мог поднять Нору с грязной земли. Взгляды обоих мужчин были темны от горя, и, когда Нора, открыв рот, задохнулась невыкрикнутым воплем, они склонили головы, словно все-таки его услышали.
Разжав стиснутые кулаки Норы, Питер стряхнул с ее ладоней остатки птичьего корма и шуганул с порога клохчущих кур. Обняв Нору за плечи, он повел ее обратно в хижину и усадил возле очага, рядом с которым в постели, устроенной на широкой лавке со спинкою, спал ее внук Михял. Когда они вошли, мальчик заворочался. Щеки его раскраснелись от жара торфяного пламени, и в быстром взгляде, каким Питер окинул Михяла, Нора заметила любопытство.
Вслед за ними вошел и Джон. Тяжелая ноша, которую он нес теперь один, заставляла его крепко стискивать челюсти, грязь с его башмаков пачкала глинобитный пол. Крякнув, он скинул тело Мартина на постель в спальной выгородке. Из соломенного тюфяка в воздух поднялась пыль. Четкими размеренными движениями кузнец осенил себя крестом и пробормотал, что жена его, Анья, скоро будет и что нового священника известили.
Нора почувствовала, как ей сжало горло. Она поднялась, чтоб пройти туда, где лежал Мартин, но Питер удержал ее, взяв за кисть.
— Его перво-наперво обмыть надо, — мягко сказал он.
Джон с беспокойством взглянул на мальчика, но ничего не сказал и молча вышел, прикрыв за собой створку входной двери.
В доме стало темнее.
— Говоришь, ты видел, как он упал? Собственными глазами видел?
Голос Норы был слабым и доносился словно издалека. Она стиснула руку Питера, сжала ее до боли в пальцах.
— Да, видел, — негромко сказал он, не сводя глаз с Михяла. — Я заметил его в поле, помахал ему и, как он упал, тоже видел.
— Без канав-то как же? Он вчера объяснял, зачем так нужно, чтобы дождь…
Нора почувствовала, как смерть мужа наползает, накрывает собой ее всю, заставляя дрожать всем телом. Питер набросил ей на плечи куртку, и по знакомому запаху горелой мать-и-мачехи она поняла, что это куртка Мартина. Видно, и куртку принесли вместе с телом.
— Надо будет кого другого попросить работу доделать, — вздохнула она, трясь щекой о ворс куртки.
— Не думай сейчас об этом, Нора.
— И крышей заняться тоже. Весна на носу. Латать надо.
— Мы все позаботимся об этом, не волнуйся.
— И Михял. Мальчик… — Охваченная тревогой, она взглянула на мальчика. В отблесках пламени волосы его казались медно-рыжими. Слава богу, спит. Когда он спал, уродство было не так заметно. Скрюченные ноги расслаблялись, а о немоте его никто бы не догадался. Мартин всегда говорил, что во сне Михял особенно похож на их дочь. «Вот сейчас он словно бы и не болен вовсе, — сказал он однажды. — И видно, каким он станет, когда уйдет эта хворь. Когда мы его вылечим».
— Может, позвать к тебе кого, Нора? — спросил Питер. Лицо его исказилось гримасой сочувствия.
— Михял… Не хочу, что он был здесь, — голос ее звучал хрипло. — Отнеси его к Пег О’Шей.
Питер смутился:
— Ты не хочешь, чтобы он оставался с тобой?
— Убери его отсюда.
— Негоже оставлять тебя одну, Нора. Путь хоть Анья придет.
— Не желаю, чтобы все здесь глазели на него!
Склонившись к мальчику, Нора подхватила его под мышки и подняла в воздух под самым носом Питера. Михял сморщился, заморгал, разлепляя слипшиеся веки.
— Возьми. Отнеси его к Пег. Пока не заявился никто.
Михял завопил, пытаясь высвободиться из рук Норы. Его ноги дрожали. Кожа на них была в болячках, словно лопалась на костлявом тельце.
Питер поморщился:
— Это ведь дочери вашей, да? Упокой Господь ее душу.
— Забери его, Питер. Пожалуйста.
Он задержал на ней взгляд — долгий и печальный.
— Да народу-то в такой день и дела до него не будет. Все о тебе только и думать станут.
— Они будут глазеть на него и шушукаться, я знаю.
Михял, запрокинув голову, поднял крик, сжимая руки в кулаки.
— Что это с ним?
— Бога ради, Питер. Унеси его. — Голос изменил Норе. — Убери его от меня!
Кивнув, Питер взял ребенка себе на колени. На мальчике было шерстяное девчачье платье, слишком длинное для него, и Питер неуклюже укутал ноги мальчика выношенной материей, стараясь прикрыть и пальцы.
— На дворе холод, — пояснил он. — У тебя платка какого для него не найдется?
Дрожащими руками Нора сняла с себя свой платок и отдала его Питеру.
Он встал, прижимая к груди закутанного хнычущего ребенка.
— Мне жаль тебя, Нора. Очень жаль.
Питер ушел, оставив дверь распахнутой настежь.
Нора подождала, пока плач Михяла не затих вдали, и удостоверилась, что Питер вышел на дорогу. Тогда она поднялась с низкой скамеечки и прошла в спальную выгородку, кутаясь в куртку Мартина.
— Раны твои, Господь всемилостивый…
Ее муж лежал на их супружеском ложе, вытянув руки вдоль тела и прижав к бокам мозолистые, испачканные травой и землей ладони. Глаза его были полуоткрыты, и белки их жемчужно мерцали на свету, падавшем из открытой двери.
Неподвижность Мартина и мертвая тишина вокруг поднимали в душе ее волны скорби. Опустившись на кровать, Нора прижалась лбом к скуле Мартина, и от щетинистой кожи на нее повеяло холодом. Натянув куртку на них обоих, она закрыла глаза и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Боль обрушилась, как водопад, и затопила ее целиком. Сотрясаясь всем телом, она зарыдала, уткнувшись в ключицу мужа, вдыхая запах его одежды, впитавшей запахи земли и навоза, и нежный аромат полей, и торфяной дымок осеннего вечера. Она плакала и выла, скулила тоскливо и жалобно, как брошенная бездомная собака.
Еще утром они лежали в этой постели, бодрствуя в первые мглистые часы рассвета, и теплая рука Мартина покоилась на ее животе.
— Думаю, дождь будет сегодня, — сказал он, и Нора позволила мужу еще теснее прижать ее к широкой груди и приноровила свое дыхание к тому, как вздымалась и опадала его грудная клетка.
— Ночью ветер был.
— Он разбудил тебя?
— Меня ребенок разбудил. Он плакал, боялся ветра.
Мартин чутко прислушался:
— Сейчас тихо. Не шевелится.
— Ты картошку сегодня копать будешь?
— Канавы.
— На обратном пути поговоришь с новым священником о Михяле?
— Поговорю.
Нора приникла всем телом к мертвому телу мужа, вспоминая все их ночи и как он привычно прикасался ногой к ее ноге, и рыдала, рыдала до дурноты.
Притихнуть ее заставило лишь опасение разбудить стерегущих ее душу демонов. Запихнув себе в рот рукав Мартиновой куртки, она затряслась в беззвучном плаче.
«Как же ты посмел бросить меня здесь одну», — думала она.
— Нора?
Она проснулась. Запухшие глаза различили хрупкий силуэт жены кузнеца, стоявшей в дверях.
— Анья, — прохрипела Нора.
Женщина вошла, перекрестившись при виде тела.
— Помилуй Господи его душу. Сочувствую тебе в твоем горе. Мартин, он… — Она осеклась, опустившись на колени возле Норы. — Он был замечательным человеком. Редким.
Нора села на кровати, смущенно вытерла глаза фартуком.
— Твое дело горевать, Нора. Вижу… А наше дело проводить его как положено. Ничего, если я обмою его и уберу тело честь по чести? За отцом Хили уже послано. Скоро прибудет. — Анья положила руку Норе на колено и тихонько сжала.
Нора в ужасе не сводила глаз с нависшего над ней широкоскулого лица соседки: в полумраке оно казалось призрачным.
— Ну-ну… Вот твои четки. Он теперь с Господом, Нора. Помни это. — Она обвела хижину взглядом. — Ты что, одна? А разве ребенок…
Нора крепче сжала четки.
— Я одна.
Анья обмывала Мартина бережно, будто собственного мужа. Поначалу Нора лишь смотрела, стиснув четки так, что дерево впечаталось в кожу. Не верилось, что это лежит ее муж — голый, с таким нестерпимо белым животом. Как стыдно, что чужая женщина видит все укромные места его бледного тела. Когда, встав, Нора потянулась за тряпкой, Анья беспрекословно ее отдала. И Нора сама стала обмывать тело, каждым движением руки словно прощаясь — с изгибами худой груди, очертаниями ног…
«Как же хорошо я тебя знаю», — подумалось ей, и, проглотив снова подступивший к горлу комок, она стала разглядывать тонкую, как паутина, сеточку вен на бедрах мужа и знакомую поросль курчавых волос. Она не могла понять, почему тело Мартина стало таким маленьким. Ведь при жизни он был сущий медведь и в первую их брачную ночь поднял ее, словно невесомый солнечный лучик.
Темные волосы на его груди были влажными.
— Вот теперь, думаю, он чистый, Нора, — сказала Анья.
— Еще чуть-чуть.
Она провела ладонью по его груди, словно ожидая, что та поднимется от дыханья.
Анья отняла у нее серую тряпку.
Вечерело, снаружи налетал порывистый ветер, Нора сидела возле Мартина, предоставив Анье поддерживать огонь в очаге и зажигать лучину. Внезапный резкий стук в дверь заставил обеих подскочить от неожиданности. Сердце Норы обожгла мысль, что это, может статься, Мартин возвращается с поля.
— Мир этому дому!
В хижину вошел молодой человек, полы его облачения раздувались на сквозняке. Новый священник, догадалась Нора. Темноволосый, румяный, хоть и долговяз, а лицо детское, с пухлыми губами. Нора заметила и щель между передних зубов. С одежды отца Хили стекала вода, и вошедшие за ним Питер и Джон тоже были насквозь мокрые. А она и не знала, что погода так переменилась.
— Добрый вечер, отец.
Анья приняла из рук священника его мокрый плащ и, аккуратно расправив, повесила сушиться у очага.
Священник озирался, пока не заметил Нору в спальной выгородке, и направился к ней, нагнув голову под низкой притолокой. Глядел он серьезно.
— Да пребудет Господь с вами, миссис Лихи. Сочувствую вам в вашем горе. — Взяв ее руку в свои, он сжал ее ладонь. — Надо думать, для вас это явилось ужасным ударом.
Нора кивнула — во рту у нее пересохло.
— Все там будем, но всегда печально, когда Господь призывает к себе тех, кого мы любим. — Он отпустил ее руку и, склонившись к Мартину, приложил два тонких пальца к его горлу. Потом слегка кивнул: — Отошел. Я не могу совершать таинство.
— Смерть подкралась к нему нежданно, отец, — это произнес Питер. — Нельзя ли все-таки сделать все как положено? Ведь душа-то, может, еще и не покинула тела!
Отец Хили вытер лоб рукавом и конфузливо поморщился:
— Таинства предназначены живым. Усопшим они ни к чему.
Нора сжала в руке четки так сильно, что побелели костяшки пальцев.
— Помолитесь за него, отец, вы ведь помолитесь, правда?
Священник перевел взгляд — с мужчин в дверях на Нору.
Та вскинула голову:
— Он был добрым человеком, отец. Скажите над ним молитвы.
Вздохнув, отец Хили кивнул и, потянувшись к саквояжу, вытащил оттуда огарок свечи и пузырек с елеем. Он зажег свечу от огня в очаге, неловко сунув огарок в руку Мартина, начал читать молитвы и уверенной рукой мазать елеем голову покойника.
Опустившись на жесткий пол рядом с кроватью, Нора привычно и бездумно перебирала четки. Слова молитвы казались пустыми, лишними, они холодно застывали во рту, и вскоре она перестала их шептать и сидела молча и немо.
Не смогу я одна жить, думала она.
Отец Хили откашлялся, поднявшись, отряхнул с колен приставшие к ним крошки глины и потянулся за плащом и монетой, поданной Джоном.
— Да пребудет с вами милосердие Господне, — сказал он Норе и, стряхнув со шляпы капли дождя, нахлобучил ее на голову. Он опять пожал ей руку, и она вздрогнула от прикосновения жестких и костлявых его пальцев. — Храни вас Господь. Просите его о любви и прощении и храните вашу веру, миссис Лихи. А я буду непрестанно поминать вас в молитвах.
— Спасибо, отче.
Они глядели, как священник во дворе садится на своего осла, ежась под струями дождя. Помахав на прощание, он принялся нахлествывать осла хворостиной, пока вокруг них не сомкнулась непогода и обоих не поглотила непроглядная темень долины.
Вечером в лачугу собрались соседи, прослышавшие, что Мартин умер у перекрестка, неподалеку от дома кузнеца, и аккурат когда кузнец ударил молотом по наковальне, словно удар этот Мартина и убил. Люди жались поближе к очагу, утешаясь трубками и бормоча слова сочувствия Норе. Дождь барабанил по соломенной крыше.
Норе волей-неволей пришлось помогать Анье, хлопотавшей о предстоящем поминальном бдении. Не время лить слезы, когда следует позаботиться о потине[1], глиняных трубках и табаке и раздобыть стулья, чтоб всех усадить. Нора знала, что тень смерти обычно пробуждает в людях желание курить, есть и пить, словно, наполняя легкие дымом, а утробу едой и питьем, они уверяются в собственном добром здравии и в мысли, что их жизнь еще длится.
Вновь ощутив, как горе валит с ног, она отошла в угол и уперлась ладонями в прохладную беленую стену. Несколько раз медленно вдохнула, разглядывая собравшихся. Большей частью это были жители долины, связанные родством, общим трудом и уважением к традициям, впечатанным в эту землю прежними поколениями. Cтепенные, немногословные люди, они жили под сумрачной сенью Крохейна, в плодородной впадине между скал и камней Фойладуейна, Дерринакуллига и Клонкина. Со смертью они были знакомы не понаслышке. Нора видела, как соседи готовят ее лачугу к скорбному обряду — так, как почитают это наиболее достойным. Они подкладывали торф в очаг, пока не разгорелось дымное пламя, и делились историями. Будет время и поплакать, но это позже.
Снаружи прогремел гром, и люди, вздрогнув, придвинулись поближе к огню. Снуя по комнате и подливая собравшимся воду в кружки, Нора слышала шепоты о предзнаменованиях. Поминали погоду и сорóк с бекасами, предрекших Мартину смерть. Много толковали и про место, где он упал, — на скрещении дорог, там, где хоронят самоубийц. Вспомнили и то, как внезапно в этот день нахмурилось небо и поползли с запада черные тучи — верная примета, говорившая о скорой Мартиновой гибели, и как потом долину накрыло грозой.
Не зная, что Нора его слушает, Питер О’Коннор рассказывал мужчинам, как перед самой той минутой, как Мартин схватился за сердце, он, Питер, приметил в поле четырех сорок, сидящих кружком:
— Иду я прямо по дороге, и что вы думаете? Вспорхнули? Как бы не так! Прошел совсем рядом — рукой достать — а им хоть бы что, даже не шелохнулись! Странная штука, думаю. И вот, провалиться мне, парни, если вру, меня точно морозом по коже ожгло: показалось мне, что это сговор у них какой. Помер кто-то, решил я. Иду, само собой, дальше, дошел до того места неподалеку от кузни, где дороги расходятся, и вот оно — недолго времени прошло, и Мартин уже лежал там, а в глазах только небо да темные тучи над горами.
Опять послышался громовый раскат, от которого мужчины подскочили на стульях.
— Так, стало быть, это ты нашел его тело? — спросил племянник Норы Дэниел и затянулся трубкой.
— Я. Вот горе так уж горе. Я сам видел, как рухнул этот богатырь, словно подрубленный. Еще и остыть не успел, упокой Господи его душу.
Питер понизил голос:
— И это еще не все. Когда мы с Джоном несли сюда тело, тащили с перепутья вверх по склону — а весу в нем сами знаете сколько, так что шли мы еле-еле, мы раз остановились передохнуть и глянули вниз в долину, в ту сторону, где лес, и там видим — светится.
Пронесся возбужденный ропот.
— Да-да. Свет. И свет шел с того места, где фэйри и нечисть вся эта собираются, у Дударевой Могилы, — продолжал Питер. — И разрази меня гром, если это не куст боярышника там горел. Попомните мое слово, недолго ждать новой смерти в этом доме. — Он перешел на шепот: — Сначала дочка скончалась, затем муж… Ей-богу, смерть троицу любит. А если уж добрые соседи тут замешаны, тогда… сами знаете.
Чувствуя комок в горле, Нора обернулась, ища глазами Анью. Та вынимала из соломенного кишяна[2] курительные трубки из белой глины и нераскрошенный табак.
— Слышишь, гроза-то как разбушевалась? — шепнула Анья и указала на корзину: — Жена твоего племянника Дэниела тут принесла кой-чего.
Нора взяла в руки маленький тряпичный узелок, развязала дрожащими пальцами. Соль, промокшая от дождя.
— Где она?
— Читает над Мартином.
В спальне толпился народ и воздух был сизым от трубочного дыма, которым мужчины и женщины постарше окуривали ее мужа. Нора заметила, что тело переложили головой к изножию, чтобы отвести дальнейшие несчастья. Рот Мартина теперь был разинут, по коже расползалась восковая бледность, лоб блестел от святого елея. Свечной огарок потух и выпал куда-то в простыни. Стоя на коленях перед покойником и зажмурившись, молодая женщина читала богородичную молитву.
Нора тронула ее за плечо:
— Бриджид…
Та подняла на нее взгляд.
— О, Нора, — шепнула она, с усилием поднимаясь. Юбки и передник задрались на раздувшемся беременном животе, так что виднелись щиколотки. — Такое горе! Мартин был крепкий мужчина. Ты-то как теперь?
Нора собралась ответить, но промолчала.
— Слышь, мы с самим принесли тебе разное, что может пригодиться. — Она мотнула головой, указывая туда, где сидели и курили ее муж и Питер. — Я на стол корзину поставила.
— Знаю. Анья показала. Спасибо вам обоим за доброту. Я вам заплачу.
— Тяжкий тебе выпал год…
Нора сделала глубокий вдох.
— Не знаешь, что там с выпивкой?
— Шон принес потинь.
Бриджид указала рукой туда, где дядя Дэниела Шон Линч ставил на пол два глиняных кувшина. С ним была его жена Кейт, женщина с кривыми, торчащими вперед зубами и беспокойным затравленным взглядом. Она стояла в дверях, беспокойно озираясь. Оба явно только что вошли, принеся с собой промозглый холод; их одежда потемнела от влаги.
— Нора… Бриджид… — Завидев женщин, Кейт кивнула им. — Печальный нынче вечер… А священник уже был? Или надо потинь прятать?
— Был и уехал.
Лицо Шона было хмуро, вокруг рта и глаз залегли суровые складки. Набив мозолистыми пальцами глиняную трубку, он обратил к Норе слова соболезнования.
— Спаси тебя Господь, Шон.
— Там к тебе гостья заявилась, прячется, — сказал Шон, закуривая от кем-то протянутой ему в щипцах головешки. — Помилуй, Господи, души грешников усопших… — Травница эта, ведунья. Стоит у навозной кучи, ждет.
— Нэнс Роух? — не сразу отозвалась Нора.
— Она. Каждой бочке затычка. — Он сплюнул на пол.
— Да как узнала-то она?
Шон нахмурился:
— Вот уж с кем не стал бы разговаривать, даже останься она единственной бабой на всем белом свете.
Кейт с тревогой взглянула на мужа.
— Нэнс Роух? Она же повитуха, разве нет? — спросила Бриджид.
— Ума не приложу, что ей понадобилось, — пробормотала Нора. — Путь не близкий для старухи, да еще в такую ночь, когда дождь как из ведра. Врагу не пожелаешь, собаку за дверь не выпустишь!
— Рыщет, где бы ее трубочкой угостили да и выпить дали, — процедила Кейт.
Ноздри ее раздувались.
— Не ходи к ней, Нора. К этой калях[3]-мошеннице!
К ночи дождь разошелся не на шутку. Нора толкнула дощатую дверь и стала вглядываться в темноту двора, стараясь не высовывать головы из-под низкого ската крыши. С соломенной кровли потоком лилась вода. Поначалу за этой сплошной стеной дождя она ничего не могла различить, кроме узкой серой полоски на горизонте, там, где тучи еще не поглотили свет. Затем краем глаза она увидела, как от угла дома, где под торцевой стеной лежала куча навоза, движется фигура. Нора ступила во двор, прикрыв за собой дверь, чтобы не выхолаживать дом. Ноги тут же облепила грязь.
— Кто там? — спросила Нора. Голос ее утонул в громовом раскате. — Это ты, Нэнс Роух?
Гостья приблизилась к двери. Сунув голову под крышу, она стянула капюшон, приоткрыв лицо.
— Да, это я, Нора Лихи.
Молния осветила небо, и Нора увидела перед собой старуху. Женщина вымокла до костей, белые волосы облепили череп. Нэнс смаргивала падавшие со лба дождевые капли и шмыгала носом. Маленькая, сморщенная, с лицом скукоженным, как забытое осенью на ветвях яблоко. Из-под набрякших век глядели на Нору помутневшие от старости глаза.
— Сочувствую твоему горю.
— Спасибо, Нэнс.
— Конец земных печалей для Мартина.
— Да, это так.
— Теперь муж твой на пути истинном. — Губы Нэнс раздвинулись, обнажив редкие остававшиеся зубы. — Пришла узнать, не возьмешь ли меня плакальщицей. Твой Мартин был хорошим человеком.
Нора глядела на стоявшую перед ней мокрую насквозь Нэнс. Одежда свисала с ссошихся узких плеч, с суконных отрепьев капала вода, но держалась старуха с достоинством. Пахло от нее горьковато-остро. Мятой крапивой, подумала Нора. Или опавшей листвой. Так пахнут те, кто живет под пологом леса.
— Как ты догадалась прийти-то? — спросила Нора.
— Встретила нового священника на осле, настегивает животину, точно пыль выбивает. В такую слякоть разве что сам дьявол выгонит священника из дома. Или если кто при смерти лежит.
— Отец Хили, так его зовут.
— И мне открылось, что это муж твой Мартин. Упокой Господь его душу, — добавила женщина.
По спине у Норы пробежал холодок. Громыхнул гром.
— Открылось?
Нэнс кивнула и коснулась Норы. Пальцы ее были холодными и на удивление мягкими и гладкими.
Руки целительницы, подумала Нора.
— И ты отправилась пешком в такой ветер и дождь?
— Промыть дождичком голову никому еще не навредило, а для твоего мужа я бы и не то сделала.
Нора распахнула дверь, стряхивая с ног налипшую грязь.
— Что ж, заходи, коли пришла.
Когда вслед за Норой в битком набитой зале показалась Нэнс, все разговоры мгновенно смолкли. Все взгляды устремились к старшей из вошедших, которая, приостановившись в дверях и высоко подняв голову, озиралась вокруг.
— Спаси вас всех Господь, — сказала она.
Голос ее был слабым и хриплым от курева и прожитых лет. Мужчины почтительно склонили головы. Кое-кто из женщин придирчиво мерил взглядом старуху, примечая и испачканный грязью подол юбки, и пожухшее, потемневшее от старости лицо, и мокрый платок. Шон Лич сверкнул исподлобья глазами и отвернулся к огню.
Поднялся Джон О’Донохью, заполнив все пространство своим могучим телом кузнеца.
— И тебя да спасет Он, Нэнс Роух.
Он повел ее к огню, и мужчины поспешно потеснились, уступая место. Питер, не вынимая трубки изо рта, подвинул низкую скамеечку и усадил старуху поближе к очагу. Анья принесла ей воды — омыть ноги. Дэниел предложил Нэнс глотнуть потина и, когда она мотнула головой, пробормотал: «Да чего там разговору, всего капелька, воробышек в клювике больше унесет» — и сунул-таки ей в руки кружку.
Те, кто, увидев Нэнс, словно онемели, теперь, поняв, что старуху не прогнали, возобновили беседу. Лишь Шон и Кейт Линч, отступив подальше в темный угол и нахохлившись, наблюдали оттуда за происходящим.
Нэнс, протянув к огню голые ступни, попивала спиртное. А Нора, сидя рядом с ней и глядя на пар, поднимающийся от плеч старухи, чувствовала, как в животе все сильнее, все шире раскручивается спираль ужаса. Как узнала она, что Мартин умер?
Старуха глубоко вздохнула, поднялась и жестом указала на спальню:
— Там он?
— Там, — ответила Нора. Сердце ее трепыхалось.
Нэнс сжала в руках кружку.
— Когда исполнился его срок?
— Питер и Джон принесли его ко мне еще засветло. До вечера еще. — Нора не поднимала глаз. После ночной свежести духота в доме казалась нестерпимой и вызывала дурноту. Слишком много трубочного дыма. И шуму тоже чересчур много. Хотелось поскорее выйти, улечься в мягкую скользкую грязь и лежать там в одиночестве, вдыхая запах дождя. И пускай молния убьет ее своим ударом.
Нора почувствовала, как ладонь обхватили пальцы Нэнс. Так нежно, что стало не по себе. Она удержалась, чтобы не оттолкнуть старуху.
— Нора Лихи… Ты меня послушай, — зашептала Нэнс. — По каждому покойнику на земле горюет какая-нибудь женщина. Горюет в одиночку, и каждая по-своему. Но горе еще и в том, что не пройдет и года после похорон, и людям станет не нужно твое горе. Так уж ведется на белом свете. Люди вернутся к своим делам и заботам, к мыслям о себе. Заживут своей жизнью. Так что давай плакать по Мартину сейчас, пока они слушают. Пока им хватает терпения слушать.
Нора кивнула. К горлу подкатила рвота.
— И еще скажи мне, Нора, что это за толки, будто помер он на перепутье, на скрещенье дорог? Это правда?
— Да, так и есть, — отозвалась Бриджид. Она крошила табак за их спинами. — Питер О’Коннор там его нашел. Вот горе-то горькое!
Нэнс обернулась, прищурилась, вглядываясь:
— А ты кто такая есть?
— Бриджид Линч.
— Жена моего племянника Дэниела, — пояснила Нора.
Нэнс сдвинула брови:
— Ты ребенка ждешь, молодайка. Не место тебе в доме, где покойник лежит.
Занесенная над плитками табака рука Бриджид замерла в воздухе.
— Тебе дозволено уйти. Прежде чем вдохнешь в себя смерть и заразишь ею дитя.
— Разве? — Бриджид уронила на стол ножик. — Я знала про то, что на кладбище нельзя, но что…
— Что кладбище, что дом, где покойник лежит, что могильный холм… — Нэнс сплюнула в огонь.
Бриджид повернулась к Норе, ища поддержки.
— Но я не оставлю Дэниела, — зашептала она. — Не стану выходить в такую темень! И в грозу! Не пойду одна.
— И не надо, — покачала головой Нэнс. — Ни к чему тебе одной идти. В такую неспокойную ночь.
Бриджид прижала обе руки к животу.
Нэнс кивком подозвала к себе Анью, раздававшую мужчинам набитые табаком трубки.
— Анья О’Донохью, не проводишь ли девушку к кому-нибудь по соседству: и мужа ее прихвати; чтоб потом вернулся с тобой. В такую ночь ни одной живой душе не стоит выходить на дорогу одной.
— Отведи ее к Пег О’Шей, — негромко сказала Нора. — Она ближе всех живет.
Анья переводила взгляд со старухи на Нору:
— Да что такое? В чем дело-то?
— Это ради молодайкина ребенка. — Протянув сморщенную руку, Нэнс положила ее на живот Бриджид. — Поторопись, девочка. Сыпани соли в карман и уходи. Гроза разыгралась не на шутку.
К полночи от запаха мокрой шерсти и людского пота в доме стало не продохнуть. На веках Мартина Лихи блестели теперь положенные соседом две однопенсовые монетки, на грудь мертвецу поставили блюдо с табаком и мать-и-мачехой. Дым поднимался столбом, мужчины то затягивались, то чистили трубки Нориными спицами, которые вытирали потом о штаны.
С приближением полночи Джон О’Донохью принялся читать розарий над покойником, а все собравшиеся, встав на колени, вторили, отвечая ему. Потом мужчины расступились и, подперев стены, стали глядеть, как при тусклом свете лучины женщины голосят по покойнику. Лучины воняли салом и слишком быстро сгорали в латунных светцах.
Нэнс Роух выводила плач под далекие раскаты грома. Лоб ее был серым от пепла, руки — испачканы золой, которою она, достав из очага, мазала лоб другим женщинам. Нора Лихи чувствовала, как корку золы разрывают горячие борозды от слез. Стоя на коленях на земляном полу, Нора вглядывалась в знакомые, скорбно нахмуренные лица.
Как в кошмарном сне, думала она.
Закрыв глаза и разомкнув губы, Нэнс завела низкий плач, мгновенно погасивший все разговоры и пересуды мужчин — так гаснет пламя в комнате, где нет воздуха. Старуха сидела на корточках, раскачиваясь взад-вперед, растрепанные жидкие космы мотались по плечам. Она вопила непрерывно, без слов, утробным, исполненным ужаса голосом. Словно кричала банши, словно судорожно хватал воздух утопающий.
Пока Нэнс голосила, другие женщины бормотали молитвы, дабы Господь принял с миром душу Мартина Лихи. Нора разглядывала женщин: вот Кейт Линч, чьи каштановые волосы в полумраке кажутся тускло-серыми, рядом шепчет молитвы ее дочь Сорха, круглолицая с ямочками на щеках; жена учителя усердно крестится, словно целиком уйдя в молитву, но одним глазом косится на Нэнс, глядит, как та копошится у очага. Здесь соседки Норы и дочери соседок, чуть ли не все обитательницы долины горестно заламывают руки. Нора зажмурилась. Никому из них не понять, каково ей сейчас. Никому.
Как страшна эта безъязыкость, эта мучительная невозможность сказать, тоска утопающего. Открыв рот, Нора завыла, и горе, вдруг обретшее голос, испугала ее самоё.
Многих из собравшихся кыне[4] растрогало до слез. Понурившись, свесив не просохшие еще от дождя головы, они вспоминали Мартина. И с многословием, происходящим от потиня, на все лады расхваливали его, перечисляя добродетели покойного, человеческие и христианские. Каким прекрасным отцом он был для дочери, скончавшейся всего несколько месяцев назад. Каким достойным мужем. И кости-то он умел вправлять, и понесших лошадей останавливать — ручищи свои раскинет, лошадь тут же и встала!
Стенанья Нэнс стихли, перейдя в прерывистые вздохи. Ухватив вдруг горсть золы, она метнулась в сторону двери и швырнула золу в темноту. Отгони, пепел, Тех, что мешают душе лететь в мир иной. Освяти, пепел, горе родни и друзей.
Посреди общей молитвы Нэнс вдруг уронила голову на колени, юбками стерла с лица золу и поднялась с пола.
Обряд был окончен. Подождав, пока шепот и выкрики перейдут в благоговейную тишину, Нэнс кивнула укрывшейся в темном углу Норе. Потом завязала узлом на затылке волосы и, приняв предложенную ей глиняную трубку, весь остаток бдения просидела молча и задумчиво, куря и разглядывая скорбящих, мужчин и женщин, вившихся вокруг Норы, как вьются птицы над только что сжатым полем.
Ночь шла своим чередом, тяжелой поступью давя час за часом. Умиротворенные и слегка одурманенные запахом тлеющей мать-и-мачехи, люди укладывались спать на полу, на пухлых подстилках из вереска и камыша, бормоча молитвы. Дождь добрался до дымохода и с шипением загасил огонь в очаге. Лишь несколько самых стойких прогоняли сон рассказами и сплетнями; они по очереди подходили к телу, с молитвами, а отойдя, толковали о том, что гроза, обрушившаяся на долину, не к добру. Одна только Нора видела, как старуха поднялась в своем углу и, опять накинув на голову капюшон, скрылась в воющем ветреном мраке.
Глава 2 Дрок
НЭНС РОУХ ПРОСНУЛАСЬ ОЧЕНЬ РАНО, прежде, чем рассеялся туман над горами. Спала она одетой, в той же одежде, в какой вернулась домой, и сырость теперь пробирала до костей. Выбираясь из своей вересковой постели, Нэнс щурилась, приноравливая зрение к тусклому свету и потирая застывшие от холода руки и ноги. Огонь погас — протянутая к очагу рука едва ощутила намек на тепло. Должно быть, ее разморило, она заснула и упустила угли.
Сняв с крюка на стене платок, она закуталась в грубую, пахнущую дымом шерсть, и, прихватив ведро, вышла.
Всю ночь гроза хлестала дождем долину, и с деревьев перелеска позади приземистой избушки капала вода. Все заволокло густым туманом, но уже от дома ее, что стоял на самом дальнем краю долины, там, где к полям и каменистым склонам подступают лесные дебри, было слышно, как рокочет вздувшийся Флеск. Неподалеку от избенки Нэнс находилась Дударева Могила — урочище фэйри, и старуха с почтением поклонилась корявому кусту боярышника, выплывшему, как призрак, из тумана, в окружении вереска, камней и высокой травы.
Нэнс плотнее завернулась в платок, скрипя суставами, спустилась к мокрой канаве, в которую превратилась рухнувшая барсучья нора, присела на корточки по нужде, — зажмурившись и уцепившись за папоротник. Все тело ныло. Это бывает после таких ночных бдений. Стоит, поголосив, выйти от покойника, и голову обручем охватывает пульсирующая боль.
Такая боль — заемная, думала Нэнс. Пограничье между жизнью и смертью тяготит тело и измождает мозг.
Спуск к реке был скользким и грязным, и Нэнс ступала осторожно, к босым ногам ее, когда она пробиралась сквозь кустарник, налипли мокрые листья. Не хватало еще упасть. Только прошлой зимой она поскользнулась и повредила спину. И провела неделю в своей лачуге перед очагом, мучаясь от боли, а куда больше — от одиночества. А ведь привыкла, казалось бы, жить одна, в компании разве что птиц, порхающих с ветки на ветку. Но без наведывавшихся к ней людей, без дел, иных, кроме сидения в полумраке хижины, она чуть не плакала от одиночества.
«Если что и может загонять болезнь в самое нутро, так это одиночество».
Это сказала ей Шалая Мэгги. Давным-давно сказала, когда Нэнс была молодой. Когда еще жив был ее отец.
«Ты меня слушай, Нэнс. Вот прошел человек. Ни жены у него нет, ни брата, ни сестры. Друзей — раз-два и обчелся. Одна только подагра всегда при нем. А уйти-то подагре этой не дает его одиночество!»
Мэгги сидит в их хижине. Не выпуская изо рта трубки, ощипывает курицу. Перья так и летят во все стороны. За окном барабанит дождь. В густых всклокоченных волосах Мэгги застряли перья.
То падение — упреждающий знак, решила Нэнс. Ты старая. Положиться можешь только на себя. И с тех пор стала она беречь свое тело, ласково его обихаживать… Осторожно ходить по скользкому в сырую погоду. Не лезть на гору за вереском, когда завывает ветер. Опасалась она и падающих из очага горящих углей. Орудуя ножом, боялась порезаться.
С приближением к реке рокот усилился. И вот уже показалась белая пена кипящего потока, сверкающего между прибрежных деревьев — дубов, ольх и ясеней. Непогода сорвала с них последние листья, и лес чернел голой мокрой корой. Только стволы берез лунно поблескивали в сырой черноте.
Нэнс осторожно нашаривала путь, обходя устилавшие землю сломанные сучья, заросли плюща и засохшего папоротника. Сюда, на этот край долины, люди забредали не часто. Женщины не ходили сюда за водой, не стирали белье в верховьях из-за близости этих мест к Дударевой Могиле — тайному прибежищу фэйри. Всюду здесь царили дикость и запустение. Никто не счищал мха с камней, никто не срезал веток с разросшихся у воды кустов, чтобы не зацепили белье. Одна только Нэнс спускалась сейчас к реке. Одна только Нэнс не боялась жить так близко к лесу — хозяину этого прибрежья.
Гроза взбаламутила реку, и Нэнс видела, что валуны, по которым прежде можно было, не страшась, спускаться к воде, теперь сдвинуты половодьем. Подмытый берег сыпался под ногами. Река в этом месте не отличалась шириной и глубиной, но, когда вода прибывала, течение становилось мощным, и Нэнс видела, как жирела река на трупах лисиц с раздутым брюхом, вымытых из нор яростными ливнями. Не утонуть бы.
Сняв платок и повесив его на низкую ветку, Нэнс присела на корточки и постаралась как можно ближе подобраться к воде. Она наклонила ведро, и вода так и хлынула в него, потянув Нэнс за руку.
Счищая с юбок грязь и стряхивая налипшие на них мокрые листья, Нэнс плелась назад в свою избушку; вместе с листьями хотелось стряхнуть с себя одурь, вернуть мыслям ясность. Стремительные вьюрки шныряли туда-сюда; выныривая из предвещавшего утренний свет тумана, они пикировали в траву и заросли ежевики, чтобы опять подняться в воздух. На подгнившей древесине подлеска красовались раковины грибов. Запах влаги и мокрой земли был вездесущ и проникал повсюду. Как же любила Нэнс эти утренние прогулки на вольном воздухе! Ее приземистая, вросшая в землю лачуга, маячившая возле самой кромки леса, со стенами из обмазанных глиной ивовых прутьев и крышей, крытой картофельной ботвой вперемешку с вереском, — каким уродством и убожеством кажется это все в сравнении с напитанной влагой древесной сенью! Приостановившись, Нэнс обернулась и обратила взгляд назад, в сторону долины. Перед ней на извилистых склонах белели крестьянские домишки, разбросанные там и сям между возделанных полей, сейчас сжатых и буреющих стерней, между клочков картофельных делянок и полуразрушенных каменных оград. Сквозь редеющий туман Нэнс различала дымки над крышами. На голых горных скатах домики кажутся меньше, словно они вросли в землю поглубже, чтобы не унесло ветром.
В утренней мгле беленые стены выглядят голубыми. Нэнс перевела взгляд туда, где повыше на склоне примостилась хижина Лихи. Для Нэнс это было ближайшее жилье, но даже и оно казалась таким далеким.
Из соседей ни до кого ей не докричаться. Ее лачужка без окон прежде тоже была беленой, как и у всех прочих, но с годами облупилась, поросла зеленым мхом и плесенью и выглядела теперь так, словно лес присвоил себе и ее, наложив и на дом Нэнс свою зеленую лапу.
Но по крайней мере внутри дома она, насколько может, соблюдает чистоту, если не глядеть, конечно, на потолок, который лоснится от толстого слоя сажи, и в отсыревший угол хижины. Зато земляной пол всегда выметен и гладок, а вереск и камыши перебивают прелый дух сена на той стороне, где содержится на привязи ее коза.
Нэнс поворошила угли в очаге, чтобы разгорелось пламя, и поставила воду отстаиваться. Гроза взбаламутила реку, и пить эту воду сейчас негоже.
Никогда еще плач по покойнику так ее не изматывал. Кости сковало холодом от усталости. Надо съесть чего-нибудь, подкрепиться.
Накануне зов смерти она ощущала сильно, как надо. Измазав пеплом лицо, она почувствовала, будто мир вокруг содрогнулся, раскалываясь на части. Она забыла обо всем и всецело отдалась плачу, исторгающемуся из глубины легких. Голова кружилась, и одетые в черное мужчины и женщины тоже закружились перед ее глазами, а потом слились, превратившись в огонь и в сотканные из дыма образы: горящий в лесу дуб; река с дикими ирисами по берегам, вся желтая, как желток. А потом и ее мать — простоволосая, глаза горят, манит ее во тьму. Нэнс казалось, будто она оплакивает весь мир.
Сталкиваясь с горем, Нэнс порой обретала способность провидеть. Мэгги называла это внутренним зрением. Особым знанием. Случалось, принимая младенцев, вводя их в этот мир, она прозревала, какая жизнь их ожидает. И видела, бывало, вещи пугающие. Помнится, приняла она ребеночка у женщины, которая в родах, от страха и боли, прокляла свое дитя, и Нэнс почувствовала, как словно бы темная завеса опустилась над младенцем. Нэнс вымыла и запеленала новорожденного, а позже, когда мать заснула, ручкой его раздавила гусеницу, чтоб защитить ребенка от проклятия.
На иные видения есть управа, и Нэнс она ведома.
Прошлой ночью гроза ее растревожила. Спускаясь с горы от хижины Лихи, когда небо так и полыхало молниями, она ощутила нечто. Какое-то шевеление. Зов. Предупреждение. Застыв возле урочища фэйри, она ждала под дождем, грудь терзало предчувствие чего-то скверного, и тут боярышник согнуло ветром, а камень могильника полыхнул пламенем. Казалось, вот сейчас сам дьявол выступит из леса, что за ее лачугой. Обычно Нэнс не боялась одна возвращаться из дома, где лежит покойник. Она знала, как уберечь тело и душу с помощью пепла и соли. Но прошлой ночью, ожидая возле Дударевой Могилы, она чувствовала, что против того невидимого, что зыбится там во мраке, ей не уберечься. Лишь увидев, что аккурат возле ее лачуги молния ударила в склон и подожгла вереск, она припустила скорее домой, к огню в очаге и живому теплу домашней скотины.
Нэнс глянула на козу, нетерпеливо переступавшую в углу возле наседок. В глиняном полу был вырыт сточный желоб, отделявший жилье Нэнс от скотины и ее помета, но не мешавший теплу свободно распространяться по всему помещению. Переступив грязный и замусоренный ручеек, Нэнс ласково потрепала козу по морде, пригладив шерсть, и вычесала солому из ее бороды.
— Ты молодчина, Мора. Ей-богу, ты просто молодчина.
Нэнс придвинула стоявшую у стены скамеечку и бросила рядом с козой охапку мятого дрока.
— Проголодалась? Такой ветрище был, слышала? Напугалась небось?
Воркуя с козой, Нэнс медленно потянулась за жестяным подойником. Уперев лоб в жесткий бок животного, она вдохнула теплый запах сухого утесника и навоза. Мора разыгралась: с глухим стуком топотала она копытами по прибитой земле и сену, но Нэнс все мурлыкала, пока коза не угомонилась и не стала щипать корм. Тогда Нэнс взялась за ее соски и подоила козу, тихонько напевая севшим после давешнего бдения голосом.
Когда струя из вымени иссякла, Нэнс вытерла руки о юбку и подняла подойник. В дверях она чуть наклонила его, плеснув молоком на порог — угостить добрых соседей, после чего и сама попила молока — сладкого, теплого, с крошками грязи от ее рук, — прямо из подойника.
Сегодня она никому не понадобится, Нэнс это знала. Жители долины валом повалят к Лихи, в знак уважения к покойнику, а к ней в такую пору люди наведываются нечасто… Слишком ясно она напоминает им, что и они смертны.
Плакальщица. Работница. Мастерица на все руки. Повитуха. Стоит ей рот открыть, и людям сразу вспоминается, как все пошло прахом, что было и что стало. Вот смотрят они на седые ее волосы и видят в них сумрак. Ведь это она приводит младенцев в надежную земную гавань, и она же снимает суда с якорей и отправляет во мрак.
Нэнс знала, что единственной причиной, по которой ей дозволено вот уж двадцать лет с лишком жить в этой сырой лачуге, примостившейся между горой, рекою и лесом, было ее занятие — непонятное людям и недоступное разумению.
Она была привратницей у последних врат, последним человеческим голосом, после которого лишь ветер, и тени, и странные потрескивания звезд. Языческим хором. Додревней песнью.
Люди всегда побаиваются того, что не очень понимают, думала Нэнс.
Согретая и ублаготворенная выпитым молоком, она вытерла рукавом рот и, встав в дверной раме, оглядела окрестность. Тучи сбились в грязно-серые ошметки, но Нэнс знала, что день будет погожим и ясным. Она выспится, отдохнет, а потом, может быть после полудня, побродит неспешно в дневной тиши по тропам и вдоль канав, пособирает запоздалые соцветия тысячелистника и крестовника, последние ягоды ежевики и терна — стоит запастись всем этим, пока зима не сковала мир льдом. Ну а не пролитые из туч дождевые капли прольются за горами еще до рассвета.
Нэнс привыкла во всех своих делах сверяться с небом. Изменчивые лики его она успела изучить.
Бдение и поминки длились целых два дня, во время которых народ успел проторить к горной хижине Норы скользкую от грязи тропинку, по которой все шли и шли, некоторые — с крепко зажатыми в руках бутылками виски, с четками в карманах и табуреткой или грубым стулом с плетеным сиденьем из сугана[5]. На второй день дождь опять вернулся в долину. С картузов и фетровых шляп мужчин текла вода. Прихватив из дома остывшие угли и ореховые прутья, они усаживались на кучки хвороста и резаного камыша. Воздух в доме покойного был сизым, и люди кашляли от горевших светильников и раскуренных трубок. Стоя на коленях, они молились о Мартине, касаясь покрытого простыней тела. Не привыкшие к курению трубки женщины и дети, кашляя, выдыхали дым и обкуривали покойного, скрадывая поднимающийся густой дух смерти.
Нора не могла дождаться их ухода. Ей опротивело присутствие этих людей, опротивели скрип камыша под их ногами и то, как, рассевшись, они говорили о Мартине, будто знали его лучше всех.
Я его жена, хотелось ей крикнуть им в лицо. Вы не знаете его так, как знала я!
Невыносимо было это мельтешение теней на стенах, мелькание женщин, двигавшихся бесшумно, как привидения, то, как, собравшись в тесный кружок, они сплетничали, а потом, разойдясь по углам, начинали рассуждать о скоротечности времени, о вере и Боге. Ей ненавистны были бесконечные сетования мужчин на этот проклятый октябрьский дождь и претило, когда поднимали они кружки со своим пойлом в сторону Мартина, бормоча: «Да помилует Господь душу твою, Лихи, и души всех праведных усопших!» — а потом, не медля ни секунды, возвращались к прерванным разговорам, смешкам и похохатываньям.
Лишь когда дождь ненадолго перестал, Нора смогла выбраться из хижины на задний двор и, жадно глотая свежий воздух, выплакаться и немного успокоиться. Потом, смочив ладони о мокрую траву возле навозной кучи, она вытерла ими лицо и, помедлив, стала смотреть, как на дворе дети играют с камнями. Измазанные по щиколотку в грязи, с глазами горящими восторгом игры, они складывали пирамиду из камней, а затем по очереди пуляли по ней камнями, разрушая. Даже робкие девочки не утерпели: разбившись на пары, они играли в «болванку» — одна складывала ладони вместе, как для молитвы, другая же тихонько поглаживала ей пальцы, приговаривая: «Мурка, мурка, бедная мурка…» — и вдруг неожиданно, с силой ударяла ее по рукам. Эти шлепки вперемешку с криками боли и восторга далеко разносились по долине.
Нора глядела на играющую детвору и чувствовала комок в горле. Вот так бы играл и Михял, если бы не болезнь, подумала она, и волна горя, внезапно накатив, затопила ее, и стало трудно дышать.
Все было бы иначе, будь он здоров, думала она. Был бы мне он утешением…
Кто-то потянул ее за юбку, и Нора, опустив взгляд, увидела мальчика лет четырех, не больше; улыбаясь, он протягивал ей яйцо.
— Вот, я нашел, — и с этими словами ребенок передал яйцо Норе и тут же, круто развернувшись, бросился прочь, разбрасывая комья грязи босыми пятками. Нора глядела ему вслед. Вот таким и должен быть ребенок, подумала она, и перед глазами возникла картина: Мартин, сидя у огня, держит на коленях Михяла и растирает ему ноги, пытаясь вернуть им жизнь, а веки мальчика смыкаются от ласковых прикосновений дедовых рук.
Поспешно сморгнув навернувшиеся слезы, Нора стала смотреть вдаль.
Завеса дождя медленно перемещалась над дальней грядой гор, за речной низиной и полоской леса на восточном скате. Не считая ясеневой рощицы вокруг белых домиков, что раскиданы по луговой части долины, и зарослей дуба и ольхи за замшелым боханом[6] Нэнс Роух вдали, перед глазами Норы сплошь расстилались поля, окаймленные низкими каменными оградами и канавами, а дальше — либо болота, либо каменистые холмы, где только вереск и дрок и могли произрастать среди скал.
Даже вид низких, грозящих дождями туч действовал на Нору умиротворяюще. Долина была прекрасна. Неспешный поворот к зиме покрыл стерню и луговые травы бронзовым налетом, и бегущие тучи пятнали землю тенями. Это был замкнутый, сокрытый от всех мир. Только узкая дорога, вьющаяся по дну долины и уходящая на запад, свидетельствовала, что там, за горами, есть другой мир, полный высоких зданий и медных рудников, тесных, с попрошайками на каждом углу, улиц Килларни, ощетинившихся домами под сланцевыми крышами; на восток эта же дорога вела к отдаленным рынкам Корка. Лишь редкий торговец, направлявшийся в сторону Макрума с бочонками масла, притороченными к бокам лошадей, мог вызвать подозрение, что существуют другие долины и другие города, где живут совсем другой жизнью.
Взрыв детского смеха резко вырвал Нору из состояния мечтательной задумчивости. Повернувшись, она увидела старуху, ковылявшую по кочкам от соседней с Норой хижины на холме; старуха тяжело опиралась на терновую клюку.
Пег О’Шей.
Войдя во двор, соседка улыбнулась детям, затем, встретившись глазами с Норой, шаркающей походкой направилась к ней.
— Нора… Сочувствую тебе в твоем горе. — Щеки женщины ввалились от старости, беззубый рот запал. Однако черные бусинки глаз были по-птичьи живыми и блестели. Нора чувствовала, как они шарят по ней — сначала вгляделись в лицо, потом смерили ее всю.
— Спаси тебя Господь и матерь его, Пег. Спасибо, что взяла Михяла.
— Мне это вовсе не составило труда.
— Не хотелось, чтоб он оставался здесь. В доме полно народу. Я решила… решила, что он может испугаться.
Пег промолчала и только поджала губы.
— Мы с Мартином думали, что будет лучше беречь его от многолюдья. Чтоб жил себе тихо-спокойно с нами.
— Ну да, может, так и лучше.
— Кто приглядывает-то за ним?
— О, в доме и мои дети, и их малыши. Одним ребенком больше, чего уж там. И то сказать, из дома ведь он не уйдет… — Она придвинулась поближе: — А я и не знала, что дело так плохо… И вот уж который месяц ты его нянчишь…
— Мы с Мартином оба нянчили. По очереди — один с ребенком, другой работает.
— А годков-то ему сколько, Нора?
— Четыре.
— Четыре. А не говорит. Прямо как младенец в колыбели.
Нора потупилась, уставившись на яйцо, которое дал ей мальчик.
— Это хворь на него нашла.
Пег молчала.
— Раньше он мог говорить. Я слышала, как он говорит. Когда Джоанна жива была.
— И ходить он тогда тоже мог?
Нора почувствовала дурноту. Не в силах ответить, она лишь покачала головой, и Пег положила руку ей на плечо:
— Похоже, опять дождь будет. Давай зайдем в дом, а то кости ноют. Я поздороваюсь, окажу уважение.
Торф в очаге так и пылал, и громкая беседа шла полным ходом. Из-за угла доносился смех.
— М-м… — Темные глазки Пег быстро оглядели собравшихся. — Кто выпивку-то принес?
— Все больше Шон Линч, — ответила Нора.
Пег вскинула брови.
— Да знаю я. Я и сама не ожидала. Человек-то не из щедрых.
— Если на что и щедр этот человек, то только на тумаки. — С хитрым видом Пег покосилась туда, где в кучке женщин сидела и ковыряла в зубах Кейт. — Шон Линч вошь освежевать сумеет и шкурку ее продать на рынке вместе с жиром. С чего бы это он так расщедрился?
Нора пожала плечами:
— Он же нам родня. Ты разве забыла, что моя сестра за его брата вышла? Упокой Господи души обоих.
Пег шмыгнула носом.
— Ей-богу, он чего-то задумал. Я бы с ним ухо держала востро. С чем-то он к тебе подлезет, Нора, что-нибудь у тебя попросит теперь, когда Мартина нет больше. Человек этот всему цену знает и ничем не дорожит.
Они поглядели в ту сторону, где у огня сидел и курил Шон.
— Уж поверь мне, Нора. Старая метла все темные углы знает.
Хоронили Мартина назавтра, тусклым, бесцветным днем. Грубо сколоченный гроб несли на плечах его племянники и друзья, помогали им, по очереди подхватывая ящик, и другие мужчины, жители долины, сопровождавшие гроб. Знакомый путь на кладбище был долгим, и процессия двигалась медленно. Дорогу развезло от дождей, мужчины ступали осторожно, чтобы не потерять обувь в чавкающей грязи. Следом за ними шли женщины, оглашая воплями осенний, колючий от мороза воздух. Все они знали, как полагается предавать тело земле.
Нора потуже натянула платок на голову. Невыносимо было смотреть на гроб, покачивающийся над головами, и она переводила взгляд на птиц, круживших над редеющими ветвями. Нора чувствовала себя странно спокойной, слез не было, и, идя прямо по лужам, в которых сверкало небо, она думала, не умерло ли что-то и в ней самой. Горестные причитания женщин вокруг казались смешными, как и сами они, в облепивших ноги мокрых юбках. Одна Нора молчала, прикусив язык, горе лежало в ней безмолвным холодным камнем.
Зрелище похорон привлекало и обитателей хижин, расположенных вдоль дороги. Дети, сунув палец в рот, глазели на процессию. Мужчины, пасшие своих свиней поблизости, присоединялись к шедшим за гробом, затем, пройдя с ними несколько шагов, отступали на обочину и почтительно выжидали, пока процессия не скроется из глаз, прежде чем стегануть свинью хворостиной.
Нора шла, задрав голову и глядя вверх, позволяя толпе как бы нести ее. Над вершинами кружили орлы.
Кладбище, притулившееся к маленькой часовне в тени старого тисового дерева, все заросло зеленой травой. Мужчины спотыкались о кочки, а затем бережно опустили гроб возле ожидавшей его заранее вырытой ямы. Отец Хили уже ждал их, рассеяный, сутулый, как и подобает грамотею. Когда его взгляд уперся в Нору, она натянула платок ниже на лоб и опустила глаза.
Служба была краткой. Священник читал молитвы отрывисто, запинаясь, и стоявшая на коленях Нора чувствовала сквозь юбки мокрую землю. Она смотрела, как опускают ее мужа в могилу, как могильщики укладывают дерн на крышку гроба, чтоб не с таким стуком падали потом комья земли.
Когда все было кончено, все слова иссякли и жесткая черная земля долины наполнила яму, провожавшие воткнули в могильный холмик свои глиняные трубки и пустились в обратный путь. Спускаясь с откоса обратно в долину, Нора обернулась и окинула взглядом кладбище. Издали черенки трубок выглядели кучкой хрупких костей, исклеванных птицами.
Ветер поднялся, когда Нора шла по дороге, возвращаясь с похорон. Шла она вначале в толпе, затем, по мере того как люди сворачивали к своим домам, — в редеющей молчаливой горстке соседей. К тому времени, как, миновав ясеневую рощицу и с трудом пробираясь по грязи, она начала трудный подъем к себе на холм, вокруг не осталось никого: только ветер яростно атаковал вершины, грозясь обрушить утесы вниз в долину. Затем стеганул сильный ливень, а ноющая боль в коленях предвещала новую грозу.
Еще на подходе к дому Нора услышала громкий плач Михяла. Дверь была приоткрыта, и, едва войдя, она заметила, что дом прибран и от поминок не осталось и следа. Пол был застлан свежей камышовой подстилкой, огонь в очаге ярко горел, и возле огня сидела Пег О’Шей; она посмеивалась над Бриджид, вздрагивавшей от пронзительных воплей ребенка. «Пора привыкать понемножку», — приговаривала Пег, качая красного от натуги и гнева мальчишку. При виде вошедшей Норы улыбка ее погасла.
— Схоронили, стало быть, Мартина.
Нора тяжело опустилась на лавку рядом с Бриджид: наконец-то все разошлись!
— И народу на похороны много собралось. Слава богу, это хорошо. Поближе к огню садись. А не то продрогнешь.
Нора приняла на руки Михяла и прижалась щекой к его макушке. Руки ощутили его тяжесть, а кожа — прерывистый, захлебывающийся крик. Накатила усталость, босые пальцы свело от холода.
Пег внимательно наблюдала за ней.
— В детях-то утешение…
Нора закрыла глаза и уткнулась лицом в хрупкую шейку Михяла. Он закричал с новой силой, напрягаясь всей грудью.
— Спасибо, что нянчилась с ним.
— Да хватит, не стоит об этом. Я молилась за тебя, Нора. Видит Бог, какой тяжкий для тебя год нынче выдался.
Нора выпустила Михяла из объятий и уложила себе на колени. По лицу ее струились слезы. Она принялась растирать руки и ноги мальчика, как это делал Мартин, распрямляя и отводя назад согнутые кисти, гладя твердые и прямые, как кочерга, пальцы. Под ее руками он затих, и на секунду ей показалось, что мальчик внимательно глядит на нее. Его зрачки, такие темные на голубом фоне, словно встретились с ее зрачками. Сердце Норы дрогнуло. Но в следующий миг взгляд ребенка скользнул прочь, и опять начался вой, а руки Михяла опять скрючились.
Нора бросила растиранье и застыла, уставившись в одну точку. Как удар, пришло воспоминание: Мартин на могучих своих руках держит Михяла и с ложки кормит его сливками.
Как же ты мог оставить меня одну с этим ребенком, думала она.
Сидевшая у очага Пег потянулась к ней рукой и погладила Михяла по голове.
— Масть точь-в-точь как у Джоанны.
Бриджид покосилась на Нору.
— Знаю, для тебя это была большая потеря, — продолжала Пег. — Is é do mhac do mhak bpósann sé ach is i d’iníon go bhfaighidh tú bás. Сын твой, пока не женится, а дочка — до гробовой доски. И вот теперь и мужа потерять… Ну не жестокость ли это, когда Господь отнимает у нас тех, кто нам всего дороже?
— Все мы несем свой крест, — пробормотала Нора. И приподняла лежавшего у нее на коленях Михяла. — Да чего тебе так неймется-то, малыш?
— Ой, Нора, он, бедняжка, орал так, что, казалось, мертвому из могилы подняться впору. Кричал, плакал, а с чего — непонятно. И так — все эти дни. Как ты спишь-то с ним рядом, когда он орет не переставая?
Михял завизжал еще громче. По красным, лихорадочно горевшим щекам текли слезы.
— А ты покормила его? — спросила Бриджид.
Она взяла лежавшую на скамье накидку Норы и развесила на низкой потолочной перекладине — подсушиться у огня.
— Покормила ли я ребенка? — Пег сверкнула глазами в сторону Бриджид. — Наверно, пятеро моих детей чудом выжили и собственных детей заимели, раз я их в жизни не кормила, а так пускала бегать, без еды, поживись чем бог послал, расти себе, как былинка в поле! Пора бы уразуметь, что к чему, Бриджид. Болтаешь ерунду, когда полная луна тебе уже срок твой кажет! — Она пожевала губами, обнажив немногие оставшиеся зубы. — Ну и компанию ты мне подобрала, Нора! Малец и эта калинь[7]! Хотя, правду сказать, правильно было поберечь их, от греха подальше!
— Ну, думаю, его-то я берегу. — Бриджид опасливо прижала руку к животу. — Дэн даже когда свинью режет, меня из дому гонит.
— Знавала я одну женщину, — продолжала Пег. — Рисковая была, старые обычаи в грош не ставила, гордость, видишь ли, не позволяет. Так что думаете, когда скотину резали, она кровь побоялась собрать? А муж — то помешать ей хотел. Сильный был мужчина, а ее не переспорил: по-своему сделала. И как пить дать, ребеночек, что она носила, на свет появился с лицом как печенка сырая и нравом под стать такому лицу.
Небо зарокотало глухими раскатами грома, и лицо Бриджид исказила гримаса страха.
— Правда?
— О, дьявола искушать — дело последнее! Ни к мертвому телу, ни к крови тебе в твоем положении лучше не приближаться.
— Этим меня и та старуха пугала. Седая такая.
— Бян фяса[8]? Верно, Нэнс Роух — она чуднáя.
— Раньше я ее и не видала никогда. Думала, так, работница — подсобить, если надо чего.
— Не видала? Ну так она особо и не показывается. Пока не почувствует — зовут, или когда люди сами за ней не прибегут.
— Или когда посулят теплый угол и кусочек послаще, — холодно добавила Нора. — Меня она ни разу не пользовала, а Мартин ходил к ней всего раза два, а она вон явилась на бдение. В плакальщицы напросилась.
Пег воззрилась на Нору в недоумении.
— Она умеет чувствовать, когда нужна, — ровным голосом сказала она.
— Но мне-то почему никто не говорил, что она слово знает? — спросила Бриджит.
— Господи, да не говорят о таком, ходишь ты к ней или не ходишь. Люди идут ведь к ней и с тем, чего священнику не расскажешь и от матери родной утаишь. Да и имя ее, толкуют, поминать не к добру. Боятся ее люди.
Бриджид даже вперед подалась от любопытства.
— А почему? Почему так? Что она, может, натворила чего?
— Да уж надо думать, натворила! — Пег хитро подмигнула. — Живет у самого леса, одна как перст, ну как не начать про нее языком трепать! И лечит, люди признают, по-правдашнему. Не то что некоторые знахари — божатся, что дар имеют, а весь дар их — угадывать, где выпить можно на дармовщинку.
— Материного двоюродного брата она от лишая пользовала.
Нора, причмокивая, укачивала Михяла. Измученный ребенок наконец задремал, то и дело хныкая во сне.
— К Нэнс Роух аж из Балливурни ходят. Даже крепкому мужчине такой путь одолеть не просто, и все ради того, чтоб нашептала что-то тебе на ухо да глянула на твои бородавки!
Пег кивнула:
— Нэнс из тех, что с нечистью знаются, так ее и прозвали. Нэнс на Букый — Нэнс нечистой силы. Оттого многие ее и сторонятся, видеть не хотят, но еще больше таких, что как раз потому к ней и тянутся.
— А ты веришь этому, Нора?
Нора презрительно мотнула головой:
— И говорить об этом не желаю! В мире полно всякого-разного, и не моего ума это дело. Поговаривают, будто она с добрыми соседями дружбу водит, не знаю уж, правда или нет.
— Пег, — прошептала Бриджид, косясь на дверь, будто ожидая, что та вот-вот распахнется. — Так она, может, и с Теми заодно? Что священник-то говорит?
— Отец Рейли, пока жив был, всегда к ней по-доброму относился, а иные церковники могут сказать, что не от Господа ее лечение. Но вот те, кто ходит к ней, все как один говорят, что лечит она не иначе, как именем Божьим и Святой Троицы. Ой, слышала сейчас?
Тихо зарокотал гром, и Нора вздрогнула:
— Отведи от нас беду, крестная сила…
— Что ж, и мужа у ней нет? И детей?
Старуха улыбнулась:
— Ну, если только какая нежить с могильника у ней в мужьях. Или, может, коза ее старая на самом-то деле муж, в козу добрыми соседями переделанный. — Собственное предположение до того развеселило Пег, что она так и покатилась, хохоча, как от щекотки.
Бриджид задумалась:
— Тогда она явилась — волосы мокрые, губы белые — чисто привидение! Или будто утопить ее хотели, а она вылезла. А глаза словно туманом заволокло. И что можно увидеть-то такими глазами!
— C Нэнс Роух лучше ладить добром, — согласилась Нора.
Пег издала короткий смешок и вытерла десны краем фартука.
— Да будет тебе известно, Бриджид, что родилась женщина эта ночью, в самую глухую ее пору, а значит, и видит она иначе, чем все мы…
— Она всегда здесь жила?
— Нет, пришлая она, но поселилась так давно, что еще дети мои ее пугались, как пугаются сейчас их дети. Но родилась она не здесь, нет, не здесь. Помню я, как она здесь появилась. В ту пору много людей бродяжило, по дорогам шаталось. Вот и Нэнс была такой нищей бродяжкой, ни кола ни двора. Священник тогдашний пожалел ее — молодая женщина, как была она тогда, и никого-то у нее нет, ни одна живая душа о ней не позаботится. Мужчины выстроили для нее бохан — крохотную лачугу возле самого леса. Ни огорода приличного — чтоб картошку сажать, ничего, но кур всегда держала. И козу. О, коз своих она пестовала! Что ж, прожить на терновых ягодах и орехах, да на прашях[9] в теплые месяцы еще можно, но, когда она только заявилась, все ждали, что вот стукнут холода и пойдет она по чужим дворам побираться, картошку клянчить. Но нет, глядим, сидит там у себя, зимует, и на следующий год — так же, и еще через год, пока не пошли толки, что все это неспроста, что не протянуть женщине на одних только травах да ягодах. Иные решили, что приворовывает она по ночам. Другие — что с Самим якшается.
— С дьяволом?
Снова ударил гром. Женщины так и подскочили.
— В этакую-то ночь да такие разговоры вести! — возмутилась Нора.
— Да уж. Странной она показалась с самого начала.
— Может, повечерять нам время пришло? Не проголодались? Пег, не заночуешь у меня? Ночь-то для прогулок неподходящая…
Куда девалось охватившее Нору на поминках настойчивое желание остаться одной? От одной мысли провести этот неспокойный вечер наедине с Михялом живот сводило ужасом.
Пег обвела взглядом пустое жилище и, будто почувствовав настроение Норы, кивнула:
— Заночую, если тебе это не в тягость.
— Может, мне Михяла взять? — предложила Бриджид.
— Я уложу его.
Нора уложила мальчика в самодельную колыбель из ивовых прутьев и соломы.
— Не перерос он люльку-то? — сказала Пег. — Ноги свешиваются.
Нора пропустила эти слова мимо ушей.
— Схожу сейчас подою, и мы перекусим. — Шум дождя и шипение огня в очаге заглушило новым раскатом грома. — Ну и вечерок выдался!
Пег ласково погладила Бриджид по животу:
— Вот и хорошо, что ты сейчас здесь с теткой мужа сидишь, а не бредешь где-нибудь впотьмах! — Она прищурилась. — Гром подчас птенчиков еще в яйце убивает.
— Пег О’Шей, зачем пугать ее всякими выдумками!
Подвесив тяжелый котелок с водой на цепь, свисавшую со стенки очага, Нора уставилась в огонь, щурясь на дымное пламя.
— Займись скотиной, Нора. Корова небось сама не своя — грозы боится. — Пег повернулась к Бриджид: — А молния, говорят, у молока силу отнимает. После такой ночи наутро не у одной хозяйки молоко свернется, попомни мое слово!
Бросив на Пег суровый взгляд, Нора стянула с перекладины еще мокрую накидку и, опять укрыв голову и взяв ведро, ступила в темноту двора, где порывистый ветер и хлещущий дождь едва не сбивали с ног. Согнувшись в три погибели, торопясь укрыться от потопа, она поспешила в хлев.
Корова моргала в сумраке круглыми от страха глазами.
— Ну-ну, Бурая, что ты, успокойся. — Нора гладила бок коровы, но едва она потянулась за скамеечкой и поставила не землю ведро, как животное, вздрогнув, натянуло привязь. — Тихо, девочка, не бойся, никто тебя не обидит, — нараспев ласково стала она уговаривать корову, но та только мычала. Боится, подумала Нора и бросила в кормушку охапку сена. Но корова есть не стала, дышала тяжело и прерывисто и, едва Нора сжала ее соски, метнулась в сторону, норовя порвать путы. Ведро со звоном покатилось по земляному полу. Нора встала, раздосадованная.
Снаружи сверкнула молния.
— Ну, как знаешь, — пробормотала Нора, подобрав ведро, и, вновь покрыв голову накидкой, кое-как добралась до хижины. Там остановилась под навесом крыши, чтобы счистить грязь с босых ног. Из-за двери доносился голос Пег, женщина говорила тихо, заговорщически:
— Малый-то, Михял… Только глянь на него. Уродец как есть.
Нора похолодела.
— Да я слыхала, Мартин с Норой взяли к себе ребенка-калеку. А это правда, что он еще не ходит?
Бриджид.
Сердце у Норы заколотилось.
— Да, думаю, и не будет ходить. Четыре года — и вот, пожалуйста! Знала я, что Нора взялась обиходить мальчишку и что, когда его привезли, он был еле жив, но чтоб такое… Он ведь и не в своем уме!
Нора почувствовала, как лицо ее вспыхнуло, несмотря на холод. Затаив дыхание, она приникла глазом к щели. Бриджид и Пег разглядывали мальчика.
— А священника она к нему не звала?
— Чтобы полечил? Я-то знаю, что священнику дана такая сила — кабы только захотел он ее в ход пустить. Но отец Хили — человек занятой, городской человек, жил почти всю жизнь не то в Трали, не то в Килларни, и очень я сомневаюсь, что есть ему дело до убогих мальчишек с ногами как плети!
Бриджид помолчала.
— Я Бога молю, чтоб мой исправным родился.
— Бог даст, родится здоровехонек. Ты себя смотри береги, не простужайся. Сдается мне, что ребеночек ослаб умом и руки-ноги у него отказали, когда мать его занедужила. Но пока жива она была, о том, что с дитятей неладно, речи не было.
У Норы упало сердце. Родственница сидит у нее в доме и хулит ее внука! Нора прижалась лицом к двери, сердце прыгало где-то у горла.
— Так, значит, от Норы ты это узнала?
Пег насмешливо улыбнулась:
— Да неужели? Нора о мальчике и словом никогда не обмолвится. Почему, думаешь, трясется она над ним, как наседка, держит взаперти и ни с кем из нас не делится тем, что с мальчиком? Почему, думаешь, как только муж ее скончался, она велела Питеру О’Коннору отнести мальчишку ко мне, пока еще толпа в дом не набежала? Да его никто и в глаза, считай, не видел, я ей даром что родня, так и то не дали рассмотреть, рассмотрела только в эти дни, и можешь себе представить, каково мне пришлось, когда рассмотрела я его хорошенько!
— Она стыдится его.
— Да, неладно с ним. Тяжело это, должно быть. Дочь померла — помилуй Господи ее душу, — и теперь вот этот хворый; и ухаживай за ним в одиночку.
— Но она сильная, Нора-то. Сдюжит.
Стоя за дверью, Нора могла видеть, как откинулась на спину Пег, как провела языком по беззубым деснам.
— Есть в ней стержень, в бабе этой, твердость есть. И все ж боюсь я за нее. Уж такая полоса ей выдалась темная — смерть и уродство это. Дочь померла, а сейчас и Мартин скончался, и дитя головой слабое от всего этого, порченое дитя.
— Питер О’Коннор говорил, что светилось возле урочища фэйри в той самый час, когда Мартин отходил. Говорил, что третьей смерти не миновать.
Перекрестившись, Пег бросила в огонь еще один кусок торфа.
— Упаси Боже. Хотя бывает, и почище вещи случаются.
Нора медлила в нерешительности. По лицу ее стекали капли дождя. Мокрая накидка промочила платье. Закусив губу, она силилась расслышать, что еще они скажут.
— Нэнс приходила голосить по Джоанне?
Пег вздохнула:
— Нет, не приходила. Норина дочка замуж в Корк вышла, давно уж дело было. Там и похоронена, где-то возле Макрума, что ли. Нора о смерти ее узнала, лишь когда зять к ней заявился, ребенка ей привез. Вот горе-то было горькое: вечер, уже смеркается, хлеб в полях только собрали, и тут вдруг муж Джоанны на осле, и Михял тут же, к седлу ремнями приторочен. И говорит, что Джоанна истаяла как свеча и что он теперь вдовец. Да, извела Джоанну болезнь, так муж ее сказал. Однажды легла она с сильной головной болью и потом уже не встала. И чахла она, чахла, пока не исчахла совсем. А ему ребенка было не поднять, и, знаю я, родня его решила, что правильно будет отвезти Михяла к Норе и Мартину. Нора об этом молчала, но слухи ходили, когда привезли его, Михял оголодавший был. Худущий — кожа да кости, краше в гроб кладут.
Да как она смеет, думала Нора. Сплетничает обо мне в день похорон моего мужа! Распускает слухи о моей дочери! На глаза навернулись слезы, и она отпрянула от двери.
— Бедность не порок, чего ее стыдиться… — Ветер далеко разносил пронзительный голос Бриджид. — Нам ли не знать ее.
— Может, кто не стыдится бедности, а Нора-то из гордых; привыкла высоко держать голову. Вот замечала ты, что о покойнице она никогда не говорила? Моего мужа еще когда Господь прибрал, а я все говорю и говорю о нем, как о живом, будто он все еще здесь. Так он вроде и не покидал меня. А вот когда померла Джоанна, Нора как ножом ее от себя отрезала, даже имя дочкино у нее с языка не слетает. Наверняка тоскует она по ней, но воспоминаниями о дочери делится разве что с бутылкой.
— Она что, в кабак захаживает?
— Ш-ш… Не знаю уж, где Нора себе утешение находит, но, если бутылка мирит женщину с тем, что есть, разве есть у нас право ее осуждать?
Это было уж чересчур. Нора поспешно вытерла глаза и, сжав зубы, вошла в кухню — блеснули мокрое лицо и накидка. Прикрыв дверь, в которую рвались дождь и ветер, она поставила ведро на столик под заткнутым соломой окошком.
Женщины молчали. Интересно, догадались они, что я их подслушала, подумала Нора.
— Молока-то много надоила? — прервала молчание Пег.
— Испугалась она чего-то.
Стянув с плеч накидку, Нора села на корточки перед огнем и стала греть руки, стараясь не смотреть в сторону женщин.
— В былые времена и масла в долине было вдоволь, — пробормотала себе под нос Пег, — а теперь каждая вторая корова — порченая.
Подал голос Михял, и Нора, с облегчением оттого, что появилось дело, поспешила вынуть ребенка из его тесной колыбели.
— О, да ты великан! Вишь, какой тяжелый!
Пег и Бриджид переглянулись.
— О чем говорили? — спросила Нора.
— Да Бриджид наша все насчет Нэнс интересуется.
— Вот как?
— Ну да. Расспрашивает и расспрашивает.
— Не хочу прерывать вашего разговора. Давайте, продолжайте. Что там за история?
Норе показалось, что глаза женщин испуганно блеснули.
— Ну, я говорила, что тогда, вначале, людям странным показалось, что женщина может одним воздухом питаться, воздухом и одуванчиками. И отправились они к священнику. Не к отцу Хили, а к тому, кто до него был, отцу О’Рейли, упокой Господь его душу. Но он и слушать не захотел всех этих сплетен и подозрений. «Оставьте бедную женщину в покое», — сказал он. А был он, Бриджид, человек строгий, сильный был человек, опора тех, кто за себя постоять не может, бездомных защитник. Это он мужчин поднял хижину ей строить и людей к ней посылал — за травами и лечиться. Ревматизмом мучился.
Вода в котелке задрожала, закипая. Нора, гневно поджав губы, глядела, как падающие в дымоход дождевые капли бьют по бокам котелка.
— Ну а потом что было? — прервала молчание Бриджид.
Пег, поерзав на стуле, покосилась на Нору:
— Ну, уже вскоре после того, как поселилась Нэнс в этой своей хижине, пошла о ней молва. А однажды на вечерках у старой Ханны принялись мы байки разные вспоминать, рассказывали и о добрых соседях. Ханна и поведала о волшебном кусте шкяхъяла[10], о том, как пытались срубить его. Это Дэниела твоего дядька, Шон Линч, пытался. Дурак был, ей-богу, этот Шон, молодой тогда совсем.
Собрались как-то у кузни ребята и давай хвастать промеж себя. Шон, родственничек твой, говорит, срублю, дескать, боярышник этот. Они остерегали его — не надо, не трогай куста. Так ли, эдак ли, только прослышала Нэнс Роух о его хвастовстве. Ты ведь видала, где куст этот растет? Возле логовища фэйри. И Нэнс там же живет, неподалеку. Вот и заявилась она к нему однажды вечером. У него, понятное дело, и у Кейт душа в пятки, как увидели ее в дверях, а она и говорит: лучше бы тебе оставить тот куст стоять, как он стоит, не то затаят Они против тебя злобу. Это ведь Их куст, так что не касайся его, верно тебе говорю, беды не оберешься, накличешь, если подойдешь к нему со злом. Ну а он, ясно дело, только насмехается, да и отругал ее, в придачу обозвал самыми последними словами и в тот же день отправился рубить шкахъял. Старая Ханна говорила, что собственными глазами видела, как замахнулся Шон хорошенько топором на боярышниковый куст. И хочешь верь, хочешь нет, Ханна сама видела, как не попал топор в ствол, пролетел по воздуху и хвать Шона по ноге! Чуть ли не пополам ногу разрубил. Оттого и хромает Шон теперь.
Снизу донесcя булькающий звук. Женщины, наклонившись, увидели, что Михял уставился на потолочные балки и на губах его играет кривая улыбка.
Нора глядела, как, подавшись вперед, Пег внимательно, с серьезным видом, вглядывается в лицо мальчика.
— Ему рассказ нравится.
— Давай дальше, Пег, — нетерпеливо сказала Бриджид. Примостившись на самом краю лавки, она еле могла усидеть на месте, по лицу ее плясали блики от пламени в очаге.
— Вот отсюда все и пошло. После истории с топором люди заговорили, что Нэнс ведома фис шийог — мудрость фэйри. И народ начал захаживать к ней, когда считалось, что Эти что-то разошлись и принялись за свои проказы. Люди подозревать стали, что и она, может, у них побывала, что Они ей тогда мудрость и передали.
— Что-то не встречала я таких, кто у добрых соседей гостил. Кого они умыкнули! — Бриджид поежилась.
— Я вот что тебе скажу, Бриджид. В долине нашей люди спокон веку живут. Пришлым бродягам у нас места нет, коли они не породнятся с тутошней кровью. А Нэнс здесь утвердилась, вросла в нашу землю — потому что травы знает, мертвых умеет оплакать, да и рука у нее легкая по повивальному делу. Многие бояться ее стали после той истории с боярышником, многие и теперь еще побаиваются, но больше таких, кому без нее не обойтись. И покуда в ней есть нужда, будет Нэнс жить в своем бохане возле леса. Муж мой покойный как-то раз проснулся утром с заплывшим глазом. Вспух глаз и не видит ничего! Отправился он к Нэнс, а та ему говорит, это фэйри, дескать, глаз тебе испортили. Сказала, что приметил он, должно быть, одним глазком кого-то из ихнего роду-племени, а негоже это человеку, нет у него такого права, вот они и отняли зрение у того глаза, что фэйри увидел. Поплевали мужу моему в этот глаз, когда он спал. Так Нэнс сказала. Но у нее на это средство нашлось — гланроск, очанка. Так и вымыла она настоем этой травки слюну фэйри. Так что уж не знаю, похищали ее фэйри или нет, но дар у нее есть — это точно. А от Господа он или от добрых соседей, не нашего ума дело.
— А мне Нэнс будет помогать, когда срок мой придет?
— Конечно. Кто ж еще?
— Подержи его, пока я чай приготовлю, — сухо сказала Нора, передавая Михяла на руки Бриджид.
Бриджид неловко пристроила ребенка у своего большого живота, и Михял, словно почувствовав всю необычность такого положения, застыл, а потом вскинул руки, оторвав их от боков, и недовольно надул губы.
— Он перышки любит, — сказала Нора, кидая картошку в дымящийся горшок. — Вот. — Она подобрала маленькое пушистое перышко, сквозняком занесенное в хижину с куриного насеста. — Мартин всегда щекотал его перышком.
Бриджид взяла перышко и провела им по ямочке на подбородке малыша. Ребенок засмеялся так громко, что грудь его заходила ходуном.
Бриджид, как и его, обуял смех:
— Нет, вы только посмотрите!
— Добрый знак, — заметила Пег, кивнув на обоих.
Улыбка Норы тут же погасла.
— Добрый знак чего?
Взяв железные щипцы, Пег неспешно ворошила угли.
— Ты что, оглохла? Добрый знак… чего, Пег О’Шей?
Пег вздохнула:
— Знак, что Михяла твоего еще можно вылечить.
Плотно сжав губы, Нора бросила в кипящую воду оставшиеся картофелины. Вода выплеснулась ей на руку, и Нора вздрогнула.
— Мы только добра желаем твоему ребенку, — пробормотала Пег.
— Добра? Вот как?
— Ты к Нэнс его носила, а, Нора? — Голос Бриджид звучал неуверенно. — Мне вот сейчас в голову пришло, что, может, его околдовали.
В хижине повисла тишина.
Нора внезапно осела на пол и, уткнувшись в передник лицом, задышала глубоко и прерывисто. На нее пахнуло знакомым запахом коровьего навоза, молодой травы.
— Ну полно, полно, — зашептала Пег. — Тяжелый день тебе выпало пережить, Нора Лихи. Не стоило нам говорить о таких вещах. Да благословит Господь это дитя и поможет вырасти ему большим и сильным, как Мартин.
Услышав имя мужа, Нора застонала. Пег положила руку ей на плечо, но Нора, передернув плечами, сбросила ее руку.
— Прости ты нас. Мы же ничего дурного не хотели. Tig grian a n-diadh na fearthana. Дождь пройдет, и солнце выйдет. Придет и для нас времечко получше, жди и увидишь.
— Веруй, и Божья помощь в дверь постучится, — пискнула Бриджид.
От порывов ветра трещали стропила. А Михял все смеялся.
Глава 3 Крестовник
В ДОЛИНУ ПРИШЕЛ КАНУН САМАЙНА — ветер возвестил о нем горьким запахом прелых дубовых листьев и кисловато-острым — яблочной падалицы. До Норы доносились веселые крики ребятни. Дети рыскали по полям вдоль оград, заросших кустами ежевики. Они спешили собрать последние налитые красным соком ягоды, пока ночь не призовет пука[11], чтобы тот отравил ежевику, дохнув на нее ядом. Дети выскакивали из канав, чумазые, с алыми от ягод руками и ртом, врываясь в тихие туманные сумерки, точно шайка кровавых убийц. Потом они карабкались вверх по откосам, разбегаясь по домам, а Нора смотрела им вслед. На некоторых мальчишках были платьица, чтоб обмануть нечистых. Опасно, коли такая ночь застигнет тебя вне дома. Она принадлежит духам. Мертвые бродят совсем рядом, и скоро те, кого не приняли ни в рай, ни в ад, примутся разгуливать по стылой земле.
Вот уже идут, думала Нора. Выползают из могил, из мрака и сырости. Идут на огонек, на свет наших очагов.
Смеркалось. Нора глядела, как два карапуза со всех ног бегут домой, а мать торопит их, волнуется, зовет. В такую пору не стоит искушать дьявола, да и фэйри тоже. В канун Самайна, бывало, люди пропадали. Бесследно исчезали дети. Их заманивали фэйри в свои круглые каменные оплоты, увлекали в горы или бочаги огнями и музыкой, и родители с тех пор их никогда больше не видели.
Нора с детства запомнила, сколько было страху и кривотолков, когда один обитатель долины не вернулся в родную усадьбу в канун Самайна. Нашли его лишь наутро — окровавленный, голый, он корчился на земле, сжимая в руках пук желтого крестовника.
Его умыкнули сиды, так объяснила ей мать. И помчали его с собой на конях, катали всю ночь, пока не стало светать. С рассветом они его бросили. Схоронившись в темном углу, Нора слушала тогда взволнованные шепоты и пересуды соседей, собравшихся возле родительского камелька. Вот же бедолага — оказаться перед всеми в таком виде! Да его мать со стыда бы сгорела! Взрослый мужчина, а весь дрожит, трясется и лепечет что-то несусветное о лесе, где побывал, плетет такое — несмышленышу впору.
«Умыкнули меня, — все твердил он землякам, когда те его поднимали, укрывали плащом и, взвалив на плечи, терпеливо несли всю дорогу, помогая добраться до дому, потому что идти сам он не мог. — Умыкнули меня».
На другой вечер мужчины и женщины пожгли на полях весь крестовник — в отместку добрым соседям, чтобы лишить их священного их растения. До сих пор Нора помнит костерки, горевшие по всему склону долины, и как мигали они в темноте.
Мальчишки добрались наконец до дому, и Нора видела, как мать, впустив их, закрыла за ними дверь. Окинув последним долгим взглядом лес и встающий над ним кривой нож месяца, Нора перекрестилась и вошла к себе в хижину.
Дом, показалось ей, стал меньше, словно съежился. Встав на пороге, Нора оглядела свое владение, все, что еще осталось у нее в этом мире. Как же переменилось это все за месяц, что нет Мартина! Каким пустым кажется дом. Грубые камни очага; дым от прежних огней закоптил заднюю стенку, чернеющую теперь треугольником толстого слоя сажи. Болтается на цепи ее котелок для картошки, плетеное решето прислонено к стене, у закопченного оконца мутовка для масла, а под ней столик с двумя треснувшими тарелками дельфтского фаянса и глиняными крынками для молока и сливок. Даже остатки ее приданого — настенная солонка, штамп для масла, раскладная лавка, вытертая до гладкости, — наводили уныние. От всего в доме веяло вдовством. Табак Мартина и его трубка в нише над очагом уже подернулись тонким слоем пепла. И пустуют старые низенькие скамеечки. Камыши на полу высохли, крошатся под ногами, давно пора новые настелить, а зачем? Лениво перебегали языки пламени в очаге — единственный признак жизни, да еще куры шебуршились на насесте да Михял вздрагивал во сне на ворохе вереска.
Вылитая Джоанна, подумала Нора, вглядываясь в его лицо.
Лицо спящего внука казалось нестерпимо гладким, бескровным, восковым. И отцовская ложбинка между подбородком и нижней губой, придающая рту капризную гримасу. Но волосы у мальчика — Джоаннины. Рыжеватые, мягкие. Мартин любил их. Разок-другой Нора, войдя, заставала мужа возле малыша, он гладил его волосы, как гладил он волосы их дочери Джоанны.
Нора убрала тонкие пряди со лба Михяла и на мгновение в жгучем тумане слез, застлавшем ей глаза, вообразила, что перед ней Джоанна. Стоит прищуриться — и вновь она молодая мать, сидит перед спящей дочкой. Вот медноволосая девочка вздыхает во сне. Единственное ее дитя дышит, цепляясь за жизнь. Такое послушное, с пушистыми волосами.
Она вспомнила слова Мартина, сказанные в ту ночь, когда родилась Джоанна. Шатаясь от усталости после бессонной ночи и выпитого виски, радостный, испуганный, голова кругом. «Крошка-одуванчик, — сказал он, гладя перышки волос на голове новорожденной, — береги себя, не то ветер подует, развеет тебя по горам и долам — и нет одуванчика».
Вспомнилась пословица: «Разбрасывать не собирать — дело нехитрое».
Нора почувствовала, как сдавило грудь. Ее девочка и муж ушли. Ветер унес их — не догнать. Они теперь в Божьих чертогах, там, куда она, стареющая, исхудалая, изможденная гнетом лет, должна была бы отправиться первой. Она услышала хриплое свое дыхание и отдернула руку от Михяла.
Дочке бы жить и жить. И быть такой, какой она встретила Нору в тот раз, когда они с Мартином, прошагав чуть ли не целый день, навестили Тейга и Джоанну в их хижине на болотах. В тот раз Нора впервые увидела дочь после свадьбы: и та так и светилась счастьем, когда стояла на взгорке, куда поднималась дорога, стояла с ребенком на руках на фоне цветущего утесника и неба, такого широкого, солнечного. Как же разулыбалась она при виде родителей, гордая, что теперь жена, что есть у нее ребенок!
«А это маленький Михял», — сказала она, и Нора обняла мальчика и заморгала, смахивая слезы, от которых защипало глаза. Сколько же было тогда ему? Не больше двух. Но он рос и был здоров и вскоре уже семенил, догоняя поросенка, который с визгом носился по сырому полу их тесной хижины.
— Да он, вот те крест, вылитая ты! — сказал Мартин.
Михял потянул Джоанну за юбку: «Мама!» И Нора обратила внимание, каким привычным легким движением Джоанна подхватила ребенка, как стала щекотать его, трепать по подбородку, пока он не зашелся в приступе смеха.
«Бегут годы-то, прямо галопом скачут», — пробормотала себе под нос Нора, а Джоанна только улыбнулась в ответ.
«Еще! — требовал Михял. — Еще!»
Нора тяжело опустилась на табуретку и уперлась взглядом в лицо мальчика, так не похожего теперь на того внука, который ей помнился. Она глядела на его приоткрывшийся во сне рот, на руки, поднятые над головой, на странно вывернутые запястья. Ноги Михяла не могут выдержать его веса.
Что же это случилось с тобой, думала она.
Как ужасна эта тишина в доме.
С того времени, как не стало Мартина, Нора ловила себя на том, что только и делает, что ждет его возвращения, одновременно мучась сознанием того, что он не вернется. Тишина все еще казалась непривычной. Не слышно было ни вечного посвистывания Мартина, ни его смеха. Ночи проходили без сна. Вытерпеть эти тягостные бессмысленные часы можно было только вжавшись в пролежанную им ямку в соломе, воображая, что это Мартин ее обнимает.
Так не должно было случиться. Мартин выглядел таким здоровым. Конечно, годы брали свое, как и у нее, но он легко нес свой возраст на крепкой спине, на жилистых ногах крестьянина. Он ничуть не обрюзг. Даже седой, с лицом, посеченным временем и непогодой, как, должно быть, и ее собственное, Мартин был полон жизни. Она считала, что он переживет их всех. И представляла, как станет умирать, а он терпеливо и чутко будет ухаживать за ней, сидя у смертного ее одра. Когда Нора бывала не в духе, то воображала его на своих похоронах, как он бросает комья глины на крышку ее гроба.
На поминках женщины уверяли ее, что скорбь со временем утихнет, и Нора в тот миг их ненавидела. А теперь поняла: существует пустота. Надо же — прожить всю жизнь и не заметить это море одиночества, поющее нежную песнь по умершим… Как приятно было бы тихо погрузиться в него и утонуть! Как легко сделать шаг и рухнуть в эту бездну. И какой там покой.
Она думала, что не переживет того летнего дня, когда после полудня вдруг приехал Тейг. Глаза его были пусты, в волосах блестела застрявшая мякина.
Джоанна умерла, сказал он. Умерла жена.
Джоанна, крошка-одуванчик ушла, улетела, как унесенное ветром семечко. Норе почудилось: колосящееся овсяное поле, и она в этом поле, и вдруг падает серп из рук. И мысль: «Ну вот. Прилив нахлынет, потом уйдет. Пусть и я уйду вместе с ним».
Если бы не Мартин… Он утешался Михялом, оставшимся без матери подкидышем, которого Тейг привез им в корзине для торфа. Именно Мартин заставлял ее заботиться о Михяле, лить молоко в этот пищащий, ненасытный ротик. Мартин полюбил малыша. И даже бывал счастлив с ним рядом.
«Краше в гроб кладут!» — сказала Нора про внука в тот вечер, когда они с мужем сидели, раздавленные горем. Наступали сумерки. Осеннее солнце клонилось к закату, и они оставили открытой створку двери, чтобы в хижину проникал розоватый вечерний свет.
Мартин поднял мальчика из корзины. Он держал его, как держат раненую птаху.
— Да оголодал он. Взгляни на его ножки.
— Тейг говорил, он разговаривать разучился. Уж полгода или больше, как молчит.
В ласковых объятьях деда мальчик успокоился, судорожные движения прекратились.
— Мы найдем ему доктора, и доктор вылечит его. Нора? Ты меня слышишь?
— Доктора мы не потянем.
Вспомнились сильные руки Мартина, с какой добротой гладил он мальчика по волосам. Грязь, въевшаяся в заскорузлые ладони.
Вот так же же, как Михяла, гладил он испуганных лошадей, нашептывая им что-то, ласково, спокойно. Даже в тот вечер, сраженный горем и тоской по дочери, Мартин оставался спокоен.
— Мы раздобудем доктора, Нора, — сказал он. И только потом голос изменил ему. — То, что не смогли мы сделать для Джоанны, мы сделаем для ее сына. Для внука нашего.
Нора глядела на пустую табуретку, на которой сидел Мартин в тот летний вечер.
Почему Господь не прибрал Михяла? Зачем оставил мне ребенка-калеку вместо здорового мужа, здоровой дочери?
Да чтоб вернуть Мартина и дочь, я бы этого мальчишку о стенку расшибла, подумала Нора и тотчас сама ужаснулась. Посмотрела на спящего ребенка, стыдливо перекрестилась.
Нет. Не годится сидеть понуро у очага, вертя в голове черные мысли, — так мертвых не приветишь. Ни дух дочери, ни мужнина душа, помилуй их Боже, посетив такой дом, не признают его своим.
Пока Михял спал, Нора, поднявшись, наполнила горшок водой из колодезного ведра и бросила туда столько картошки, сколько только могла себе позволить. Поставив ее вариться, занялась табуретками; расставила их вокруг очага, Мартинову — поближе к огню, табуретку Джоанны — рядом. Хоть они и скончались, думала она, но с Божьей помощью ей удастся вновь провести с ними эту ночь — единственную в году.
Когда картошка стала мягкой, Нора обсушила ее на решете и поставила кружку соленой воды посреди дымящихся картофелин. Съела одну-другую, проворно очищая их и макая в соленую воду — для вкуса и чтобы остудить. Затем она достала Мартинову трубку, выбила ее, продула черенок. Положила на табуретку.
Она прошлась по хижине, сняла паутину со стропил, поправила крест у окна и, занимаясь этим всем, позволила себе пуститься в воспоминания — о дочери, когда та была маленькой и жили они вместе, семьей. Вспомнила раннее ее детство, когда пухлощекая еще Джоанна играла с собранными в лесу орехами, каштанами и желудями. Ей вспомнилось, как делали они фонарики из картошки. Мартин вырезал ножом сердцевину картофелины, а получившийся фонарик передавал Джоанне, чтоб та выскабливала на нем рожицу: вместо глаз дырки, открытый рот…
К тому времени, как Нора закончила все приготовления к Самайну, обычные вечерние звуки — мычанье скотины, крики и приветствия мужчин, возвращающихся с работ домой, — давно замерли, и в наступившей тишине слышались только потрескиванье пламени в очаге и мирное дыхание Михяла. Она налила в деревянные ковшики сливок для Мартина и Джоанны и вздрогнула от внезапного крика совы в амбаре. Поставив ковшики возле табуреток и встав на колени, она прочитала вечерние молитвы. Не погасив лучин и не будя внука, она легла в постель с бутылкой потина и понемножку потягивала из горлышка, пока жар от спиртного не сморил ее. Большой огонь, весь вечер пылавший в очаге, высушил воздух в хижине, и тепло погрузило Нору в глубокий тяжелый сон.
Была полночь, когда ее разбудил звук. Глухой удар, точно кулаком в грудь. Нора села в постели, в голове пульсировала боль. Это не Михял. Стучат снаружи. И ей это не чудится.
Выглянув из своего покойчика, она увидела силуэт спящего ребенка. В очаге ярко пылал торф, и все казалось багровым.
И опять этот звук. Снаружи кто-то есть. И хочет войти. С крыши донесся шум, словно кто-то швырнул в дом камнем.
Кровь стремительно ринулась по жилам.
Может, это Мартин? Или Джоанна? От страха у Норы пересохло во рту. Спустив ноги на пол, она поднялась, огляделась, пошатываясь. Она была пьяна.
Теперь звук превратился в позвякиванье, словно стучат ногтем по жестяному ведру. Она прошла в большую комнату — никого.
И опять стук. Нора тихонько вскрикнула. Не надо было ей пить!
Послышался смех.
— Кто там? — слабым голосом спросила она.
В ответ опять приглушенный смех. Смеялся мужчина.
— Мартин? — прошептала она.
— Хеллоуин-стук — пенни на круг! Не впустишь — стукну! Тук! — По глиняной стене хижины забарабанили в полную силу.
Нора распахнула дверь. При свете высокого тоненького серпа луны Нора увидела перед собой три мужские фигуры; лица мужчин были прикрыты матерчатыми масками. Дырки вместо глаз и рта делали эти маски очень страшными.
Нора испуганно попятилась от двери, и средний из молодых людей одним прыжком очутился в хижине, впрыгнул и засмеялся.
— Хеллоуин-стук! — Он сделал несколько неуклюжих танцевальных движений, изображая джигу и громыхая болтавшейся у него на шее длинной связкой орехов. Приятели, стоявшие за его спиной, загоготали, но смех стих, когда Нора громко, в голос, заплакала. Плясун остановился, стянул с лица маску, и Нора узнала Джона О’Шея, внука Пег.
— Вдова Лихи, я…
— Да пропади вы все пропадом! — Она стояла бледная, кровь отлила у нее от лица.
Джон оглянулся на своих приятелей. Те, раскрыв рты, уставились на Нору.
— Убирайся, Джон! — прошипела Нора.
— Мы не хотели пугать тебя.
Нора хохотнула коротким, лающим смехом. Приятели Джона, тоже сняв маски, косились на него. Парни свои, из долины, все трое. Не дочка. Просто озорные парни в масках.
— Ты что это, вдов теперь дразнить придумал? А, Джон? — Нора дрожала как осиновый лист.
Джон выглядел смущенным.
— Так Самайн же. Мы за пирогами для духов.
— И денежками, — пробормотал его приятель.
— Мы ж для смеха только, а так ничего!
— И вы еще смеетесь! — Нора замахнулась на парней, словно желая ударить, и те испуганно отступили в открытую дверь. — Бездельники! Среди ночи крадетесь к бабам, только-только овдовевшим! Будите добрых людей, пугаете нечестивыми вашими шутками!
— Ты мамó[12] не скажешь? — Джон смущенно теребил в руках маску.
— Уж Пег-то об этом первая узнает! А ну прочь отсюда! — И, схватив табуретку, Нора запустила ею вслед улепетывавшим со всех ног парням. Захлопнув дверь и заперев ее для верности на задвижку, она прижалась к ней лбом. На крохотный миг она вообразила, что это Мартин с Джоанной стоят у ее двери. Как ни глупо, но ей даже виделись их лица. Появление парней с их гадкими масками испугало ее, но больнее всего было от рухнувшей надежды.
Старая пьяница льет слезы оттого, что духи не пришли, подумала Нора.
Проснулся Михял и захныкал в своей вересковой постели, тараща круглые темные глазенки. Нора, пошатываясь, добрела до него и тяжело опустилась на пол. Гладя внука по голове, она попыталась убаюкать его колыбельной, как делал Мартин, но мотив звучал так уныло, да и слова она помнила нетвердо. Вскоре она поднялась, взяла брошенную на постель куртку Мартина. Завернувшись в нее и вдыхая застарелый запах горелой мать-и-мачехи, Нора устало рухнула рядом с Михялом.
— Спаси тебя Господь и Дева Мария, Нэнс!
Подняв глаза от ножа, которым орудовала, Нэнс увидела в двери закутанную в платок фигуру.
— Старая Ханна?
— Старая, и с каждым днем все старее.
— Входи, и Бог тебе в помощь.
Нэнс помогла гостье войти и добраться до табуретки возле огня.
— Ради себя ли ко мне пожаловала?
Женщина, кряхтя и постанывая, уселась на табуретку и покачала головой:
— Нет, ради сестры. Лихорадка у ней.
Нэнс подала Ханне чашку парного молока и кивком предложила угоститься:
— Пей и рассказывай — давно ли она хворает и ест ли.
— Не ест ничего, только водичку пьет.
— От такой беды есть у меня средство.
— Вот уж спасибо!
Ханна отпила глоток и показала на нож в руке у Нэнс:
— Пришла и отрываю тебя от дела…
— Да я всего лишь чертополох рубила. Для кур. А дело мое — людей от лихорадки пользовать.
Оставив нож, Нэнс отошла в угол и достала оттуда полотняный мешочек. Развязав кожаную тесемку, она бережно, кончиками пальцев, принялась сыпать оттуда какую-то травку в горлышко темной бутылки, что-то бормоча себе под нос.
— Что это? — спросила Ханна, когда бутылка заполнилась, а Нэнс закончила священнодействие.
— Таволга.
— Она ее вылечит?
— Как придешь к ней, брось щепоть сухих цветов в кипяток и поставь на огонь томиться. Дашь ей выпить три раза отвару, и будет она здоровая, как прежде.
— Спасибо, Нэнс.
Видно было, что у Ханны словно камень с души свалился.
— Но не оглядывайся, пока на дорогу не выйдешь. И в сторону Дударевой Могилы и боярышника не смотри, не то в бутылке пусто станет.
— Ладно, хорошо. — Лицо Ханны было очень серьезно.
— А сейчас допивай молоко, и да поможет тебе Господь в пути.
Женщина до дна осушила чашку и, вытерев рот тыльной стороной ладони, встала и потянулась за бутылкой.
— Помни, что я сказала: не оглядывайся!
— Хорошо, Нэнс. И благослови тебя Боже!
Нэнс проводила Ханну до порога и помахала ей вслед на прощание.
— Крепче держи бутылку-то! Зажми ее в кулаке!
Стоя в дверях, она глядела, как старуха, миновав лес, направляется к низине — глаза опущены, платок плотно охватывает голову, точно это шоры, не дозволяющие бросить даже беглый взгляд на волшебное убежище и боярышник, на красные ягоды, что посверкивали в ветвях, как капли крови.
Не так уж часто женщины заходили к ней за целебными травами. Большинство жительниц долины и сами прекрасно знали, чем следует лечить обычные недуги, синяки и ссадины, которыми отмечает нас жизнь: дикий мед помогает от воспаления глаз и ячменя, окопник — от ломоты в костях, а если голова болит — надо сунуть в нос листья тысячелистника, это отворит кровь, и тотчас полегчает. А если надо вырвать гнилой зуб или вправить плечо, люди шли к Джону О’Донохью, кузнецу и силачу. К ней же, к Нэнс, обращались, только когда домашние средства — припарки из гусиного помета и горчицы или отвар королевского папоротника — не могли одолеть заразу или утихомирить кашель. Шли, когда страх вырывался из узды, когда дитя бессильно лежало у матери на руках, когда хворь не брали ни черешки цикория, ни листья толокнянки, ни даже соленые лисьи языки.
На этот раз дело непростое, говорили тогда Нэнс, показывая скрученную ступню или свистя забитыми легкими — это меня сглазили, говорили они. Это все добрые соседи.
За травами приходили в основном мужчины. Привычные к работе в поле и непривычные к виду собственной крови. Не доверявшие докторам или не имевшие денег на их флаконы с ярлычками. Выросшему на земле казалось спокойней лечить свои раны растениями, среди которых он сам играл еще мальчишкой, и доверяться рукам морщинистым, как у родной бабки, что сидела когда-то у очага в доме его детства.
Но знала Нэнс и то, что в большинстве своем люди шли к ней вовсе не за травами. Недужные телом приходили обычно при свете дня с кем-нибудь из родных. Но жаждавшие совета и помощи другого рода, те, кто обнаружил вдруг, что жизнь их странным образом пошла не так, как положено, кто не мог даже точно указать на причину своих бед, приходили в неверном свете едва забрезжившего утра либо в сумерках, когда все располагает к одиночеству, люди разбредаются по своим углам и отправившихся к ней никто не хватится. Нэнс знала, что не закрепляющие чаи, не мази из крестовника и жира, а эти тайные посещения сохраняют за ней право и дальше жить в ее лачуге. Вот такие люди особо нуждались в ней — в ее времени, голосе, прикосновении ее рук к своим. Годы Нэнс и ее одиночество они считали верным признаком ее дара, ее волшебной силы.
Какая другая женщина станет жить на отшибе с одной лишь козой да сухими травами под потолком? Какая другая водит дружбу с птицами и обитателями иного, потаенного мира? Кто по доброй воле выберет такую жизнь, не захочет ни детей, ни мужской ласки? Только та, что избрана переходить за черту. Та, что каким-то неведомым образом приобщилась к тайнам, что в переплетении цепких ветвей шиповника умеет различить письмена Господни.
Нэнс глубоко вздохнула, втянув свежий и хрусткий осенний воздух и, поклонившись в сторону урочища фэйри, вернулась в хижину к своему чертополоху.
Нора отправилась в Килларни довольно рано, перекинув ботинки через плечо, чтоб поберечь их и не испачкать в дорожной грязи. Пока она шла, сумеречный рассвет сменился яркой дневной белизной, галки подняли свой галдеж, приветствуя ноябрьское утро.
Как странно, что вернуться ей предстоит не одной, а с чужим человеком, с которым ей потом жить, и беседовать, и делить тепло очага. С тем, кто поможет скоротать тягостные зимние дни и дождаться прихода весны с ее радостями — пением птиц и началом работ.
Нанять служанку посоветовала ей Пег О’Шей. После того случая в канун Самайна горе Норы переросло в праведный гнев, и она как буря ворвалась в жилище Пег.
— Я твоему мальцу, Джону этому, ноги повыдергаю! — вскричала она. — Колобродить среди ночи, на вдов и детишек страх нагонять, сон мой тревожить! Я безмужняя теперь, Мартина только-только схоронила, землю пахать теперь мне одной, ну еще племянники, может, подсобят, и тут Джон со своими головорезами в дверь барабанят и маски нацепили в придачу!
Нора с дрожью вспоминала потом, на обратном пути, слова, которые швыряла в лицо Пег:
— Да его повесить мало за такие шуточки! В могилу меня свести решили? Этого они хотели, паршивцы?
— Да нет, что ты, успокойся! — Пег взяла руку Норы в свои, легонько сжала. — Послушай, парням этим все равно, кого пугать — вдов, не вдов… И хорошо еще, что в масках они, не то ты бы еще и не так кричала. Ты Джона-то нашего хорошо разглядела? Лицо его видела? Чисто шматок сала на вертеле! Стоит поглядеть, как девчонки от него шарахаются! Ах, брось ты, Нора. Мы ж родня и всякое такое… Я поговорю с ним.
Тогда-то Пег мягко и посоветовала Норе подыскать себе кого-нибудь, с кем жить. Когда Нора скривилась в ответ на предложение съехаться с Дэниелом и Бриджид, старуха придумала, чтоб Нора нашла себе кого-нибудь на ноябрьской ярмарке, где нанимают работников.
— Подыщи себе девушку на зиму, в прислуги, — сказала она. — И тебе подспорье, и за Михялом присмотрит, и вообще… Ведь нелегко одной-то с малышом увечным управляться. Раньше как было: муж твой — в поле, ну и делает, что ты попросишь, а ты дома с мальчиком, верно? Ну а теперь как? Не отлучиться даже продать яйца или масло!
— Яйца и масло я могу продать скупщикам, они сами приедут.
— А летом, когда ты в поле? Когда работаешь там за двоих, чтоб сводить концы с концами?
— О лете я еще не загадывала.
— Стало быть, думаешь ты, что одной горе горевать лучше? А ведь есть девушки с севера, чьи семьи с голоду помирают! Разве не благом будет знать, что помогла ты, к себе взяла одну такую девушку? И не благо ли, что зимою в доме твоем еще одна живая душа прибавится?
В сказанном Пег был смысл. В тот же день, рухнув на постель и изнемогая от рыданий, которым вторил крик Михяла, Нора поняла, что сил у нее больше нет. Она не Мартин. Внук ей не в радость, а в тягость. Ей нужен кто-то, кто умел бы успокаивать орущего ребенка, кто помог бы выплыть ей, тонущей в волнах горя. И этот «кто-то» должен быть не здешний, не из жителей долины, чтоб не судачил с соседями о скрюченных ступнях малыша и не проболтался бы о том, что мальчик слаб умом.
До Килларни было десять миль пути через неровную болотистую, расцвеченную пятнами осенней листвы равнину, мимо маленьких, теснившихся к дороге мазанок, внутри которых хлопотали куры и орали петухи, требовавшие, чтоб их выпустили на двор. Нору обгоняли грохочущие дощатые телеги, запряженные ослами. Мужчины, не выпуская из рук вожжей, кивали Норе, в то время как их сонные, закутанные в платки жены, не поворачивая головы, продолжали глядеть вдаль, где за болотными трясинами маячили вершины гор: Мангертон, Крохейн, Торк — знакомые очертания этих громад лиловели на фоне неба.
Нора рада была выбраться из дома и шагать час за часом, проветривая голову и вдыхая свежий воздух. С тех пор как умер Мартин, она не покидала хижины, отказывалась участвовать в вечерних посиделках, куда прежде хаживала попеть и послушать истории. Нора не хотела себе признаться, что злилась на женщин долины. Их назойливое сочувствие казалось неискренним, а когда некоторые появлялись возле ее двери с едой и соболезнованиями и пытались развлечь ее, Нора, стесняясь Михяла, не пускала их в дом, не приглашала посидеть с ней у огня. С тех пор они, с жесткой последовательностью, как умеют делать зрелые женщины, мало-помалу стали удалять ее из своего круга. В глаза это не бросалось. Встречаясь с ней по утрам у родника, они по-прежнему здоровались, но, поздоровавшись, больше не обращали на нее внимания и разговаривали только друг с другом, давая Норе понять, что в их обществе она лишняя. Они ей не доверяли, и она их понимала. Тем, кто хоронится от людей, запираясь в своем углу, видно, есть что скрывать, и таят они, должно быть, нечто постыдное: удары судьбы, нищету, болезнь.
Видать, прознали про Михяла, думала Нора. Подозревают, что с ним не все ладно.
Полная и безнадежная беспомощность внука угнетала Нору, не давала дышать. И страшила. Накануне вечером она попыталась поставить его на ноги и помочь сделать шаг-другой. Она держала его так, чтобы ступни мальчика касались пола. Но он лишь закидывал рыжую голову и, выставив бледную длинную шейку и острые ключицы, орал так, словно она вонзала булавки ему в пятки. Наверно, ей следует опять позвать к нему доктора. В Килларни их полно, но, привыкнув к большим кошелькам туристов, что приезжают на озера, тамошние врачи вряд ли захотят взглянуть на Михяла за те деньги, что она сможет им предложить. Да и тот первый доктор ничем ему не помог. Так что отдавать ради этого последний кусок — дело пустое.
Нет. У них в долине выбор у недужного невелик: либо священник, либо кузнец, либо уж могила.
Либо Нэнс, произнес тихий голосок в голове.
В Килларни кипела жизнь — шумная и дымная. Нью-стрит и Хай-стрит кишели нищими и детьми-попрошайками, клянчащими хоть полпенни; тесные, грязные улицы подавляли многолюдьем и нависающими домами.
Те, кто приехал продать свой товар, толпились, отвоевывая себе место возле деревянных лавок, бондарен и сыромятен; тачки, упиравшиеся в повозки и телеги, груды бочек и мешков создавали заторы. Большинство фермеров приехали на ярмарку нанять работников, но были и такие, что пригнали на продажу подросших с осени подсвинков и мелких рогатых коров, которые важно и неспешно шествовали по улице, меся грязь копытами. Немощеные дороги были в ямах и выбоинах и сверкали на солнце лужами. Мужчины несли на спине корзины торфа, добытого летом в черных болотах у гор, а женщины торговали картофелем, маслом и выловленными в ручьях лососями. В свежем воздухе чувствовалось приближение зимы, а в ярмарочном настроении ощущалась напряженная серьезность. Надо было успеть продать, купить, упаковать, сложить в мешки, разместить в сараях и амбарах, пока зима еще не навострила зубы и не оскалилась морозами и ветрами. Фермеры побогаче помахивали терновыми тросточками и покупали себе башмаки, а подвыпившие парни, скинув сюртуки, горели единственным желанием — подраться. Женщины считали яйца в корзинах, перебирая их, ощупывая кремовую скорлупу, а по улицам и в темных закоулках молча ждали те, кто решил наняться в работники.
Стоя в стороне от повозок и провизии, они вскидывали глаза на каждого из проходящих мимо мужчин и женщин. Парней среди них было больше, чем девушек, были даже дети, никак не старше семи лет. Они ежились друг подле друга, в позах, исполненных одновременно надежды и упрямого нежелания. Каждый из них держал что-нибудь, указывающее, зачем он здесь стоит, — узелок с вещами, сверток с едой или вязанку хвороста. Нора знала, что многие из свертков пусты. Из-за спин детей выглядывали отцы и матери, искали глазами фермеров в толпе прохожих. Родители вели переговоры с нанимателями от имени детей, и Нора, не слыша слов, понимала по застывшим улыбкам: нанимателям рассказывают, какие это честные и дюжие работники. Матери кусали губы, крепко вцепляясь в плечи сыновей: не скоро суждено им увидеться опять.
Внимание Норы привлекла женщина с землистым лицом. Рядом стояла ссутулившись девочка лет двенадцати-тринадцати, надрывавшаяся влажным, болезненным кашлем. Нора видела, как женщина украдкой прикрывает рукой рот дочери, чтобы было потише, как пытается помочь ей распрямиться. Больную никто не брал. Кому нужна хворь в доме? Кто станет тратиться на гроб для чужой девчонки?
Взгляд Норы упал на высокую девочку с узелком под мышкой, стоявшую поодаль от других детей. Прислонившись к повозке, она хмуро наблюдала, как фермер разглядывает зубы рыжеволосого парня, которого наметил себе в работники. В девочке этой, в густой россыпи веснушек на ее лице, в легкой ее сутулости, словно она стесняется своего роста, было что-то располагающее, милое. Не красавица, но Нору к ней почему-то потянуло.
— Доброго тебе здоровья.
Девочка подняла глаза, и тут же, отступив от повозки, выпрямилась.
— Как тебя зовут? — спросила Нора.
— Мэри Клиффорд. — Голос у девочки был негромкий, хрипловатый.
— Скажи, Мэри Клиффорд, тебе работа нужна?
— Нужна.
— А откуда ты родом? Родители где живут?
— Возле Аннамора. У болота.
— А лет тебе сколько?
— Не знаю, миссис.
— Но на вид лет четырнадцать.
— Да, миссис. Точно, четырнадцать. Пятнадцать в следующем году, Бог даст, будет.
Нора кивнула. Подумала, что, может, девочка и старше, если судить по росту, но четырнадцать — возраст подходящий. О замужестве пока что мечтать не будет.
— Братья и сестры у тебя есть?
— Да, миссис. У меня их восемь.
— И ты старшая, да?
— Старшая из девочек. А вон там — это мой брат. — Она показала пальцем на стоявшего через дорогу рыжеволосого парня.
Наниматель-фермер тем временем приподнял ему картуз, чтобы осмотреть волосы. Обе они глядели, как грубые руки ерошат рыжую шевелюру и вертят голову мальчишки туда-сюда в поисках вшей. Щеки парня горели от стыда.
— А отец ваш или мать тоже здесь?
— Нет, мы с братом одни отправились. — Девочка помолчала. — Мама с папой дома с маленькими возятся, да и работа у них.
— А ты здорова? Больных в семье вашей нет?
Девочка покраснела.
— Я здорова, миссис. — Она открыла рот, желая показать Норе зубы, но Нора смущенно замотала головой.
— А доить, Мэри, ты умеешь? И масло сбивать?
— Умею. У меня руки к этому очень даже привычные.
Она вытянула вперед руки, словно вид вспухших костяшек и натруженных ладоней мог послужить доказательством ее умелости.
— А за маленькими присматривать приходилось?
— Я всегда помогала маме с ребятами. Если восемь нас, как же без этого? — Девочка подалась вперед, шагнув к Норе, словно из боязни, что та утратит к ней интерес. — А еще я пряду хорошо. И встаю спозаранку. Прежде птиц просыпаюсь, так мама говорит. Я и стирку на себя беру, и шерсть чесать. У меня спина сильная. Хоть весь день напролет могу одежду выбивать.
Нора не могла сдержать улыбки, слушая эти пылкие уверения.
— Ты раньше-то в работницах бывала?
— Да, миссис. Меня этим годом на ферму, что к северу отсюда, на летний срок брали.
— И как тебе? Понравилось?
Мэри помолчала, облизнула пересохшие губы.
— Трудная там была работа.
— Ты не захотела остаться там, да?
Мэри пожала плечами:
— Я на другую ферму хочу.
Нора кивнула, превозмогая внезапную головную боль. Прежде ей не приходилось так бесцеремонно расспрашивать незнакомых девчонок. Помощников обычно нанимал Мартин. Мужчины, которых он приводил в дом, были тихими, они не боялись работы в поле, а в доме точно стеснялись: и съеживались, прижимая руки к бокам, будто боялись ими что-нибудь сломать. Ловко, одним движением очищая от шелухи картофелину, они уже искали глазами следующую. Они бубнили розарий, спали на полу и вставали еще до света. Эти мужчины — широкоплечие, с задубевшими ногтями — пахли сеном и луговыми травами и редко улыбались. Одни возвращались год за годом, другие — нет. Нанимать же работницу им с Мартином никогда не было нужды.
Нора решила повнимательнее рассмотреть девочку, и та глянула на нее в ответ — ясноглазая, зубы стиснуты от холода. Выношенное платье было ей явно мало — запястья далеко торчали из рукавов, лиф жал в плечах и спине, — но опрятное, видать чистюля. Волосы короткие, до подбородка, тщательно расчесанные, вшей не видно. Явно хочет понравиться, и Нора представила себе сырой бохан, где девочка выросла и где остались восемь ее братьев и сестер. Вспомнилась Джоанна и гадкие шепотки и слухи, что, дескать, дочь Норина побирается, просит еду у соседей. У девочки волосы как у Джоанны. И у Михяла такие же — светло-рыжие, точно летняя заячья шкурка или опавшие сосновые иглы.
— Пойдешь ко мне на зиму, а, Мэри? Дочкина сына нянчить. Сколько попросишь за полгода?
— Два фунта, — без запинки ответила Мэри.
Нора прищурилась:
— Мала ты еще для таких денег. Полтора.
Мэри кивнула, и Нора положила ей на ладонь шиллинг. Девочка проворно сунула монету в узелок и, стрельнув глазами в брата, важно кивнула, дескать, все в порядке.
Фермер, что осматривал брата, отошел прочь, так его и не взяв, и теперь парень одиноко стоял в толпе и курил. Он провожал их взглядом и в последнюю секунду поднял руку в знак прощания.
До дома Норы они шли небыстро. Показалось солнце, ярко осветившее следы человеческих ног и колеи от бесчисленных телег и повозок.
Вся округа, двинувшаяся в Килларни с рогатым скотом и домашней птицей, превратила дорогу в сплошное месиво. Грязь поблескивала на солнце.
Нору не тревожило, что они с Мэри идут так медленно. Сделав дело — наняв себе помощницу, — она чувствовала облегчение. Шла она по обочине, вдоль канав, то и дело наклоняясь сорвать мокрицы для кур. Заметив это, Мэри тоже стала рвать мокрицу. Ступала она аккуратно, обходя грязь и камни, стараясь не обжечься крапивой.
— А не боялась ты одна затемно пускаться в такой долгий путь?
— Я с братом была, — просто ответила Мэри.
— Ты храбрая девочка.
Мэри пожала плечами:
— Будешь храброй. Поддашься страху — работу упустишь. Даром простоишь на ярмарке весь день.
После этого они шли молча, через болотистую низину и узкие полоски леса, мимо деревьев, уже оголившихся в преддверии зимы, мимо темных зарослей глянцевитого остролиста. Высокая трава на обочине побурела, дальние холмы, где между скал рос вереск, молчаливо высились на горизонте. И всю дорогу их сопровождал запах торфяного дыма, винтом поднимавшегося от далеких очагов.
До хижины Норы они добрались уже под вечер, когда солнце склонялось к закату. Мгновение обе постояли во дворе, переводя дух после трудного подъема по склону, и Нора видела, что девочка осматривается, оценивая новое свое обиталище. Взгляд ее скользнул с тесной, на два покойчика, хижины на маленький хлев и нескольких кур, бродивших по двору. Небось рассчитывала девчонка увидеть дом побольше и крытый не камышом, а пшеничной соломой, а во дворе — откормленную свинью, а то и ослиные следы, а вместо этого увидела одинокую лачугу с единственным окошком, заткнутым соломой, с позеленевшими от мха белеными стенами да каменистыми бороздами картофельной делянки.
— Я корову держу. Так что в молоке и навозе недостатка нет.
Они вошли в хлев, в теплую темноту и запах мочи и навоза. Внизу темнел силуэт лежащей на соломе коровы.
— Тебе надо будет кормить и поить ее, доить по утрам и сбивать масло раз в неделю. Вечерами доить буду я.
— Как ее звать?
— Бурая, так мы… я ее зову.
Нора глядела, как обветренные руки Мэри потянулась к морде животного, потрепали уши. Бурая повернулась на бок, перебирая костлявыми ногами.
— Она много молока дает?
— Хватает, — отвечала Нора. — С Божьей помощью.
Выйдя опять на меркнущий уже свет, по размытой и грязной тропке они направились к дому. Завидя их, сбежались куры.
— Куры у нас ничего себе, — сказала Нора. — Вот дай-ка им мокрички. Они ее страсть как любят. Сейчас несутся они не шибко, но есть у меня несколько надежных курочек, те всю зиму яйца дают. — Она бросила строгий взгляд на Мэри: — Не вздумай таскать яйца. И масло тоже. Не то из жалованья вычту. Ты ешь-то много?
— Лишнего не съем.
— Хм. Ну, пошли.
Распахнув створку двери, Нора поздоровалась с Пег О’Шей, сидевшей у огня с Михялом на руках.
— Пег, вот это Мэри.
— Храни тебя Боже, и добро пожаловать. — Пег окинула Мэри оценивающим взглядом. — Ты небось из Кленси, вон какая рыжая.
— Из Клиффордов. Я Мэри Клиффорд, — ответила девочка, стрельнув глазами на Михяла. И осталась стоять с открытым ртом.
— Клиффорд, значит? Ну и слава богу, нам что Клиффорды, что Кленси. А издалека ли будешь?
— Она на толкучную ярмарку нынче утром еще затемно отправилась, — пояснила Нора. — Из Аннамора. Он в двенадцати милях отсюда, а то и больше.
— И всю дорогу пешком шла? Матерь Божья, так ты, верно, на ногах не стоишь от усталости!
— У ней ноги крепкие.
— Да и руки, как видно. Вот, держи его. Это Михял. Нора, поди, уже все про него рассказала…
Пег приподняла Михяла, жестом приглашая Мэри подойти поближе.
Мэри глядела во все глаза. Нос Михяла был в корках, в уголке рта сохла слюна. Когда Пег подняла его, чтоб передать с рук на руки, мальчик завопил, будто его бьют.
Мэри попятилась:
— Что это с ним?
В наступившей тишине слышались только гортанные стоны Михяла.
Вздохнув, Пег положила мальчика обратно себе на колени.
Покосившись на Нору, ногтем соскребла с лица Михяла засохшую слюну.
— О чем ты? Что с ним не так? — В голосе Норы слышалась угроза.
— Чего ему неможется? Чем недоволен? И почему кричит так жалобно? Он что, не умеет говорить?
— Он слабенький просто, вот и все, — осторожно сказала Пег.
— Слабенький, — повторила Мэри. Она все пятилась и пятилась, пока не очутилась в дверном проеме. — А он заразный?
Из горла Норы вырвался глухой рык:
— Ишь, смелая нашлась — спрашивать такое!
— Нора…
— Заразный он, слышала, Пег? Да как только у ней язык повернулся!
— Я ж ничего такого… Просто с виду он…
— Что он «с виду»?
— Нора… Спрос-то не беда… — Пег плюнула в краешек передника и обтерла Михялу лицо.
— Я только… — Мэри ткнула пальцем, указывая на ноги Михяла, которые обнажила задравшаяся до пупа рубашонка. — Ну хоть ходить-то он может? — Губы девочки дрожали.
— Она ж ребенок еще, Нора, — тихо сказала Пег. — Подойди сюда и сама посмотри, Мэри Клиффорд. Никакой заразной болезни у него нет. И вреда от него никакого тебе не будет… Ведь это просто дитя. Маленькое и безобидное.
Мэри кивнула, с трудом проглотив комок в горле.
— Ну, подойди же. Глянь-ка на него как следует. Он же славный малыш, ей-богу…
Мэри робко, из-за плеча Пег, разглядывала мальчика. Полузакрытые глаза ребенка, скошенные на кончик вздернутого носа, вялые губы.
— Ему больно? — спросила Мэри.
— Нет, не больно, нет. Он и смеяться может, и садится сам, без поддержки, может двигать руками и играть с разными вещами.
— А сколько ему?
— Ну… погоди-ка… — запнулась Пег. — Года четыре. Так ведь, Нора?
— Он перышки любит, — еле слышно произнесла Нора. И неуверенно опустилась на шаткую табуретку напротив Пег. — Перья…
— Да, точно. Четыре ему. И он любит перышки. И желуди. И бабки. — Пег старалась говорить весело. — Вот только ножки у него подкачали.
— Он ходить не может, — хрипло сказала Нора. — Раньше мог, а теперь разучился.
Мэри, опасливо взглянув на мальчика, плотнее сжала губы. Потом сказала:
— Михял? Я Мэри… — Она перевела взгляд на Нору — Он что, стесняется?
— Он не может сказать нам, стесняется или нет. — Нора помолчала. — Мне следовало предупредить тебя.
Мэри тряхнула головой. От болотной сырости по дороге волосы ее закудрявились, и она казалась еще младше — маленькая испуганная девочка. И Нора внезапно рассердилась на себя. Ведь это тоже еще дитя, а я ору на нее, чужая тетка.
— Слушай, ты ведь такой путь проделала, а я тебе даже попить не предложила. Ты ж небось от жажды помираешь…
Встав, Нора долила воды из ведра в горшок над очагом.
Пег легонько стиснула плечо Мэри:
— Давай положим его. Сюда вот, на вереск. Далеко-то он не уйдет.
— Я могу его взять. — Сев рядом с Пег, Мэри переложила Михяла себе на колени. — Ой, какой худой! Косточки одни! И легкий как перышко!
Женщины смотрели, как Мэри поправила на Михяле рубашку, прикрыв ему ноги, а затем укутала их собственным платком, сняв его с головы.
— Вот так. Теперь тебе будет полегче.
— Что ж. Мы рады, что ты у нас есть, Мэри Клиффорд. Всего тебе хорошего, и да благословит тебя Господь. А я лучше пойду к себе.
И, бросив на Нору многозначительный взгляд, Пег заковыляла к двери и вышла, оставив их одних.
Голова Михяла упиралась теперь Мэри в ключицу. Девочка неловко обняла его.
— Он весь дрожит, — сказала она.
Налив в два ковшика сливок, Нора принялась готовить картошку на ужин. Что-то сжимало ей горло точно веревкой, не давая вымолвить ни слова. Прошла не одна минута, прежде чем из-за ее спины донеслось неуверенное:
— Я уж постараюсь для вас.
— Надеюсь, что постараешься, — с трудом выдавили из себя Нора. — Очень надеюсь.
Позже тем же вечером, когда, закончив свою молчаливую трапезу и загнав кур на ночь, они раздвигали лавку и клали на нее соломенный тюфяк и одеяло, Нора сказала:
— Тебе тепло будет здесь у огня.
— Спасибо, миссис.
— И Михял будет с тобой рядом спать, для тепла.
— А он разве не в колыбели? — спросила Мэри, кивнув в сторону грубой плетенки из ивовых прутьев.
— Он вырос из нее. Тесно ему там. Да, и последи, чтоб он укрыт был хорошенько, он ночью все тряпье с себя скидывает.
Мэри взглянула на Михяла. Мальчик сидел, прислоненный к стене, голова его свесилась на плечо.
— Утром мы пройдемся чуток, и я покажу, где что в долине. Тебе ж надо знать, где родник. И место хорошее покажу, где лучше встать на речке белье полоскать. Там и другие девушки будут, с которыми тебе не вредно познакомиться.
— Михял тоже с нами пойдет?
Нора пронзила девочку взглядом.
— То есть вы его дома оставите или с собой возьмете? Ножки-то ведь у мальчика…
— Я не люблю его из дому вытаскивать.
— Что ж, вы его одного оставите?
— И не люблю, когда толкут воду в ступе и болтают пустое.
И, подняв лохань с грязной водой, в которой они мыли ноги, Нора открыла дверь и, кликнув фэйри «берегись», выплеснула воду за порог.
Глава 4 Ясень
— КТО ТАМ? Душа живая аль из мертвых кто?
Приоткрыв дверь бохана, Питер О’Коннор просунул голову под низкую притолоку. В руке он держал бутылку:
— Уже и неживой, до того в глотке пересохло!
Нэнс, кивнув, пригласила его войти:
— Ну, садись, Питер. Рада тебя видеть.
— Хорошо Мартина помянули. И ты свое кыне как красиво выводила, Нэнс!
Питер сел возле огня. Взяв грубо кованные щипцы Нэнс, выудил горящий уголек из очага и зажег трубку. «Да смилуется Господь над душами усопших», — прошептал он и сосал трубку, пока табак в ней не занялся и в воздух не поплыли кольца дыма.
— С чем сегодня пожаловал, Питер? Все плечо покоя не дает?
Питер покачал головой:
— Нет, плечо в порядке.
— Так что ж тогда? Глаза?
Когда мужчина на вопрос ее не ответил, Нэнс уселась поудобнее на своей табуретке и приготовилась терпеливо слушать.
— Сны мне снятся, вот что, Нэнс, — нарушил наконец молчание Питер.
— Да неужто сны…
— Не знаю уж, к чему бы они, — сквозь зубы процедил Питер. — И всё сильные такие.
— И что, донимают они тебя?
Питер глубоко затянулся трубкой.
— С тех самых пор донимают, как увидел я Мартина бездыханным на перепутье.
— Тревожные сны-то?
— Хуже некуда. — Питер поднял взгляд от огня, и Нэнс заметила, как потемнел он лицом: — Мерещится мне, будто беда на нас надвигается, Нэнс. Снится то скотина окровавленная, с перерезанным горлом, кровь на землю капает. — Он покосился на козу. — То будто тону я. Либо висельник привидится. А просыпаюсь точно от удушья.
Нэнс ждала, что еще скажет Питер. Но тот сидел молча, подтянув колени к самому подбородку, и Нэнс жестом показала на принесенную им бутылку.
— Так выпьем, что ли?
Вынув пробку, она передала бутылку Питеру.
Он хорошенько отхлебнул, передернул плечами, вытер рот.
— Крепкий потинь, что надо… — пробормотала Нэнс, в свою очередь приложившись к бутылке. И, отсев к огню, приготовилась слушать. Бывает, людям только и надо, чтоб их выслушали. Не торопя, в тишине, чтоб не было рядом разговоров, болтовни всяких там соседей. Ничего чтоб не было — лишь горящий очаг и женщина. Такая, что не вызывает желания. Такая, что не выболтает подружкам твоего секрета. Старуха, которая умеет слушать и знает толк в куреве и выпивке. Ради этого стоит постараться, выскользнуть из дома незаметно, пройти по парующим полям, мимо замшелых оград, чтоб уже под вечер навестить старуху в ее лачуге. Нэнс знала силу молчания.
В очаге горел огонь. Питер докурил трубку и выбил о колени. Они продолжали сидеть, время от времени передавая друг другу бутылку, пока в щель под дверью не поползла вечерняя сырость и не заставила Питера стряхнуть с себя оцепенение:
— А говорил я тебе про четырех сорок, которых видел, прежде чем Мартин отошел, помилуй Господь его душу?
Нэнс подалась вперед на табуретке:
— Нет, Питер, не говорил.
— Четыре их было. Это ведь смерть предвещает, верно? И огни тогда горели у твоей Дударевой Могилы. У круглого-то оплота. Вот тогда-то я первый сон и увидел.
— А я видела, как молния ударила в вереск на горе, — пробормотала Нэнс.
— В тот вечер, когда Мартин умер?
— В тот самый. И странным ветром потянуло.
— Это они повылазили! Добрые соседи! Думаешь, из-за них я и сны теперь видеть начал, да, Нэнс?
Нэнс коснулась рукой его плеча и на мгновение увидела хижину Питера, его узкую койку у стены, и как он долгие часы курит, боясь заснуть, а ночь обступает его со всех сторон.
— Ты в сорочке родился, Питер, так ведь? А значит, тебе дано видеть вещи, от других скрытые. Но все-таки, Питер, помни, что, если долго сидеть в темноте одному, и не такое примерещится.
Питер ковырнул в зубах грязным ногтем и хмыкнул:
— Да чего уж там, ей-богу… Пойду я лучше…
— Конечно, Питер. Иди домой.
Питер помог Нэнс подняться на ноги и подождал, пока она щипцами вытаскивала из очага горящий уголек и опускала его в ведро. Уголек зашипел и погас. Тогда она обтерла его краем юбки и, сплюнув на землю, протянула Питеру:
— Сегодня ночью никаких соседей ты не увидишь. Бог в помощь тебе на дороге.
Питер сунул уголек в карман и коротко поклонился.
— Благодарствую, Нэнс Роух. Ты добрая женщина, лучшая из всех на земле, что б там ни говорил новый священник.
Нэнс подняла бровь:
— Священник тратит слова свои на меня? Вот как?
Питер коротко хохотнул:
— А я не говорил? О, да слышала бы ты, что он плел на мессе! Пытался, как он сказал, открыть нам глаза на то, что мир изменился и стал теперь другим. Пора, говорил, покончить со старыми обычаями и привычками, которые держат ирландцев на самом дне, среди отбросов человечества. «Настала новая эра для Ирландии и католической церкви, и долг наш жертвовать на дела церковные, а не тратить их, платя всяким там нечестивым плакальщицам».
— «Покончить со старыми обычаями». Хорошо у него, видать, язык подвешен.
— Ничего хорошего, Нэнс, — покачал головой Питер. — По мне, так лучше пока священника этого стороной обходить. Пусть приживется здесь, пообвыкнется. Посмотрит, как у нас тут люди живут, поймет, что к чему.
— Небось он думает, что это я за «старые обычаи».
Лицо Питера сделалось очень серьезным.
— «Старые обычаи» — это язычество. Он сказал, мол, знает, что люди к тебе ходят, и что больше так быть не должно. — Питер помолчал. — Сказал, что ты чертовщиной всякой занимаешься и хитростью деньги за эти твои причитания выманиваешь.
— Вот как… Значит, новый священник против меня пошел.
— Отец Хили, он может. Но вот же я здесь. И, богом клянусь, никакой чертовщины я у тебя в доме не вижу.
— Господь да хранит тебя, Питер О’Коннор!
Улыбнувшись ей в ответ, Питер нахлобучил на голову шляпу.
— Ты по-прежнему нужна нам, Нэнс. И по-прежнему нужны нам старые обычаи и старые знания. — Он помолчал, улыбка исчезла с лица. — Да, кстати, Нэнс. Знаешь, есть мальчик, на горе у Норы Лихи. Увечный. Я подумал, сказать тебе надо, чтоб ты знала, если вдове вдруг понадобишься.
— Я когда на поминках там была, никакого увечного не видела.
— Ну да, она велела мне его унести.
— А что за хворь у него такая?
— Не скажу, Нэнс, не знаю. — Питер выглянул за дверь. Там уже наползала темнота. — Но что-то с ним крепко не так.
Остаток вечера Нэнс просидела, сгорбясь у огня и трогая зубы кончиком языка. Ночь выдалась неспокойная. Квакали лягушки, и кто-то шуршал: не то крыса под стеной, не то галка в соломе на крыше.
В досужие часы время словно прекращает свой бег. И часто, вычесывая шерсть или ожидая, когда закипят в горшке несколько картофелин, Нэнс воображала, что рядом Мэгги. Странная, пугающе непохожая на других, невозмутимая Мэгги — сушит травы или свежует кролика. В зубах трубка, руки при деле, а сама учит Нэнс слушать глухое, потаенное биение мирового сердца. Наставляет, как спасти других, если уж родную мать не спасла.
Как же стремительно собираются призраки!
— Есть люди особенные, Нэнс. Они рождаются другими, вне мира обычных вещей, кожа у них тоньше, а глаза более зорки и видят то, чего большинство людей не замечает. Сердце у них вбирает больше крови, река для них меняет свое течение.
Вспомнилось, как сидели они в отцовской хижине, как мыли ноги, смывая дорожную грязь. И как волновалась Нэнс, как прыгало сердце в ее груди, когда принимала она первого своего младенца, седьмого сына кучеровой жены. Какая радость была, когда показались волосики, когда мягко, как воск, скользнул младенец в ее руки! И как задрожала она от первого крика ребенка…
А Мэгги, улыбнувшись ей, села на табуретку, зажгла трубочку.
— Помню я и как ты родилась, Нэнс. Очень мучилась тогда твоя мать. Противилась ей природа что-то. Пришла я — в доме кавардак. Отец твой сам не свой — никак ты не хочешь в мир являться, силком тебя тащат. Я отперла все замки и запоры. Дверь раскрыла, солому из оконных щелей вынула. Узелки на шали моей развязала и на одежде роженицы тоже. А мужчинам велела корову отвязать и из хлева выпустить прямо во тьму ночную. И только когда все вокруг развязалось — расслабилось, ты выскользнула к нам — рыбкой из сети.
— А ты уже тогда знала, что я особенная?
Тетка ее улыбнулась. Выбила пепел из трубки.
— Родилась ты, как иной раз бывает с детьми, глубокой ночью, в смутные предрассветные часы. Кулачонки сжаты были. Не успела родиться, и уже в ссоре со всем миром.
Повисла тишина.
— Не хочу я быть не как все. Не хочу быть одна такая!
Мэгги придвинулась к ней, глаза ее сверкнули:
— Что в нутре сидит, того не вытравишь. Скоро сама поймешь.
Мэри, вздрогнув, проснулась, грудь сдавило тревогой. Сев в постели, обливаясь пóтом, она огляделась — в очаге горит огонь, кругом нее стены незнакомого жилища. Не сразу она вспомнила, где находится.
Я в доме у той вдовы.
Рядом с ней спал ребенок, прижавшись к ее ноге худой скрюченной спиной.
Я в доме у той вдовы. А это ребенок, которого я должна нянчить.
Она снова легла и попыталась уснуть, но запахи в доме казались странными и тоскливо ныла грудь. Хотелось обратно в Аннамор, хотелось, чтоб рядом были братья и сестры, все вместе, кучей лежали бы перед огнем на сладко пахнущем камыше, хотелось так, что слезы выступили на глаза. Мэри сморгнула слезы и, сунув руки под подбородок, уткнулась лицом в самодельную, сделанную из тряпок подушку.
Болел живот. Они слишком много съела. По крайней мере, не оголодаю я здесь, подумала Мэри, что бы там ни говорила вдова насчет яиц. Бывают места и похуже. Дэвид рассказывал ей о ферме, куда нанялся прошлой осенью, маленьком хозяйстве на полуострове, где они все дни напролет резали и таскали на поля водоросли для удобрения.
Стоишь в соленой воде, согнутую спину холодным ветром обдувает, а потом тащишься на поля с тяжелой поклажей. Мокрые водоросли через прутья корзины мочат одежду, спину саднит.
Моли Бога, чтобы попасть тебе туда, где тебя кормить будут досыта, так он ей сказал. Дэвид не работы испугался. К работе и мужчины, и женщины в их краях привычные. Но куда как плохо, когда на теле оседает соль, ноги — в кровавых ранах от скрытых под водой острых камней, а в брюхе только ветерок морской посвистывает, а больше, считай, и нет ничего.
При матери брат ничего подобного не рассказывал. Она б извелась от таких рассказов, а у нее и без того забот хватает — то кто-то из малышей кашляет, то картошка не уродилась, а едоков — полон дом, а еще слухи о выселении, и арендаторы, сами сдающие участки крестьянам, шастают с ломами от хижины к хижине. Дэвид дождался, пока все выйдут из дома во двор искать яйца в траве.
Найди себе такое место, сказал он ей тогда, чтоб кормили. Плевать, если там грязно. Ведь семьи есть, что людей нанимают, а у самих за душой не больше нашего. И спят на камышах, как и мы. Но поищи такого хозяина, который проследит, чтоб сыта была.
На северной ферме, где она лето проработала, кормить кормили. Картошка там была. Овсянка. Но есть позволялось только после хозяев: допить сливки из ковша, выскрести остатки из горшка.
Мэри повернулась на бок. Могло бы быть и хуже, успокаивала она себя. Всего только одинокая женщина и ребенок, орущий и плачущий в доме, корова и клочок неудобья. Но чувствовалось в этом всем что-то странное, а что — понять она не могла. Возможно, одиночество хозяйки. Этой вдовы, Норы Лихи, женщины со впалыми щеками и волосами, тронутыми на висках сединой. На первый взгляд, судьба ее сложилась худо. Щиколотки опухли, лицо избороздили глубокие морщины. Но Мэри, вглядевшись в лицо Норы на ярмарке, заметила и другое: лучистый узор у глаз говорил о том, что жизнь свою она прожила хорошо.
Дэвид учил ее всматриваться в лица. Если у мужика красный нос, значит, пьяница и от его дома лучше держаться подальше, потому что денежки он спустит на выпивку, а на еду для домочадцев мало что останется. Бабы с поджатыми губами, люди говорят, все сплошь злыдни. Такая станет следить за каждым твоим шагом. Лучше поищи в хозяйки женщину не хмурую и чтоб от глаз морщинки расходились птичьей лапкой.
«Значит, либо на солнце привыкла щуриться, либо душа добрая. И не важно, отчего эти морщинки — от работы в поле или от улыбок, у такой хозяйки тебе плохо не будет».
Морщинки птичьей лапкой у Норы Лихи были. И в Килларни она показалась Мэри довольно доброй; одета опрятно, лицо открытое. Но о том, что сама-то она вдова, смолчала, и про мальчика солгала.
Как сказала она тогда?
Дочкина сына нянчить.
Ни словом не обмолвилась о том, что тело-то у мальчика все скрюченное, челюсть отвисла и что немой он. Не намекнула даже, что в доме болезнь, смерть и тайна, о которой лучше помалкивать.
Таких детей, как Михял этот, Мэри прежде не видывала. Когда спит, ну просто худющий недокормленный малыш, а в остальном — ребенок как ребенок, даром что хилый и бледный. Но стоит ему проснуться, и сразу ясно: что-то с ним совсем не то. Глазами голубыми шарит, а словно не видит, смотрит так, будто и нет ее рядом. И руки странно держит, все к груди прижимает, рот полуоткрыт, кривится. Старичком кажется. Кожа сухая, кости обтянула, тонкая, как странички в требнике. Совсем не похож он на тех круглощеких ребятишек, которых Мэри привыкла нянчить. Когда, переступив порог хижины, Мэри впервые увидела его на коленях у старухи, она поначалу решила, что это и не ребенок вовсе, а страшная, как чучело, кукла. Игрушка детская из палочек, обряженная в старое платье, вроде мощей святой Бригитты, которые носят в ее день на носилках, — скукоженная головка и угловатый скелет, прикрытый какими-то тряпками. А потом, когда она подошла поближе и увидела, что это живой мальчик, сердце у нее упало от страха. Тощий и пораженный какой-то хворью, из тех, что тянут сок из растения, пока не превратят его в засохший стебелек. Ее привели в дом, где хозяйничает болезнь, и болезнь эта захватит и ее. Но нет же — они говорят, что не болен он. Только растет плохо, медленно. С трудом растет, но старается, борется, чтоб быть как все дети.
Рыжий, волосы как медь, курносый слабый недоумок. Мешок костей, весь в сыпи и стонет, точно нечистая сила завывает.
Мэри легонько коснулась лба Михяла, отвела упавшую прядь. Из уголка рта у него текла слюна. Мэри стерла ее тыльной стороной ладони и вытерла руку одеялом.
Наверно, вдова стыдится мальчика. Потому и не рассказала о нем заранее.
В чем провинилась ее дочь, чем заслужила такого ребенка?
Если, встретив на дороге зайца, женщина может наградить своего ребенка заячьей губой, то что за чудище должна была она встретить, чтоб выродить такого уродца с вывернутыми костями?
Видать, большой грех она совершила, коли младенца в ее утробе эдак испортило!
Однако вдова говорила, он не от рождения такой.
Может, потом его чем пришибло.
Ладно, чего там думать-то, решила Мэри. Домой ей путь все равно заказан. На этой ферме, в этой долине, похожей на оспину на коже, в этой вмятине, зажатой между скалистыми горами, ей предстоит жить и осваиваться следующие полгода. Закуси губу и работай. Ведь ей заплатят за это неплохие деньги, которые она принесет в семью, а пока они с Дэвидом на заработках и домой от них текут шиллинги, выселение семье не грозит. Ради этого стоит потерпеть, выдержать эти полгода с суровой, своенравной женщиной и ребенком-калекой. А потом она вернется к себе на камыши рядом с братьями и сестрами, и отец будет тихо читать розарий, а они станут засыпать под его бормотанье у теплого очага, заснут и будут спать крепко, так что даже вой ветра за окном их не разбудит.
Нора проснулась в волнении и беспокойстве. В доме чужой человек. Эта девочка, Мэри. Быстро накинув одежду, Нора вышла из своей выгородки.
Девочки не было. Раскладная лавка была опять собрана и превращена в обычную скамью, зола вычищена, пламя ярко горело в очаге. В углу Нора заметила Михяла, спавшего в пустой корзине, придавленной к полу тяжелыми угольными щипцами. Щипцы лежали поперек корзины, совсем рядом с неподвижной головой ребенка.
Ни следа Мэри.
Куры слетели с насеста, и Нора стала шарить рукой в поисках яиц. Четыре штуки, еще теплые. Аккуратно укладывая их в особую корзинку, она услышала, как скрипнула дверь сарая, и резко повернулась на звук. Мэри стояла там на утреннем морозце, закутанная, с дымящимся ведром свеженадоенного молока, которое она прикрыла тряпицей.
— Мэри… — так и ахнула Нора.
— Доброго вам утречка, миссис.
Мэри поставила молоко на стол и стала процеживать его через тряпицу.
— Я думала, что ты ушла.
— Просто я встаю рано, миссис, я ж говорила. А вы велели мне по утрам доить, так что… — Она понизила голос: — Я что-то не то сделала?
Нора засмеялась с чувством облегчения:
— Да нет, не важно… Просто вечером… и я подумала… — И, после паузы: — А где же путы, чтоб стреножить ее?
— Я их не нашла.
— Ты доила Бурую, не стреножив?
— Да она ж коровка ласковая и послушная.
— Путы вот здесь. В углу. Я держу их в доме, чтоб никакой любитель чужого маслица ими не попользовался.
Нора ткнула пальцем в лежащие в корзине щипцы:
— А вот этого я давненько не видывала.
Покраснев, Мэри вернула щипцы на их место возле очага.
— Это от фэйри, миссис. Чтоб его не утащили. Мы в Аннаморе так делаем.
— Да, я знаю для чего. Здесь у нас это дело тоже в ходу, но я давно уж не боюсь, что фэйри утащат моего малыша.
Лицо Мэри залило розовой краской:
— Михял… Хворенький наш ночью обмочился. Я его помыть хотела, но не было воды.
— Я покажу тебе, где родник.
Утренний воздух был чист и влажен; мокрый зеленый мох, облепивший полевые изгороди, ярко сверкал на солнце. Стоял холод, но солнечный свет был нежно-золотистым, и легкий дымок, поднимавшийся от хижины, тоже отливал золотом. А на самом дне долины, в низине, стлался туман.
— Река там внизу, — сказала Нора, выйдя с Мэри на двор. Михяла они оставили в хижине одного, хорошенько забаррикадировав в его корзине из-под картофеля и отодвинув подальше от огня. — Река зовется Флеск. Из нее ты тоже можешь брать воду, если хочешь, но потом долго идти с полными ведрами, и все в гору. И скользко к тому же, по сырости. Когда погода переменится, пойдешь туда белье полоскать. Идти к роднику еще дольше, но дорога туда получше и ногам полегче будет. Все женщины у нас к роднику за водой ходят. Вода родниковая чище.
— А много здесь женщин, в долине? — спросила Мэри.
— Много ли? Да столько же, сколько и мужчин, хотя есть у нас фермеры и неженатые. Видишь вон тот дом, по соседству? В нем Пег О’Шей живет, ты ее вечером у меня застала. Семья у нее большущая. Пятеро детей, да еще их дети в придачу. — Нора обвела рукой долину, открывшуюся, когда опоясывающая холм дорога, по которой они шли, устремилась вниз, на равнину. — Видишь, вон там, внизу, два дома и печь для обжига известняка рядом? Посреди долины почти? Там кузнец живет, Джон О’Донохью, и жена его Анья. К нему на вечёрки собираются. Детей у них нет, хоть вот уже десять лет как женаты. Почему — непонятно. Люди об этом молчок. А дальше, за ними, племянника моего дом; сейчас не видно, правда, из-за тумана. Дэниел Линч — так он зовется. Жена его сейчас первенца ждет. Ты частенько будешь видеть его и его брата на нашей ферме. Они подсобляют мне по хозяйству. Муж-то мой недавно умер…
— Сочувствую вам в вашем горе, миссис.
Послышался смех, и Нора, почувствовав, как подступают слезы, обрадовалась, увидев двух женщин с ведрами, спускавшихся к ним по склону.
— Спаси тебя Господь, Нора Лихи, — сказала одна из женщин, отводя с лица край накидки, чтобы лучше видеть. Из белокурых кос ее выбились кудрявые пряди.
— И вас также, Сорха и Эйлищ. А это Мэри Клиффорд, чтобы вы знали.
Женщины, прищурившись, с интересом оглядели Мэри.
— К роднику собрались, да?
— Да.
— Эйлищ замужем за учителем, Мэри, за Уильямом О’Хара. Он вон там детей учит — за живыми изгородями. А Сорха — дочь жены брата моего деверя.
Лицо Мэри выразило замешательство.
— Не беспокойся, со временем ты со всеми перезнакомишься и во всем разберешься. У нас секретов нет, все на виду. И все знают всех.
— Все мы, хочешь не хочешь, а родством связаны, — подняв бровь, добавила Эйлищ — невысокая, коренастая, с темными мешками под глазами.
— Ты об отце Хили-то слышала, Нора?
— А что такое?
Сорха испустила тяжелый вздох:
— Да прослышал он про бдение на поминках Мартина твоего. И прямо взбеленился! — Она хихикнула: — Слышала бы ты, какую он проповедь сказал на мессе! Осерчал-то как!
Нора досадливо покачала головой:
— Неужели?
Сорха придвинулась поближе, задев ведром ногу Норы:
— Он очень на плакальщицу твою, Нэнс Роух, злобствовал. Против нее проповедовал. Сказал, чтоб не приглашали ее на кыне. Сказал, что церковь этого не одобряет.
— Да что за бдение будет без плача? — возмутилась Нора. — Слыханное ли дело?
— Ой, с ним прямо как припадок сделался. Вязать впору, — добавила Эйлищ. Она вспоминала о случившемся скандале с явным удовольствием. — Кричал, слюной брызгал. Мне все лицо оплевал. Платком вытирать пришлось.
Сорха наклонилась, сорвала одуванчик и, сунув в рот, принялась жевать стебелек.
— Много чего у нас ему не по нраву — того не терпит, этого… Интересно, откуда он узнал, что Нэнс у тебя тогда в хижине была? Он же уехал к тому времени. Дождь лил как из ведра.
— Сказал, поди, кто-нибудь ему, — туманно заметила Эйлищ.
Родник находился на склоне долины, у подножия холма, — корявая пещерка, окруженная со всех сторон зарослями дрока и вереска. На ветвях и стволе ясеня, что рос неподалеку и служил вехой, делая к тому же воду мягче и слаще, трепетали изорванные ленточки. У родника уже собралась группка женщин. Они беседовали, поставив ведра возле ног. Заслышав голоса Эйлищ и Сорхи, они подняли глаза, поздоровались с Норой и окинули быстрым взглядом Мэри, отметив и ее тесную одежду.
Некоторые стали плевать на землю, приговаривая: «Отведи от нас зло, Господи».
— Это из-за твоих рыжих волос, — шепнула Мэри Нора.
— Моих рыжих волос?
— А разве у вас в Аннаморе так не делали?
— Никогда в жизни!
— Ну, не обращай внимания. — Нора раскланялась с двумя из женщин — Это Мэри Клиффорд. Будет помогать мне по хозяйству. Вот пришла ей родник показать. Ты уже познакомилась с Сорхой и Эйлищ, Мэри. А это Ханна и Бидди.
Женщины, пробормотав приветствия, тут же отвернулись и продолжали разговоры. Они тоже обсуждали отца Хили.
— Он считает, что среди нас есть язычники, — сказала одна из женщин.
— Не говорил он такого! Сказал только, что старые обычаи — это предрассудок и что он их не признает.
— На то он и священник. У них вера-то покрепче нашей будет, — заметила Ханна. — Он вот что сказал, что дьявол хитер и проникает к нам разными путями.
Наклоняясь, чтоб набрать воды в ведра, Нора ловила на себе полные жадного любопытства взгляды. Кое-кто из женщин гладил ее по спине, похлопывал по плечу. Но большинство ограничилось лишь приветствиями.
Набрав полные ведра воды, Нора поспешила к тому месту, где ее ожидала Мэри, и они, не попрощавшись, двинулись в обратный путь.
— Это ваши приятельницы? — спросила Мэри.
— Родня, чтоб ты знала.
— Зачем они плевали на землю, когда увидели волосы?
— Боятся сглазу.
Мэри смущенно помялась, но ничего не сказала.
— Пусть тебя это не тревожит. Так уж здесь повелось.
— А Сорха ничего, бойкая.
— Сорха-то? О том, что она узнает в пору утренней дойки, к обеду уже вся округа будет судачить.
— А это правда, что она сказала, будто священник вашу плакальщицу ругал?
Нора фыркнула:
— Не знаю уж, чему их там учат теперь в городах этих! Какой толк в том, чтоб отнимать у нас наши обычаи? Они тоже христианские, мы ж христиане не хуже его.
— А этот человек, священник ваш, Михяла-то видел?
— Вот поживешь здесь, узнаешь здешних людей. Но скажу наперед: не очень-то спешат священники в дома тех, у кого денег в обрез.
Едва они открыли дверь в хижину Норы, как им в нос шибанула вонь. Мэри бросилась к корзине из-под картофеля и увидела, что Михял обделался — сидит в своем добре с испачканными липкими руками и таращит глаза, словно и сам понять не может, что случилось.
— Оно и в волосах у него тоже! — воскликнула Мэри, зажимая рукой нос.
— Вынеси его на двор и вымой.
Мэри выволокла на двор корзину с ребенком. Дерьмо уже успело присохнуть к коже, и даже скрученными в комок стеблями вереска оттереть его не удалось. Нора принесла маленький кусочек серого мыла, сваренного из смеси жира и золы папоротника, и в конце концов Мэри кое-как отмыла ребенка в холодной воде жесткой вересковой мочалкой. Михял разорался, и Мэри не сразу удалось его успокоить. Она мерила шагами двор, качая на руках закутанного в ее платье Михяла, и напевала ему, а куры путались у нее под ногами. Когда он наконец заснул, она была совершенно измучена.
— Давай его сюда! — сказала Нора.
Когда крики стихли, она вышла во двор и протянула руки, готовая взять ребенка. И заметила пустое ведро.
— Ты что, не бочковую воду брала?
— Какую?
— Не дождевую? — Нора ткнула пальцем в сторону стоявшей возле хлева старой бочки. — Сходи тогда опять к роднику, ладно? Принесешь нам еще питьевой воды. Если спросит кто-нибудь, почему опять вернулась, причины не говори. Скажи, что уборка у нас, что ты дом как следует чистишь. А о Михяле — ни слова.
Мэри потащила ведро к роднику, стараясь не вдыхать запах, оставшийся на руках и одежде. Она надеялась, что с полянки возле ясеня женщины уже разошлись, но, спустившись с холма, тут же увидела Эйлищ О’Хара, которая стояла там и болтала с другой, незнакомой женщиной.
— Опять эта девочка тут… — нараспев сказала Эйлищ, мгновенно ее заметив. Она приветственно махнула рукой. — Кейт, это… Как звать тебя, запамятовала?
— Мэри Клиффорд меня зовут.
— Мэри Клиффорд. Та самая, о которой я тебе говорила. Вдова Лихи работницу взяла. — Эйлищ многозначительно подняла брови, кивнув собеседнице, которая с холодным пристальным вниманием уставилась на Мэри.
— Я Кейт Линч, — сказала женщина. — Эйлищ вот тут говорила, что ты у нас в долине пришлая. Что тебя в услужение взяли.
— Верно, — согласилась Мэри. — Я из Аннамора. Это на севере.
— Да знаю я, где Аннамор этот, — сказала Кейт. — Там девок рыжих видимо-невидимо, да?
— Встречаются, — сказала Мэри. Она хотела наклониться, чтоб взять воды. Но Кейт, шагнув, преградила ей дорогу.
— Мы знаем, зачем тебя взяли, — сказала Кейт. — Я с вдовой в родстве, а Эйлищ мне сестра. Муж мой мужу покойной Нориной сестры братом приходится.
— Сочувствую вам в ваших утратах, — пробормотала Мэри.
— Тебя ведь ради мальчишки взяли, правда? Внука вдовы, который сиротой остался, когда дочь Норы умыкнули.
— Умыкнули?
Кейт ухватила ведро Мэри. Костяшки пальцев у нее были красные, опухшие.
— Мальчик ведь не как все, верно?
— Не понимаю, о чем это вы.
Эйлищ засмеялась:
— Вдова прячет его в хижине, но мы-то знаем! Знаем…
Кейт, не выпуская из рук ведра Мэри, приблизилась к самому ее лицу, заглянула в глаза:
— Я вот что тебе скажу, девонька, и лучше ты меня послушай. До тех пор пока дочь вдовы не умыкнули и ребенок этот не появился у нас в долине, Мартин Лихи на здоровье не жаловался. И не бывает так, чтоб здоровый мужчина вдруг падал замертво на перепутье без того, чтоб кое-кто тут руку не приложил. Когда привезли к нам этого подменыша… — Она замолчала и сплюнула на землю: — Когда появилось у Норы дитя это проклятущее, все беды и начались, а теперь вот и Мартин умер.
— Ты человек здесь новый, — вмешалась Эйлищ. — Тебе и невдомек пока, что у нас тут делается. А только есть у нас люди, что с Этими знаются, а через такое и на нас тень ложится.
— Ребенок этот, которого Нора от глаз людских прячет, — тихо, сквозь зубы, проговорила Эйлищ, — он что, по-твоему? Как все другие люди? Скажи-ка!
— Калека он, — с заминкой ответила Мэри. Она потянула на себя ведро, и Кейт, скривившись, его отпустила.
— Калека, значит?
— Ты знай мотай себе на ус, Мэри Клиффорд. Не след было вдове тащить к себе девочку со стороны, чтоб за мальчишкой этим смотрела. После того, что сделал он с ее дочкой и мужем.
— Она о дочери-то тебе рассказала? — спросила Эйлищ.
— Знаю, что померла она.
Кейт неспешно покачала головой:
— Нет, Мэри Клиффорд. Нет! Не померла! Умыкнули ее. Украли. Утащили добрые соседи! О, ты небось смеешься над этим, да?
Мэри покачала головой. Женщина жарко дышала ей в лицо.
— Хорошо, конечно, что не из робких ты и не боишься, — сказала Кейт. — Но бояться есть чего. Я бы на твоем месте назад в Аннамор вернулась. Не будет добра тебе с этой работой, в доме этом. Пойди-ка ты к вдове и скажи, что знаю-де все про мальчика и лучше ей подумать, как избавиться от него самой, покуда этим кто другой не занялся.
Глава 5 Ольха
УСЛЫШАВ, ЧТО В ДВЕРЬ СТУЧАТ, Нора решила, что это Пег. «Входи», — крикнула она, не поднимая глаз, ища, чем бы прикрыть Михяла. Она укутала ему ноги, начиная от бедер, и, не услышав шагов, подняла взгляд. Поначалу она не могла разглядеть гостя — падавшие из-за двери солнечные лучи оставляли его лицо в тени. Но когда дверь со скрипом отворилась и за порог ступил мужчина в обтрепанной фетровой шляпе, она узнала вошедшего, отчего сердце ее сжалось.
Тейг.
Нора стояла, часто и тяжело дыша. С последнего раза, когда она видела зятя, привезшего тогда ей на осле ее внука, Тейг сильно переменился. Он всегда был мал ростом и очень худ, но сейчас словно ссохся. Он отпустил бороду, но борода была жидкая и клочковатая. Вид был запущенный.
Это он от горя так высох, подумала она.
— Я слышал, что Мартин умер, — сказал Тейг. — Сочувствую тебе в твоем горе.
— Тейг. Рада видеть тебя.
— Правда? — спросил он.
— Как живешь? — Нора указала ему на раскладную лавку, а сама опустилась на табуретку. Ноги не держали ее.
Тейг пожал плечами.
— Времена нынче нелегкие, — откровенно признался он. — А как мальчик?
— Лучше не бывает.
Тейг рассеянно кивнул и обвел взглядом комнату:
— Хорошо тут у тебя. Я корову видел. Значит, у мальчика молоко есть.
— У Михяла? Конечно. Ему молока хватает.
Нора ткнула пальцем туда, где на куче вереска лежал мальчик, теперь чистый и прибранный.
Тейг поднялся и с высоты своего роста глянул на мальчика.
— Но он все такой же, — сказал он внезапно. — Это болезнь, как ты думаешь?
Нора, сглотнув, промолчала.
— Когда он ходить перестал, Джоанна решила, что он захворал. Решила, он от нее заразился.
— Время, как говорится, все лечит, вылечит и это, так я думаю, — проговорила Нора, стараясь, чтоб голос ее звучал уверенно.
Тейг шумно поскреб затылок:
— А был такой хороший малыш. Миленький, беленький…
— Он и сейчас такой. Несмотря на болезнь.
— Нет. — Это прозвучало очень решительно. Тейг пристально глядел на Нору. — Два года он был здоров и в полном порядке. А потом… Я подумывал даже, знаешь, что, может, это от голода, что мы тут виною… Такая стужа была у нас в доме, и еды не то чтоб вдоволь… Я старался, как мог, я…
Он осекся. Нора видела, что ему нелегко справиться с волнением.
— Я решил, что это из-за меня все… — выговорил он наконец тихо, глядя в одну точку.
— Тейг, — прошептала Нора.
— Решил, что здесь он, может, поправится. Так мне говорили. Что просто молока ему не хватает. И еды.
— Я забочусь о нем как надо, Тейг. У меня теперь и девочка есть мне в помощь.
— А он все такой же, ведь так? — Присев на корточки возле Михяла, Тейг протянул руку и помахал ею над головой ребенка. Тот никак не отреагировал. — Думаешь, у него с головой плохо, да?
Нора не ответила.
— Она считала, что это не из-за холода. И не из-за того, что еды мало.
— Она думала, что это зараза.
Тейг кивнул:
— Сначала — да. Сначала думала, что зараза в ноги ему ударила, точно как ей — в голову. И что поэтому он как бы не ходит, а она… — Он закусил губу и, скрестив ноги, уселся на полу рядом с Михялом. — Маленький мой… Папа…
Михял выгнул спину и выбросил вперед тоненькую ручку в невольном похожем на удар движении.
— Гляди, он дерется!
— Иногда он так делает. Он же может двигаться.
Тейг невесело улыбнулся:
— Но ходить-то не может.
— Я пыталась. Ставила его на землю, на пол земляной. Но ножки его, похоже, не держат.
Оба они глядели на Михяла. Тот уставился на что-то на потолке, а когда они тоже подняли глаза, пытаясь понять, чем он там заинтересовался, он вдруг захохотал, громко и пронзительно.
Тейг улыбнулся:
— Это он для папы смеется. Может, в следующий раз и скажет что-нибудь.
— Я очень-очень рада тебе, Тейг. Ты совсем другой стал.
Тейг опустил глаза, словно разглядывая черноту под ногтями.
— Да я бы и раньше приехал.
— Занят был, наверно.
— Нет. Работы у меня нет.
— Ну, стало быть, горе тебя держало, не давало приехать.
— Боялся я приехать, Нора. Боялся того, что увижу. Только когда слух до меня дошел, что Мартин скончался, прими, Господь, с миром его душу, я понял, что должен навестить тебя.
— Тейг… ты такие слова говоришь, страшно даже…
— Да я не хотел говорить об этом, Нора…
Он бросил на нее хмурый, смутный, затравленный взгляд.
— Джоанна… Это перед самой кончиной ее уже было… Она не вставала уже, и ум у нее помутился; она боролась до последнего, но боль, видать, была такая сильная, что несла она бог весть что. — Тейг насупился: — Ужасные вещи говорила она, Нора.
— Что ж такого она говорила?
— Не хочу, чтоб ты знала.
— Скажи мне, Тейг. Ради бога, не пугай меня так!
— Однажды лежит она, глаза закрыты. Ну я, понятно, решил, что спит. А потом слышу, бормочет что-то. Подхожу: «Ты не спишь, Джоанна? Болит очень?» Она головой мотнула, слегка, вот так. — Он медленно, не спуская глаз с Норы, повел головой из стороны в сторону. «А что тогда?» — спрашиваю. А она и говорит: «Принеси мне Михяла». Ну, я поднял парнишку, принес ей, положил рядом на постель. Она глаза приоткрыла чуток, взглянула и в лице переменилась, странно так глядит, словно впервые видит ребенка. «Это не мой ребенок, — говорит. Глядит на меня, головой мотает: — Нет, не мой это ребенок».
У Норы пересохло во рту, горло сдавил комок.
— «Как так? — говорю. — Это ж он, твой родной сынок. Ты что, сына не узнала?» А она подняться, сесть в постели силится и все глядит на него. «Нет, — говорит, — это не мой мальчик. Принеси моего мальчика!» Ну я, понятно, не знаю, как мне быть. Все уговариваю ее: что Михял это, и так страшно мне сделалось, положил ребенка прямо на нее, а она прямо криком кричит: «Это не мой сын! Михяла, Михяла принеси!» И отталкивает, отталкивает его. Столкнула ребенка с кровати: он упал бы, кубарем бы покатился, да я успел его подхватить. — Тейг перевел дух. — Он тяжело дышал. Я растерялся, не знал, что делать, убрал Михяла с глаз ее, но всю ночь она твердила: «Сына украли! Украли моего сына», в меня вцеплялась, умоляла, чтоб в полицию сообщил, чтоб искать начали. А Михяла просила убрать, чтоб духу его в доме не было. «Избавься от него! Выброси! На мусорную кучу, на свалку выброси! А мне моего сыночка принеси». А потом все дни она уже не в себе была. К Господу на полдороге…
Нора не сводила глаз с Тейга и чувствовала, что задыхается.
— Не хотел я тебе говорить, Нора, — сказал Тейг, сжимая пальцами виски. — Но вот гляжу на него сейчас, гляжу на Михяла…
Нора посмотрела на мальчика. Тот дергал головой, будто его кололи чем-то невидимым.
— Гляжу на него и все думаю, думаю о том, что она сказала. Знаю я, что он, что это мой сын, а не узнаю…
— Я знаю, почему это.
Повернув голову на эти слова, они увидели стоявшую в открытой двери Мэри. С мокрого передника девочки капала вода, ведро она прижимала к груди. Лицо ее было белым как мел.
— Подменыш он! — простонала она. — Все это знают, все, кроме вас!
Закопченная небеленая кузница стояла в самой середине долины, у перекрестка дорог, разделивших ее на четыре четверти. Почти каждый день мерные удары молота о наковальню разносились по всей долине, а поднимавшийся от кузни дым служил отличным ориентиром для всякого, кому требовалась кузнечная работа либо надо было выдернуть зуб. Вечерами, когда заканчивались дневные труды, люди часто собирались у кузнеца; в самой кузне — мужчины, для женщин же местом сбора служила небольшая хижина рядом. Гости у кузнеца были чуть не каждый день. Вечерами, когда луна заливала долину своим чистым и ясным светом, молодежь нередко выходила за ворота и устраивала танцы на скрещении дорог, прямо над останками самоубийц, в том месте, где испустил дух Мартин Лихи.
Нэнс заглядывала к кузнецу не часто. Вещей, ради которых потные работники стали бы раздувать мехами горн, в ее хозяйстве было немного, да и сама она предпочитала обращаться к заезжим жестянщикам. В кузне она особенно остро ощущала свою чужеродность. Там всегда было людно — толпились фермеры и батраки, приведшие лошадей — кого подковать, кого подлечить от сапа или костного шпата. Нэнс так и не смогла привыкнуть к тому, как все замолкали при виде ее, как прерывалась беседа, стоило ей появиться на пороге. Одно дело почтительная тишина при ее появлении на поминках, и совсем другое — колкие настороженные взгляды, которыми тебя встречают, и смешки за твоей спиной. Тогда чувствовала она себя просто чудной старухой, полоумной травницей, подслеповатой от старости и вечно дымящего, плохо сложенного очага. И не важно, что кое-кто из этих людей шел к ней со своими нарывами и одышками, нес к ней на огонек сопливых ребятишек, — при ярком свете дня, в шуме и суете рабочих будней под пристальными взглядами этих людей она чувствовала себя презренной и жалкой.
— Бог в помощь тебе, Джон О’Донохью, — сказала Нэнс от порога. Направляясь к кузнецу, она не спешила и выжидала, пока не убедилась, что во дворе кузни нет людей, и лишь тогда, сжав зубы, решилась исполнить, что задумала.
Джон приостановился, молот замер в его руке, застыл в воздухе.
— Нэнс Роух, — только и сказал он.
Местный мальчишка, раздувавший мехи, разинув рот, уставился на Нэнс.
— Я что прошу. Не дашь ли ты мне, Джон, своей водички? Железной водички?
Джон опустил молот и вытер пот с лица замасленной почернелой тряпкой.
— Железной водички… — повторил он. И тоже уставился на Нэнс, тяжело дыша, отдуваясь. — Сколько тебе требуется?
Нэнс выпростала из-под накидки ведро.
— Да сколько унесу.
Джон взял у нее ведро и опустил в бочку, в которой остужал железо.
— Я до половины ведро налил. Сгодится?
— Да, да, сгодится. Спасибо тебе, Джон. Благодарствую.
Джон, кивнув, вернулся к наковальне. Подняв молот, махнул рукой в сторону хижины:
— Поди к хозяюшке, Нэнс. Она даст тебе поесть.
Хижина четы О’Донохью была выстроена из того же камня, что и кузня, но стены ее были тщательно выбелены, а крытая вереском и овсяной соломой кровля высоко вздымалась над просевшими потолочными балками. Обе створки двери были распахнуты, чтоб в хижине было посветлее. Нэнс услышала доносившееся из хижины пение — пел женский голос.
Анья О’Донохью, стоя на коленях перед очагом, где горел торф, стирала сорочку в широкой деревянной лохани. Она подняла взгляд, сощурилась:
— Нэнс Роух? — Лицо ее расплылось в улыбке. — Входи. Добро пожаловать. Не часто ты к нам захаживаешь. — Она поднялась на ноги, вытирая о фартук мокрые руки. — Что это у тебя в руках?
— Всего лишь железная вода из кузни. Муж твой оказал мне милость, дал немного водички.
— Вот как. Наверно, не моего ума дело, зачем тебе такая вода? — усмехнулась Анья и похлопала рукой по ближайшей к ней табуретке. — Садись вот. Поесть желаешь?
— Ты себе стирай давай, Анья. Не хочу тебя от дела отрывать.
— Да, это было б ни к чему.
Анья достала холодную картофелину и протянула Нэнс.
— Как живешь-то?
— Да вот жива покуда, и на том спасибо.
— К зиме подготовилась? Холода-то как завернули, а? А ведь еще декабрь не настал.
— Холода не дай бог. Вижу, у вас с Джоном все хорошо.
— Не жалуемся.
Нэнс показала на стоявшее возле ее ног ведро:
— Защита это. На всякий случай. Подумала, для Бриджид Линч может пригодиться. Ей рожать скоро. — Она чистила картофелину, поглядывая на Анью. Та не поднимала головы и, опершись локтями о колени, не сводила глаз со своих набрякших от воды пальцев.
— Чего ко мне-то не заходишь? — услышала Нэнс собственный голос.
Анья изобразила удивление:
— К тебе, Нэнс?
— Я ведь помочь могу.
Анья залилась краской.
— С чем помочь? Десны болеть перестали. Ты дала мне средство, и все прошло. Спасибо тебе за это.
— Я не про десны. — Откусив от картофелины, Нэнс жевала медленно и вдумчиво. — Невесело, поди, глядеть на здешних женщин, у которых ребятишек полон дом, когда у тебя своих нет.
Анья слабо улыбнулась, сказала мягко, ровным голосом:
— Ах, ты вот про что. С этим уж ничего не поделаешь, Нэнс.
— Да есть средства, Анья. На каждую напасть, что нам послана, есть свое лечение.
Анья покачала головой: — An rud nach féidir ni féi-dir é — что невозможно, то невозможно. Я уж смирилась.
— Ах ты, бедняжка несмышленая! — Нэнс уронила остаток картофелины себе на колени и взяла руки Аньи в свои. Лицо Аньи сморщилось, подбородок дрогнул.
— Так ты и вправду примирилась? С тем, что в доме твоем тишина, — примирилась?
— Не надо, — прошептала Анья.
— Анья!
— Пожалуйста, Нэнс. Ты же добрая женщина. Не тревожь ты меня, ну пожалуйста…
Нэнс притянула к себе Анью совсем близко, так что лбы их теперь почти соприкасались.
— От детей — одна морока, — шепнула она, сжимая руки Аньи. — Особенно когда их у тебя нет.
Анья засмеялась и поспешно отняла руки, чтоб вытереть глаза.
— Ты загляни ко мне, — негромко сказала Нэнс. — Где я живу, ты знаешь.
Плетясь обратно с тяжелым ведром, неудобная ручка которого врезалась в ладонь, Нэнс размышляла о том, что это на нее нашло. Обычно она не любила лезть в чужие дела. Мэгги учила ее самой не лезть, ждать, когда позовут.
— Лечение тому больше пользы дает, кто ждет от него пользы, — говорила Мэгги. — Ищущий да обрящет.
Но вот сегодня Нэнс почувствовала неодолимую потребность заговорить с Аньей. Уловила ее сомнение. Взгляд, полный тоски. Это всегда так у большинства людей. Они таятся, скрывают свою боль, но иногда вдруг, в какое-то мгновение, что-то приоткрывается в них, и можно заглянуть тогда внутрь и понять суть прежде, чем дверца опять захлопнется. Это сродни видéнию. Смутный ропот ранимой души. Легкая дрожь земли под ногами. И тишина — все стихло.
Как же скрытно сердце человеческое, думала Нэнс. Как боимся мы открыться, дать себя понять, и как отчаянно мы этого жаждем.
Возле лачуги Нэнс ожидал отец Хили. Четкий силуэт его фигуры чернел на фоне ольхового подлеска. Он стоял спокойно и, скрестив руки на груди, глядел, как она идет к нему по тропинке. Потом, заметив у нее в руке ведро, он шагнул ей навстречу и подхватил его.
— Спасибо, отец.
Они молча дошли до грязной площадки у входа, и отец Хили, поставив на землю ведро с железной водой, повернулся к Нэнс:
— Это ты зовешься Нэнс Роух?
— Да, я.
— Я хочу побеседовать с тобой.
— Побеседовать со мной, отец? Это большая честь. — Нэнс с трудом разогнула затекшие пальцы. — И чем я могу помочь вам?
— Мне помочь? — Он покачал головой. — Я приехал сказать тебе, что ты сама должна себе помочь. Сказать, чтобы ты бросила эти свои штучки.
— Мои штучки… О каких таких штучках вы говорите? — Нэнс отдувалась, держась за поясницу. После того как она протащила ведро через всю долину, в груди саднило и жало.
Теперь единственным ее желанием было очутиться дома и отдохнуть.
— До меня дошли слухи, что ты была плакальщицей на поминках Мартина Лихи.
Нэнс нахмурилась:
— Была. И что тут такого?
— Синод запрещает наемным плакальщицам участвовать в бдениях. Это нехристианский обычай. Это богопротивное язычество.
— Богопротивное? Никогда не поверю, что Господь не приемлет скорби. Уж наверное Христос умирал на кресте в окружении плакальщиц!
Отец Хили натянуто улыбнулся:
— Это совсем другое дело. Мне говорили, что плач на похоронах ты превратила в свое ремесло.
— Ну и что ж в этом дурного?
— Твоя скорбь, Нэнс, — это одно притворство. Вместо того чтобы утешать скорбящих, ты наживаешься на их несчастье, на их покойниках.
Нэнс мотнула головой:
— Нет, отец. Вовсе нет. Я чувствую их скорбь и выражаю ее голосом, потому что сами они голоса лишены.
— И получаешь от них плату.
— Не деньгами.
— Ну, значит, едой. Питьем. Так или иначе, тебе платят — за твою неумеренную и притворную скорбь. — Священник невесело усмехнулся. — А теперь послушай меня, Нэнс. Тебе нельзя брать деньги — ни любую другую плату за то, что ты делаешь на поминках. Церковь этого не одобряет, не одобряю и я. — Он поднял бровь. — Когда я узнал про оплакивание, я расспросил о тебе.
— Да, и что же?
— Говорят, что ты пьешь. И куришь трубку. Что к мессе не ходишь.
Нэнс рассмеялась:
— Если б вам вздумалось посетить всех, кто не ходит у нас к мессе, то вы б неделями с ослика этого вашего не слезали.
Отец Хили слегка покраснел:
— Да. И я намерен бороться с маловерием местных жителей.
— Но люди у нас очень даже верующие, отец. Все мы верим в то, что есть мир невидимый. Мы святое почитаем. Довольно, отец. Может, чаю выпьете? Глядите, и небо хмурится.
Священник, помявшись, все-таки прошел вслед за Нэнс в ее лачугу и неуверенно оглядел темное помещение.
— Садитесь, будьте так добры, вот здесь, на табуреточку. Устраивайтесь поудобнее, не стесняйтесь. Сейчас воду вскипячу.
Отец Хили опустился на шаткую табуретку. Ноги его угловато торчали. Он ткнул пальцем в свисавшие со стропил пучки сухих трав.
— Уильям О’Хара говорит, что ты и снадобья шарлатанские готовишь.
— Это учитель-то? Ему почем знать? Он в жизни ко мне не заглядывал.
— Да, но он говорит. Говорит, что наживаешься ты на плачах и знахарстве. Что ты обманываешь прихожан, внушаешь им ложные надежды на исцеление.
— Есть здесь, конечно, люди… Не все они со мною ладят.
— Стало быть, не только в деньгах за оплакивание дело? Ты еще и промышляешь как бянлейшь[13]?
— Промышляю? — Нэнс передала священнику дымящуюся чашку, на которую он посмотрел с подозрением. — Люди сами ко мне идут, отец, а я их пользую, потому что мне дано знание, чтобы помогать им. А они в благодарность мне подарки дарят. Я не воровка, ничего у них не краду.
— Послушай, что-то я не пойму. — Священник запустил пятерню в волосы. — Шон Линч говорит, ты кормишься людской доверчивостью, норовишь даром поживиться.
Нэнс пожевала губами:
— Я помогаю людям. Врачую.
— Ну да, это я слышал. На дублинских лекарей равняешься. О’Хара утверждает, что ты совала его жене в глотку гусиный клюв, когда та приходила к тебе с молочницей в горле.
— А-а, Эйлищ. Да, это старинное средство такое. Что ж, не помогло оно ей разве?
— Уильям про это не говорил.
— Помогло, и еще как! Эйлищ О’Хара думает, что не чета она всем прочим, если за городского из Килларни замуж выскочила. Но врет она, если говорит, что не вылечило ее мое средство. Да она б уже на кладбище лежала, кабы не я!
— Никто еще не умер от молочницы.
— И все равно я ее вылечила!
Взглянув еще раз на свою чашку, отец Хили решительным движением поставил ее на пол.
— Неужели ты не понимаешь — я помочь тебе хочу!
Нэнс удивилась:
— Я уважаю вас, отец. Вы, конечно, человек хороший. Святой человек, с сердцем, открытым людям. Но да будет вам известно, что отец О’Рейли, упокой Господи душу его, считал, что есть у меня особый дар. И сам посылал ко мне людей лечиться. Пейте чай-то!
— Нет уж, лучше я не буду, прости. — Священник взглянул вверх на свисавшие со стропил пучки трав. — Знаю я таких, как ты. И знаю, что бедняки зарабатывают кто чем может. Бедные, убогие. — Голос его упал до шепота. — В приходе нашем вот нет… — он неловко замялся, — бабки повивальной. Для рожениц. Брось ты эти свои плачи, и травы, и заклинания, и суеверия языческие, и зарабатывай честным трудом, помогай женщинам.
Нэнс вздохнула:
— Отец… Птичка, конечно, по зернышку клюет. И я зарабатываю чем могу — и плачем, и снадобьями разными, не то б я ноги протянула, но есть у меня в запасе и еще кое-что. Я получила от добрых соседей знание, и должна его в дело пускать, лечить людей в округе, не то дар у меня отнимется.
Наступила тишина. Только галки галдели снаружи в древесных кронах.
— Надеюсь, ты не о фэйри толкуешь? Не хочу и слышать про них!
— Вы разве не верите в добрых соседей, отец?
Священник поднялся с места.
— Мне неприятно находиться здесь, Нэнс Роух. Неприятно говорить тебе столь суровые слова, но о чем заботишься ты ныне, об утробе, как бы ее напитать, или о душе своей бессмертной?
— А-а, стало быть, не верите. А я вам вот что, отец, скажу — что это добрые соседи помогли мне из горя и нищеты выбраться, что это они привели меня в эту долину, к отцу О’Рейли. Это они мне жизнь сохранили, когда я с голоду помирала в Килларни, когда семьи лишилась и осталась одна, без мужа, без денег, без ничего. И это они подарили мне знание, как людей лечить и снимать с них заклятие колдовское, и…
— Язычество — даже говорить о них, верить, что они существуют! — На лице священника отобразилось нечто вроде жалости. От этого снисходительного взгляда Нэнс охватила ярость.
— Что ж, слава Господу, и да поможет он священнику, которому не нравится, что я лечу больных. Господь знает, как нелегко мне мой кусок дается, и хоть я живу в бедности, и всегда жила, но никогда не побиралась. Разве я кому что плохого пожелала или сделала? И разве не лечила я прежнего священника, который всегда во всем доброе видел?
Отец Хили покачал головой:
— Вот и обратил свой взор ко злу. Знаешь, женщина, как говорят? Дорога в ад вымощена благими намерениями.
— Дорога в рай, святой отец, тоже свои знаки имеет. Только не видна она в темноте-то, ночью…
Священник недовольно фыркнул:
— Я не потерплю здесь плачей и плакальщиц и не потерплю женщин, что морочат несчастных больных разговорами о волшебстве и фэйри. Бога ради, оставайся здесь повитухой, помогай хворым, но я не желаю, чтоб в моем приходе насаждалось суеверие теми, кто хочет на нем нажиться.
— О, сами-то вы в хорошем деле поднаторели — списываете нам грехи за деньги и не даете честной женщине иметь кусок хлеба за то, что она людям помогает!
— Я пытался поговорить с тобой по-хорошему, Нэнс Роух. Я приехал, чтоб наставить тебя на путь истинный. Но ты упрямишься, а значит, мне придется позаботиться о том, чтоб ты покинула мой приход.
— Люди не позволят вам меня выгнать, я нужна им. Сами убедитесь, что я им нужна!
— Не думаю, что у тебя это выйдет, Нэнс Роух, что бы ты там ни считала.
И, поднырнув под низкую притолоку, священник вышел из лачуги и прошествовал к своему ослу, пасшемуся на лесной опушке. Выйдя за ним следом, Нэнс смотрела, как он сел на осла, как дал ему хорошего, от души, пинка, пришпорив каблуками. Выезжая на дорогу, он оглянулся:
— Полно, Нэнс. Брось свои плачи и все эти россказни насчет фэйри. Не садись с дьяволом кашу есть, у него ложка длиннее.
Часть вторая УСТА ИЗ ПЛЮЩА, СЕРДЦЕ ИЗ ОСТРОЛИСТА (BEUL EIDHIN A’S CROIDHE CUILINN) 1825–1826
Глава 6 Крапива
ПРИШЕЛ ДЕКАБРЬ, сводя на нет солнечные деньки, задувая по ночам жестокими ветрами, ополчаясь на крыши и окна. По утрам лужи во дворе покрывались тонкой коркой льда, а скворцы жались на крышах к дымящимся трубам, ища места потеплее.
С приходом зимы Михял стал беспокойным. Когда огонь в очаге угасал и в хижину вползал холод, он будил Мэри хныканьем. Судорожно дергая руками, он больно царапал ногтями ей спину, точно котенок, страшащийся мешка и быстрой реки.
Пытаясь его согреть, Мэри кутала мальчика в одеяло и, уперев его острый подбородок себе в плечо, сидела с ним, прижимая к груди дрожащее костлявое тельце, ожидая, пока Михяла снова не сморит сон. Бывало, она гладила кончиком пальца его веки и брови, заставляя закрыть глаза, или, расстегнув ворот, прижимала его щеку к голой своей шее, грея и успокаивая ребенка своим теплом. Потом она засыпала с мальчиком на груди, примостясь в выем раскладной лавки, и просыпалась, когда уже светало и серело небо, а шея болела от неудобной позы и ноги затекали и были как деревянные.
Никогда раньше она не чувствовала себя такой усталой. Она думала, что зима с ее затишьем в работах и спокойной чередой хмурых ненастных дней будет отдыхом после напряженных месяцев осенней страды, казавшейся ей бесконечной, — думалось, что вечно придется наклоняться, поднимать, тащить, молотить, и еще, и еще, пока не засыплет тебя всю мякиной, а руки не исколет в кровь льняная кострика. Но этот ребенок мучил ее по-другому. Он изводил ее непрестанными требовательными криками. Порою ей казалось, что криком своим он раздерет себе глотку и никакая сила тогда его уже не утихомирит. Она давала ему еду, и он набрасывался на нее, словно голодающий, заглатывал огромные куски, набивал полный рот картошки с молоком и все равно был тощим и прозрачным, как зимний воздух. Он не давал ей спать по ночам. Каждое утро Мэри просыпалась с единственным желанием — дать телу отдых, руки сводило судорогами от долгих часов, когда приходилось прижимать к себе мальчика, глаза болели так, будто ночью кто-то пытался вырвать их из глазниц. Спотыкаясь, неверными шагами она брела в полутьме к очагу, чтоб разворошить угли, высвободив их из-под толстого слоя золы, и поставить кипятить воду, а потом, пошатываясь, выбиралась из хижины в беспросветную тоску двора, на холод, от которого перехватывает дыхание.
Единственным местом, где можно было передохнуть, был тесный, пропахший навозом хлев; уперевшись лбом в пыльный и теплый коровий бок, Мэри доила корову, напевая знакомые песни, чтобы успокоить ее и успокоиться самой. Прижимаясь лицом к теплому брюху коровы, она чувствовала, как к глазам подступают горячие слезы, и, теребя соски, давала волю слезам. Доилась корова мало, несмотря на все ее песни.
После приезда зятя Нора замкнулась в себе. Мэри понимала, что наговорила лишнего — со страху, наслушавшись женщин у родника. Она сама тогда ужаснулась и тотчас пожалела о вырвавшихся словах. Теперь, думала она, ее отправят обратно в Аннамор, — отправят, ничего не заплатив. Однако Нора лишь глянула на нее тогда — внимательно и озабоченно, как если б услышала, что у нее в доме поселился призрак. А зять, Тейг, повел себя еще страннее. Он с любопытством воззрился на Мэри, потом, протянув руку, коснулся ее волос, пропустив между пальцев остриженные кончики, как если б явился ему ангел, и он не знал, что делать — поцеловать ее или ударить. А потом, так же внезапно, отпрянул. «Да сохранит тебя всемилостивый Господь», — сказал он ей, ступив за порог, и заковылял, зажимая рот рукой, пока не растворился в бледном мареве. Назад он ни разу не обернулся, и больше они его с тех пор не видели.
Нора к его исчезновению отнеслась равнодушно. Даже не пошевелилась, когда Тейг ушел, — так и сидела, ровно и глубоко дыша, точно спящая. Потом знаком велела Мэри подойти к окну. «Сядь». Девушка замешкалась, и тогда она повторила уже настойчивее, с нетерпением в голосе: «Сядь же!»
Как только Мэри уселась на скрипучее соломенное сиденье, Нора стала рыться в печурке очага. Мэри уловила звук вынимаемой из горлышка пробки. Потом Нора уперлась локтем в стену, пряча лицо, и Мэри поняла, что она пьет из бутылки.
— Значит, люди считают Михяла подменышем, так? — спросила Нора, поворачиваясь к ней. Глаза ее были мутны.
— Так они говорили у родника.
Нора разразилась хохотом, диким, отчаянным, точно мать, нашедшая потерянного ребенка и охваченная одновременно гневом и облегчением. Мэри глядела, как Нора, согнувшись в три погибели, трясется от смеха, так что слезы брызжут из ее глаз. Михял, услышав необычный звук, разинул рот и пронзительно завопил. От его крика мороз побежал у Мэри по коже.
Все это было так странно. Вид Норы, хохочущей над тем, что было вовсе не смешно, а страшно, страшно до боли и холода в кишках, заставлял сердце Мэри стучать как бешеное. Ее привели в дом, который вот-вот рухнет, в дом, где горе и злосчастье въелись в самую сердцевину, в плоть этой женщины, и сейчас она тоже рухнет, скончается на ее глазах.
Испуганная, встревоженная Мэри накинула на голову платок и бросилась в хлев — перевести дух.
Мэри сидела там в уютном, идущем от коровы тепле, пока не стало смеркаться и она не услышала, как в щелях засвистел ветер. Как хотелось бы ей бросить эту вдову с ее безумным хохотом и тем же вечером уйти по каменистой дороге в Аннамор. Если б не мысль о голодных братьях и сестрах, не воспоминания о матери, об усталых морщинах в углах ее рта, Мэри пустилась бы в путь и не побоялась бы идти всю ночь.
Когда она вернулась в дом, Нора вела себя так, словно ничего не случилось. Она велела Мэри заняться ужином, а сама села с вязанием и стала быстро-быстро работать спицами.
Лишь однажды она подняла глаза на Мэри. Лицо ее было непроницаемо.
— Briseann an dúchas tri chrúba an chait — истинный нрав кошки узнаешь, когда она выпускает когти.
— Да, миссис, — отозвалась Мэри. Она не поняла, к чему была сказана эта пословица, но уловила в ней угрозу, а не утешение.
С тех пор ни о приходе Тейга, ни о сплетнях у родника, ни о том, что было после, они не говорили, хотя Мэри и заподозрила, что к Михялу Нора стала менее внимательна. Все больше и больше заботы о нем ложилось теперь на девушку — купать, кормить, вставать к нему ночью, утешая его, прогоняя невидимые страхи, терзающие его нежную, таинственную душу. Мэри привыкла к теням, прятавшимся в темных углах сумрачной хижины в туманные предрассветные часы. Она просыпалась и склонялась над ребенком, точно плакальщица над покойником.
Однажды ночью, разбуженная хриплым криком Михяла, Мэри высвободилась из хватких его рук и сунула голову под тряпичную подушку. Сидеть в постели и согревать его своим теплом и растирать ступни не было сил. Она погрузилась в блаженную пучину сна и счастливо пребывала там, покуда едкий запах мочи не заставил ее встрепенуться. Проснулась она на промокшей подстилке из сена. Мальчик с мокрой спиной успел продрогнуть и орал как подорванный.
Холодно стало и у Нэнс в ее бохане. В последние дни осени она часами собирала хворост для очага, резала на склонах колючий утесник, обшаривала пустоши, прихватив с собой острый, с черной ручкой, ножик, бродила по полям, собирая то, чего до нее не унесли дети. Кое-кто из соседей в благодарность за лечение приносил ей торф в корзинке, но на всю зиму этой малости, понятное дело, не хватит. Холод изведет ее, истерзает и замучает, если не найти чем поддерживать огонь в очаге все эти промозглые месяцы. Вечные эти поиски — как бы выжить. Нет у нее детей, которые бы о ней позаботились. Нет уже и родителей, чтобы помочь. Год за годом длится эта битва за то, чтобы хоть как-то выдержать. Уцелеть, остаться в живых. А она устала.
Когда это я успела так состариться, думала Нэнс, склоняясь к огню. Кости мои истончились и высохли, как птичий остов.
И дни скользят незаметно, один за другим. Когда она была моложе, время казалось нескончаемо долгим. И мир был полон чудес.
Но с годами и горы словно съежились. И вода в реке кажется холоднее, чем двадцать лет назад, когда поселилась она в этой долине. Времена года не сменяют друг друга постепенно, а летят так быстро, что только дух захватывает. Нэнс вспомнился Мангертонский лес, и как она, маленькая, идет по нему с бидонами козьего молока и потином для заезжих гостей, и какой тяжелый, звенящий монетами кошелек передавала она потом в благодарные руки отца; она чувствовала себя тогда заодно с этим лесом. Лесной мох ласкал ее усталые босые ступни, зеленый лесной полог служил защитой, а ветер дул, играя ее волосами, лишь для того, чтоб говорить с ней одной, шептать ей на ухо. Как близко было тогда до Господа, как вольно на душе, какой простой и свободной казалась жизнь!
Нэнс вспоминалось, как бродила она по горам, собирая пух чертополоха и ветки утесника и поджидая пони с туристами, направлявшимися к Чертовой Чаше лишь затем, чтоб поахать от восторга при виде солнца, заливающего светом озера. Озеро Лин золотилось на фоне небесной синевы окрестных гор. Легкие изменчивые облака плыли, на миг прикрывая солнце, и проходили мимо, точно пилигримы, пришедшие на поклон к святому. Нэнс помнила, как шла и она, взыскуя лишь благодати этого мира.
— Отчего ты плачешь? — спросил ее однажды отец, конопатя лодку на берегу озера.
Сколько же было ей тогда, в то лето, еще до приезда Мэгги с ее травами, посетителями и непонятными таинственными обрядами? Совсем ребенок, нераспустившийся бутон… Целая жизнь прошла с тех пор.
— Нэнс? Отчего ты плачешь?
— Оттого, что вокруг слишком красиво.
Отец понял глубину ее чувства. Природа прекраснее всего по утрам и вечером. От такой красоты и заплакать не грех. А иные люди всю жизнь проживут и так ничего не увидят и не почувствуют.
Наверно, тогда-то он и начал учить ее читать небесные знаки, привычные опытному глазу лодочника и озерного жителя. Еще до медленного ухода матери, до того, как появилась Мэгги, — когда все они еще были вместе и всё было хорошо.
— Мир, он не наш, — сказал отец однажды. — Он сам по себе и для себя, и тем прекрасен.
Это отец рассказал ей, что барашки на небе предвещают дождь и удачную рыбную ловлю, а ясный летний день — обманчив и может смениться грозовой ночью. Небо, учил отец, может стать другом, союзником, может предостеречь об опасности. Когда чайки начинают с криком кружить в воздухе, лучше не удаляться от берега, да и к дому надо держаться поближе.
Иногда до прибытия вежливых туристов, валом валивших в долину, чтобы отдать денежки продающим землянику девчонкам вроде Нэнс или лодочникам вроде ее отца и нанять экипаж до заросших тисами развалин аббатства Макрос, или когда мама, пережив очередную мучительную ночь, погружалась в сон, отец брал ее на озера.
— Посмотри-ка вверх, Нэнс! Видишь облака?
Нэнс помнила, как поднимала голову, щурясь на солнце.
— Что скажешь? Ведь правда же, они точь-в-точь как козья борода? Расчесанная козья борода!
Нэнс и сейчас чувствовала тот запах — глины и воды.
— Гляди, вот в той стороне борода темнее, верно? — Вынув весло из воды, отец указывает им на небо. — Вон оттуда-то и придет ветер. Сегодня придет. Крепкий ветер, попомни мое слово. А черный кончик бороды — значит, дождь там. Как думаешь, что нам делать, если на небе борода такая?
— Думаю, надо нам домой побыстрее плыть.
— Козел этот ничего хорошего нам не сулит. Джентльменов с женами сегодня не предвидится. Давай-ка к маме возвращаться.
Он любил озера, отец. И море любил. Выросший возле Корка-Хыне, он говорил об океане так, как некоторые мужчины говорят о матери — с почтением и огромной, переполняющей душу любовью.
«В ясную погоду прилив морской словно шепчет — тихо и нежно. И море тогда спокойное, можно ему доверять. А вот если птицы морские рано поутру в гавань потянулись — это предупреждает море, чтоб оставили его в покое, не лезли. Баклан на скале ветер предвещает, а куда он смотрит, с той стороны и ветер налетит.
Люди по большей части слепы и не видят мира вокруг себя. А у тебя, Нэнс, гляжу, глаз хороший. Видишь все вокруг и примечаешь».
От двери донеслось покашливание, и Нэнс вздрогнула. Огонь в очаге погас, и на пороге стоял мужчина. А она и не слышала шагов.
— Кто там? — прохрипела Нэнс, поднеся ладони к лицу. Щеки были мокрыми. Неужто она плакала?
— Это Дэниел Линч, Нэнс. — Голос звучал взволнованно. — Я из-за жены к тебе пришел, из-за Бриджид.
Вглядевшись в сумрак, Нэнс узнала молодого мужчину, курившего на поминках Мартина Лихи.
— Я вот курицу тебе принес, — сказал он, указывая подбородком на бьющуюся под мышкой птицу. — Нестись она перестала, но в суп, думаю, тебе сгодится. Не знал я…
— Да ничего, спасибо. — Дрожащим пальцем Нэнс поманила Дэниела, приглашая войти. — Входи, сынок, и Господь да пребудет с тобою.
Дэниел нырнул под притолоку и сразу занял собой всю тесную лачужку с козой на привязи, сточной канавкой и Нэнс перед погасшим очагом. Перехватив курицу за ноги, Дэниел протянул ее Нэнс. Птица била крыльями, перья так и летели.
— Спусти ее на пол, мил человек. Ей ноги поразмять надо. Так-то лучше. — Нэнс поворошила угли. — Не передашь мне сухого дрока пучочек? Ага, спасибо. Значит, из-за молодухи своей пришел, из-за Бриджид. Той, что ребенка ждет. Как она, здорова ли?
Нэнс пододвинула к Дэниелу табуретку, и он сел.
— Она ничего. Только… — Он смутился и издал короткий смешок. — Не знаю, право, зачем я здесь… Пустяк это, только хозяйка моя по ночам чтой-то ходить пристрастилась.
Он глядел, как курица, перескочив через канавку, роется в сене.
— Ходит по ночам, говоришь? Не очень-то здорово для женщины в тягости. Попить хочешь? — Достав пустую кружку, Нэнс налила туда какой-то желтой жидкости из корчаги возле очага.
Дэниел, нахмурясь, разглядывал кружку:
— Что это?
— Да чай холодный. Успокоит тебя.
— Ни к чему мне успокаиваться! — возразил Дэниел, но отхлебнул из кружки: пахло травой.
— Давай выкладывай, Дэниел. Расскажи, что там твоя Бриджид.
— Не хочу я пугать, только странно она себя ведет, ей-богу, и ни к чему, чтоб судачить об этом люди стали.
— Говоришь, ходит по ночам.
Дэниел кивнул:
— Недавно проснулся я ночью, нет ее. И постель, с той стороны, где она спит, холодная. Брат мой у огня спит, так что маленькая комната — вся наша, ее и моя… Ну, глаза я протер и думаю: «Может, воды попить вышла, сейчас вернется». Жду. Долго жду, а ее все нет. Вышел — нет ее нигде. Брат спит, а дверь открыта, и холодом в нее тянет. Ищу, где накидка Бриджид, накидка на месте, на перекладине, где всегда, а платка ее нет. Тут я струхнул, испугался за нее, может, выкрал кто… Разные ведь истории ходят… — Голос его дрогнул, и он отхлебнул еще чаю. — Бужу я брата, спрашиваю, не видел ли Бриджид. Нет, не видел. Отправляемся мы с ним на поиски. Слава богу, ночь была лунная. Идем мы, идем, потом видим: платье ее на земле валяется. Проходим еще с милю, гляжу — что-то белеет… — Дэниел хмуро потеребил губу. — А это она. Лежит на земле, спит…
— Ну, значит, жива-здорова.
— Вот почему к тебе я и пришел, Нэнс. Не в простом месте она лежала. На килине[14]. Возле урочища фэйри. Отсюда камнем докинуть.
Нэнс почувствовала, как волосы зашевелились на затылке. Килин был небольшим треугольным участком земли рядом с волшебным боярышником. Высокая трава там обступила торчащий столбом камень, а со всех сторон место это охраняли заросли остролиста. Камень походил на надгробие, с едва различимым изображением креста. Вокруг звездной россыпью белели камни поменьше, на месте захоронения чьих-то неведомых, никому не нужных останков. Порою жители долины хоронили на этом месте невенчанных жен, иногда — тех, кто умер без покаяния. Но большинство останков принадлежало детям, умершим еще во чреве матери. Люди приходили сюда, лишь если возникала надобность похоронить очередного некрещеного младенца.
— На килине?
Дэниел потер щетину на подбородке.
— Видишь теперь, почему я пришел к тебе? Она лежала там меж камней. Среди бедолаг этих, детишек умерших. Я подумал, что и она неживая, пока не потряс ее и не разбудил. Слыхал я, что люди, бывает, ходят во сне. Но чтоб на килинь…
— Кто знает об этом?
— Ни одна живая душа не знает, кроме брата моего Дэвида и меня. А с него я клятву взял, чтобы помалкивал. А то ведь слух пойдет быстрее, чем сборщик налогов по деревням. Тем более что у нас такие дела творятся.
— Что за дела? Расскажи.
Дэниел поморщился:
— Не знаю, Нэнс, только нехорошо у нас здесь что-то в последнее время. Коровы молока дают куда меньше. Куры — он ткнул пальцем в сторону копошившихся в соломе кур — не несутся. Люди никак не позабудут, как Мартин Лихи ни с того ни с сего вдруг отдал богу душу. Здоровый крепкий мужик — и возьми да упади на перекрестке как подкошенный. Говорят, неладно дело. Некоторые болтают, будто сглаз это. Испортили мужика, мол. Другие толкуют про подменыша. Все же знают, что у Норы Лихи младенец живет, что, когда дочь Норина померла, зять ей в корзинке дитя привез. Мы видели, как он приезжал. А после мальчика никто уж не видел, и решили мы, что он хворает. Занедужил то есть. Но Бриджид ребенка видела и говорила мне, что с ним совсем неладно.
Нэнс вспомнила: Питер говорил ей о ребенке-калеке.
— Так он не просто хворает?
— Хворать он хворает, но там дело похуже будет. Бриджид говорит, что ребеночек хилый, весь в болячках и не в разуме. Что детей таких она в жизни не видывала.
— А ты сам-то его видел?
— Я? Нет, сам — нет. Но я вот думаю, не сделали ли с ним чего добрые соседи, как раньше они с другими поделывали. А может, глаз у него дурной, так что Мартина Лихи он сглазил, а сейчас за жену мою принялся. — Дэниел сжал пальцами виски. — О Господи Иисусе, не знаю я, Нэнс…
Нэнс кивнула:
— Я что думаю — не говори никому об этом, Дэниел. У людей своих забот и горестей хватает, ни к чему им вдобавок знать вещи, которых им не понять.
— Вот если подменыш он, тогда все ясно. И чем больше думаю я об этом, тем больше кажется мне, что это добрых соседей проделки, что опять принялись они людей умыкать. Ты ведь слышала, поди, рассказы о том, что охотятся они на женщин в тягости. Утаскивают в круглые свои крепости, и с концами. Он ближе придвинулся к Нэнс. — Я-то помню все эти истории. Старики по сей день рассказывают. Добрым соседям нужно отнять у женщины дитя человеческое и подменить своим, чтоб женщина потом подменыша выкармливала. — Он перевел дух: — Знаю я, много есть таких, что смеются над теми, кому в любом сквозняке сид ветра, ши гыхе мерещится. Я вот и подумал, Нэнс, люди говорят, знаешься ты с Ними. Они тебя научили науке своей и глаз дали Их видеть.
Нэнс подбросила в очаг еще дрока. Пламя вспыхнуло, озарив ее лицо.
— Какой была Бриджид, когда ты нашел ее?
— Когда поняла она, где находится, побледнела, побелела вся, не помнила ни как из дому вышла, ни как шла по дороге.
— А раньше не ходила она во сне?
— Нет. Ни она за собой такого не помнит, ни я — с тех пор как женился на ней.
Нэнс окинула его внимательным взглядом:
— И у вас с ней все хорошо? Душа в душу и лучше не бывает? Нет у жены твоей причины от тебя к фэйри бегать?
— Да нет, зачем бы ей!
— Стало быть, не побег это. Ну так вот что, Дэниел. Когда в тягости — трудное это для нее время. Тут всякое может приключиться. Жена твоя сейчас на пороге стоит, и тянет ее то сюда, то туда. То в ведомый мир, то в неведомый. И насчет добрых соседей ты верно сказал. Водится за ними такое — молодых женщин забирать. В этих краях я ни одного случая не знаю, чтоб утаскивали они женщину в свою крепость, но сказать, что быть такого не может или что не бывало такого, — никак нельзя.
— Говорят, что с Джоанной Лихи в Макруме это и случилось. Что не к Господу она ушла, а к фэйри, что подменили ей сына. Осталась у них, чтобы с сыном не расставаться.
Нэнс наклонилась к Дэниелу, лицо у нее разгорелось от жаркого пламени.
— Добрые соседи не только проказничать умеют, они еще и хитры, и коварны. Делают что хотят, и никто им не указ — ни бог, ни черт. Ведь ни рай им не уготован, ни ад. Спастись не спасутся, но и на вечную погибель не нагрешили.
— Стало быть, думаешь, это они нас нынче посетили?
— Да они и не уходили никуда. Испокон веков, как мир, как море.
Лицо Дэниела стало пепельно-серым. Он не сводил с Нэнс голубых глаз, в которых поблескивали отсветы пламени.
— Случалось тебе в сумерках лесом идти, лесной чащей, и разве не чувствовал ты тогда, будто кто следит за тобой? Глазами не такими злобными, что вот сейчас ударит, но и не ласково, как мать за дитятей?
— Наверняка случалось, — с трудом выговорил Дэниел. — Не такой я простак, чтобы думать, будто все в этом мире можно увидеть и потрогать.
Нэнс одобрительно кивнула:
— Добрые соседи следят за нами и знают, как сделать с нами то или иное, все что угодно могут сделать. Заставить бежать без оглядки. А захотят — так и наградят: вдруг ни с того ни с сего откроется в человеке дар на дудке играть, или больная корова выздоровеет. А могут и наказать, если говоришь о них худое. За добро добром платят. За зло — злом. А иной раз такое приключится, что не знаешь, что и думать, только и сказать остается, что тут не без фэйри, а у них свой расчет.
— А Бриджид им на что? Чем провинилась, что добрые соседи решили ее выкрасть? — Он осекся. — Или, может, это я что не то сделал, как думаешь?
— Твоя Бриджид — славная и любящая женщина, Дэниел. Зачем думать, что она чем-то провинилась? Нет на ней никакой вины. Просто они здесь, рядом, следят за нами, и порой зависть их берет, и рвутся они забрать себе кого-нибудь из нашего рода-племени. Один раз умыкнули они женщину прямо у меня на глазах.
— Господи помилуй… То-то люди и говорят. Беда тут у нас, а все добрые соседи! — Лицо Дэниела было белым. — Мне-то что делать?
— Переменилась в чем-то твоя Бриджид? Ест она? Может, недуг какой ее гложет?
— Есть она ест. Когда проснулась, напугалась очень, что на килине лежит и что ноги в кровь истерла, словно трудный путь прошла. А так — нет, не переменилась.
Нэнс удовлетворенно откинулась назад.
— Ну, значит, и не умыкнули они ее, и она по-прежнему твоя жена.
— Господи, Нэнс, что за дела творятся тут у нас в долине! Мурашки по коже, ей-богу! Священник говорит, что все эти беды с коровами и курами могут прекратиться лишь по слову Божию, молитесь, дескать, и все наладится, но он человек городской.
Нэнс сплюнула на землю.
— Может статься, кто-то Их обидел…
— Да поговаривают, что один из Них среди нас проживает.
— А-а, это тот малец, о котором Бриджид твоя говорит. Мальчик Норы Лихи.
Дэниел потупился.
— Или другой кто, — пробормотал он.
Нэнс пронзила Дэниела пристальным взглядом:
— Говори, прознал чего? Может, это Шон Линч опять на боярышник топором замахнулся?
— Нет, и о добрых соседях он больше речь не ведет, а бредит теперь отцом Хили и Дэниелом О’Коннелом. Священник про Католический союз ему все уши прожужжал. Всего пенни в месяц, и О’Коннел нам всем свободу принесет. Так Шон теперь говорит. А мы глядим, запил он сильно, и жену опять лупит, но к святому дереву больше с топором ни-ни.
— Оттого все его беды, — сказала Нэнс. — Нет хуже, чем с дьяволом втемную играть.
Дэниел взял свой чай и стал пить, избегая ее взгляда.
— Плохо он говорит о тебе, Нэнс.
— О, да обо мне кто только плохо не говорит! Но что я знаю, то знаю. — Она поднесла руки к самому носу Дэниела, и он отпрянул, чтоб пальцы Нэнс не задели его лица.
— Видишь?
Он глядел, не понимая.
— На большие пальцы смотри. Видишь, как повернуты? — Она указала на вспухшие костяшки и вывернутые суставы пальцев.
— Вижу.
— То-то и оно. Их знак на мне, отметина. Шон Линч и отец Хили так и говорят. Знание есть у меня про Них и от Них, и это истинно так. В том, что плетут обо мне, есть и правда. — Она окинула его добродушным взглядом. — Ты веришь мне?
— Да, Нэнс, верю.
— Тогда слушай, что скажу: — все будет у тебя хорошо, если сделаешь, как я велю. Пусть жена твоя, покуда срок ее не придет, отдыхает. Спит побольше, из дому ни ногой. По дому она по-прежнему все делает?
— Ну да.
— Хватит с нее. Теперь это твоя забота, Дэниел. И масло сбивать, и курам корм задавать. Даже картошку варить. Когда жена в доме, и огонь в доме должен оставаться. Ничего горящего из дому нельзя выносить. Даже раскуренную трубку. Даже искорку. Понятно?
— Понятно.
— Ни огонька, ни уголька, Дэниел, не то вместе с ним и счастье из дому вынесешь. Разобьешь — разнесешь всю ее защиту, все, что держит ее на этом свете. И дай ей вот это.
Прошаркав в угол, Нэнс достала оттуда матерчатый, туго перевязанный соломой сверток. Размотав его, она вынула оттуда несколько сухих ягод и сунула их в руку Дэниела.
Он беспокойно оглядывал ягоды:
— Что это?
— Паслен. Она спать от него крепче будет. Так крепко, что ни причины, ни силы вставать по ночам у нее не будет. Пусть съест вечерком, а я заклятье твердить стану, защиту ей. — Она похлопала его по плечу. — Все обойдется, Дэниел.
— Спасибо тебе, Нэнс.
— Храни тебя Господь и даруй он тебе доброе потомство. Если станет она все же бродить по ночам, приди ко мне еще разок. Погоди-ка. — Нэнс положила руку на плечо Дэниела. — Есть и еще одно средство. Если добрые соседи примутся выманивать ее из дому, сделай крест из березовых ветвей и повесь его над местом, где спите. Береза защитит ее.
Он помедлил в дверях:
— Ты добрая женщина, Нэнс. Знаю, что отец Хили говорил против тебя, но думаю, что слеп он сердцем.
— Ну что, полегчало тебе теперь, Дэниел?
— Да, полегчало.
Нэнс глядела, как Дэниел медленно брел домой с ягодами в горсти, которые он держал бережно и благоговейно, словно святую облатку. Закатный свет заливал красным края туч. Прежде чем скрыться за поворотом, Дэниел обернулся и, встретившись с ней взглядом, осенил себя крестом.
Пронзительные ветра размели по полям первый снег. На его фоне четко виднелись только извилистые каменные изгороди, так что со склона, где стоял бохан Норы, долина казалась отпечатком гигантского пальца. Мужчины устраивались у огня, откашливаясь от непогоды, а женщины чесали шерсть и без устали крутили самопрялки, словно решив укутать себя и всю семью в плотный кокон из пряжи. Стояло тихое спокойное время ожидания.
Нора просыпалась в глухую и серую рассветную пору, с трудом разлепляя веки навстречу слабому свету дня. Смертельно хотелось спать. Все ночи напролет орал, надрываясь, ребенок, и лишь под утро ей удавалось ненадолго забыться спасительным сонным бесчувствием. Но как одиноко было просыпаться в опустевшей постели!
Голова раскалывалась после потиня. Лежа на спине и глядя в потолок, Нора прислушивалась. Обычно она дожидалась шагов Мэри. Вот девушка растапливает очаг, ставит кипятить воду и тихо что-то бормочет Михялу, подмывая его. Тогда Нора закрывала глаза и представляла, что это вовсе не Мэри, а Мартин ходит по дому, отодвигает дверной засов, выпускает кур порыться возле хлева, среди грязной обледеневшей соломы. Она видела его как живого: губы насвистывают знакомую мелодию, пальцы поддевают кожуру с утренних картофелин и небрежно отбрасывают прочь. Она слышала, как он ворчит — опять эти ее куры растаскали солому на крыше, — а глаза лучатся морщинками, когда она сердито заступается за квочек. Нора разрешает себе эту ложь, хотя понимает, как мучительно будет увидеть перед очагом не Мартина, а эту долговязую девчонку со вспухшими спросонок глазами.
Однако теперь не слышалось ни звука. Поплотнее закутавшись в платок, Нора вышла из своего спального закутка, но Мэри не увидела. Очаг горел, раскладная лавка была собрана, а Михял лежал в своем углу. Нора осторожно, боясь потревожить мальчика, подкралась к нему посмотреть. Он лежал неподвижно, волосы слиплись от пота. Нора глядела, как медленно шевелятся его губы, свежие, влажные. С кем он разговаривает?
— Михял.
Он словно и не слышал ее — все так же поднимал брови, морщился, гримасничал, глядя куда-то в стену.
— Михял… — повторила Нора.
Одеревенелые руки мальчика были скрючены, будто сломанные крылышки птенца, выпавшего из гнезда. Нора в третий раз повторила его имя, и лишь тогда немигающий взгляд остановился на ней. Рот скривился, обнажив поблескивающие зубы, и Норе вдруг почудилось, что малыш на нее оскалился.
Михял страшил ее. Каждое стремительное, непредсказуемое движение, каждый стон или вопль, обращенный к чему-то, ей невидимому, — напоминали о том, что сказала Мэри.
Подменыш он! Все это знают, все, кроме вас.
— Что ты такое? — прошептала Нора.
Михял моргнул, глядя вверх, на потолочные балки. На подбородке засохла слюна. Нос был в соплях, бесцветные ресницы слиплись. Твердой рукой Нора коснулась его виска и почувствовала, как под тонкой кожей заходила челюсть.
— Ты ребенок или подменыш? — шепнула Нора, ощущая бешеные удары сердца прямо в горле.
Веки Михяла сомкнулись, из глотки вырвался клокочущий вопль, тело выгнулось, разбрасывая соломенную подстилку. Не успела Нора убрать руку, как мальчик ухватил в кулак ее волосы. Она попыталась разжать его пальцы, но он отдернул руку, и голову ее пронзило болью, острой и жгучей.
— Михял!
Нора, морщась, пыталась высвободить волосы, но цепкие пальцы их не отпускали. Он дернул сильнее. На глаза Норы навернулись слезы.
— Пусти! Пусти меня, наглый выродок! — Нора рванулась прочь, оставив в руке у мальчика клок своих выдранных волос, и размахнулась, чтобы дать ему пощечину. Но промазала, и удар пришелся по голове.
В гневе она разжала его пальцы и, ухватив одной рукой за подбородок, влепила другой рукой еще пощечину — с такой силой, что заболела ладонь.
— Мерзавец! — вскричала она и ударила снова.
Лицо мальчика стало пунцовым, он разинул рот и заревел. Норе хотелось заткнуть этот рот, запихнуть в него испачканное белье, только чтобы прекратились эти крики.
— Поганец зловредный! — прошипела она, прижимая руку к саднящей ране на голове.
— Он же не хотел!
Обернувшись, Нора увидела Мэри. Та стояла в дверях, прижимая к бедру подойник.
— Он мне клок волос выдрал!
Мэри прикрыла дверь от снежного блеска.
— С вами все хорошо?
— Я спать из-за него не могу! Он орет всю ночь напролет. — Нора расслышала истерические нотки в собственном голосе.
Девочка кивнула:
— Думаю, это он от холода. И спина у него вся в сыпи. Из-за того, что обмарывается.
Нора села у очага, прижимая руку к саднящей ране.
— Могла бы и помыть его.
— Я мою! — жалобно возразила Мэри, и Норе стало стыдно.
— Ну ладно. Как доилась Бурая?
— Не то чтоб хорошо, миссис. Вы говорили, что она много молока дает, но… я уж и пела ей, потому что знаю, что любят они пение. Но молока-то едва на донышке.
Нора устало прикрыла веки.
— Так мы и аренды заплатить не сможем.
— Масло-то нынче взбивать?
— А хватит там?
Мэри приподняла тряпицу на стоявшей на столе крынке.
— Да. На это хватит. А Михялу сливок дать? Может, это его успокоит. Не знаю уж, отчего это он — от холода или во сне чего увидел и напугался. Я тоже от криков его спать не могу.
— Что ж, дорога на Аннамор тебе открыта.
— Да я не про то вовсе! — с жаром воскликнула Мэри. — Не хочу я домой возвращаться. Только кажется мне, что переменился Михял, и не знаю я, как его угомонить. Мучится он, я так думаю.
— Это они тебе у родника нашептали?
— Вовсе нет! — возмутилась Мэри. — Да они со мной и не болтают, те женщины. Я подойду, воды наберу и назад, и не стою с ними, не сплетничаю насчет вас и Михяла, слово даю!
Нора видела, что девочка готова расплакаться.
— Одна из тех женщин, как увидит меня на дороге, сразу на три шага пятится. Оттого что я рыжая. Кейт ее зовут. Кейт Линч.
— Да, она сглазу ужас как боится. Чего ни увидит на дороге — сразу давай креститься. На зайца, на ласку, на сороку.
— Она на землю плюет и бормочет: «С нами крестная сила, встань между мной и порчей!»
Нора закатила глаза:
— Да Кейт скоро, и меня встретив, креститься начнет — со страху перед вдовьим проклятьем.
Михял судорожно вдохнул и завопил с новой силой.
— Вы на ножки его гляньте, — сказала Мэри, — он теперь и брыкаться-то насилу может. Может, сломаны ноги у него, а? И вроде как не чувствуют они ничего. — И, склонившись к вопящему ребенку, она приподняла край его одежды: — Вот, гляньте!
Ноги Михяла были точно голые зимние веточки. Кожа, обтянувшая кости, была вся в язвах. Нору замутило.
Мэри закусила губу.
— Какая-то хворь его гложет. Знаю, что ходить он не ходит, но теперь у него и пальчики на ногах не шевелятся.
Нора поспешила прикрыть ноги Михяла.
— Я все думаю, Мэри, — пробормотала она. — Сколько должен вытерпеть человек, чтобы пришел конец его страданиям?
Девочка молчала.
Нора провела рукой по спутанным волосам, не отводя взгляда от Михяла. Когда она ударила его, то почувствовала, что находится на грани, за которой притаилось что-то темное, и что возврата для нее уже не будет. Неизвестно, что бы она сделала, не появись Мэри. Норе было страшно.
Что это со мной приключилось?
Нора привыкла считать себя женщиной хорошей, доброй. Но, думала она, все мы добрые, покуда это дается нам легко. Возможно, сердца наши черствеют, как только удача перестает их смягчать.
— А вы не хотите доктора позвать? — спросила Мэри.
Нора устало повернулась к ней:
— Доктора, говоришь? А что у вас, в Аннаморе, доктора за каждым углом? И по домам ходят за так лечить? — Они кивнула в сторону крынки на столе. — Вот все мои денежки, а это, считай, ничего. Думаешь, я клад на дворе закопала? Думаешь, богатство где храню немереное? Сливки, масло и яйца — едва хватает на то, чтоб душа с телом не рассталась. — Она принялась заплетать волосы, резко дергая седые пряди. — Не знаю, как там у вас в Аннаморе, а здесь мы кланяемся лендлорду маслом да сливками. Почему, думаешь, у нас троих все еще есть кров над головой? Торф в очаге? Теперь вот кормилица наша корова вот-вот перестанет доиться, а ты говоришь — надо выложить кучу денег доктору, пусть придет и вынесет приговор моему внуку. А дальше-то лето — как без мужика на поле работать, чтоб аренду заплатить? Ждет нашу хижину лом, а меня большая дорога!
— Но разве нет у вас племянников, чтоб на поле работать? — озабоченно спросила Мэри.
Нора глубоко вздохнула:
— Да, да… Племянники есть, конечно.
— Может, все и не так плохо будет, как вы говорите.
— Может быть.
— И может, найдется доктор, который посмотрит Михяла бесплатно. Или за курицу, — мягко добавила Мэри. — Вы же сами говорили, что молодки ваши хорошо несутся. Разве нельзя доктору курицей заплатить?
Нора покачала головой.
— Куры нестись стали хуже, чем прежде. И какой прок от курицы доктору, что в городе живет и яйца эти ест каждое утро, будто сам их снес? — Она вздохнула: — Священник, вот кто нужен таким, как мы, только и остается, что священник.
— Так сходить мне за священником?
Нора встала, накинула на голову платок:
— Нет. Ты давай масло сбивай, Мэри. А если уж отправляться за священником для Михяла, то кому, как не мне.
Нора спускалась по дороге, ведущей вниз, в долину. Воздух был морозным и чистым, от снега щипало босые ноги. На дороге больше никого не было. Все точно замерло, лишь грачи кружили над пустыми полями.
Небольшой беленый домик священника стоял на краю долины, там, где начинались заросли вереска, а дорога, обогнув гору, уходила в сторону Гленфлеска. После того как коренастая экономка впустила ее, Нора подождала священника, сидя в гостиной у незажженного камина. Священник завтракал. Когда он появился, Нора заметила на его сорочке след яичного желтка.
— Вдова Лихи? Как поживаете?
— Спасибо, отец. Помаленьку.
— Сочувствую вам в вашем горе. Как говорится: «Грустно стирать белье, коли нет в нем мужской рубахи».
Нора постаралась не выказать раздражения.
— Спасибо, отец.
— Ну и чем я могу вам помочь?
— Простите, что беспокою вас. Понимаю, что час такой ранний и что вы занятой человек.
Священник улыбнулся:
— Скажите, что привело вас ко мне?
— Я из-за внука. Его мать, дочь моя, умерла, и я понадеялась, что, может, вы сможете вылечить его.
— Внука вашего? Чем же он болен? — Отец Хили насупился: — Не оспой ли?
— Нет, это не оспа. И не такая это болезнь. Это хуже. Не знаю, что это.
— Вы доктора вызывали?
— У меня на это денег нет. Сейчас нет. — Нора почувствовала, что краснеет, и совсем сконфузилась. — Пришлось нанять девушку, чтоб жила у меня и помогала по хозяйству.
— Простите, вдова Лихи, но, может быть, в этом все и дело. — Голос отца Хили звучал очень ласково. — Вы наняли работницу, вместо того чтоб вызвать доктора и вылечить внука.
— Я не думаю, чтоб доктор смог его вылечить.
— И поэтому вы обратились ко мне?
— Ему нужна помощь священника. У него с головой плохо.
— А-а. Он слабоумный?
— Не знаю. Он, может, и не ребенок вовсе.
— Не ребенок? Странные вещи вы говорите! Что же в нем такого особенного?
— Он не стоит на ногах, отец. Не говорит ни слова, хотя еще два года назад говорил, как все дети. Он не спит по ночам и орет. Он не растет.
Отец Хили бросил на нее сочувственный взгляд:
— Понятно.
— А родился здоровым. Вот поэтому очень бы я была благодарна, если б зашли вы взглянуть на него. Очень прошу вас, отец… думаю, может, что с ним приключилось…
— Как это — приключилось?
Нора стиснула зубы, чтоб не дрожал подбородок.
— Люди говорят, будто подменыш он.
Отец Хили поглядел на нее исподлобья. Брови его были сдвинуты. Щеки покраснели.
— Это глупая болтовня и суеверие, вдова Лихи. Не слушайте всей этой чепухи, вы ведь женщина благоразумная.
— Отец, — торопливо заговорила Нора. — Я знаю, что многие не верят в такие вещи, но если б вы пришли и взглянули на мальчика…
В наступившем молчании священник опасливо взглянул на Нору:
— Если б мальчик страдал обычным недугом или же был при смерти, я бы пришел к нему и был бы рад помочь. Но если речь идет об идиоте…
— Но разве вы не помолитесь за него? Не полечите?
— Почему же вы сами не помолитесь за него, вдова Лихи?
— Я молюсь!
Отец Хили вздохнул:
— Да, но вы не посещаете мессу. С тех самых пор, как умер ваш муж. Понимаю, что время для вас нелегкое, но, поверьте мне, месса принесла бы вам утешение.
— Нелегко вдовствовать, отец.
Священник поглядел на нее добрее. Потом покосился на узенькое оконце, поцокал языком.
— Мальчик крещен?
— Да.
— У святого причастия был?
— Нет, отец, ему только четыре года.
— И ни один врач его не осматривал?
— Осматривал один раз. Этим летом Мартин привез доктора из Килларни, но тот ничего не сделал. Только деньги взял.
Отец Хили кивнул, словно и ожидал такого ответа.
— Думаю, вдова Лихи, что, возможно, это ваш долг — заботиться об этом ребенке и делать для него все, что только в ваших силах.
Нора вытерла глаза. Голова ее слегка кружилась от усталости и разочарования.
— Так вы не приедете к нему, не осените его крестом, отец? Ведь у священника есть сила против…
— Только не упоминайте колдовства и фэйри, вдова Лихи.
— Но отец Рейли…
— Оправдывал колдунов? И даже, кажется, удостоверял их бредни именем церкви? Отец Рейли, помилуй Господи его душу, был не вправе участвовать в пережитках языческих обрядов. Сам я стану заниматься чем-либо подобным лишь с письменного разрешения нашего епископа! — Лицо его снова посуровело. — Моя обязанность, вдова Лихи, — духовно окормлять жителей этой долины в согласии с требованиями нашей веры. Как можем мы отстаивать права католиков, когда долины наши застилает дым языческих костров, когда полнятся они ведьминскими воплями плакальщиц по усопшим? Тем, кто выступает против нашего представительства в парламенте, достаточно упомянуть католиков, что льют молозиво под куст боярышника, пляшут на перекрестках и тайком поминают фэйри!
Нора глядела, как, вытащив платок, отец Хили вытер слюну в уголках рта. Ее ноги ныли от холода.
— Простите, отец, у вас желток на сорочке, — сказала она и, не дожидаясь ответа, встала и вышла из комнаты.
Возле приходского дома она свернула с дороги и пошла малохоженой неприметной тропой; щеки ее пылали от гнева. Вдали слышался шум реки. Нора вышла к канаве, где ручеек, растопив снег, превратил его в грязь, и опустилась на колени возле покосившейся каменной изгороди в зарослях крапивы.
Насчет доктора она сказала священнику правду. Мартин в самом деле съездил за ним, хотя позволить себе этого они и не могли. Одолжив у кузнеца лошадь и встав чуть свет, он отправился в Килларни и привез оттуда врача. Чуднóй такой, трусит рядом с Мартином, седой чуб прилип к лысоватому черепу, руки точно пухом покрыты седыми волосами, а проволочные очки слетают с сального длинного носа на каждом ухабе.
Войдя в хижину, он бросил опасливый взгляд на потолок — словно боялся, что тот рухнет ему на голову.
У Норы от волнения зуб на зуб не попадал.
— Да благословит вас Бог, доктор, добро пожаловать, и спасибо, сэр, что приехали!
Врач поставил на пол свой саквояж, отодвинув ногой свежий камыш подстилки.
— Грустно слышать, что ваш ребенок хворает. Где же пациент?
Мартин указал ему на бесчувственного Михяла, лежавшего на своей лавке.
Врач, наклонившись, взглянул на мальчика.
— Сколько ему?
— Три, нет, четыре года.
Врач надул щеки и затем выпустил воздух, отчего волосы на его висках затрепетали.
— Так он не ваш?
— Он сын нашей дочери.
— А где же она?
— Умерла.
Врач неловко присел на корточки, и брюки на коленях его натянулись, а ботинки заскрипели. Он придвинул к себе саквояж, щелкнув замком, раскрыл его, вытащив оттуда что-то длинное.
— Я послушаю его сердце, — подняв взгляд, пояснил он.
Врач молча принялся за дело: приложив серебристый наконечник трубки к груди Михяла, он тут же отставил его и, нагнувшись, приник волосатым ухом к белой коже ребенка. Затем постучал по груди Михяла, прошелся кончиками пальцев по выпирающим ребрам, словно по струнам неведомого инструмента.
— Что же это с ним, доктор?
Врач приложил палец к губам и строго глянул на Нору. Потом помял пухлыми пальцами подбородок малыша, поднял ему руки и осмотрел молочно-белые впадины подмышек, раздвинул ему губы, поглядел язык, затем, осторожно обхватив хрупкое, точно стеклянное тельце, перевернул мальчика на живот. Поцокал языком, увидев сыпь на спине, но ничего не сказал, затем прошелся по бугоркам позвоночника, покрутил туда-сюда руки и ноги мальчика.
— Может, это оспа, доктор?
— Скажите, вы с рождения знаете этого ребенка?
— Он только что переехал к нам, — отвечал Мартин. — А родился он здоровым. Ничем не хворал. Мы однажды видели его, и он показался нам обычным здоровым мальчишкой.
— Говорил он?
— Да, говорил. Отдельные слова, как все дети.
— А теперь говорит?
Мартин и Нора переглянулись.
— Мы так понимаем, он шибко тощий. И голодный. Вечно есть хочет. Мы сразу увидели, что с ним неладно. И решили, что от голода. Что во рту у него такой голод, что для слов и места нет.
Врач с трудом поднялся на ноги, вздохнул, отряхнулся.
— С тех пор как вы взяли его, вы не слышали от него ни единого слова, так? И ни единого шага он тоже не сделал?
Не дождавшись ответа, доктор провел рукой по блестящей лысине и взглянул на Мартина:
— Я хотел бы сказать вам пару слов.
— Все, что вы собираетесь сказать, вы можете сказать нам обоим.
Врач снял очки и протер платком стекла.
— Боюсь, ничего утешительного я сказать вам не могу. Ни оспы, ни чахотки у ребенка нет. Сыпь на спине не от болезни, скорее потертость, оттого что он не может самостоятельно сидеть.
— Но поправится он? Пройдет у него это? Что нам с ним делать?
Врач опять надел очки.
— Бывает, дети плохо развиваются. — Он собрал в саквояж инструменты.
— Но он родился здоровый. Мы своими глазами видели. Значит, он сможет опять выправиться.
Врач выпрямился, пожевал губами.
— Может, и так, но я считаю, что он останется недоразвитым.
— Разве нет у вас в вашей сумке чего-нибудь, чтоб ему дать? Ведь куда это годится, когда здоровый мальчик вдруг становится таким вот! — У нее пересохло во рту, язык прилипал к гортани. — Поглядите, поглядите на него: голодный! Орет! Слова выговорить не может! Холодный, как льдышка. Еда ему впрок не идет, кажется, вот-вот он рассыплется в прах.
— Нора… — ласково прервал ее Мартин.
— Он же здоровенький был! Я видела, как он ногами ходил! Есть же у вас в сумке лекарство! Почему не дадите ему чего-нибудь. Лишь ворочаете его да тычете то туда, то сюда, точно мясо на вертеле!
— Нора… — Мартин взял ее за запястье.
— Думаю, вам следует приготовиться к худшему, — сказал врач, нахмурившись. — Было бы ошибкой внушать вам надежду, когда надежды на самом деле нет. Уж простите.
— Вы знаете, чем он болен?
— Кретинизмом.
— Я не понимаю.
— Он ненормальный.
Нора покачала головой:
— Но у него все на месте! Пальцы на руках, на ногах… Я…
— Простите. — Врач надел пальто, очки его при этом в очередной раз скользнули по носу вниз. — Ваш мальчик кретин. Ничем не могу ему помочь.
Погода испортилась. Горизонт затянуло пеленой дальнего снегопада. Нору охватила острая тоска по Мартину, ей так не хватало спокойной его уверенности. Даже после ухода доктора, когда в душе Норы бушевал гнев, Мартин сумел утешить ее — прижав Нору к теплой своей груди, он негромко шепнул ей: «Чего не вылечим, с тем стерпимся».
Ничего не вылечим, думала Нора, опершись спиной о нетесанные камни ограды. Я осталась одна с умирающим ребенком на руках, ребенком, который никак не умрет.
И она пожелала Михялу смерти. Пусть заснет и не проснется, пусть ангелы унесут его на небо, или фэйри в эту свою круглую крепость или куда там отправляются безгласные души после смерти. Все лучше, чем мучиться до старости в бессильном теле, снося все тяготы и удары, которые так и сыплет на тебя жизнь.
Нет смысла себя обманывать, думала она. Смерть была бы избавлением для него, милосердием Божьим.
Нора поежилась. Она знавала истории о женщинах, порешивших своих детей. Но то были невенчаные матери, родившие в грязных убогих приютах, они убивали младенцев в приступе горя и мучительного раскаяния. Бывало, их уличали по пятну крови, или камень на речном дне вдруг сдвигался и на поверхность всплывало маленькое тельце в мешке под перепуганный вопль стирающих женщин. Слыхала она и о женщине с озера Лох-Лин, утопившейся вместе с ребенком. Каждый год в день их гибели над водой в этом месте опускается туман.
Но я же не убийца, думала Нора. Я хорошая, добропорядочная женщина. Грязными пальцами она вытерла вспухшее от слез лицо. Я не убью родного сына моей дочери. Я спасу его. Верну ему здоровье.
Пошел легкий снег, и грач, распушив перья в тихом безветренном воздухе, опустился на камень ограды.
— Я одна, — проговорила Нора.
Грач, не обращая на нее внимания, чистил о камень свой серый клюв. Глядя на птицу и удивляясь неожиданному соседству, Нора вдруг ощутила, как воздух позади нее словно уплотнился и что-то, кольнув, коснулось шеи.
И тут она заметила крапиву.
И вспомнила, как однажды, дождливым весенним вечером, Мартин открыл дверь плечом. Руку он прижимал к груди. Она холодная как камень, объяснил он, и кажется, будто в ней крови вовсе не осталось.
Нора ощупала его вспухшие пальцы.
— Да вроде крови в ней достаточно, — сказала она. — Даже слишком много.
Однако рука не слушалась весь вечер и весь следующий день, а к вечеру он заявил, что пойдет к Нэнс Роух. «Она из Патрика глиста выгнала и опухоль у Джона с руки сняла, и никому не навредила».
— Странная она, — ответила Нора, на что Мартин возразил, что все лучше, чем до скончания дней мучиться с рукой как льдышка. И ушел.
Вернулся он от Нэнс на следующее утро. Рука опухла и была пунцового цвета, но снова гнулась и слушалась.
— Она просто чудеса творит, баба эта, — повторял он в радостном изумлении. — Никогда не догадаешься, чем она меня вылечила. Крапивой! Кровь в руку она мне крапивой вернула! — И он поднес ладонь к щеке Норы, показывая, какая теплая стала рука.
Чтоб не обжечься, Нора обмотала руки полою юбки и стала рвать стебли крапивы и складывать в передник. Она понимала, что выглядит, должно быть, полоумной — дерет крапиву из-под снега! Но сердце ее радостно билось: она его вылечит!
Это поможет, думала она. Мартину помогло, поможет и Михялу.
— Всеблагая Матерь Божья, сделай так, чтоб это помогло! — Слова сами складывались в молитву: — Я верну в него живое тепло, это верное средство, помоги мне, Пресвятая Дева, молю тебя!
Нора вернулась в хижину с ворохом крапивы в переднике. На зубчатых листьях таял снег. Захлопнув за собой дверь, Нора увидела Михяла на полу и Мэри у маслобойки с тяжелой мутовкой в руках. «Сбейся, масло, сбейся, масло», — шепотом приговаривала она.
Заметив Нору, девушка остановилась, тяжело дыша и потирая уставшие плечи.
— Что сказал священник?
— Не взялся. Так что вот крапивы нарвала.
— Крапивы? В снегу? — Мэри сдвинула брови.
— Да. И что тут такого? Займись-ка маслом, продолжай!
Мэри опять взялась за мутовку, а Нора, развесив у огня накидку и сбросив крапиву в корзинку, склонилась над Михялом. Осторожно ухватив его за лодыжки, она притянула мальчика к себе и, приподняв одежду, обнажила ноги. Обернув руку краем платка, она взяла крапиву, а другой рукой приподняла голую ступню Михяла. Пощекотала крапивой пальцы, провела листочками по коже.
Стук мутовки прекратился. Нора понимала, что Мэри следит за ней, но промолчала.
Ступня Михяла, лежавшая на ее ладони, казалась странно тяжелой и совершенно неподвижной. Ни малейшего движения. Норе было непонятно, что делала Нэнс с холодной отнявшейся рукой Мартина, когда лечила его крапивой. Она представила себе Мартина, как он сидит в полумраке ее лачуги, растопырив пальцы, а Нэнс что-то нашептывает, втирая ему в кожу жгучие листья.
Замахнувшись крапивой, Нора хлопнула Михяла по лодыжке. Потом чуть постегала от лодыжки до колена.
Михял вздернул подбородок, упрямо и как бы с вызовом, а затем, ощутив жгучую боль, зажмурился и завопил.
Мэри кашлянула:
— Что это вы делаете?
Нора не ответила. Вновь подняв пучок крапивы, она легонько стеганула им скрюченные колени, лодыжки, голые ступни. На коже ребенка, порозовевшей от ожога, выступили волдыри.
Значит, он чувствует, подумала Нора, если плачет, значит, чувствует.
Мэри стояла молча, сжав в руках мутовку.
Но ничего не произошло. Покрытые пятнами и язвами ноги по-прежнему не двигались. Нора почувствовала, как ее охватывает отчаяние. Мартину же помогло! Мужу-то крапива оживила руку! Это больно, говорил он, но, когда боль унялась, сразу так тепло сделалось.
И словно в подтверждение, Мартин взял ее за подбородок, потер заскорузлым пальцем ее щеку, успокаивая. Видишь, как новенькая, сказал он. Не так-то просто меня на лопатки положить!
Норе показалось, что пальцы на ногах Михяла чуть сжались, и, ободренная, она сильнее стеганула крапивой его колени.
— Перестаньте, пожалуйста, — прошептала Мэри.
Мы вылечим его, уверял ее Мартин, мы вдвоем сможем его выходить, мы сделаем это ради Джоанны. Он станет для нас утешением. Ведь это родной наш внук.
Мальчик закричал еще пронзительнее, и Нора замерла, вглядываясь в него. Перекошенное красное личико. Рыжие волосы. Какой-то упрямый неподатливый бесенок. Из-под зажмуренных век струятся слезы, он судорожно дергается, бьет кулачками по полу. И от каждого удара Нора болезненно вздрагивала.
Это не мой сын, сказала Джоанна. С обрывающимся от этих воплей сердцем Нора вдруг поняла, что это не он, не тот мальчик, которого видела она в доме дочери. Сквозь нахлынувшие слезы она ясно увидела странные, нелюдские черты, о которых твердят все в долине. Все эти месяцы ей казалось, что в мальчике есть что-то от Джоанны. Мартин это тоже видел, потому и любил внука. Но сейчас Норе стало ясно: ничего от Джоанны в ребенке нет. Все в точности, как говорил Тейг. Джоанна не признала дитя, потому что ничего от них с Тейгом в нем не было. Он кукушонок, подброшенный к ним в гнездо.
Он не наш, думала Нора. Он не Михял. И она, перевернув мальчика, ударила его новым пучком крапивы по щиколоткам.
Мальчик выл, утыкаясь лицом в камышовую подстилку. На его одежду и передник Норы летели брызги грязи.
— Довольно! — крикнула Мэри.
Это фэйри, думала Нора. Это не мой внук.
Мэри кинулась к ней и попыталась выхватить крапиву.
— Оставь меня, — сквозь зубы прошипела Нора, высвобождая руку из пальцев Мэри.
— Ему же больно! — всхлипнула Мэри.
Нора пропустила это мимо ушей. Тогда девочка схватила корзину с остатками крапивы, желая выбросить их на пол.
Нора успела уцепиться за плетеный край; упрямо сжав рот, она тянула корзину к себе. Мэри, поднявшись с пола, не отпускала корзину и тоже теперь кричала — плакала, такая же красная, как Михял, плакала, не таясь, разинув рот. Они рвали друг у друга корзину, тянули каждая на себя, пока Нора наконец не одолела. Мэри опустилась на пол возле корзины, измученная, с остекленелым взглядом.
— Это жестоко! — рыдала Мэри.
Ребенок кричал во всю мочь, давясь и задыхаясь. Голова его беспомощно моталась из стороны в сторону.
А Нора все била его крапивой.
Наклонившись, Мэри выхватила из корзины то, что в ней оставалось, и швырнула в огонь. Угли моментально почернели под мокрой тяжестью. И не дав Норе слова сказать, девочка ринулась к двери и, распахнув ее настежь, устремилась на заснеженный двор.
Глава 7 Щавель
— ЧТО ВЫ ТАМ, С УМА ПОСХОДИЛИ?
Стоя в дверях, Пег О’Шей во все глаза глядела на Нору и Михяла. Нора сидела на полу, трясясь всем телом и сжимая кулаки, так ногти впивались в ладони. Полуголый Михял вопил от боли. С каждым криком голова его поднималась и падала на пол со стуком, мерным и гулким. Лицо его было забрызгано грязью.
Проковыляв в дом, Пег торопливо подняла ребенка с пола:
— Ну все, все, маленький! Тихо, тихо!
Она опустилась на табуретку возле остававшейся на полу Норы.
— Ради всего святого, что ты, Нора Лихи, сделала с мальчиком?
Нора пожала плечами и вытерла нос.
— Девчонка твоя, Мэри, прибежала ко мне сама не своя — кричит, что ты стегаешь ребенка крапивой. Ты что, в своем уме? Мало ему боли и страданий?
Пристально глядя на Нору, Пег выждала, а потом топнула ногой:
— Хватит! Кончай плакать и объясни, что к чему!
— Отец Хили, — с трудом выговорила Нора.
— Что «отец Хили»?
— Он не станет лечить мальчика. Я просила его. А он сказал, мальчик превратился в идиота, что это точно и сделать ничего нельзя. Он сказал, что слышать не хочет о добрых соседях, потому что все это одно суеверие. — Подбородок Норы дрожал. — А куда Мэри делась?
— Я послала ее на Флеск — набрать щавеля. Прикрой его одеждой, Нора. Хорошо, я сама это сделаю. Малыш вопит так, словно ты его живьем жаришь.
Пег положила Михяла себе на колени и укутала своей шалью.
— А теперь расскажи мне по порядку, что происходит.
— Люди говорят, он подменыш. — Лицо Норы сморщилось в гримасе отчаяния.
Пег помолчала.
— Что ж. Может, и не без того. Is ait an mac an sаol. Мир — чуднóе творение.
— Если ты веришь, что это так, как можешь ты прикасаться к нему? — Нора даже захлебнулась от возмущения. — И почему вступаешься, когда я хлещу его крапивой?
— Нет у тебя сердца, Нора Лихи. Да и мозгов не больше, чем у рыбы. Неужто сама сообразить не можешь, что если это подменыш, то, обижая его, ты своего родного внука страдать заставляешь? Не очень-то понравится добрым соседям жестокое обращение с кем-то из их роду-племени. — Пег приподняла край одежды Михяла и стала осматривать его ноги, поворачивая их так и эдак. — Эк ты его отделала! Что такое на тебя нашло, с чего бы?
Нора, с трудом приподнявшись, села на лавку.
— Я думала, что оживлю ему ноги. Что боль заставит их двигаться. — Она судорожно вздохнула.
— В жизни о такой дикости не слыхала! Ишь, знахарка нашлась! — Пег укоризненно поцокала языком.
— Нэнс Роух так руку Мартину когда-то вылечила. Прямо отошла рука.
— Нэнс Роух дано знание. А ты, Нора, возомнила, будто и тебе тоже. Лучше бы ты заварила крапиву и напоила малыша нашего порченого. — Она прижала голову Михяла к своей морщинистой шее и ласково зашептала ему на ухо: — Что же нам делать с тобой, малютка? Из каких дебрей ты к нам пожаловал?
— Пег, я знаю, что говорят обо мне, — хрипло проговорила Нора. — Будто дочку не Господь призвал, а Эти умыкнули, утащили в свое логовище. И будто от него все несчастья у нас в долине и с меня за это спросится. Говорят… — голос изменил ей, — что Мартин и умер оттого, что этот вон у нас появился. И я гляжу на него, Пег, и все думаю…
— Нора Лихи! Выше голову, наплюй ты на сплетни, которые выеденного яйца не стоят. А коли он и вправду подменыш, так это и к лучшему, стало быть, ты за него не в ответе. И Михяла мы тебе вернем, есть для этого средства.
— Я знаю, что делают, чтоб выгнать подменыша. — Нора сплюнула. — Надо положить его на ночь на навозную кучу, чтоб фэйри признали его и забрали обратно. Надо пугать его огнем. Может, мне его на горячий совок положить, в печь засунуть, может, раскаленной кочергой ему глаз выжечь?
Пег строго взглянула на нее:
— Хватит. Довольно этих безумных средств, которые только от отчаяния и могут в голову прийти. И речей этих безумных, и сплетен — хватит! Тебе надо потолковать с человеком, сведущим в таких делах. — Она заглянула в глаза Норе. — С Нэнс тебе надо поговорить.
Мэри мчалась во весь дух вниз по травянистому склону. Колючки цеплялись за юбку, в кровь раздирали ноги. То и дело их пронзала боль, но девочка не останавливалась, пока за спутанными ветвями упавшего дерева не показался берег реки. Вода в реке казалась темной, как ночной кошмар. Когда Мэри добралась до кромки воды, ее щиколотки были все исколоты и в кровь исцарапаны ежевикой.
Не разгибаясь и тяжело дыша, Мэри искала среди мертвой сухой травы и хрусткого, схваченного морозом папоротника щавель. Она заметила его листья на осыпающемся береговом скате и поползла на животе, осторожно, чтобы не обрушить под собой землю. Потянувшись за щавелем, она увидела на поверхности реки свое искаженное отражение. В лице ее было столько ужаса, что опять захотелось плакать. Мэри вытерла рукавом мокрые глаза и нос.
Вид Норы, стегавшей крапивой ребенка, разбудил забытые страхи. Своим безобразием эта картина напомнила ей другие. Однажды она видела, как мужчина глумится над несчастной безумицей, задержанной за то, что расхаживала по улице в одной сорочке. Презрение осеняло его лицо темным нимбом. В другой раз, майским утром, девочки постарше ползли голые задом наперед сквозь колючий куст шиповника. Вид бледных тел, корчившихся на траве, извивающихся, сжимающихся от уколов колючих ветвей, почему-то растревожил Мэри. Она не поняла тогда, что это такое, что они делают, и лишь заперла в памяти эту тягостную картину. Лишь позже она узнала о таинственной силе двукорневого шиповника, и она поняла тогда, что девочки ползли через дьявольские врата, навлекая проклятие на чью-то голову. Больше она их не встречала, но тут вспомнила при виде измазанной грязью вдовы, хлещущей ребенка крапивой по ногам.
Она его не просто била. Мэри случалось видеть в Аннаморе, как матери в сердцах шлепают своих детей, иных и помладше Михяла. Помнила она и тяжелую руку хозяина фермы на севере.
Но в ударах вдовы чувствовалось что-то зверское. Она словно ума решилась. Хлестала его так, словно перед ней заупрямившаяся скотина или даже туша, которую надо свежевать. У Мэри прямо сердце останавливалось.
Нора не лечила мальчика крапивой, она его наказывала.
Склон был скользким от снега и глины, и на обратном пути Мэри то и дело оскальзывалась. Карабкаясь вверх, она не раз помогала себе руками и, вытирая вспухшие от слез глаза, ощущала грязь на лице. К реке она спускалась по тропинке, но сейчас, торопясь обратно, завернула к лесу, где склон был еще круче. От усталости легкие горели огнем. Внезапно нога поехала вбок, ее пронзило болью, и Мэри упала.
Выпустив листья щавеля, она обеими руками сжала щиколотку. И сидела в грязи, давясь слезами и раскачиваясь из стороны в сторону.
Хочу домой.
Мысль эта пронзила ее как игла и тугой ниткой стянула все ее существо.
Я хочу домой.
Сжав зубы, Мэри попыталась встать. Не вышло. Жилы на ноге словно взорвались болью, и, сидя в грязи, девочка дала волю слезам. Ненавижу эту долину, думала она. Ненавижу это странное хилое дитя, ненавижу эту вязкую тоску, что туманом ползет от вдовы. И бессонные ночи. И сон урывками, и вонь мочи, въевшуюся в одежду калеки, и жалость, с которой смотрит соседская старуха. Хочу назад, к братьям и сестрам. Хочу сидеть у огня и чтоб пальчики малышей гладили и теребили ее волосы. Хочу слышать веселую младенческую воркотню, видеть румяные детские лица и просыпаться от прикосновения маленьких ручек к своему плечу. Так не хватало Дэвида и молчаливого его понимания.
С меня довольно, думала Мэри. Почему так странен, так ужасен мир?
— Кто это тут так горько плачет?
Мэри вздрогнула. За спиной у нее остановилась старуха в рваном платке, волочившая по земле толстый сломанный сук.
— Что, болит? — Женщина озабоченно наклонилась к ней.
Мэри замерла и в изумлении уставилась на нее. Лицо в морщинах, на глазах бельма, — а голос ласковый. Протянув руку, старуха положила пергаментную ладонь на согнутое колено Мэри.
— Болит, — ответила она на собственный вопрос.
Женщина встряхнула сук, и Мэри увидела, что тот служил салазками: на нем лежали куски торфа, комья навоза и собранные растения. Женщина сняла это все на землю, ободрала мелкие ветки и подала Мэри кривую палку.
— Попытайся встать, девочка. Вот, возьми.
Мэри поднялась, опираясь на здоровую ногу и палку, воткнутую в напитанную водой землю.
— А теперь другой рукой обними меня за плечи. Пойдем ко мне домой, и там я смогу тебе помочь. Видишь, вон моя избушка.
— А как же торф? — шмыгнула носом Мэри. Она ощущала под рукой костлявое старухино плечо и торчащую лопатку.
Женщина поморщилась от тяжести.
— Ну его. Так-то доковыляешь?
Мэри тяжело оперлась на палку, держа больную ногу на весу.
— Но я не хочу вам больно делать.
— Я крепкая, что твой бык, — улыбнулась женщина. — Вот так… И туда!
Кое-как спустившись с холма, они вышли на грязную прогалину на краю леса. Глинобитная лачуга стояла почти вплотную к зарослям ольхи, на ветвях деревьев чернели птичьи гнезда. Трубы у хижины не было, но Мэри заметила дымок, поднимавшийся с края крыши, где была проделана дыра. Привязанная на опушке коза, заслышав их голоса, перестала щипать траву, подняла голову и уставилась на Мэри.
— Вы тут живете?
— Ну да.
— Я думала, что хижина эта заброшена.
Издали доносился шум реки.
— Да я уж лет двадцать тут живу, если не больше. Входи, девочка. Входи и устраивайся у огня.
Ухватившись за дверной косяк, Мэри впрыгнула внутрь хижины. Снаружи бохан старухи выглядел сырым и неказистым, но внутри оказалось на удивление тепло. Пол был покрыт свежим зеленым камышом, от него приятно пахло чистотой. Окна в хижине не было, но ярко горевшее в очаге пламя освещало хижину, разгоняя мрак. Подняв взгляд вверх к низкому потолку, Мэри увидела на стропилах множество крестов святой Бригитты, почерневших от времени. В углу она заметила плетеные корзины со свалявшейся нечесаной шерстью.
— Вы что, бянлейшь? — шепнула Мэри, указав на свисавшие с грубых балок пучки сухих трав.
Женщина, стоя на пороге, смывала грязь с ног и рук.
— Что ли, раньше никогда у знахарок не бывала?
Мэри покачала головой. Во рту у нее пересохло.
— Вот сядь сюда, на табуретку.
Женщина закрыла дверь, в хижине стало темнее, по стенам заплясали длинные тени.
— Меня Нэнс Роух звать, — сказала женщина. — А ты служишь у Норы Лихи.
— Служу, — не сразу ответила Мэри. — Я Мэри Клиффорд.
— В несчастливый дом ты попала. — Нэнс уселась рядом с Мэри. — Несчастная она, вдова Лихи.
— Разве не все вдовы несчастные?
Нэнс засмеялась, и Мэри заметила ее голые десны с немногими оставшимися зубами.
— Не по каждому умершему мужу плачут, девочка, как и не по каждой жене.
— Что это с вашими зубами случилось?
— А-а, долгое время им у меня во рту делать нечего было, вот тогда я их и потеряла. Но дай-ка мне взглянуть, что там у тебя не так.
Мэри протянула к огню голую ногу, подошву охватило тепло.
— Щиколотка вот…
Нэнс осмотрела вспухшую щиколотку, не прикасаясь к ней.
— Вот оно что. Позволишь мне ее полечить?
В полумраке было видно, как расширились глаза у Мэри.
— Будет больно?
— Не больнее, чем сейчас.
Мэри кивнула.
Поплевав себе на ладони, Нэнс легонько приложила их к щиколотке.
— С нами крестная сила. Конь оступился, жилу растянул. Кровь на кровь, плоть на плоть, кость на кость. Как Господь его вылечил, так и тебя пусть вылечит. Аминь.
Вслед за Нэнс перекрестилась и Мэри и, осеняя себя крестом, почувствовала, как в ноге разгорается тепло, словно Мэри положила ее слишком близко к огню. И вот боль стихла, а Мэри перевела дух. Она попыталась встать, однако Нэнс предостерегающе погрозила ей пальцем:
— Не время еще. Теперь нужна припарка.
Она встала. Мэри с любопытством глядела, как старуха сыплет в глиняную миску из прикрытой тряпицей корзинки какие-то травки.
— Что это за травы? — спросила она.
— Тебе этого знать не надо.
Взяв яйцо, она резким ударом о край миски сломала скорлупу и пропустила белок яйца сквозь скрюченные пальцы. Оставшийся в руке желток она проглотила.
— Мне это съесть надо? — спросила Мэри, указывая на миску.
— Это на тело, а не в брюхо. Папоротник, водяной кресс и крапива.
— Крапива? — испуганно переспросила Мэри.
— Крапива жечь не будет. Я вымочила из нее всю едкость.
Нэнс помяла травки старой деревянной толкушкой.
Закрыв глаза, Мэри вновь увидела страшные, исполосованные красным ноги Михяла, увидела вдову, хлещущую его крапивой по ногам. Живот сжало судорогой, к горлу внезапно подступила рвота и прыснула в зашипевший огонь.
— Простите, — выговорила она, и затем ее опять вырвало.
Мэри почувствовала руки, ласково отводящие от ее лица пряди волос. Костлявые пальцы Нэнс гладили ее плечо.
— Ничего, ничего… — приговаривала она.
Губ Мэри коснулась чашка прохладной воды.
— Простите меня, — заикаясь, повторила Мэри.
Она отплевывалась кислой желчью, от которой саднило в носу.
— Бедняжка… Как напугалась-то…
— Это я не из-за ноги!
Старуха своими ласковыми прикосновениями напомнила Мэри о матери. Вытирая рот тыльной стороной руки, девочка вновь ощутила слабое жжение крапивы и разрыдалась.
Нэнс поднесла к глазам руки Мэри и, перевернув кверху ладонями, разглядывала волдыри. Нахмурилась:
— Это она тебя так?
Долгое молчание.
— Мэри Клиффорд! Это Нора Лихи тебя отстегала?
— Не меня, — наконец выпалила Мэри. — Его отстегала, Михяла. Она била его крапивой.
Нэнс кивнула:
— Увечного ребенка…
— Вы знаете о Михяле?
Выпустив руки Мэри, Нэнс поплотнее закуталась в платок.
— Я много чего слышала о нем. Много сплетен.
— Он не такой, как все, — выкрикнула Мэри. — И она это знает. Она его прячет. И мне велит прятать, потому что боится, что люди скажут. А они и так прознали и говорят, что подменыш это и что все беды из-за него. Вот она его и наказывает. — Слова так и лились из нее. — Она хлестала его крапивой. Она пьет, а глядит так, что жуть берет. Оба они не в себе. Страшно подумать, что может случиться.
Нэнс крепко сжала обожженные руки Мэри.
— Ну все, все, — успокаивала она ее. — Ты нашла теперь меня, нашла!
Михял наконец угомонился. Нора хотела забрать его у Пег, но старуха остановила ее взглядом:
— Посиди-ка у огня, может, рассудок воротится.
— Хочу, чтоб Мартин был тут, — вздохнула Нора. Ей казалось, что душа ее крошится в труху под тяжестью горя.
Голос Пег был строг и неумолим.
— Понятно, хочешь. Но Мартин сейчас у Бога на небесах, а ты должна продолжать жить, и жить как можно лучше.
— Хочу, чтоб Мартин был тут, — повторила Нора и почувствовала, как кровь приливает к лицу. — Хочу, чтоб умер не он, а Михял.
Пег пожевала губами.
— Я собственными руками отнесла бы Михяла на кладбище и там живьем закопала, если б могла вернуть этим дочь! — Нора рухнула с табуретки на пол, на четвереньки. — Да! Я сделала бы это! Лишь бы Джоанна была со мной!
Нора почувствовала, как два заскорузлых пальца приподняли ей голову за подбородок.
— Хватит! — прошептала Пег, не отпуская ее голову. — Ты что, Нора Лихи, думаешь, что ты единственная на свете потеряла дочь? Я пятерых детей схоронила! Пятерых! — Голос ее звучал ровно. — Большое несчастье в один год опустить в могилу два гроба, но это не причина терять голову, и рвать себе сердце рыданиями, и валяться на полу, как упившийся забулдыга! И не надо вопить на всю долину про убийство — люди услышат. Не надо грозить ребенку бедами худшими, чем с ним уже случились.
Нора оттолкнула от себя пальцы Пег.
— Да кто ты такая — учить меня, как мне с горем управляться?
— Я помочь хочу!
Со двора донеслись голоса. Женщины переглянулись.
— Кто это? — прохрипела Нора.
— Может, Мэри со щавелем?
— Голос не ее.
Поднявшись, Нора задвинула засов на двери и стала ждать, прижавшись к стене и приникнув ухом к дверной щели.
В дверь резко постучали.
— Кто там? — крикнула Нора.
— Нора Лихи, лучше открой мне. Я привела Мэри, и ей худо.
Пег вытаращила глаза:
— Нэнс? Ради бога, Нора, впусти эту женщину!
Нора вытерла рукавом глаза и отодвинула засов. В хижину хлынул свет.
Перед ней стояла Нэнс и глядела на нее своими голубоватыми слезящимися глазами. Она была замотана в платок, на руке висела корзина.
— Тебе плохо, — пробормотала она. — И утаивать это — только хуже.
Нора почувствовала, что Нэнс разглядела все — ее заплаканное лицо, царапины на руках, ногти, обкусанные до мяса.
— Что ты здесь делаешь?
— Твоя девчонка на реке себе ногу растянула и сидела там. Я проводила ее, помогла до дому добраться, но, думаю, я… — Нэнс глядела за спину Норы, на Пег, прижимавшую к груди ребенка, — думаю, что тебе, Нора Лихи, я нужна не только для этого. — И, положив руку Норе на плечо, она отодвинула ее от двери и вошла.
Вслед за ней, бросив на Нору опасливый взгляд, за порог проковыляла Мэри.
— Нога-то сильно болит? — спросила Нора, указав на грубую повязку.
Девочка молча покачала головой.
— Так вот, значит, какое дитя крапивой отхлестали! Ну так дай теперь мне взглянуть на него, Пег О’Шей. Покажи мне мальчика, которого прячут. — Стянув с головы платок, Нэнс вынула из корзинки два листка щавеля. Обнажив ноги Михяла, она обернула листочки вокруг его щиколоток. — Ты его как кошка подрала, Нора Лихи.
— Я не хотела ему худого. Думала, вылечу его. — Она глубоко вздохнула. — Ты то же самое Мартину делала. Он мне рассказывал. И рука у него ожила.
Пег передала Михяла в протянутые руки Нэнс. Та минуту держала его, вглядываясь в непроницаемое личико.
— Одно дело Мартин, а другое — этот ребенок.
И Нора увидела Михяла таким, каким он предстал перед Нэнс. Скрюченное неподатливое тельце, легкое, как снежный пух на деревьях. Горсть костей — дунь и рассыплется. Перышки волос, упрямый подбородок. Пальчики сжаты, словно в попытке ухватить что-то невидимое, как будто воздух вокруг полон чудес, а не дыма от очага и несвежего людского дыхания.
Нора следила за тем, как Нэнс водит пальцем по лбу малыша. Что случилось? Чем провинилась ее дочь, что потеряла дитя? Не забыла ли она начертать пеплом крест на его лице? Обкусала ему ногти до девятимесячного возраста? Не посыпала соль ему в рот, не ограждала железом колыбель? Ведь каждая женщина знает, как защитить младенца от Тех, кто захотел бы его украсть. Держать у двери ореховый прут. Капнуть молока, если споткнулся.
Нэнс положила Михяла на камыши возле их ног.
— Он очень худой, — мягко сказала она.
— Я не держу его впроголодь, если ты об этом. Он ест и ест, никак не наестся.
— Тш-ш! Я не к тому вовсе. — Нэнс окинула ее ласковым взглядом. — Мэри сказала, что ребенка тебе отдали, когда твоя дочь скончалась, помилуй Господи ее душу. Он родился настоящим или сразу был не такой?
— Он родился хорошим, здоровым ребенком и был таким два года. Но когда дочь хворать начала, он тоже вроде как захирел. — Нора сглотнула. — Думали, что, может, это от холода или что еды не хватает. Но дочь решила, что сына забрали. Она не признавала ребенка. Просила… — Нора перевела дух. — Уже в последние дни свои она просила, чтоб унесли его прочь из дома.
Пег с любопытством взглянула на нее:
— Ты ни слова не говорила мне об этом, Нора!
— Но греха на ней нет! — с жаром воскликнула Нора. — Она была хорошей матерью!
— Скажи мне, — прервала ее Нэнс. — Скажи, в чем он не такой, как все.
— Ты что, сама не видишь? Стоит лишь взглянуть — он во всем не такой!
Повисло тяжелое молчание. Ветер задувал под дверь, наметая снежную крупу.
— Кричит по ночам, — шепотом сказала Мэри. — Не спит, когда на руки берешь, не лежит спокойно — брыкается и кусается.
— Он не похож ни на кого из нашей семьи.
— Ради бога и мук его смертных, Нора… — Пег прижала руки к вискам. — Не знаю, Нэнс… Не ходит он, не говорит.
— Он хотел волосы у меня выдрать.
Нэнс пригляделась к мальчику.
— Дай-ка мне нитку, Нора, — сказала она. — Мне надо его измерить.
— Зачем?
— Может быть, на нем заклятье или изурочили его.
— Дурным глазом? — уточнила Мэри.
— Ну да, сглазили то есть.
Нора достала пряжу и выдернула нитку. Перекусив ее зубами, она передала нитку Нэнс, и та, натянув ее от пяток до бедер, ловко и привычно измерила обе ноги. Ветер не унимался.
— Так я и думала. Ноги у него разные, — сказала Нэнс, — а это верный знак, что с ним все непросто.
— Господи милостивый, а доктор из Килларни ничего и не заметил!
— Ты хочешь знать, Нора, почему он не такой. И откуда взялась в нем странность.
Лицо Норы болезненно сморщилось.
— Я боюсь… боюсь, что подменыш он.
Старуха выпрямилась.
— Может быть, да, а может быть, нет. Это можно выяснить. Добрые соседи могли лишь заклясть его, так что он расти перестал, или…
Нэнс коснулась рукой грудной клетки мальчика. Его волосы прилипли к вискам, лицо раскраснелось.
— Или что? Нэнс?
— Добрые соседи, Нора, могли заколдовать мальчика, лишить его здоровья, а могли и вовсе забрать, подкинув на его место подменыша. То создание, что находится у тебя в доме, может оказаться их роду-племени.
Прижав ладонь ко рту, Нора кивала, едва сдерживая слезы:
— Ты же видела, Мэри. В первую же секунду, едва переступив порог, ты поняла.
Мэри не сводила взгляда с неровного пламени лучины.
— И Джоанна. Должно быть, она знала. Своего ребенка мать признает всегда. — Нора прерывисто вздохнула. — И я знала тоже, с первой минуты, как увидела. Знала, потому что ждала, что стану любить его. Думала, что что-то со мной не так… что сердце у меня… — Она теребила платок, перебирая пальцами вязаные петли. — Но вот это… это все и объясняет. Вот в чем правда-то. И греха в том, что противен он мне был, нет.
Пег пожевала губами. Беспокойно откинулась на спинку стула.
— А как узнать-то, отродье он фэйри или просто на нем их проклятие?
— Подменыш ест без устали, а не растет. И то, что не говорит, — это знак того, что добрые соседи злобу затаили против нас, обиделись на что-то. Немота как раз и указывает на это. И что кричит он дни и ночи напролет — тоже знак того, что подменыш он.
— Ну ты скажешь, Нэнс! Все дети орут, да не все же от Них! — возразила Пег. — А уж мои как верещат — прямо сущие фэйри.
Нэнс осадила ее строгим взглядом:
— Но твои дети, Пег, ходят-бегают сызмальства, а болтают так, что даже мне в моем бохане слыхать.
— И крик у него тоже особенный, — добавила Мэри. — Странный такой крик.
Нора приоткрыла веки:
— Точно лисица тявкает.
Потянувшись к кочерге, Пег, нахмурившись, принялась ворошить угли. Взметнулись искры.
— Есть средства вызнать у фэйри, что он такое. Узнать подменыша, — сказала Нэнс.
— Слышала я об этих средствах, — с дрожью в голосе призналась Нора. — Раскаленная лопата и горящие угли. — Она замотала головой. — Не хочу я его убивать.
Круто развернувшись к ней, Нэнс смерила ее долгим взглядом:
— Разве об убийстве мы толкуем, Нора Лихи? Мы только припугнем подменыша, чтобы взамен к тебе твой внук вернулся.
— Брат рассказывал, что те, кто у моря живет, в отлив оставляют подменышей ниже кромки прилива. — Лицо Мэри было прозрачно-белым. — Когда плач стихает, значит, убрался он. — Она замолкла, поймав взгляд Пег. — Это правда, — шепотом добавила она. — Он собственными ушами это слышал.
— Фэйри исстари людей таскают, — сказала Нэнс. — И жен, и матерей многие через них лишались. Но надобно знать тебе, Нора, что обратно получить того, кого добрые соседи себе забрали, дело ох какое трудное. И были случаи, что люди соглашались заботиться о подменыше, хотя нрав у этих созданий не приведи бог какой строптивый.
Мэри закивала, горячо поддержав ее:
— Да-да, это я и в Аннаморе слыхала. Конечно, горе горькое, коли родное дитя фэйри заберут, но уж если так случится, то лучше выходить подменыша. Может, потом фэйри и вернут дитя.
— Я хочу вернуть Михяла, — твердо сказала Нора. — Как могу я любить отродье фэйри, если знаю, что желанное наше дитя они умыкнули? Мне бы только личико его увидеть!
— А с его колдовским подобием жить ты, значит, не согласна?
Ответить Нора смогла не сразу. Сгорбившись, едва дыша, она мяла край юбки.
— Я потеряла семью. Муж и дочь скончались, помилуй Господи их души. У меня только и остались, что племянники и… вот эта тварь. Подменыш, коли это вправду он. О нем кругом судачат. Люди поговаривают, он Мартину гибель принес, мол, знаки были, мол, куры из-за него не несутся, и коровы худо доятся. И если это все правда… Я должна сделать что-то. Должна попытаться внука моего вернуть, — шепотом докончила она.
Нэнс взглянула на нее, склонив голову набок.
— Знаешь, Нора, если тут фэйри руку приложили, то ведь может быть и так, что дочь твоя с сыном вместе теперь, под горой в их прибежище пляшут. Что сыты они, в довольстве живут и счастливы вместе. — Она махнула рукой в сторону двери: — Там-то жизнь вольготнее!
Нора покачала головой:
— Раз уж нет со мной Джоанны… Но если можно как-нибудь вернуть мне родного ее сыночка, Мартинова внука родного, вместо этого вот… то я хочу это сделать.
Огонь в очаге зашумел. По углям поползли язычки пламени. Нэнс закрыла глаза и застыла, словно вдруг сраженная усталостью, а затем отняла руку, которой гладила тело ребенка. Нора видела, как ухватил мальчик ее за пальцы, как когти его впились ей в руку. На тонкой, как пергамент, коже старухи осталась царапина.
— Ну, так тому и быть, Нора Лихи, — пробормотала Нэнс, глядя на крошечную бусинку крови. — Приходи ко мне тогда в канун новогодья и начнем. Будем с тобой волшбу снимать.
Глава 8 Тысячелистник
ДЕКАБРЬ ТЯНУЛСЯ МЕДЛЕННО. Под пасмурным, затянутым тяжелыми тучами небом женщины пели своим коровам, и голоса их звенели в туманном мареве. Они грели руки, сунув их под одежду, чтоб коровы не пугались холодного прикосновения, и доили своих кормилиц, настойчиво и умоляюще. Прижимались щекой к коровьему боку, пели и все доили, доили, моля Господа, чтоб молоко было пожирнее и годилось на масло.
Но молоко шло водянистое, и сбить из него масло стоило долгого труда. Когда это, наконец, получалось, женщины с облегчением скатывали маленький масляный шарик и мазали им стену, а потом, трижды крутанув мутовкой, клали ее поперек горлышка маслобойки, а некоторые еще и привязывали к мутовке рябиновые ветки. Другие предпочитали сыпать соль на крышку.
Вечерами женщины оставляли младенцев на попечение старших дочерей и шли под горбатым лунным серпом по мерзлой тропинке к перекрестку — на куардь[15]. Точно мотыльки, с сияющими лицами они слетались к очагу в покосившемся домишке Аньи.
— Подкову-то пробовала? — говорила Анья. — Сам-то небось не пожалеет для жены новенькую, единый раз гретую подкову. Привяжи к маслобойке — масла побольше выйдет.
— Да тут и гвоздь сгодится!
— Или три листочка тысячелистника — брось в ведро, когда доишь.
— А когда сбиваешь, ни петь, ни пить нельзя. И до мужа не касайся — масло не выйдет, если по волосам друг дружку гладить или обжиматься там…
Женщины согласно закивали. Они сгрудились у огня вшестером. Босые их ноги были сбиты на острых камнях.
— Луна сегодня в кольце, видели? — сказала Бидди.
Все шепотом согласились.
— К дождю это.
— И туман — тоже знак. В горах туман — жди ненастья.
— Не для прогулок погода-то…
— А я вот Нэнс Роух видела — что ни утро по полям шастает.
Все глаза обратились к Кейт Линч. Та, обхватив себя руками за плечи, жалась к очагу.
— Едва развиднелось, а она уж тут как тут в тумане рыщет, от двора к двору, от коровы к корове. Ворожит. Порчу наводит.
Сорха криво улыбнулась:
— Да ну, небось просто кровь им пускает.
— Верно, оголодала, раз отец Хили не велел лечиться у нее и в плакальщицы брать. Где ж ей теперь пропитание сыскать?
— Я ее частенько вижу, — сказала Ханна. — Идет вдоль поля по дороге и травы собирает на рассвете или на закате. Ей знание дано, где и когда какую травку собирать, так, чтоб сила в ней была. А если и прихватит клочок шерсти из ежевичника — невелик грех, чтобы ее винить.
— Да если она скотине кровь пускает, Ханна, если на такое решилась, как же не винить ее! Зима коров и так измучила. — Эйлищ вздохнула: — Молоко как вода, хоть за маслобойку не берись. А тут крадется эта с ножичком в шею, кровь цедит, чтоб потом с овсом ворованным сварить! О таких делах стоит священнику сказать.
— Да и констеблю!
— Да она у соседа и глаз из головы утянет! — прошипела Кейт.
— Она вам отродясь худого не сделала, а вы ее грязью поливаете! — послышался голос Аньи, и все смущенно примолкли.
Ханна кивнула на вскочившую с пылающими щеками Анью:
— Она права. Срам такое говорить! Нэнс премудрости своей на вас не жалеет, — сами посудите, не она ли месяц-другой назад мою сестру родную от лихорадки вылечила? Родная моя сестра чахла, огнем горела в постели, я уж думала, не встанет она, конец ей пришел, и не дай мне бян фяса снадобья, досталось бы сестре моей только шесть футов земли на кладбище!
— Так, может, сестра твоя и без ворожбы выздоровела бы!
— Глупости! Нэнс дала мне снадобье в бутылочке и наказала не глядеть, как назад пойду, в сторону ро[16], а идти прямиком к сестре. Я сделала, как она велела, и, видит Бог, как шла я мимо куста боярышника, чувствую, словно кто-то тянет из рук моих бутылочку! Я покрепче ее ухватила, глаз не поднимаю, а добрые соседи все не унимаются. Тем и спаслась, что не глядела, вот до сестрина дома и дошла. Заварила я той травы, три раза дала ей настоя выпить, и встала она на ноги — в тот же вечер со мной прясть села!
— Ну, ты всегда была мастерица сказки рассказывать!
— Никакого в тебе уважения к старшим нет, Эйлищ! — рассердилась Ханна.
— Да мы это в шутку, Ханна! — пробормотала Сорха.
Эйлищ скривилась:
— Я не шучу. По мне, так прав отец Хили, язычница она.
Ханна негодующе выпрямилась.
— А отец О’Рейли верил в ее силу. И сам ходил к ней. Священник! Да и ты захаживала, пока не вышла за учителя своего. Нэнс, когда у Патрика корова захворала, сразу поняла, что закляли ее, и даже нашла дрот сидов[17]. Тогда на крыше хлева снег таять начал, в трескучий-то мороз. Вот какой жар пошел, когда она заклятие снимала. Патрик сам рассказывал.
— Муж говорит, отец Хили будет на каждой мессе против нее проповедовать.
— Ничего, скоро иначе запоет, — мрачно заметила Ханна. — А вот отец О’Рейли горой за нее стоял. Ты лучше меня послушай, Эйлищ. Прежде чем Нэнс Роух у нас поселилась, она много мест переменила. Скиталась, жила то там, то здесь, вереск продавала, как говорят, краски разные из растений, бродяжила, одним словом, и лечила недужных, если встречала. Случилось ей проходить нашей долиной, когда в Макрум шла, и остановилась она передохнуть, поспать под кустом дрока, на голой земле, бедняжка бесприютная. Устала очень. И кто же, думаете, проходил той дорогой? Отец О’Рейли! Едва взглянув на него, она сказала: «Знаю я, рука у тебя пухнет, мучает, опухлость там у тебя, могу я тебе, отец, помочь, знаю средство». — «Какое ж средство?» — спрашивает священник. А Нэнс и скажи: «Шел ты мимо их ро и поднял камешек, и теперь та рука у тебя пухнет». Так оно и было, и отец Рейли прямо онемел от изумления. А Нэнс и говорит: «Теперь ты веришь, что многое мне открыто, знаю я и средство от твоей болезни». А отец О’Рейли ей в ответ: «Что мудрость тебе ведома — вижу, но средства-то ты мне не дала!» А Нэнс ему: «Да ты на нем стоишь». Глянул священник вниз, а кругом него — тысячелистник растет. И позволил он ей лечить его руку тысячелистником, и все мы видели, что рука у него прошла.
Вот почему до самой своей смерти отец О’Рейли слова худого против Нэнс не сказал, лишь хвалил ее и помогал чем мог во всех ее нуждах. Так у нее и бохан возле леса появился. Это он ей построил, а место она выбрала сама, к добрым соседям поближе, которые знание ей передали. Лес рядом и травы всякие. И река близко. Хорошее место для ведуньи, а Нэнс Роух ведунья и есть.
Послышался смех Эйлищ:
— Нет, слыхали? Как у тебя, Ханна, язык не устанет такую чушь молоть!
— Так мне рассказали, слово в слово, а рассказчик был не лгун!
— Что отец О’Рейли камень около ро поднял, не слыхала, а муж говорил, у отца О’Рейли был ревматизм, — задумчиво сказала Бидди.
— Конечно, ревматизм, и никакого волшебства тут нет, — сказала Эйлищ. — Нэнс по старчеству из ума выжила, а те, кто в лечение ее верят, и вовсе, видать, его не имеют.
Ханна сердито поджала губы.
— Ты же не станешь спорить, Ханна, что она со странностями, — робко заметила Сорха.
— А ты видала ворожейку без странностей? Странность — она к дару прилагается. Кому тайны ведомы, тот не станет дружиться с тобой и судачить у родника! И вообще, если искать друга, чтоб был без единого греха, так и всю жизнь проищешь!
— Дар-то дар, только от Господа он или от дьявола?
— Дьявол тут вовсе ни при чем, Эйлищ! — усмехнулась Ханна. — Она с фэйри странствовала, они ей и передали его, а дьявольского тут ничего нет.
— А отец Хили говорит, будто фэйри — это язычество и что будто не от Бога, а от дьявола.
— Ерунда эта, добрые соседи — они сами по себе. Они живут в воде, в земле и в ро. Дьявол, скажешь тоже! Они из Дударевой Могилы, где боярышник, а не из ада вовсе.
— Хорошо, священник не слышит!
Ханна лишь головой тряхнула.
В наступившей тишине Анья задумчиво произнесла:
— Тогда все мы здесь повязаны одной веревочкой.
— Ты что, не видишь, что Нэнс злое затевает? А священник ее на чистую воду выводит. Это правда, что пробавляется она чем придется и теперь ее голод ждет. А кто сливки из молока забирал? — Кейт закусила губу. — Сама видела, как крадется она в тумане. Бог свидетель, есть такие бабы, — зайцем оборачиваются, чтоб по ночам у коров молоко сосать.
Анья изумленно вытаращилась на Кейт, другие недоверчиво подняли брови.
— Правда истинная! Бог свидетель! Один мужик из Корка видел, как заяц молоко из его коровы сосет, прямо из вымени! Он ружье взял и как жахнет в него серебряной пулей, перелитой из шестипенсовика. А потом по кровавому следу вышел к хижине, а там баба сидит, и нога у ней в кровище!
— Видать, Шон твой не туда целил! — пробормотала Ханна.
Собравшиеся захихикали.
— Зато со мной он не промахивается! — парировала Кейт.
Женщины переглянулись. Смех стих.
— А ты, Кейт… С Шоном-то у вас все ладно?
Кейт покраснела и молча уставилась в огонь.
— Может, в этом дело? Что, опять он бить тебя принялся? — не отставала Ханна.
— Кейт?
Кейт, сжав зубы, передернула плечами.
— Пошли вы все к черту! — пробормотала она.
Ухмылка сбежала с лица Аньи. Встав, она похлопала Кейт по плечу:
— Будет и у нас молочко пожирнее, увидишь!
— Что делать-то? — прошептала себе под нос Кейт. Она стряхнула с себя руку Аньи. — Что делать?
— Не вечно же дождю лить. Отелятся коровки — маслица прибавится.
Женщины теснее сгрудились у огня, переглянулись. Снаружи голодно завывал ветер.
Белый покров на полях растаял, обнажив грязь и мертвую траву, и в долине стало еще темнее. Дождь шел не переставая, и люди жались к дымным своим очагам под прохудившимися кровлями. «Зеленое Рождество — к урожаю на кладбище», — бормотали они, зажигая свечи и моля Богородицу уберечь их от зимних немочей.
В праздничный день Нэнс не покидала бохана, проводя тихие дождливые часы у очага — рубила вереск и красила клочки шерсти, которые собрала в зарослях ежевики и чертополоха, расчесала и пустила в дело. Вид давешнего подменыша в доме Норы Лихи, тощего тельца, исполосованного крапивой, разбередил ей душу, расшевелил угли памяти, казалось давно остывшие. Оживил то, что она пыталась забыть.
Оторвавшись от работы, чтобы дать отдых пальцам и посмотреть, не выкипела ли стоявшая на огне овсянка, она вспомнила, что утром нашла у себя на пороге мешок торфа и другой — с мукой. Мешки были аккуратно прикрыты от дождя куском клеенки. Неизвестно, кто оставил ей гостинцы, однако Нэнс подозревала, что это дар Питера О’Коннора, проявление его обычной, негромкой доброты. А может быть, знак благодарности кого-то из недавних посетителей, приходивших к ней выгонять зиму из легких, одного из тех, кто по-прежнему ходил к ней со своими печалями, несмотря на предостережения священника. Правда, после его отповеди ручеек больных к ее дверям стал пожиже. Видно, людей и впрямь больше заботят их души, чем порезы на руках или лихорадка у ребенка.
Дни ее опустели. Нэнс припомнилось время, когда она впервые покинула Килларни, удалившись в тихое безлюдье скал и болот, чтобы там, в одиночестве, предаться печали. Она карабкалась тогда по россыпям камней, шла бескрайними полями, спала у чужих костров. Это были годы гложущего голода, после того как умер отец, как исчезли мать и Мэгги. Год за годом, бесконечно долго, скиталась она по Килорглину и Кенмэру, исходив там каждую дорогу; выкуривала кроликов из нор, чтоб, выждав, потом ловко поймать их голыми руками, травила молочаем воду в реке, а когда стемнеет, выбирала всплывшую рыбу. Она продавала метлы, торговала краской из ольховых сережек, ежевики, листьев березы. Желтую краску она делала из болотного мирта, темно-зеленую — из корней вереска. Она собирала орешки с дубовых листьев — на чернила для школьных учителей, многие из которых были не богаче ее самой. Нэнс-травница, Нэнс-ворожейка, так ее прозвали, и она перемогалась как могла, пока у нее не начали выпадать зубы. Просыпаясь в очередной раз под чужой изгородью от боли в суставах, она не знала, выдержит ли еще один день скитаний, день голода и холода или палящего солнца и жажды.
Горе и страх гнали ее прочь от горы Мангертон, но голод возвращал обратно. В Килларни всегда можно было наскрести себе крохи на пропитание, если уметь подступиться к туристам.
Нэнс не помнила, как и когда превратилась в попрошайку, но помнила, какой тоской наполняло это ее сердце. Десять лет бродить от трактира к трактиру, осаждать постоялые дворы, протискиваться к экипажам, едва те остановились, переминаться на пороге лавки, ожидая, когда занятой хозяин обратит на тебя внимание, если не вышвырнет вон пинком или угрозами.
— О, миледи, взгляните на нищую, она не смеет поднять на вас взгляд. Небо да будет вам защитой и воздаст вам за вашу доброту, да будут благословенны все пути ваши. Помогите бедной женщине, чье сердце грызет голод. Подайте, Христа ради!
Нэнс содрогнулась. Нет, хорошо, что она вновь покинула этот город. Хорошо, что услышала зов добрых соседей, приведших ее в эту долину, к священнику, который защитил ее, признал ее чудесный дар, позволил ее скрюченным пальцам коснуться своей страдающей плоти.
Она надеялась, что никогда больше не вернется в Килларни.
Но, несмотря на все доброжелательство отца О’Рейли, люди далеко не сразу протоптали тропинку к избушке Нэнс. Они построили ей бохан и оставили ее там одну. Неделями к ней никто не заглядывал, и она уже опасалась сойти с ума от одиночества, казавшегося особенно тягостным после шума и сутолоки города. Тогда, еще не старая, она карабкалась по голым кручам, к облакам, отдыхающим на горных вершинах. Там, где все дышало незыблемой древностью, ей было хорошо и спокойно. Там она могла спрятаться в колыхающейся под ветром траве, могла, отколупнув камень, швырнуть им сверху в кого-нибудь из неприветливых поселян, что чураются женщин, которые не привязаны к мужчине и очагу. Там, на горе, ее несходство с другими — как ни грызло оно ей сердце — казалось лишь преходящей тенью на фоне огромной и вечной красоты.
Те дни, проведенные в горах, помогли ей сохранить себя, не сойти с ума от одиночества. Она поднималась все выше, пока хватало дыханья, и глядела с высоты, как идут дожди в долине, накрывая ее всю серой пеленой, как солнце льет на поля свой благословенный свет, и постепенно осмысляла слова, сказанные Мэгги. Об одиночестве и непохожести, которые суть залог свободы.
Но тогда Нэнс была моложе, а теперь годы жерновом повисли на шее. Без людей с их болячками, ревматизмом, надрывным кашлем или упорными, никак не желавшими затягиваться ранами прошлое вставало, обступало со всех сторон, подхватывало, как прилив, уносило в море, затапливало воспоминаниями. Теперь от них не убежать, теперь она — старуха, обреченная сидеть у огня, когда кости ноют от непогоды.
Нэнс чесала ворованную шерсть и все вспоминала отца и его запах — запах кожи и речной травы. Вспоминала, как скрипела обшивка его лодки, его рассказ про то, как майским утром поднимается из озерных глубин вождь О’Донохью. Ощущала на плече тяжесть отцовской руки.
Но это было так давно. И, как всегда, вместе с мыслями об отце тут же, непрошеные, являлись темные воспоминания о матери.
Нэнс так и видела ее испитое лицо, нависающее над ней подобно полночной луне.
Безумная Мэри Роух.
Нэнс словно даже слышит ее голос: «Они здесь».
Зубы оскалены, блестят. Нечесаные пряди волос падают на лицо. Мать стоит в дверях, ждет, пока она оденется. Очень тихо, чтобы не разбудить отца, мать уводит ее в ночь.
Нэнс старается приноровиться к широкому шагу матери, не отставать. Они проходят тесным двориком, минуют картофельные грядки, идут по дороге мимо домов возчиков и рыбаков, мимо лачуг сборщиц земляники, под темную сень горы Мангертон.
Ей десять лет, и она молит в страхе, поспешая за темной тенью матери мимо тонких серебристых берез, сквозь сплетение дубовых ветвей:
— Мама, куда мы идем?
И вдруг перед ними водная гладь, над которой дрожит зыбкое облако тумана. Озеро держит перед небесным простором темное зеркало, отражающее луну и звезды. Вдруг от всплеска вспугнутой в тростниках утки поверхность воды покрывается рябью, и зеркало исчезает. Дух захватывало от этой красоты. В ту первую ночь казалось, что нежданно открылось им видение чего-то священного, тайного, вызывающего дрожь ужаса.
Мать останавливается, оборачивается. Глаза ее вытаращены от страха, как у свиньи при виде ножа.
— Они здесь.
— Кто?
— Разве не видишь Их?
— Нет, никого не вижу.
— Здесь ты и не увидишь. — Холодная рука касается груди. — Здесь. Вот где Они. Здесь.
Их первая ночь в приозерном лесу. Плача, она примостилась в мшистой расщелине скалы и смотрит, как мечется мать от дерева к дереву, что-то бормочет, царапает ногтями землю, исчеркивая ее странными узорами.
Когда на рассвете они возвращаются, отец сидит у очага, обхватив голову руками. Он хватает Нэнс, обнимает так сильно, что занимается дыхание, гладит грязное лицо, укладывает в постель.
— Пожалуйста, Мэри, прошу тебя, — доносит утро дрожащие голоса. — Люди станут думать, что ты колдунья.
— Я не хотела.
— Знаю.
— Это не я. Я была далеко.
— Сейчас ты здесь.
С трудом разлепив веки, она смотрит, как мозолистые руки отца вычесывают листья из волос матери.
— Да? Я здесь? И это я?
— Ты моя жена Мэри Роух.
— Не знаю. Мне не кажется, что это я.
— Мэри!
— Не позволяй Им забрать меня опять.
— Не позволю… Не позволю!
Не тогда ли все это началось? Не тогда ли Нэнс получила первое знание о тайных скрепах бытия, о пороге между тем, что ведомо человеку, и остальным миром? В ту ночь, десяти лет от роду, она наконец-то поняла, почему люди боятся темноты. Ведь это дверь, в которую можно шагнуть и перемениться. Тебя коснутся и преобразят.
До этой ночи Нэнс любила лес. В дневные часы, сидя с крынками молока или потином и поджидая приезжих, она радовалась яркой зелени мха, пятнистым теням на земле, камнях и в листве деревьев. Птицы шуршали в шиповнике, склевывая ягоды. Вид усеянной желудевыми чашечками лесной подстилки наполнял ее сердце счастьем. Но потом она поняла: в сумерках лес меняется и не терпит чужаков. Птицы прекращают свой щебет и прячутся от темноты, а лисы выходят на кровавую свою охоту. А сгущающиеся тени принадлежат добрым соседям.
Столько лет прошло, годы истерли Нэнс, как монету, а из памяти не изгладились ни та, первая, ночь в лесу, ни ночи вслед за ней. Мать будила ее, тряся за плечо, уже не похожая на себя, и увлекала Нэнс в лесную чащу, где в темноте так страшно скрежетали невидимые ветви, что текло по ногам. Когда Нэнс подросла, отец стал на ночь завязывать дверной засов веревкой. Нэнс помогала ему. Они думали, что этим смогут удержать мать дома. Не позволят глазам ее загораться безумным блеском, прекратят ее ночные вылазки. Но все равно ее похищали, уносили огни и ветер, а запертой в хижине оставалась чужая женщина. Женщина эта царапала стены и глиняный пол с такой яростью, что кровь шла из-под ногтей. Она не узнавала Нэнс, отказывалась есть, отшвыривала пищу, а когда отец пытался уложить ее в постель, дралась и сопротивлялась.
— Я скучаю по маме, — шепнула однажды Нэнс, когда женщина, переставшая быть ее матерью, уснула.
— Я тоже, — негромко отозвался отец.
— Почему она не узнает меня?
— Мама не здесь.
— Но вот она! Спит.
— Нет. Мама далеко. У добрых соседей. — Голос изменил отцу.
— Она вернется?
Отец пожал плечами:
— Не знаю.
— А кто тогда эта женщина?
— Та, что оставили нам. Это обман. Они хотели нас обмануть.
— Но она выглядит совсем как мама!
Выражение, с каким отец взглянул на нее, Нэнс часто видела на лицах мужчин в последующие годы. На лице его читалось отчаяние.
— Да, выглядит она как мама. Но это не она. Ее подменили.
А что, если бы они не умыкнули мать? И Нэнс вышла бы за сына возчика, осталась жить среди людей, окружавших ее с детства? Не случилась нужда в Мэгги? Что было бы, не появись она в трудный час и не заметь, что Нэнс иная, не как все?
Мать похитили. Нэнс выросла без нее. А потом в доме появилась высокая женщина с безобразной лиловой отметиной на щеке, как будто щеку ей ожгло кочергой. Даже в Килларни, где полно было детей с оспинами и мужчин, чьи лица жизнь отметила шрамами, уродство пришлой женщины бросалось в глаза.
— Это твоя тетка, Нэнс. Она помогла тебе появиться на свет.
Женщина стояла не двигаясь, глядя на Нэнс сверху вниз.
— Ты выросла.
— Я теперь уж не ребенок.
— Мэгги пришла нам маму вернуть.
Нэнс покосилась на лежавшую в углу темную кучу.
— Это не мама. Мама твоя не здесь, — сказано это было серьезно. Низким голосом.
— Как же вы вернете ее?
Тетка неспешно шагнула к ней, наклонилась, так что лица их оказались рядом. Вблизи Нэнс увидела, что кожу, где отметина, стянуло в плотный шрам.
— Видишь, что у меня на лице?
Нэнс кивнула.
— О добрых соседях знаешь?
Да. Нэнс знала о добрых соседях. Чувствовала их присутствие в лесу, у озера, когда мать предавалась им, а она, маленькая девочка, вжималась в ямку между корнями деревьев, покуда лунный свет менял все вокруг, придавая предметам странность, и воздух густел, наполняясь чем-то неведомым.
Тетка улыбнулась, и страх Нэнс сразу же прошел. Она заглянула в серые глаза женщины, увидела, что они чистые и добрые, и невольно протянула руку и коснулась пальцем ее шрама.
Милая странная Мэгги. С первого их дня вместе, когда они резали папоротник ей на подстилку, Мэгги стала рассказывать ей о том, как связано все в мире, как нет в нем ничего отдельного. Сам Господь благословил каждый росток папоротника, и все находится в тайном родстве. Цветки полевой горчицы желтые в знак того, что помогают при желтухе. Места, где подобия встречаются, где в реку впадает другая, где смыкаются горы, обладают особой силой. Силу несет в себе и все новое — пчелиный укус, утренние росы. От Мэгги Нэнс узнала, какая сила у ножа с черной рукоятью, у темного месива из куриного помета с мочой, у растения, повешенного над дверной притолокой, у ткани, что касается кожи. Именно Мэгги в те годы, когда обе они пытались вернуть мать, научила ее не только какие травы и растения и в какое время следует срезать, но и какие из них лучше рвать руками, и что больше всего силы в растении, когда на нем еще не высох росистый след того святого, который проходит вечером своего дня, благословляя землю.
«Существуют миры за пределами нашего мира, и земля — это не только наше владение, временами другие миры соприкасаются с нами. Твоя мама не виновата в том, что ее украли. Не сердись на нее за это».
— Но ты ее вылечишь?
— Сделаю, что смогу, с помощью того, что имею. Но кто понимает добрых соседей, тот знает, что не хотят они, чтобы их понимали.
Окрестные жители побаивались Мэгги. Да и отец Нэнс тоже. В тетке чувствовалось нечто, какое-то грозное молчание, точно перед бурей, когда лезут из щелей муравьи, а птицы замолкают и ищут укрытия, предчувствуя скорый ливень. Никто не смел ей перечить, опасаясь, что она умеет наслать проклятие.
— Чуднáя она, эта Шалая Мэгги, — говорили люди. — Еще наведет чего.
— Я никогда никого не проклинала, — сказала однажды Мэгги. — Но вовсе не лишнее, если станут думать, будто ты знаешь, как это делается. Люди не придут ко мне, если не будут меня уважать и слегка побаиваться. О, проклятия существуют, и еще какие! Но посылать их — не стоит! Пищог[18] — это огонь, что может полыхнуть в лицо тому, кто его разжигает. И проклятие обязательно возвращается.
— А ты умеешь проклинать, Мэгги? Пищог накладывала?
Глаза Мэгги блеснули. Пальцы коснулись лиловой отметины.
— Тем, кто приходит ко мне, я ничего такого не делаю!
И люди к ней приходили. Несмотря на пятно, на вечную трубку во рту на сильные мужские руки и привычку глядеть холодным долгим взглядом, от которого становилось не по себе, люди решили, что Мэгги владеет чарами, и приходили. Год напролет за дверью маячили лица людей, ждущих на холоде, кутающихся в платки, лица, зажигавшиеся надеждой, когда вдали показывалась широкая спина Мэгги.
— Ведунья дома? — спрашивали люди, и на долю Нэнс выпадало здороваться, впускать их и расспрашивать об их недугах, громко, так, чтоб Мэгги, хмуро, с трубкой во рту, их встречавшая, уже кое-что знала о том, с чем предстоит ей бороться, и удивляла их своей прозорливостью.
Когда Мэгги принимала посетителей, отец уходил из дома: все равно жена его, считай, не здесь, а дом полон чужими людьми. Он проводил долгие часы в своей лодке или с другими владельцами лодок, приходя домой за потинем, который дарили Мэгги посетители — в благодарность за можжевеловые ягоды, за сваренный в парном молоке овечий помет, жгучие, до волдырей на коже, притирания из лютиковой настойки, за полные горячей соли шерстяные носки.
— Ты очень-то приближаться к ним Нэнс не позволяй, — говорил Мэгги отец. — Они ж все насквозь больные.
— Она быстро все схватывает, — говорила Мэгги. — И рука у ней легкая. Правда, Нэнс?
— Чем это здесь пахнет?
— Клоповником. Вонючим ирисом, — пробормотала Нэнс.
Мэгги ткнула пальцем в бутылку:
— Ты много-то с собой не бери. Штука забористая. А ты на воде все же…
— Знаю, знаю… «Пьяный и в лендлорда стрельнет».
— Хуже того — еще и промажет.
Святки прошли, а Нэнс все сидела у огня. К мессе она не ходила, и ее никто не навещал, помня недавние священниковы предостережения.
Интересно, что он наплел про нее. Лишь на святого Стефана вблизи ее избенки показались мальчишки, бившие в боураны[19] из выделанной собачьей шкуры. Она глядела, как шагают они по слякоти поля, неся на ветке остролиста мокрого, взъерошенного дохлого королька. В морозном воздухе разносился их клич: «Бросьте кастрюли, оставьте крынки, дайте монетку на пташкины поминки!»
К ее порогу они не подошли, ни денег, ни иного подаяния у нее не попросили. Как и всегда, Нэнс знала, что большинство детей ее боятся. Наверно, они считают ее тем, чем некогда дети считали Мэгги. Калех, колдуньей, таящейся в своем мрачном логове, способной наслать порчу по слюне и куриному помету.
В былые дни, когда люди уже поверили в силу Нэнс, но не понимали ее природы, жители долины приходили к ней, прося ее совершить зло против их ближних. Пищог.
В одно ненастное утро Нэнс открыла дверь женщине с подбитым глазом. Зуб у нее во рту шатался, а полные страха слова сыпались оттуда как горох. Она принесла Нэнс деньги.
Кейт Линч. Тогда еще молодая. Испуганная. Негодующая.
— Хочу, чтоб он умер, — сказала она, отбрасывая с лица растрепанные грязные пряди. На потной ладони поблескивали монеты.
— Может быть, присядешь со мной? — сказала Нэнс, а когда Кейт, схватив ее руку, сунула в нее монетки, Нэнс стряхнула их на пол. — Сядь, — повторила она.
Кейт бросила на нее недоуменный взгляд и в замешательстве принялась собирать раскатившиеся монеты.
— Сядь и рассказывай.
— Почему ты бросила деньги? — стоя на коленях, спросила Кейт. — Это честные деньги, полученные за яйца. Заработанные, не украденные. Куры это мои, и деньги тоже. Я спрятала их от него.
— Я не могу их взять.
Женщина уставилась на нее в изумлении: открытый рот на бледном лице темнел, точно дыра в кармане.
— Я не беру плату деньгами. Не то утрачу дар.
Кейт поняла, и нахмуренный лоб ее разгладился. Пересчитав монеты, она удовлетворенно сунула их себе в карман.
— Но дар-то у тебя есть.
— Врачевание. И знание.
— Как свести в могилу дурного человека, знаешь?
Нэнс указала на синяк на лице Кейт:
— А дурного в нем то, что я вижу?
— Ты и половины не знаешь.
Кейт закусила губу. И прежде чем Нэнс успела ее остановить, рванула на себе верхнее платье и, задрав сорочку, показала избитое, все в кровоподтеках, тело.
— Это твой муж сделал?
— Да небось не о порог споткнулась.
Она поправила платье. Лицо ее было полно решимости.
— Извести бы его. Ты ведь это можешь. Знаю, что можешь. Говорят, ты с Ними водишься. А это ихние дела, значит, и тебе они ведомы. — Она понизила голос. — Хочу, чтоб ты порчу на него навела.
— Не умею, даже если бы и хотела.
— Не верю я тебе. Ты хоть и не местная, но я покажу тебе святой родник. Если обойти его против солнца, можно против человека камни обратить.
— Черная ворожба вредит и тому, кто ворожит.
— Я бы и сама прокляла его, но нет у меня твоего умения. Глянь-ка! — Наклонившись, женщина приподняла подол и, пошарив там, извлекла тонкую блестящую иголку. — Каждый день я втыкаю ее себе в одежду, для защиты от него. Каждую ночь просыпаюсь, чтоб наставить ушко иголки на окаянное его сердце. Во зло ему и на несчастье. — Она сунула иголку чуть ли не под нос Нэнс. — Не помогает! Ты должна мне помочь!
Нэнс подняла руки, отводя иголку в сторону.
— А теперь послушай меня. И помолчи. Проклятия возвращаются туда, откуда вышли, чтобы там загнездиться. Ты не должна желать зла мужу, как бы он тебя ни колотил.
Кейт мотнула головой:
— Он хочет меня убить. А раз так — в проклятии нет греха.
— У тебя есть другие выходы. Ты могла бы уйти от него.
Кейт издала пронзительный смешок:
— Сгрести детей в охапку, взвалить на плечи и давай бог ноги? Бродяжить и кормить детей грибами и пряшяхом?
— Лучше годы одиночества, чем дурная компания.
— Я хочу, чтоб он сдох! Нет! Лучше пусть мучается. Хочу, чтоб он мучился, как мучаюсь я! Чтоб гнил заживо, чтоб болел, чтоб просыпался каждое утро и кровью харкал, как я!
— Я дам тебе просвирника от синяков.
— Так ты не нашлешь на него порчу?
— Нет.
Кейт тяжело опустилась на табуретку.
— Тогда ты должна научить меня, как что сделать. Расскажи, как можно наложить пищог. — Ее лицо исказила гримаса. — Я обошла родник. Перевернула в сумерках заклятые камни. Наставила иглу ему в грудь и молюсь, чтобы Бог его проклял. Но ничего не выходит! Ничего! Он здоров как бык. И гуляет по мне своими кулаками.
— Научить тебя я не могу.
— Но ты знаешь как. А есть и другие способы. Но все отказывают, никто не хочет говорить. — Голос изменил ей. — Скажи мне, как наложить на него пищог, или сама это сделай. А не то я поверну камни против тебя!
Глава 9 Черноголовка
КАНУН НОВОГО ГОДА ПРИНЕС С СОБОЙ СНЕГ, закрутил на полях поземку. К крышам липли снежные хлопья, ветер заметал снегом ограды, пряча заодно и пятна мокрой плесени на беленых стенах домов.
Нора пряла, то и дело поглядывала на Михяла, спавшего на своей раскладной лавке и вздрагивавшего во сне, как собака.
— Не пора, как ты думаешь, Мэри?
Девочка подняла глаза от шерсти, которую медленно мотала, и вгляделась в косые лучи света, падавшего в полуоткрытую дверь:
— По мне, так это не сумерки. Она велела в сумерки прийти.
— Да вроде темнеет уже.
— Нет. Наверно, подождать надо, когда куры на насест усядутся. Куры время соблюдают.
— Знаю, — отрезала Нора. И вытерла о передник воск с пальцев. — Траву собрала? Где она?
Не отрываясь от работы, Мэри подбородком указала на пук мяты в углу. Листочки мяты немного пожухли.
— Какая-то она растрепанная… Где срезала-то?
— У родника.
— Кто-нибудь видел? Женщины там были? Эйлищ? Или, не дай бог, Кейт Линч — эта о дьявольщине крик поднимет.
— Никого там не было.
— Не пойму, почему Нэнс Роух сама мятой не запаслась.
Мэри пожала плечами:
— Может, не растет у леса мята. Да и старая она. Трудно ей за травками идти, если далеко.
Нора неодобрительно скривилась:
— Старая не старая — ее ничем не остановишь. — Помолчав, она добавила нерешительно: — А не говорила она, опасно это — мяту резать?
— Не опасно, если во имя святой Троицы. — Мэри бросила взгляд на Михяла. Тот заворочался, вскинул руку, потом опустил. — Я ж мяту освятила, прежде чем над нею нож заносить.
Нора поджала губы.
— Непонятно мне это. Мята. Она от блох хороша и от моли. А мятой вернуть ребенка от Них? Как это?
— Я всегда вязала мяту на запястья братьям и сестрам.
— Зачем это?
— От болезней помогает.
— И помогало?
Мэри покачала головой, уперев взгляд в мотки шерсти перед ней.
— Двух Господь прибрал.
Выражение лица Норы стало мягче, и она опустила голову к прялке:
— Сочувствую тебе в твоих горестях.
— На то была воля Божья. Но забирал он их долго.
— Сильно мучились?
— Кашляли и днем и ночью. Так с кашлем жизнь из них мало-помалу и вышла. Но теперь-то они с ангелами.
Наступило долгое молчание. Нора покосилась на девочку и увидела, что та стиснула зубы и под кожей ее ходят желваки.
— Но другие-то братья и сестры у тебя остались?
Мэри шмыгнула носом:
— Остались.
— А у меня дочка была единственным ребенком, — сказала Нора. — И смерть ее стала огромной утратой. Я потеряла родителей, сестру, мужа потеряла, но Джоанна — это… — Она вскинула глаза на Мэри и, внезапно обессилев, прижала кулак к груди.
Лицо девочки было непроницаемо.
— Она была ваша дочь, — проговорила Мэри.
— Да.
— И вы ее любили.
— Когда я впервые увидела Джоанну… — сдавленно произнесла Нора. Она хотела сказать, что с рождением Джоанны в сердце ее поселилась любовь, такая яростная, что было страшно. Как будто весь мир дал трещину, раскололся надвое, а сердцевиной, сутью всего стала Джоанна. — Да, — сказала она. — Я ее любила.
— Так же, как я — моих сестер и братьев.
Нора покачала головой:
— Это больше чем любовь. Придет день, и ты это узнаешь. Стать матерью — это когда у тебя вырвали сердце и вложили в твое дитя.
За окном стонал ветер.
— Может, лучше все-таки свечку затеплить. — Нора встала, прикрыв дверь, заткнула оконце соломой, чтоб не сквозило. И, вытерев глаза, зажгла свечу и поставила на стол — как оберег против наступающей тьмы с ее незримым сонмом духов. Пламя свечи трепетало на фитиле.
— Ты и воду в роднике взяла или только мяту собирала?
— Только мяту, — отвечала Мэри.
Нора нахмурилась:
— А что мы будем пить завтра, в первый день нового года?
Мэри смутилась.
— Я схожу к роднику. Как каждое утро делаю.
— Нет уж. Я не потерплю под моим кровом того, кто ходил по воду в первый день нового года! Разве вы в Аннаморе так делали?
— Брали воду, как всегда.
Нора сдвинула свечу на край стола и достала небольшой мешочек муки.
— Вот послушай меня. Завтра нельзя выбрасывать золу. Воду, в которой ноги мыла, не выливай. С восходом солнца и до заката нельзя ничего выносить из дома. И пол подметать нельзя, не то счастье с ним выметешь.
Мэри встала:
— Что худого в том, чтоб к роднику сходить?
Насупившись, Нора влила в муку молоко, воду, всыпала соды и стала месить одной рукой.
— Нехорошо это, брать из родника непочатую воду. Вот и все, что я знаю. Но в старых обычаях сомневаться ни к чему. — Она с тревогой взглянула на спящего мальчика. — Особенно теперь.
Пока пекли новогодний хлеб, женщины молчали. Нора сновала между квашней и очагом и не могла дождаться, пока стемнеет. Мэри разбудила мальчика и закутала его в одеяло, собирая в дорогу. Когда хлеб испекся, Нора отщипнула от него кусочек, надломив край ковриги — чтобы выпустить оттуда дьявола, — и они сели перед очагом есть хлеб; Мэри макала его в молоко и, отжав, клала в рот ребенку. Он ел с жадностью, кусая за пальцы. Когда хлеб кончился, он долго плакал, требуя еще.
— Ненасытная утроба, — фыркнула Нора. — Разве не про это как раз Нэнс говорила? Что, мол, верный знак — подменыш он?
— Там костер горит на горе, — заметила Мэри. Послюнив большой палец, она собирала на него крошки с платья. — Утром я видела, как парни складывают там кучи дрока, вереска и хвороста. Может, там и танцы будут?
Нора гвоздем поковыряла в зубах.
— Пойдешь со мной к Нэнс. Я тебе не за танцы плачу.
Мэри взглянула на мальчика:
— А добрые соседи, как думаете, повылазили уже?
— Это как Нэнс и говорила. Между старым годом и новым есть зазор, как между днем и ночью. — Она встала и, открыв дверь, стала всматриваться в даль. — Тут-то они и появляются. Убежище себе меняют. На самом стыке лет то есть. С какой стороны ветер, по-твоему, дует?
Смеркалось. Сквозь снежную пелену проглядывал огонь костра на горе. Темные клубы дыма насыщали воздух горечью горящей древесины.
Мэри тоже подошла к двери, встав рядом с Норой. На бедре она держала Михяла; голова мальчика покоилась на ее плече. Он был удивительно спокоен.
— По-моему, ветер западный. Что, теперь бурана ждать?
Нора стряхнула с плеч мокрый снег и поспешила закрыть дверь и задвинуть деревянный засов в плетеную петлю.
— Говорят, какой ветер под Новый год, такой и год будет.
— Что же сулит западный ветер?
— Что с Божьей помощью новый год будет лучше старого.
Нэнс сидела в темной своей избенке и глядела сквозь открытую дверь, как вьюга заметает последние часы старого года. Ночь опускалась торжественно, будто свидетельствуя о повороте солнца на лето и величии Божием. Кутаясь в свой рваный платок, Нэнс слушала тишину, молчание, звеневшее в ушах громко, словно монастырский колокол.
Вот она, эта ночь. Ночь исцеления, ночь неведомой защиты. Возвращение додревней ворожбы.
От благоговейного ужаса у Нэнс пощипывало кожу.
Этот мальчик не первый, на ком она увидела отметину добрых соседей. Давно, когда после долгих голодных лет попрошайничества, много времени спустя после смерти Мэгги и женщины, что не была ее матерью, Нэнс только-только появилась в долине, к дверям ее подошла женщина, тащившая за собой маленькую сутулую девочку лет пяти. С прошлого лета, как объяснила женщина, девочка не улыбалась, и если раньше все шушукалась с братьями и сестрами, то теперь отказывалась вымолвить даже слово, как ни выкручивала мать ей руки, как ни щипала растрескавшуюся кожу.
— Она не хочет отвечать, когда ее спрашивают, как ее зовут. Не желает играть, не хочет никуда идти. Не помогает мне по дому, оттого у нас вечные свары.
Нэнс внимательно разглядывала немую. Крошечная, нахохленная, как воробышек, коленки в пыли после дальней дороги. Сидит сгорбившись, бесстрастно глядя перед собой.
— Когда это началось? Может, что стряслось с ней?
Женщина покачала головой:
— Я тут виною. Оставила ее со старшими сестрами, сена надо было накосить… Тут она и переменилась. Сердцем чую, что не моя это дочь. На имя-то свое вон не откликается!
Женщина рассказала, что оставляла девочку на перекрестке дорог, чтоб вызволить дочь от неведомых. Держать ее над огнем, правда, духу не хватило — ведь так похожа на родное дитя. Но к столбу, дескать, привязывала, — так девчонка ухитрилась распутать веревку и явилась обратно в дом. И в постель плюхнулась на место родной их дочери. Муж женщины уверял, что подменыша надо побить и на лбу ей крест горящей головней выжечь. Фэйри, мол, напугаются и заберут свое отродье, а родную дочь вернут.
Нэнс велела женщине семь раз прийти к ней с подменышем. На добрых соседей, кроме силы огня, есть еще управа — сила их волшебных трав.
Семь утр лусмора[20], сильной травы. Собранную на рассвете наперстянку Нэнс давала подменышу: три капли сока из листьев — на язык, три — в ухо. Когда пульс у детеныша фэйри замедлялся и делалось понятно, что снадобье прошло в кровь, она вместе с матерью качала дитя над порогом избушки — туда-сюда, произнося слова, которые Нэнс много лет назад слышала от Мэгги:
«Если ты из фэйри — прочь!»
Семь дней она усердно потчевала бесеныша наперстянкой. Семь дней замирало сердце подменыша. Семь дней девочку прошибало холодным потом.
— Мучается она? — спрашивала мать.
— Она не желает возвращаться к своим.
На следующий день после седьмого обряда женщина появилась одна. Лицо ее сияло. «Она говорит! Говорит!»
Два жирных петуха и кружка масла. Но как только женщина ушла, Нэнс, свернувшись калачиком на камышовой подстилке, расплакалась, и плакала так долго и сильно, что казалось, ей вот-вот станет дурно. Непонятно, от облегчения или от страха.
Она убедилась в собственной силе, что превыше силы трав. В силе земли, силе исступления. Слова Мэгги оказались правдой. Нэнс иной породы, чем все. Она встала над рекой, над колдовским потоком, и на обоих берегах оставила свои следы.
А вот матери помочь опоздала.
Несколько недель спустя что-то случилось с руками. Проснувшись, она увидела узелки на суставах больших пальцев и поняла, что это Они ее отметили. Одарили, но взяли за это плату.
Я сделала это однажды, значит, смогу сделать это и опять, думала Нэнс.
Она встала прикрыть дверь, чтобы на дольше хватило тепла очага. На холмах за безмолвной завесой снега мелькали тени танцующих. Нэнс показалось, что она слышит барабанный бой.
Самая ночь для обряда, подумала она, а потом увидела две темные фигуры, бредущие по тропинке к ее бохану.
— Нора Лихи. Мэри Клиффорд.
Обе запыхались, девочка прижимала к груди Михяла, клонясь под его тяжестью.
— Кто-нибудь видел вас?
— Да все на гору ушли.
— Хорошо. Входите, отогрейтесь. Холодает. — Нэнс провела их в дом и указала на ведро теплой воды: — Вот. Обмойте ноги.
Мэри замялась:
— У меня Михял. То есть я… куда мне положить его?
— Он спит?
Мэри отвернула одеяло, которым мальчик был припеленут к ее груди, и покачала головой:
— Глаза открыты. Он вопил, не хотел, чтоб его из дома выносили, но на свежем воздухе, похоже, успокоился.
Нэнс заметила, что Нора в дверях замешкалась, стряхивая с себя снег.
— Входи, Нора, и да благословит тебя Господь. Ты правильно сделала, что пришла. Садись и грейся.
Вдова поджала губы, осторожно переступив порог, огляделась и вздрогнула, заслышав шорох в углу.
— Это всего лишь Мора. Моя дорогая кормилица. Мяту принесли?
Мэри заботливо уложила ребенка у огня, порылась в повязанном крест-накрест на груди платке, вытянула пучок мяты и передала его в руки Нэнс.
— Здесь девять стебельков, так?
Мэри кивнула:
— Они подвяли немножко.
— Ты должна будешь пожевать их.
Нора смутилась:
— Ты хочешь, чтоб она ее съела?
— Не съела, а пожевала, превратив листочки в кашицу. Нам понадобится сок из них. — Нэнс приоткрыла рот, показав на темные свои десны. — Я бы сама это сделала, да вот…
— Давай, Мэри! — нетерпеливо приказала девочке Нора.
Девочка заколебалась, разглядывая стебель мяты на ладони:
— Не хочу…
— Это же простая мята. Что нам, до утра ждать?
Нэнс улыбнулась:
— Я не прошу тебя сделать что-то, чего не сделала бы сама. Клянусь, что это всего лишь мята, та самая, что ты собирала.
Мэри нехотя оторвала от стебля листики и сунула их в рот.
— Сок не глотай, — предупредила Нэнс. Достав деревянную миску, она поднесла ее к подбородку Мэри.
Девочка с мученическим видом сплюнула в миску зеленую кашицу и тыльной стороной руки вытерла рот.
— Все листья со стеблей прожуй, — сказала Нэнс, кивнув в сторону оставшихся стеблей. Она покосилась на Нору и увидела, что та не спускает с девочки глаз и брови ее сдвинуты.
Мэри закинула в рот остальные листья и, отведя глаза в сторону, прожевала и их. Когда она сплюнула в миску все без остатка, язык и зубы ее были зелеными.
Нэнс размешала слюнявую массу, затем, внимательно осмотрев содержимое миски, переложила его в старый носовой платок, чтобы процедить. Мэри смахнула с губ крошки мяты.
— Зачем все это, Нэнс?
Передав миску Норе, Нэнс проковыляла в угол и вернулась, держа в руках наперсток.
— Начать разумнее с малой ворожбы. — Она сделала шаг к мальчику. — Сядь на табуретку, Мэри, вот здесь, и держи дитя, чтобы оно не двигалось. Да, вот так. И голову ему держи. — Она повернулась к Норе: — Над огнем его подержать не хочешь, нет? Ну, ладно, мы должны проверить, не обычная ли это какая хворь. — Она сунула ей в лицо наперсток. — Сок мяты в оба уха, и скоро мы узнаем, подменыш ли он или фэйри просто-напросто наслали на него глухоту.
Мэри, положив Михяла себе на колени, повернула его хрупкий череп так, чтобы ухо смотрело вверх.
Наполнив наперсток соком из миски, Нэнс по капле влила сок в ушное отверстие.
— Теперь другое? — спросила Мэри, морщась, потому что Михял извивался под ее руками и стонал. Она повернула к Нэнс другое ухо мальчика.
В воздухе резко пахло мятой. Рыжие волосы ребенка были мокрыми от пролитого сока.
— Теперь подождите до утра. Смотрите, не подействовало ли лекарство, не услышит ли он ваших голосов. Может быть, попытается заговорить. Или все останется по-старому.
— И это все?
Нэнс покачала головой:
— Сейчас совсем стемнело. В такие часы многое можно переменить. — Она стерла капли мятного сока с ушной раковины мальчика, потом, наклонившись, сняла тряпицу со стоявшей возле огня корзины. — Черноголовка.
Нора заглянула в корзину:
— Это от горла которая?
— И от колдовских проклятий. И от внезапного удара тоже помогает.
Опустившись на колени, она раскрыла малышу ноги и стала тереть ему ступни листьями черноголовки. Мэри и Нэнс глядели во все глаза, как трава пачкает ступни ребенка. Нэнс казалось, что от Норы исходит жар, жар отчаяния, смешанного с надеждой и страхом.
Ребенок лежал спокойно, измазанный мятой, он сонно щурился.
— Вот теперь хватит. На сегодня все.
Мэри потянула носом — пахло давленой черноголовкой.
— А когда узнаем мы, помогло или нет? — Нора собрала листики с ладоней Мэри и бросила их на пол.
— К утру, — пробормотала Нэнс. — Может, проснувшись, ты увидишь внука, а может — не увидишь. Есть другие заклятия, другие обряды. — Она понизила голос. — Увидишь. Все будет хорошо.
— Ты в это веришь, Нэнс?
— Верю, Нора. Со временем все будет хорошо.
Костры на холмах догорали оранжевым огнем, когда женщины покинули избушку Нэнс с карманами полными золы, чтобы уберечься от тьмы. Нэнс глядела, как растворяются в серой снежной метели их фигуры, и слышала голос Мэгги. Словно та шепчет в темноте.
«Если не знаешь пути, иди медленно».
В тот вечер она жевала мяту сама. В тот первый вечер из многих вечеров, когда они пытались выгнать женщину-подменыша и заставить мать вернуться. Отец ее ушел на куардь, и дома оставались только Нэнс и Мэгги. Они сидели на табуретках возле той, что не была Мэри Роух. Когда они вливали ей в уши травяной сок, тварь эта даже не шелохнулась.
— Не думаю я, что она вернется, — печально сказала Нэнс. Они сидели у огня, глядя на угли и ожидая возвращения отца.
Мэгги задумалась:
— Я обещала твоему отцу, что сделаю для него все, что будет в моих силах. — Она запнулась в нерешительности. — Но те, кого умыкнули, возвращаются нечасто.
— Почему добрые соседи не хотят ее вернуть?
— Тяжело расставаться с сокровищем.
— Мэгги?
— Да, Нэнс?
— Откуда ты знаешь все эти вещи?
— Есть особенные люди, которых влечет на самый край. — Мэгги машинально коснулась шрама. — Но на самом краю они обретают силу.
В ту ночь Норе приснилось, что она на берегу Флеска стирает Мартинову одежду и солнце печет ей спину. Как будто это лето. Берега густо поросли травой и высоким разлапистым папоротником. Приснилось, будто в руке у нее деревянный валёк, и она бьет и бьет им, ударяя по камням, выбивая грязь из мокрого белья. Ударив вальком в последний раз, она увидела на белье струйку крови. Не поняв, в чем дело, она еще раз ударила вальком, и кровь растеклась широким пятном, пропитывая всю ткань.
Она в ужасе опустила валёк и увидела, что под мокрой сорочкой что-то шевелится. Похолодев, она стряхнула белье с валька.
Под ним был Михял с пробитым черепом. Он погружался в розовеющую от крови воду.
Нора проснулась в испарине. Под дверь прокрался первый утренний свет. С замирающим сердцем она прошлепала к раскладной лавке, на которой сопела Мэри; рядом с ней, с головой покрытый одеялом, лежал мальчик.
Сердце Норы выскакивало из груди. Потянувшись к ребенку, она подняла одеяло с его лица.
Мальчик оказался живой, он моргнул ей слипшимися веками.
С облегчением Нора раскутала мальчика: вот он — ноги в пятнах травы, на ушах — зеленая корка.
— Ты сын Джоанны? — спрашивает Нора. — Ты Михял Келлигер?
Мальчик, вскинув руки, вцепился ей в волосы и непослушным языком пробормотал невнятный ответ.
Глава 10 Амброзия
— НОРА ЛИХИ ПОСЛАЛА МЕНЯ К ВАМ. Велела сказать, что тварь как была, так и есть — пускает слюни и орет. Мальчик остался тем же кретином, что и был, когда мы к вам пришли.
Нэнс подняла глаза от работы: сидя на пороге, она свежевала зайца, и руки ее были красными от крови.
— Правда, Мэри Клиффорд?
— Правда. Не помогли листья. И трава эта… — Девочка секунду помолчала, стоя в нерешительности, скрестив руки, с головой туго обмотанной платком. — Только если вы думаете, что это из-за меня, то честное слово… Я, когда рвала мяту, святую Троицу поминала, и роса была на траве. Я все делала, как вы велели!
Нэнс вытерла руки о юбку и передала зайца Мэри:
— Подержи-ка.
Мэри взяла зайца, и Нэнс обратила внимание, как опасливо оглядывает девочка ободранную жилистую тушку.
— Есть-то его не страшно?
— А что такого? — Нэнс поставила рядом миску с плавающими в воде потрохами.
— Чародейство в нем вроде.
Нэнс кивком пригласила Мэри в дом и закрыла дверь.
— Все полезно, что в рот полезло, — я и зайцев ем, и кроликов, и угрей.
Мэри поморщилась.
— Брат говорит, угорь графство пересечь за день может — хвост в рот, и покатился колесом. — Она передернула плечами. — Не по мне хитрые такие твари!
— А я так за милую душу, лишь бы поймать.
Усевшись возле очага, Мэри ткнула пальцем в разложенную на полу заячью шкурку:
— Вы продавать это будете? Я видела парней в шапках заячьих, даже и с ушами.
Нэнс забрала у Мэри зайца и поместила его в пустой горшок.
— Я что угодно продаю. Краски по большей части, но и шкурки, и веники. Зольное мыло.
— Мне черная краска нравится, — сказала Мэри, ткнув пальцем в сторону корзины, где темнел клубок шерсти.
— Это из ольховых сережек. Или из корней молочая. Я и из лишайника краску делаю, с болотной водой. И продаю. Даже из вереска можно краску гнать. Господь каждой травке неприметной краску дает.
— Вы столько всего знаете.
— Живу давно.
Мэри взглянула на маячившую в полумраке фигуру Нэнс:
— Да разве в годах дело? Знание — оно от Них, от неведомых. Говорят, что вы с Ними ладите и знаете, где Их искать; идете туда и беседуете, и что оттуда, мол, и все ваши премудрости. — Она подняла голову, вздернув подбородок к сушившимся под потолком травам. — Это правда? Правда, что вас фэйри всему научили и что поэтому-то вы и взялись вернуть вдове ее внука? Потому, что ведаете их нрав и хитрости всякие.
Нэнс вымыла руки, сальные после заячьих потрохов. В голосе Мэри было не только детское любопытство. В нем слышалась настороженность. Подозрение. Снаружи внезапно донесся топот ног, и Мэри, испуганно вскочив, сшибла с потолочной балки сушившийся там пучок зверобоя — цветки посыпались на пол.
— Здесь! Здесь! — послышался мужской голос. — Дома она! Видишь: дым, в очаге огонь горит. Брось, Дэвид, перестань!
Они услышали шум борьбы и затем три решительных удара в дверь. С потолка посыпалась труха.
— Нэнс Роух!
— Открой дверь, Мэри.
Девочка встала и приоткрыла ивовую дверь-плетенку.
— Именем Господа, Приснодевы и святого Патрика, Нэнс Роух, пойдем со мной!
Это был Дэниел Линч. Лицо его блестело от пота, грудь вздымалась тяжелым дыханием. За ним под низкий кров вошел, явно смущаясь, другой мужчина, молодой, сутулый и очень похожий на Дэниела.
— Дэниел. Спаси тебя Боже… Что случилось?
— Выручай. Молодайка моя на подстилке. Рожает… Бриджид. Жена…
— Давно у ней началось? — осведомилась Нэнс.
— На рассвете. Лицо как мел, сразу видно, что боли адские. Я обещал ей за тобой сходить.
Нэнс повернулась к Мэри, которая, раскрыв рот, глазела на Дэниела:
— Беги домой к Норе, Мэри. И скажи, чтоб собрала женщин — в дом к Линчам идти. Родных Бриджид, сестер ее двоюродных, теток, прочих родственниц, какие найдутся. И пусть захватят они чистых простыней. Молока и масла еще. Перекрестись, когда пойдешь, и их перекрести, пусть перекрестятся, перед тем как им к Линчам в дом входить. Я их там ждать буду.
Девочка с готовностью закивала и тут же бросилась вон — длинные ноги так и замелькали, платок слетел с головы. Братья глядели, как мчится она по тропе, разбрызгивая грязь голыми пятками.
Нэнс велела им подождать за дверью, пока она соберет в корзинку все, что ей понадобится. И стала пригоршнями ссыпать в тряпичные свертки сухие травы.
Поповник и водяной кресс. Тысячелистник. Прихватила ореховый прут, нити черной пряжи и ведерко воды из кузни, которую хранила, прикрыв тряпицей.
— Я готова, — сказала она, передавая тяжелое ведерко Дэниелу. — Веди меня к жене.
Едва войдя в лачугу Линчей, Нэнс поняла, что дело плохо. Бриджид лежала у окна на куче вереска и ракитника, и подстеленное под нее одеяло было мокрым от крови. Обернувшись, Нэнс жестом приказала братьям не входить.
— Хорошо, что меня позвали. А теперь ступайте и не кружите под дверью, как слепни возле лошади. Когда будет что сказать вам, скажу. — Она сплюнула. — Господь с вами обоими.
Бриджид морщилась, закрыв глаза от боли. От звука хлопнувшей двери она запрокинула голову:
— Дэниел?
— Да благословит тебя Бог, деточка, это Нэнс. Муж твой ушел и поручил тебя мне.
Опустившись на колени возле роженицы, она подложила ей под поясницу сложенное одеяло.
От женщины волнами поднимался страх. Точно напуганная лошадь, подумала Нэнс.
— Боюсь я, — сдавленным шепотом произнесла Бриджид. — Разве так должно быть? Не то что-то происходит…
— Со мной тебе ничего не грозит.
Нэнс склонилась к роженице и зашептала молитвы ей в правое ухо.
К хижине Линчей Нора подошла вмести с Эйлищ О’Хара, Кейт и Сорхой. Звать этих женщин ей не хотелось, так зла она была на них за их беспрестанные сплетни, но только они состояли в родстве с Бриджид, хоть и по мужу, и, если уж нет кровных родственниц, чтоб помочь, пусть будут хоть свояченицы. Михяла Нора отправила с Мэри к Пег.
Едва она открыла дверь, как в нос ей шибануло дымом и вонью. Бриджид стонала, не желая разворачиваться лицом к огню, на чем настаивала Нэнс. Жара в помещении была нестерпимой, по лицу Бриджид тек пот, мокрые волосы старухи липли к голове.
Женщины застыли в дверях, глядя, как Нэнс уговаривает Бриджид лежать спокойно и не вставать на колени, как та все время порывалась. Ляжки роженицы были скользкими от крови.
— Сорха, подойди и помоги мне уложить твою родственницу. Мне надо, чтоб она лежала лицом к огню. Вот так.
С помощью Сорхи Нэнс приподняла Бриджид за ноги и придвинула ее поближе к очагу, потом подбросила в огонь сухого дрока, отчего пламя стало ярче, а мрак отступил и притаился по углам.
Зрачки Бриджид, темные, расширенные, казалось, ничего не видели. Эйлищ жалась к стене, не выпуская из рук кувшина с водой, взволнованная. Кейт стояла возле дочери; в левой руке у нее была красная лента — завязка от шали.
— Зачем тебе эта лента, Кейт? — спросила Эйлищ. — Что ты собираешься делать?
В ответ Кейт принялась завязывать и развязывать ленту над то вздымающимся, то вновь опадающим телом Бриджид.
— Это роды облегчает, — пробормотала Кейт.
Нэнс окинула ее долгим взглядом, но промолчала.
— Как подвигается, Нэнс? — спросила Нора.
— Там в корзинке водяной кресс. Истолки его в кашицу, ладно? И вы две, тоже помогите. Возьмите там черные нитки и обвяжите ее, где я скажу.
Эйлищ и Сорха переглянулись.
— Живо! Надо кровь остановить. Обвяжите ей нитками запястья и лодыжки. — Женщины, поняв, что дело спешное, склонились к роженице. — И покрепче вяжите!
В дверь негромко постучали, и в хижину просунулась голова Мэри. При виде крови на полу глаза у девочки расширились.
— Нэнс! — Нора указала на девочку.
— Отошли ее. Пусть за свиным навозом сбегает, хоть к кузнецу, если у него найдется.
— Ты слышала, что велено, — сказала Нора.
Мэри исчезла, и женщины продолжили как могли помогать Бриджид. Та лежала тихо, оскалив зубы. Нора передала Нэнс кашицу и встала на колени позади Бриджид так, чтобы женщина могла опереться на ее голову.
Сжав зубы от усилий, Нэнс сняла с Бриджид промокшее платье, обнажив огромный живот, и стала мазать кашицей из водяного кресса ляжки и промежность Бриджид.
Женщины видели: оттуда струится кровь.
По прошествии часа Мэри вернулась от кузнеца с руками, перемазанными свиным навозом. С ней была Анья, сжимавшая в руках розарий и плетеный крестик.
Услышав шум в дверях, Нэнс подняла глаза.
— Анья, — вскричала она, — ради всего святого, не могу я позволить тебе находиться здесь!
Она поднялась на ноги. Фартук ее был весь в крови, как у мясника. Она обняла Анью за плечи.
— Я помочь хочу, — возмутилась та.
Бормоча извинения, Нэнс выпроводила Анью за порог и закрыла за ней дверь.
— Почему Анья не может войти сюда? — шепотом спросила Мэри у Норы. — Что она такого сделала?
Нора лишь цокнула языком, продолжая губкой смачивать виски Бриджид водой из кузни.
— Она ж только молитву сказать над ней хотела.
— Все знают, что Анья бесплодная, — презрительно бросила Кейт. — Она может сглазить ребенка.
— Она не станет делать этого! Она же добрая женщина.
— Не в доброте дело. У кого глаз дурной, те и сами не знают об этом. — Кейт облизнулась. — Да и ты, видать, сглазить можешь. У рыжих девок глаз дурной. Несчастье они приносят.
Нора уже открыла рот, чтобы возразить, но тут в дом вошла Нэнс с небольшим глиняным кувшинчиком. Запахло аммиаком.
— Что это? — удивилась Мэри.
— Мужнина вода, — буркнула Нора.
Веником из ракитника Нэнс стала кропить мочой комнату, лицо, живот и бедра Бриджид. Остатки жидкости она плеснула на стоявшую в углу плетеную колыбельку.
— Это старинное святое заклятие, — пробормотала она себе под нос.
Женщины промолчали.
Весь день они под присмотром Нэнс возились с Бриджид. Смешав свиной навоз с водой из кузни, они голыми руками клали его ей на живот. По очереди теребили над нею ленту Кейт, связывая и развязывая узлы, пока не заныли пальцы, а лента не замусолилась. Они глядели, как пухнут и наливаются кровью пальцы на перетянутых нитками ногах и руках Бриджид, и капали ей в рот вытяжку поповника в парном молоке.
Лишь когда день наконец погас, ребенок появился на свет. Мертвый, с темными запекшимися губами.
Обессиленная Бриджид провалилась в беспамятство.
Дэниела впустили в хижину и показали крошечное тельце его сына. Женщины окружили его, они были так измучены, что не могли даже горевать. Дэниел бросил взгляд на лежавшую без чувств жену и зажал рукой рот, словно страшась слов, какие могут оттуда вылететь. Посторонившись, Мэри пропустила его к двери и глядела, как бросился он прочь, обратно в холодный вечерний сумрак, чтобы исторгнуть из себя горе в темное небо.
Нэнс приказала Сорхе спеленать младенца и прикрыть ему лицо.
— Бриджид умерла? — спросила Кейт.
— Нет покуда.
Нэнс взяла из корзинки бумажный сверточек, развернула его и высыпала из него что-то в глиняную миску.
— Дай-ка мне огонька, — буркнула она.
Мэри разворошила дымящуюся золу и осторожно ухватила щипцами горящий уголек.
— Сюда клади. — Нэнс протянула ей миску, и Мэри увидела, что в ней амброзия и сухой конский навоз. Она бросила туда уголек, и смесь закурилась дымком.
— Дай ей подышать, — сказала Нэнс.
Наклонившись, Мэри сунула Бриджид под нос дымящуюся амброзию.
— Шевельнулась она?
— Не пойму, дышит ли.
Лицо женщины заволокло пеленой дыма.
— Потяни-ка ее за подбородок, девочка.
Взяв у Мэри миску, Нэнс принялась вдувать дым в раскрытый рот Бриджид.
Никакой перемены.
— Может, молитву прочесть? — предложила Мэри.
Ноздри Бриджид расширились, и она закашлялась.
— Слава тебе Господи, — сказала Нэнс, проведя мокрой рукой себе по лбу. На лбу осталась кровавая полоска.
Это был странный и тихий вечер. Бриджид очнулась и стала громко плакать по ребенку, она звала мужа и сжимала рот, когда рука Нэнс настойчиво тянулась к ней с ягодами паслена. Уснула она, лишь когда совсем обессилела. Женщины перевернули ее спящую, чтоб вытащить из-под нее окровавленную вересковую подстилку и заменить свежей соломой. Нэнс бросила в огонь послед, и он зашипел, распространяя запах мяса.
— Где ее муж?
— На дворе, — ответила Мэри. Она выглянула за дверь. — Стоит в поле на коленях.
Нэнс сидела на табуретке, обхватив руками голову.
— Позвать его надо.
— Дай ему выплакаться, Нэнс, — сказала Нора. Лицо ее было очень бледно. — Пусть посидит там на земле.
— Нет. У юных души слабые. Не умеют обороняться от бесов, что кишат повсюду.
— Да пусть побудет один.
— Мэри Клиффорд, — приказала Нэнс. — Пойди и приведи Дэниела назад в дом. Он должен защитить душу этого ребенка.
Сорха опустила взгляд на лежащий у нее на коленях маленький сверток.
— Я… помолилась над ним. И на лбу крест начертала железной водой. Чем не крещение? Разве мало этого, чтоб ему на Небо путь открылся?
— Да он умер еще прежде, чем на свет вылез! — фыркнула Кейт.
— Все равно, — возразила Сорха. — Молитва есть молитва.
— Сходи за Дэниелом, Мэри, — повторила Нэнс.
С трудом встав, она поплелась туда, где к хижине Линчей примыкал курятник. Оглядев сидевших на насесте и сонно мигавших со сна кур, она выбрала одну и сунула ее под мышку, сильно прижав локтем, чтоб та не хлопала крыльями. Курица трепыхалась.
— Приведи Дэниела, — сказала Нэнс.
Мэри бежала по полю, чувствуя, как каждый ком земли отдается в лодыжке. Брызги грязи из-под ног замарали ей подол.
Муж Бриджид скорчился на пустой мерзлой борозде, уткнув голову в колени. Анья, Питер, Шон, Джон и брат Дэниела Дэвид обступили его и сочувственно молчали. Тучи рассеялись, и в небе под ними ярко горели звезды.
— Оставь его в покое, девочка, — сказал Шон.
— Нэнс говорит, он ей нужен.
— Все, что мог, он сделал.
— Она бесов опасается.
Анья нахмурила брови:
— Теперь-то чего уж…
Мэри кусала ногти. От них пахло навозом.
— Нэнс дело говорит, — кивнул Питер. — Дитя еще не отошло к Господу. И Бриджид тоже не имеет защиты от зла. Зло будет пытаться проникнуть к тебе в дом, Дэниел.
Шон сплюнул на землю:
— Не время сейчас для таких разговоров, Питер.
Дэниел поднял взгляд, и Мэри содрогнулась при виде его набрякших красных век, жесткой складки у губ.
— Я ей нужен?
Мэри кивнула:
— Она одну из ваших кур поймала и просила вас привести.
Шон со вздохом положил руку Дэниелу на плечо:
— Она свое небось уже сделала, племянник.
Дэниел в сердцах сбросил с себя руку Шона.
— Иди, Дэниел! — уговаривал Питер. Он повернулся к Шону: — Пусть мужик о ребенке своем позаботится.
Нэнс уже ждала их в дверях. Курицу она протянула через порог.
— Сам знаешь, зачем ты мне понадобился, — сказала она и сунула в руку Дэниела нож. — Сочувствую твоему горю. Зарежь ее.
Не поднимая глаз на Нэнс, Дэниел взял у нее курицу и одним быстрым движением отсек птице голову. Нэнс бросила куриную голову в огонь. Запахло горелыми перьями, женщины в доме прикрыли ладонями лица.
Нэнс взяла дергавшуюся в предсмертных судорогах птицу. Крепко ухватив ее за лапы, она перевернула тушку и окропила кровью порог, потом вернула курицу Дэниелу и вытерла руки о юбку.
— Полей кровью вокруг дома. Защити жену.
Мэри, войдя, села рядом с Норой, глядевшей на Бриджид глазами полными слез.
— Чего ради это, миссис?
— Ради души младенчика, — ответила Сорха и перекрестилась. — Защита это.
Эйлищ вскочила:
— Если кровью можно преградить путь дьяволу, тогда дом этот святее некуда — вон в очаге горит кровь Бриджид вместе с соломой, да и все тут кровью пропахло. — И, сплюнув на пол, Эйлищ бросилась вон в открытую дверь и ушла не оглядываясь.
Внимание Мэри привлек один из сторожевых псов Линчей. Подойдя к порогу, пес принялся нюхать куриную кровь.
Но прежде чем Мэри успела что-то сказать, Нора, поднявшись, пнула пса ногой.
С родов Нэнс возвращалась, пропахнув кровью и дрожа от усталости. С самого утра у нее не было во рту ни крошки, и, пробираясь домой узкой тропинкой под звездами, она ощутила дурноту и головокружение. Ночь была холодная, ясная, и стлавшийся по земле недвижный от безветрия туман не застил света полной луны. После жаркой духоты и дыма хижины ночь казалась странно сырой и влажной.
Внезапно Нэнс качнуло, повело в сторону, и она, споткнувшись о придорожную изгородь, упала в колючие кусты шиповника, выронив корзинку с грязным бельем и остатками трав.
Как бы ей хотелось, чтоб ребенок родился живым!
Она приняла в этой долине чуть ли не целое поколение младенцев. А потом что ни день видела их — маленьких, вопящих, утыкающихся сопливыми носами в материнские юбки, обдирающих коленки на камнях оград, видела, как они растут, крепнут, скачут по полям. Но среди них, занозами в сердце, были и другие — родившиеся тихими, недвижимыми, задушенные пуповиной. Не успевшие ухватиться за ниточку жизни. Так бывало. Она знала, что так бывает.
Почему же тогда гибель младенца Бриджид Линч наполняет ее сердце таким ужасом? Ведь она сделала все, как надо. Все, как учила ее Мэгги.
Веник из ракитника, мужнина моча…
Тепло очага — поближе к ляжкам.
Нить, когда хлынет кровь, и свиной навоз на живот, вода из кузни, водяной кресс и даже непрестанное упорное развязыванье узелков на заговоренной ленточке, которым занималась Кейт.
И тут Нэнс вспомнила. Она не принесла свивальник, белую пеленку, — ею она проводила по утренней росистой траве каждый раз в день святой Бригитты, чтобы святая благословила пеленку, которой затем надо было укутать роженицу, если роды оказывались затяжными.
Могло бы это спасти младенца?
Нэнс медленно подняла корзинку, оторвала тело от изгороди. Вся одежда в колючках. Теперь не важно! Она сделала все, что было в ее силах, но младенцу не суждено было жить.
В темной синеве ночи лес и маленькая избушка сквозили холодом и пустотой. Вдали призрачно маячила коза, глядела на хозяйку, ждала, когда впустят в тепло.
Добравшись до дома, Нэнс обхватила козу руками, вдыхая тепло, утешительный знакомый запах.
— Ах ты, терпеливая моя девочка! — бормотала Нэнс, утыкаясь лицом в жесткую шерсть Моры.
Она впустила козу в дом, привязала ее к крюку в стене, а затем разожгла очаг. Выпила молока, насыпала крестовника и немного молотой кукурузы курам — некоторые уже забрались на насест — и устало улеглась в постель.
Но сон не шел. Измученная Нэнс ворочалась на вереске, ее одолевало беспокойство. И томило предчувствие чего-то страшного, надвигающегося на нее. Мир словно безвозвратно менялся, ускользал от нее, отметая ее в дальний угол.
Огонь в очаге трещал, руша куски торфа и превращая их в золу.
Что сказал бы ей отец, будь он жив? Он, понимавший, откуда ждать непогоду?
«Треска держится в глубокой воде, — бормотал он, притянув ее голову к своему плечу. — На глубине царит великий покой, а он-то треске и нужен. Вода замерла в покое. Но вот поднимается буря, баламутит воду, гонит волны туда-сюда, кидает их, мешает воду черт-те как. Рыб, водоросли, песок, камни, даже кости утопленников и останки погибших кораблей — все перемешивает шторм! Глубоководную рыбу он выбрасывает на мель, а мелководную тянет на глубину».
Руки отца гладят ее по волосам. Пахнет вареной картошкой — скоро ужин.
«Ей-богу, как на духу, что, думаешь, делает треска, когда чует бурю? И это истинная правда, как то, что я твой отец! Треска глотает камни, чтоб волны были ей нипочем, и, тяжелая, опускается на глубину, топит себя! Всякая рыба боится грозы и бури, но не всякая знает, как уберечься!»
Нэнс закрыла глаза, и сердце ее сжала тоска по отцу.
Мертвые рядом, думала она. Мертвые рядом.
Уже в предрассветный час до Нэнс донесся шум снаружи. Встав, Нэнс взяла из очага погасший уголек — оберег от нечистых — и выглянула в неясный полумрак. Звук шел от Дударевой Могилы. И Нэнс направилась в сторону могильника. Луна клонилась к закату, но свет ее все еще заливал долину, четко очерчивая предметы, и Нэнс разглядела мужчину, стоявшего возле большой каменной глыбы, опершись рукой на острый ее край. Казалось, он молится, опустив голову.
Дэниел.
Нэнс подобралась ближе и глядела из-за низкой ограды, отделявшей урочище от полей вокруг. У ног Дэниела стоял маленький ящик.
Нэнс думала, сам ли Дэниел сделал гроб, сколотив его из бог весть каких неосвященных досок, которые нашлись в хозяйстве, или же сосед, расщедрившись, помог соорудить домовину для некрещеного младенца.
Она глядела, как Дэниел, опустив глаза, бродит по холму, а затем, выбрав место и взяв лопату, принимается рыть могилу. Земля застыла, затвердела, и несколько минут единственным звуком, который слышала Нэнс, был скрежет железа по льдистой почве. Потом Дэниел взял ящик и, стоя на коленях, бережно опустил его в землю. Некоторое время он оставался в той же позе, затем тяжело поднялся и закидал яму комьями глины.
И лишь потом, подойдя к ограде, чтобы вынутым оттуда большим белым камнем пометить место неосвященной могилы, он увидел Нэнс. Остановился, вгляделся в ясно видимую в лунном свете фигуру; не выпуская из рук камня, замер, словно не веря собственным глазам. А затем, не поздоровавшись, отвернулся и, утвердив на рыхлой земле камень, ушел, неся лопату на плече, точно Спаситель свой крест.
Нэнс стояла в редеющем сумраке, пока тишину долины не прорезало пение петухов. Бросив последний долгий взгляд на то место в вечной немоте земли, где лежал теперь мертворожденный младенец, она перекрестилась и вернулась к себе в избушку.
Глава 11 Наперстянка
В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ ЖЕНЩИНЫ, казалось, только и говорили что о тяжелых родах Бриджид и ее мертвом младенце. К роднику, как заметила Мэри, они сходились теперь целой толпой, все в темном, — ни дать ни взять стая галок на полях. Лица некоторых были сочувственными — женщины, которым и самим доводилось терять детей, разделяли горе Бриджид, — но многих, как поняла Мэри из их разговоров, больше занимала вина Бриджид, что она сделала или не сделала, чтоб сохранить ребенка.
— Дэвид говорил, не зашла она в кузню к Джону О’Донохью, чтоб он раздул мехи.
— Ясное дело. Я вот шесть раз в кузню к нему ходила, и шесть здоровых ребят на свет родила!
— Мехи верное средство, чтобы разродиться.
— Она на поминки по Мартину Лихи ходила. Я сама там ее видела. Возле мертвого на коленях стояла. Не оттого ли это?
— Ну, когда тело в гроб клали, ее не было.
— Там-то не было, — с заговорщическим видом промолвила одна из женщин, — но где тогда она была? Не у Пег ли О’Шей, что сидела тогда с внуком Норы Лихи?
Раздался недоверчивый шепот.
— По мне, так это страх божий — очутиться с уродом под одной крышей!
— Вот мне скажите, если знаете, что за хворь у него такая? Что Нора взяла к себе ребенка, когда дочь у ней померла, я слышала, но видеть его ни разу не видела.
— Да прячет она его!
— Потому что подменыш это, а никакой не ребенок!
— Ей-богу, я слыхала, это только на людях он ходить не может, а когда один, то поет и пляшет.
— А ты почем знаешь, коли никто не видел, как он пляшет?
Послышался смех, затем кто-то подтолкнул говорившую локтем и кивнул на Мэри.
— Ты ведь служанка Норы Лихи, верно?
— Ее Мэри Клиффорд звать.
Мэри подняла глаза от ведер с водой и увидела, что на нее внимательно смотрит добродушного вида женщина.
— Это правда, калинь? Правда, что люди говорят о мальчике? Будто подменыш он, это правда?
Мэри сглотнула. Взгляды всех собравшихся были обращены к ней.
— Нэнс Роух все поправит.
Женщина задумчиво пожевала губами:
— Видела я одного подменыша…
— Ханна!
Послышалось недоверчивое хихиканье.
Женщина резко обернулась:
— Ничего смешного! Страшнее горя для матери и не выдумать! Каково бы вам пришлось, если ваше дитя украли, а в колыбельку взамен свое отродье подложили — гадкое, сморщенное, орет весь день и всю ночь напролет?
Смех смолк, она одобрительно цокнула языком:
— Вот и хорошо. А Нэнс знает, что делает.
Раздался крик, и Мэри увидела, как вперед сквозь толпу устремилась Кейт Линч, так яростно, что пустое ведро било ее по ноге.
— Лучше подумайте, не Нэнс ли тут виновата!
— Что ты такое говоришь, Кейт?
У одной из женщин шея пошла от возбуждения красными пятнами.
— Я же всегда знала, изводница она!
— Как это?
Женщина перешла на шепот, остальные сбились вокруг нее.
— Так их прозвали. И недаром. — Прищурившись, она оглядела слушательницу: — Говорят, потому она и заявилась сюда много лет назад — спрятаться. Ее вздернуть хотели!
— Ей-богу, и мне всегда казалось, что она сюда сбежала.
— Изводница и есть. Она это умеет.
— Да что умеет-то? — спросила Ханна, неодобрительно поглядывая на остальных.
Женщина закатила глаза и, облизнувшись, со вкусом продолжала:
— Провалиться мне, если вру, зовутся они изводницами за то, что знают, как вернее младенчика извести, в ведерко его скинуть. — Она замолчала: до всех ли дошло? — Ведь если ребенок утонет прежде, чем первый вздох сделает, ни один судья не подкопается, не докажет, что был тут злой умысел. — Ее передернуло. — А то, едва родится, она ему тотчас шею пуповиной обовьет. Задушит и скажет, что таким бедняжка и родился.
— Ты к тому, что это Бриджид Линч попросила Нэнс убить дитя?
Женщина залилась краской:
— Да вовсе не к тому. А к тому лишь, что негоже звать лисицу в курятник цыплят караулить.
Это было уж чересчур! Мэри выпрямилась и, вздернув голову, протиснулась прочь.
— Это все от трав, что она ей давала.
Мэри замерла.
Про травы сказала Кейт Линч. Она стояла, подняв руки; в тени от платка, что сполз на глаза, лица было не разглядеть.
— Дэниел Шону признался, что заглянул к Нэнс неделю-другую назад. Бриджид во сне уходить из дому стала. Он нашел ее раз возле Дударевой Могилы.
Собравшиеся так и ахнули. Некоторые перекрестились.
— Это еще не все! Он попросил у Нэнс средства от хождения во сне, и Нэнс, Дэниел сам сказал это Шону, дала ему паслена!
— Ну и что в нем худого?
— Так это же волчья ягода! — Кейт в сердцах швырнула ведро на тропу, и оно загремело о камни. — Яд это! Нэнс Роух травит людей! Непонятно вам, что ли? Глаз у вас нет, слепые вы! И хвори насылает, чтоб самой прокормиться.
— Что же, по-вашему, случилось?
Мэри, сидя на полу, укачивала Михяла, пока Нора сливала картошку для завтрака.
— В родах такое бывает.
— Вам не кажется, что это из-за травок Нэнс?
— Каких травок?
— Из-за паслена. Кейт Линч сказала, что Дэниел к Нэнс пошел — просил, чтоб вылечила Бриджид, а то она ходит во сне, а теперь говорят, будто ягоды, которые Нэнс ему дала, младенчика и убили.
Нора сдвинула брови:
— При нас же все было. И ты собственными глазами видела, как Нэнс Роух чего только не делала, чтоб ребенок родился здоровым и как положено.
Мэри вздохнула и рассеянно отвела со лба Михяла прядь волос:
— А не опасно это — лечить у нее Михяла?
Нора искоса бросила взгляд на ребенка:
— Так это и не Михял.
— Все равно, не повредят ему эти травки? Если ягоды паслена могли ребеночка убить…
Нора бросила картофелины в горшок.
— Это же просто мята была. И ничего ему от нее не сделалось. Ни хорошего, ни плохого. — Она отвернулась от поднявшегося облака пара.
— Я не про мяту, — пробормотала Мэри. — Я про то, чем она теперь лечить станет. Наверняка в другой раз Нэнс сильную траву возьмет. Не случилось бы чего.
Михял загулил у нее под руками, и она, улыбнувшись, легонько похлопала по размахивающим кулачкам.
— Ну и что ты предлагаешь мне делать? Растить эльфеныша как собственного внука? Слушать, как он каждую ночь орет без умолку? Да у тебя уже глаза точно дырки в прожженном одеяле, и у меня также!
Нора схватила горячую картофелину и уронила ее обратно в плетеное решето, сунув в рот обожженные пальцы.
Улыбка исчезла, лицо Мэри вытянулось.
— Я просто беспокоюсь о нем, вот и все.
— Вот уж нечего беспокоиться об этой твари. Глянь-ка! — Поджав губы, она указала на мальчика. — Видела? Смеется.
Мэри щекотала ребенку грудь, и он, довольный, ежился и извивался над ее пальцами.
— Оно из тебя веревки вьет.
— Почему вы называете его «оно»?
Нора сделала вид, что не слышит.
— Когда он не плачет и не кричит, или спит когда, он точь-в-точь как обыкновенный мальчик, правда?
Мэри поглаживала Михяла по подбородку, и тот взвизгивал от смеха.
Нора, хмурясь, глядела на эту сцену. Улыбка делала Мэри моложе. Лицо ее так часто бывало серьезным или опухшим, с красными от недосыпа глазами, что Нора и позабыла, как мало ей лет, как далеко она теперь от дома. Зимнее солнце через открытую створку двери освещало рыжие волосы девочки, веселое выражение лица смягчило ее черты, и Норе вспомнилась Джоанна.
— Ты, наверно, по родным скучаешь, — неожиданно вырвалось у нее.
Мэри подняла глаза, лицо исказилось грустью.
— По родным?
— Ну да.
— Скучаю.
Девочка опять опустила глаза к Михялу и стала ерошить ему волосы.
— Я очень по ним скучаю. Они же маленькие такие, а я смотрела за ними, а теперь беспокоюсь, как они без меня, ведь у мамы времени на них нет.
— Нет-нет, а вспомнятся, да?
Мэри спрятала лицо, и Нора увидела, что она щиплет себе руку.
Старается не заплакать, подумала Нора, и досада, которую она ощутила при виде того, как Мэри играет с малышом, исчезла. Не сказав ни слова, Нора поднялась и прошла в свой покойчик. Приподняв лежавший на кровати тюфяк, она нащупала на досках сверток и с бьющимся сердцем развернула его. Все лежало, как она оставила, — остриженные пряди волос цвета ржавчины. Волосы дочери, перевитые бечевкой, с детскими еще завитками на концах. Гребень. Почти все зубья его целы, а между ними даже остались волосы. Деревянная резная рамочка из Килларни. Их с Мартином инициалы среди роз. Зеркальце давно выпало из этой рамочки и разбилось, а рамка осталась. Свадебный подарок Мартина.
Нора понюхала прядь Джоанниных волос. Но запах дочери выветрился. Пахло лишь соломой тюфяка и пылью. Завернув рамку обратно в тряпицу, Нора ласково погладила Мартиновы инициалы и положила сверток обратно в тайник.
А гребень вытащила и понесла к очагу. Поскорее, чтобы не передумать, она протянула гребень Мэри:
— Вот.
Девочка нахмурилась, не понимая.
Взяв ее руку, Нора сунула туда гребень:
— Это дочери моей. У ней волосы были как у тебя. Красивые.
Мэри осторожно сжала в руке гребень, погладила костяные зубья.
— Подарок это.
— У меня никогда еще не было гребня.
— Ну, а теперь будет.
— Спасибо, миссис.
Мэри улыбнулась, и Нора схватилась рукой за грудь, так заныло вдруг сердце.
— Ваша дочь, наверно, красивая была.
Нора прижала пальцы к ребрам, но боль лишь усилилась.
— Вороне и вороненок свой красавчиком кажется. — Голос ее задрожал. — Придет день, ты тоже матерью станешь, Мэри Клиффорд. Тогда поймешь.
Мэри покачала головой:
— Я замуж не пойду.
— Ты разве не хочешь собственных малышей?
— Кругом малышей достаточно, успевай только нянчить.
— Но они вырастут. Вырастут твои братья с сестрами, и ты захочешь собственных детей.
Нора подцепила остывшую картофелину и передала ее Мэри:
— Накорми его. Давай.
Чистя картофелину для себя, она глядела, как девочка кормит хнычущего ребенка. Вместо того чтобы отщипывать кусочки и совать их ему в рот, Мэри прожевывала картофель и, сплюнув в руку, давала его затем малышу.
Перехватив взгляд Норы, девочка пробормотала:
— Так он не подавится.
— Ты прямо души в нем не чаешь.
Откусив кусок картофелины, Нора жевала, зорко следя за Мэри:
— Мята эта… Толку от нее чуть. Я тут подумала. Снесем его вечером снова к Нэнс.
Лицо Мэри стало белым как мел.
— А вы обождать не хотите? Проверить — может, черноголовка…
— Нет, нынче же вечером и пойдем. Нет на мальчишку угомона. И внук мой в него не возвращается. Да как можешь ты кормить эльфеныша, зная, что и кровь-то в нем не человеческая, и не божеское он создание! Зная, что сыночек Джоанны, Михял бедненький, томится у фэйри, вместо того чтобы здесь быть со мной!
— Но кормить-то его все равно надо!
Покачав головой, Нора проглотила картошку.
— Не могу я сидеть дожидаться, пока черноголовка поможет. — Передернув плечами, она встала, вытащила из печурки над очагом бутылку с потинем — и перехватила взгляд Мэри.
— Ты не подумай… Это еще от Мартина осталось, на случай, если из мужчин заглянет кто. — Нора поморщилась, вытаскивая пробку. — А мне успокоиться надо… Вот так.
Она сделала глоток, зажмурилась — и вновь увидела дочкины волосы в тряпице. Ее пробило дрожью. Закашлявшись от крепкого спиртного духа, она протянула бутылку Мэри.
Девочка мотнула головой и взялась за гребень.
Нора сидела, сжимая в руках бутылку.
— Мы отнесем подменыша назад, Мэри. Не могу я больше ждать и терпеть. Слушать, как он орет и ждать, что переменится. — Она снова глотнула из бутылки. — С той поры как Нэнс назвала его фэйри, я все думаю, каким стал сын Джоанны, тот, настоящий… Вырос, должно быть. Так и вижу его перед собой. — Нора поднесла к губам бутылку и сделала большой глоток. — Он снится мне, Мэри. Стоит перед глазами. Ладный паренек, красивый, смеется. Я слышу его голос. Он говорит со мной. Совсем как тогда, в тот раз, что я увидела его впервые, у матери на руках. А я будто обнимаю его и рассказываю о матери. Какая она была у него хорошая, какая… красавица. Она была такая красивая девочка! Я каждый вечер ей волосы расчесывала этим вот гребнем, что у тебя в руках. Расчесывала, расчесывала до блеска… Ей это нравилось. И мне снится теперь, Мэри, будто я ей волосы расчесываю. Мне оба они снятся — Джоанна и Михял, будто они со мной, живые и… — Закрыв глаза, она сказала с горечью: — И тут вот этот начинает вопить как резаный…
Мэри молчала. Потом поднесла ко рту руку и выплюнула в нее картофельную жвачку.
После чего принялась кормить ребенка. Ел он жадно, дергаясь всем телом.
— Оно меня не любит… — Нора махнула бутылкой в его сторону. — Оно таких вещей и не ведает. — Она заткнула бутылку пробкой. — Ему дай да подай, а от него никакой благодарности.
Мэри вытерла руки о юбку и, подхватив ребенка на руки, прижалась к нему щекой.
— А родной сынок Джоанны… — Нора глубоко вздохнула. — Даже во сне его видеть — и то утешение. Дар Божий. Единственное, что мне осталось! — Она кинула взгляд на девочку и увидела, что оба они, Мэри и мальчик, глядят на нее. Подменыш притих и скользит глазами по ее лицу. — Знаешь, Мэри, во сне мне он похожим на Мартина кажется.
Мэри покосилась на бутылку с потинем в руках у Норы и стала расчесывать волосы эльфеныша. Он моргал, стоило ей потянуть чуть посильнее.
Нору передернуло.
— Сегодня вечером, — сказала она, вытянув пробку и быстро сделав еще один глоток. — Как смеркнется, так его и вынесем.
К бохану Нэнс они подошли под вечер: из куля тряпок, что Мэри несла на боку, болтались мертвенно-белые ноги и били девушку по тощему бедру. Всю дорогу в небе клубились грозовые тучи, но, когда долина осталась позади, горизонт очистился и проглянуло заходящее солнце. В его лучах грязные лужи на полях вспыхнули золотом. Мэри поглядела на Нору. Та тоже заметила эти внезапные проблески света. Добрый знак. Они улыбнулись друг другу, и Мэри подумала, что выпивка успокоила вдову. Девушка заметила, что перед уходом Нора прихватила и бутылку, упрятав ее под шаль.
Нэнс сидела на табуретке в дверном проеме и курила вечернюю трубку. Дождавшись, пока женщины ступят на ее двор, она встала и поздоровалась:
— Спаси Господи и Матерь Божья!
— Знала небось, что придем. — Говорила Нора невнятно.
— Твоя Мэри Клиффорд сказала мне, что перемены нет, вот я и поняла: не сегодня завтра пожалуете.
— Никаких в нем перемен. — Нора забрала Михяла у Мэри, но взялась неловко, да еще и споткнулась и чуть не уронила ребенка. Мэри живо выхватила у нее мальчика и снова пристроила себе на бедро. Тот заскулил.
Нора выпрямилась, вся красная.
— Вот глянь-ка! — Она показала на ноги мальчика, безжизненно свесившиеся, с вывернутыми вовнутрь большими пальцами. — Видишь, Нэнс? Силы в них нет вовсе!
— М-м-м… — Нэнс с прищуром взглянула на Нору, затянулась трубкой и выдохнула дым прямо в лицо мальчику. Воздух пронзили вопли ребенка. — Лучше уже войдите, раз так случилось.
Едва войдя, Нэнс притянула к себе девочку за плечо:
— Она что, выпила?
Мэри кивнула, и Нэнс провела языком по деснам. — Ладно. Положите его сюда. — И она указала на свою подстилку из вереска в углу. — Не стану врать тебе, Нора Лихи. Мята и черноголовка — травы не бог весть какие сильные, но они показали, что ребенок этот — подменыш, как мы и думали. А чтобы выгнать колдовское отродье, нужно зелье покрепче.
Нора, сидевшая на табуретке возле огня, застыла в ожидании. Лицо ее пылало, волосы успели растрепаться.
— Что ж ты станешь пробовать теперь?
Нэнс дождалась, пока Мэри уложит ребенка на ее постель.
— Лусмор. Великая трава.
Она показала Норе подвядшие зеленые листочки.
— Наперстянка! — шепнула Мэри, сверкнув глазами в сторону Норы. — Это ж яд!
— На козни фэйри нужны их же травы, — проворчала Нэнс. — А яд не так и страшен, если знаешь, как им пользоваться.
От страха сердце у Мэри забилось так сильно, будто вся кровь вдруг остановилась и потекла в обратную сторону.
— Но вы же это ему не скормите? Только ступни намажете, да? Как тогда?
Нэнс посмотрела на Мэри отрешенным взглядом:
— Можешь мне поверить.
Нора кивнула с отсутствующим видом.
Мэри закусила губу. Ее мутило. В натопленном бохане было душно, из канавки несло козьим пометом. Мэри закрыла глаза, под носом у нее выступил пот. Из темного угла доносилось хныканье Михяла — так блеет разлученный с матерью ягненок. Томительный прерывистый звук повторялся снова и снова.
— Сегодня мы его искупаем, — сказала Нэнс, кидая листики наперстянки в большой чугунок с водой.
Нора поднялась, чтобы помочь ей поставить посудину прямо на раскаленные угли.
— Теперь подождем, пока вода согреется и вберет в себя силу лусмора, — сказала Нэнс и опять уселась на свою табуретку.
— Зачем держать мальчика в постели, если я могу взять его на руки! — воскликнула Мэри и, не дожидаясь ответа, ринулась к ребенку. Взгляд мальчика метнулся к ней. Мэри подняла ребенка, стараясь не смотреть на его трясущуюся голову и дергающееся лицо.
— Она все время с ним нянчится, — шепнула Нора.
— Так он не плачет, — объяснила Мэри.
— А ведь и верно, — пробормотала Нэнс. — Ведь молчит же он сейчас, ни крика, ни писка!
Нора насупила брови:
— Да разве не держишь ты его на руках ночи напролет, а он все равно вопит как резаный?
Мэри теснее прижала Михяла к груди, а ноги его положила к себе на колени.
— Думаю, это его успокаивает. Если на руки брать.
Нора, моргая, уставилась на нее:
— Что толку… Все орет и орет…
— Пусть подержит его девочка, хуже не будет, — не сразу отозвалась Нэнс. — И что ласкова она с ним, ей-богу, хорошо, раз Михял твой там, у Них. — Взяв тряпочку, она обмакнула ее в козье молоко и протянула Мэри: — Вот, возьми, дай тварюшке пососать.
Они сидели, дожидаясь, пока вода вберет в себя силу травы. Нора глядела на листья, плавающие в чугунке, и руки ее дрожали. Нэнс протянула ей кружечку потина, и вдова молча ее осушила.
Когда вода согрелась, Нэнс вместе с Норой сняли чугунок с углей, и старуха кивнула Мэри:
— Теперь раздень мальца. Выкупаем его.
Положив Михяла на пол, Мэри стала его раскутывать. Она чувствовала на себе взгляды женщин; приподнимая ребенку голову, высвобождая его из тряпок, чувствовала покоившуюся на ее ладони тонкую шейку мальчика. Когда с него было снято все до последнего, белое, как молоко, тело покрылось гусиной кожей.
— Вода не обожжет его, нет? — спросила Мэри.
Нэнс покачала головой и потянулась к ребенку. Вдвоем они окунули в воду его безжизненные ноги.
— А теперь опускай его. Вот так, девочка, ниже. Держи за плечи. И гляди, сама не забрызгайся. Окунай его всего! Так.
От горячей воды ребенок поначалу вытаращил глаза, но затем стал следить за мельканием теней на стене.
— Слишком уж он большой, — пыхтя от натуги, проговорила Мэри. — Боюсь, не влезет…
— Да ну, кожа да кости одни! Впихнем.
Когда, притиснув руки мальчика к его груди, они опустили его в посудину, вода плеснула через край, а колени поднялись к подбородку.
— А теперь не держи его.
Мэри заколебалась:
— Если я отпущу его голову, он о край стукнется!
— Делай, как Нэнс велит, Мэри! — прохрипела Нора.
Мэри убрала руку, и голова мальчика свесилась на сторону, ухом едва не касаясь воды. Женщины, чуть отступив, глядели на него.
— Что-то почуял, — пробормотала Нэнс, и Мэри поняла, что так оно и есть: Михял закинул голову, задрав подбородок вверх, к закопченным балкам потолка. По его телу, как рябь по воде, пробежала дрожь, и он заскулил, захныкал, вывалив язык.
— Опять это его лисье тявканье! — прошипела Нора.
Мэри свело живот судорогой — не то от страха, не то от волнения. Казалось, сумрак вокруг сгустился и гудит слабым неясным гулом.
— А теперь придется влить в него зелье!
Подавшись вперед, Нэнс коснулась подбородка ребенка. От ее прикосновения мальчик мгновенно подобрал челюсть, мускулы сжались, рот захлопнулся. Оглядываясь на Мэри и Нору, Нэнс попыталась разжать ему губы и зубы пальцем, но мальчик упрямо отдергивал голову.
— Мэри, помоги мне, открой ему рот, хорошо?
— Оно будто чует! — удивленно воскликнула Нора. — Знает, что выгнать его хотим!
— Ну, Мэри же!
Встав на колени перед чугунком, Мэри потянулась рукой ко рту ребенка. Но едва она до него дотронулась, как Михял застонал и замахал руками, расплескивая воду. Мэри отпрянула, боясь облиться настоем. Дождавшись, пока он успокоится, опять потянулась к мальчику и осторожно, кончиками пальцев, разомкнула ему губы. Михял искоса взглянул на нее и уронил голову на плечо. Розовая влажная десна его оказалась под пальцами Мэри. Она чувствовала, как крепко сжал он зубы.
— А больно ему не будет? — спросила она.
— Ни капельки, — заверила ее Нэнс. — Ты одно помни, девонька, мы только хотим вернуть его к сородичам.
Мэри нащупала просвет между зубами, проворно просунула пальцы во влажную полость рта и нажала на коренные зубы. Нижняя челюсть отвисла, рот раскрылся. Прижав крючковатым пальцем Михялу язык, Нэнс влила сок наперстянки ему в глотку.
— Готово. Сделано дело.
Мэри тотчас, словно обжегшись, выдернула руку изо рта Михяла и, поглядев на свои пальцы, заметила на костяшках следы зубов.
— А теперь что нам делать? — спросила Нора. Обернувшись, Мэри увидела, что вдова у них за спиной еле стоит на ногах и седые волосы ее мокры от пота и липнут ко лбу.
— Ждать, — сказала Нэнс.
Михял скорчился в чугунке, он постанывал и разбрасывал вокруг себя брызги, как рыба, плещущаяся в ведре. Мэри решила, что теплая ванна, должно быть, успокоила его, согрела кости, утихомирила зуд покрытой сыпью и шелушащейся кожи на спине. Глаза его блестели, кожа разрумянилась. Мэри подумала, что с того дня, как она его знает, ребенок впервые выглядит довольным. И она облегченно перевела дух.
Затем исподволь мальчика стал бить озноб.
— Начинается, значит, — шепнула Нэнс.
Дрожь усилилась. Михял трясся как осиновый лист, как трясутся сережки на березе под топором лесоруба; не прошло и нескольких минут, как судороги стали настолько сильными, что казалось, тело мальчика вот-вот выскочит из собственной кожи.
В груди Мэри трепыхнулась паника.
— Нэнс?
— Трава свое дело знает.
Судороги перешли в конвульсии, вода выплескивалась на пол. Голова Михяла метнулась вперед, подбородок уперся в горло. Лицо скрылось в воде.
— Он потонет, — прошептала Мэри. Она вцепилась Нэнс в плечо, но женщина ласково отвела ее руки.
— Нора, подними его. Помоги мне его поднять.
Нора, растерянная и пьяная, повиновалась. Вдвоем с Нэнс они подняли из чугунка с настоем бьющегося в судорогах ребенка. Михял дрожал как бешеный пес, с вытянутых как палки, трясущихся рук текла вода. Голова моталась туда-сюда, а рот был разинут в гримасе отчаянного ужаса.
— Мэри! Открой нам дверь.
Девочка оцепенела от страха так, что не могла вздохнуть.
— Открой дверь!
Мальчик издавал странные звуки — хриплые, душераздирающие вдохи, словно вдруг кончился весь воздух, а он все еще пытается дышать.
— Открой же дверь! Мэри!
Ужас обжег Мэри, и она сделала, как велено, — распахнула плетеную дверь в темень ночи, а сама, попятившись, прижалась к стене.
Всю небесную ширь охватили звезды.
Лицо Нэнс было сосредоточенным, строгим. Вперив в Нору белесые глаза, она попыталась поймать ее взгляд.
— Помоги мне раскачать его, — сказала она.
Нора кивнула, сосредоточенно сжав зубы. Обе крепко ухватили мальчика за плечи и под ребра и потащили к двери.
— Я буду говорить слова, какие положено, а ты поможешь мне его качать. Бросать не надо, лишь раскачивать в дверях. Туда и обратно, качать над порогом.
Нора кивала, молча, немо.
— Мэри! Там в углу лопата. Принеси. Да побыстрее!
Сердце у Мэри ухнуло, упав куда-то в кишки, но она послушно выполнила и это.
— Подставь ему под ноги. Под него подведи, чтоб он словно сидел на ней. Нора, держи его хорошенько. Теперь качаем!
Закрыв глаза, Нэнс вдохнула побольше воздуха:
— Если ты из фэйри, прочь!
Повинуясь приказу Нэнс, Нора качнула мальчика во тьму. Цепко держа его плечо, она пальцами ощущала, как трясется каждая его жилка.
— Если ты из фэйри, прочь!
Мэри крепче сжала в руках лопату, над которой качались простертые в сторону леса костлявые ноги с россыпью мелких прыщей, едва заметных при свете очага.
— Если ты из фэйри, прочь!
Они качали его, кидая в ночь, где обитает нечисть, где ждут, припав к земле, козни незримого мира. Мэри держала лопату, а женщины раскачивали мальчика, и он качался, как висельник в петле, качался, дрожа под их руками. И едва они опустили его на землю, как Мэри, отшвырнув лопату, схватила его, подняла, укутала в свой платок эту липкую дрожащую нагую плоть, всю в мурашках от холода, и потом, сидя у очага и прижимая мальчика к теплой своей груди, она чувствовала, как биение этого странного, нечеловеческого сердца становится все слабее, замедляется, становясь все тише, покуда ухо не перестало различать его вовсе.
Глава 12 Вероника
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ТОГО, как Нэнс приняла у Бриджид неподвижного, бездыханного младенца, она вернулась к хижине Линчей с корзиной вероники.
После тех родов Бриджид являлась ей каждую ночь, грудь Нэнс словно тоже распирало молоко, которое некому было сосать. Проснувшись в тревоге, ворожея испуганно озиралась и спешила в лес за молочаем, вероникой и водяным крессом и всякой травой, что способна облегчить телесные мучения несчастной.
В долину она добралась, когда первый утренний свет, пробившись сквозь дымку, разлился над вершинами гор. Подойдя к двери Линчей, она постучала. На стук вышел Дэниел с воспаленными от бессонницы глазами.
— Чего тебе? — хрипло спросил он.
В ответ Нэнс молча показала на корзинку.
— А это еще зачем?
— От болей. Трава такая.
— Ей не травы нужны, — сказал Дэниел и, скрестив руки, встал в двери.
Нэнс попыталась заглянуть в дом, но он заслонил ей обзор.
— Ты свое дело тут уже сделала, Нэнс.
— Дозволь мне походить за твоей женой, Дэниел.
— Она еще не очистилась в церкви.
— Знаю. Дозволь мне посмотреть ее. Я могу ей помочь.
— Еще паслена дашь, да? — криво усмехнулся Дэниел. Наклонившись к Нэнс, он тяжелым взглядом уставился прямо ей в глаза. — Ведь говорил же я тебе, что на килин она ходит, к фэйри, а тебе хоть бы хны — ничегошеньки не сделала! А теперь вот сынок мой — в могиле!
Нэнс стойко выдержала его взгляд.
— Такое случается, Дэниел, уж поверь. И винить тут некого. Мы сделали что могли, право слово. Так уж устроен мир. На то воля Божья.
Дэниел потер небритый подбородок, голубые глаза его глядели хмуро.
— Кто поручится, что не ты убила моего сына своим пасленом?
— Паслен ей помог заснуть, только и всего!
— Это только слова.
Нэнс вскинула голову:
— Я прожила долгую жизнь, Дэниел. А скольким детям помогла на свет родиться, и не сосчитать. Неужели ты думаешь, что, когда жить на этой земле мне остается всего ничего, я детоубийцей заделалась?
Он засмеялся, в утреннем сумраке смутно виднелся пар от его дыхания.
— Ну да. Умеешь ты отвертеться.
— Так позволишь мне ее полечить?
— Говорю тебе, Нэнс: над ней еще не прочли очистительной молитвы. Ведь ты сама вечно о духах твердишь. Так почему не боишься, что она осквернит тебя нечистым дыханием? Ведь грех деторождения еще с нее не снят.
— Молитва — дело священника. А я пришла как повитуха.
— Ну да, повитуха. Хороша повитуха! — Он кивнул в сторону дороги: — Прочь отсюда!
— Можно я хоть травки тебе оставлю?
— Прочь! — Крик его гулко разнесся в тихом утреннем воздухе. С росшего неподалеку ясеня вспорхнула стайка скворцов.
Бросив на него опасливый взгляд, Нэнс опустила на землю корзинку с травами.
— Ты припарку из этого сделай, — начала она, но не успела договорить: Дэниел пинком отбросил корзинку. Он тяжело дышал, щеки его пылали от ярости.
Нэнс замерла, сердце вдруг сбилось с ритма. Она уставилась на свои ноги, на пожелтевшие ногти.
Воздух между ними искрил от напряжения. Ни он, ни она не двигались.
Тихо скрипнула дверь, и оба повернулись на звук. В дверном проеме стояла всклокоченная Бриджид — бледное лицо и темная спутанная грива волос. Бриджид бросила долгий взгляд на Дэниела, и Нэнс уловила: что-то пробежало между ними. И тут же, не сказав ни слова, Бриджид вернулась обратно в дом и закрыла за собой дверь.
— Я могу ей помочь, — повторила Нэнс.
Дэниел постоял, не поднимая головы, а затем прошел к тому месту, куда отлетела корзинка. Нэнс глядела, как, наклонившись, он собирал вывалившиеся из корзинки в грязь травы и неловко пихал их обратно в корзинку. И, вытерев руки о штаны, протянул корзинку Нэнс.
— Ступай домой, Нэнс.
— Может, сам дашь ей травки?
— Прошу тебя, Нэнс, ступай домой.
— Твое дело только вымыть их да сделать припарку.
— Нэнс, Христом Богом прошу: ступай домой!
У Нэнс пересохло в горле. Молча, стараясь не встречаться глазами с Дэниелом, она повернулась и побрела прочь.
Мальчик и вправду переменился, но не такой перемены ждала Нора. Каждое утро затемно, еще петух не пропел, она спросонок ощупью выбиралась из своего покойчика, чтобы постоять над спящей девочкой и подменышем. Кутаясь в куртку Мартина, она стояла над раскладной лавкой, вглядываясь в лицо спящего ребенка. И каждое утро он, казалось, не спал и не бодрствовал, а словно дремал с приоткрытыми глазами. Иногда он шевелился, но не дергался, как раньше, — он либо лежал неподвижно, либо по нему пробегала жутковатая дрожь, точно по кроне осины под ветром. Нора разглядывала его рот, пытаясь понять, просто ли он приоткрыт спросонок или это страшная зевота фэйри. Иногда изо рта показывался язык, и сердце Норы колотилось от предвкушения: вот сейчас мальчик заговорит.
Однажды утром Нора, стоя над лавкой, уже было решила, что наперстянка подействовала и в дыхании мальчика слышится речь, но тут, зевая, проснулась Мэри.
Она сжалась при виде склонившейся над ней Норы:
— Ох, как вы меня напугали!
Нора села на корточки возле мальчика, придвинув ухо к самому его рту.
— Мне почудилось, будто он произнес какое-то слово.
Мэри села в постели, растрепанная после сна.
— Вы слышали, как он говорит?
— Не то чтобы говорит, но звук какой-то слышала. Дыхание. Будто что-то шепчет.
С минуту они прислушивались, но вялые губы Михяла оставались неподвижны.
— Его опять стошнило ночью.
— Стошнило?
Девочка указала на стоявшее возле лавки ведро. Там в грязной воде плавала тряпка.
— Он весь в рвоте был и обмочился. — Она придвинулась ближе, озабоченно нахмурив лоб: — Дрожит он.
Нора встала, в раздумье потерла губу.
— Должно быть, это хороший знак.
Мэри приподняла вялую руку Михяла, повертела ее, рассматривая.
— Он не такой, как прежде.
— Так это лусмор действует.
Мэри погладила ладошку мальчика.
— Он совсем как сестрички мои были перед смертью. Точно тряпочка. И тихий совсем.
Нора пропустила это мимо ушей.
— Холодно, Мэри. Вставай, повороши угли в очаге, ладно?
Девочка выпустила руку Михяла и вновь накрыла ее одеялом.
— Он не умирает, как вам кажется?
— По воле Божьей помрет и фэйри, чтобы Михял вернулся.
Открыв дверь, Нора вглядывалась в утренний туман.
Мэри замерла, опешив.
— Вы хотите, чтоб он умер? Фэйри? — Она тоже подошла к двери и встала рядом с Норой. — Да разве ж это не грех, миссис? Травить вот так, наперстянкой, разве не грех это?
— Вовсе нет, если этим мы фэйри из него изгоняем. А как это делаем — не важно. Разве грешно прогнать эльфеныша, а Михяла назад получить? — Она повернулась к Мэри, ухватила ее за плечо: — Это мы хорошее дело делаем, истинно так, если изгоним мы фэйри, заставим его покинуть нас, добрые соседи своего сородича получат, а я получу свою кровиночку! Наперстянка поможет, и мы восславим Господа. А теперь разожги-ка огонь в очаге! Очень я замерзла.
Девочка послушно вернулась к очагу и принялась ворошить угли.
А Нора все глаз не могла отвести от туманного пейзажа. В рассветной дымке двигались смутные тени: это выгоняли из хлева коров, слышалось звяканье пустых подойников, доносились голоса женщин. Мелькали огоньки: это, одна за другой, открывались двери хижин, и в каждой теплился видимый через двери огонь только что разожженного очага, но через секунду дверь опять захлопывалась. А дальше возле реки темнели кроны можжевельника и изломанные силуэты голых ветвей. Норе показалось, что она различает куст боярышника на Дударевой Могиле и, если приглядеться, летучий огонек, который то вспыхивал в сумеречной мгле, то гас, как разгорается и гаснет огонек лучины, раздуваемый кем-то невидимым.
По спине Норы пробежал холодок. Вспомнилось, что сказал Питер О’Коннор на поминках по Мартину:
И не видать мне больше белого света, если куст боярышника там не горел. Попомните мое слово, недолго ждать новой смерти в этом доме.
А потом огоньки исчезли так же внезапно, как появились.
— Миссис?
Мэри следила за ней, стоя с кочергой в руке, освещенная разгоревшимся пламенем.
— Что?
— Вы холод напускаете, а сами говорили, что зябнете.
Глубоко взволнованная, Нора закрыла створку двери и вернулась на свое место возле огня. Кутаясь в куртку Мартина, она почувствовала, что в бок ей что-то ткнулось; она сунула руку в карман куртки и вытащила оттуда зубчатый уголек. Он лежал на ее ладони — легкий, крошащийся кусочек древесного угля.
Мэри подложила торфа в огонь. Нора молчала, и Мэри подняла на нее глаза:
— Что это у вас?
— Вот, в куртке Мартиновой было.
Мэри вгляделась:
— Зола?
Нора мотнула головой:
— Уголек погасший.
— Оберег.
— Защита от злых чар.
— Это Нэнс вам тогда дала?
— Нет, нет. Он в куртке лежал, у Мартина.
Девочка рассеянно кивнула и плотнее обернула одеялом плечи мальчика.
— У него волосы отросли.
Нора все глядела на уголек в руке. Мартин никогда не рассказывал о нем, и к Нэнс он ходил, только когда рука у него онемела, а так — у кузнеца лечился — и когда зубами маялся, и когда ребро сломал, упав с лошади; давно дело было, много лет назад…
— И ногти тоже длинные, — продолжала свое Мэри. — Миссис?
Нора вертела уголек, щупала его пальцами. Неужто ходил он к ней тайно? Просил у ней защиты для ребенка? Или, может, для себя?
— Миссис?
— Ну чего? — рявкнула Нора и сунула уголек обратно в карман.
— Ногти у Михяла… Длинные слишком. Боюсь, как бы не поцарапался.
— Никакой это не Михял!
Схватив платок, Нора обмотала им себе голову.
— Я про… мальчика то есть…
— Сегодня корову я подою!
— Так мне обрезать ему ногти?
— Да делай с ним что хочешь!
Хлопнув дверью, Нора выскочила во двор и остановилась. Влажная прохлада утра холодила пылающие щеки. Стиснув ручку подойника так сильно, что заболела ладонь, Нора стучала им себя по бедру, пока не почувствовала, что набила синяк острым ободком.
Взгляд ее был устремлен вдаль, туда, где у Дударевой Могилы в светлевшем воздухе все отчетливей проступал куст боярышника. Спалить бы его дотла и набить все карманы золой, кабы только это помогло от фэйри и их злой воли!
Пусть трясется эта тварь, думала она. Пусть наперстянка вытрясет его из моего дома и вернет мне сына моей дочки. Пожалуйста, Господи, избавь меня от этой нечисти!
— Нэнс Роух, ты дома?
Мужской голос звучал нетерпеливо. Нэнс, помедлив, бросила угря, которого чистила, в ведро с речной водой.
— Живой кто или мертвый? — вопросила она.
— Господь с тобой, я не из тех, кого ты пользуешь и кому голову морочишь! Я отец Хили. Пришел поговорить с тобой.
Поднявшись, Нэнс прошла к двери. Священник стоял снаружи, чуть расставив ноги, и плащ его бился на ветру.
— Святой отец! Радость-то какая…
— Ну, как поживаешь, Нэнс?
— Жива покамест.
— В праздники на службу ни разу не пришла…
Нэнс улыбнулась:
— Неблизкий путь для старухи.
— А торф и провизию к празднику ты при этом получила?
Нэнс вытерла о фартук окровавленные руки и ответила не сразу:
— Так это, значит, вы прислали, да?
— А ты, видно, решила, что это тебе в награду за ведовство? — Отец Хили направил взгляд мимо нее, за ее спину. — Ты одна тут?
— Одна, если не считать козы.
— Не будем ее считать.
— Зайдите, согрейтесь. Уж позвольте мне оказать вам гостеприимство в благодарность за еду. Куда как великодушно было так поступить — позаботиться о старухе, что сидит одна в святой день!
Священник покачал головой:
— Нет, спасибо. Заходить я не стану.
— Что ж, дело ваше, отец.
— Именно.
Нэнс ждала, что скажет священник. Рыбья кровь на ее руках подсыхала ржавыми пятнами.
— Ну давайте, отец мой, говорите, что собирались сказать. Гость мешкает — хозяину докука.
Священник скрестил руки на груди.
— Должен признаться, с тяжелым сердцем шел я к тебе сегодня, Нэнс. — Он переступил с ноги на ногу. — И дело у меня к тебе серьезное.
— Так лучше уж сказать и душу облегчить!
Отец Хили прочистил горло:
— Я много от кого слышал, что гибель ребенка Бриджид Линч — это твоих рук дело. В этом несчастье винят тебя. Ко мне приходили люди, утверждавшие, что ты и саму Бриджид хотела отравить.
Нэнс подняла глаза на священника:
— Да уж, обвинили так обвинили.
— Давала ты ей ягоды паслена? Да или нет?
— Паслен — не яд, если давать умеючи.
— Как мне известно, это то же, что белладонна.
— Ее муж пришел ко мне за снадобьем для нее. Она стала ходить во сне, и он забеспокоился. Я не убийца, отец, и травы я собираю не иначе, как с молитвой. Именем Господним.
Отец Хили покачал головой:
— Я вот что скажу тебе, Нэнс Роух, что все эти твои штучки с травами… Это поругание святых заповедей. Я не могу с этим мириться. Ты уже принесла немало бед нашим прихожанам своими нечестивыми и бестолковыми попытками их лечить!
— Что угодно можно сказать о моем лечении, но уж толк в нем точно есть!
— И вопли твои им режут уши.
— Ах, ну да, вам не нравится, когда голосят по покойнику.
Отец Хили упер в нее суровый взгляд:
— Не только, Нэнс. Я и против зелий твоих, и против пищогов.
Нэнс ощутила боль в костях, внезапно захотелось лечь на траву лицом к небу. Пищоги, заклятия — вот, оказывается, в чем дело. Пищог, тайное зло, что учиняют люди друг другу, когда сердца их черны от гнева, а души покоробились от злобы. Пищог. Молитва Сатане, скороговоркой признесенная на заре святого праздника. Заклятия, рушащие жизнь и благополучие ближнего. Порча, насылаемая из мести и недоброжелательства.
— Да-да. Пищогов. Не из-за одной Бриджид Линч я к тебе пришел. Шон Линч нашел у себя на воротах венок из рябиновых ветвей, — продолжал отец Хили.
— Когда? Сейчас?
— И он говорит, что это пищог.
— Послушайте, святой отец, я ведь тоже не вчера родилась и кое в чем кумекаю: венок из рябины — никакой не пищог. Рябина годна для хорошего ясного пламени, на клюшку к мячу да на изгородь. А для пищога — нет, не годится.
Глаза отца Хили загорелись.
— О, так ты, стало быть, знаешь, что годится для пищога!
— Я пищога не делаю. Порчу не пускаю.
— Тогда, может, объяснишь мне, Нэнс, почему столько людей уверяют меня, что для тебя это обычное дело? Что ты этим кормишься? Берешь с людей деньги за то, что причиняешь зло. Сливки уводишь из молока, масло забираешь из маслобоек. Ссоришь соседей и напускаешь порчу на тех, кто мешает тебе обманывать людей.
— Я забираю масло? Я? — Нэнс махнула рукой в сторону своей лачуги. — Глядите, какое такое я богатство нажила! В золоте купаюсь!
— Знаешь, Нэнс, считают ли люди, что ты наживаешься на колдовстве или скотине кровь отворяешь… — Он замолчал, проверяя, как отнесется она к последнему предположению. — Так или иначе, я воровства не потерплю. Я обращусь в полицию, и, если дело и вправду так, как говорят, констебль упрячет тебя за решетку.
Нэнс вскинула испачканные кровью руки:
— Я угрями брюхо свое питаю, а не маслом ворованным!
— Ты погляди на себя, руки в крови, как у дьявола!
— Вы не хуже моего знаете, что никому и дела нет, если поймать парочку-другую угрей.
— Да налови их хоть сотню — никто тебе слова не скажет. А вот кровь пускать скотине — не смей, и держать всю долину в страхе колдовством — не смей.
Нэнс разразилась сердитым смехом.
— Ничего смешного тут нет! — Священник шагнул к ней. — Говорю тебе, Нэнс, терпение мое на исходе. Что ты воешь по покойникам — это дело нечестивое, а уж рябиновые венки на ворота вешать и зельем травить женщин в интересном положении — сущая дьявольщина.
— Отец…
— Нэнс! Я предупреждал тебя, остерегал заниматься чем-то иным, кроме принятия родов. — Лицо его немного смягчилось. — Конечно, если паслен и правда помогает, а ребенка Бриджид Линч Господь прибрал, тогда больше об этом речи нет. Но вот… — он нацелил грозящий палец ей в грудь, — заклятья налагать не смей!
Нэнс вновь воздела руки к небу.
— Да не причастна я к пищогу, отец, и заклятьями не занимаюсь!
— Зато знаешься с теми, кто занимается. Не от тебя ли молва о фэйри пошла? — Отец Хили развел руками, по проповеднической привычке. — Ко мне Нора Лихи приходила, просила о магии, городила какую-то суеверную чушь. Говорила, все считают, будто бедный малыш, что остался у нее на руках, — не кто иной, как фэйри! Ведь это ж ты ей нашептала, не правда ли, Нэнс? Разумеется, ты: когда человек в отчаянии, он сколько угодно заплатить готов, так что не грех, по-твоему, всучить ему за еду и торф, что он оставит у твоей двери, какую-нибудь травку!
Нора почувствовала, как в ней поднимается гнев:
— Этот мальчик — нелюдь.
— А ты и нелюдей лечишь?
— Лечу!
— И думаешь его вылечить.
— Думаю изгнать фэйри и вернуть Норе Лихи ее внука.
Отец Хили окинул Нэнс взглядом, полным разочарования и усталости.
— Самое лучшее, что ты можешь сделать, — это сказать Норе Лихи, что ее долг — заботиться о своем кретине-внуке и ни на что больше не рассчитывать.
— Милосердно ли убивать надежду?
— По-твоему, пестовать тщетную надежду лучше? — Священник отвернулся и окинул взглядом долину. — Люди страдают, Нэнс.
— Да, отец.
— Они волнуются, собьется ли масло. Не лишатся ли они крова, хватит ли им денег заплатить аренду. Боятся, что сосед на них косо глянет, что пожелает им зла. Что нашлет на них болезнь или смерть.
— Да, отец.
Он вперил в нее взгляд, сдвинул брови:
— Если я узнаю, что ты замешана в чем-то подобном, я не пощажу тебя, как щадил до сих пор. Я выставлю тебя из этого дома. И из этой долины.
Глава 13 Сивец
В ДОЛИНУ ПРИШЕЛ канун святой Бригитты, суля скорую весну. Измучившись за зиму, люди выбирались из душного жилья, чтобы в канун святого дня спуститься на луг, в заросли трепещущего на ветру камыша.
Чувствовалось, как набухла под ногами земля. Сбежав из тесноты вдовьей хижины, Мэри проворно спускалась по склону на влажную болотистую луговину. Было холодно, но солнце светило ярко, и напитанные влагой поля обещали скоро зазеленеть. Даже на черной вспаханной земле, где пятна снега еще хранили следы ночных кроличьих драк, проклюнулись первые желтые нарциссы. Мэри провожала взглядом малиновок с их точно окровавленными грудками, порхавших в голубом небе, и воображала, что птицы ведут ее в камыши, радуясь, как и она, возвращению тепла.
Как легко дышалось на вольном воздухе! Каким облегчением было на время оставить Нору, вечно склоненную над мальчиком, следящую за ним, как кошка за умирающей птахой. Облегчением было не видеть, как бьется и стонет больное дитя, точно сам дьявол борется за свою добычу. Даже воздух в доме был точно свинец от тяжелого ожидания вдовы.
Приближаясь к камышам, Мэри дышала все глубже, освобождая легкие от пыли и копоти жилья и вбирая ароматы трепещущей земли — запах мокрой травы, навоза, глины и торфяного дыма. На зелено-буром фоне желтели кружочки мать-и-мачехи и невзрачные цветы крестовника. День был свежим, пробирал холодком, и глаза у Мэри слезились от яркого света.
Ребенка она вверила заботам Норы — не терпелось хоть на минуту вырваться на волю, налегке, не тащить на бедре дергающегося малыша. Она предложила Норе вынести Михяла во двор: укутать его хорошенько и подставить солнцу его бледное личико, пускай его солнце греет, пока она, Мэри, сходит за камышом и сплетет крест святой Бригитты, чтоб повесить в доме. Но вдова, сверкнув глазами из-под красных от бессонницы век, сказала, что незачем это, мало ли кто ненароком увидит это существо, и велела Мэри поторапливаться — нарвать камыша и не мешкая обратно домой.
Дома братья Мэри всегда делали кресты на святую Бригитту. Они уходили далеко в болота в поисках самого лучшего камыша, рвали стебли в зарослях, очищали от грязи и налипшей травы, прежде чем, придя домой, засесть за плетение под восхищенными взглядами Мэри и младших.
«Вот, учись. Главное — рвать их, а не резать ножом. Так в стебле святость сохраняется. И плести крест надо обязательно по солнцу, сидя к нему спиной».
Мэри так и видела Дэвида, как он сидит во дворе с камышом на коленях, как сплетает стебли, от усердия помогает себе языком.
«А если плести против солнца, что будет?»
Дэвид нахмурился: «А это еще зачем? Что это тебе в голову взбрело? Ясно же, что надо по солнцу плести, не то силы в нем не будет».
И они следили, следили, как движутся проворные пальцы, ловко сплетая зеленые клиновидные стебли, как те постепенно обретают форму — четырехконечного креста в честь святой, который будет висеть над дверью, благословляя и храня дом от всякого зла, пожара и голода. Крест будет оберегать их, даже когда зелень засохнет, превратится в солому и подернется копотью от очага.
Мэри хотелось, чтобы такой крест появился в доме вдовы, хотелось увериться, что святая защитит и ее. Вид мальчика, опоенного наперстянкой, наполнял ее глубоким, цепенящим ужасом. В его судорогах было что-то недоброе, и каждое утро у нее сжималось сердце от мысли, что вновь надо будет держать на руках ребенка, в котором бьется сверхъестественное.
Нора корпела над вязанием, когда в хижину вошла Мэри с охапкой сверкающего росой камыша. Но ребенка возле огня не было. Мэри замерла в дверях, шаря глазами по сторонам.
Что вдова с ним сделала — отнесла в горы, закопала, бросила на скрещении дорог? Живот свело от ужаса.
— Где Михял? — спросила она.
Шмыгнув носом, вдова кивнула в угол. Мэри увидела, что мальчик там, лежит на куче вереска, заготовленного Норой для растопки. Мэри кинулась к ребенку, сама удивляясь облегчению и радости оттого, что эта тощая грудь все еще вздымается дыханием.
Сунув стебли под мышку, Мэри подхватила мальчика.
— Вынесу его на воздух, — бросила она Норе, проворно стягивая с лавки одеяло. — Я крест плести буду и за ним пригляжу.
Нора проводила ее взглядом:
— Сразу тащи его назад, если кто появится.
Лучи солнца на лице и трепавший волосы легкий ветерок, казалось, пробудили Михяла от вялого полусна, в котором он пребывал с тех пор, как его искупали в наперстянке. Мэри устроила его на одеяле, а сама, сев рядом на табуретку, принялась сплетать камышинки, изредка поглядывая, как все шире распахивает глаза ребенок и как отражается в этих глазах небесная голубизна.
— В такой погожий денек как не выйти на воздух… — пробормотала она, и мальчик заморгал, словно понял ее слова и согласился.
Приостановившись, она смотрела с улыбкой, как трепещут ноздри ребенка, как высовывается кончик розового языка. Он хочет попробовать воздух на вкус, подумала она.
На ярком свету Михял, несмотря на свой возраст, выглядел как новорожденный. От наперстянки кожа побелела еще больше, словно ни разу не видела солнца. Сейчас оно освещало ушные раковины малыша, и Мэри видела, как те постепенно розовеют, наливаясь прозрачной нежной краской. Щек его касались светлые тонкие пряди волос.
— Завтра день святой Бригитты, — сказала Мэри. — Пришла весна.
И, положив камыш на землю, она пошла туда, где пушистый шарик одуванчика чуть покачивался от легкого ветерка. Мэри дунула, и шарик его разлетелся, разбросав вокруг семена. Михял вдруг вскрикнул, вскинул руки и попытался поймать плывущий в воздухе пух.
— Не одолела его наперстянка.
Мэри обернулась. Стоя в дверях, на них с Михялом глядела Нора.
— Посмотри на него. Все как прежде. Дрожать перестал. И не брыкается.
— Вроде ему получше.
— Получше? — Нора провела рукой по лицу. — Ночью оно опять вопило.
— Я знаю.
— Где ж лучше, когда опять вопит! Где ж лучше, если подменыш наперстянку пересилил. Это не лучше, если его больше не тошнит и не корежит! Зря мы только время перевели с этой Нэнс и с ее лусмором!
— Так ведь лучше, миссис, если ребенок дух наконец перевел. Не все ему биться в падучей! — Губы Мэри дрожали. — Меня страх разбирал, когда его так корчило!
— Страх разбирал, говоришь? Страшнее, девочка моя, что нечисть сильнее оказалась. Страшнее, что дома у нас один из Этих! — Она заморгала, быстро и часто. — Кто знает, не он ли сглазил и мужа моего, и дочь, а ты играешь с ним, души в нем не чаешь! Волосы ему стрижешь, ногти подрезаешь, кормишь его, выкармливаешь, как родного детеныша!
— Ему шарики одуванчика нравятся… — шепнула Мэри.
— Еще бы, на то он и фэйри…
Нора пошла было в дом, но остановилась, обернулась. В ее глазах стояли слезы.
— Я-то думала, что поможет… — упавшим голосом произнесла она и бросила на Мэри взгляд, полный такой печали, что девочку охватило желание подойти к ней, сжать в ладонях несчастное это лицо, погладить, утешить, как утешала она мать.
Но в следующий миг желание это испарилось, и Мэри осталась стоять на коленях возле Михяла. Она промолчала, и, немного помедлив, Нора отвернулась и ушла в дом, уронив голову, точно мертвый Спаситель на кресте.
В день святой Бригитты Мэри проснулась рано, разбуженная негромким шумом дождя за окном. Осторожно перевернув мальчика и проверив, не намочил ли он свои тряпки, она поднялась посмотреть очаг. Дома ее братья и сестры всегда спорили за право первым заглянуть в этот день в потухший очаг — поискать в золе след, оставленный святой Бригиттой.
«Есть! — кричали малыши, различив в мягком пепле полукружье — несомненный отпечаток пятки святой. — Она приходила нас благословить!»
Сидя на корточках, Мэри разглядывала золу. Ничего. Какая была с вечера зола, такая и осталась.
Мучительно затосковав по дому, Мэри подошла к задней двери, отодвинула верхнюю задвижку, распахнула створку и, опершись на нижнюю перекладину, вдохнула запах дождя. «Скверный день, — подумала она. — Льет как из ведра. Вот как лупит по лужам!» За спиной послышался шорох, и Мэри обернулась, решив, что это проснулся Михял — встрепанный, испуганный, слабенький.
Крест святой Бригитты! Крест свалился с того места над дверью, куда она его прикрепила.
Мэри остолбенело глядела на плетеные камышовые концы. Плохо это. Она ведь прочно приладила крест, надеясь найти в нем защиту, желая, чтоб привычный его силуэт глядел на нее, берег ее ночью, спасал от огня соломенную кровлю, исцелял от болезней. Чтобы не пускал нечисть в дом.
От страха у Мэри пересохло во рту. Прижавшись всем телом к двери, она окликнула Нору. Нет ответа. Она позвала снова.
В покойчике вдовы что-то скрипнуло. Нора вышла заспанная, с помятым, опухшим лицом, обеими руками держась за голову.
— Что такое? Что случилось? Ты ж так дождем весь дом зальешь! Гляди, какой ливень!
Мэри молча указала пальцем на притолоку.
— Ну и что?
— Крест святой Бригитты. Упал!
Нора наклонилась и подняла крест с того места на полу, куда он отскочил.
— Я ж прикрепила… как следует… — У Мэри перехватило горло. — Что бы это значило, как вы думаете? В жизни не слышала, чтоб крест падал… оберег ведь…
Нора пощупала камышинки, стерла с них грязь концом платка и протянула крест Мэри:
— Повесь вот. Это ничего. Это ветер просто. Сила-то все равно в нем осталась.
Мэри молча взяла крест. Несмотря на слова вдовы, в ее взгляде читалась та же тревога, что грызла Мэри. Быть беде. Никакого ветра не было. Ни малейшего.
Но что-то сорвало крест. Сбросило на пол.
Нора стояла над спящим ребенком. Лицо ее было землисто-серым.
— Тряслось оно ночью? Блевало?
— Нет, миссис.
— Обделалось?
— Не так, как раньше. Не то чтоб хлестало из него. И лихорадки теперь нет.
Нора скривилась в болезненной гримасе, глаза сверкнули:
— Не избавиться нам от него никакими травами!
При виде ее лица Мэри побелела.
— Я вот что надумала, девочка. Фэйри страсть как не любят огня. И железа тоже. — Нора покосилась на закопченный очаг. — Сказывают, можно их так припугнуть. Велеть, чтоб убирались, а не то, мол, раскаленной кочергой глаз выжгу. Над лопатой подержать тоже не лишнее.
— Мы и держали его над лопатой, — пролепетала Мэри.
— А подержим над горячей лопатой.
— Нет.
Нора с удивлением взглянула на Мэри.
— Нет. По мне, нельзя так!
— Жечь его мы не будем. Только пригрозим. — Нора обкусывала заусенцы.
— По мне, так грех это, миссис. Не хочу я это делать.
— Так он и не уйдет никогда, если и дальше его одними травами потчевать. На наперстянке да мяте нам Михяла не вызволить!
— Ну пожалуйста, миссис! Не надо его горячим жечь!
Нора рванула зубами заусенец и, поглядев, вытерла выступившую кровь.
— Припугнуть, оно и хватит, — пробормотала она себе под нос. — Железо и огонь — средство верное!
— Как поживаешь, Нэнс?
— Ой, то так, то эдак. Перемогаюсь с Божьей помощью. А я все гадала, когда зайдешь.
Нэнс кивком указала на стоявшую у огня табуретку с плетеным сиденьем. Анья уселась и расправила перед юбки.
— Мне вроде грудь прихватило.
— Грудь, говоришь?
— Внутри словно клокочет. — Тонким пальцем женщина коснулась горла и покраснела. — Наверно, простыла я.
— Слаба грудью, стало быть? Давно ли?
Анья озиралась, прикидывая:
— Да уж порядком. С самого Нового года. Мы дверь отворили тогда, чтоб старый год выпустить, а новый впустить. Вот и впустили, а с ним, видно, и хворь. — Она попыталась рассмеяться. — С тех пор и прихватило. Бывает, я и кашляю.
— А с сыростью у вас как?
— С сыростью?
— Как вы с мужем твоим, Джоном, пережили холод и сырость? Пол у вас сухой?
Анья рассеянно потянула за торчащую из шали нитку.
— У нас в тот год бурей солому с крыши сорвало, так в дыру точно каплет. Нынче перекрыть надобно.
— А еды вам хватает?
— Господь дает вволю, хотя масла, правда, маловато. Жидкое совсем стало молоко. Проку с него чуть.
— И то, — поддакнула Нэнс. — По всей долине, говорят, молоко пустое. Но хорошо хоть ты не голодаешь. Ты достойна всего, чем владеешь, да и большего достойна. Дай-ка пощупаю, что там у тебя клокочет, послушаю. — Нэнс прижала ладонь к груди Аньи и закрыла глаза, слушая дыхание. Но ничего не услышала. Дыхание было чистым, разве что сердце частило.
— Слышала?
— Тихо. Закрой глаза, Анья, и вдохни поглубже. — Рука Нэнс уловила тепло, идущее из-под ткани.
Нэнс ощутила, как страстно, больше всего на свете, желает Анья ребенка. Почувствовала, как во время болезненных месячных, корчась и сгибаясь пополам от боли, думает, что тело мстит ей, наказывая за бесплодие.
Нэнс видела, как Анья встает, пересиливая боль, чтобы поставить воду на огонь и накормить Джона завтраком. Как подметает пол, покуда ее тело корчат бессмысленные схватки. Как ненавидит веселящихся в ее доме гостей, мужчин с засаленными скрипками в руках, женщин, заслоняющих от нее бесценное тепла очага, как мужчины швыряют по углам картофельную шелуху, которую ей потом подбирать, ползая на коленках.
А теперь она бредет на задворки к канаве, чтобы сменить там окровавленную тряпку на чистую, вновь и вновь поражаясь неистовству своего женского начала. Кровавым поминкам по нерожденному ребенку.
Раздалось покашливание. Нэнс открыла глаза. Анья глядела на нее с испугом.
— Ну что? — спросила она дрожащим голосом.
Нэнс убрала с ее груди руку и придвинулась на табуретке поближе.
— Ты хорошая женщина, Анья. Каждому из нас, ей-богу, есть о чем печалиться. И немало таких, Господь свидетель, что досаду и гнев вымещают на ближних. А иные, сдается мне, обращают свой гнев на самих себя. Возможно, твое тело чахнет оттого, что ты печалишься.
— Да вовсе я и не печалюсь!
— Ум, у него большая власть, Анья. Сильная власть.
— Да говорю тебе, с чего бы мне печалиться!
Нэнс выжидала. Повисло молчание.
Анья теребила бахрому шали.
— Я знаю, куда ты клонишь, Нэнс.
— Я про ребенка.
Поколебавшись, Анья сокрушенно кивнула:
— Стыдно мне. В тот вечер, когда у Бриджид дитя умерло… Так стыдно было, что выгнали меня, словно и проку от меня никакого… Точно я и не женщина вовсе…
Нэнс ее не прерывала.
— Я ведь знаю, что о нас говорят, — шепотом продолжала Анья: — «Гнилая хворостина всю вязанку портит».
— Ты о ребенке мечтаешь. Что ж тут стыдного?
— Стыдно, когда жена не может подарить мужу того, чего он больше всего желает. — Анья подняла глаза, и взгляд ее был полон страдания: — Джон добрый, но родня его на меня злится. Думают, все их беды от меня, от бесплодной. Урожай плохой — значит, я виновата. Картофель не родится — от меня набрался. И корова… — Стиснув зубы, она покачала головой. — Вся долина собирается у меня на куардь, и женщины… они иной раз малышей своих с собой берут. Приносят, те ковыряются в полу, дырки в глине делают, за курами моими гоняются. И так горько мне становится, Нэнс, что своих детей у меня нет… Думаю, они нарочно меня дразнят… А одна… знаешь? Дочка ее не хотела еду из моих рук брать, потому что считает, что я с Ними знаюсь, оттого и не рожу никак. — Анья подавила странный смешок. — Но это ж не так, а? Не добрые же соседи устроили так, что я… — Рука ее потянулась к животу.
— Боишься?
— Тогда б это было бы хоть понятно… Но я ж Им в жизни не перечила! Всегда почитала добрых соседей! — Она замялась. — Кейт Линч рассказывала про бабу одну, которую муж ветками вяза хлестал, чтоб ребенок у ней в животе завязался.
Нэнс усмехнулась:
— Ты что ж, хотела б, чтоб и тебя вязом отхлестали?
— Да уж и сама не знаю…
— Ты правильно сделала, что ко мне пришла, и не вини так себя. Всякая вещь в нашем мире с другими связана, и на всякое зло найдется добрая управа. И снадобье найдется, вот они, рядом, все под рукой!
Нэнс встала и потянула за собой Анью:
— Давай. Идем со мной, не отставай.
Женщины вышли из бохана в вечернюю прохладу. Кругом все словно застыло в неподвижности, и лишь туман тихо наползал, спускаясь с гор в долину.
— Странное тут место, — прошептала Анья. — Я и забыла, какая она, тишина, — с кузнецом живу.
— Тихо, да. В туман даже и птицы замолкают.
Ближе к лесу Анья замедлила шаг.
— Может, я тебя в избе подожду, Нэнс? Или, может, в другой раз приду? Джон небось удивляется, куда это я подевалась.
— Я не сделаю тебе вреда.
— Как это ты дорогу различаешь? В таком-то тумане…
— Вот и хорошо, что в тумане: никто нас не увидит.
Они шли под деревьями. Под ногами было мягко от опавшей листвы, выступавшие из тумана дубы и ольхи кропили женщин влагой с ветвей. Анья задирала голову, подставляя лоб падавшим сверху каплям, и вода текла по ее носу и подбородку.
— Давненько я так не гуляла!
— Это уж как водится: мужняя жена к очагу прикована.
— А ты, Нэнс, никогда замужем и не была?
Нэнс улыбнулась:
— Так никто не посватался. В девках я вечно по горам гуляла. Вдвоем — я да солнышко.
— Я тоже девчонкой по горам бродила. К западу отсюда.
— Отвыкла сейчас?
— Наверху и ветер слаще веет.
— Мне ли не знать! — Сев на корточки, Нэнс рылась в зарослях папоротника и плюща. — Знаешь, что вот это за растение?
— Дярна уыире[21].
Нэнс принялась рвать и складывать друг на дружку мягкие, сборчатые листья манжетки. Когда получилась небольшая башенка, Нэнс перекрестилась, и Анья помогла ей подняться на ноги.
— Для чего листья-то?
— Увидишь.
Вернувшись в тепло бохана, Нэнс подбросила в очаг сухого дрока, отчего пламя вспыхнуло ярче, и поставила на огонь котелок, наполнив его речной водой.
— А отыскать травку эту в зарослях сумеешь? И собрать как надо?
Анья кивнула:
— Я манжетку для матери собирала.
— Когда потеплеет, в чашечках листьев будет собираться роса, так вот, чтоб ребенка в себе удержать, подмешай эту росу к воде, которой моешься. Ну а пока, Бог даст, то же и от отвара будет. — Она сунула листья в руки Анье: — Вот. Возьмешь немного чистой воды, сваришь их и будешь пить по утрам двадцать дней подряд.
— А котелок тогда зачем?
— Для пижмы. — Нэнс сорвала несколько листочков со свисавшего с потолочной балки сухого растения и покрошила в воду. — Если далеко тебе от дома за дярна уыире ходить, заваришь пижму и будешь пить ее как чай. Тоже поможет.
От кипящей воды пошел приятный запах, и Нэнс, слив в ковшик дымящийся настой, протянула Анье.
Та колебалась.
— Врут ведь все, верно, Нэнс?
— О чем ты? Что врут?
— О ягодах паслена. О Бриджид.
У Нэнс ёкнуло сердце, но лицо не дрогнуло.
— А ты сама-то как думаешь?
Анья поглядела на ковшик в руке, подумала и, решившись, сделала большой глоток:
— Горький!
Нэнс облегченно перевела дух.
— Как наша жизнь. Делай его себе по вкусу, подслащивай как угодно, но не слишком увлекайся. Пей семь дней. Сегодня — первый из семи.
Анья зажала нос и осушила ковшик.
— Все запомнишь, Анья?
— Запомню.
— Процеженную манжетку — двадцать дней, а чай из пижмы — семь. И еще одно тебе надо будет сделать.
— Что сделать-то? — помолчав, спросила Анья.
— Как корову свою по весне на пастбище выгонишь, гляди, чтоб она побольше цветов ела. А мочу ее собери. Разнотравная водица, в ней сила всех цветущих трав, что корова съест. Выкупаешься в ней, и их плодовитость к тебе перейдет.
— Спасибо, Нэнс.
— А я буду заговаривать тебя, Анья О’Донохью, издали. Травки кипяти на жарком торфяном пламени. Вот поворожу я — и ты еще до конца этого года понесешь. — Нэнс сжала руку Анье. — Тут ты всем и расскажешь, что вреда от паслена нет.
После ухода Аньи Нэнс еще долго сидела возле очага, мрачно глядя в огонь. Впервые, как поселилась она в долине, Нэнс ощутила опасность, вызов, брошенный ей, и необходимость подтвердить свой дар. Когда-то людям было достаточно того, что она племянница Шалой Мэгги, обучена знахарству и ведает повадки добрых соседей. Потом, в пору ее скитаний, о способностях Нэнс свидетельствовали безмужнее одиночество, крючковатые пальцы, привычка курить и пить как мужик. Ей верили, потому что она была не такая, как все.
Однако сейчас Нэнс уловила сомнение. Недоверие.
Я должна вернуть этого ребенка, думала Нэнс. Если Нора получит назад своего Михяла, люди поверят, что слухи о том, что знаюсь я с Ними, — чистая правда. Если подарю ребенка Анье О’Донохью и верну Михяла Келлигера его бабке, люди опять ко мне потянутся.
От мысли о наперстянке Нэнс поежилась. Нора Лихи больше не приходила, и Нэнс подозревала, что подменыш все еще у вдовы в доме. Самой Нэнс наперстянка тоже не помогла, вернуть мать с ее помощью не получилось, как они ни старались. Мэгги велела тогда Нэнс сесть на мать верхом и держать ее руки. Они лили наперстянку матери в глотку, а та фыркала, отплевывалась и ругалась. Кляла их на чем свет стоит. Плевала и харкала в лицо Нэнс этой наперстянкой. Очень непросто было заставить нелюдя проглотить настой. Но когда после долгой борьбы это наконец случилось, произошедшая с матерью перемена тоже радости никому не доставила: мать лежала безучастная, изо рта у нее шла пена, глаза закатывались, по ночам ее рвало. Ну хоть утихомирилась, послушной ее лусмор сделал, тихой. Раньше-то все кричала, царапалась, лицо краской наливалось. А теперь лежала белая как мел, точно кукла восковая.
Отцу такая перемена, как ни мечтал он вернуть жену, совсем не понравилась. Помнится, взял тогда подаренный Мэгги потин и ушел в загул. Несколько дней потом не ночевал дома.
— Папке твоему только время поможет, — сказала Мэгги. — Думаешь, легко это, когда жену твою умыкают, а потом силком возвратить пытаются?
К тому времени Нэнс с трудом припоминала мать, какой та была до встречи с добрыми соседями. Детские годы ее прошли рядом с фэйри в теле матери.
— А если лусмор маму не вернет?
— Есть другие средства.
Нэнс помолчала.
— Мэгги, я все спросить тебя хочу…
— О чем?
— Откуда у тебя отметина на лице? Ты никогда мне не рассказывала.
— Неохота об этом.
— А я слыхала от мужика одного, будто это оттого, что твоя мать о ежевичный куст оцарапалась. Когда носила тебя.
Мэгги лишь закатила глаза и задымила трубкой.
— Ничего подобного!
— У тебя оно с рождения?
Синие кольца дыма и стрекот кузнечиков висели в вечернем воздухе.
— Выкрали меня. Однажды. Было дело. Умыкнули. Как мамку твою. А назад меня вернули раскаленной кочергой.
— Тебя жгли огнем?
— Я была далеко. Огнем меня назад воротили.
— Ты прежде не рассказывала.
— Там, где я была, я и знание получила.
— Мэгги, ты же никогда-никогда… Столько лет жить с нами и ни словом не обмолвиться, что, оказывается, и тебя умыкали!
Тетка пожала плечами и рассеянно пощупала изуродованную щеку.
— А отец знает?
Тетка кивнула.
— Надо и маме так сделать!
Мэгги, затянувшись трубкой, сделала прерывистый выдох:
— Ни за что в жизни!
— Ведь помогло же!
— Нет, Нэнс, огнем мы из нее фэйри гнать не будем.
Опять молчание. В наступившей тишине отчетливо слышался скрип коростеля в лугах.
— Это что, больно?
Ответить Мэгги не успела. Раздался стук в дверь, и лодочники с озера внесли в хижину тело отца. Он утонул, объяснили они. Ушел под воду, и вытащить не успели. Несчастный случай. Страшное горе для семьи. Для Нэнс. Мамка у ней не в себе, каково им с теткой теперь аренду платить? Чтобы ломами не порушили дом, не сорвали солому с крыши? Они, конечно, пособят чем смогут, но у них ведь и свои семьи имеются. Да, вот беда так беда. Помоги вам Боже.
Сидя в своем бохане, Нэнс закрыла глаза, уткнулась лицом в колени. Сколько времени прошло, целая жизнь пролетела, но так и стоит перед глазами склоненная над отцом Мэгги, и слышится их плач, звенит в ушах вопль, подхваченный лежащей в материнской постели фэйри, тенью матери. Так голосили они, три женщины, каждой из которых коснулось неведомое, выли безудержно, взахлеб.
После этого Мэгги уже не отказывала никому из посетителей — не важно, болезнь ли их приводила или желание причинить кому-нибудь зло. Тетка этого не говорила, но Нэнс и так знала: когда обмануть судьбу просили люди угрюмые, озлобленные, Мэгги отсылала ее с каким-нибудь поручением. «Впусти их, — раздавалось из глубины хижины. — Может, я и смогу им чем-нибудь помочь. А ты, кстати, не нарвешь покамест сивца? Он как раз цветет, а мне цветы его нужны!»
Тетка ее наверняка знала, что долго это не продлится. Что зло, будь то хоть порча на чужую картошку, со временем воротится язвой к тому, кто его наслал.
Колдовство — это пламя, что палит лицо тому, кто его раздувает.
Через три месяца Нэнс вернулась к потухшему очагу. Не было ни фэйри в постели, ни Мэгги подле нее. Пустая холодная хижина. Нэнс разожгла очаг и стала ждать их возвращения, в тревоге считая часы.
Лишь заметив исчезновение некоторых вещей — трубки, припасенных трав и мазей, ее потиня, — она поняла, что тетка ушла навсегда. Нэнс опустилась на подстилку из камыша и плакала, пока не уснула.
Вернулась к своим фэйри, решил потом народ. И Мэри Роух с собой забрала. Два сапога пара — обе безумные, отправились к добрым соседям и больше о них ни слуху ни духу. Бедняжка Нэнс, одна осталась, а ведь совсем еще молоденькая. Ни денег у нее, ни родни. По миру пойдет ни с чем, только одна слава, что травница.
Желудок у Нэнс в ту пору усох. Столько лет прошло, и вот теперь это снова ее ждет, если не пойдут к ней люди за лечением, если не прогонит она подменыша. Опять сосущий голод в пустом желудке. Опять придется прятаться в канавах и за деревьями, выжидая, пока выгонят пастись коров и коз. Успокоить скотину и затем полоснуть ножичком ей вену, пустить кровь, прикрыть рану салом и, благословясь, листочками сивца. Подбирать выпавший из кучи торф, подкрадываясь к домам, пока хозяева спят и дым еще не вьется над крышей. А когда заспанные девки выползут доить коров, а мужики отправятся в далекий путь резать торф либо обихаживать свою скотину и делянки, уйти, скрыться в предгорье.
Нэнс не забыла бродяжью жизнь. Как собирать ежевику и фрыхан[22], и овечью шерсть, застрявшую в колючих зарослях дрока, как срезать водяной кресс и мать-и-мачеху, дикий чеснок и вахту. Спать под терновником и глядеть по ночам на бледные его соцветия на темных ветвях, белеющие, точно человеческие лица. Резать папоротник себе на подстилку. И однажды на срезе стебля увидеть знак Иисусова имени.
Мэгги обучила ее, как выжить в несчастье, в скудости. Пред тем как исчезнуть, она рассказала Нэнс, что голод можно утолить, сварив зерно в сцеженной крови. Что молока лучше попросить не у крестьянина, а у его жены.
Показала, как ловить и чистить угрей, как поймать зайца, как стащить немного торфа, чтоб не заметили, как забрать сливки из молока, сняв серпом вершки с коровьей лепешки, приговаривая: «Все ко мне, все ко мне!»
Но как уснуть при дороге, когда не осталось ничего, кроме собственного тела, Мэгги не рассказала. Этому Нэнс научилась сама.
Глава 14 Олений язык
— МИР ДОМУ СЕМУ и благословение Божье!
Через открытую дверь Мэри и Нора увидели, как к хижине, опираясь на свою терновую клюку, ковыляет Пег О’Шей.
— Ах, черти такие, на крыше шуровать! — Остановившись, она замахнулась клюкой на птиц, вившихся над Нориной кровлей. — Солому таскают, мягкое гнездышко им подавай!
— Здорова ли, Пег?
— Здорова. Пришла вас проведать, узнать, как вы тут. Бог мой, Нора, на тебе лица нет!
Нора ступила за порог, помогая Пег войти.
— Да все подменыш этот… Ох, Пег, опять оно вопить принялось, орет всю ночь напролет. Видать, легкие у него покрепче наших будут: орет не по-людски. Веришь, Пег, всю ночь глаз не сомкнула. И девчонка тоже. Себя не помнишь после такой ночи!
Пег с облегчением опустилась на табуретку возле очага и бросила взгляд на лежавшего у Мэри на коленях мальчика. Плечи ребенка мелко дрожали, рот недовольно кривился.
— Бедный малыш, пустое ведро пуще гремит.
Нора подсела к ней:
— Что скажешь, переменился он? Поначалу мне чудилось, что да, но…
— Нэнс его лечит?
Нора кивнула.
— Покамест травками одними. — Она понизила голос. — Видела бы ты его неделю назад, Пег. Ужас, да и только! Весь трясется…
Пег сдвинула брови:
— Трясется? Что ж, Нэнс из него фэйри вытрясала, что ли? Трясла, туда-сюда раскачивала, взад-вперед?
— Я не про то, — сказала Нора. — Она ему траву дала, вот после этого тряска и началась. Тряска, пена изо рта, и всякое такое.
Они смотрели, как Мэри, послюнив край передника, вытирает мальчику подбородок.
— О таком я и не слыхивала.
— Это лусмор был, — сказала Мэри.
Пег насторожилась:
— Наперстянка? У-у, это трава сильная!
— Страх от нее один, — сказала Мэри, не отводя взгляда от Михяла. — Сперва его в ней искупали, а после мы ему на язык ее сок влили, и он биться начал, как пес бешеный. Казалось, что вот сейчас помрет!
— Господи Боже… Вот бедняга! — Пег озабоченно взглянула на ребенка. Личико у него было вялое, измученное.
— Хоть дрожь эта и трясучка прошла, — отозвалась Мэри. — Все ему полегче, слава богу.
— Не помогло, — отрезала Нора и, притянув Пег за плечо, продолжала: — Знаешь, мы было прогнали фэйри; думали, вот-вот уйдет, а оказалось… ничегошеньки! Сил моих больше нет, хоть на стенку лезь.
— Ой, Нора, — забормотала Пег, — оно дело трудное. Говорила же тебе Нэнс, что, может статься, лучше о подменыше позаботиться, а не гнать его, коли выгнать все равно не можешь.
Нора решительно мотнула головой:
— Нет, я от этой твари избавлюсь! Не прощу себе никогда, если не сделаю все, чтобы внука возвратить! Ради Мартина, ради дочери моей! Верну я Михяла! Другие способы найду!
— Да какие ж еще «способы» могут быть? — осторожно возразила Пег. — Не крапивой же опять его хлестать! Говорю тебе, Нора Лихи, лучше тебе прислушаться к тому, что Нэнс советовала, хотя… — Она осеклась, пожевала губами. — Много чего говорят в округе.
— О Нэнс?
— Небось и ты кое-что слыхала. Говорят про ее темные дела, она Хили пакостит и тем, кто желает ее из наших мест прогнать, — Шону Линчу, Кейт Линч, Эйлищ с мужем. Эйлищ, та против нее громче всех кричит. И еще про Бриджид говорят. Про ягоды, что ей Нэнс скармливала. Это все Кейт слухи распускает. А теперь еще и Шон в драку полез из-за Нэнс.
— Это еще что за история?
— Ну, может, не только из-за Нэнс подрался. Шон Линч сегодня в кузне бучу устроил. Мне зять рассказал. Из-за лошади они повздорили, Шон и Питер О’Коннор, а Нэнс — так, к слову пришлась.
Мэри подняла мальчика со своих колен и уложила на раскладной лавке.
— Так Шон, значит, виноват? Он что, пьяный был?
— Может и пьяный. Встретила я муженька дочери, а он и расскажи о драке, что во дворе у О’Донохью была.
— Да что случилось-то?
Пег вскинула бровь:
— Шон взял у Питера лошадь взаймы, чтоб к своей пристегнуть. С этого все и пошло.
Нора поморщилась:
— Мартин всегда говорил, Шон — жадный и не любит лошадей одалживать. Если долго не возвращают — ленятся, значит, работать не хотят. Вернули вовремя — тоже плохо, загнали лошадь, работать слишком много заставили, Шон и тут бесится. Он своего не упустит, Шон.
— Не о добре своем, а о себе он печется, — фыркнула Пег. — Говорят, Питерову кобылу Шон соломой кормил, в которой и зерна-то, считай, вовсе нет, а свою лошадь — лучшим овсом. Вот Питер возле кузни и попросил Шона, чтобы давал его кобыле тот же корм, что и своей задает. Ну а Шон… Шон глянул на него так, что дым пошел, и говорит, мол, буду кормить чем сам решу, и что кобылка Питера, мол, все равно ледащая, в чем душа держится, и что он, Питер то есть, видно, решил с него последнюю шкуру содрать, по миру пустить, даром что сосед. А Питер ему про недород, что засуха по всей долине и что разве его это, Питера, вина? А после… — Пег облизнулась, — потом и мальчика твоего вспомнили.
Нора побледнела:
— Подменыша? А что хоть говорили-то про него, а, Пег?
— Шон и Кейт все думали-гадали, что он такое и откуда в хижине твоей взялся, и решили, что это все Нэнс подстроила, чтоб зло на нас на всех навести. Шон говорил, и засуха у нас — от нелюдя этого… Мол, Кейт говорит, эльфеныша нам Нэнс подсуропила, в отместку отцу Хили. Ой, Шон бушевал не знаю как — зять рассказывал. На землю плевал, словно костер потушить старался. Кричал, что доберется до того, кто пищог по его земле пускает. Кто проклясть его пытается. Лошади шума испугались, Питер руку протянул, успокоить их, а Шон решил, тот на него замахивается, и как схватит Питера за грудки! «Знаю я, что ты к ней в берлогу намедни ходил, говорят, что ты души не чаешь в этой калях». А потом сказал… — Пег набрала побольше воздуха и, содрогнувшись от омерзения, покачала головой, — сказал: «Ясно дело: если мужик бабу себе никак не найдет, он за ней и к дьяволу самому в пасть полезет». Вот. Питера-то знаешь. Он ведь тихий обычно, как церковная мышь в престольный праздник. А тут, не поверишь! Как кинется на Шона, как схватит его за ворот! И криком кричит, что не имеет, дескать, тот никакого права бедную честную женщину дьяволом обзывать, что сам он, Шон, и есть дьявол!
— Язык сболтнет, а скуле отвечай!
— Да, но чтоб Питер О’Коннор! Слыханное ли дело — Питер О’Коннор на Шона вызверился! Кричит ему: «Ты и есть дьявол, самый настоящий! Готов и Нэнс оклеветать, и лошадей чужих уморить, лишь бы твоя в целости была!» А после Питер и про Кейт ему сказал: «Всем известно, что ты жену свою опять колошматить принялся. Кем же надо быть, чтоб руку поднимать на того, кто сдачи дать не может!» И потом: «Пробы на тебе ставить негде, Шон Линч, распоследний ты негодяй и мерзавец!»
— И что дальше было?
— Ну, Шон и накинулся на Питера. Избил смертным боем. Всего отделал, с ног до головы. В грязь бросил и ногами по лицу! Так избил, что, когда мужики оттащили его от Питера — тоже дело было непростое, так он брыкался и руками размахивал, — мальчишка, подручный кузнеца, по всему двору выбитые зубы подбирал.
— Господи, страсти какие… Как лицо-то теперь у Питера?
— Джон и Анья его подняли, в дом внесли, подлатали как смогли, но если раньше он лишь холостяком слыл, теперь до самой своей смерти, как ни жаль, будет слыть еще и уродом. Рот у него — как окно разбитое, нос сломан. А куртку впору на чучело надевать.
— А ведь прав он, — сказала Нора, задумчиво потирая подбородок. — Сущий дьявол этот Шон Линч.
— Я так скажу: нынче же, как стемнеет, Питер к Нэнс наладится. Ему без нее теперь никак.
Нора помедлила:
— Я и сама сегодня к Нэнс собиралась. Потолковать, чем бы еще подменыша попоить. Чтоб убрался он на веки вечные.
Пег посмотрела на мальчика долгим взглядом.
— Если дело терпит до утра, я бы с ним повременила. Пусть сперва Питер к Нэнс сходит. Потому как ежели Шон или кто другой из них увидит у бян фяса тебя с ребенком, да еще и Питера, слух об этом разнесется быстрее, чем собака хвостом машет при виде мяса. Не люблю я о людях дурное говорить, но мнится мне, беды не миновать, если заявятся сюда Кейт Линч и Шон и потребуют показать им подменыша, или крик поднимут, что ты против них пошла. Нет у тебя теперь мужа, Нора. Потеряешь доброе имя — никто тебя не защитит.
Нэнс брела вдоль берега, волоча за собой сломанный сук. Стоял редкий для февраля солнечный день, и Нэнс ясно видела и там, и тут первый румянец весны. Несмотря на холод, в воздухе пахло совсем иначе, чем зимой.
Деревья вскоре зазеленеют. Через месяц-другой лесной подлесок оживят колокольчики. Ветви пока еще голы, но в них бурлит живительный сок, и над лугами дрожит дымка. А на ольхе уже набухли почки, и мужики готовятся к пахоте. Скоро земля задышит, в воду полетит цветочная пыльца.
Нэнс зорко оглядывала пробуждавшуюся почву, торопясь выбрать из нее ростки трав, пока не успела с них сойти роса. Вот оно — ее достояние. Запах каждой из этих трав она чуяла, как чует мать своего ребенка. Она распознала бы их даже в темноте.
Попутно Нэнс думала о подменыше и вспоминала длинную лиловую отметину на лице Мэгги. Может, достаточно будет просто помахать раскаленным железом перед самым его лицом? Пригрозить эльфенышу, предупредить о том, что его ждет, если не уберется по-хорошему. От Мэгги она знала и о других способах, которые можно было испробовать, если наперстянка не поможет. Зверобой. Белену, если понемногу. Межевую воду.
Только не раскаленная кочерга. «Ни за что в жизни». Так сказала Мэгги. Несмотря на то что ее саму от фэйри возвратили именно этим. Закрыв глаза, Нэнс вновь увидела перед собой тот шрам Мэгги, вспомнила, как морщилась вокруг него кожа, какой уродливой выглядела стянутая шрамом щека. Она представила себе, как к ней прикасаются раскаленным железом, вообразила шипение, пар, касание раскаленного прута, боль от ожога. И содрогнулась.
Мысли ее прервал странный звук. Ветерок доносил чье-то прерывистое, натужное дыхание. Оставив свою грубую волокушу, она пошла, крадучись, хоронясь за деревьями, пока не увидела дымка своего же домишки.
На ведущей к ней тропинке показалась человеческая фигура. Мужчина направлялся к ее двери очень быстро, потом бегом, не замедляя шаг, даже когда его одолевал кашель. Перешагивая упавшие стволы и торчащие корни, он сжимал руками ребра.
Питер О’Коннор.
Выступив из зарослей ольхи и дуба, Нэнс вышла на поляну. Питер почувствовал движение, обернулся, замедлил шаг.
— Нэнс, — хрипло произнес он.
— Что, Питер? Что с тобой приключилось?
Громко рыгнув, Питер повалился на колени, и его вырвало. Корчась на четвереньках, он мучился рвотой еще и еще, затем стер слюну с подбородка и распрямился, сев на пятки.
Ласковым движением Нэнс провела рукой по его спине:
— Ничего, ничего. Теперь подыши поглубже, Питер. Отдышись.
Питер поднял на нее глаза, вытер губы. Один глаз у него заплыл. Между вспухших и слипшихся лилово-синих век нелепо торчали ресницы. В ноздрях запеклась кровь, а взгляд был исполнен ярости, но такой бессильной и жалкой, что Нэнс даже перекрестилась.
— Заходи же, Питер.
В ответ он смог лишь кивнуть. Она помогла ему подняться на ноги и повела к лачуге. Поглядев, нет ли кого поблизости, Нэнс закрыла дверь и завязала жгутом из соломы.
Питер стоял, понурившись, руки его обреченно висели вдоль тела.
— Садись здесь. — Нэнс потянула его за руку, указав на кучу вереска. — А лучше приляг. Давай-ка мы с тобой выпьем. — И она достала бутылку.
Дрожащей рукой Питер вытащил пробку и пригубил напиток.
— И еще глоточек. Вот теперь ты сможешь рассказать мне, что стряслось.
— Шон Линч. — Питер сплюнул, потом, порывшись в куртке, вытащил трубку. Нэнс терпеливо ждала, пока Питер дрожащим пальцем утрамбовывал табак в трубке, пока закуривал. — Шон… Он на меня набросился. Лошадь я ему одолжил. А он кормил ее плохо. Я пошел объясниться с ним насчет этого, а он на меня с кулаками. — Питер затянулся трубкой и поморщился, когда ее черенок надавил на разбитую губу. — Известно, Шон человек нелегкий, но ты бы видела его! Он был как бешеный. Готов был убить меня!
— Может, еще чем ты его обидел?
Питер выпустил густое облако дыма и пожал плечами:
— Я про жену его Кейт ему напомнил. Тут-то он и взбеленился.
— Они не очень-то ладят.
Питер покачал головой:
— Она в последнее время как собака побитая ходит.
— Отольются ему ее слезы.
— Думаешь? — Прищурившись, Питер взглянул на Нэнс из-за завесы дыма: — Боюсь я за тебя, Нэнс. Шон грозился отцу Хили рассказать, что ты богопротивными делами занимаешься. Год-то начался хуже некуда. У Томаса О’Коннора корова пала — а отчего, почему — непонятно. Нашел в реке ее тушу, всю раздутую, а как она забрела туда — один бог ведает. Мы впятером ее едва из реки вытащили. А она стельная была. Опять же Дэниела Линча жена, Бриджид. Младенец ее помер. Я уж про кур не говорю, но что старая Ханна всех кур своих нашла без голов и в ряд выложенных — истинная правда. Говорят, лиса, но какая лиса голову возьмет, а курицу оставит? С маслобойками горе одно: бабы с ними маются. Я у О’Донохью сидел, так бабы к нему табуном валили за гвоздями и железками — чтобы масло в маслобойки вернуть. А наверху в горах женщина одна рассказывала, мол, яйцо разбила: «А желтка там вовсе нет. Заместо желтка — кровь!» Одни говорят, что это добрые соседи опять проказить принялись, другие — что это мальчишка Лихи. — Он протянул Нэнс трубку, предлагая сделать затяжку. — А иные тебя винят.
Нэнс молчала. Приняв трубку у Питера, она стерла кровь с черенка, наполнила рот едким дымом.
— Ты пищог ведь не делаешь, правда, Нэнс? А Шон уверяет, что видал на своем наделе намек на пищог — камни перевернутые. Все кремни острием на пахоту смотрят.
— Проклинать нельзя — проклятье на тебя же и воротится!
Питер кивнул:
— Я, ей-богу, всегда знал, что ты добрая христианка. И ко мне ты всегда со всей душой…
— Вот и скажи им об этом, когда услышишь россказни всякие, ладно? Скажи, что во всей этой мерзости моей руки нет.
— И что Шон Линч говорит — это тоже не ты? — Он бросил на Нэнс косой взгляд.
— У Шона Линча давно на меня зуб. Да если б я ему зла желала, он бы уж сколько лет пчелами ссал и сверчками кашлял!
Питер улыбнулся, и Нэнс заметила, что во рту у него не хватает нескольких зубов. Питер сделал долгую затяжку. Потом спросил:
— А от подменыша Лихи, как думаешь, может такое быть?
— Ты им всем скажи, что мальчика я поправлю. Фэйри из него выгоню, вот мальчик и вернется.
— А сглазить нас, по-твоему, он не мог? Впору и поверить этому, Нэнс. Как тварь эта появилась у нас в долине, так несчастья и пошли косяком. То яйцо с кровью внутри, то мужик здоровый на перекрестке помрет. Говорят, зайцы принялись у коров вымя сосать. — Он хмуро взглянул на Нэнс. — Я тебе о снах своих рассказывал. Так и теперь снятся.
— Что тонешь ты, да?
— Угу. Будто я под водой, будто держат меня там чьи-то руки. Крепко держат. Будто мне уже невмочь, все внутри горит, распирает — воздуха вдохнуть охота. Гляжу я вверх, там солнце, деревья, и лицо чье-то будто вижу.
— Кто ж этот твой убийца?
Питер покачал головой:
— Не разглядеть. Но знаешь, Нэнс…
Он приподнялся, сел на вереске. Голос его упал до шепота:
— После сегодняшнего кажется мне, то был Шон.
— Худо так думать о ближнем!
Но Питер настойчиво продолжал:
— Я все понять не мог, с чего это он так на меня набросился. Точно убить хотел. А потом все думал, пока сидел у Джона с Аньей, избитый, точно шлётар[23]. Он знает, что я о тебе хорошего мнения, сам признался. И ежели он считает, что все беды в наших краях от тебя, весь вред, что ж, тогда… — Он откинулся назад, тронул вспухший глаз. — Тогда ему небось и пришла мысль, что тут и без меня не обошлось.
Нэнс вздохнула:
— Господь с тобой, Питер, кто на тебя подумает такое? Что ты замешан в пищоге?
— Подумают, ты меня подучила.
Нэнс вспомнился давний разговор с Кейт. Иголка, сверкнувшая в ее подоле. Как она говорила про вывороченные камни, про обход родника против солнца.
— Стоит одному на другого обиду затаить, сразу первая мысль про пищог. Чего только не подумают люди, прости их Господи!
С опаской взглянув на Нэнс, Питер выбил пепел из трубки и хотел уж вновь набить ее табаком, как вдруг замер и покосился на дверь.
— Слыхала?
Нэнс прислушалась. Звук повторился снова. Оба вытаращили глаза и переглянулись. Звук доносился со стороны долины. Женский вопль.
Казалось, его услышали все. Когда Питер и Нэнс, поспешившие на крик, добрались до проезжей дороги, по ней уже бежали мужчины. Все побросали работу, отшвырнули инструменты, оставили вожжи. Женщины выскочили из домов по Макрумской дороге, щурясь и моргая на солнце, рядом, цепляясь за материнский подол, таращили глаза ребятишки.
— Что такое?
— Ты слышал?
— Господи, нешто режут кого-то?
— С какой хоть стороны кричали?
Люди на дороге испуганно сбились в кучку. «Не выселение же, — толковали некоторые, — аренду платить еще рано». Один из собравшихся вдруг указал на бегущего к ним со всех ног мальчишку-подручного из кузницы О’Донохью: лицо перепуганное, грязные волосы облепили потный лоб.
— Помогите! — крикнул он и тут же, споткнувшись о камень, растянулся плашмя на дороге, но тотчас вскочил и помчался дальше со сбитыми коленками и размахивая руками: — Помогите!
— Говори, что случилось? — Мужчины бросились ему навстречу, ухватили за локти.
— Анья Донохью! — завопил мальчишка. — Анья Донохью горит!
Когда Питер и Нэнс добрались до дома кузнеца, во дворе кузни уже собралась целая толпа, все напряженные и встревоженные. Они исподлобья глядели на Нэнс, которую Питер тащил по камням и грязи к открытой двери дома.
— Вот Нэнс Роух, лекарка! Я ее привел! — прохрипел, плюя кровью, Питер и пихнул Нэнс в дверь. В первое мгновенье она ничего не могла разглядеть в темноте. Мало-помалу глаза различили две фигуры. Анья корчилась на полу, а муж держал ее, пытаясь успокоить.
В воздухе висел отвратительный запах горелого мяса. Подол платья Аньи был черным, обугленная ткань прилипла к ногам. Сквозь дыры в ткани просвечивала кожа — влажная, ярко-розовая, уже покрытая пузырями. Казалось, ноги женщины исполосовали кнутом. Глаза Аньи были закрыты, а из раскрытого рта несся страшный нечеловеческий крик.
— Господи помилуй! — прошептала Нэнс.
Пахло блевотиной — Джона выворачивало прямо на пол. Вид содрогающегося в рвотных спазмах кузнеца, вцепившегося в обожженные лодыжки жены, чтобы не дать ей вскочить и ринуться куда глаза глядят, пробудили остолбеневшую от ужаса Нэнс. Она велела Питеру раздобыть немного масла и потиня и дать Джону глотнуть воды.
Затем опустилась на колени.
— Анья, — заговорила она ровным голосом. — Анья… Я Нэнс. Все будет хорошо. Я здесь, чтобы помочь тебе.
Женщина все билась на полу. Нэнс ухватила ее за руки: «Тише, Анья, тише!»
Внезапно наступила тишина — Анья перестала биться и обмякла.
— Померла? — ахнул Джон.
— Нет, жива, — отвечала Нэнс. — Просто боли не выдержала. Без чувств она. Джон, Джон, слушай меня — ты должен выйти и попросить всех их разойтись. Скажи, пусть пойдут и помолятся за нее. А после надо будет, чтоб ты сходил и принес мне листьев плюща.
Джон тут же поднялся и пошел через двор, пошатываясь от ужаса.
Мальчишка — подручный кузнеца застыл у стены.
— Джон и я, мы в кузне были, слышим — крик. Подумали — убивают ее или вроде того. Вбежали, а вокруг нее — пламя. Джон стянул с кровати одеяло — и ну бить ее, сбивать пламя, пока не погасло.
— Хорошо, сообразил быстро. — Питер примолк на секунду. Потом спросил: — Глянь на ноги ее, Нэнс! Не помрет она от таких ожогов, как думаешь?
Нэнс села на пятки.
— Если надо будет за священником послать, чтобы причастил, я скажу. А пока ее бы к реке снести. Тащить-то сможешь?
Вместе с мальчишкой-подручным Питер поднял Анью с пола и вынес на двор. Некоторых соседей Джон уговорил уйти, но многие остались и, зажав рот рукой, глядели, как мужчины спускаются по склону, неся женщину на берег.
Питер с мальчишкой опустили бесчувственное тело в речной поток, держа за шею и ступни. Вода в реке была ледяной, и стоя в ней по пояс, мужчины дрожали, сжав сведенные челюсти.
Джон оставался на берегу. Закрыв глаза, он тихонько бормотал слова молитвы. Питер с упрямой решимостью, но очень бережно вновь и вновь окунал в воду ноги Аньи, размеренно и ритмично. Подхваченные течением угольки и пепел с ее одежды плыли по реке, покрывая воду мутной пленкой.
Нэнс сгорбившись сидела на берегу, не сводя глаз с мужчин. «Ты не умрешь, — сказала она Анье, — ты не умрешь». Она задрала ей юбку по самый пояс и насыпала в подол листья плюща и папоротника «олений язык», которые нарвала вместе с Джоном у корней дуба, ольхи, ясеня и остролиста.
Когда они вернулись с реки, мокрые, дрожащие от холода, во дворе у кузнеца все еще стоял народ. При виде обожженной Аньи люди крестились, но никто не решался вслед за ними войти в дом. Очаг погас, внутри было холодно и дымно; пахло палеными волосами.
Нэнс отправила Питера обратно к реке — принести еще воды — и велела Джону разжечь очаг. Лишь когда занялся торф и внутренность хижины осветило неровное пламя, они увидели лежавшие на столе подарки и подношения: кружки с маслом, корзина торфа и хвороста для растопки. Кто-то положил на стол кусок бекона и несколько яиц. Желтые цветы — обереги, веточки утесника и сплетенный из тростника крест. А на краю стола лежало аккуратно сложенное льняное полотно.
Ночь тянулась нескончаемо, как собачий вой. Нэнс не отходила от Аньи, сидела, склонившись к ней, в свете медленно плывшей по небу полной луны. Она смачивала ей губы водой, ожидая, пока прокипят на огне плющ и папоротник. Питеру она велела как следует напоить Джона потинем, чтоб его сморило и он заснул на камыше, а самому поддерживать огонь и заодно соскрести кровь и пепел с каменной стены очага, на котором копоть сохранила женский силуэт.
Перед самым рассветом Нэнс процедила настой и подмешала кашицу из листьев к размягченному маслу. Выйдя на хрусткий морозец, она подставила свою смесь розовым пальцам занимавшейся зари. А вернувшись, разбинтовала обожженную кожу и смазала раны снадобьем, перемежая молитву спокойным и уверенным словом, утешая Анью и приказывая ей остаться в живых. Закрыв глаза, она думала об отце и Мэгги, об отце О’Рейли, о всех тех, кто верил в целительную силу ее рук, дарованную свыше, несущую свет. Она представляла себе этот свет и силу, и пальцы ее наполнялись теплом, когда чьи-то грубые руки схватили ее за кисти и глиняная плошка со снадобьем полетела на пол и разбилась. Отец Хили вместе с Шоном Линчем, ухватив так, что свело мышцы, выволокли ее во двор, ободрав пальцы ног о камни, и швырнули в свежесть утра и грязь, и она лежала там, а над ней высился бледный отец Хили, что-то твердя Джону, который отчаянно возражал, а выше в небе кружили птицы и разгоралось багровое, налитое кровью солнце.
Глава 15 Дуб
— НАРОДУ СОБРАЛОСЬ как на Страшный суд…
— К мессе-то!
Пег кивнула, глянув на плетеную корзину, в которой лежал укутанный чуть ли не с головой малыш. Они с Норой сидели во дворе с вязанием, греясь под скудными солнечными лучами, что умудрились пробиться сквозь тонкий слой облаков. Тут же во дворе Мэри стирала измаранные мальчиком тряпки. Из лохани поднимался пар.
— Это со страху, — сказала Пег. — Время тревожное: отёл, кобылы жеребятся, картошку пора сажать. Людям боязно. Утешения хочется, мол, все у тебя обойдется. Ну и молятся, чтобы напасти кончились. Может, кто в них и не верит, а мы-то все тут свидетели.
— Анья…
Пег перекрестилась.
— Помоги ей Господи. Анья, само собой. А еще и Мартин твой. И Бриджид. В горах тоже странные вещи творятся, если верить хоть половине того, о чем толкуют. Люди знать хотят, в чем дело. Понять причину.
Мальчик заверещал из своей корзины. Женщины переглянулись.
— Оно снова за старое, — пробормотала Нора, мотнув подбородком в сторону корзины. — Об пол бьется, кулаками молотит. От лусмора присмирело было, вроде не такое злобное сделалось, а теперь опять орет — молока просит, и девчонку мою всю исцарапало. — Наклонившись, Нора пихнула обратно в корзину протянутую руку ребенка. — Выживет она, как думаешь?
— Анья?
— Ага.
— Молю Бога, чтоб выжила. С ней доктор сейчас из Килларни. Его священник привез. Самолично! Очень он на Нэнс сердит — ругается, что надумала Анью в реку окунать.
— Второпях чего не сделаешь…
— Ага, а по мне, так тем она Анью и спасла. Только вот отец Хили страх как осерчал. Прямо взял и вышвырнул ее из дому за порог. Ясно, человек он занятой, некогда ему с бабами вроде Нэнс возиться, да и не верит он в ее силу. А все не дело священнику женщину в грязь швырять, да ей и лет немало.
— Срам, да и только.
— А вслед за ней и все травки ее из дому повыкидывал, а они ведь с молитвой собраны! Джон О’Донохью просил позволить Нэнс ходить за женой, но со священником-то разве поспоришь! Выгонит Нэнс отец Хили из нашей долины, как пить дать выгонит! Он против нее народ подговаривает. Знаешь, Нора… — Она положила вязание на колени. — Те, кто раньше к Нэнс лечиться ходил, теперь даже на нее глядеть боятся. Мужчина тут намедни о ней справлялся. Мол, от матери слыхал, будто есть у нас женщина одна, что может его младенца от желтухи избавить. И надо ж было ему с этим пристать к Дэниелу Линчу! Тот, знамо дело, не то что не сказал, где ее найти, а велел домой уходить по-хорошему — дескать, нет у нас в округе таких, чтоб заговорами болезни лечили.
— Дэн от смерти ребенка никак не оправится, помилуй его Господь.
— Да и Бриджид каково? Сидеть ждать церковного очищения, когда и поговорить-то, кроме мужа, не с кем, все ее чураются, когда, может, ей разговор всего нужнее.
— Вот чего я представить себе не могу, это чтоб Дэн о ком плохо сказал.
— Может, отцу Хили поверил. Тот ведь ее с амвона обличает! Тут в проповеди говорил, она знахарка и ведьма, обратилась, мол, к злу и вмешивается в чужую жизнь, чтоб себя прокормить.
— Это Кейт Линч ему напела, как пить дать, что Нэнс давала Бриджид паслен. — Нора кивком указала на Мэри. — У родника девчонка моя своими ушами слышала. Мол, Нэнс людей травит. А я так ни единому слову не верю!
Пег кивнула:
— Да и я не верю. Только, Нора, народ и про Анью толкует. — Она положила Норе руку на колено: — Кто-то видел, как Анья к Нэнс направлялась. Одна, украдкой. И дома у нее травки нашли — пижму, манжетку.
Нора мотнула головой:
— Так Нэнс ими Анью лечила. Раньше, пока отец Хили ее за порог не вышвырнул. Когда Анья обгорела. Травки-то были для лечения!
Пег понизила голос:
— Но это еще не все, Нора, что люди говорят. Как думаешь, почему Анья сожглась?
— Подол на ней вспыхнул. У очага. — Нора отвела руку Пег и снова взялась за спицы. — Да сколько таких историй было, что передник на бабе занялся! Не слыхала? Ей-богу, Пег, жалко, конечно, Анью, но ежели баба день-деньской у огня крутится, рано или поздно обожжется. Не повезло Анье, но Господь милостив, исцелит ее.
Пег глубоко вздохнула:
— Да я того же мнения, Нора. И ничего я против Нэнс не имею, и верю я, что и вправду дана ей премудрость. Только говорят, что огонь тот был непростой. В чугунке нашли коровью мочу.
— В чугунке?
— На огне. Доктор нашел и отцу Хили сказал, а тот у Джона спрашивает, что это Анья затеяла, не картошку ли в ней надумала варить. Джон, благослови его Господь, и ответил: «Это лекарство от Нэнс». Водица, дескать, разнотравная.
Стоявшая через двор от них Мэри подняла голову от лохани и, открыв рот, во все глаза глядела на них.
— Анья пошла к Нэнс, чтоб ребенок в ней укоренился, так Джон объяснил, и Нэнс дала ей травки — пижму и манжетку. И еще велела купаться в разнотравной водице. Анья как раз себе воду грела, вот большой огонь и развела. Для колдовского дела, как Нэнс научила.
Нора бросила взгляд через двор, в долину. Очертания гор окутывала мягкая золотистая дымка. Слышалось звяканье мотыг и лопат.
— Да это нечаянно вышло. Кого ж тут винить?
— Я-то знаю, что нечаянно, а вот отец Хили говорит, что грех на Нэнс. Что пищог это, колдовство и всякое такое. А другие, Нора, кому не верится, будто тут без Нэнс не обошлось, те всякое говорят.
Пег сверкнула глазами на корзину, и сердце Норы упало.
— Это они про подменыша, да?
— Боятся они, Нора. В страхе живут. — Пег задумчиво пожевала губами: — Я не к тому, чтобы и тебя пугать. Просто подумала, тебе лучше узнать про эти толки, а то мало ли кто к тебе заявится.
— Я сегодня к Нэнс собралась идти, Пег. Она мне внука возвратит. Михял вернется, и никто не посмеет ни в чем нашу семью винить!
— Даст Бог, так и будет, Нора, ради ран Иисусовых. Но вот людей ты остерегайся. По мне, так лучше бы никто не видел, как к Нэнс пойдешь. Уж не знаю, что им может в голову взбрести, но хорошего точно не жди. — Пег передернула плечами: — Нынче не время. Ежели кому теперь помощь от Нэнс нужна, лучше погодить, пока все уляжется.
— Ничего ему не делается, ни то, ни это не помогает, — сказала Нора. Она стояла у дверей Нэнс, держа подменыша на бедре. — Ты ж клялась, что прогонишь его, Нэнс! Почему ж добрые соседи не хотят возвращать мне внука, а? Чем я провинилась?
Она чуть не плакала. Боком она ощущала костлявую грудку малыша и его сиплое дыхание.
— Не все сразу, — отвечала Нэнс. Она маячила в темной пасти своего бохана — седая, растрепанная, локти в стороны, — точно изготовившись драться. — Скоро хорошо не бывает.
Нора покачала головой:
— Ты с Ними знаешься. Они тебя ведовству выучили. Почему ж не спросишь, куда Они Михяла дели? Попроси Их мне его вернуть! И вели забрать назад тварь эту! — Она сунула ребенка Нэнс под нос, держа за обтянутые кожей ребра. От холода пальцы на ногах его судорожно поджались.
— Готовлю я для тебя средство, — сказала Нэнс, опасливо глядя на Нору.
— Ничего ты не делаешь! А от того, что сделала, оно только трясется и тряпки марает. Травки твои настоянные у него уж из всех дыр текут. Как не лопнет оно от всей мочи, что из него хлещет! — Нора снова вздернула подменыша себе на бедро и зашипела, понизив голос: — Прошу тебя, Нэнс, пожалуйста, — ни травками твоими, ни наперстянкой не обойтись! Оно только вопит как резаное и пачкается. Присмирело было, тряска его одолела, а потом все к прежнему вернулось. Я о чем тебя просила? Чтоб забрали они сородича своего, а не чтобы он похирел-похворал, а потом опять стал здоровее прежнего! Мне и раньше с подменышем этим было тяжело, а теперь и вовсе сил моих нет!
Нэнс прикрыла глаза. Она стояла чуть пошатываясь и не отвечала.
Наступило молчание.
— Ты, видать, напилась в стельку, — презрительно бросила Нора.
Нэнс открыла глаза:
— Нет…
— Сама погляди, на кого ты похожа!
Вздохнув, Нэнс сделала несколько нетвердых шагов и уцепилась за дверной косяк. Держась за него, шагнула через порог.
— Нора…
— Что «Нора»? Ну и вид у тебя!
— Сядь. Посиди со мной.
— Куда сесть? Я в грязи сидеть не желаю!
— Вон там сядем. На бревно.
Нора нехотя проследовала за спотыкающейся старухой к гниловатой замшелой коряге.
Нэнс с облегчением уселась на бревно и со вздохом, похлопав ладонью, указала на место рядом:
— Присядь, Нора Лихи. А эльфеныша на землю положи. Вот сюда, на травку. Под дуб.
Нора колебалась и недовольно кривила рот, но руки ее так разболелись от тяжелой ноши, что она уложила ребенка на свежую, только что вылезшую травку и неохотно села рядом с Нэнс.
Старуха подняла глаза к голым веткам дуба:
— Когда ясень допрежь дуба зазеленеет, лето дымом дымит и пылью белеет.
— Чего-чего?
Нэнс шмыгнула носом:
— Так, поговорка старая. Известно, что деревья загодя погоду чуют.
Нора хмыкнула.
— Видишь, что там вон?
— Дударева Могила.
— Ну да. Дуб там растет. Рябина. Боярышник. Там место Ихнее.
— Это не новость, Нэнс Роух. Кто ж не знает, где у добрых соседей жилище!
— Я видала Их. И слыхала. — Нэнс моргнула, медленно уронила руку. — Мать мою Они очень привечали. Прилетали за ней не раз, на ветре колдовском. А после усадили ее на коня из крестовника и унесли в чудесные края. И тетку мою тоже забрали. Истинно так. А меня оставили, но ведовству научили.
Нора глядела на старуху, на полуприкрытые ее веки, на руки, царапавшие мшистый ствол. Она казалась не в себе.
Внезапно Нэнс открыла глаза и нахмурилась:
— Я мысли твои читаю, Нора Лихи. Ты думаешь, что годы мне мозг выели, что старость в нем дыр наделала. Думаешь, что возраст, мол, никуда не деться, и что я уже не я. — Она наклонилась к вдове, обдав горячим дыханием: — Ошибаешься ты, Нора!
Наступило молчание. Обе женщины глядели вдаль, на лесные деревья.
— Я-то думала, что если такая женщина, как ты, объявит его фэйри, то этим сердце и успокоится, — наконец заговорила Нора. — Ведь после дочкиной смерти я только и думала, что это с мальчиком такое приключилось, почему он словно тает. Думала, может, это Джоанна с Тейгом недоглядели, может, от голода это…. — Голос изменил ей. — Думала, как же так — родители собственное дитя угробили!.. Может, думала я, дочка плохой матерью оказалась, я не научила ее за ребенком смотреть! А когда Мартин мой помер, я решила, это от меня всем сплошные несчастья. И что мальчик такой получился, в том не Джоанны вина, а моя.
— Ты ни в чем не виновата, Нора…
— Но я-то чувствовала, что вроде виновата! А люди, кругом разговоры эти… Как же я стыдилась его! Урода, калеки! Когда Питер с Джоном внесли в дом тело моего мужа, единственное, о чем я думала, — это куда бы мальчишку деть с глаз долой. Позора не оберешься: люди придут, увидят ноги его кривые и гадать начнут, что это с ним такое да почему… Думала я, за какие такие грехи Господь его разума лишил, когда всего лишь два года назад я видела его здоровым и веселым малышом? Худо я о себе думала. Во всем себя винила.
— Послушай меня, Нора. Этот мальчик — Джоанне не сын. И тебе не внук. Фэйри он! И ты это знаешь. Глянешь на него, и сразу видно — не ребенок это, а хилый, дряхлый сморщенный эльф, что Михялом обернулся! А знаешь, почему они выбрали сына твоей дочери? — Нэнс положила руку Норе на плечо. — Потому что никого краше они не нашли!
Нора улыбнулась сквозь слезы.
— Я один разок только внука и видела, до того, как подменили его. Красавчик был, да и только! Цветик мой. — Она опустила взгляд вниз на подменыша: — Не то что этот урод, что ребенком прикидывается!
— Мы вернем его добрым соседям, Нора. Знавала я одну женщину, которую унесли, а потом вернули.
— Правда?
— Даже двух таких женщин знала. Одна, правда, так и не возвратилась, зато другая… — Нэнс сдвинула брови. — Она к себе после раскаленной кочерги воротилась. Прижгли ей лицо горячим железом, и через железо это фэйри из нее навсегда убрался восвояси, и стала она как раньше была.
Нора помолчала в раздумье.
— Стало быть, огонь ее возвратил?
— Это тетка моя родная была, почему и знаю, — сказала Нэнс. — И след на щеке ее я своими глазами видела. Шрам. Вроде как клеймо.
— Помогло, значит?
Нэнс терла глаза, чуть покачиваясь на коряге.
— Ага. Помогло.
— Ну и мы тогда раскаленную кочергу давай испробуем!
— Нет, — твердо сказала Нэнс. — Нет. Нельзя.
— Но ведь помогло же, ты ж сама сказала!
— Тетка мне велела никогда этого ни на ком не повторять. «Ни за что в жизни» — так она сказала. И я поперек ее слова не пойду. — Нэнс замолкла.
Губы Норы скривились.
— Так не жгли бы мы его, не клеймили. Может, довольно было бы пригрозить твари этой огнем. Напугать фэйри как следует и через это к своим прогнать. — И она указала на лопату, прислоненную к двери. — Посадить на нее тварь, как будто сейчас его в очаг сунем!
— Одной угрозой его не возьмешь.
У Норы задрожали губы.
— Ну тогда прижечь его маленько. На огне чуток поджарить.
Нэнс окинула Нору внимательным взглядом:
— Нет.
— Но я хочу, чтоб ушло оно!
Ответом было долгое молчание.
— Нора, ты Анью-то вспомни. Ты крики ее слыхала? У ней кожа с ног совсем слезла. До кости прожгло. Волдыри эти… — Нэнс угрюмо сжала губы в ниточку: — Нет, только не огонь. Знаю, не терпится тебе избавиться от этой твари, но жечь его мы все-таки не будем.
— То Анья, а то — фэйри!
— Поперек теткиного слова я пойти не посмею.
— Говоришь, жечь не будем, а что будем? Говори! Кто из нас ведунья-то?
Нэнс сидела теперь совершенно неподвижно. Она снова закрыла глаза, опустила светлые редкие ресницы. Только сейчас Нора поняла, что перед ней очень старая женщина. Видно было, до чего она измотана. И беззащитна. Нора смотрела на узкие плечи, на худую грудь, едва вздымающуюся от дыхания. На Нэнс вечно было наверчено столько тряпья, что Нора только сейчас увидела, какая бян фяса хрупкая. Тощая. Тщедушная.
Нэнс открыла глаза — мутные, затуманенные.
— Есть и другой способ. Мы можем отнести подменыша туда, где фэйри водятся, и пусть его забирают.
— На Дудареву Могилу?
Нэнс покачала головой:
— Где вода с водой встречаются. Там место силы. На пограничье.
— На реку?
— Ты, я и девочка… Три женщины на том месте, где три потока текучих встречаются, три утра подряд. Мы, все три, поститься будем. Еще до восхода солнца отнесем подменыша на Флеск. И так три раза, и, когда на третье утро ты после этого домой вернешься, подменыша там уже не будет, а вместо него, может статься, увидишь Михяла — потому что придется добрым соседям отпустить его. А фэйри своего забрать.
— Так мы к реке пойдем?
— На встречу трех течений. Окунем подменыша в сильную воду. Велика ее сила!
Нора уставилась на Нэнс, изумленно открыв рот. Затем решительно сжала губы. Торопливо кивнула:
— Когда начнем?
Нэнс замялась:
— Теперь только март. Вода уж больно холодная, — проговорила она, будто споря сама с собой. — И вода холодная, и течение слишком сильное. — Она подняла непроницаемый взгляд на Нору: — Давай лучше поближе к маю. В эту пору добрые соседи обычно себе новое пристанище ищут, беспокоятся. И нас вернее заметят.
— Поближе к маю? Но это еще когда будет…
— Я к тому, что холодно ведь…
— Да сейчас с каждым днем все теплее. Месяц, по всему, будет погожий. Знаешь, Нэнс, не могу я ждать до мая!
Помолчав, Нэнс кивнула:
— Ну, тогда завтра утром. До того как солнышко взойдет, и натощак. С заката ничего не ешь и девочке не давай. И подменышу ничего не давайте, ни ты, ни Мэри — ни крошки и ни глоточка. Я тоже поститься буду.
Нэнс бросила взгляд туда, где под склоном текла река.
— Там и встретимся. Я ждать буду.
Ночью прошел дождь, и земля мягко проседала под босыми ногами Мэри. Еще не рассвело, а она уже брела, спотыкаясь, по заросшей тропинке с ребенком на бедре. Ветки и листья папоротника хлестали по лицу — руками она придерживала мальчика, чьи бессильные ноги, болтаясь, били ее в бок. Мэри не отводила глаз от темного расплывчатого пятна впереди — спины Норы. Нэнс вела их к реке, и развевающиеся космы непокрытых ее волос белели во мгле, точно у призрака.
От голода Мэри ощущала легкость и пустоту. Руки уже ныли. «Долго еще идти?» — шепнула она. Ни та ни другая спутница ей не ответили. Внутри все дрожало.
Накануне вечером вдова вернулась от Нэнс в большом волнении. Ворвалась в дверь, грубо схватив ребенка, пихнула его на руки Мэри, тяжело дыша, с горящими глазами.
— Завтра! — выдохнула она. — Мы отнесем его к реке. К пограничной воде. Так Нэнс сказала. В том месте силы больше, чем в травках. Фэйри завсегда держатся пограничья. Нэнс говорит, что они воду текучую перейти не могут, вот они там и остаются. Соберутся, а реку перейти не могут.
Михял заплакал. Мэри ласково погладила его по мягким волосикам и прижала к своему плечу.
Нора мерила шагами хижину.
— Есть тебе ничего нельзя, — сказала она, ткнув в Мэри пальцем. — И его кормить не вздумай. Поститься, вот что надо!
— А что мы будем делать у реки?
Вдова присела у огня и почти сразу вскочила. Бросилась к открытой двери, огляделась.
— Купать его будем. Выкупаем в том месте, где встречаются три речных потока.
Мэри гладила Михяла по голове, чувствуя шеей тепло его дыхания и горячие слезинки.
— Холодно же.
Нора словно не слышала. Глубоко вдохнув вечерний воздух, она закрыла дверь и задвинула засов.
— Три утра — три женщины.
— И поститься тоже три дня?
— Да, ничего не есть. Ни крошки.
— Так оголодаем же!
— Думаю, Мэри, скоро мне вернут дочкиного ребенка. И ты тогда… — длинный палец ее уперся в лежавшего на руках у Мэри мальчика, — ты уйдешь домой!
С утра не было ни ветерка. Лес словно замер, все застыло в ожидании рассвета; от молчания птиц тишина казалась звенящей. Когда они вступили под густую сень вязов, Мэри уловила, как повлажнел воздух — значит, скоро река. Затем внезапно послышалось журчанье воды, лесной навес распахнулся, обнажив бледнеющее небо. Светила луна, догорали последние звезды.
— Вот сюда пойдем, — сказала Нэнс.
Она остановилась, оглянулась, идут ли следом за ней Мэри с Норой, затем продолжила путь. Женщины пошли дальше, раздвигая высокую густую траву, и шум реки изменился, стал тише.
«Омут, наверное», — подумала Мэри.
Нэнс уже объясняла им, что у омута сходятся три течения, река Флеск встречает здесь своих сестер, и дальше они текут темной троицей. Папоротник и подлесок поредели, и Мэри остановилась, глядя вниз на реку. В воде отражался зябкий трепет раннего утра.
— Вот это место! — шепнула Нора.
Повернувшись к Мэри, она потянулась к ребенку:
— А сейчас дай его мне. Ты пойдешь первая. И окунешь его.
Сердце у Мэри упало. Она покосилась на Нору. Лицо осунулось, взгляд устремлен на воду.
Нэнс кивнула ей:
— Теперь поторапливайся. Надо выкупать его до того, как взойдет солнце.
— А вода не слишком холодная?
— Да мы быстро. Окунешь его и можешь опять закутать.
Мэри передала Михяла Норе. Тот захныкал.
— Вот умница!
— А добрые соседи-то здесь? — тихонько спросила Нора.
Она вся была как натянутая струна — плечи напряжены, шея вытянута, как у необъезженной лошади, глаза беспокойно рыщут, оглядывая течение реки.
Нэнс кивнула:
— Когда Они появятся, чтоб забрать своего сородича, ты сразу поймешь. — И она показала на росший у самой кромки воды не расцветший еще болотный ирис. — Расцветет касатик — верный знак, что подменыш в воду ушел. На третье утро он сам касатиками обернется, значит, к своим ушел. — И она повернулась к Мэри: — Платок-то сними!
У Мэри, что всю дорогу тащила мальчика, затекли руки. Непослушными пальцами она размотала платок. Явилась мимолетная мысль: что сказали бы ее родные в Аннаморе, если б видели ее сейчас, наблюдали бы, как в сумраке раннего мартовского утра она готовится лезть в воду вместе с увечным ребенком. Пищог, решили бы они, колдовство. Сняв платок, Мэри аккуратно сложила его и оставила на замшелом камне. Ее тотчас пробрала дрожь.
— Я одна пойду?
— Мы станем его по очереди окунать, — твердо сказала Нэнс. — Одна одним утром, другая другим.
— А не навредим ему?
— Да это же фэйри! — зашипела Нора. — Полезай в воду, Мэри. Поторапливайся, рассвет скоро!
Держась за низкую ветку, Мэри стала осторожно спускаться по торчащим корням.
— Погоди, не торопись! — крикнула ей Нэнс и знаком приказала вернуться. — Разденься-ка!
Мэри стояла в полумраке, крепко вцепившись в зеленую замшелую ветку, костяшки пальцев у нее побелели от напряжения, зубы выбивали дробь.
— А в одежде нельзя?
— Надо голышом!
Мэри чуть не плакала.
— Не хочу я… — прошептала она и все-таки полезла назад, вверх, сняла юбку и сорочку. Нагая, стыдливо горбясь и дрожа в предутреннем неясном свете, она глядела, как Нэнс раздевает Михяла, высвобождает из тряпья. Потом, склонившись к ребенку, Мэри бережно взяла его на руки, крепко прижала к груди, ощущая прикосновение липкой кожи к своему телу, и снова стала осторожно спускаться.
Как же хотелось вновь очутиться дома! Вдруг вспомнились те девчонки, что майским утром ползали под шиповником.
Прости меня, Господи, думала она.
Вода в реке была ледяная и темная от листьев на дне. Мэри вскрикнула от холода и тотчас глянула на женщин на берегу. Нора теребила пальцами передник. Мэри расслышала, как вдова проговорила, словно сама себе: «Это быстро».
Задыхаясь от жгучего холода, Мэри глядела на белеющее на воде отражение. Мальчика она держала высоко над водой на вытянутых руках, ноги его болтались.
— Что мне делать? — прокричала она, перекрывая шум воды. Река толкала ее, била по бедрам, и, боясь упасть, она крепко вдавливала пальцы ног в илистое дно.
— Окуни его трижды, — отозвалась Нэнс. — С головой окуни! Чтоб все тело было в воде!
Мэри взглянула на лицо ребенка. Он косил и закатывал глаза, заваливаясь на сторону и молотя рукой воздух.
Колдует, что ли, подумала Мэри и опустила ребенка в воду.
Глава 16 Болотный ирис
ЗАРЯ УЖЕ ЗАНЯЛАСЬ, когда Нора и Мэри взбирались вверх по склону, возвращаясь домой с реки. Даже теперь, одетая, Мэри все еще не чувствовала собственного тела. Цепенея от холода, она думала, как же, должно быть, закоченел Михял. Мальчик на ее руках затих, уткнувшись лицом ей в шею, и еле дышал.
— Он так замерз, — пробормотала Мэри.
Нора оглянулась на ходу, переводя дух:
— Поторапливайся! Не ровен час увидит кто. Гадать примется, что мы здесь делаем — в такую рань, так далеко от дома…
— Он не двигается совсем. Застудился поди…
— Да скоро уж придем.
И Нора взмахнула рукой, поторапливая Мэри — медлительность девочки явно выводила ее из себя.
Едва оказавшись дома, Нора схватила подойник и отправилась в хлев, предоставив Мэри заботу об очаге.
Подбрасывая хворост в потрескивавшее пламя, Мэри слышала урчание своего пустого живота. Еще три дня поститься, а уже голова кружится, подумала она.
Михял лежал на раскладной лавке, глаза его то и дело закатывались. Как только огонь разгорелся, Мэри взяла укрывавший мальчика платок и, согрев у очага, хотела вновь накрыть им Михяла. Бросив взгляд на мальчика, она увидела, что кожа того посинела от холода. Недолго думая, она взяла его руку и, чтобы согреть ледяные пальчики, сунула их себе в рот. И ощутила вкус речной воды.
После того как корову подоили, а огонь в очаге превратился в кучу сыпучих углей, Нора предложила Мэри лечь и часок-другой поспать. Живот у Мэри бурчал, глаза щипало от недосыпа, и она согласилась. Укрытый поверх ее платка еще и ее одеялом, Михял наконец согрелся и заснул. Мэри, лежа рядом, разглядывала его лицо. Никогда еще она не рассматривала его черты так внимательно и так подробно. Когда она ложилась спать возле него, обычно было уже темно, а по утрам ей бывало некогда — то напоить его надо, то покормить, то соскрести с тощих ягодиц вонючую корку, то смазать жиром зудящую сыпь на коже — не до гляделок. Теперь же в пробивающемся через дверные щели утреннем свете ей были хорошо видны и бледные веснушки на носу, и шелушащиеся корочки в ноздрях. Рот мальчика был приоткрыт, и она углядела там внизу, в середине, торчащий под странным углом зуб. Тихонько, чтобы не разбудить ребенка, кончиком пальца она коснулась тонкого неровного краешка зуба. Зуб зашатался и, как только она нажала посильнее, выпал на матрас.
Михял шевельнулся, заерзал, поморщился, но не проснулся.
Мэри подняла зуб к свету. Как жемчужинка, подумала она. Маленькая жемчужинка. Она погладила пальцем углубление зуба, дивясь, до чего похож он на зуб обычного человеческого детеныша.
Потом Мэри встала, подошла к двери, толкнула верхнюю ее створку и — как делала это не раз для младших своих братьев и сестер — бросила через правое плечо прямо в грязь двора этот первый выпавший зубик.
Благополучия тебе, мысленно пожелала она и, вернувшись к раскладной лавке, погрузилась в крепкий, без сновидений, сон.
— Вставай, Мэри! Вставай!
Шершавая рука резко трясла ее за плечо. Мэри открыла затуманенные сном глаза и увидела над собой лицо Норы — бледное, встревоженное.
— Мэри!
Вдруг испугавшись, Мэри села в постели и поискала глазами мальчика. Он лежал рядом с ней и спал, закинув руки за голову. Мэри облегченно перевела дух.
— Который час?
— Заспались мы. Уже за полдень!
В широкой мужниной куртке Нора казалась меньше и худее. Растрепанные седоватые космы падали на лицо.
— Нашли пищог, Мэри!
— Пищог? — Внутри у девушки все перевернулось.
— Я на двор вышла по малой нужде, а там Пег идет. Это она мне рассказала. И всем на горе раззвонила тоже. Уже целая толпа туда спешит — своими глазами посмотреть. Вроде гнезда. А в нем самое колдовство. Скверное что-то.
Страх трепетал у Мэри в груди.
— Прямо-таки скверное?
Нора кивнула и, схватив укрывавший мальчика платок, кинула его Мэри:
— Вставай-ка давай! Мне надо, чтоб ты пошла туда, посмотрела и мне рассказала.
Продрав глаза, Мэри стала укутываться в платок.
— А кто подложил хоть?
— Никто не знает. Вот все и хотят вызнать.
— А где?
— У Линчей, — понизив голос, пояснила Нора. — У Кейт и Шона. — Она помогла Мэри подняться. — Пойди сама все выведай.
Через поля к ферме Линчей уже двигалась целая толпа, встревоженная и возбужденная, жадно обмениваясь обрывками слухов.
— Он поле размечал, когда увидел. Говорит, что такое уже не впервой на его земле.
— Верно, я и сам слыхал, он в кузне еще рассказывал.
— Камни стояли вверх ребром, на ворота ему траву и ветки привязали.
— Тут-то как есть истинный пищог, черный, как в старину делали. Гнездо из соломы, а внутри — мерзость кровавая. Гнилая. Это тебе не камушки-веточки… Новый морок пошел. И ведь положили, чтоб видели, чтоб сразу нашли!
— Шон говорит на Нэнс Роух.
— За священником послали.
— Худо дело, коли так.
— По мне, и то худо, и это.
Они приблизились к усадьбе, и Мэри протиснулась сквозь толпу, чтоб рассмотреть пищог вблизи. Он виднелся из-за навозной кучи позади беленой хижины Линчей. Это и вправду было небольшое гнездо, но не свитое птичьим клювом, а тщательно и продуманно сплетенное человеческой рукой. В углублении гнезда темнело что-то кровавое. Гнилостный запах мгновенно проникал в ноздри и надолго в них застревал.
Люди обступили гнездо, в ужасе крестясь, и негромко, краем рта перешептывались.
— Да уж, сами собой такие дела не делаются!
— А то! Умысел как есть, самый злодейский умысел…
— Что, по-твоему, там внутри? Что за тухлятина?
— Может, мяса кусок?
Шушуканье внезапно прорезал мужской голос:
— Отец Хили приехал! Отец Хили здесь!
Послышался шорох: собравшиеся расступились, давая дорогу священнику.
Торопился поди, думала Мэри, вон платье как перемазал, все в глине.
— Вот оно, отец. — Корявые руки протянулись туда, где на земле лежал пищог.
Священник глянул на него, зажав нос рукой.
— Кто это сделал?
Ответом было молчание.
— Кто здесь утратил последние остатки разума? — гневно вопросил отец Хили. Голубые глаза его скользнули по взволнованным, испуганным лицам.
— Никто из нас не знает, отец, кто это устроил.
— Ну да, мы ж просто поглядеть пришли…
— И что ж вы теперь делать станете, отец?
От вони у священника слезились глаза.
— Принесите мне лопату.
Один из работников послал за ней сына, а тем временем священник достал прозрачный пузырек со святой водой, аккуратно вытащил пробку и торжественно окропил гнездо из пузырька.
— Еще чуток побрызгайте, отец, не поскупитесь! — пискнул чей-то голос. Из толпы донеслись приглушенные смешки.
Отец Хили сжал челюсти, но просьбу выполнил: щедро окропил и пищог, и место вокруг. Когда принесли лопату, отец Хили выхватил ее из рук мальчишки с выражением крайнего нетерпения и, поддев ею гнездо, поднял с земли. Люди попятились: гнездо качалось на самом конце лопаты.
— Где у вас тут ближайшая канава? — спросил священник.
Шон, черный от ярости, указал куда-то в угол поля. Священник не мешкая направился туда, за ним потянулись люди. Мэри шла вместе с толпой, чувствуя, как кровь закипает в жилах.
На дне канавы было сыро и росла крапива. Отец Хили осторожно опустил пищог на сухой скат канавы и вытер лопату о траву.
— А теперь чего делать, отец?
— Лопату бы освятить, отец!
— Нет бы вам простую палку взять! Небось теперь порча будет и на лопате, и на всем, что ею станут делать!
Отец Хили потер глаза, затем вновь вытащил пузырек и плеснул водой на полотно лопаты, бормоча молитву.
— Сжечь бы надо, отец!
— Лопату сжечь? — не понял священник и, казалось, смутился.
— Пищог! Разве вы его не сожжете? — Один из мужчин, выступив вперед, с готовностью протянул священнику свою трубку.
Тут отец Хили наконец сообразил. И покачал головой:
— Земля очень сырая. Сушняка не принесешь, Шон? Что угодно сгодится — сено, дрок, только б горело. И огонька тоже.
В толпе началось оживленное движение: люди следом за Шоном повалили к нему в дом за растопкой и соломой. Сам Шон едва не дымился от ярости, но не проронил ни слова. Мэри старалась держаться от него подальше, но в какой-то момент он случайно встретился с ней глазами и продолжал смотреть, не отводя взгляда, с таким отвращением и неприкрытой враждебностью, что девушка потупилась и принялась собирать щепки. Кейт стояла в стороне от толпы в низко повязанном платке. Под глазом у нее лиловел синяк, и смотрела она на все как-то ошарашенно. При виде Мэри она вздрогнула, а потом отступила назад ровно на три шага, плюя на землю и крестясь.
Пищог сожгли в холодных синих мартовских сумерках, завалив целой кучей щепок, торфа, сухого дрока и соломы. Пламя ярко пылало в морозном плотном воздухе, и середина его была фиолетовой. Значит, самые козни это и есть, думала Мэри. Со странным чувством наблюдала она, как лижут языки пламени кровавое гнездо, в то время как священник уже садился на своего осла, а люди продолжали стоять над костром, точно часовые. В голове вертелись неприятные, трудные вопросы: «Кто сплел это соломенное гнездо? Что за дьявольщину он замыслил?»
Гнилостный запах преследовал Мэри еще долгое время после того, как погас костер и люди побрели по домам, ежась от вечернего холода, с закоченевшими руками и ногами. Никакая святая вода, которой брызгал священник, не смогла вытравить зловония мерзкой, разлагающейся кровавой каши; он словно въелся в кожу и держался на волосах, уже когда девушка вернулась в хижину к Норе.
Этим вечером возле лачуги Нэнс Роух собрались мужчины — они были пьяны и размахивали ясеневыми палками. Нэнс слышала, как они подходят, как ломятся сквозь подлесок, круша папоротник. Взглянув в щель своей прутяной двери, она увидела шагавшего первым Шона Линча. Он шел пошатываясь, затем остановился и расстегнул штаны. Под одобрительный гогот спутников он принялся мочиться на стену бохана.
Затем раздался звон битой посуды — это один из мужчин швырнул кувшин с потином в ствол дуба.
— Ты, сука черная! — вдруг рявкнул Шон, брызгая слюной. Остальные даже притихли, оторопев от ярости, с какой это было сказано.
Приникнув к дверной щели, Нэнс смогла рассмотреть мужчин — их было пятеро, и стояли они ярдах в десяти, не дальше. Лица их блестели от пота и выпивки.
Шон Линч покачнулся, его повело в сторону, когда, неуверенно взмахнув палкой, он выкрикнул опять:
— Ты, сука черная, Нэнс Роух, убирайся к дьяволу, там тебе место!
Повисло молчание. Нэнс затаила дыхание. Сердце ее билось тяжко, как у заживо погребенной.
Мужчины стояли не двигаясь, к ней лицом, и казалось, это не кончится никогда. Нэнс знала, что в темноте они не видят, как блестят в щели ее глаза, но ей чудилось, что каждый из них смотрит прямо на нее. Пять лиц, полных ярости и злобной силы. Каждое — огненная стена ярости.
После этой осады, длившейся, как показалось ей, целый час, мужчины наконец развернулись и нетвердой походкой двинулись назад, к дороге, на ходу перекидываясь словами.
Когда их поглотила тьма и единственными звуками остались лишь свист ветра в ветвях деревьев и легкий, еле слышный шум реки, насмерть напуганная Нэнс сползла, задыхаясь, по стене на пол. Ее била неостановимая дрожь.
В прошлый раз мужчины вломились к ней спустя два дня после того, как, придя домой, она не нашла там ни Мэгги, ни той женщины-фэйри. Тогда в хижине все было перевернуто, разбросано; на полу валялись осколки фаянса, всюду была рассыпана зола, как будто кто-то ногой разгребал и разбрасывал ее, ища что-то в очаге.
Явились они, когда уже стемнело. Они колотили в дверь ногами, стучали кулаками по штукатурке стен.
— Где она?
Нэнс, вскочив, пыталась улизнуть через заднюю дверь, но дверь заклинило.
— Нет, калинь! Где она?
— Кто?
— Где эта Шалая? Твоя тетка, что умеет всякое?
— Лечить умеет?
В ответ один из мужчин лишь сплюнул, злобно сверкнув взглядом.
— Шалая Мэгги из Мангертона, где она?
— Пищог она не делает.
Он расхохотался:
— Не делает, как же!
Нэнс вспомнилось, чему обучала ее раньше Мэгги. Как обратить на пользу себе удачу другого. Как сделать бесплодным мужчину. Какую силу имеет рука мертвеца.
— Здесь ее нет.
— Небось в канаве на задворках прячется, а?
Нэнс покачала головой:
— Она ушла, пропала, — и заплакала, заплакала от страха перед этими людьми, стоящими перед ней в доме ее покойного отца, заплакала оттого, что потеряла тетку, единственно родного человека, который оставался у нее на этом свете.
Мужчины тыкали пальцами ей в лицо.
— Если эта твоя полоумная, шальная тетка вернется, скажешь ей о том, что ее ждет! Скажешь, что мне известно, какую порчу она напустила на моих коров, и что я ей самой глотку перережу, как им перерезал!
И вот теперь в тесноте бохана руки Нэнс тряслись совсем как в ту ночь, после того, как мужчины, уйдя наконец, оставили ее одну.
Матерь Пресвятая, Мария Дева, думала Нэнс, спаси меня! Я одинокий ясень на ветру. Идет гроза, и, хоть за мною лес, молния ударит в меня.
Когда Нора проснулась на другое утро, чувствуя, как внутри все зудит от нетерпения, Мэри уже ждала ее одетая, сидя перед огнем с подменышем на коленях. Лежавшая на ее плече голова мальчика подергивалась, он скулил жалобно, по-собачьи.
— Гляди-ка, встала и сидит себе, готовенькая! Нет бы меня разбудить, мы б тогда уже на полпути были!
Мэри обратила на нее молящий взгляд.
— Что такое, что с тобой стряслось?
— Я не хочу идти.
— Это еще почему? — раздраженно бросила Нора. Она вся дрожала от волнения. Так хотелось ей очутиться на реке, так ждала она того мгновения, когда наступит ее черед погрузить эльфеныша в воду. И ощутить его сопротивление, его нежелание уйти.
— Боязно мне, — сказала Мэри.
— Чего боязно-то? В речке купаться? Так ты вчера уже искупалась, а на этот раз только смотреть будешь.
— Слишком холодно ему будет. Вы ж сами видели, как дрожал он, как трясся, синий весь… Я за него боюсь. А сегодня утром он все ротик разевал, миссис, молока просил. Он есть хочет!
— И я хочу! И ты тоже!
— Но с пустым-то животом, боюсь я, он холода не выдержит — помрет!
— Мэри, то, что у тебя на коленях сейчас, никакой не ребенок. И Михяла нам не вернуть, если не послушаемся мы Нэнс и не окунем тварь в воду!
Казалось, девочка вот-вот расплачется.
— Мне худое чудится, — пробормотала она.
Нора зачерпнула воды ковшом и побрызгала ей на лицо:
— Хватит, Мэри!
— Да! Чудится! Все думаю, что священник бы сказал, если б узнал…
— Священник мог помочь, когда я его о помощи просила!
— Но, миссис, разве не грех это, как вы думаете? Я вот вам давеча про пищог рассказала, так мне все кажется, что и мы что-то похожее делаем. Встаем до рассвета, догола раздеваемся, тайно, в глухом месте… Я греха на душу не хочу брать. Не хочу вред ребенку сделать.
— Просто ты на давешний пищог насмотрелась. Вот оно тебе в голову и зашло.
— Там говорили, что это Нэнс его подложила.
— Вранье!
— Говорили, что она зла желает всем нам в долине, за то, что священник против нее на службе говорил.
— Враки, бабьи сплетни!
— Может, не стоит Нэнс этой так уж верить, миссис… Может, она…
— Мэри! — Нора вытерла лицо передником, после чего обвязалась им. — Ты хочешь, чтоб сын моей дочери возвратился, или не хочешь?
Девочка молчала, еще крепче прижимая к себе ребенка.
— И никакого греха тут нет, — сказала Нора. — Разве ж это грех — вернуть добрым соседям то, что от роду Ихнее?
Мэри, опустив голову, разглядывала комья глины под ногами у Норы.
— А можно я одеяло захвачу, чтоб после согреть его?
— Бери, бери, сама и потащишь!
К лачуге Нэнс они подошли, когда небо было еще совершенно черным и лишь на востоке едва-едва начинало розоветь. Нора заметила, что несущую закутанного подменыша Мэри слегка качает. От голода, наверно, подумала Нора. Ее саму день поста вверг в некое восторженное состояние. И сейчас, шагая в темноте, она чувствовала, как необычайно обострились все ощущения. Втягивая холодный воздух, ноздри улавливали в нем не только привычные запахи земли, дыма и глины, но и подступавшую все ближе речную сырость, и горьковатую прель подлеска. Это была радостная, будоражащая бодрость.
Нэнс сидела у огня и вздрогнула от стука двери. При виде ее лица Нора приуныла — такое в нем было смятение: под глазами набрякли мешки, а седые волосы, обычно забранные в опрятный пучок на затылке, беспорядочно разметались по плечам.
— Нэнс?
— Что, пора уже? — спросила женщина и, не дождавшись ответа, медленно поднялась на ноги. — Ну, раз так — пойдем к пограничью.
По лесу они шли в тягостном молчании. Нора слышала только шорох шагов и тяжелое дыхание Мэри, с трудом тащившей подменыша. Лесной мрак был до ужаса недвижим.
Вдруг тишину прорезал прокатившийся по всей долине пронзительный крик, и все три женщины так и подскочили от страха.
Утка это, подумала Нора, лиса утку поймала, только и всего. Но по спине все равно побежали мурашки.
— Слыхала, что нашли на ферме у Линчей? — произнесла Нора шепотом, стараясь, чтоб голос не дрожал. — Про пищог?
Нэнс молча шагала в темноте.
— Пищог там нашли, — повторила Нора. — Послали за священником. Он его святой водой окропил, а потом сжег. Так Мэри говорит.
— Это было гнездо с кровью внутри, — подала голос шедшая впереди Мэри.
— Беда будет, — пробормотала Нэнс.
Она казалась погруженной в свои мысли и заговорила опять, лишь когда они пришли на прежнее место у реки:
— Теперь твой черед, Нора.
Нора не могла понять, от чего так сводит живот — от страха или от волнения.
— Что мне делать, Нэнс?
— То же, что и в тот раз делали. В точности повтори все за девочкой — разденься и войди в воду с эльфенышем на руках. И окуни его всего трижды. Каждый волосок его должен под водой очутиться. Вода пограничья сильная, пусть она все его тело омоет. И не поскользнись смотри! Воды в реке, похоже, сегодня прибыло.
Нора кивнула, чувствуя сухость во рту. Дрожащими руками она сняла с себя одежду.
— Может, лучше я опять это сделаю? — попросила Мэри. Она примостилась на корне дерева, прижав к себе мальчика. Едва заслышав шум реки, он принялся стонать и биться, ударяясь головой о ее плечо.
Нора протянула руки к мальчику.
— Хватит! Ты же знаешь, что сейчас моя очередь. Так положено. Давай его сюда, Мэри!
Девочка замялась:
— Только вы осторожней с ним, хорошо?
— Да мы ж не зла ему желаем, — заверила ее Нэнс. — Просто хотим вернуть эльфеныша к его сородичам.
— Он вчера как ледышка был. Больно холодная вода для него. Он же маленький такой, тощий…
— Дай его Норе, Мэри.
— Скорее! — Шагнув к Мэри, Нора наклонилась над ней и выхватила ребенка из ее рук. Нора не стала подбирать упавшее с него одеяло и прикрыла ребенка своим платком.
— Вы ж его на колючки положили! — упрекнула ее Мэри.
Нора словно не слышала. Она взяла ребенка на руки, и тот вдруг завопил и замахал руками. Нора чувствовала, как голова бесенка бьется о ее ключицу.
— Теперь в реку, Нора. Вот так. Держись за ветку, как Мэри вчера спускалась. Не поскользнись.
Когда Нора в первый раз окунула подменыша, он в удивлении раскрыл рот. Но воды он хлебнул не больше, чем при крещении, и Нора, приподняв его, вновь опустила в воду.
— Христом Богом прошу, скажи, Михял Келлигер, сын моей дочери, это ты или не ты?
В третий раз, когда вода, хлынув, залила лицо подменыша, Норе показалось, что он остановил на ней взгляд и глядит прямо на нее, пуская пузыри. Едва она вытащила его наружу, как солнце заиграло на сбегающих с него струйках и на всей поверхности реки: надо же, как быстро рассвело! Нора держала эльфеныша у голой груди, пока он выкашливал речную воду. Она стояла, дрожа, среди солнечных бликов, и в душе ее крепла уверенность, что они поступили правильно, что не пройдет и дня, как дочкин сын вернется к ней — невредимый, исправный, умеющий ходить и говорить. Это сулила ей река, спокойно и неуклонно стремящая свой бег, и обещали жаворонки, возносящиеся в небеса, точно молитва.
С утра у родника темнела кучка женщин. Несмотря на солнечную мартовскую погоду, на головы они натянули накидки и о чем-то перешептывались, горячо и таинственно.
Мэри покосилась на них, опуская ведро, и поймала на себе несколько взглядов, причем некоторые были довольно бесцеремонные. Вдруг вся толпа двинулась на нее. Мэри выпрямилась, вскинув голову, и тотчас пошатнулась от слабости.
— Ты ведь с Нэнс Роух дружбу водишь, а, Мэри Клиффорд? — обратилась к ней Эйлищ О’Хара, и это прозвучало как обвинение.
— Мы тут промеж себя толковали, кто бы мог пищог подложить на землю Шонову.
— Ну, я-то этого не делала, если вы на меня подумали.
Эйлищ визгливо рассмеялась:
— Небось от скромности не умрешь — ишь, на нее мы подумали! Ты что, девка, с утра в крапиву садилась?
Женщины засмеялись. По спине Мэри пробежал холодок.
— Кто бы это ни был, он это еще до свету обделал. Собака не проснулась, Шон говорит.
— А может, оно не вчера там появилось, — предположила другая женщина. — Подложили пищог свежим, чтобы уж на месте протух.
— Кейт говорит, видела, как Нэнс утром кралась по полю, пока люди спят.
— А мой муж — птичка ранняя, так он готов на могиле матери своей поклясться, что видел старуху с добрыми соседями вместе — будто шли они в темноте гурьбой по дороге. У Дударевой Могилы, в самой глухомани. А у мужа моего глаза зоркие — углядел.
— А он по зоркости своей среди нас фэйри не примечает?
— Да чего мужики не увидят через горлышко бутылки-то!
Все засмеялись.
— При чем тут бутылка? Мой отродясь ни капли в рот не берет!
— Так он что, думает, это Нэнс с ее бесами?
— Ну, говорят про нее, будто она с Ними знается…
— Правда это, истинная правда. Якшается она с Ними. И знание у Них выпросила, как масло отнимать у коров да яйца у кур, как жен кузнецовых огнем жечь!
— Страсти какие!
— Я все думаю, откуда та кровь взялась, — сказала одна из женщин, опасливо стрельнув глазами в сторону Мэри.
Женщины переглянулись.
— Может, зверь какой, — предположила одна. — Зайца убили и кровь пустили.
Мэри опустила глаза, боясь, что ее вот-вот стошнит.
Опять вмешалась Эйлищ:
— Если ты, Мэри, увидишь Нэнс, лучше скажи ей, чтоб подумала впредь, прежде чем порчу насылать. Мы тут злодейства не потерпим. То Анья опалилась, то эта кровянка у Шона на ферме!
— Скажи ей, чтоб вон убиралась! Пусть по миру опять отправляется!
— Она как лечить знает, — робко вступилась Мэри.
— Как же! Что ли, я сама не хаживала к ней за лечением? — Эйлищ ухмыльнулась. — Чуть мне глаз не выколола гусиным клювом. Умом она тронулась!
— Так умом тронулась или сердцем ожесточилась, а, Эйлищ?
Мэри увидела, что к женщинам направляется Ханна и что лоб ее нахмурен.
— Ты уж давай, или одно, или другое!
— Только дурак станет ходить к этой ведьме, знахарке полоумной!
— А ты по-прежнему дура, Эйлищ, или шибко поумнела с тех пор, как за важного человека выскочила?
Эйлищ злобно скривилась, но от родника и дрожащей Мэри отошла.
Приблизившись к девочке, Ханна положила руку ей на плечо.
— Не обращай ты на нее внимания, — сказала она. — Ты ведь к Нэнс мальчика Лихи носишь, да?
Мэри кивнула.
— Ты скажи Нэнс, старая Ханна знает: пищог — не ее рук дело. — Ханна понизила голос: — Любая женщина поймет, что там было, в гнезде-то. У любой бабы, ясное дело, найдется где такой крови добыть, только не у Нэнс, в ее годы! И не у меня. Нет, по мне, так пусть ищут те руки, что поближе к дому.
Мэри уставилась на нее в ужасе.
— Ага, — подтвердила Ханна, кивнув туда, где наполняла свое ведро из родника Кейт Линч. — Пинками по дому ее гоняет. Вот запомни, что скажу я тебе, молодая Мэри Клиффорд: когда-нибудь она его убьет. Если кто-то и тронулся умом, так это она. Мозги у нее с места слетели. От мужниных кулаков.
Стоя в темноте, Нэнс курила мать-и-мачеху и глядела на дорогу. Три дня она не брала ничего в рот, и голод обновил ее, обострив чувства и усилив тревогу. Тлеющий огонек трубки резал глаза, она чутко прислушивалась к каждому шороху, ко всему, что могло означать движение во мраке. От голода она ощущала себя чем-то наподобие бoурана: натянутая кожа над гулкой пустотой внутри. Она напряженно ждала.
И вот услышала. Предрассветную тишину прорезал крик — похожий на лисий, крик подменыша. Вздрогнув, она затянулась трубкой. Прошло несколько томительно долгих минут, прежде чем Нора и Мэри, идя на огонек тлеющих в трубке листьев, приблизились к порогу бохана. Вдова шла странной походкой, пальцы рук стиснуты в кулак, ноги — словно деревянные. Когда они подошли совсем близко, Нэнс заметила, что зубы женщины выбивают дробь, хотя заморозков и нет. Во всем облике ее сквозило возбуждение.
— Благослови Господи вас обеих!
— Ну и темное же утро выдалось, тьма кромешная! — Голос Норы срывался от предвкушения.
— Это утро — последнее. Последнее утро всего темней.
— Кабы месяц не выглянул, заплутали бы мы.
— Но дошли же. Что, Мэри, боялась, что дорогу не найдешь?
Девочка молчала. Только передник белел в темноте. Нэнс хотела положить руку ей на плечо, но девочка отпрянула.
— Ну-ну… Бояться нечего. Я буду вам защитой, и скоро все кончится.
Мэри шмыгнула носом, и подменыш опять испустил вопль, напугав всех троих.
Нэнс потянулась к ребенку:
— Знает, что скоро воротится, откуда пришел. Дай-ка мне его, Мэри. Я его к воде понесу.
— Вам тяжело будет.
— Я сильная.
— Я хочу его нести. Оставьте его мне.
Нэнс увидела, как Нора ударила девочку по руке.
— Отдай Нэнс! — Тут вдова повернулась к Нэнс: — Сказала б ты пару слов девчонке-то. Всю ночь напролет хныкала и дурью маялась.
— Мэри, отдай мне подменыша.
— Он знает, — прошептала девочка, нехотя передавая ребенка.
— Что «знает»?
— Знает, куда мы идем, — печально ответила она. — Как только он увидел, что мы к вашему дому путь держим, он крик поднял.
— Еще бы, неохота подменышу обратно под землю отправляться. Здесь ты с него пылинки сдуваешь. Однако приспело время его на внука вдовы поменять.
— А с ним что будет?
— Вернется к родне.
— А боли он не почувствует?
— Господи, нет, конечно, — ответила Нэнс, но перед глазами ее вдруг мелькнуло лицо Мэгги. С длинным шрамом.
Путь к реке казался невыносимо долгим. Нэнс шла, крепко прижав к груди подменыша. Оказавшийся на незнакомых руках ребенок был напуган и все время плакал, уткнувшись в морщинистую шею старухи. Они шли, и мокрая от росы трава хлестала их по юбкам. Вдруг руке Нэнс стало тепло от просочившейся сквозь тряпки детской мочи.
По дороге вдова возбужденно шептала Нэнс:
— Мне сон вчера приснился. Непростой сон! Помнишь, как Питер О’Коннор рассказывал об огнях возле Дударевой Могилы, что горели перед тем, как Мартину умереть? Так вот мне снилось, будто иду я в поле в предрассветный час, небо уж синеет чуток, вроде как теперь, а когда я к урочищу фэйри подошла, гляжу — под боярышниковым кустом три огня светятся. Я как увидела, сперва испугалась, но ноги все равно несли меня вперед, к ним, а когда я ближе очутилась, увидела, что цветет куст, а лепестки цветочные ветер разносит, и много их, и трепещет весь этот цвет на ветру, и что огни — это и не огни вовсе, а Джоанна, и Мартин, и Михял. — Три этих имени Нора выговорила с трудом — голос изменил ей. — Все трое, Нэнс! Стоят под деревом. Меня дожидаются. И музыка играет, какую в жизни не слыхивала.
— Волшебная?
— Будто ангелы ее играют. И пение раздается. И будто вижу, как добрые соседи позади них танцуют. И танец такой красивый! — с жаром заключила свой рассказ вдова. — Как думаешь, Нэнс, что бы это значило? Я-то уверена, это добрый знак. А ты что скажешь? Добрый или нет?
— Скоро узнаем, Нора Лихи. Да, узнаем!
Светало, и вот уже можно было разглядеть реку — темно-коричневую, окаймленную зеленью папоротника, еще не расправившего свои скрученные листья. Нэнс, тяжело дыша и отдуваясь, передала Михяла Мэри и стала раздеваться, стягивая через голову слои сукна и шерсти и складывая их на землю.
Ее груди лунно белели в тусклом свете раннего утра, дряблая кожа натянулась от холода.
— В последний разочек, значит, — сказала Нэнс. — Она взглянула на Нору — та стояла натянутая как струна, крепко сцепив руки на груди, широко раскрыв глаза. Все ее тело сотрясала дрожь.
— Мэри, подождешь, пока я в воду войду, а потом передашь мне мальчика.
Мэри глядела на нее, ничего не говоря. Лицо ее было совершенно белым, в глазах стояли слезы.
От поднимавшегося с реки холода у Нэнс перехватывало дыхание. Она входила в воду медленно, тяжело, с хрипом дыша, спотыкаясь, когда комья береговой глины обрушивались под ее тяжестью, и охая, когда вода касалась ее дряблых бедер и живота. Кости ее ныли. Река била по ногам, ударяя в них мелкой галькой, сдвинутой и разворошенной ее шагами.
— Ну, теперь давай его сюда, Мэри! — Зубы ее стучали, и Нэнс думала, что будет, упади она в воду. Ощущала собственную старость. И хрупкость.
Девочка не шевельнулась. Она съежилась на берегу, еще теснее прижав к груди ребенка. Нора шагнула к ней.
— Так дашь ты его Нэнс, а, Мэри?
Девочка уткнулась лицом в макушку ребенка и не поднимала глаз. Мальчик тихо застонал.
— Дай его мне!
— Это грех с ним такое делать, — прошептала Мэри.
Нора протянула руки к мальчику, и плач его стал громче; Мэри крепко держала его, обхватив обеими руками. Теперь она плакала громко, неистово. Нора пыталась разжать ее пальцы, вцепившиеся в ребрышки ребенка.
— Ишь обнаглела — так себя вести! Стыдись! — Она отвесила Мэри пощечину, и девочка, вскрикнув, выпустила ребенка из рук. Нора вскинула вопящего мальчика на плечо и, зажав ему рот, не раздеваясь, вошла в воду. Преодолевая напор воды, она дошла до Нэнс и передала ей орущего ребенка.
— Пожалуйста! — крикнула с берега Мэри. — Пожалуйста! Грешно это! Грех такое с ним делать!
Трясясь от ледяной воды, Нэнс взяла подменыша и перекрестила его костлявую — кожа да кости — грудь. Взглянула на Нору — та стояла в реке, спиной к Мэри. Вдова кивнула, и Нэнс погрузила исходящего криком ребенка в воду.
Мэри повалилась на мшистый береговой скат; по лицу ее текли слезы.
— Вода слишком холодная! — кричала она, царапая пальцами глину и давясь слезами. — Грех это!
— Замолчи, Мэри, — пробормотала Нора, кивнув Нэнс, которая в это время подняла ребенка над водой.
— Во имя Господа Бога нашего, если ты из фэйри, прочь!
— Пожалуйста! Ну пожалуйста, Нора, не делайте с ним этого!
Нэнс вновь опустила ребенка в реку, потом подняла высоко над водой. Светло-рыжие волосы мальчика прилипли ко лбу, изо рта и глаз его с бульканьем текли струи воды. И затем, в последний раз, прежде чем успел он сделать вдох, чтоб закричать, она, крепко сжав ему грудь руками, в третий раз толкнула его в стремительный речной поток. Она взглянула на Нору и поняла, что женщина видит, как бьется белое тельце под пенной поверхностью реки, как мерцают — то блеснут, то исчезнут, точно промелькнувшая рыбка, — его волосы. Встретившись с ней взглядом, Нора кивнула опять, и по ее кивку под плач Мэри руки Нэнс легли мальчику на грудь. Нэнс сжала, стиснула руки и устремила взгляд на иву, на длинные пальцы ее ветвей с сережками. Она глядела на то, как тычется носом в береговой скат побег водяного кресса, и чувствовала, как болезненно стынут и немеют руки в быстрой воде и как впиваются в ее кожу острые ногти ребенка, судорожно бьющегося в реке; она глядела на бутоны ириса — сомкнутые вокруг желтых цветов листочки были как руки, сложенные для молитвы. Она чувствовала, как внезапно поднявшийся ветер касается ее волос; ветер шелестел в деревьях, срывая листья и семена, кружа их на водяной глади, вдруг разбившейся, когда из воды показалась детская рука; воздетые вверх пальцы пытались схватить воздух. Нэнс прикрыла веки, чувствуя, как слабеет, как затихает борьба, и, даже не глядя на бессильно обмякшее, безжизненное тело, на остекленевшие глаза, она поняла, что река приняла фэйри как свое, ей соприродное.
Часть третья КОГДА ВЕДЬМА В ОПАСНОСТИ, ЕЙ НАДО БЕЖАТЬ (ANNAIR IS CRUADH DÓN CHAILLIGH CAIHTFIDH SI RITH) 1826
Глава 17 Ежевика
МЭРИ БЕЖАЛА ТАК, словно за ней гнался сам дьявол. Не разбирая дороги, по сверкающим лужам, по полям, через дорогу, вверх по склону, на холм, по камням, впивавшимся в босые ноги, бежала, когда заря уже заливала светом долину. Слезы слепили, легкие жгло, в боку кололо — она продолжала бежать. Пронизывающий ужас гнал ее все вперед и вперед.
Лишь завидев на горе очертания хижины Пег, Мэри поняла, куда бежит. До этого инстинкт твердил только одно — спасайся, прочь от того страшного на реке, от бледной детской головки, мотающейся возле впалой груди Нэнс.
Они убили его.
Господь всемогущий, силы небесные, они его прикончили! Она видела это и не остановила!
Неподвижность поднятого из воды маленького тела, обтянутые кожей ребра, с ног капает вода, стекая обратно в реку. Торжествующий, радостный крик Норы; юбки ее треплет ветер, задувает под подол, а она, повернувшись, в восторге указывает на распустившийся касатик. Детская головка безжизненно свесилась, горло обращено к небу. И птицы, птицы, слетевшиеся на деревья вокруг, наполнившие их щебетом, таким громким, что крик Норы тонет в этом рассветном хоре. Птицы, встречающие свет дня.
Мэри бежала, пока не споткнулась о камень и не упала, но тут же поднялась с исцарапанными в кровь руками. Она сидела на каменистой земле и выла в голос, перепачканная речным илом и полная ужаса.
Чтоб успокоить Мэри и понять, что такое она говорит, Пег О’Шей потратила чуть не час. Девочкины крики разбудили весь дом, и зять Пег выбежал узнать, в чем дело. Вернулся он, неся на руках Норину служанку. Она истерически рыдала, захлебывалась слезами, не в силах говорить, и так дрожала, что Пег велела дочери укутать Мэри одеялом и крепко обняла девочку.
— Что случилось, Мэри? Скажи нам, что с тобой стряслось!
Девочка рыдала с разинутым ртом — из носа у нее текло.
— Голубушка, все, все, тут спокойно, никто тебя не обидит. Ну же, Мэри, что такое случилось?
— Я хочу домой! — Голос девочки был хриплым от страха. — Я хочу домой!
— Ты пойдешь домой, конечно. Но сперва объясни нам, Мэри, что случилось? Не пугай нас, на тебя ж смотреть боязно!
— Меня повесят!
Родные Пег переглянулись.
— Тебя? Повесят? — переспросила Пег.
— Она его порешила! — рыдала девочка. — Он помер!
— Кто?
— Михял!
— Дух-то переведи, Мэри! Вот так! Вдохни, а теперь говори. Ты хотела сказать, что Михял умер?
Девочка резким движением выпростала руки из-под одеяла и схватилась за голову. Растрепанная, с упавшими на лицо волосами, она раскачивалась взад-вперед, сидя на полу в хижине Пег.
— Мамочка, — шептала она, — к маме хочу!
— Что ты такое увидела, Мэри?
— Домой хочу! — плакала девочка. — Не хочу умирать! Меня повесят за это!
— О таком даже и не думай! Ш-ш… Расскажи, Мэри, что ты видела? Что случилось?
Мэри сделала прерывистый вдох.
— Нэнс… — запинаясь, выговорила она. — Она утопила его, и он умер.
Пег застала Нору у очага — та сидела одна, уперев взгляд в остывший пепел. Очень тихо. Слишком длинные рукава куртки пузырились на руках, сомкнутых вокруг бутылки с потином, которую она держала на коленях.
— Нора? Это я, Пег. Пришла тебя проведать.
Вдова повернулась к двери. Взгляд был отсутствующий. Пег заметила, что Нора, по-видимому, плакала — глаза красные, из носа течет.
— Его здесь нет… — Тело ее сотрясла легкая дрожь. Она откупорила бутылку, выпила, захлебнулась, вытерла рот.
— Нора… Ради всего святого, что случилось?
— Я поискала его, но… — Она зажмурилась и содрогнулась всем телом. — Я сразу же вернулась сюда… бежала… Я так бежала, Пег… Думала, может, страшно ему будет одному…
— Ты о мальчике говоришь, Нора?
— А его здесь нет, — продолжала та недоверчиво. — Я вернулась, потому что думала…
Пег тяжело опустилась на табуретку.
— Ты же насквозь промокла… Одежда вся мокрая, грязная…
Нора оглядела себя и словно впервые увидела свои мокрые юбки, все в глине и налипших листьях.
— Что ты делала на реке?
— А потом я сюда пришла. Посмотреть, может, Джоаннин…
— Нора, Мэри говорит, что подменыш умер. Она в ужасном состоянии и говорит, что он утонул в реке. Это правда?
Нора нахмурилась:
— Ты видела его? — Вцепившись в плечо Пег, она приблизила к ней лицо: — Мэри… что она сказала?
— Нора, ты пугаешь меня.
От вдовы разило самогоном.
— Говори, что она сказала? Говори!
Пег мягко отпихнула Нору.
— Мэри Клиффорд сказала мне, что Михял умер. Говорит, утонул.
Нора долго молчала, стиснув зубы.
— Нет, Пег. Не Михял.
— Она говорит, что видела, как Нэнс утопила мальчика. Нора, это и вправду было? Нэнс и вправду утопила маленького калеку?
— Это был фэйри! — проскулила Нора.
— И Нэнс утопила фэйри?
— Мэри убежала. Мы оглянулись и увидели, как она убегает.
— Мы? Это были ты и Нэнс?
— Я думала, что найду здесь Михяла. Думала, мне его воротят.
Пег глубоко вздохнула:
— Нора, что, он утонул, уродец?
Раздался стук в дверь, и обе женщины вздрогнули. В открытой двери стоял отец Хили, за ним маячил зять Пег. Лицо священника было сурово и выражало озабоченность.
— Нора Лихи? Что ты наделала, Нора Лихи?
Нора лишь головой затрясла — говорить она не могла.
— Твоя маленькая прислуга сообщила мне, что стала свидетельницей тому, как ты утопила своего внука.
— Нет!
— Нора, разве это не тот парнишка, о котором ты приходила ко мне поговорить? Маленький калека? Это его ты пошла и утопила?
— Это был нелюдь.
Священник стоял над ней, совершенно ошеломленный таким ответом.
— Помилуй тебя Господи… Где же тот мальчик? Что ты с ним сделала?
— Его здесь нет.
— Нора, что ж, ты пошла и убила этого ребенка? Скажи мне правду, или я… Говорю тебе, Господь осудит тебя за содеянное!
Сжав губы, Нора молчала.
Священник побелел от гнева:
— Господи Боже… Она в своем уме?
— Ее горем оглушило… — пробормотала Пег… — Не в себе она.
Отец Хили приложил ладонь к губам.
— А сейчас слушай меня: я послал человека в участок. Вернется он с полицейским. Поняла? Вдова Лихи, ты слушаешь? Сейчас придут люди, которым тебе надо будет все рассказать. Под присягой! Слышишь? Вдова Лихи!
Взгляд его упал на бутылку с потинем на коленях у Норы.
— Только не надо говорить мне, что пьяная она! Хватит! — Священник кивнул на Пег, которая как раз разжимала в это время пальцы Норы, стиснувшие бутылку.
— Я…
Священник наклонился к Норе:
— Что такое? Что ты хочешь сказать?
— Я… Я не хочу отсюда уходить.
— Они пришлют констебля для допроса и, вполне вероятно, увезут тебя.
— Я не поеду… Не могу я уезжать!
— Это ненадолго, Нора, — принялась уговаривать ее Пег. — За коровой я присмотрю. И за курами тоже…
Нора мотнула головой:
— Нет. Мне надо тут быть. Может, Михял появится. Сегодня не вернулся, так, может, завтра возвратят его… Надо тут его дожидаться!
— Если твоя маленькая прислуга утверждает, что он мертв, — раздраженно повысил голос отец Хили, — то он не вернется! Известно тебе, где находится твой внук? Где тело?
— Михял у добрых соседей, но теперь он вернется. Теперь его возвратят. Так Нэнс сказала.
Священник промолчал. Пройдя к открытой двери, он постоял там, а затем оглянулся на Нору со смешанным чувством отвращения и жалости.
— На твоем месте, Нора Лихи, я бы сейчас молился. — И он кивнул Пег: — Проследи, чтоб она никуда не уходила до прибытия констебля.
Когда Нэнс вернулась домой, ее все еще трясло от холода. В реке она продрогла до костей, и теперь они ныли. Голод, который так остро ощущался в эти дни, сменился тошнотой, и теперь, когда все было кончено, хотелось только одного — спать. Она заползла на свою постель из вереска, укрылась одеялом и закрыла глаза.
И ей приснился сон. Снилось, что она, молодая, идет по главной улице Килларни; стоит начало лета, дорожная грязь запеклась под лучами солнца.
Внезапно ее со всех сторон окружает толпа. Это молодые женщины с лицами, загорелыми от работы на вольном воздухе. На спинах у них корзины, полные рыбы и пахучей рыбьей чешуи.
Широко открывая рот, они окликают ее:
— Нэнс!
— Нэнс, стой! Нам надо поговорить с тобой!
Ноги ее замирают. Под подошвами теплая земля.
Женщины обступают ее все теснее, берут в кольцо.
— Не тебя ли мы заприметили в поле в канун мая?
— Тебя, тебя! Шла одна, одетая по-чудному.
— Никуда я не ходила.
— Но ведь видели тебя, Нэнс Роух!
— Ага!
— И как ползала под шиповником — тоже видели.
— Да не было этого вовсе!
— Видели, видели! А человек, что тебя видел, именем Божьим поклялся, что это ты была.
— Да кто это говорит?
— Он говорил, что ты голая ползла через колючки и что сам слышал, будто ты бормотала странные какие-то слова.
— Скажите мне, кто это говорил?
— Не посмею сказать: ты проклянешь его!
— В жизни никого не проклинала!
— Это ведь грех, Нэнс, страшный грех!
— Правда это, что ты у добрых соседей побывала?
— Неправда! Не было этого!
— Все знают, что мамашу твою умыкнули.
— Ага! А тетка твоя — Шалая Мэгги — с Ними знается. И порчу насылать она большая мастерица!
— Все они одержимые, полоумные. У них в крови это!
— Ага! То-то и папаша твой себя порешил — сам в воду бросился.
— Это нечаянно.
— Врешь, Нэнс! Это ваша одержимость на него перешла!
— А может, это фэйри его в воду затащили?
— Выгонят тебя. По миру пойдешь. Вот что бывает с теми, кто порчу пускает. Кто колдовством промышляет!
— Отца твоего больше нет, так тебе в твоей хижине теперь не жить!
Нэнс чувствовала, как ее охватывает пламя гнева. Она стояла, окруженная толпой, и пылала огнем.
— Вы очень жестокие, — шепнула она.
И когда они засмеялись, то Нэнс коснулась сердца каждой из этих женщин пальцем, горящим, как свечной фитиль. «Будь ты проклята! — выкрикивала она каждой, и та взвизгивала в ответ. — Пусть зарастет порог твой травой, пусть ты помрешь без причастия в городе без священника и пусть вороны растащат твои кости! Imeacht gan teacht ort! — Пропади ты пропадом!»
Как же они завизжали! Они визжали и выли, все громче и громче, пока она не проснулась и не села в постели, тяжело дыша.
Вокруг было темно. В щели сочился слабый послеполуденный свет пасмурного дня. Снаружи доносились шаги и негромкий разговор. И запах примятой травы.
Это добрые соседи, пронеслось в голове, пришли забирать меня!
Первую долгую минуту, не в силах пошевелиться, она сидела, уставившись на дымящий очаг, на полосы сажи на побелке, на разбросанный по полу камыш.
Они пришли за мной, думала она, как прежде — за мамой. Как за Мэгги.
— Нэнс Роух! Открой дверь!
— Ты живая душа или нежить?
— Открывай!
Времени для защиты не осталось. Некогда оградить свою жизнь и душу травами и заклятиями. Только погасшие угли в очаге.
Когда в прутяную дверь лачуги протиснулся констебль и его люди, Нэнс стояла на четвереньках, набивая карманы угольками.
Появление двух полицейских из Килларни взбудоражило всю долину. Пошли кривотолки. Люди, столпившись у дороги, смотрели, как два всадника в форме подъехали к маленькой часовне, а затем, уже вместе со священником, спустились по склону — мимо кузни, мимо родника и женщин с изумленно раскрытыми ртами, к подножию холма возле домов Лихи и О’Шей. Толпа двинулась следом, глядя, как полицейские, передав священнику поводья, стали пешком взбираться в гору. Один направился к хижине О’Шей, другой — Норы Лихи.
Когда через несколько минут они появились вновь, по бокам от растерянной вдовы и рыдающей девочки-прислуги, люди стали возбужденно перешептываться. Они смотрели, как полицейские уводят женщин — по дороге, назад к часовне, и только потом, когда группа скрылась из виду, люди кинулись на холм к О’Шей — узнать, что произошло. Неужели девчонку застали за кражей? А может, эта вдова сама гибель мужа подстроила? Когда потом они увидели, что полиция вернулась за Нэнс, люди стали гадать, может, все трое с нечистью водятся, всю долину изурочили, масло уводили из маслобоек и скотину губили кознями. Небось на самого священника пищог сделали!
Скоро все прояснилось. На закате вся долина гудела от новостей. Нору Лихи, Мэри Клиффорд и Нэнс Роух будут судить. Кретина-подменыша, которого Нора прятала от людей, утопили в реке, и говорят, будто это убийство.
Глава 18 Боярышник
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИНСПЕКТОР ВЕСЬ ВЗМОК, его шея багровела над темно-зеленым форменным воротом.
— Теперь говорите мне как есть всю правду, это очень важно. Вы наняли эту… — он заглянул в лежавшую перед ним бумагу, — Энн Роух, поручив ей убить вашего внука?
— Нэнс, — буркнула Нора.
Полицейский вторично заглянул в бумагу:
— У меня написано: Энн.
— Она зовется Нэнс. Нэнс Роух.
Он поднял глаза, взглянув на нее из-под кустистых бровей. Ноздри его шевельнулись.
— Это простой вопрос. Заплатили ли вы этой женщине за убийство вашего внука Михяла Келлигера?
Нора глядела на кадык полицейского, двигавшийся вверх-вниз над тесным воротником. Дрожащей рукой она потянулась к собственной шее.
— Я ничего ей не платила.
— Значит, это было простым благодеянием? Вы ее просили убить Михяла?
Нора покачала головой:
— Нет. Ничего такого я не просила. Она хотела вылечить его. Прогнать фэйри.
Констебль поднял бровь:
— Фэйри?
Нора обвела взглядом помещение участка. Здесь пахло пóтом, ваксой и жирным беконом. В животе у нее заурчало: с самого дня, как ее привезли сюда, единственной ее едой была утренняя миска водянистой овсянки. Четыре ночи тяжелого беспокойного сна взаперти на влажном соломенном матрасе в каменном мешке камеры. Четыре миски каши, поданных безмолвным стражником. Ни один из мужчин, приносивших ей еду, не отвечал на ее вопросы. Ни один не хотел ей сказать, нашли ли у нее дома маленького мальчика. Должно быть, он ищет ее, втолковывала она каждому из них. Рыжеволосый, четырех лет от роду.
— Я жду от вас ответа, миссис Лихи. Вы сказали слово «фэйри»?
Нора следила за мухой: вынырнув из дымохода, та покружила над решеткой остывшего камина, а затем шмякнулась о грязное стекло маленького оконца.
— Миссис Лихи!
Нора вздрогнула.
— Ваша служанка Мэри Клиффорд утверждает, что эта Энн Роух вознамерилась бросить в реку вашего внука на том основании, что он являлся кретином. Это не ее слова. Она называла его хилым. — Придвинувшись ближе, полицейский понизил голос: — Разумеется, очень нелегко, когда в доме такой ребенок. Может, вы хотели это сделать из милосердия, а, миссис Лихи?
Нора не ответила, и он, откинувшись на спинку стула, начал скручивать себе самокрутку, облизывая бумагу и не сводя глаз с Норы.
— Знаете, у меня есть собака, сука. Что ни год, она приносит мне щенков. Восемь щенят каждый год! Тех, кого мне удается продать, я продаю. Но иногда, миссис Лихи, среди щенков попадается заморыш. — Со скрипом отъехав на стуле от стола, он поискал в кармане спички. — Кто ж его возьмет, заморыша!
Нора глядела, как он закуривал, как махал спичкой в воздухе, пока она не погасла.
Полицейский направил самокрутку в ее сторону:
— Так что я делаю каждый год со щенками, которых не продать? Догадываетесь, миссис Лихи?
— Нет.
Он затянулся самокруткой и, не сводя глаз с Норы, выпустил вверх облачко дыма.
— Я топлю их! Отношу на реку и топлю этих крошек, пока они еще ничего не соображают. Но, миссис Лихи… — Он затянулся еще раз, к губе его прилипла бумажка. — Миссис Лихи, ребенок — это вам не щенок! — Он покачал головой, по-прежнему не отводя взгляда от Норы. — Не важно, кем вы считали мальчика. И пусть был он для вас тем же заморышем. Если вы утопили его умышленно, то вас повесят. Да, повесят!
Нора прикрыла веки, и перед глазами ее вновь возникла картина: слабое дрожащее мерцание тела под толщей темной речной воды: ширящиеся пятна света на берегу; ветви деревьев, а в них стаи птиц.
— Это был не мальчик.
— Сколько лет было ребенку, миссис Лихи?
— Оно… Четыре года.
— Опять вы говорите «оно». — Он что-то пометил в своей бумаге. — И как долго находился он на вашем попечении?
— С тех пор, как дочь моя померла.
Как хотела бы Нора понимать, что он там пишет! Она удивлялась, до чего красивые тонкие черточки выводит эта рука, — такая грубая и заскорузлая.
— И долго это длилось, миссис Лихи?
Нора помолчала, веки ее дрожали.
— С прошлой жатвы. С августа прошлого.
— Вы не могли бы описать состояние Михяла.
— Состояние?
— Как он себя чувствовал, миссис Лихи.
— Можно мне воды, пожалуйста?
— Сначала ответьте на вопрос.
— Оно… Он не мог ходить. Не мог говорить. С головой…
— Простите? Нельзя ли погромче?
— С головой у него было плохо.
Задержав на ней тяжелый взгляд, констебль медленно раздавил самокрутку и взял в руки лист бумаги.
— Мэри Клиффорд дала показания под присягой. Она…
— Где Мэри? Где Нэнс?
Констебль провел по горлу рукой, оттягивая жесткий ворот:
— В настоящее время, миссис Лихи, против вас троих выдвинуты одинаковые обвинения. И вы трое арестованы по обвинению в предумышленном убийстве. Выяснилось, что… — Запнувшись, он взял со стола другой документ, вчитался в рукописный текст: — Обвинение вам предъявлено на основании следующего заключения коронера: «Мы полагаем, что покойный Михял Келлигер скончался в результате утопления его в реке Флеск, имевшего место в понедельник, шестого марта 1826 года и произведенного действиями Энн Роух и при участии Гоноры Лихи, бабушки ребенка, равно как и Мэри Клиффорд».
Нора в замешательстве выпрямилась на стуле, чувствуя, как тяжко забилось сердце.
— Михял? Его нашли? Он в хижине?
— Учитывая тяжесть выдвинутых обвинений, миссис Лихи, дело ваше будет передано на рассмотрение летней выездной сессии суда в Трали. Вас же препроводят в тюрьму Беллималлен и будут судить судом присяжных. И в случае, если выдвинутые против них обвинения не будут опровергнуты, Мэри и Энн также предстанут перед судом.
— Вы нашли Михяла?
— Вы понимаете, что я вам говорю? Миссис Лихи?
— Нашли моего внука? Я ведь спрашивала…
— Тело вашего внука было найдено вблизи дома, где проживала Энн Роух. В месте, известном в округе как «Дударева Могила».
— Дударева Могила?
Норе представился куст боярышника в утренней синеве и пляска мерцающих огней в его ветвях.
— Когда к ней явились констебли, Энн провела их к месту, где ею было оставлено тело Михяла.
— Михял? Пожалуйста, можно мне его увидеть?
Полицейский вперил в нее долгий взгляд:
— Ваша троица утопила Михяла Келлигера, миссис Лихи, и не кто иной, как Энн Роух, спрятала его тело. — Он опять заглянул в бумагу. — Закопала очень неглубоко. В ямку дюймов десять глубиной.
Нора сжала виски, дыхание ее участилось.
— Думаю, не Михял это!
— Ваш внук, миссис Лихи, зарытый как собака!
— Нет! Думаю, не он!
Она зарыдала, помещение наполнил ее громкий плач.
— Миссис Лихи!
— Не Михял это!
— Ну хватит, перестаньте!
— Это был фэйри!
Опершись локтями о стол, Нора рыдала теперь, уткнувшись лицом в ладони.
— Миссис Лихи, крайне важно, чтоб вы сейчас сдержали себя и рассказали мне, что произошло. Это Энн Роух говорила вам, что ваш внук Михял Келлигер — на самом деле фэйри?
Нора кивнула, все еще пряча лицо в ладонях.
— И вы раскаиваетесь, понимая теперь, что это не так?
Она вытерла нос рукавом и задержала взгляд на блестящем пятне.
— Это не Михяла тогда нашли, — прошептала она. — Тот ребенок — никакой мне не внук.
— Вы что, не признали собственного внука?
Она покачала головой:
— Нет. Он стал другим. Я его прежде видела, а мне принесли другого.
— Это Энн объяснила вам, что он изменился потому, что теперь это фэйри?
— Она сказала, Михяла наверняка забрали фэйри и что калека этот — тоже их породы. Говорила, сможет вернуть мне внука.
Не сводя с Норы внимательного взгляда, констебль свернул себе другую самокрутку.
— Миссис Лихи, вы, женщина во всем прочем вполне уважаемая, поверили особе, утверждавшей, что ваш парализованный внук — это существо иного мира?
— Парализованный?
— Которого ноги не слушаются.
Нора вытерла глаза концом платка.
— Как вы это назвали? Каким словом? Еще разок, пожалуйста.
— Парализованный. Это медицинский термин. Так говорят про таких, как ваш внук, кто не владеет ногами, руками или ни тем ни другим. Это распространенный недуг, миссис Лихи. Невозможность двигаться. И именно этим, согласно заключению коронера и его помощников, страдал Михял.
— Нет! Он не страдал! Это был не он!
— Он, миссис Лихи. — Полицейский резко подался вперед. — Все эти разговоры о фэйри… Чем только не тешат себя люди, не желающие смотреть правде в глаза!
— Он станет ждать меня! — опять заплакала Нора. — Будет ждать, а дома никого, никто не встретит! О господи, силы небесные!
— Это вы сами себе внушили, миссис Лихи? Или все произошло намного проще: дать бедной старухе курицу, немного торфа — очаг растопить. А за это она избавит вас от вашего заморыша, болтая всю эту чушь насчет фэйри.
— Неправда! — Нора сжала кулаки. — Михял будет дома! Его вернут! Ведь я все, все сделала, чтоб он вернулся! А вы меня здесь держите! Я ж только того и хотела, чтоб он вернулся, чтоб со мной опять был!
Констебль, прищурившись, затянулся самокруткой, не спуская глаз с Норы. Застрявший между его губ кусочек бумаги трепыхнулся.
— Конечно, миссис Лихи! Конечно!
Нэнс глядела вверх со дна телеги, с громыханьем катившей по дороге через Килларни. Каждый камень, каждая рытвина отдавались болью в ее костях с такой силой, что вскоре ей стало казаться, что немногие еще оставшиеся во рту зубы вот-вот выпадут от очередного толчка.
Нэнс не привыкла к такой быстрой езде, не привыкла видеть перед собой резво бегущую лошадь, настораживающую уши на каждый окрик сидящего на козлах мужчины в темном плаще с грязным воротом по самые уши.
Нэнс потеряла счет времени.
Наискось от нее, зажатая между краем телеги и широким плечом полисмена, сидела вдова. Нэнс не было видно, спит Нора или бодрствует — лицо вдовы прикрывал платок, и сидела она понурившись, свесив голову. Когда их вывели из участка и посадили в телегу, вдова — бледная, жалкая — наклонилась и шепнула Нэнс, точно выдохнула: «Не хотят мне верить». И больше с тех пор ни слова.
За массивной фигурой сидевшего рядом констебля мелькал Килларни — постоялые дворы, трактиры и дома, нарядная главная улица и тесные грязные закоулки и дворы. Дымный, залитый солнцем Килларни, золотушные дети в заплеванных подворотнях, мужчины тащат корзины с дерном и торфом. После пяти ночей, проведенных в крохотной камере полицейского участка, вдруг столько шума, столько грязных глазеющих лиц. Дважды бежала она из этого города. Недоброго, безжалостного. Шалая Мэгги, Шалая Нэнс — какая разница? Отца забрала вода, мать забрали фэйри, неизвестно еще, как повернется это дело, одно ясно: знается она с добрыми соседями, не без этого! Небось и сама Их роду-племени.
Нэнс зажмурилась, напрягаясь всем телом на каждом ухабе. Когда она вновь открыла глаза, городская грязь и сутолока исчезли — они выехали на старый почтовый тракт, петляющий между каменистых и поросших травой холмов, в благословенном отдалении от застилающих горизонт лесов, озер и гудящего многолюдья Килларни. Мужчины вышли на поля — сажать в лунки картофельные глазки; картофель, посаженный раньше, уже тянул из земли свои ростки. Мир наконец-то расцвел. Канавы пестрели звездочками собачьей фиалки и желтым утесником, осот, одуванчик, сердечник разбежались по полям. Одинокие кусты боярышника, таинственно вздымавшиеся среди пашни, покрылись творожными сгустками соцветий. Сердце трепетало при виде облитых белым крон, гудящих от пчел.
В положенный срок наступит канун мая, подумала Нэнс. И стала представлять себе, как люди в долине станут рвать желтые цветы, вобравшие в себя солнце, — собирать первоцветы, купальницы и лютики, натирать ими вымя коров, чтоб жирнее было молоко, сыпать их на порог и ступени своих жилищ, преграждая путь неведомому, дабы не просочилось оно в привычный, ведомый мир, дабы закрыли цветы все щели, сквозь которые удача могла бы покинуть дом в ночь костров Белтайна.
От Килларни до Трали — двадцать миль; от долины — тридцать. Даже в молодые годы у Нэнс, привычной к долгим пешим переходам, дорога заняла бы целый день — от рассвета до заката.
Смеркалось. Дневные звуки стали глуше, и к голосу кукушки в темнеющей дали присоединился стрекот сверчков. Нора тихонько заплакала. Телега подпрыгивала на ухабах, и наручники звякали на кистях рук.
Господь с нами, думала Нэнс. Он здесь, рядом. Я все еще различаю его.
Мэри сидела на полу узкой камеры в полицейском участке Килларни, уткнувшись головой в угол каменной стены, и щипала себе руку. С того времени, как полицейский вывел ее из хижины Пег О’Шей, руки у Мэри тряслись и, чтобы унять дрожь, Мэри привыкла себя щипать.
Болела голова. Девочка проплакала две первые ночи; закрыв лицо руками, все еще испачканными речным илом, она плакала и плакала, пока не вспухли глаза и не одолела усталость. Полицейского, который вел допрос, казалось, смутило столь явное проявление горя. Он дал Мэри свой носовой платок и терпеливо ждал, когда она сможет отвечать.
Но теперь слезы высохли, и плакать больше Мэри не могла. Она взглянула на скомканный платок у себя на коленях и приложила его к лицу. Платок еще хранил запах покупного мыла и курева. Темнело. Маленькое квадратное оконце камеры было под самым потолком, и весь день Мэри следила за пятном солнечного света на стене, завороженная медленным его перемещением. Она закрыла глаза. Со двора полицейского участка доносились мужские голоса, а затем за дверью послышались шаги, гулким эхом отдававшиеся в тюремном коридоре.
Мэри вдруг услышала звяканье отпираемого замка; она ждала, что в камеру опять войдет полицейский, и удивилась, увидев знакомое лицо.
Прежде чем заговорить, отец Хили дождался, пока дверь запрут вновь.
— Добрый день, Мэри Клиффорд.
— Отец…
Священник поискал глазами, куда бы сесть, но не увидев ничего, кроме голого каменного пола, приблизился к Мэри и сел подле нее на корточки.
— Скверное дело…
— Да, отец.
Он помолчал.
— Я слышал, ты дала показания под присягой.
Мэри, кивнув, подтянула к груди коленки. Она стеснялась своих грязных ног, испачканного подола юбки.
— У меня хорошие новости. Королевский обвинитель собирается сделать тебя главной свидетельницей.
Мэри охватила паника — от страха у нее даже во рту пересохло.
— Главной свидетельницей?
— Ты понимаешь, что это означает?
— Нет, отец.
— Это означает, что с тебя хотят снять обвинение в предумышленном убийстве, если ты станешь свидетельницей. Если ты расскажешь суду — присяжным и судье — о том, что ты видела. И что делала.
— Я не желала ему смерти, отец. — Она бросила взгляд вниз — на носовой платок в ее руках, на крохотные синяки на внутренней стороне запястий.
— Взгляни на меня, Мэри. — Лицо отца Хили было серьезным и хмурым. — Все, что тебе понадобится, — это присягнуть и рассказать суду то, что ты говорила полицейским. Сведения, в правдивости которых ты уже поклялась. И постараться как можно лучше ответить на вопросы.
Мэри лишь моргала, глядя на него.
— Если ты будешь свидетельницей, обвинение с тебя будет снято. Понимаешь? Ты сможешь вернуться домой, к отцу с матерью.
— Меня не повесят?
— Нет, тебя не повесят.
— А Нору? Нэнс? Их повесят?
— Сегодня их отправили в Беллималлен. — Священник шевельнулся, перенося вес на другую ногу и поддергивая брюки. — Ты понимаешь, что Михял Келлигер не был эльфом, ведь так, Мэри? Это был просто маленький мальчик, страдавший слабоумием, и жертвой он стал вовсе не фэйри, а невежества собственной бабки и ее знакомой старухи. И был он ими не изгнан, а убит. Это тебе понятно?
Мэри стиснула зубы, борясь с внезапно подступившими слезами. Она кивнула.
Отец Хили, понизив голос, продолжал:
— Бог уберег тебя, Мэри. Но преступление, совершенное Норой Лихи и Нэнс Роух, должно послужить тебе уроком. Молись за души их и за душу убиенного Михяла Келлигера.
— А смогу я уйти в Аннамор?
Отец Хили, болезненно поморщившись, встал.
— Ты оттуда родом? — Он потер затекшую ногу. — Только после окончания следствия. Ты поедешь со мной в Трали. Королевский обвинитель и стряпчие захотят пообщаться с тобой. Тебе есть где остановиться в этом городе? Какие-нибудь родственники?
Мэри покачала головой.
Помедлив, священник сказал:
— Я подумаю, что можно будет сделать, чтоб помочь тебе в этом. Найти место, где ты могла бы жить и питаться в уплату за твою работу в течение нескольких месяцев. А когда все окончится, тебя отпустят и ты будешь свободна. Поняла?
— Спасибо, отец.
Отвернувшись, он громко постучал в дверь, и тут же раздался топот сапог. Когда ключ в замке повернулся, отец Хили опять взглянул на Мэри:
— Благодари Господа Бога, девочка. Только Его милость спасла тебя. За тобой я приеду завтра.
И он исчез.
Мэри глядела на грязные свои руки. Сердце ее колотилось. Я свободна, думала она, ожидая, что вскоре наступит облегчение.
Но оно не наступало, Мэри так и сидела, щипля себя за кожу.
Как отщипывают корку, чтобы выпустить дьявола.
До Трали они добрались уже в сумерках. Нэнс съежилась, вжавшись в сиденье, при виде города, такого кипучего, делового, с нарядными домами на набережной. Почтовые дилижансы с едущими стоймя джентльменами громыхали по мостовой среди толп прислуги, торговцев и неизбежных попрошаек. Вдова была безучастна и лишь изредка поворачивала голову, чтобы поглядеть на город. Лишь когда их подвезли к каменным воротам Беллималена, она впервые глянула на Нэнс, и во взгляде ее был ужас.
— Нам отсюда не выбраться, — шепнула она, вытаращив глаза.
— Разговоры запрещаются! — прервал ее полицейский.
И тут Нэнс испугалась. Они прошли в ворота, и воздух сразу стал сырым и плотным. Тяжелая мрачная тень от высоких стен давила, бросая в дрожь.
Каменные пороги, железные решетки. В тюрьме было темно, и от ворот по коридорам их вели при свете фонаря. Чувствуя горечь во рту, Нэнс думала о своем бохане, о Море, которая ждет ее с полным выменем.
Тюремщики первым делом взвесили Нору, после чего, посовещавшись, потащили ее куда-то по темному коридору. Нора оглянулась через плечо, в ужасе разомкнула губы, пытаясь что-то произнести, прежде чем ее поглотит тьма. И тут же Нэнс почувствовала, как чужие руки, решительно взяв ее под локоть, толкнули к измерительной рейке.
«Энн Роух. Возраст неизвестен. Четыре фута одиннадцать дюймов. Девяносто восемь фунтов. Волосы седые, глаза голубые. В числе особых примет — глаза с поволокой; увеличенные суставы больших пальцев рук; передние зубы; шрам на лбу. Католичка. Нищая. Обвиняется в предумышленном убийстве».
Женщины в камере Нэнс были молчаливыми и грязными. Они лежали на соломе, наваленной на каменный пол, и таращили глаза в темноту. Одна, рябая, точно осыпанная щебенкой, все время что-то бормотала, изредка покачивая головой, словно не веря своей неволе.
Ночью Нэнс разбудил пронзительный крик, и, когда пришел стражник с фонарем узнать, из-за чего шум, она увидела, что бормотунья, с размаху бросившись на стену, рассекла себе голову о камень. Стражник увел женщину. Когда они ушли и камера вновь погрузилась во тьму, из угла камеры донесся голос:
— Вот и хорошо, что увели ее.
Наступило молчание, потом отозвалась другая женщина:
— Помешалась она.
— С кипятком баловалась, — заметила первая. — За это и сюда попала. Ребеночка своего решила сварить, как картошку.
— А тебя за что взяли?
Снова наступила пауза.
— Побиралась я. Ну а тебя?
— Торфа немножко стибрила.
— За пьянку.
— А ты за что, старая? Нарушение общественного порядка, а? — ехидно фыркнул голос.
Нэнс молчала с колотящимся сердцем. Она закрыла глаза, не пуская в них тьму, закрыла уши — чтобы не пустить в них эти безликие, неизвестно чьи, долетавшие из тьмы голоса. Она представила себе реку в разгар лета, ее текучий поток. Она воображала себе зеленый отсвет мха на берегу, плети ежевики, ягоды, наливающиеся сладким соком, яйца в потаенных птичьих гнездах и клювики, осторожно разбивающие скорлупу. Она воображала себе всю эту кипучую жизнь, что протекает вне тюремных стен, жизнь неувядаемую, непобедимую, и, воскрешая в памяти картины этой жизни, наконец уснула.
Серый утренний свет скользнул по стене. Ночь не принесла Норе ни покоя, ни отдыха: заснуть мешала духота и ощущение присутствия других людей: чужой кашель, стоны и непонятное шебуршение наполняли сердце ужасом. Утро стало передышкой после непроглядного мрака, в котором она проплакала всю ночь. Протерев глаза, Нора увидела, что в крохотной камере, кроме нее, еще семь женщин и что почти все они спят. Нэнс среди них не было.
Одна девушка, черноволосая, с ранней проседью, спала рядом с Норой, прислонив голову к стене. Другая растянулась возле ее ног и храпела. Обе девушки были очень худые, с грязными ногами.
Кроме Норы, не спала только одна женщина. Бесцветная, с серыми волосами, эта женщина сидела, поджав под себя ноги, и очень внимательно разглядывала Нору. Поймав Норин взгляд, она подползла к ней поближе. Нора поспешно села.
— Мэри Фоли, — представилась женщина. — Как спалось?
Нора одернула на себе тюремную дерюгу.
— Я знаю, за что тебя забрали. Ты ребенка убила, — сказала женщина, обдав Нору несвежим дыханьем. — Тебе бы со священником поговорить. Ведь за такое женщин нынче вешают. — Наклонив набок голову, женщина окинула Нору хладнокровным взглядом. — Джоанну Ловетт еще месяца не прошло, как перед тюрьмой повесили за то, что мужа своего порешила. Как рыбка на леске болталась: туда-сюда, ну чисто рыбка!
Нора молча глядела на нее.
— Я сюда наведываюсь чаще, чем матрос к непотребной девке, — сказала женщина. — Я здесь все знаю.
— Я его не убивала.
Мэри улыбнулась:
— А я к чарочке отродясь не притрагивалась. Это дьявол мне в глотку льет прямо из бутылки. — Она отодвинулась, сев на пятки. — Изводница, что ли?
Нора мотнула головой.
— Так отчего твой ребенок помер?
— Это вовсе и не ребенок был.
Мэри Фоли вскинула брови.
— Это был подменыш.
Мэри осклабилась:
— Ну, ты и полоумная. Хотя лучше уж полоумной быть, чем совсем без ума. Вот про эту знаешь? — Она указала пальцем на храпевшую девушку. — Мэри Уолш. Хотела скрыть, что родила. Получит месяца три, если не вменят ей еще и оставление ребенка в опасности. Тогда срок больше будет. Вот ведь лихо как пришлось!
Нора глядела на молодую девушку, вспоминая Бриджид Линч, ее окровавленные ляжки. Долгожданного ребенка, зарытого бог знает где.
А подменыша похоронили у Дударевой Могилы. Десять дюймов земли над маленьким тельцем.
— А эта вот, с клеймом на лице, Мойнахан. Себя убить пыталась. — Мэри шмыгнула носом и вытерла его тыльной стороной руки. — Утопиться хотела. Болталась на воде как поплавок. Ну, ее и выловили.
Нора взглянула на веснушчатую девушку, на которую показывала Мэри. Та спала в углу, свернувшись калачиком, положив под голову руки.
— Сколько их здесь таких, искупавшихся — смех берет, ей-богу. Камни привязывать надо, если топиться надумала. Нет, я так тонуть не хочу. По мне тонуть — так только в бутылке. А потом, те, кому петля суждена, — она ткнула себя в грудь, — воды не боятся!
Глава 19 Мята
СОРОЧКА ЖАЛА МЭРИ ПОД МЫШКАМИ, она чувствовала, что ворот промок от пота. В таких больших и красивых зданиях, как здание суда в Трали, она сроду не бывала, но, казалось ей, вот-вот лишится чувств от жары, спертого воздуха и страха, источаемого всеми теми, кто стоял за зубчатым барьером, негодуя или обличая скверну этого мира. Его жестокость. Побои, воровство, грабеж и насилие.
Мэри искала глазами отца Хили. Он привез ее в суд из дома купца, в семье которого она провела последние три месяца, но народу было так много, что она потеряла священника из виду.
«Я выросла, — думала Мэри, проводя пальцами по натянутым швам. — Первое, что я сделаю, когда вернусь домой, я распорю одежду и выпущу швы, чтоб было посвободнее».
Ей хотелось сжечь эту одежду. Сжечь юбку, и блузку, и платок, и все, что было на ней, когда она пошла тогда с вдовой и осталась в ее хижине. Бросить в огонь и это новое платье, которого Михял даже не касался. Как ни терла она эту одежду, стирая ее по приезде в Трали, все равно она пахла мальчиком, его мочой, его слюнями, пахла бессонными ночами, когда он плакал, уткнувшись ей в грудь мокрым ртом. Пахла самодельным мылом. Мятой. Темным речным илом.
Мэри украдкой разглядывала джентльменов, принесших присягу. Все в черном, с подстриженными бородками, они невозмутимо сидели среди возбужденной толпы, собравшейся послушать приговор арестантам.
Отцу Хили и Мэри пришлось долго проталкиваться в передние ряды. Люди кружили вокруг судейских, кидались к ним темной массой, тянули за рукав, взывая к справедливости. Здесь же стояли и судебные репортеры, бойкие, остроглазые, некоторые из них посасывали карандаш. Мэри сделала глубокий вдох. Ладони ее были влажными от волнения.
Один из присяжных, встретившись с ней глазами, улыбнулся ей доброй улыбкой. Мэри поспешно перевела взгляд на кресло, где сидел судья — достопочтенный барон Пеннифатер. Вид у него был усталый.
В конце всей этой длинной череды слов ее будет ждать Аннамор. Вот о чем ей надо помнить. Надо будет ответить на вопросы, рассказать, как страшно ей было видеть все те ужасные дикие вещи, которые они творили с мальчиком. Как пугали ее все эти рассказы о фэйри, каким непонятым ей все казалось. Как боялась она Господа Бога, как молилась, чтоб Господь простил ее.
Прости меня, Господи! За то, что не воспротивилась — промолчала, ничего не сделала, не бросилась в воду, чтоб ударить вдову, чтоб выхватить, отнять у нее ребенка и унести его домой, к ее братьям и сестрам. Они бы стали ухаживать за ним, любить его, думала она. А то, что он плакал и кричал бы от голода, их бы не смутило. Они сами нередко плакали от голода. А в доме, где полно детей, одним больше — не велика беда.
Мэри вздрогнула. Шум в зале стих. Но в дверях, где по-прежнему теснились люди, слышались приглушенный гул разговоров и перешептывания. Публика вытягивала шеи, потому что в зал ввели Нэнс и Нору; кисти обеих были стянуты наручниками.
Месяцы заключения сильно переменили женщин — они выглядели похудевшими. Нэнс, казалось, одряхлела. В тюремной одежде она словно усохла, сморщилась, стала еще меньше ростом. Ее седые волосы, давно не мытые, приобрели желтоватый оттенок, плечи сгорбились. Подслеповатыми, затуманенными глазами она смущенно оглядывала зал, явно робея перед этой толпой.
Позади нее шла плачущая Нора. Вдову было не узнать. Куда девалась вся самоуверенность, ее упрямо вздернутый подбородок? Запавшие бледные щеки состарили ее на несколько лет. Резче обозначились морщины на лбу. Несмотря на жару в зале, Нору била дрожь.
Наверное, их решат повесить, подумала Мэри, и живот ее свело от страха. Ведь и она могла бы стоять с ними рядом.
Хотелось убежать из зала. Как говорить ей перед всеми этими людьми? Перед нарядными, дорого одетыми мужчинами, перед судьей, приехавшим из самого Дублина? Она ведь всего только девушка с болот, с земли, где только торф, и камыши, и черный ил, а под ногами не булыжники, не дощатый тротуар, а лишь трава, пыль и глина.
Обвинитель взглянул на Мэри, пригладил, откинув со лба, волосы; лоб его блестел от пота. Мэри почувствовала, что ноги у нее подгибаются.
— Занесите в протокол, что в ходе слушания дела по обвинению Гоноры Лихи и Энн Роух в умышленном убийстве суд вызывает в качестве первой свидетельницы Мэри Клиффорд из Аннамора.
Мэри поднялась на свидетельскую трибуну. Ей передали Библию, и она поцеловала ее, крепко сжав руками кожаный переплет.
— Узнаете ли вы арестованных, Мэри Клиффорд?
В море обращенных к ней лиц Мэри различила наконец длинное лицо священника. Он встретился с ней взглядом и кивнул.
— Это Нэнс Роух. И Нора Лихи, у которой я жила в служанках.
— Расскажите, пожалуйста, суду своими словами, Мэри, как вы попали в прислуги к миссис Лихи.
— Миссис Лихи подошла ко мне на ярмарке, где нанимают работников в Килларни в ноябре. Она предложила мне место, сказав, что у нее есть внук, и она станет платить мне за то, чтоб я его нянчила и помогала ей со стиркой, готовкой и дойкой.
— Дала ли она вам каким-то образом понять, что ребенок увечный?
Мэри замялась:
— Вы спрашиваете, сказала она, что он изувеченный?
Обвинитель слегка улыбнулся:
— Да, именно такой вопрос я задал.
Мэри посмотрела на Нору. Та глядела на нее, чуть приоткрыв рот.
— Нет, сэр, этого она не сказала.
— Можете ли вы описать, как выглядел Михял Келлигер, когда вы впервые его увидели?
— Он был в доме с соседкой, и я испугалась, когда на него глянула. Таких детей я еще не видала. «Что с ним?» — спросила я, и миссис Лихи ответила: «Он слабенький просто, вот и все».
— Можете ли вы сказать, что она вкладывала в слово «слабенький»?
Мэри сделала глубокий вдох. Руки ее дрожали.
— Он издавал странные звуки и, хоть был уже в том возрасте, когда дети говорят, не говорил ни слова. Миссис Лихи сказала, что он и ходить не может. Я спросила, заразно ли это, и она ответила: «Нет, он же просто слабый, а это не заразно».
— Называла ли миссис Лихи мальчика иным словом, нежели «внук»?
Мэри вновь взглянула на Нору. Глаза у той были красные.
— Она говорила, это сын ее дочери.
— Вы клятвенно заверили суд, что, несмотря на то что Гонора Лихи представила вам мальчика как своего собственного внука, со временем она убедила себя в том, что он вовсе не ее внук, а… — королевский обвинитель сделал паузу и повернулся лицом к присяжным, — подменыш. Это так?
— Да. Она думала, что он подменыш. Были и другие, что верили в это.
— Можете вы объяснить суду, в каком смысле вы называете ребенка подменышем?
— В том смысле, что он фэйри.
В толпе послышался смех, и Мэри охватил стыд. Она почувствовала, как к щекам приливает кровь, как пот выступает под мышками. Вот она кто для них всех — глупая, неотесанная девчонка, что боится собственной тени и потеряла голову от страха. Вспомнилось унижение, испытанное ею, когда, в ответ на просьбу констебля подписать данные под присягой показания, она, неловко держа перо, вывела на документе кривой крестик.
— С каких пор миссис Лихи стала считать своего внука фэйри?
— Она поверила, что он подменыш, когда это сказала Нэнс Роух.
— А когда это произошло?
— В новогодье. Или в декабре. В Новый год мы впервые отнесли мальчика к Нэнс для лечения.
Мэри точно ударили — в толпе она вдруг увидела нескольких жителей долины, и среди них Дэниела и Шона Линчей, глядевших на нее с каменными лицами.
— Можете объяснить нам, Мэри, почему вы отправились к Энн Роух?
— Она сама пришла к нам. — Мэри замялась. — Это еще до Рождества было. Я вышла подоить, а когда вернулась, Нора Лихи била Михяла. «Поганец зловредный!» — приговаривала она. И била!
Зал загудел.
— Она била его?
— Его рука запуталась у ней в волосах, и ей стало больно. «Он же не нарочно!» — сказала я, и миссис Лихи сказала, что сходит за священником для мальчика. Но вернулась вдова не со священником, а с крапивой в переднике. Она опустилась на пол перед мальчиком и стала стегать его крапивой. «Ему же больно!» — сказала я, но она меня не слушала. Тогда я выхватила у нее крапиву и бросила ее в огонь и побежала за помощью к Пег О’Шей.
— А объясняла как-нибудь Гонора Лихи, зачем она решила стегать крапивой Михяла Келлигера? Думаете, она намеренно пыталась причинить ему боль?
Мэри заколебалась. Смех теперь стих, и в зале царила напряженная тишина.
— Не знаю.
— Говорите погромче, пожалуйста.
— Не знаю.
— Каким образом это происшествие привело к соучастию Энн Роух?
Мэри облизнула губы. Отец Хили не сводил с нее глаз.
— Пег велела мне сходить к реке за щавелем для мальчика. Я пошла, а на обратном пути подвернула лодыжку и не могла идти. И тут ко мне подошла женщина, это и была Нэнс Роух. Она привела меня к себе в хижину — полечить лодыжку, и я рассказала ей о том, что делала миссис Лихи. «Я должна поговорить с этой женщиной», — сказала она, и мы вернулись к миссис Лихи с ней вместе, и она увидала Михяла.
— И что сказала Энн Роух Гоноре Лихи, увидев мальчика?
— Сказала, что это существо по своему рождению может быть фэйри.
— И как отнеслась миссис Лихи к тому, что услышала?
— По-моему, у нее как камень с души свалился.
— Скажите нам, Мэри, почему, как вы считаете, почтенная прихожанка, уважаемая женщина, незадолго перед тем потерявшая добропорядочного мужа, решила прислушаться к мнению Энн Роух — женщины, как будет вскоре доложено суду, неимущей, незамужней и, согласно всем свидетельствам, в этих местах чужой, пришлой и не имеющей никакого веса и влияния?
Мэри недоуменно глядела на юриста, приоткрыв рот. Над губой ее выступили капельки пота.
Обвинитель откашлялся.
— Объясните нам, пожалуйста, Мэри, почему миссис Лихи послушалась такой женщины, как эта Энн?
Мэри взглянула на Нэнс. Та сгорбилась у загородки. Лицо ее было хмуро. Но, услышав свое имя, она выпрямилась и опасливо взглянула на Мэри.
— Потому что эта женщина с Ними знается.
— С ними?
— С добрыми соседями. С фэйри. — Мэри ждала новых смешков, но их не было. — Они ей знание дали, травам обучили. Она сказала вдове, что сможет прогнать из него фэйри.
Краем глаза Мэри уловила движение в публике. Стоявший репортер принялся быстро что-то записывать.
— Обратимся теперь к вашим письменным показаниям. Расскажите нам, пожалуйста, каким именно образом две эти женщины пытались выгнать из мальчика фэйри и какое участие в этом принимали вы, если такое участие имело место.
Мэри побледнела:
— Я делала только то, что мне велели делать. Я же не хотела лишиться жалованья.
Обвинитель улыбнулся:
— Понятно. Вы здесь не в качестве подсудимой.
— Они… мы… пытались сперва выгнать из него фэйри травами. Капали ему в уши мяту, натирали ступни другой травкой.
— Вы знаете, какой именно травкой? Не наперстянкой ли?
— Наперстянку ему давали потом. Когда мята не подействовала. Миссис Лихи послала меня к Нэнс опять. «У мальчика все по-прежнему», — сказала я, и нам велели тогда прийти опять, и тогда-то они… мы дали Михялу наперстянку.
— Когда это произошло?
— В январе, сэр.
Обвинитель обратился к судье:
— Суду стоит обратить внимание на то, что наперстянка, Digitalis purpurea, весьма ядовита.
Он повернулся к Мэри:
— Как по-вашему, знали ли обвиняемые, давая Михялу Келлигеру наперстянку, что дают ему вещество, способное вызвать смерть или же болезнь?
Послышался сдавленный возглас. Нора поднесла к лицу руки.
— Я знала, что наперстянка ядовита, и сказала это. Но Нэнс сказала: «Это сильное растение», — а я знала, что наперстянка эта… — Мэри запнулась. — Говорят, лусмором фэйри владеют, и я подумала, что она мальчика вылечит. Но теперь я знаю, это только суеверие.
— Опишите, пожалуйста, как давали наперстянку Михялу Келлигеру.
— Его купали в настое. Сок на язык лили. А когда его трясти начало и изо рта пена пошла, нам было велено положить мальчика на лопату и вынести его за порог со словами: «Если ты из фэйри — прочь!»
Публика опять возбужденно загудела. Судебный репортер что-то лихорадочно строчил. Мэри вытерла вспотевшие ладони о юбку.
— В ваших показаниях, Мэри, вы утверждали, что наперстянка оказала на мальчика вредное воздействие в дни, последовавшие за ее применением. Вы сказали, что боялись тогда за его жизнь.
Перед ее глазами вновь явился Михял. Слабый свет гаснущего очага освещал дрожащее тельце на матрасе рядом с ней и безжизненно свесившуюся головенку. Вспомнилось прикосновение его языка к пальцам, когда она очищала его рот от рвоты, чтоб не задохнулся.
— Да, после я боялась, что он помрет, в нем ни вода, ни еда не держались. — У Мэри вдруг защипало в глазах, и она заморгала, прогоняя слезы. — И трясло его так сильно, сэр, что я думала, помрет он.
— Наверно, было тяжело это наблюдать. Миссис Лихи тревожилась так же, как вы?
Нора теперь плакала не таясь.
Боится, подумала Мэри.
— Миссис Лихи была счастлива, сэр. Она думала, что вскоре получит назад внука. «Это не грех, если он из фэйри» — так она сказала, но, когда он не умер, она сходила к Нэнс, и они решили отнести Михяла на реку.
— Это было новым «лечением»?
— Да, сэр. На следующее утро мы с миссис Лихи пошли к Нэнс. Мне было велено отнести туда Михяла, а потом мы снесли его на реку, чтобы окунуть в воду на пограничье. «Место, где встречаются три речных потока, — сказала Нэнс, — дает воде особую силу, и вода эта изгонит фэйри». — «Вода-то больно холодная», — сказала я, но дело было решено, и я, хоть и боялась, сделала, как мне велели. Уповаю, что Господь смилуется и простит меня.
— Что было потом?
— Мы купали его в реке, три утра кряду. — Мэри помолчала. По спине ее тек пот. — И в последнее утро Нэнс и миссис Лихи подержали его под водой подольше, чем прежде.
— И именно тогда Михял Келлигер и умер?
— Да, сэр.
— Что вы сделали, когда увидели, что подсудимые топят ребенка?
Нэнс подалась вперед за перегородкой, губы ее двигались, она что-то тихо бормотала.
— Я тогда не знала, умер ли он на самом деле. Я думала только о том, что вода очень холодная, и не хотела, чтобы он простудился. А потом я увидела, что он не двигается, и я подумала: «Они его убили», и тогда на меня напал страх.
— Сказали ли вы что-нибудь подсудимым, когда поняли, что ребенок утонул?
Мэри ответила не сразу. Сердце прыгнуло в горло.
— Наверно, сэр.
— В показаниях вы поклялись, что это так.
Поднятое из реки тело. С него стекает вода, и кожа мальчика от этого кажется перламутровой, с пальцев у него капает, и капли поблескивают на свету.
— Так что же вы им сказали, Мэри?
— Я сказала: «Как же вы пред Господом предстанете после этого!»
Толпа тотчас отозвалась гулом.
— Подсудимые как-то ответили вам на это?
Мэри кивнула:
— Нэнс сказала: «На мне нет греха».
— Было ли сказано еще что-нибудь?
— Не знаю, сэр.
— Не знаете?
— Меня тогда страх взял. Я повернулась и побежала к Пег О’Шей — рассказать ей, что мальчика убили. Я за себя боялась.
— Мэри, прежде чем отвечать на вопросы защиты, не могли бы вы рассказать мне, трудно ли было нянчить Михяла Келлигера? Считаете ли вы, что он был обузой для своей бабки?
— Он же не виноват в этом!
— Конечно, но являлся ли он обузой для вашей хозяйки? Был ли он трудным, капризным ребенком?
Ночи непрерывного плача. Громкие, пронзительные крики. Голова, бьющаяся о земляной пол, о ее пальцы, когда она пыталась успокоить его, освободить ему нос, чтобы дышал.
— Да, — прошептала Мэри. — Да, он был обузой.
— Хотела ли Гонора Лихи избавиться от него?
— Она хотела, чтоб фэйри убрался. Хотела вернуть внука, сэр. Мальчика, который не будет так кричать и мучить ее.
Как только обвинитель вернулся на свое место, в зале возобновились шум и разговоры. Публика больше не разглядывала Мэри, и девочка с облегчением вытерла рукавом потную шею. Она посмотрела на отца Хили: он одобрительно кивнул.
Спустя минуту общего шума поднялся защитник. Перекрикивая гвалт, он представился мистером Уолшем и выждал несколько мгновений, пока прекратятся разговоры.
Когда установилась полная тишина, он заговорил — отчетливо и громко, так что слова его долетали до всех в зале.
— Мэри Клиффорд, считаете ли вы, что Гонора Лихи и Энн Роух отнесли Михяла Келлигера на Флеск с целью убить его путем утопления?
Мэри смутилась:
— Знала ли я, что его хотят убить?
— Считаете ли вы, что подсудимые изначально намеревались утопить ребенка, когда решили окунуть его в реку?
— Я не понимаю, сэр.
Мистер Уолш окинул ее холодным взглядом:
— Считаете ли вы, что с самого начала целью их было убийство мальчика?
Сердце Мэри ёкнуло.
— Я не знаю.
— Не знаете, хотели ли миссис Лихи и Нэнс Роух убить мальчика?
— Думаю, они желали избавиться от подменыша.
— Простите мне мою настойчивость, Мэри, но, раз они собирались избавиться от, как вы его называете, «подменыша» и раз вы знали, что это означает утопить мальчика, почему вы не воспротивились этому окунанию? Почему вы не пожаловались вышеупомянутой соседке, как сделали, увидев миссис Лихи, стегающую крапивой Михяла? Почему не призвали на помощь священника?
— Я не думала, что они хотят убить Михяла. — Мэри и сама услышала, как неуверенно это прозвучало. Руки ее стали дрожать, и она уцепилась за юбку.
— Ну а тогда зачем окунать в реку маленького беззащитного ребенка?
Мэри бросила взгляд на скамью подсудимых. Обе — и Нора, и Нэнс — глядели на нее; растрепанные волосы обеих висели жидкими лохмами. Нора дрожала как в лихорадке.
Мэри сделала глубокий вдох, и материя тесно обтянула ее грудную клетку с бешено бьющимся сердцем.
— Чтобы вылечить его. Выгнать из него фэйри.
Мистер Уолш улыбнулся:
— Благодарю вас, Мэри.
Глава 20 Бузина
НОРЕ КАЗАЛОСЬ, что она уже никогда не согреется. Она видела, как, несмотря на утренний час, лбы судейских блестят от пота, видела, как эта громадная, шаркающая ногами толпа людей обмахивается и вытирает платками лица, а сама дрожала, точно вокруг мела пронзительная вьюга.
В который раз она спрашивала себя, не сходит ли с ума. Время, казалось, перестало идти размеренно и последовательно, оно металось — то вперед, то назад. Процесс мучительно полз от одного дня заседания к другому, а Нора стояла с разрывающимся мочевым пузырем, не в силах удержать в памяти имя очередного свидетеля. Едва заканчивал один, как его сменял другой.
Во всех подробностях ей запомнились только показания Мэри Клиффорд. Она стояла, дрожа, за перегородкой, и вновь видела девочку, переминавшуюся с ноги на ноги под градом вопросов. Взгляд ее, когда Нора встречалась с ней глазами, казался твердым. В какой-то миг Нора готова была поклясться, что это ее рыжеволосая дочка целует Библию и под присягой свидетельствует против нее.
Это моя мать убила моего сына.
Меня повесят, внезапно пронеслось в мозгу, и Нора ухватилась за свои наручники. Сквозь монотонный голос королевского обвинителя она слышала, как стучат ее зубы.
Нора старалась сосредоточиться и вслушаться в то, что говорит суду, жестикулируя, новый свидетель. Тот самый полицейский, что ее арестовал. Она заметила, что на суд он явился побрившись, и представила себе, как он стоял утром перед осколком зеркала, с бритвой и ремнем для ее правки, в то время как она валялась в камере, расковыривая себе кожу на подошвах. Борясь с тошнотой. Мучимая тревогой. Женат ли он, есть ли кому согреть ему воду для бритья? Подать завтрак? Нора представила себе, как этот полицейский тщательно соскребает бритвой щетину с горла, но, почувствовав, как сжалось собственное горло от приступа тошноты, уставилась в пол.
— Расскажите мне, — обратился обвинитель к констеблю, — в каком состоянии находилась Энн Роух, когда вы ее арестовывали?
— Войдя в дом, я застал подсудимую на четвереньках. Она выгребала золу из очага. Я решил, что женщина не в себе, и сказал: «Энн Роух, знаешь ли ты, зачем я здесь?» Она не ответила. Я сообщил ей, что у меня имеется предписание арестовать ее, и спросил, известно ли ей, где находится тело Михяла Келлигера, так как она обвиняется в том, что утром утопила его. Она ответила: «Добрые соседи забрали Михяла и оставили вместо него фэйри», и только когда я спросил, где тело фэйри, она отвела меня к месту захоронения.
— Где обнаружили тело?
— В безлюдном месте, которое местные зовут Дударевой Могилой. Тело зарыли неглубоко. Оно отчасти проглядывало из земли.
— Подсудимая выглядела огорченной?
Констебль откашлялся.
— Мне показалось, ее удивил арест миссис Лихи. И она спросила, не было ли при ней маленького мальчика. Когда я поинтересовался, какого мальчика имеет она в виду, Энн Роух ответила: «Михяла Келлигера».
— Она это сказала после того, как сама же привела вас к месту захоронения и телу убитого?
— Так точно, сэр.
— Было ли что-нибудь еще примечательное в том, как выглядели или вели себя подсудимые во время ареста?
— Одежда миссис Лихи была совершенно мокрой. Насквозь. Из этого мы заключили, что утром она, так или иначе, входила в воду. И пахло от нее речной тиной.
— А одежда Энн Роух тоже была мокрой?
— Нет, сэр. И я подумал, что это странно, учитывая, что обе они — Мэри Клиффорд и миссис Лихи — утверждали, что и она находилась в воде, но потом подсудимая пояснила, что окунала ребенка — подменыша, как она его называла, — сняв с себя одежду.
У Норы ныли все кости. Каждую ночь воображала она свой покинутый дом в долине, слышала скрип двери и видела, как входит в хижину Михял, как ищет ее. Она думала о том, в какой одежде он будет. Во что обрядили его фэйри? Возможно, он явился голым, и она представляла себе, как внук заползает под Мартинову куртку, сворачивается калачиком, ежась от холода на соломенном матрасе или возле остывшего очага, как ждет ее возвращения. Она видела перед собой его круглое личико в окне, воображала, как стоит он во дворе, как ветер шевелит его волосы, а он вглядывается в даль, смотрит, не покажется ли на склоне бабушка, идущая по дороге.
Как же ему, должно быть, страшно, думала она. Очень может быть, что он вернулся и ему страшно. Ведь он же совсем маленький.
А что будет, если ее повесят? Останется ли он в ее хижине, пока она не зарастет травой? Или уйдет, будет бродяжничать, бедный, одинокий, пока не исхудает, не станет похожим на то существо, что бросили они в воду?
— Гонора Лихи!
Нора, вздрогнув, подняла голову и прикусила костяшку большого пальца. Весь зал смотрел на нее.
Свидетеля-полицейского уже не было. Обвинитель, защитник и судья выжидающе глядели на нее.
Она поглядела на мистера Уолша, который поторапливал ее нетерпеливым жестом.
— Да?
— Не поцелуете ли вы Библию и не принесете ли присягу?
Нора сделала что полагается. Дрожащими руками взяла Библию, показавшуюся ей очень тяжелой.
— Гонора Лихи, не будете ли так любезны описать нам состояние Михяла Келлигера в то время, как он поступил под вашу опеку.
Нора оглядела зал суда, остановила взгляд на лицах присяжных. Они смотрели на нее с интересом, наморщив лбы.
— Миссис Лихи, вам повторить вопрос? Каким образом вы стали опекать Михяла Келлигера?
Нора повернулась к обвинителю. Кто-то в толпе кашлянул.
— Мы оба стали его опекать — я и муж. Моя дочь скончалась, и ее муж привез ребенка нам. Мальчик был как скелет, и мы боялись за него. Казалось, он оголодал. Он не ходил, но я думала, что это просто от слабости.
— Это было впервые, когда вы увидели внука?
— Я видела Михяла и раньше. Два года назад. Тогда он был здоровым мальчиком. Он разговаривал, бегал. Я собственными глазами видела, что он здоров.
— Миссис Лихи, ваш муж умер вскоре после того, как к вам был привезен Михял, не так ли?
— Он умер в октябре.
— Это ведь явилось большим несчастьем для вас — остаться вдовой с ребенком-калекой на руках?
Мартин с монетами на веках, с тарелкой сухих трав на животе, дым от трав в глиняных трубках, которым обкуривали посеревшую кожу покойного. Мартин, пахнувший небом и долиной, Мартин вдруг схватился за сердце и упал на землю, когда боярышник засветился огнями.
— Миссис Лихи? — Это был голос судьи. — Не будете ли вы так любезны отвечать, когда вас спрашивают?
Обвинитель нахмурился:
— Вам было тяжело заботиться о ребенке-калеке в одиночку, будучи вдовой?
Нора облизнула губы.
— Это было большим несчастьем для меня.
— Мэри Клиффорд сказала, что мальчик был обузой для вас, когда вы лишились мужа. Это правда?
— Да. Он был обузой. Почему я и наняла ее. Чтоб была еще хоть пара рук.
— Миссис Лихи, Мэри Клиффорд также утверждала, что, когда она служила у вас, вы перестали называть внука Михялом и стали говорить о нем как о «фэйри». К тому же она сказала, что вы называли ребенка «оно». Будьте добры, объясните суду, почему вы перестали считать Михяла Келлигера вашим внуком.
Нора замялась:
— Я же видела внука раньше. Он совсем не был похож на того ребенка, которого мне принесли. Поначалу я думала, это от болезни, и пыталась лечить его, но ничего не помогало, а все потому, что мальчик был подменышем.
— Где же, вы полагаете, находится настоящий ваш внук, если ребенок, что был с вами, — это не он?
— Украден. У фэйри он, в их оплоте. Там, где музыка, и танцы, и огни.
По толпе прокатился приглушенный ропот.
Нора закрыла глаза. Под холмом. Там, где боярышник. Унесен волшебным ветром и чародейской травой к пограничью, местам между нашим и иным миром. Унесен прочь от всякой злобы и всех напастей. Не достоин Неба, но и грехов, что ввергают в ад, тоже не совершил. Где угодно. Может быть в воздухе, в земле, в воде…
— Миссис Лихи?
У Норы закружилась голова. Она открыла глаза, и внезапно за морем голов увидела своего племянника Дэниела, — он стоял неподвижно, бледный.
— Миссис Лихи, вам было крайне тяжело держать в доме увечного ребенка. Тяжело и стыдно. Он стал для вас обузой и причинил много горя. Ваша прислуга утверждает, что Михял беспрестанно плакал, что он не мог самостоятельно есть, не мог улыбаться, не умел говорить и… не умел любить. Он не давал вам спать. А ведь вы недавно овдовели, и ваше горе, видимо, не успело притупиться! — Обвинитель сменил тон: — Вас раздражало слабоумие Михяла, миссис Лихи. Возможно, даже злило. Злило до такой степени, что вы не видели ничего дурного в том, чтобы стегать беспомощного ребенка крапивой, которую вы намеренно и с умыслом собирали для того, чтоб она жгла ему кожу!
Нора замотала головой:
— Нет, чтоб заставить ноги его двигаться!
— Это ваше объяснение. Однако крапива не помогла. И тогда, как показала Мэри Клиффорд, вы прибегли к услугам Энн Роух. Обращались ли вы к Энн за ее «лечением» до этого времени?
— Ходила ли я к ней раньше?
— Да, я об этом вас спрашиваю.
— Нет, не ходила.
— Почему же?
— Повода не было. Но мой муж…
Ей вспомнился уголек в кармане Мартиновой куртки. Угли — обереги. Откуда взялся тот уголек? Из какого очага, какого костра?
Трижды обойти дом по солнцу с горящим угольком в руках на счастье. Уголек, брошенный на картофельное поле накануне Иванова дня. Трижды пронести уголек над еще не проклюнувшимися яйцами. Бросить горящий уголек в таз для мытья ног как оберег путешествующему, тому, кто вне дома.
Уголек преграждает путь злым духам.
— Будьте добры, повторите, миссис Лихи, что вы сказали? Суд не расслышал.
— Мой муж ходил к Нэнс. Однажды. С рукой.
— С рукой?
— Она была как лед. Онемела и не двигалась. А Нэнс вылечила ему руку.
— Таким образом, вам было известно, кто она такая, и вы знали, что в округе ее считают знахаркой?
— Я знала, что она ведунья. — Нора почувствовала на себе взгляд Нэнс и внезапно ощутила неуверенность. — Это она сказала, что это фэйри, и предложила его выгнать.
Обвинитель секунд обдумывал сказанное:
— Наверно, вы испытали большое облегчение, миссис Лихи. Беспомощный, тяжелобольной ребенок, от которого одно только горе и беспокойство, ребенок, которого вы так стыдитесь и — о, счастье! Вам говорят, что это вовсе не ребенок, а фэйри. Какое облегчение вы должны почувствовать от известия, что у вас нет перед ним никакого долга! Как легко теперь оправдать собственное отвращение и ужас! Ведь это не ваш внук.
Нора глядела, как картинно вскинул руки королевский обвинитель, обращаясь к присяжным. Те выглядели смущенными. Она лишь покачала головой, не в силах говорить. Им не понять. Они ведь не видели, как страшно изменился ребенок. В нем не было ничего человеческого — в этом похожем на скелет заколдованном тельце, в этих его омерзительных криках. Вот бы теперь очутиться дома, а там ее внук — сын ее дочери, показать бы им его, вернувшегося!
— Скажите суду, миссис Лихи, не было ли между вами договора, что вы заплатите Энн Роух за такое избавление от вашей беды и мучивших вас угрызений совести?
— Она денег не берет.
— Погромче, пожалуйста.
— Нэнс не берет денег. Яйца, куры…
— То есть некую плату она все-таки берет, не правда ли? Так договорились ли вы заранее, миссис Лихи, что она объявит вашего увечного внука фэйри, после чего станет гнать из него фэйри с помощью разных шарлатанских снадобий, ядовитых трав, а в конце концов его утопит, за что вы заплатите ей — едой ли, топливом, чем-либо из насущно ей необходимого?
— Я не…
— Отвечайте «да» или «нет», миссис Лихи.
— Не знаю. Нет.
Единственное, о чем думала Нора, стоя перед королевским обвинителем и слушая его вновь и вновь повторявшиеся вопросы, — это то, что она не владеет больше своим телом. Она не могла унять дрожь, босые ноги на холодном полу сводила судорога, и она с трудом понимала, о чем ее спрашивают и как ей отвечать. Ощутила ли она радость при виде того, как действует наперстянка? Огорчилась ли, когда наперстянка не убила его? Входила ли она в воду в то утро, когда утонул Михял, и, если Нэнс была тогда голой, почему Нора оставалась одетой? Почему она продолжала настаивать на том, что опекала фэйри, хотя уже знала, что тело Михяла найдено? Испугалась ли она и бежала ли с места преступления, узнав, что мальчик утонул, или же утопить его она намеревалась с самого начала?
Обвинитель твердил, что она его убила. У Норы защипало между ног, и она с ужасом почувствовала, как потекло по ляжкам. Закрыв лицо руками, она громко заплакала со стыда.
Публика притихла. Открыв глаза, Нора увидела, что с места поднялся мистер Уолш, лицо его было задумчиво.
— Правда ли, что вы хотели только самого лучшего для находившегося на вашем попечении ребенка, миссис Лихи?
У Норы не ворочался язык. Она открыла рот, но не смогла произвести ни звука.
Мистер Уолш повторил вопрос, словно обращаясь к слабоумной.
— Миссис Лихи, разве не правда, что вы кормили ребенка, когда он очутился на вашем попечении? Что вы обращались за помощью к доктору?
Нора кивнула:
— Да. В сентябре.
— И какое лечение прописал доктор вашему внуку?
— Никакого. Он сказал, что ничем помочь нельзя.
— Должно быть, это сильно огорчило вас, не так ли, миссис Лихи?
— Да. Сильно огорчило.
— Мэри Клиффорд, свидетельница обвинения, сказала, что вы обращались за помощью и к вашему священнику, отцу Хили. Это так?
— Да.
— И какую помощь он вам предоставил?
— Он сказал, что сделать ничего нельзя.
— Миссис Лихи, правильно ли я понял, что после того, как усиленное питание не помогло возвратить мальчику силы и здоровье, после того, как ни доктор, ни священник не смогли вам помочь ни лекарством, ни чем-либо иным, вы обратились за единственно доступным вам видом помощи — к местной лекарке Энн Роух?
— Да, — еле слышно прошептала Нора.
— И когда мисс Роух заверила вас в том, что сможет возвратить вам внука здоровым, нормальным, точно таким, каким вы увидели его, когда два года назад посетили вашу дочь, то это пробудило в вас надежду?
— Да.
— И кто способен упрекнуть вас в этом, миссис Лихи? Разве не надежда толкнула вас к тому, чтоб уверовать в то, что Михял Келлигер — фэйри? Разве не надежда и не страстное желание сохранить жизнь внуку заставили вас помогать Энн Роух в ее попытках лечить?
— Я… я не понимаю.
Адвокат помялся в нерешительности, вытер лоб.
— Миссис Лихи, надеялись ли вы сохранить жизнь Михяла Келлигера?
У Норы все поплыло перед глазами. Она вцепилась в железо наручника. Фэйри не любят железа, промелькнуло в голове. Огня, железа и соли… Боятся холодных углей, и щипцов над колыбелью, и парного молока, если полить им землю в мае…
— Миссис Лихи? — Это был судья. Он наклонился вперед, в голубых с красными прожилками глазах, в низком голосе сквозила озабоченность. — Миссис Лихи, суд спрашивает вас, имеете ли вы что-либо еще дополнительно заявить суду?
Нора поднесла к лицу дрожащую руку. Прохлада железного наручника охладила пылающие щеки.
— Нет, сэр. Ничего, кроме того, что я хотела, чтоб внук мой был со мной. Только это одно я и хотела.
Нэнс слушала, как дает показания человек, которого называли коронером. Из-под аккуратно подстриженных рыжих усов вылетали слова, которых она не понимала.
— Расследованием установлено, что смерть Михяла Келлигера произошла в результате асфиксии, вызванной попаданием жидкости в дыхательные пути с последующим перекрытием доступа в них воздуха. Внешние признаки указывают на утопление. Легкие наполнены водой, в волосах покойного остались водоросли.
Он ни словом не упомянул желтый ирис-касатик на берегу, вдруг расцветший золотом на фоне зелени. Не сказал ничего о том, что могло это означать. Речи не было о силе воды на пограничье, о странном свете, вдруг накрывшем землю до рассвета, когда руки их торопливо вершили свое дело.
— Сколько времени, — спросил обвинитель, — согласно вашей профессиональной оценке, надлежало покойному находиться под водой, чтобы последовала смерть?
Коронер задумался:
— Учитывая, что покойный, по-видимому, был парализован, частично либо полностью, ему для этого могло потребоваться меньше времени, чем обычно. Рискну предположить, что хватило бы трех минут.
— Три минуты непрерывного погружения?
— Так точно, сэр.
— Обнаружены ли вами еще какие-либо находки, о которых вы считаете необходимым сообщить суду в сегодняшнем вашем выступлении?
Коронер шмыгнул носом, подергал себя за ус.
— Имеются следы, указывающие на возможно происходившую борьбу.
— Под следами вы подразумеваете синяки?
— Да, сэр. На груди и шее. Вывод неочевиден, тем не менее. Возникает подозрение, что ребенка удерживали под водой насильно.
Обвинитель сложил вместе кончики пальцев, стрельнул глазами в сторону присяжных:
— Мистер Макджилликадди, вы как профессионал считаете ли, что найденные вами следы указывают на то, что покойный был убит намеренно? Что это была насильственная смерть?
Коронер взглянул на Нэнс и вздернул подбородок. Коротко кивнул:
— Да, сэр, считаю.
Когда очередь дошла до ее показаний, Нэнс была готова. Все это время она ждала возможности высказаться, чтобы в путанице подробностей, клятвенных заверений и перекрестных допросов суду открылась истинная правда. Она стояла перед судом, как стояла бы Мэгги, — выпрямив спину, прищурившись, а когда ей протянули Библию, она с искренним чувством поцеловала книгу. Они не смогут ее обвинить. Она докажет им истинность своего знания, умения лечить.
— Мисс Роух, расскажите суду, как вы зарабатываете на жизнь?
— Я лечу людей.
— Говорите погромче, пожалуйста, суд вас не слышит.
Нэнс перевела дух и попробовала говорить громче. Но в зале было жарко, ей казалось, что воздух давит ей на легкие, и, когда она заговорила опять, в публике поднялся ропот.
— Ваша честь, вы не разрешите подсудимой дать показания с возвышения для свидетелей, чтобы ее было слышно?
— Разрешаю.
Полицейский провел Нэнс к возвышению, с которого раньше другие свидетельствовали против нее. После полутора дней сидения на скамье у стены было странно очутиться так близко к мужчинам в темной одежде и начищенных штиблетах, в которых отражался свет, падавший из окна. Раньше Нэнс видела этих людей как бы в тумане, но теперь могла различить их черты, — сухие губы, седоватые брови, морщинки возле глаз. Некоторые из них, как она поняла, были одного с ней возраста, и она подумала, что могла встречать их и их благовоспитанных родителей, когда девчонкой ездила в Мангертон. Не ее ли руками собрана была та земляника, которую мамаши клали тогда в их розовые ротики?
— Энн Роух, можете ли вы рассказать суду, чем вы зарабатываете на жизнь?
— Я помогаю людям данным мне знанием, а они за это дарят мне подарки.
Обвинитель покосился на присяжных, и Нэнс различила на его губах легкую ухмылку.
— Будьте добры, поясните, что вы называете вашим «знанием»?
— Я владею знанием, как лечить и избавлять от хворей и недугов, и обычных, и тех, которые насылают добрые соседи.
— Можете вы описать различие между этими двумя типами болезней?
— Есть хвори простые, а есть такие, в которых рука добрых соседей видна, их и лечить по-другому нужно.
Обвинитель остановил на ней изучающий взгляд:
— Но, мисс Роух, чем же отличаются одни от других?
Нэнс помолчала, смущенная. Она же уже объяснила ему, что умеет увидеть у больного отметину, оставленную добрыми соседями, и знает, что — простой синяк, а что — необычная опухоль.
— Бывает, построит человек себе дом на Их пути, а бывает, что болезнь его совсем от другого.
— Итак, вы утверждаете, что люди приходят к вам со своими хворями, и вы умеете определить, вызвана ли болезнь вмешательством добрых соседей или же нет?
— Да. Это так.
— И каким же образом вы этому научились?
— Меня обучила этому родная моя тетка, когда я еще девчонкой была.
— А где ваша тетя обучилась всем этим премудростям, где она почерпнула знание о лекарствах от всех болезней и о тайных чарах?
— Когда находилась у добрых соседей.
Обвинитель вскинул брови:
— Добрыми соседями вы называете фэйри?
— Да, добрые соседи — это они.
— Уж простите мое невежество… — в публике раздались смешки, — но почему вы называете их добрыми соседями? Насколько я знаю, они даже не люди.
— Я называю их так из уважения. Они не хотят считаться злыми и тоже желают себе Царствия Небесного, как небось и вы сами желаете, ваша честь!
— Мисс Роух, я знаком с бабьими сказками, но должен признаться, что не верю им. Почему вы думаете, что фэйри и вправду существуют?
— Потому что они забрали мою мать и тетку. Я знаю, что в Них нет лжи… ведь кто, как не они, вызволил меня из Килларни, когда я осталась нищей и без крова? Кто, как не они, указал мне путь в долину, где я прожила больше двадцати лет?
— Вы их видели? Каким образом «указали» они вам «путь»?
— О, я слышала их речи и вправду видела их — в огоньках, на которые шла, а бывало, я слышала, что они танцуют или дерутся.
— Дерутся?
— Да, добрые соседи любят драки, борьбу и пение. Правда, иногда они и озорничают, вредничают. Тогда люди идут ко мне, потому что я знаю способы, как исправить вред от их проделок. Я владею знанием, как вылечить человека, отвести от него удар добрых соседей, избавить его скотину или урожай от порчи или вернуть силу его ногам.
В толпе поднялся шум, и Нэнс увидела, что некоторые перешептываются, прикрыв рот рукой. Значит, слушают. Ободренная, она принялась рассказывать о том, как общаются добрые соседи с миром видимым. Она рассказывала о чудодейственной силе слюны, мочи и навоза, воды из святого источника и из кузни, дырявых и полых камней, сажи и соли.
— Добрые соседи очень боятся огня и железа, и верное средство — это раскаленная кочерга, против такого они бессильны. А некоторые растения, вроде бузины или наперстянки, Они считают своими, но если собрать их так, чтоб фэйри не помешали, то силу этих растений можно обратить против Них же. У бузины вот есть озорство и кросталь[24], так что добрые соседи, бывает, скачут на ее ветвях, но я-то умею из нее худое повыгнать. Я знаю много чего другого, тоже от добрых соседей, но сказать не скажу, не то вся сила из снадобья выйдет, и больше оно никому не поможет.
Окончив свою речь, Нэнс перевела дух и оглядела присяжных. Они смотрели на нее, но разгадать выражение их лиц она не могла. В нем не было высокомерия, как в лице обвинителя, не было прежней злобы и настороженности. Гнева и страха тоже не было. Они глядели на нее так, как глядели когда-то те, у кого она просила милостыню, — с жалостью и легким презрением. Сердце у нее упало.
Королевский обвинитель улыбался собственным мыслям.
— Мисс Роух, брали ли вы плату за ваши… м-м… услуги?
— Денег я не беру, иначе утрачу знание и не смогу лечить.
— Но правда ли, что вы принимали от клиентов еду и топливо для очага?
— Да, конечно.
— Утопили ли вы Михяла Келлигера в реке Флеск в понедельник шестого марта за такую плату?
Нэнс нахмурилась:
— Я не топила Михяла Келлигера, нет, не топила!
— Обе, Мэри Клиффорд и миссис Лихи, показали, что вы велели искупать Михяла Келлигера в том месте реки, где встречаются три речных потока. Им надлежало окунать его три раза подряд, по утрам, и в третье утро вы продержали ребенка под водой дольше, чем прежде.
— Так нужно было, чтобы это извести. Прогнать фэйри.
— Не это, миссис Роух. А Михяла Келлигера.
— Он был не простой ребенок.
— Нам это известно. Он был парализован, не мог ни ходить, ни говорить.
— Это был фэйри.
— Вы лечили его?
— Да.
— Но вы не врач. Вы не сведущи в медицине. Вам известны только средства от всех болезней. Старые народные средства. Это так?
Нэнс почувствовала, как в груди закипает гнев. Сколько можно задавать ей одни и те же вопросы! Разве не объяснила она все яснее ясного?
— Я владею знанием. Знаю, как пользовать травами и заговаривать!
— Миссис Лихи сказала, что вы заставили ее поверить в то, что способны вылечить мальчика, мисс Роух. Если вы владеете знанием, почему же Михял Келлигер умер? Почему вы не смогли его вылечить?
Что в нутре сидит, того не вытравишь.
— Умер не Михял Келлигер, — после паузы сказала она.
— Вы действительно так думаете, мисс Роух?
Нэнс опустила взгляд и встретилась глазами с обвинителем.
— Тот мальчик давно умер.
В публике раздались возгласы. Нэнс заметила, что присяжные ерзают и переглядываются.
— Есть ли у вас что еще сообщить суду?
Нэнс замялась:
— Я сказала всю правду.
— В таком случае все, благодарю вас.
Нэнс препроводили с возвышения обратно на скамью подсудимых, на ее место рядом с Норой. Пока обвинитель произносил заключительные слова, Нэнс поглаживала подушечки своих искривленных больших пальцев, нывших от духоты. Пальцы вспухли и горели, и она сжала руки в кулаки.
Рядом послышалось сдавленное рыдание. Нора, дрожа, глядела, как мистер Уолш пытается успокоить толпу. В зале чувствовалось нервное возбуждение. Она слышала, как судья устало призывает публику к порядку, а один из присяжных послал служителя открыть наружную дверь. Когда в зале потянуло свежестью, по толпе пронесся вздох облегчения.
Нэнс видела, что, несмотря на внешнюю безмятежность, лицо мистера Уолша блестело от пота, и рубашка под сюртуком, по всей видимости, тоже промокла. Он внимательно вглядывался в строгие лица присяжных.
— Этот случай, джентльмены, при всей его исключительности и отталкивающем его характере нельзя причислить к умышленным убийствам. Главный свидетель Короны, Мэри Клиффорд, присутствовавшая на месте преступления в то время, когда оно было совершено, и своими глазами наблюдавшая все, что делали с Михялом Келлигером не только в тот понедельник в марте на Флеске, но и в месяцы, предшествовавшие его гибели, стоя здесь перед вами, клятвенно заверила суд в том, что, по ее мнению, подсудимые не хотели утопить ребенка. Учитывая ее показания, обвинить Энн Роух и Гонору Лихи в умышленном убийстве было бы несправедливо.
Михял Келлигер, джентльмены, лишился жизни, став жертвой суеверия. Я признаю, что обстоятельства этого дела и то, что совершили с ребенком подсудимые, чудовищно. Признаю, что величайшее заблуждение, в плену которого находились эти женщины, внушает ужас. Степень их невежества вопиюща. Однако сбрасывать со счетов обстоятельства убийства тоже было бы неверно. Обвиняемые действовали в убеждении, что ныне покойный ребенок — существо из иного мира, подменыш, если воспользоваться терминологией свидетеля Короны. Энн Роух выбрала место на реке, где, как она считала, обитают фэйри, и купала там мальчика при участии Гоноры Лихи три утра подряд, уверенная в том, что тот, кого она ошибочно считала подменышем, вернется в результате этого в свое сверхъестественное обиталище.
Нэнс вспомнилось, в каком исступлении Нора бросилась вверх по склону, когда они вытащили из воды безжизненное тело подменыша.
«Побегу смотреть, может, он вернулся!» Седые волосы вдовы рассыпались по плечам, она лезла вверх, хватаясь за выступавшие корни деревьев, за мох. «Я должна посмотреть, там ли он!» Шатаясь, оступаясь, она продиралась сквозь папоротники, ломая ветки, круша все, обуреваемая единственным стремлением.
И вспомнилось, как сама она закапывала ледяное, все в мурашках, тело подменыша возле Дударевой Могилы.
— Обе обвиняемые, джентльмены, не умеют писать. В частности, Энн Роух совершенно неграмотна и оторвана от современной жизни. Слова ее, что «ребенок тот давно умер», свидетельствуют о ее закоснелой убежденности в том, что ребенок, которого она пользовала, на самом деле фэйри. К тому же разрешите напомнить вам, что и Мэри Клиффорд, ставшая свидетельницей преступления, поклялась в том, что купали ребенка не из желания убить, а чтобы изгнать из него фэйри. Учитывая это свидетельство, а также прискорбно низкую степень интеллектуального и нравственного развития обвиняемых, как и их пожилой возраст, предлагаю вам снять с них обвинение.
Нэнс глядела, как защитник возвращается на свое место, и к горлу ее подступал страх. Хотелось ответить, нет во мне невежества. Не след говорить этим, что хотели бы меня повесить, будто я знания лишена!
Барон Пеннефатер кашлянул и, выждав, пока в публике восстановилась полнейшая тишина, обратился к присяжным:
— Джентльмены, разрешите довести до вашего сведения, что обвинение в умышленном убийстве может быть переквалифицировано в убийство по неосторожности в том случае, если оно совершено под влиянием каких-либо сильных чувств, однако довод защиты, заключающийся в том, что Михял Келлигер пал жертвой невежественного суеверия, основанием для переквалификации не является.
— Нас повесят, — прошептала Нора. — Они не верят! Они думают, что это суеверие! — Голос ее дрожал, язык заплетался. Сердце Нэнс заколотилось от ужаса.
Судья сделал секундную паузу, изучая лица ждущих его решения людей.
— Совершенно очевидно, что невежественные действия подсудимых изобличают их принадлежность к слою людей, в котором степень моральной деградации возрастает в каждом поколении. Тем не менее в данном деле, по всей видимости, проявилась не столько их злая воля, сколько умственная неразвитость в сочетании со страстями самого низменного свойства.
Дыхание Нэнс участилось. Что он говорит такое, думала она. Что он говорит обо мне?
— Короче говоря, притом, что данное дело неоднозначно и нуждается в тщательном анализе, я призываю вас учитывать суеверные мотивы действий обвиняемых, прискорбно несостоятельные, но совершенно очевидные. А также прошу вас принять во внимание условия содержания в тюрьме женщин пожилого возраста, сложности в их перевозке и необходимость дополнительного ухода в случае ухудшения здоровья.
Нэнс провожала взглядом присяжных, разом снявшихся с места, как стая серых ворон, и устремившихся из зала для вынесения приговора. Зал отозвался внезапным шумом.
Не понимаю я, думала Нэнс. Не понимаю.
Опустив взгляд, она заметила, что руки ее все еще сжаты в кулаки.
Не прошло и получаса с тех пор, как присяжные покинули зал, а секретарь суда и полицейский уже начали рассаживать и успокаивать толпу. Нэнс чувствовала, как тревожно забилось ее сердце, когда достопочтенный судья барон Пеннефатер, войдя в зал, занял свое место на возвышении и, потирая руки, наблюдал, как опоздавшие протискиваются в зал и прорываются вперед, чтобы лучше видеть обвиняемых.
Рядом с ней привалилась к перегородке Нора. Тело ее, оседая, клонилось вниз, к полу, но, когда Нэнс протянула к ней руку, желая поддержать ее, ухватить за плечо, глаза Норы широко открылись и сверкнули.
— Не прикасайся ко мне! — прошептала она, но тут же лицо ее исказила гримаса страха и она удержала руку Нэнс, когда та уже собралась ее отдернуть. — Я не хочу умирать! — пробормотала Нора. И, подняв руки, попыталась перекреститься. — Не хочу висеть в петле! Не хочу висеть в петле!
Нэнс почувствовала, что вдову опять бьет дрожь.
— Господь всемилостивый, на кресте муки принявший, о Господи, на кресте муки принявший, пожалуйста, пожалуйста, Господи!
Нэнс начала раскачиваться, стоя внутри у нее ширился страх. Она прикусила язык и чувствовала во рту соленый железистый вкус крови.
— Господь, на кресте муки принявший! О!
— Тишина! — Полицейский толкнул Нору, и она, охнув, схватилась за деревянные прутья перегородки, чтобы стоять прямо.
Настроение в зале было как перед бурей. Все присмирело, смущенно затихло. Напряжение возросло, когда в зал впустили присяжных, и те с торжественным видом уселись на свои места.
— Не хочу висеть в петле! — бормотала рядом с Нэнс Нора. — Не хочу висеть в петле.
Тишину зала прорезал голос судьи:
— Приняли ли вы решение?
Седовласый присяжный, встав, аккуратно вытер руки о панталоны.
— Да, ваша честь.
— И что вы скажете?
Нэнс закрыла глаза. Представила себе реку, безмятежный разлив ее вод.
И почувствовала, как неудержимо дрожит возле нее Нора.
— Мы, как и вы, ваша честь, согласно считаем, что подозрения оправданны, однако для обвинения Энн Роух и Гоноры Лихи в умышленном убийстве не видим достаточных оснований. Наше решение — невиновны.
Пауза, и затем зал взорвался взволнованным яростным шумом.
Нэнс опустилась на пол — ноги ее подкосились. Она крепко зажмурилась, и шум в этом душном переполненном зале словно отступил, превратившись внезапно в шум дождя, шум летнего ливня, сосновые иголки, в их густой горячий аромат, хруст побуревших листьев дуба под ногами, заросли ольхи, благодатный поток воды, пролившийся из тучи над лесом, в ласковое журчанье стремящихся к реке ручьев.
Нэнс открыла глаза, лишь когда ее подняли, чтобы снять с нее наручники. Моргая на ярком свету, она не сразу различила силуэт Норы — согнутой, рыдающей от счастья и облегчения, а за ней — в наплывающей волне толпы — Мэри, глядящую на них сквозь струящиеся по бледным щекам слезы.
— Мэри! — хрипло вскричала Нэнс. Одно резкое движение, сжатие, и наручники были сняты с ее кистей, и в ощущении внезапной легкости и свободы она протянула обе ладони к плачущей навзрыд девочке: «Мэри!»
Девочка сплюнула на пол.
— Будь ты проклята! — выговорила она. И затем, отвернувшись, скрылась в бурлящей толпе.
Глава 21 Вереск
МЭРИ СТОЯЛА НА ЗАПРУЖЕННОЙ НАРОДОМ торговой улице Трали, шаря глазами по лицам людей, кружащих вокруг. День выдался жаркий, и в новом платье, купленном на шиллинг вдовы, она вспотела. Старую, пропахшую Михялом одежду она свернула в аккуратный узел, который держала у бедра, стоя прямо как палка, смело, не таясь, встречая взгляды равнодушных или любопытствующих прохожих. Пусть знают, что я ищу работу.
Прямо на дороге разлеглись свиньи с визжащими поросятами в загонах, сооруженных на скорую руку из колышков и веревок. Только что остриженные овцы топтались под присмотром мальчишек и их отца, солидного мужчины в картузе и с самокруткой в зубах. Зеваки потешались, глядя, как женщина гоняется за перепуганной курицей, что вырвалась из соломенной корзинки.
Когда суд только завершился, Мэри сразу узнала у отца Хили дорогу на Аннамор и тотчас пустилась в путь, с сердцем, бьющимся от радостного предчувствия. Она представляла себе удивленные крики, которые услышит, появившись из-за угла, топот по пыльной земле маленьких ножек, когда ее братья и сестры, бросившись к ней, уткнутся ей в ноги, обхватят руками за пояс, поведут показывать только что вылупившихся цыплят, сгребая и поднося к ее глазам пушистую пищащую груду. Ее мама, как всегда хмурая, с морщинами на усталом лице, вздохнет с облегчением, оттого что дочь благополучно вернулась. Она будет рада, что Мэри опять дома и вновь примется за работу. Как она будет теперь работать, как перетрясет старые подстилки, чтоб солома распушилась, как будет чистить клубни картошки, пока они не станут цвета масла, как накормит всех досыта! Картошку они только слегка приварят, чтоб косточками похрустывала, как папа говорил. А потом она прижмет к себе малышей или уложит их спать под бочок похрюкивающей свиньи, и все опять наладится, все будет хорошо.
Она забудет Михяла, забудет этого чужого, странного ребенка, забудет, как, хныча от холода, он тыкался ей в шею, чтоб согреться.
Погруженная в эти мечтания, воображая картины своего возвращения домой, Мэри остановилась попить у придорожного колодца. Рядом спала женщина с изрытым оспой лицом, нищенка. Сначала Мэри подумала, что женщина одна, но на плеск воды под грязным плащом женщины что-то зашевелилось, и оттуда выползла грязная, голая девочка. Светлые волосы были серыми от грязи, она протянула руки к Мэри, терпеливо ожидая от нее подаяния.
С подбородка у Мэри текла вода, а она глядела на девочку, а потом медленно развернула узелок с едой, которую дал ей священник на дорогу: сушеная рыба, краюха черствого хлеба с маслом.
Девочка взяла из ее рук еду и уползла обратно под плащ матери — есть. Она ела, и материя плаща подрагивала от ее движений.
И Мэри повернула назад. Обратный путь до Трали казался длиннее, но супружеская пара, ехавшая в открытой повозке на рынок, предложила подвезти ее, и Мэри приняла приглашение — вскарабкалась наверх, цепляясь босыми ногами за колесные спицы. Она глядела вдаль, за горизонт, следя, как с каждым шагом мула все дальше и дальше отступает Аннамор.
Она будет стоять на улицах Трали хоть весь день, если потребуется. Стоять, пока не подойдет к ней кто-нибудь, не спросит, не хочет ли она поработать на ферме летом, умеет ли она молотить, сможет ли таскать торф, сильная ли она и умеет ли сбивать масло.
Я пойду к первому, кто предложит работу, думала Мэри. Мало толку вглядываться в лицо и пытаться угадать, хорошо ли будет на новом месте. Покраснел ли у хозяина нос от выпивки, легли ли у глаз смешливые морщинки, — по лицу сердца не узнаешь.
Солнце палило немилосердно. Хотелось пить, и, когда она подняла к лицу свой узел, загораживаясь от света, в нос ей пахнул запах подменыша, старого тряпья, в которое он был укутан. Запах кислого молока и несвежей картошки. Дыма от очага, ночного холода, бессонных часов наедине с бесовским созданием. Бесконечных укутываний в одеяло, бесконечных метаний, мельтешенья его рук, вкус острых ноготков во рту, когда она обкусывала ему ногти, чтоб не поцарапался, когда ворочается, прилаживаясь к миру вокруг. Вспомнилось, как язык его лизал ей пальцы, когда она кормила этого несчастного, вспомнились глаза, разглядывающие ее лицо, перышки, которыми она его щекотала, тающий в воздухе смех и исступленный плач.
У нее перехватило дыхание.
Не обращая внимания на глазеющих зевак, Мэри уткнулась лицом в грязный узел и зарыдала.
После суда Нора вернулась в долину вместе с Дэниелом. Племянник ждал ее снаружи, куря на солнышке и беседуя с отцом Хили. Когда она подошла, оба мужчины подняли на нее глаза, щурясь от яркого света.
— Стало быть, отпустили тебя, — пробормотал Дэниел, вертя в руках трубку.
На лице священника читалось плохо скрытое отвращение.
— Тебе следует вечно Бога благодарить за такую милость, — проговорил он. — Но послушай меня, Нора. Я ведь остерегал тебя, предупреждал, что не доведут до добра тебя все эти россказни о фэйри. — Лицо его налилось краской. — Нэнс Роух не оставила свое шарлатанство, все эти пищоги, все это вредоносное язычество, и церковь не станет с этим мириться; каков бы там ни был приговор, я не потерплю того, чтоб суеверие восторжествовало над истинной верой! И ты, Нора, опомнись, открой глаза и осознай всю греховность языческого заблуждения.
Нора глядела на священника и не могла вымолвить ни слова. Лишь когда Дэниел, положив ей на плечо свою крепкую руку, повел ее прочь, она в полной мере поняла, что имел в виду священник.
— Он отлучит ее, — шепнула она Дэниелу.
Племянник, вздохнув, махнул рукой в сторону дороги:
— Я провожу тебя до дома, Нора.
До Килларни они доехали на почтовом фургоне, доехали молча, не говоря ни слова. Другие пассажиры глядели на нее с удивлением, и только тут Нора заметила, что на одежде, которую ей вернули после суда, так и присох речной ил. Несмотря на жару, она завернулась в платок, прикрыв лицо. И радовалась, что Дэниел был не расположен к разговорам. Во рту ее словно гиря висела, язык онемел. Она не вполне понимала происходящее, и твердо знала одно: надо вернуться домой и посмотреть, не возвратили ли Михяла. Когда фургон прибыл в Килларни, они с Дэниелом побрели на окраину городка и там, встав на пороге одной из хижин, попросили еды и приюта на ночь. Хозяйка ответила, что они и сами голодают, что июль выдался худой, и, если Господь не пошлет им хороший урожай, да поскорее, они пойдут побираться. Однако они люди крещеные, накормят чем бог послал и пустят переночевать на соломе под крышей, а не под открытым небом и лунным светом. Нора уснула, хотя жесткая солома царапала ей щеку, и проснулась еще до восхода солнца. Она умылась росой, и, когда Дэниел проснулся, они побрели по дороге, озаренной бледным утренним светом, над которой порхали малиновки и слышалось мычание просыпающейся скотины. День разгорался, теплел, дорога наполнялась людьми со шлянами[25] и корзинами. Нора позволила себе вновь унестись мыслями к ребенку, который уж конечно теперь должен ее ждать. Она представляла себе его лицо, черты, повторявшие черты Джоанны в детстве, когда вокруг был только свет и все казалось возможным, и видела все это, пока дорога не начала расплываться перед глазами.
Лишь когда они очутились в долине, запертой со всех сторон горами, покрытыми вереском и в сумерках казавшимися лиловыми, Дэниел заговорил с ней.
— Ты, стало быть, у нас будешь жить, — сказал он.
Они взобрались на вершину холма. Нора остановилась, чтобы отдышаться, и взглянула на Дэниела:
— Я у себя останусь.
Дэниел не отрывал взгляда от расстилавшейся перед ними дороги и не замедлил шага.
— Там аренда не плачена.
— Я и раньше запаздывала с платой. — Вдруг испугавшись, она пошла быстрее, стараясь не отстать от него. — Да и кто с этой арендой не опаздывает!
— Ты будешь жить со мной и моей хозяюшкой, Нора.
— Но Михял меня дома ждать будет!
Наступило неловкое молчание. Дэниел зажег трубку и стиснул зубами черенок.
— Ну а как же мои вещи? — спохватилась Нора.
— Можешь их забрать. Только кровать продать придется.
Услышав это, Нора заплакала и утирала слезы грязными руками, пока, зайдя за угол, они не наткнулись на Джона О’Шея, чье лицо уже покрывал летний загар, а усы золотились на солнце.
— Вдова Лихи? — Он стоял у них на дороге, с руками полными камней, которыми пулял в птичье гнедо. — Стало быть, не повесили тебя…
Дэниел, прищурившись, взглянул на закатное солнце.
— Ей не до бесед, Джон. Дай пройти.
— Знаешь, какой стишок про тебя сочинили?
Нора шмыгнула носом:
— Стишок?
И парень, сунув руки в карманы, проговорил нараспев:
— Вот несчастье, Нора Лихи, вот докука, утопила ты единственного внука. Ни ходить не мог мальчонка, ни стоять, значит, фэйри напроказили опять. Ты задумала ребенка утопить, как же Господу за грех тебя простить? Сатана тебя на грех тот соблазнил, ты молись, чтобы Господь тебя простил!
Нора глядела на Джона, чувствуя, как внутри расползается омерзение:
— Бог тебя простит!
Ухмылка погасла.
— Это всего лишь стишок, — вмешался Дэниел. — Чего только не напридумают люди! Бывали вещи и похуже. Беги, Джон, и скажи Пег, что вдова Лихи вернулась.
Парень кивнул и припустил бегом по дороге.
— Не обращай ты на него внимания! Иди себе домой и начинай собирать вещи, что тебе нужны. Я позову Бриджид, чтоб помогла тебе скарб перетаскать. Переночуешь у нас. Бриджид тебя устроит как надо. А меня нынче ночью не будет. Дельце одно есть.
Он важно кивнул ей и, ускорив шаг, ушел вслед за Джоном. Когда оба мужчины превратились в точки на дороге, Нора опустилась на колени в дорожную пыль. Услышанный стишок жег ее огнем, ее вырвало, и запах желчи разнесло ветром.
Высокая трава подступала теперь к самому дому. Задыхаясь, Нора потянула на себя дверь и остановилась на пороге. В доме пахло плесенью и грязью. Солома, которой были заткнуты оконные щели, вывалилась, камышовую подстилку разметал ветер.
— Благослови Господи сие жилище! — воскликнула Нора.
Внутри у нее все дрожало. Она озиралась, отчаянно ища следы присутствия мальчика, но все в доме было точно так же, как до ее ухода, а раскладная лавка была не разложена.
Нора осторожно шагнула внутрь:
— Михял?
Тишина.
— Михял! Голубчик!
Нора прикрыла за собой дверь и вдруг услышала шорох, и сердце у нее подпрыгнуло. Едва дыша, она кинулась в свой покойчик, чувствуя, как крепнет надежда. Она была права! Михял здесь! Лежит под курткой на кровати. Вот же — очертания его фигуры! Он спит?
Но под курткой не оказалось ничего, кроме одеяла. Часто дыша, Нора комкала одеяло в руках. У ног ее раздалось тихое кудахтанье. Приглядевшись в полумраке, Нора увидала наседку, соорудившую себе гнездо из камыша и вытащенной из матраса соломы.
Горестное недоумение овладевало Норой.
— Господи Боже милостивый, — молилась она, вороша на кровати одеяло, все жарче, все яростнее твердя слова молитвы. — Молю тебя, Господи, и тебя, святой Мартин, сделайте так, чтоб он был здесь! Михял!
Ничего. Ни малейшего звука, лишь квохтанье потревоженной наседки.
Не зная, что делать дальше, Нора натянула на себя куртку Мартина и, неверными шагами выйдя к очагу, опустилась на лавку. Тишина звенела в ушах. Его нет. Его не вернули. Она не сомневалась, что найдет его здесь, может быть, он сидит у очага, — она войдет, и он поднимет на нее глаза. Лицо Мартина, волосы Джоанны. Она потерлась щекой о грубую материю куртки, вдыхая уже совсем слабый запах мужа. Сунула руку в карман и вытащила оттуда уголек. Повертела его в руках.
Михяла в доме нет. А ведь она была так уверена.
Снаружи птицы провожали пением закатное солнце.
— Господь и Матерь Божья в помощь тебе!
Заплаканная, с вспухшими глазами, Нора обернулась. На пороге, опираясь на клюку, стояла Пег и молча смотрела на нее.
— Его здесь нет!
Старуха протянула Норе руку:
— Слава богу, ты вернулась!
Она выждала, пока Нора утирала слезы.
— Вот беда-то, вот несчастье… — бормотала она. — Ну будет, будет… сидишь тут одна и огня не зажжешь… Правду сказать, вечер-то теплый. Посижу тут с тобой чуток, ладно?
Она опустилась на лавку рядом с Норой, и вдвоем они сидели возле погасшего очага, и оранжевый закат лил на них свой вечерний свет.
Пег указала на стол, и Нора увидела высившийся там чистый кувшин, до краев полный свежими сливками.
— Это все сноха моя. Не могла слушать, как жалобно корова твоя мычала. А масло твое у меня. Целее будет. — Пег пожевала губами. — Молоко-то опять жирным сделалось.
Нора устало кивнула:
— Слава тебе Господи.
— Да, помог Господь долине нашей.
Тут грянул хор кузнечиков. Женщины замолчали, слушая их стрекот.
— Возле Дударевой Могилы его и похоронили, — нарушила наконец молчание Пег. — Отец Хили сказал, что так лучше будет.
Нора моргнула, не сводя взгляда с мертвых углей.
Пег придвинулась ближе:
— Как перед Богом, скажи, как это вышло такое с уродцем-то?
— Я хотела только фэйри прогнать, Пег, — пробормотала Нора.
— Когда я увидела тебя в то утро, Нора, ты была вся мокрая, с ног до головы. — Пег положила руку Норе на колено и понизила голос: — Ты что, маленько подтолкнула его?
Нора не знала, что сказать. Отведя руку Пег, она поднялась и стала рыться в поисках спрятанной в печурке бутылки. — Где она, Пег?
— Я не корю тебя. Только если ты сделала это, значит…
— Где она?
— Про что ты?
— Где потинь?
Пег вздохнула.
— Нету, Нора. Кто-нибудь из тех, кто тут был… — Она вскинула вверх руки: — Я шуганула парней, когда поняла, зачем пришли. Но они прихватили с собой, что плохо лежало.
— Шон Линч?
Пег покачала головой:
— Нет, Кейт. Людей страх охватил после пищога. А Кейт пришла и рыскала тут, маслобойку твою обнюхивала. Все думала, что уродец твой и молоко проклял, и ребенку Бриджид родиться не дал. Она искала знаки проклятия. Говорила, что камень нашла у ворот. И будто Шон на имущество твое зарился, дескать, повесят тебя, так что лучше она сама возьмет вещи, пока он в Трали.
— И что ж она взяла, Пег?
— Кое-что из Мартиновых вещей. Потинь. Трубку. Денежки, какие нашла. Одежду. Масло, что здесь оставалось, провизию кое-какую. Соль.
Кинув взгляд вверх, Нора увидела, что исчезла и деревянная солонка.
— Это мое приданое было.
— Да она бы и корову увела, да кто-то встрял, велел ей подождать приговора.
— Меня повесить могли, Пег.
— Знаю.
У Норы сдавило горло. Она вцепилась ногтями в дряблую кожу на шее, вжалась подбородком в костяшки пальцев и зарыдала. Пег протянула ей руку, и Нора ухватилась за нее, точно утопающий, стиснула ее пальцы с такой силой, что старуха поморщилась от боли. Но не отодвинулась и позволила Норе царапать ей кожу, вдавливая в нее ногти.
— А его нет здесь! — рыдала Нора.
— Знаю, — мягко отвечала Пег. — Знаю.
К Норе не сразу вернулся дар речи. Она сидела с мокрыми щеками, липким от слез подбородком.
Пег перекрестилась.
— Слава Господу Богу, что в неизреченной милости своей он спас тебя!
Нора вытерла глаза.
— Они решили, мы сумасшедшие. Мол, про фэйри толкуем. Не поверили нам, но девочка сказала, я не хотела убивать, так что мы не убийцы.
— Когда тебя арестовали, отец Хили прочел нам, что было написано в «Чутс вестерн геральд». Там говорилось, что ты добропорядочная женщина, Нора. И никто в округе не посмеет сказать, что это не так.
— А вот в стишке, что про меня сложили, другое говорится.
— Ты хорошая женщина, Нора Лихи.
— Я ведь только избавиться от фэйри хотела.
— Ты очень с ним намучилась.
— Это не был сынок Джоанны. Не моя кровь и плоть.
Пег отвела с глаз Норы упавшую прядь.
— А странно — люди говорят, все худое у нас в долине как рукой сняло, как только подменыш исчез. Стало быть, он и кур портил, и коров, — теперь-то молоко опять жирным стало. Бабы, что едва перебивались, нынче яйца продают, кошельки себе набивают. А те, кто думал, что вот-вот пойдут побираться, на аренду наскребли.
— Дэниел говорит, я-то дом потеряла.
Пег поцокола языком:
— Да, незадача… Но ты, думаю, как-нибудь справишься.
— А нашли они, кто пищог тогда подложил?
— Говорят, кроме Нэнс, некому было. К счастью, его быстро нашли и священник все поправил. Не успело проклятие землю собой пропитать. Кейт у родника все говорила, ясное дело, это Нэнс. Козни ведь падут на того, кто их пустил, и окажешься ты в Трали с веревкой на шее.
— Кейт Линч! — Нора сплюнула и снова заплакала. — Надо же — явиться сюда мои вещи забирать по Шонову наущению! Пойду к ним и все верну! И солонку тоже.
— Нора…
— Она больше всех про меня сплетни распускала! Больше всех! Да как посмела она про веревку на шее говорить. Мы ж с ней родственники, как-никак…
Пег ласково вытерла Норе слезы.
— Нету Кейт.
— Как это?
— Вот так. Пропала Кейт Линч. Шон вернулся поутру из Трали, а дома — пусто. И не первый день как ушла она, так мы думаем. И вещи твои с собой забрала. И деньги за масло и яйца. Шон говорит, под кроватью они деньги держали, что скопить удалось, так она все выгребла.
Нора глядела на нее во все глаза.
— Ох, с ним такое сделалось! Бросился на поиски, кричал, что, может, умыкнули ее, тут бродяги ошивались. И тут же, ясно дело, про фэйри разговоры пошли, все эти сплетни у родника. Поговаривать стали, что, может, это и вправду фэйри. Советовали Шону к Дударевой Могиле пойти посторожить ночью под воскресенье, может, и увидит он, как она на белом коне там скачет!
— Исчезла, значит, Кейт.
Пег кивнула:
— Ага. И ногу мою здоровую ставлю к больной в придачу, что не воротится.
Нора задумалась:
— А Анья как?
— Живет потихоньку. Я слыхала, Бриджид Линч за ней ухаживает.
— Слава Пресвятой Деве!
Наступило молчание.
— Пег, знаешь, я было подумала… Когда вернулась я, мне показалось, что слышу я его, что в спальне он…
— Нора…
— Я подумала, он это, Пег. Когда я в Трали была, я все мечтала об этом. Думала, вот вернусь, а он дома, ждет меня. Думала, может, заминка какая случилась на реке в то утро, помешало ему что-то вовремя вернуться. — Она опять заплакала. — Такой страх меня брал, Пег, когда думала, что повесят меня, а он все ждать и ждать будет!
— О, Нора…
— Бабушку ждать будет, а бабушку его в яму бросят в Беллималлене!
— Ну перестань! Тебя не повесили, и ты в родные места вернулась.
— Да, но его-то тут нет! — Нора покачала головой. — Ой, не могу я тут, в долине, оставаться!
— Ну а куда ж тебе податься, Нора!
— Глянь! — Нора обвела рукой опустевшую хижину. — Все, что есть у меня, — это мой дом, а теперь и он мне заказан. Одна я. Совсем одна, и ничего мне другого не остается, как поселиться у Дэниела с Бриджид, мне, которая в своем доме хозяйкой была. — Она вытерла глаза. — Мартин умер. Михял… Михяла нет здесь. — Она прижала руку к сердцу. — Не знаю… Не знаю, как могло случиться такое!
Пег взяла ее руку, погладила.
— Послушай, у тебя есть я, правда же? И счастье, что племянники твои с тобой, храни их Господь. Тебе только с Бриджид поладить, а жить в семье вовсе не так плохо.
— В семье или не в семье, все равно я одна, — прошептала Нора.
— Ну хватит, голубушка. Подумай лучше о хорошем. Ты вовсе не одна на свете — у тебя полным-полно родни, есть с кем и поговорить, и у камелька посидеть. Одному Богу ведомо, какая тяжелая зима тебе выдалась и каково тебе было сидеть в тюрьме и ждать, что вот-вот перед Господом предстать придется! Да уж — никому такого не пожелаешь. Но вот ты дома, и курочки твои при тебе, и сливки в горшке, и все это ты можешь с собой взять… И, погляди, Нора, разве старая Пег не с тобой рядом?
Нора стиснула руку Пег.
— Как думаешь… Может случиться такое, что еще вернется Михял в один прекрасный день?
Пег поджала губы.
— Он вернется! Ведь то не человеческое дитя было… Правда же, Пег?
— Нет, — помолчав, пробормотала Пег и погладила Норину руку. — Нет, Нора.
— А может, он еще и вернется.
Пег посмотрела на нее долгим взглядом:
— Но если он и вправду сейчас под холмом у добрых соседей, там, где свет и танцы…. то можно утешаться тем, что бывают несчастья и похуже.
В дверях послышался шорох, и, подняв голову, Нора увидела Бриджид. В руках у женщины была корзина.
— Да пребудет с тобой Господь и Пресвятая Дева, Нора Лихи. — Бриджид моргала, глядя на них, без улыбки. От долгого сидения взаперти лицо ее было бледно, а тело, показалось Норе, сильно исхудало.
— О, Бриджид, рада видеть тебя на ногах и не дома, — сказала Пег с деланой веселостью в голосе. — В первый раз после твоего очищения встречаемся!
— С тех пор чего только не было. — Бриджид переступила порог и, встав у погасшего очага, воззрилась на Нору. Лицо ее казалось непроницаемым. — Дэниел говорил, тебя чуть было на виселицу не отправили.
Нора кивнула с пересохшим ртом.
Лицо Бриджид посуровело.
— Дэн говорил, Нэнс заслуживает петли — и за Анью, и за пищог. И за паслен.
Нора глядела на нее, не в силах произнести ни слова. За нее ответила Пег:
— Перестань, Бриджид. Брось такие разговоры. Я тебе вот что скажу. Нэнс всегда была среди нас белой вороной, не такой, как другие, но, как бы ни злобился на нее отец Хили, нет никакого смысла и толка считать, что она изводница или толкает людей в огонь. У Аньи юбки занялись, такое часто бывает у женщин. Зачем искать виноватого, если фартук оказался слишком близко к огню? И разве Нэнс не старалась, не выхаживала тебя, когда тебе плохо было?
Бриджид, побледнев, по-прежнему в упор глядела на Нору:
— Но она же сделала это, сделала!
— Что сделала?
— Утопила мальчика.
Глаза-бусинки Пег зорко следили за обеими женщинами.
— Это был фэйри! — хрипло вскричала Нора.
Бриджид прикусила губу.
— Ты ее видела? После?
— Нет. Потеряла в толпе.
— Не знаешь, собирается она в долину возвращаться или как?
— Здесь ее дом. Небось ждет не дождется, когда у себя в хижине очутится. Я пока добиралась, только об этом и мечтала. Чтоб поскорее домой вернуться.
Бриджид покачала головой:
— Не будет ей здесь дома. Теперь — не будет. Забирай, что надо тебе, Нора. Не могу я здесь стоять весь вечер. Стемнеет скоро.
Пег протянула к ней руку:
— Бриджид! Что ты такое говоришь, детка?
— Сама, в конце концов, виновата. Давай, Нора. Здесь тебе нельзя оставаться.
— Что случилось, Бриджид?
— Дэн не велел мне говорить. Ну, Нора…
— Что…
Бриджид снова закусила губу. Она часто дышала, сжимая корзину так крепко, что даже пальцы побелели.
Пег потянулась к своей клюке.
— Пойдем, Нора. К Нэнс пойдем. — И она с удрученным видом заковыляла к двери.
Нора стала собираться.
— Теперь уж ничего не поделаешь, — выпалила Бриджид. — Так было решено. — И она гневно ткнула пальцем в сторону Норы: — Решили, пока тебя здесь не было. И скажи спасибо, что и с тобой так не поступили.
У Норы от страха забурлило в животе. Молча, дрожащими руками она взяла протянутую Бриджид корзину и стала складывать вещи.
Нэнс стояла на опушке, глядя на место, где прежде был ее бохан. Четыре дня пути из Трали, долгое мучительное преодоление, боль и усталость — и вот она дома, а дома нет.
Его сожгли. Остался один пепел.
Измученная, она опустилась в высокую траву на опушке, в тенистом, не видном с дороги месте, и погрузилась в сон. Свернувшись калачиком в сладко пахнущих мягких травах, она перестала сопротивляться усталости, и разбудил ее только поднявшийся к вечеру ветерок. Она села, глядя на красный закат.
Они должны были тщательно все подготовить, думала она, привалившись к дереву и глядя на подпаленную огнем землю. Обложили ли они сухим хворостом крышу? Плескали ли потинь в огонь, чтоб быстрее занялось? Видать, пламя было сильное — даже верхушки ближних деревьев и те почернели, а ствол дуба обгорел до половины. Она встала и, подойдя к дубу, провела рукой по почерневшей от сажи коре. С коры посыпались угольки, и руки ее тоже стали черными. Непроизвольно она поднесла руки к лицу и помазала углем лицо — от нечистой силы.
Ничего не осталось. Нэнс переступала через рухнувшие обгорелые балки, вороша пепелище в поисках хоть каких-то уцелевших вещей. Она нашла моток пряжи: когда-то расчесанная, аккуратно смотанная, она валялась теперь грязным комком. Густо пахло дымом. От трав ее ничего не осталось. Не было ни табуреток, ни торфа, даже плошки со свечным салом и те сгорели.
Но лишь найдя железную пряжку от ошейника, который был на ее козе, она почувствовала, как к сердцу ножом подступила тоска. Закрыв глаза, она крепко сжала в руках оплавленную, в чешуйках, металлическую пряжку и представила себе Мору за закрытой дверью и языки пламени вокруг. Плача, она разгребала золу, ища косточки, но в тусклом свете невозможно было отличить жестяную ручку подойника от иных хрупких останков.
Настала звездная ночь. Взошел тонкогубый месяц. А Нэнс все сидела, роясь в углях, что остались от ее дома; она разгребала их, пока руки не нащупали таившееся в глубине тепло. Тогда она легла, накрывшись, как одеялом, слоем золы.
Утром она проснулась, испуганно охнув от звука шагов. Вынырнув из-под золы и пепла, она в страхе огляделась вокруг. Еще не рассвело, но небосклон уже бледнел, и цвет его был голубоватым, точно яйцо малиновки.
— Нэнс?
Она обернулась — на краю пепелища стоял, пристально глядя на нее, мужчина.
Питер О’Коннор.
— Я уж думал, померла ты, — сказал он, прикрывая рукой рот.
Шагнув к Нэнс, он помог ей встать. Она заметила, что он дрожит.
— Благослови тебя Господь, Питер!
Он глядел на нее, покусывая нижнюю губу.
— Слава богу, отпустили тебя, — пробормотал он.
Нэнс положила руку ему на плечо, и он с чувством сжал эту руку.
— Я думал, что потеряю тебя, — с трудом выдавил он. — Только и разговоров было что о суде. Говорили, повесят тебя либо вышлют. А ведь ты только помочь хотела. — Он поднес ее руку к лицу, прижал к щетинистой щеке; подбородок его дрожал. — Я боялся за тебя.
— Не посмели они меня тронуть.
— А я так боялся за тебя, Нэнс. — Он отвернулся, вытер глаза. Потом повернулся к ней опять — вроде бы справился с волнением.
— Сожгли меня, — пожаловалась Нэнс.
— Как услышали о приговоре, тут же и решили.
— Шон Линч постарался.
— Он вернулся, а жены нет как нет. И денег тоже. Он прошлой ночью сюда заявился. Злой как черт.
— Кейт Линч исчезла?
— Украли ее. Он голову потерял, так взбеленился, Нэнс. Решил, что без тебя тут не обошлось. А я помешать не сумел.
— Понятно.
— А пытался… — Питер прикрыл глаза рукой. — С ним целая ватага крепких мужиков была. Ты уж прости.
— Ты не виноват. — Она коснулась его плеча, и он склонился к ней.
— Ты никогда мне зла не делала. И никому не делала.
Так сидели они среди пожарища, пока над вершинами дальних гор не показались полосы дождя, а воздух не наполнился мычаньем скотины.
— Оставаться здесь тебе нельзя, — сказал он.
— Да.
— Пойдем со мной.
Он повел ее к себе, в хижину, прилепившуюся к склону горы, и помог вскарабкаться на склон. Уже у самого дома он начал рассказывать, как все было.
— Они ночью это сделали. Все мужики, кроме Джона О’Донохью. Он не захотел участвовать.
— А Дэниел Линч?
Питер нахмурился:
— Все, кроме меня и Джона. Но когда я увидел, как отправляется в сумерках вся эта компания, я пошел следом.
Он взглянул на Нэнс, а потом жестом пригласил ее войти.
Глаза Нэнс не сразу привыкли к темноте, а потом она ахнула: в углу хижины, привязанная к потертому кухонному столу, стояла ее коза: возле копыт животного валялись ее катышки. Такое сокрушительное, всепоглощающее облегчение Нэнс испытала только раз — когда услышала приговор. Шатаясь, кинулась она к Море, упала на нее, обхватила руками, вдыхая знакомый теплый запах — сена и молока. Она терлась лицом о козью шерсть, чувствуя, как глаза ее внезапно наполняются слезами.
— Милая моя, голубушка.
— Они ей горло перерезать хотели.
Нэнс гладила Мору, а Питер стоял в сторонке, наблюдая.
— А я думала, что нет ее больше, — пробормотала Нэнс, наконец отпустив козу и вытирая украдкой глаза грязным платком. — А ты, оказывается, забрал ее.
— Я не дал им ее убить, Нэнс. А теперь, может, приляжешь, закроешь глаза, отдохнешь чуток? Ты ж, наверно, страсть как устала с дороги. Такой путь пройти — легкое ли дело…
Нэнс весь день проспала в прохладной тишине Питерова жилища. Время от времени просыпаясь, она видела Питера, сидевшего у порога и глядевшего в мокрую от дождя даль или неслышно передвигавшегося внутри дома, что-то делавшего по хозяйству. Уже к вечеру он разбудил ее, дав деревянную кружку с козьим молоком и холодной картошки. Он глядел, как она ест.
— Ты чтой-то исхудала, Нэнс.
— Да там особо не пожируешь.
— Я вот что тебе сказать все собирался. Я рад, что ты здесь, у меня в доме, Нэнс. Со мной то есть. Я не так чтобы богат, но родни у меня в долине не осталось, и я… — Он залился краской. — Я сказать тебе хочу, что замуж ты можешь за меня выйти. И тогда тебе никто из них ничего не сделает, никакого вреда.
— Я старуха, Питер.
— Ты всегда была добра ко мне, Нэнс.
Она улыбнулась:
— Безмужняя старуха — считай, не человек. Никому не нужна, все тебя чураются, а чаще — и не замечают вовсе.
— Но ты подумаешь над этим, Нэнс? Я ведь мужчина крепкий.
— Подумаю, Питер. Спасибо тебе. Подумаю.
Больше в тот вечер они почти не разговаривали. Питер сидел у очага, Нэнс лежала на подстилке из вереска, иногда они встречались взглядом и улыбались.
Когда сгустившаяся вокруг тьма поглотила хижину, Питер сказал молитвы, они вымыли ноги и легли возле тлеющего очага.
Нэнс встала еще до света. Питер еще спал, тихонько похрапывая возле разворошенных углей очага; он спал разметавшись, закинув руки за голову.
Тихо, чтоб не разбудить его, она, покопавшись в очаге, достала из него увесистый уголек. Дала ему остыть, пока доила Мору, и положила потом на стол рядом с полным подойником, и благословила молитвой то и другое.
Затем она отвязала козу и молча покинула хижину.
Кости ее ныли. Нэнс направилась к дороге, хромая и волоча за собой пустую веревку.
«Когда это я успела так состариться», — думала она.
Воздух был ласков и влажен. С гор ползли лиловатые клочья тумана. В зарослях вереска бесшумно скакали зайцы. В темных кустах ежевики, в клевере мелькали их белые хвостики. Перед ней лежала пустынная дорога, недвижная, безветренная даль. Лишь птицы над головой и медленно высвобождающаяся из покровов тьмы божественная ширь небес.
От автора
Этот роман — плод художественного вымысла, однако в основе сюжета лежит реальное событие. В 1826 году на летней судебной сессии в Трали, графство Керри, «женщине весьма преклонных лет», известной как Энн/Нэнс Роух, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве Михяла Келлигера/Лихи (в газетных репортажах фигурируют обе фамилии). Михяла утопили в реке Флеск 12 июня 1826 года. Как отмечалось, ребенок был не способен ни стоять, ни ходить, ни разговаривать.
На суде Нэнс Роух уверяла, что хотела вылечить мальчика, а не убить его. Ребенка принесли на реку, «чтоб выгнать из него фэйри». Нэнс оправдали.
Зафиксировано несколько случаев, когда в результате обрядовых действий, призванных прогнать подменыша и вернуть того, кто, по мнению близких, был похищен фэйри, люди гибли или получали серьезные увечья. Самый известный из них произошел в графстве Типперэри в 1895 году, когда двадцатипятилетнюю Бриджет Клири замучили, а затем сожгли муж и родственники. История этого преступления замечательно разобрана в работе Анджелы Бурк «Сожжение Бриджет Клири» (Angela Bourke The Burning of Bridget Cleary, 1999) — рекомендую ее всем, кому интересно, как и почему происходили подобные трагедии в Ирландии и за ее пределами. В труде под названием «Добрые люди: новые очерки о фэйри» (Peter Narváez, The Good People: New Fairylore Essays, 1991) приводятся современные соображения относительно заболеваний, которыми могли страдать те, кого считали подменышами.
Система ирландских представлений о сверхъестественных существах была (и остается) очень сложной и неоднозначной — это отнюдь не детские сказочки. Как замечает Бурк в предисловии к своей работе: «Вера в фэйри в этой книге рассматривается как продукт мышления вполне рационального, но оперирующего в обстоятельствах, опыт которых у нашего просвещенного современника начисто отсутствует». Я также стремилась изобразить эти верования не как экзотику, но как неотъемлемую часть повседневного быта ирландской деревни XIX века.
Создавая образ Нэнс, я в значительной степени руководствовалась сведениями, почерпнутыми из «Рассказов знахарки» (Gearóid Ó Crualaoich, The Book of the Cailleach: Stories of the Wise-Woman Healer, 2003), из преданий о фэйри, собранных леди Огастой Грегори и Томасом Крофтоном Кроукером, а также из антологии Эдди Ленигана и Каролин Ив Грин «Встреча с Иными: Сказания cокровенной Ирландии» (Eddie Lenihan, Carolyn Eve Green, Meеting the Other Crowd: The Fairy Stories of Hidden Ireland, 2004). Рецепты Нэнс и ее рассуждения о силе лекарственных растений навеяны Патриком Логаном и его книгой о знахарстве (Patrick Logan Making the Cure: A Look at Irish Folk Medicin, 1972), а также Ниалом Маккойтиром и его собраниями мифов и легенд о деревьях и травах Ирландии (Niall Mac Coitir, Irish Trees: Myths, Legends and Folklore (2003); Niall Mac Coitir Irish Wild Plants: Myths, Legends and Folklore (2006), а также опубликованными еще в середине XIX века трудами Джона Уиндела, Джеймса Муни и У. Р. Уайльда о суевериях и общепринятых способах лечения и родовспоможения.
Сведения о жизни ирландской деревни в период до великого голода XIX века я почерпнула из множества источников, в том числе из трудов Кевина Данахера, книги Э. Эстина Эванса об ирландском фольклоре (E. Estyn Evans, Irish Folk Ways (1957), из диссертации и статей Клодии Кинмот, материалов Джонатана Белла и Мервина Уотсона, Патрисии О’Хара, Энн О’Коннор и блистательного справочника (специалисты называют его «библией ирландского фольклора») Шона О’Суйлехена (Séan Ó Súilleabhain, A Handboоk of Irish Folklore (1942).
Благодарности
Во время сбора материала для этой книги я имела счастливую возможность встречаться и беседовать со многими исследователями, архивистами и университетскими преподавателями, не пожалевшими своего времени, чтобы ответить на мои порой странные (и нередко вполне невежественные) вопросы касательно ирландского фольклора. Я благодарна Национальному собранию фольклора при Университетском колледже Дублина за его огромную специализированную библиотеку по фольклористике и этнологии, а Барьбре Ни Лонь (Bairbre Ní Fhloinn) — за помощь, предложения и уделенное мне время. Благодарю Клоду Дойл, куратора отдела народной культуры Национального музея Ирландии, за экскурсию и за допуск в научную библиотеку отдела. Я крайне признательна Штефану О’Кайла (Stiofán Ó Cadhla) с факультета фольклора и этнологии Университетского колледжа Корка за переписку и бесценные научные материалы. Спасибо Саре О’Фаррел и Хелен О‘Кэррол, сотрудницам Музея графства Керри в Трали за их любезную помощь и за разрешение воспользоваться подлинной сокровищницей — материалами Королевской комиссии по расследованию причин крайней нищеты ирландского населения. Спасибо и Патрисии О’Хара из библиотеки музея Макросс-хаус за великолепную экскурсию по территории усадьбы и возможность ознакомиться с библиотечными материалами.
Все возможные нестыковки и ошибки в изложении ирландского фольклора или описании народной культуры и верований — вина исключительно моя, а не тех, кто так любезно делился со мной информацией и оказывал всяческую поддержку.
Не могу также не поблагодарить Шона О’Донохью из усадьбы Сэмон-Лип-фарм в графстве Керри, показавшего мне древний килинь у себя на подворье, неподалеку от настоящей «Дударевой Могилы», и разрешившего мне прогуляться по его землям и посмотреть на Флеск. За экскурсию по самой реке и рассказ о былых временах спасибо Майклу Лину. Благодарю Крис и Джеймса Кин, а также мать Джеймса, Мэри, за их гостеприимство и снисходительность, когда я наступала всем на ноги, отплясывая на кейли[26].
Благодарю сотрудников Университета Флиндерс и моих коллег за деятельную поддержку. Спасибо всем друзьям, кто поделился со мной историями и идеями, — кто-то из вас, возможно, найдет в этой книге отзвуки наших разговоров.
Я глубоко признательна моим издателям, редакторам и первым читателям за их поддержку и увлеченность. Сердечная благодарность чудесному Алексу Крейгу, Джуди Клейн, Полу Бэггели, Софи Джонатан, Матильде Имлах, Джиллиану Фитцджералду-Келли, Натали Маккорт, Кейт Патерсон, Джорди Уильямсону и Али Лавау. Огромное спасибо моим бесценным агентам: Пиппе Мэссон из Curtis Brown Australia, Гордону Уайзу, Кейт Купер и коллегам из Curtis Brown UK, Дэну Лейзеру из Writers House и Джерри Келэйану из Intellectual Property Group. Работать с каждым из вас — огромная честь.
И наконец — моя любовь и благодарность любимой Хейди, и Пэм с Аланом, и моей сестре Брайони, которой эта книга и посвящается.
Об авторе
Ханна КЕНТ родилась в 1985 году в Аделаиде, Южная Австралия. «Темная вода» — ее вторая книга. Первая, вышедшая в 2013 году «Вкус дыма», о трагической судьбе Агнес Магнусдоттир, обвиненной в 1829 году в Северной Исландии в убийстве двух человек, была издана общим тиражом более пяти миллионов экземпляров на двадцати восьми языках.
Ханна — соучредитель и издательский директор австралийского литературного журнала Kill Your Darlings.
Живет в Мельбурне.
…О пропасти между тем, кто мы есть, и кем нас видит окружающее большинство.
PsychologiesОчень простая, но очень сильная история.
Опустошающая, но прекрасная.
New YorkerНад книгой работали
Переводчик Елена Осенева
Редактор Екатерина Чевкина
Научные консультанты: д.ф.н. Татьяна Михайлова, Полина Мамченкова
Корректоры Ирина Чернышова, Ольга Левина
Художественный редактор Ирина Буслаева
Выпускающий редактор Екатерина Колябина
Главный редактор Александр Андрющенко
Издательство «Синдбад»
info@sindbadbooks.ru,
Примечания
1
Потинь — крепкий алкогольный напиток из ячменя или картофеля, ирландский самогон (ирл. рoitín). Здесь и далее произношение ирландских имен и названий приводится в варианте, свойственном диалекту провинции Манстер, где происходит действие романа.
(обратно)2
Кишян (ирл. сiseán) — корзина.
(обратно)3
Калях — карга, ведьма (ирл. cailléach).
(обратно)4
Кыне — похоронный плач (ирл. сaoineadh).
(обратно)5
Суган — соломенная нить (ирл. súgán).
(обратно)6
Бохан — глинобитная хижина (ирл. bothán).
(обратно)7
Калинь — девушка (ирл. сailín).
(обратно)8
Бян фяса — вещунья (ирл. bean feasa).
(обратно)9
Прашях — жидкая овсянка (ирл. рraiseach).
(обратно)10
Шкяхъял — боярышник (ирл. sceach gheal).
(обратно)11
Пука — ирландское название гоблинов (ирл. рúca).
(обратно)12
Мамо — бабушка (ирл. mamó).
(обратно)13
Бянлейшь — знахарка (ирл. bean leighis).
(обратно)14
Килинь — неосвященное кладбище, место погребения самоубийц и некрещеных младенцев (ирл. cillin).
(обратно)15
Куардь — посиделки (ирл. cuaird).
(обратно)16
Ро — (ирл. rath) круглая крепость из камней, где, по преданиям, обитали фэйри.
(обратно)17
Так в Ирландии называют окаменелые раковины белемнитов — «чертовы пальцы».
(обратно)18
Пищог — заклятие (ирл. piseóg).
(обратно)19
Боуран — ирландский бубен (ирл. bodhrán).
(обратно)20
Лусмор — наперстянка (ирл. lus mór).
(обратно)21
«Ладонь Марии» (ирл. dearna Mhuire) — народное название растения манжетки.
(обратно)22
Фрыхан — черника (ирл. fraochán).
(обратно)23
Шлётар — мяч для игры в хёрлинг — ирландский вариант хоккея на траве (ирл. sliotar).
(обратно)24
Кросталь — своеволие (ирл. сrostáil).
(обратно)25
Шлян — лопата для снятия дерна (ирл. sleán).
(обратно)26
Кейли (ирл. ceilidh) — собрание, часто сопровождающееся традиционными песнями и танцами.
(обратно)




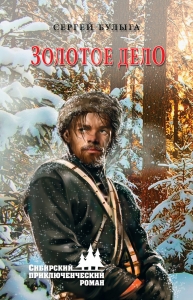
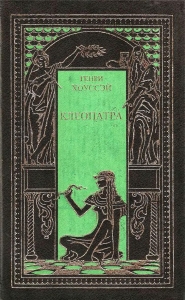
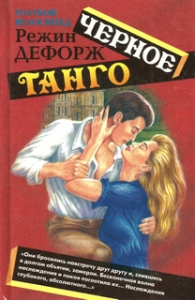
Комментарии к книге «Темная вода», Ханна Кент
Всего 0 комментариев