Эдмон Лепеллетье
ТАЙНА НАПОЛЕОНА
— 1 — Капитан Наполеон
«Капитан Наполеон» — первый из 10 исторических романов известного французского писателя Эдмона Лепеллетье. Они рассказывают о карьере Наполеона, полной приключений и случайностей. На его пути от никому не известного капитана до всемогущего императора встречались люди, обожавшие и ненавидящие его, предававшие и бескорыстно служившие ему. Он почему-то любил женщин, которые не любили его — вечная история! Обо всем этом и рассказывается в предлагаемой читателю книге.
I
На улице Бонди в Париже горящие и коптящие лампионы освещали вход в народный зал «Bo-Галь». Этот зал с таким экзотическим названием находился под управлением гражданина Жоли, артиста театра «Дез'Ар». Это было в знаменательные дни июля 1792 года. Людвик XVI номинально еще сохранял королевский титул, но его голова, украшенная 20 июня фригийским колпаком, уже начинала пошатываться на плечах. В предместьях революционная гидра уже поднимала с ворчанием голову. Робеспьер, Марат и красавец марселец Барбару провели тайное совещание; правда, на нем не удалось прийти к соглашению относительно выбора главного вожака, диктатора, как того хотел «Друг народа» («другом народа» прозвали в Великую французскую революцию неистового Марата по названию газеты, издаваемой им), но было решено нанести окончательный удар королевской власти, которая укрывалась, словно в крепости, во дворце Тюильри. Ожидали только прибытия марсельских батальонов, чтобы дать сигнал к восстанию. Со своей стороны прусский король и австрийский император собирались броситься на Францию, которая казалась им легкой добычей; они рассчитывали на предательство и внутренние раздоры, благодаря чему было бы легко довести армию быстрым маршем до столицы.
Герцог Брауншвейгский, генералиссимус имперских и королевских войск, издал в Кобленце свой знаменитый манифест, в котором с высокомерием объявил:
«Если Тюильрийский дворец будет разгромлен или подвергнется нападениям, если будет учинено хоть малейшее насилие, нанесено хоть малейшее оскорбление их величествам королю Людовику XVI и королеве Марии Антуанетте или кому-либо из членов королевского дома, если немедленно не будут приняты меры к обеспечению их безопасности, неприкосновенности и свободы, то император и король отомстят за обиду так, что это останется памятным во веки веков; город Париж будет предан разгрому войсками и полному уничтожению, а бунтовщики, виновные в преступлении, понесут тяжкие, заслуженные ими муки».
Париж ответил на этот грубый вызов восстанием 10 августа.
Но Париж постоянно является вулканом о двух кратерах: веселье перемешивается у него с яростью. В предместьях вооружались, в клубах шли горячие прения, в коммуне раздавали патроны патриотически настроенным солдатам национальной гвардии; но это не влияло на жажду удовольствий и любовь к танцам, и во времена революции плясали особенно много.
На свежих развалинах Бастилии, наконец-то разрушенной, водрузили вывеску с надписью: «Здесь танцуют». И это было совсем не насмешкой. Самым приятным употреблением этого на редкость мрачного и весьма унылого места, где в течение многих веков страдали несчастные жертвы произвола, было огласить его звуками скрипок. Веселые крики заменили унылые стоны сов, и это тоже было своего рода способом отметить исчезновение прежнего строя.
Революция совершилась под пение «Марсельезы» и под пляску «Карманьолы».
Перечисление всех общественных балов в Париже заняло бы целую страницу: танцевали в отеле «Д'Алигер», на улице Орлеан-Сент-Оноре; в отеле «Бирон», в павильоне Гановера; в павильоне Лэкишье, в отеле «Де Лонгвиль», на улице Филь-Сен-Тома, в «Модести», на бале Калипсо, в Монмартрском предместье у Поршерон и, наконец, в «Во-Гале», на улице Бонди, куда мы теперь и поведем читателя.
Как и костюмы, танцы прежнего режима перемешались с новыми фигурами: за благородными паваной, менуэтом и гавотом следовали трениц, ригодон, Монако и пользовавшийся особенной популярностью фрикасе.
В один из летних вечеров 1792 года в большом зале «Во-Гале» собралась громадная толпа и царило оживленное веселье. Дамы были молоды, игривы и хорошо сложены, а танцоры — полны огня и увлечены. В толпе можно было встретить самые разнообразные костюмы. Короткие панталоны при чулках, парик и костюм «а-ля франсэз» соперничали в грации во время второй фигуры кадрили с революционными брюками. Заметим, кстати, что кличка «санкюлот» (или по-русски — голоштанник), которую дали патриотам, абсолютно не обозначала собой того, что они были лишены этой части костюма, предназначенной закрывать ноги; наоборот — революционные ноги были более закрыты, чем дореволюционные: граждане удлинили одежду и носили теперь не панталоны, а брюки. Повсюду сверкало множество мундиров. Масса национальных гвардейцев, одетых в походную форму и готовых по первому призыву барабана броситься вон из зала, танцевала танец трона или водила хоровод революции.
Среди гвардейцев, разгуливавших с победоносным видом и горделиво выпячивавших грудь, проходя мимо красивых девушек, обращал на себя внимание высокий подвижный юноша с чертами лица одновременно и энергичными и нежными; он был одет в кокетливый мундир французской гвардии с двухцветной кокардой парижского муниципалитета. На рукаве серебряный галун обозначал его чин сержанта в отставке, каковой имело и большинство его товарищей, перешедших на службу городу после отставки от действительной службы во французской армии. Сержант ходил по пятам за крепкой, аппетитной молодицей с честным взглядом голубых глаз и разбитными манерами. Последняя иронически поглядывала на красивого гвардейца, который не решался подойти к ней, несмотря на подзуживания товарищей.
— Да ну же, Лефевр, — прошептал один из гвардейцев, — смелей! Крепость не из неприступных!
— Да и по всем признакам эта крепость уже познакомилась с атаками и получила от них здоровую брешь! — прибавил другой.
— Если ты не решишься пойти на приступ, то я попытаю счастья! — заметил третий.
— Ты ведь отлично видишь, что она глаз с тебя не спускает! Сейчас будут танцевать фрикасе. Пригласи же ее! — снова сказал первый, подбадривая сержанта Лефевра.
Последний остановился в нерешительности; он никак не мог набраться храбрости, чтобы пристать к этой хорошенькой, свеженькой бабенке, которая, однако, нисколько не казалась смущенной, да и вообще не производила впечатления застенчивой особы.
— Ты думаешь, Бернадотт? — ответил Лефевр тому из сержантов, который больше всего поддразнивал его. — Черт возьми! Французский солдат никогда не отступает ни перед неприятелем, ни перед красавицей… Рискну пойти на приступ!
Сержант Лефевр отделился от группы товарищей и прямо направился к красавице, глаза которой загорелись гневом и которая собиралась на славу встретить его, услыхав не особенно-то почтительные отзывы военных на свой счет.
— Постой, милая, — сказала она своей соседке, — я покажу этому гвардейскому отрепью, знакома ли я с атаками и может ли кто-нибудь потрепать меня!
Она вытянулась, уперлась кулаками в бока и с горящими глазами поджидала врага, равно готовая как к отпору, так и к нападению.
Сержант подумал, что дело важнее слов. Протянув руки, он обхватил девушку за талию и попытался поцеловать ее в шею, говоря:
— Не пожелаете ли станцевать со мной фрикасе?
Но проказница была очень ловка и проворна. В одно мгновение она вывернулась из его рук, отскочила, затем замахнулась и запечатлела на его лице здоровую пощечину, воскликнув без всякой злобы, а скорее весело:
— Получай, нахал, вот тебе и фрикасе!
Сержант отскочил назад, потер щеку, которая стала темно-красного цвета, и, поднеся правую руку к треуголке, вежливо сказал:
— Извините!
— Ничего, ничего! Пусть это послужит вам уроком… В другой раз будете осмотрительнее и станете разбирать, на кого наскакиваете! — ответила девушка, у которой, казалось, уже прошел весь гнев, а затем, повернувшись к подруге, сказала вполголоса: — Он очень недурен, этот гвардеец!
Тем временем Бернадотт, с завистью смотревший на то, как товарищ подходил к красивой девушке, и очень довольный оборотом, который приняло дело, подошел к нему, взял его под руку и сказал:
— Пойдем с нами… Сам видишь, что с тобой не желают танцевать. Да и барышня-то, пожалуй, даже и не умеет танцевать фрикасе.
— Вас-то кто просит соваться сюда? — быстро парировала бойкая девушка. — Я умею танцевать фрикасе и буду танцевать его с кем мне захочется… только уж не с вами, нет! Но если ваш товарищ пожелает вежливо пригласить меня… ну, что же, я с удовольствием попляшу с ним. Забудем то, что произошло между нами, сержант?
И эта веселая, добросердечная девушка, вся во власти момента, искренне протянула Лефевру руку.
— О, конечно, забудем, — произнес Лефевр, — забудем! Еще раз прошу простить меня. В том, что только что произошло, видите ли, отчасти виноваты товарищи. Бернадотт, вот этот самый, подзудил меня. О, я получил только то, что вполне заслуживал!
Девушка перебила его посреди этих извинений, спросив:
— Скажите-ка, судя по вашему выговору, можно подумать, что вы эльзасец?
— Я родом из верхнерейнских областей! Из Руффаха!
— Черт возьми! Вот совпадение. А я — из Сент-Амарена.
— Так вы моя землячка!
— А вы мой земляк. Вот как привелось встретиться, а?
— А как зовут вас?
— Екатерина Юпшэ. Я прачка с улицы Рояль-Сен-Рок.
— А меня зовут Лефевром; я сержант гвардии в отставке, ныне в милиции.
— Ну ладно, земляк! Потом, если вы пожелаете, мы познакомимся поближе, а сейчас нас ждет фрикасе! — И, взяв его без всяких церемоний за руку, Екатерина увлекла его в водоворот танцующих.
Танцуя, они пронеслись мимо молодого человека с бледным, почти болезненным лицом, с длинными волосами, ниспадавшими на собачьи уши, с хитрой и осторожной миной; его широкая поддевка казалась скорей рясой.
При виде танцующей парочки он пробормотал:
— Ба! Вот и Екатерина! Она танцует с гвардейцем!
— Вы знаете эту Екатерину? — спросил Бернадотт, услыхавший его слова.
— О, имею честь знать ее доподлинно! — ответил молодой человек духовного склада. — Это моя прачка. Славная девушка, работящая, опрятная и добродетельная. Говорит все, что думает, а язык у нее болтается, что у колокола! За ее откровенность и прямоту ее во всем квартале зовут мадемуазель Сан-Жень — бесцеремонная.
Оркестр заиграл еще громче, и продолжение разговора потерялось в веселом шуме и топоте ног, отплясывающих фрикасе.
II
После танца сержант Лефевр отвел свою землячку Екатерину на место. Теперь между ними царил полнейший мир. Они разговаривали, словно были знакомы тысячу лет, и шли под руку, словно влюбленная парочка. Чтобы окончательно закрепить мир, Лефевр предложил своей даме освежиться напитками.
— Отлично! — ответила Екатерина. — О, я не умею жеманничать… вы мне кажетесь славным парнем, и я не хочу ответить отказом на вашу любезность, тем более что фрикасе вызывает порядочную жажду. Присядем здесь!
Они присели за один из столиков, расставленных в зале.
Лефевр был в полном восхищении от оборота, который приняло это знакомство. Тем не менее, прежде чем сесть, он явно выказал сильное колебание.
— Что с вами? — резко спросила Екатерина.
— Да вот, видите ли, барышня: как в гвардии, так и в милиции у нас не в обычае разбивать компанию, — ответил он с легким смущением.
— А! Понимаю! Ваши товарищи. Ну, так что же, пригласите и их! Если хотите я позову их. — И, не дожидаясь его согласия, Екатерина поднялась, встала на деревянную, выкрашенную в зеленый цвет скамейку, стоявшую у стола, и, сложив руки рупором, окликнула трех гвардейцев, которые не без насмешки во взгляде следили издали за парочкой. — Эй, ребята, — крикнула она, — идите сюда! Здесь вас не съедят? А если вы ограничитесь тем, что будете смотреть, как пьют другие, то у вас типун па языке вскочит!
Трое гвардейцев не стали ломаться и приняли это фамильярное приглашение; только четвертый из них не тронулся с места.
— А что же ты, Бернадотт? — спросил один из гвардейцев сержанта, оставшегося на месте.
— Я разговариваю с гражданином, — с раздражением ответил Бернадотт, завидовавший всякому успеху товарища.
Раздраженный тем, что ухаживания Лефевра за красивой прачкой увенчались успехом, он хотел остаться вдали, притворяясь, будто поглощен разговором с молодым человеком в поддевке.
— О, гражданин не будет лишним за нашим столом, — крикнула Екатерина. — Я знаю его. Да и он меня — тоже. Разве не правда, гражданин Фушэ?
Молодой человек, названный так, подошел к столу, где Лефевр уже заказал горячего вина с пышками, и, здороваясь, сказал:
— Раз мамзель Екатерина этого хочет, что же, сядем! Я в восторге, что буду в обществе бдительных стражей города!
Четверо гвардейцев и штатский, которого назвали Фушэ, присели, и, наполнив стаканы, все принялись пить.
Екатерина и Лефевр, которые уже позволяли по отношению друг к другу галантные вольности, пили по очереди из одного стакана.
Лефевр набрался смелости и захотел сорвать поцелуй. Но Екатерина воспротивилась этому.
— Ну, уж это дудки, земляк! — сказала она. — Я с удовольствием пошучу и посмеюсь, но не больше!
— Вы не ожидали найти добродетель у прачки, сержант? — сказал Фушэ. — Да, знаете ли, с мадемуазель Сан-Жень каши не сваришь!
— Ну скажите, гражданин Фушэ, — оживленно подхватила Екатерина, — вы меня знаете, потому что я стираю ваше белье с тех пор, как три месяца тому назад вы приехали из Нанта. Разве можно что-нибудь сказать на мой счет?
— Нет! Ничего… абсолютно ничего!
— Я не прочь пошутить, вот как сейчас, сплясать фрикасе, даже чокнуться со славными людьми, какими вы кажетесь мне, но ни один мужчина, ни один, не только в моем квартале, но и вообще на свете не может похвастаться, что ему удалось перешагнуть порог моей комнаты. Ну, моя мастерская открыта для всего света, что же касается моей комнаты, то ключ от нее получит только один-единственный человек…
— Ну, а кто же будет этим счастливчиком? — спросил Лефевр, покручивая усы.
— Мой муж! — гордо ответила Екатерина, а затем, чокнувшись с Лефевром, смеясь прибавила: — Теперь вы предупреждены, земляк! Что вы скажете на это?
— Скажу, что это, быть может, окажется совсем не так уж неприятно, — ответил сержант, теребя свои усы. — Там видно будет… За ваше здоровье, мадемуазель Сан-Жень!
— За ваше здоровье, гражданин! В ожидании вашего предложения…
И оба они принялись весело прихлебывать вино, посмеиваясь над этими откровенными признаниями.
В этот момент среди столиков показался какой-то странный человек, одетый в остроконечную шапку, в длинное черное платье, усеянное серебряными звездами вперемешку с перекрещивающимися голубыми лунами и кометами с пунцовыми хвостами.
— А, вот и Фортунатус! — крикнул Бернадотт. — Это колдун! Кто хочет узнать свое будущее?
В те времена у каждого бального помещения имелся свой колдун или гадалка, которые предсказывали будущее и угадывали прошедшее всего за пять су.
В эпоху великих переворотов того времени, в такую эпоху, как канун 10 августа 1792 года когда целому общественному строю приходилось исчезать, уступая место внезапно надвинувшемуся новому миру, в быстрой смене условий жизни неминуемо должна была развиться сильная вера в чудеса. Калиостро со своим графином, Месмер со своим чаном вскружили немало аристократических голов, а народное легковерие довольствовалось уличными ворожеями и астрологами.
Екатерине захотелось узнать свое будущее. Ей казалось, что встреча с красивым сержантом должна будет внести какую-то перемену в ее жизнь.
В тот самый момент, когда она попросила Лефевра позвать Фортунатуса и спросить его о ее судьбе, колдун подошел к группе из трех молодых людей, сидевших за соседним столом.
— Послушаем-ка, что он скажет им, — заметила Екатерина вполголоса, указывая головой на соседей.
— Я знаю одного из них, — сказал Бернадотт, — его зовут Андош Жюно. Он бургундец. Я встречался с ним, когда он служил волонтером в батальоне Кот д'Ор.
— Второй — это аристократ, — сказал Лефевр, — его зовут Пьер де Мармон. Это тоже бургундец, он из Шатийона.
— Ну, а третий? — спросил Фушэ. — Кто этот молодой человек, такой сухой, с лицом почти оливкового цвета, с такими впалыми глазами? Мне кажется, что я уже видел его где-то… но где?
— Вероятно, в моей прачечной, — сказала Екатерина, слегка краснея. — Это артиллерийский офицер в отставке… он ищет места. Он квартировал около меня в гостинице «Патриотов», на улице Рояль-Сен-Рок.
— Он корсиканец? — спросил Фушэ. — Они все селятся в этой гостинице. У этого вашего клиента еще такое странное имя. Постойте-ка: Берна… Буна… Бина… нет, не так! — старался он припомнить имя, ускользнувшее из его памяти.
— Бонапарт! — сказала Екатерина.
— Да, да, именно. Бонапарт… Тимолеон, кажется?
— Наполеон! — поправила его Екатерина. — Это очень ученый человек, внушающий уважение всем, кто его видит.
— У него такое отвратительное имя, у этого Тимоде… Наполеона Бонапарта… и такая печальная физиономия! Ну, вряд ли он когда-нибудь добьется чего-либо! Такого имени даже и не запомнишь! — проворчал Фушэ, а затем прибавил: — Однако внимание! Колдун уже говорит им. Но что он может предсказать?
Молодые люди замолчали и стали прислушиваться, а Екатерина вдруг ставшая очень серьезной, настроенная несколько мистически благодаря близости чародея, шепнула Лефевру на ухо:
— Я очень хотела бы, чтобы он предсказал много счастья Бонапарту. Это такой достойный молодой человек! Он поддерживает четырех братьев и сестер. А он далеко не богат, настолько, что, видите ли, я никак не могу решиться представить ему счет. А он мне много должен за стирку белья! — прибавила она с легким вздохом встревоженного коммерсанта.
Тем временем Фортунатус, покачивая остроконечной шапочкой, важно рассматривал руку молодого человека, которого Бернадотт назвал Жюно.
— Твоя карьера, — замогильным голосом начал он, — будет блестящей и удачной. Ты станешь другом великого человека. Ты будешь спутником его славы. Твою главу увенчает герцогская корона… ты будешь победителем на юге.
— Браво! В настоящий момент я сижу на половинном пайке! Ты обещаешь утешительные вещи, друг! Но скажи мне, какой смертью умру я после такого счастья? — воскликнул Жюно.
— Ты умрешь в сумасшествии! — мрачно произнес колдун.
— Черт! Начало твоего пророчества гораздо приятнее конца! — смеясь, сказал второй, которого Бернадотт назвал Мармоном. — Ну, а мне ты тоже предскажешь сумасшествие?
— Нет! Ты будешь жить на несчастье родины и на позор себе. После существования, полного славы и счастья, ты изменишь своему повелителю, станешь предателем своей родины, и твое имя получит печальную известность Иуды Искариотского!
— Ну, ты не очень-то щадишь меня в своих предсказаниях! — с громким смехом воскликнул Мармон. — Ну, а что ты предскажешь нашему товарищу?
С этими словами он указал на молодого артиллерийского офицера, к которому Екатерина питала столько участия.
Но тот резко отдернул руку и сказал суровым тоном:
— Я не желаю знать будущее. Я сам знаю его. — Он простер руку по направлению к небу, кусочек которого виднелся сквозь забор из дранок, окружавший садик «Во-Галя», и сказал дрожащим голосом: — Видите вы там звезду? Нет, не правда ли? Ну, а я вот вижу ее; это — моя звезда!
Чародей отошел от их стола.
Екатерина знаком подозвала его; он подошел к компании и сказал, глядя на двоих гвардейцев:
— Пользуйтесь вашей молодостью… ваши дни сочтены!
— А где мы умрем? — спросил один из тех, которым было суждено умереть за свободу десятого августа среди прочих героев, расстрелянных швейцарской лейб-гвардией.
— На ступенях дворца!
— О, как это величественно! — воскликнул Бернадотт. — А мне ты тоже собираешься предсказать трагическую смерть… с дворцом?
— Нет, твоя смерть будет очень тихой. Ты воссядешь на трон, и после того как отречешься от своего знамени и победишь прежних товарищей по оружию, ты опочиешь в далекой, обширной гробнице около ледяного моря…
— Но если товарищи все разберут себе, то что же останется для меня? — спросил Лефевр.
— Ты, — сказал Фортунатус, — женишься на той, которую полюбишь, ты будешь командовать громадной армией, и твое имя постоянно будет синонимом храбрости и порядочности!
— Ну, а мне что вы скажете, гражданин колдун! — пролепетала Екатерина, почувствовавшая невольную робость, что, наверное, случилось с ней в первый раз в жизни.
— Вы, барышня, станете женой того, кого полюбите… и будете герцогиней!
— Значит, в таком случае мне тоже надо стать герцогом! Генерала с меня не хватит? — весело спросил Лефевр. — Эй, колдун! Докончи же свои предсказания, скажи мне, что я женюсь на Екатерине и что мы с ней станем герцогом и герцогиней!
Но Фортунатус медленно пошел прочь, не обращая внимания ни на смех молодых людей, ни на любопытные взгляды женщин.
— Однако! — сказал Фушэ. — Этот колдун очень изобретателен. Вам он предсказал самые высшие должности и отличия, а мне не сказал ничего. Значит, я никогда не стану важной особой?
— Да вы уже были священником, — сказала Екатерина, — кем же вы еще хотите стать?
— Я был просто проповедником, моя милая, а в настоящее время я просто патриот, враг тиранов. Кем я хотел бы стать? О, это так просто! Министром полиции!
— Вы, может быть, и станете им. Вы так хитры, так умеете держаться в курсе всего происходящего, всего, что говорят, гражданин Фушэ! — отрезала Екатерина.
— Да, я стану министром полиции, когда вы будете герцогиней! — ответил Фушэ с какой-то странной улыбкой, которая на минуту осветила его печальное лицо и смягчила куний профиль.
Бал кончился. Четверо молодых людей встали и ушли, посмеиваясь над колдуном и его колдовством.
Екатерина приняла руку Лефевра, который получил разрешение проводить ее до дверей прачечной.
Впереди их шли трое соседей по столу. Наполеон Бонапарт важно и медлительно шел в стороне от своих друзей Жюно и Мармона; по временам он вскидывал голову кверху, всматриваясь в голубой свод неба, словно отыскивая там ту звезду, о которой он говорил и которая была видна только ему одному.
III
10 августа 1792 года приходилось на пятницу. Ночь с девятого на десятое была очень теплой, звездной, ясной. До самой полуночи луна заливала холодными лучами город, который внешне казался вполне спокойным, мирным, заснувшим. Но, несмотря на это, вот уже две недели как Париж засыпал только на один глаз, с оружием в руках, готовый воспрянуть по первому призыву.
С того вечера, как Лефевр встретился с прачкой Екатериной в «Bo-Гале», город кипел как в котле. Словно в гигантской печи, все ярче и ярче разгорался огонь революции. Явились марсельцы и заполнили все улицы, все клубы своим пылом, своим жгучим, как солнце юга, патриотизмом, своим воинственным подъемом. Эхо разносило звуки бессмертного гимна Рейнской армии, вырвавшегося из глубины гениальной души и вдохновенного сердца Руже де Ли-ля. Марсельцы научили этому гимну парижан, которые, вместо того чтобы дать ему, ставшему навсегда национальной песней, название «ла Франсэз», великодушно окрестили «Марсельезой».
Двор и народ открыто готовились к бою. Двор забаррикадировал Тюильрийский дворец, поставил там гарнизон из швейцарцев и созывал фанатиков из аристократов, которых после октябрьского банкета, когда национальные кокарды срывались ими и бросались на пол, прозвали «рыцарями кинжала».
День 10 августа был полной победой революции и фактическим наступлением республики, так как 22 сентября 1792 года было только объявлено и узаконено то, что было добыто 10 августа. И между тем никто не может похвастаться, что это именно он организовал и руководил движением народных масс. Дантон спал у Камила Дюмулена, когда пришли пригласить его в коммуну. Марат прятался у себя в погребе. Робеспьер держался в стороне: он был избран в члены коммуны только на следующий день, 11 августа. Барбару отклонил честь повести в бой марсельцев, а Сантер, великий агитатор предместья Сент-Антуан, участвовал в сражении только в середине дня. 10 августа в анонимном восстании, в сражении без руководителя, главнокомандующим и героем был весь народ.
Все началось только после полуночи, в ночь с девятого на десятое августа.
Эмиссары сорока семи секций, требовавших гибели роялизма, безмолвно обходили улицы и из двери в дверь передавали приказ:
— К оружию, как только послышатся звуки набатного колокола и бой барабанов!
Около часа ночи во многих церквах, колокола забили набат. Колокол церкви Сен-Жермен-д'Оксеруа, когда-то призывавший к резне Варфоломеевской ночи, зазвонил тризну по монархии. К этому мрачному звону вскоре присоединился грохот барабанов, забивших тревогу; Париж проснулся и, протирая глаза, взялся за оружие.
Луна зашла, город потонул во мраке, но во всех окнах один за другим зажигались огни. В этой внезапной иллюминации было что-то мрачное, трагическое. Это была искусственная заря того дня, когда дым сражений, копоть пожаров и кровавые испарения заставили потускнеть солнце.
Улицы просыпались, и двери одна за другой распахивались. На порогах показывались вооруженные люди. Они всматривались во тьму, прислушивались, поджидая появления старшего их секции, чтобы стать в ряды, и глядели, как над крышами занимался день.
Слышался грохот ружейных прикладов по мостовой. В переулках и во дворах стоял треск барабанов, металлический звук от штыков, прочность которых испытывали, и бряцанье сабель и пик. В домах, находившихся по соседству с Тюильри, были подняты все ставни и открылось много лавочек.
Мадемуазель Сан-Жень не преминула сунуть свой нос в начинающуюся историю. В коротенькой юбке, в легкой кофточке, накинутой на пышную грудь, в кокетливом ночном чепчике на голове, она сначала прислушивалась из окна к ночным шумам; разобрав звуки набата и треск барабанов, она пошла в прачечную, зажгла там огонь и осторожно приоткрыла дверь.
Улица Рояль-Сен-Рок, где находилась прачечная, была еще совершенно пустынной. Екатерина ждала, прислушиваясь и глядя во все глаза. Но не одно только любопытство заставляло ее поджидать прохождения вооруженных секций. Сан-Жень была доброй патриоткой, но в данный момент не только ненависть к тиранам волновала ее.
После фрикасе, который она танцевала в «Во-Гале», Екатерина снова виделась со своим земляком, сержантом Лефевром. Они познакомились поближе. На прогулке в Ла-Ранэ, куда она позволила себя свести без всякого ломанья, они обменялись признаниями, клятвами и построили немало воздушных замков. Отставной гвардеец проявил изрядную предприимчивость, но Екатерина ответила ему настолько энергично, выказала такое решительное намерение отдаться только мужу, что сержант, окончательно влюбленный, кончил тем, что попросил ее руки, и она приняла его предложение.
— Правда, у нас с тобой не Бог весть что имеется, — весело сказала она сержанту, — и в хозяйство мы многого не внесем… У меня — моя прачечная, в которой нет недостатка в плохих плательщиках.
— А у меня — галуны да жалованье, которое сплошь да рядом сильно запаздывает.
— Это — пустяки! Мы молоды, любим друг друга и впереди у нас будущее! Разве колдун не предсказал мне тогда, что я буду герцогиней?
— А мне разве не предрек он, что я стану генералом?
— Да, но он сначала сказал, что ты женишься на той, которую полюбишь.
— Ну, так что же! Осуществим предсказание с начала!
— Теперь нельзя еще жениться. Предстоит бой…
— Так давай назначим время, Екатерина!
— После низвержения короля, хочешь?
— Да, это ладно! Тираны! О, я так ненавижу их. Ну-ка, Катя, посмотри сюда! — Лефевр завернул рукав и показал своей нареченной правую руку, на которой виднелась великолепная татуировка: две скрещенные сабли, над ними пылающая граната, а кругом надпись: «Смерть тиранам». — Ага! Вот что значит быть патриотом! — гордо сказал он, с торжествующим видом протягивая ей руку.
— Это очень красиво, — промолвила Екатерина.
Она протянула палец, словно желая ощупать татуировку, но Лефевр поспешил сказать ей:
— Не трогай! Это еще совсем свежо.
Екатерина отдернула руку в испуге, что она чуть-чуть не испортила такое мастерское произведение.
— Не бойся, это не стирается… зато горит здорово! Ну, это пройдет! Но слушай-ка, через несколько дней у тебя будет кое-что получше.
— А что именно? — с любопытством спросила Екатерина.
— Мой свадебный подарок! — таинственно ответил сержант.
На этот раз он не захотел сказать ей ничего больше, и, весело чокнувшись за погибель предателей, за низвержение короля и за их свадьбу, которая будет позже, Екатерина и ее жених вернулись на шарантонском дилижансе, на котором доехали до улицы Булуа; оттуда они пешком пошли под покровом ласково мигавших звезд на улицу Рояль-Сен-Рок. Когда они добрались до прачечной, то Екатерина, желая избежать всяких нежных сцен, закрыла дверь перед самым носом сержанта и крикнула ему:
— Спокойной ночи, Лефевр! Ты войдешь сюда, когда станешь моим мужем!
С тех пор каждый раз, когда Лефевр мог оторваться от службы, он прибегал в прачечную и проводил несколько сладких минут со своей землячкой.
Но оба начинали находить, что что-то уж очень задерживается падение короля. Поэтому легко понять, с каким двойным нетерпением патриотки и невесты Екатерина созерцала зарю десятого августа. Набатный колокол, оглашая ночную тьму зловещими звуками, вызванивал для Тюильри «Со святыми упокой», а для Екатерины — «Гряди, гряди, голубица!».
Двое соседей последовали примеру Екатерины и в ночных одеждах высунулись за дверь, ожидая новостей.
— Ну, что слышно новенького, мамзель Сан-Жень? — спросил один из них через улицу.
— Сама жду, сосед, погодите! Потерпите немного — скоро узнаете, что там делается.
Задыхаясь от быстрого бега, Лефевр, вооруженный и в полной боевой форме, прибежал с улицы Сент-Оноре, поставил ружье у двери и в обе щеки расцеловал прачку.
— Ах, милая Екатерина, как я рад видеть тебя! Жаркое будет дело, да и сейчас, впрочем, уже началось. Сегодня все решится. Да здравствует нация!
Соседи робко подошли к ним и спросили, в чем дело.
— А вот, — ответил Лефевр, вытягиваясь, словно собираясь читать прокламацию. — Надо вам сказать, что в Тюильри хотели убить достойного Петиона, мэра Парижа…
Слушатели издали недовольно зароптали.
— Да что ему нужно было там? — спросила Екатерина.
— Господи! Его потащили туда в качестве заложника. Знаете ли, Тюильри теперь представляет собой настоящую крепость. Окна забиты толстыми дубовыми досками, двери забаррикадированы; швейцарцы вооружены до пят, и вместе с ними там засели эти негодяи, рыцари кинжала, предатели, друзья иностранцев; они поклялись перебить всех патриотов. О! Если в мои руки попадется один из них во время сегодняшней заварухи, то я не завидую ему! — воскликнул Лефевр с почти дикой энергией.
— Продолжай, — сказала Екатерина, — здесь у нас нет этих рыцарей кинжала, да и сомневаюсь я, чтобы тебе попался навстречу один из них. Ну, а Петион, с ним-то что стало?
— О, ему удалось ускользнуть! Теперь он в безопасности.
— А что, разве бой уже начался?
— Нет, но тем не менее есть уже один убитый. Это — командир национальной гвардии.
— Ваш начальник? Его застрелили швейцарцы?
— Его? Да ведь он был на их стороне! Нашли подписанный его рукой приказ расстрелять патриотов из предместья, расстрелять сзади, когда они дойдут до Поль-Пефа, чтобы соединиться с товарищами из Сен-Марсо и Сен-Виктор. Но его измена была обнаружена: предатель, призванный в ратушу для объяснений, был застрелен из пистолета кем-то из толпы. Ничто не будет в силах остановить отряды, двинувшиеся вперед; сегодня мы победим, а через неделю мы уже повенчаемся с тобой, Екатерина! Смотри-ка, у меня уже имеется свадебный подарок для тебя. Ты помнишь, я обещал тебе. — И в присутствии изумленных соседей сержант обнажил левую руку, где виднелась новая татуировка, изображавшая два горящих сердца. — Смотри-ка, — сказал он невесте, — что здесь написано: «Катрин на всю жизнь!»
Он отошел на шаг, чтобы дать лучше рассмотреть рисунок.
— Как красиво… еще красивее той руки! — сказала Екатерина, вся красная от удовольствия, и, бросившись на шею сержанту, сказала ему: — О, мой Лефевр, как ты мил и как я люблю тебя!
В этот момент вдали затрещал ружейный огонь и послышался ответ пушек. Зеваки попрятались в дома.
— До скорого свидания, Катрин! Я должен идти туда, куда меня призывает долг… Будь спокойна! Мы вернемся победителями! — весело сказал Лефевр.
Он взял ружье и, поцеловав еще раз невесту, побежал по направлению к Тюильри.
Швейцарцы дали залп по почти безоружной толпе, которая пыталась вступить с ними в переговоры. Трупы покрыли площадь Тюильри, все три дворика и Карусель! Но пушки патриотов уже слали туда ядра, возвещавшие падение роялизма!
Людовик XVI укрылся в здании Национального собрания, которое собралось в два часа утра при звуках набата. Ожидая событий, законодатели занялись под председательством Верньо прениями по вопросу об освобождении негров. Святое дело человеческой свободы в те дни защищалось повсюду, без различия рас и цвета кожи.
Укрываясь в ложе логотахиграфа, как в те времена называли секретаря-стенографа, в обязанности которого входило редактирование отчетов, тучный монарх спокойно ел персик, не слушая грохота выстрелов, грозивших опрокинуть его трон, равнодушный к судьбе швейцарцев и забыв об аристократах, которые умирали за него.
Уже совершенно рассвело. Последняя ночь монархии кончилась, и марсельцы с пением гимна шли на приступ последнего оплота феодализма.
IV
Был полдень, когда со стороны Тюильри замолчали пушки. Слышались неясные крики, среди которых смутно угадывался клич: «Победа! Победа!». Над домами вздымались громадные клубы густого дыма, по улицам вихрем кружились искры, обрывки бумаги и клочки горящей материи…
В этот на вечные времена достопамятный день было очень много разных перипетий.
Отряды избрали каждый по три комиссара, которые должны были образовать парижскую коммуну. Мэр Пети-он, вызванный в ратушу, был арестован там, чтобы восстание могло развиваться в полной независимости. Командир национальной гвардии, признанный виновным в измене, был убит, а на его место был назначен Сантер. Арсенал взломали, и добытое оттуда оружие позволило первой колонне, явившейся из предместья Сент-Антуан, двинуться в путь.
Король, обойдя батальоны национальной гвардии, вызванной для защиты дворца, обескураженный, скрылся в своих апартаментах. Только батальон де-Пти-Пэр встретил его приветствиями. Остальные кричали: «Да здравствует нация! Долой Вето!», а артиллеристы повернули пушки против дворца.
Людовик XVI увидел, что он погиб и что его могущество и престиж готовы исчезнуть навсегда. Тогда он отправился просить защиты у Национального собрания, заседания которого в то время проходили в манеже, вблизи тюильрийских садов, там, где теперь находится отель «Континенталь» на улице Риволи. Его эскортировали триста гвардейцев и триста швейцарцев.
Всех швейцарцев было девятьсот пятьдесят человек, очень хорошо вооруженных, высокодисциплинированных. Большинство из них говорило только по-немецки. Эта личная стража, привязанная к королю и считавшая делом личной чести соблюсти условия найма, была полна решимости пожертвовать собой ради хозяина, который завербовал ее и платил ей. К тому же, не зная истинного положения вещей, обманутая начальниками и возбуждаемая «рыцарями кинжала», швейцарская гвардия на заре десятого августа все еще верила, что речь идет о том, чтобы защитить особу короля от разбойников, явившихся убить его. Поэтому многие из швейцарцев, как сообщил один из их полковников, Прейфер, были удивлены и поражены, когда увидели, что на дворец наступает национальная гвардия. Их смутили мундиры. Они думали, что им придется иметь дело с чернью, с насильниками, против которых протестовали все честные граждане, и вдруг увидели, что против них выступает вся нация, вооруженная и дисциплинированная.
Таким образом, можно думать, что в этот день, когда успех уже был достигнут благодаря бегству Людовика XVI, кровь не пролилась бы, если бы в дело не вмешался один из тех ужасных случаев, столь частых в моменты народного смятения, который подал знак к безжалостной резне.
Марсельцы и бретонцы под начальством друга Дантона, отставного унтер-офицера эльзасца Вестермана, человека очень энергичного, проникли во двор Тюильри. В то время всех дворов было три, и Карусель, более тесная, чем теперь, была сплошь застроена домиками.
Вестерман выстроил свой батальон в боевом порядке. Швейцарцы разместились по окнам дворца, готовые в любой момент открыть огонь. Обе стороны оставались в выжидательном настроении. Вестерман сказал по-немецки несколько слов швейцарцам, чтобы убедить их не стрелять в народ и побрататься с ним. Уже кое-кто из этих несчастных наемников принялся выбрасывать из окон патроны, подавая этим знак к сдаче оружия.
Патриоты ободрились и, обнадеженные этой мирной демонстрацией, направились в вестибюль дворца.
Посредине лестницы, ведшей в часовню, была устроена баррикада. На каждом выступе лестницы стояли по два швейцарца, один — спиной к стене, другой — к барьеру; безмолвные и суровые, они стояли с ружьями на прицеле, готовые стрелять по первому знаку. Высокого роста, в красных куртках и меховых шапках, эти горцы невольно внушали страх.
Но в толпе были не только бретонцы или марсельцы. К ним присоединились еще и шутники из предместий, которых можно было встретить в первом ряду и в дни сражений, и на местах казней и около фейерверка.
Кому-то из этих парижан пришло в голову крюками и пиками подтянуть к себе в шутку двух-трех наиболее близко стоявших швейцарцев. Последние даже не сопротивлялись, быть может довольные, что таким образом избегают всякой драки.
При громком смехе зрителей это выуживание швейцарцев шло своим чередом, когда вдруг ни с того ни с сего артиллерийский залп смел эту толпу, до сих пор совершенно безобидную и скорее насмешливую, чем грозную; в дыму сражения так и не удалось узнать, откуда последовал первый выстрел и на чьей совести должна лежать ответственность за эту резню. Но мы вправе думать, что «рыцари кинжала», наблюдая с верхней площадки, как швейцарцы без сопротивления переходили в руки осаждающих, готовые побрататься с ними, решили остановить эту сдачу и воздвигнуть кровавый ров между народом и швейцарской гвардией; по всей вероятности, они и дали первый сигнал к бою.
Артиллерийский огонь, направляемый совершенно хладнокровно защитниками дворца, причинил жестокий урон. В одно мгновение вестибюль наполнился трупами. Кровь ручьями текла по полу. Весь вестибюль застилали густые клубы дыма.
За первым выстрелом последовала общая перестрелка. Швейцарцы и «рыцари кинжала», многие из которых переоделись в гвардейскую форму, стреляли через забаррикадированные окна. Все их выстрелы попадали в цель.
Дворы опустели. Карусель казалась словно выметенной.
Тогда швейцарцы сделали отважную вылазку до улицы Сент-Оноре. Но марсельцы, бретонцы и национальная гвардия собрались с силами и вернулись с пушками. Швейцарцы были выбиты, дворец опустошен. Ничто не могло сопротивляться победоносной толпе. Большинство швейцарцев было перебито во дворце, в садах; их преследовали до Елисейских Полей. Большинство из оставшихся в живых было обязано жизнью великодушию победителей, которые старались защитить их от народной ярости.
Король Людвик XVI потребовал, чтобы швейцарцы прекратили огонь. Этот приказ он дал д'Эрвальи, но предводитель шайки «рыцарей кинжала» предпочел не передавать его пока что куда следует. Он, как и королева, думал в то время, что победа останется за защитниками дворца и что пальба проучит тех, кого он называл не особенно лестно — «сволочи». Когда он увидал свою ошибку, было уже слишком поздно: дворец был во власти толпы, а король, пленник национального собрания, вскоре был посажен в тюрьму.
Екатерина, которая не чувствовала ни малейшего страха, с волнением прислушивалась к началу боя и, не слыша потом выстрелов, решила добраться до Карусели. Она хотела узнать, не согласится ли король добровольно отказаться от своих прав и ускорить ее свадьбу, а кроме того, ей хотелось бы найти среди сражающихся Лефевра.
Эта мысль встретить его всего черного от порохового дыма сражающимся, словно дьявол, в первых рядах, под градом выстрелов, не только не внушала Екатерине страха, но положительно вдохновляла ее. Ей хотелось бы быть подле жениха, иметь возможность подавать ему патроны, даже больше — самой держать ружье и— стрелять из него по защитникам короля. Вдыхая запах пороха, она чувствовала в себе сердце вояки. Она хотела бы делить с Лефевром все опасности, и слава, которая неминуемо осенит Лефевра, заставляла ее и гордиться им, и немного завидовать ему.
Но ни разу ей не пришло в голову, что он может пасть, сраженный пулей швейцарца. Разве же им не было предсказано, что он будет командовать армией, а она станет его женой?! Значит, ни он, ни она не обречены на гибель в бойне этого дня! И, не обращая внимания на опасность, Екатерина все дальше и дальше продвигалась вперед, разыскивая Лефевра и бравируя своей храбростью.
Когда со стороны швейцарцев последовал ужасный залп, то все бросились врассыпную. Толпа беглецов увлекла за собой Екатерину на улицу Рояль-Сен-Рок. Около своей прачечной она несколько оправилась, боясь, как бы паника не разрослась еще более и как бы толпа не бросилась к ней в дом. Она еще не потеряла окончательно надежды, но уже начинала бояться, как бы день ее свадьбы не был отложен в долгий ящик.
— Ну уж эти мужчины! Как им не стыдно так позорно отступать? — ворчала она со злостью, толкая ногой дверь своей прачечной. — О, если бы у меня было ружье, я-то уж осталась бы! Держу пари, что и Лефевр тоже не бросился бежать, как они.
Возбужденная, нетерпеливая Екатерина прислушивалась, поджидала вестей о победе, на которую не переставала надеяться. Когда пушки загромыхали изо всей силы, Екатерина подскочила от радости и закричала:
— Вот это наши! Браво, артиллеристы!
Затем она снова стала прислушиваться.
Пушечные выстрелы все учащались, доносились треск ружейных выстрелов, боевые крики. Очевидно, патриоты продвигались вперед, победа была за ними!
О, как не терпелось Екатерине поскорее увидеть своего Лефевра целым и невредимым, поцеловать его как победителя и сказать ему:
— Ну, теперь мы можем жениться.
Она лихорадочно металась по прачечной, ставни которой из предосторожности заперла.
Она не решалась уйти. Правда, ей очень хотелось вернуться на поле сражения, но она боялась, как бы в ее отсутствие не пришел Лефевр. Он будет встревожен и не будет знать, где ее искать. Самое лучшее было обождать его. Очевидно, после взятия дворца он с товарищами пройдет по улице Рояль-Сен-Рок.
Улица снова стала спокойной и пустынной, соседи позапирались у себя. Только что пробило двенадцать. Издали доносились отдельные ружейные выстрелы. Сквозь щель своей двери Екатерина видела вдали по улице Сен-Онорэ какие-то бегущие тени, преследуемые вооруженными людьми. Это были последние защитники дворца, которых преследовали по улицам.
Вдруг после двух-трех выстрелов, раздавшихся совсем близко от нее, Екатерина услыхала шум шагов по аллее, которая вела ко второму выходу из ее прачечной на улицу Сен-Рок. Она вздрогнула и пробормотала:
— Можно подумать, что сюда кто-то бежит. Да… кто-то идет. Но кто это может быть?
Бесстрашная, она подбежала к двери и открыла засов.
Показался человек, бледный, слабый, весь окровавленный, с рукой, прижатой к груди, он с трудом волочил ноги. Этот раненый был в белом костюме, коротких панталонах и шелковых чулках. Это был не патриот; если же он и сражался, то уж наверняка в рядах врагов народа.
— Кто вы? Что вам нужно? — решительно спросила Екатерина.
— Побежденный… я ранен… меня преследуют. Спрячьте меня, во имя Неба, мадам! Я граф Нейпперг… австрийский офицер…
Он не мог сказать ничего более. Розовая пена показалась на его губах, а лицо покрылось ужасающей бледностью. Покачнувшись, он рухнул у порога.
Екатерина, увидев, что этот молодой человек, так элегантно одетый, с жабо и жилетом, залитыми кровью, падает перед нею, испытала жалость и ужас.
— Ах, бедный юноша! — сказала она. — Как они отделали его!.. А ведь это аристократ! Он стрелял в народ, он даже не француз… он сказал, что он австриец. Но это все равно, во всяком случае он человек!
И движимая чувством доброты, которой так много в сердце женщины, как бы энергична она ни была (во всякой здоровенной маркитантке можно встретить нежную сестру милосердия), Екатерина нагнулась, ощупала грудь раненого, осторожно расстегнула залитое кровью белье и стала смотреть, жив ли он еще.
— Он еще дышит, — радостно сказала она, — значит, его можно спасти!
Затем, подбежав к кадке с водой, Екатерина набрала ведерко и, тщательно заперев дверь с улицы и осмотрев засов, вернулась к раненому.
Она наложила ему компресс, разорвав для этого на тряпки первое белье, попавшееся ей под руку. В спешке она не заметила, что разорвала мужскую рубашку.
— Батюшки! Что я наделала, — сказала она, — я изодрала рубашку клиента! — Она посмотрела на метку. — Ах, эго рубашка бедного артиллерийского капитана… Наполеона Бонапарта! У бедного парня их не очень-то много. Правда, он мне должен по громадному счету, но все равно — я верну ему новую рубашку; пойду куплю и снесу ему сама, скажу, что прожгла его рубашку утюгом. Только бы он принял, а то он так горд. Да, вот человек, который не обращает внимания на белье… не больше, чем на женщин, впрочем! — прибавила она с легким вздохом.
Продолжая думать о клиенте, рубашку которого она расщипала на корпию, Екатерина осторожно накладывала компрессы на рану артиллерийского офицера — гостя, совершенно неожиданного для такой патриотки, как она.
Вид этого молодого человека, пораженного, быть может, насмерть, бледного, совершенно без сил, перевернул все чувства Екатерины. Это уже не была амазонка в короткой юбчонке, которая стремилась затесаться в среду сражающихся, которая подскакивала от радости при каждом залпе и желала иметь ружье, чтобы принять участие в этом празднике смерти. Она стала ангелом хранителем, склонившимся к человеческим страданиям. На ее устах почти дрожало проклятие войне, а в голове мелькала мысль, что люди до сих пор остались порядочными дикарями, если могут таким образом решетить друг друга. Но в то же время у нее еще больше закипала ненависть против своих короля и королевы, сделавших неизбежной подобную бойню.
— Это австриец, — пробормотала Екатерина. — Что ему нужно было у нас? Защищать австриячку, госпожу «Вето»? А ведь у него далеко не злой вид…
Она внимательно всмотрелась в офицера.
— Он еще так молод… не больше двадцати лет… да и то нет! Можно подумать, что это девчонка.
Потом ей пришло в голову чисто профессиональное замечание:
— Какое у него тонкое белье… все батист! О, это аристократ.
И она вздохнула, словно бы желая сказать: «Как жаль»…
Под благотворным влиянием холодной воды и компрессов, приостановивших кровотечение, раненый постепенно приходил в сознание. Он медленно открыл глаза. Помертвелые зрачки что-то искали вокруг.
Вместе с сознанием к нему пришел и страх опасности. Он сделал движение, как бы желая встать.
— Не убивайте меня! — пробормотал он с чрезвычайным усилием, простирая руки вперед, словно собираясь отражать удары невидимых врагов, а затем, собрав все силы, заставил себя выговорить следующую фразу: — Вы — Екатерина Юпшэ… из Сент-Амарена? Меня послала к вам мадемуазель де Лавелин. Он сказала мне, что вы очень добры, что вы поможете мне спрятаться… позднее я вам все объясню.
— Мадемуазель Бланш де Лавелин? — с изумлением переспросила Екатерина. — Дочь губернатора Сент-Амарена, моя благодетельница? Та, которая помогла мне устроиться, купить эту мастерскую? Так вы ее знаете? О, для нее я готова не отступить ни перед какой опасностью! Вы не ошиблись, придя сюда. Здесь вы в безопасности, и тот, кто захочет вырвать вас из этого убежища, должен будет перешагнуть через мой труп!
Раненый пытался заговорить. Очевидно, он хотел еще раз упомянуть имя Бланш де Лавелин, которое оказало такое сильное действие на Екатерину.
Но та жестом приказала ему замолчать.
— Будьте благоразумны, — сказала она ему материнским тоном, — никто не собирается убивать вас! Мадемуазель Бланш будет довольна мной. Вы у патриотки. — Но тотчас она перебила себя, проворчав: — Что это я вздумала ему говорить? Разве австрийцы знают, что такое патриоты? Это — рабы. Вы у друзей, — поправилась она вслух. Нейпперг опять рухнул на пол. Его силы снова истощились. Но он услышал сочувственные слова Екатерины и понял, что спасен. Выражение несказанной радости и признательности осветило его лицо. Он был у друзей, имя Бланш де Лавелин покровительствовало ему, значит, ему больше нечего бояться… В последнем усилии, с полузакрытыми глазами он протянул руку и стал искать своей похолодевшей, бескровной рукой руку Екатерины.
— Хорошо, хорошо! Успокойтесь! Дайте мне сделать для вас все, что нужно, гражданин австриец! — сказала Екатерина, стараясь успокоить его волнение.
Она задумалась и сказала себе:
«Ему было бы лучше, если бы он прилег на кровать. Но у меня не хватит силы дотащить его до кровати. Ах, если бы Лефевр был здесь! Но он что-то не идет! Да и будет ли он?»
Екатерина не докончила своей мысли. Ей впервые пришло в голову, что и Лефевр мог быть теперь таким же недвижимым, как и этот иностранный офицер, мог истекать кровью и находиться при последнем издыхании. И от этой мысли у Екатерины все похолодело внутри.
— Какой ужас — эта война! — пробормотала она.
Но сейчас же энергичный характер взял верх над грустными мыслями, и она подумала:
«Ну вот еще! Лефевр слишком храбр, слишком основателен, чтобы быть вроде этого аристократишки. Мой Лефевр — настоящая ловушка для пуль! Он примет их целую дюжину и даже «уф» не скажет. Не так он скроен, как эти ветрогоны. А еще суются защищать мадам «Вето», осмеливаются стрелять в народ!»
Она пожала плечами, затем, снова взглянув на раненого, сказала:
— Но он не может остаться так, он, наверное, умрет. Но как быть? Это друг мадемуазель Бланш; я не могу оставить его умирать таким образом. Я должна все сделать, чтобы вернуть ему жизнь.
Вдруг ей пришло в голову:
«Может быть, это жених мадемуазель Бланш? Вот-то чудно будет, если я обвенчаю ее, я, которой она хотела дать приданое! О, я непременно должна спасти этого молодого человека. А тут еще Лефевр не идет! — встревоженно прибавила она, не зная, каким образом перенести австрийца на кровать. Вдруг ей пришла в голову новая мысль: — А ведь и лучше, что Лефевра нет! О, не потому, что он был бы зол или что ему придет в голову упрекнуть меня в спасении аристократа! Когда он узнает, что это друг моей благодетельницы, он ничего не скажет. Да кроме того, французский солдат не знает врагов по окончании сражения, Лефевр это часто говаривал мне. Но он ревнив, как тигр; ему не понравится, что ухаживаю за этим изнеженным аристократом. Он, быть может, начнет раздумывать, как это могло случиться, что молодой человек стал искать убежище прямо у меня. «Для того чтобы искать убежище у тебя, он должен тебя знать!» — вот что он скажет! Правда, я отлично знаю, что ответить ему на это. Но это ничего не значит, я все-таки предпочитаю, чтобы он не видел».
Екатерина снова сделала попытку приподнять юного австрийца, ставшего очень тяжелым.
В этот момент в дверь с улицы постучали.
Екатерина вздрогнула и прислушалась, побледнев больше раненого.
«Кто это может быть? — подумала она. — Прачечная заперта, да никому и в голову не придет явиться с бельем или зайти за чистым в такой день».
На улице послышался стук ружейных прикладов. В то же время раздался стук в дверь с аллеи. Слышались раздраженные голоса:
— Он скрылся сюда. Он здесь спрятался.
Екатерина задрожала.
— Это его ищут! — пробормотала она, сочувственно глядя на раненого, по-прежнему остававшегося без сознания.
За дверями слышались ворчливые голоса. Нетерпеливый ропот толпы свидетельствовал о ее раздражении.
— Да взломаем дверь! — вдруг сказал какой-то голос.
— Как спасти его? — пробормотала Екатерина, а затем, встряхнув умирающего, сказала ему: — Да ну же, гражданин, смелее! Попробуйте встать на ноги.
Раненый открыл глаза и сказал задыхающимся голосом:
— Не могу… дайте мне умереть!
— Ну вот, хорошее занятие «умереть»! — проворчала Екатерина. — Ну, ну! Поэнергичнее, черт возьми! Знайте, что я решила вернуть вас мадемуазель де Лавелин живым во что бы то ни стало. Ей не стоило и посылать вас сюда, чтобы умирать здесь. Ну, подымитесь-ка!.. Вот так! Вот видите, это совсем нетрудно, стоит только захотеть.
Нейпперг шатался, словно пьяный. Екатерина с трудом поддерживала его.
Крики и угрозы на улице раздавались с удвоенной силой. От ударов в дверь дрожали все косяки. Вдруг из общего гула толпы выделился голос, крикнувший:
— Постойте, граждане, пустите-ка меня! Мне-то откроют! — И тот же голос громко закричал: — Катрин, это я! Не бойся, выйди к нам!
— Лефевр! — дрожа, сказала Екатерина, счастливая, чю ее жених здоров и невредим, но испуганная за раненого. — Постой, я бегу отворять! — крикнула она.
— Ну, вот видите, граждане, она откроет! Немножко терпения! Черт возьми! Вы перепугали ее вашей манерой просить о входе, высаживая дверь! — сказал Лефевр громким голосом, чтобы Екатерина могла узнать его голос.
— Вы слышали? — торопливо сказала она раненому. — Они хотят войти… я должна открыть им. Идите!..
— Куда надо идти?
— Попытайтесь влезть по этой лестнице. Я спрячу вас на чердаке.
— Влезть? О, это невозможно. Вы видите, я еле волочу ноги.
— Ну, ладно! Туда… в мою комнату!
Екатерина, подталкивая австрийца, заставила его войти в ее комнату и заперла дверь на ключ. Затем, красная, задыхающаяся, довольная, она поторопилась открыть дверь Лефевру и толпе, сказав про себя с выражением радостного удовлетворения: «Теперь он спасен!»
V
Как только засов был откинут, задвижка отперта и дверь открылась, в комнату вошел Лефевр в сопровождении трех-четырех национальных гвардейцев и большой толпы соседей и зевак, среди которых преобладали женщины и дети.
— Однако ты долго не отпирала, милая Катрин, — сказал Лефевр, целуя невесту в обе щеки.
— Господи! Этот шум, крики…
— Да, я понимаю… ты испугалась. Но это стучали патриоты, друзья. Катрин, мы победили по всей линии! Король превратился в простого узника нации, твердыня деспотизма взята. Теперь хозяином Франции является народ!
— Да здравствует нация! — послышались голоса.
— Смерть тиранам! Долой швейцарцев и «рыцарей кинжала»! — закричали другие из толпы, теснившейся у порога прачечной Екатерины.
— Да, смерть тем, которые стреляли в народ! — громко сказал Лефевр. — Катрин, знаешь, почему к тебе в прачечную ломились с таким ожесточением?
— Нет… Я очень испугалась. Тут поблизости слышались ружейные выстрелы.
— Мы стреляли по аристократу, который бежал из Тюильри, в одного из «рыцарей кинжала», которые хотели перебить патриотов. Я поклялся, что если мне попадется один из них, то я заставлю его поплатиться за пролитую кровь наших братьев. И вот мне и моим товарищам, — сказал Лефевр, указывая на сопровождавших его национальных гвардейцев, — удалось напасть на след одного из них. Мы выстрелили в него из ружья, но вдруг на повороте улицы он бесследно исчез. А между тем он был ранен, кровавые следы вели по аллее вплоть до твоей двери, Катрин. И тогда мы подумали, что он укрылся у тебя. — Лефевр осмотрелся по сторонам и затем сказал: — Но его нет, иначе мы видели бы его, Да и потом ты бы сказала нам, что он здесь? — Затем, обращаясь к своим товарищам, он продолжал: — Товарищи, нам здесь больше нечего делать. Особенно вам! Вы видите, что аристократа здесь нет. Надеюсь, что вы позволите одному из победителей при Тюильри спокойно обнять свою женушку.
— Жену? О, пока еще нет, Лефевр! — сказала Екатерина.
— Как? Да разве король не свергнут? — воскликнул Лефевр и снова обратился к товарищам: — До свиданья, граждане, до скорого свидания в отряде. Нам надо выбрать капитана и двух лейтенантов и потом священника на приход… конечно, священника-патриота. Старый священник испугался и удрал, оба лейтенанта и капитан убиты швейцарцами, значит, надо заменить их. До свиданья!
Гвардейцы ушли. Зеваки продолжали торчать у дверей.
— Вы что же, друзья мои? — добродушно-ворчливым тоном сказал им Лефевр. — Разве вы не слышали или не поняли? Так чего же вы еще ждете? Аристократа? Так его нет у моей Катрин, это ясно. О, наверное, он свалился где-нибудь недалеко отсюда за углом. У него по крайней мере три пули в груди. Ищите, это — ваше дело! Сам охотник никогда не подбирает дичи.
И он стал попросту выталкивать их за дверь.
— Ладно уж, ладно! Идем, сержант, идем!
— Вовсе не из-за чего толкать людей, — сказал один из зевак и прибавил ироническим тоном: — Точно нельзя было спрятать его у себя в комнате.
Лефевр резко прикрыл дверь и снова подошел к Екатерине, чтобы опять расцеловать ее.
— Я думал, что они никогда не уйдут! — сказал он. — Слышала ты, какие глупости они болтали? Они говорили о комнате, о твоей комнате. Что за идея! Но как ты дрожишь, Катрин! Ну чего ты? Успокойся! Все кончено, займемся теперь друг другом.
Он поймал взор Екатерины, боязливо брошенный на дверь ее комнаты и, невольно направившись прямо к этой двери, хотел ее открыть.
Дверь оказалась запертой. Лефевр остановился, обеспокоенный. Тень подозрения скользнула по его лицу.
— Катрин, — спросил он, — почему эта дверь заперта?
— Да потому… что… мне это так нравится! — ответила Екатерина с явным смущением.
— Это не причина. Дай мне ключ!
— Нет, ты не получишь его.
— Катрин, — крикнул Лефевр, побелев от бешенства, — ты обманываешь меня!.. Там есть кто-то в твоей комнате… наверное, твой любовник. Дай мне ключ!
— Я сказала, что не дам!
— В таком случае я сам возьму его! — И Лефевр, запустив руку в кармашек фартука невесты, взял оттуда ключ и отпер им дверь ее комнаты.
— Лефевр! — крикнула ему Екатерина. — Я предупреждала тебя, что туда войдет только мой муж. Ты хочешь войти насильно, так никогда я не войду туда вместе с тобой.
В ставни прачечной снова постучали. Екатерина пошла отворять. Там оказалось несколько вооруженных солдат национальной гвардии.
— Где сержант Лефевр? — спросили они. — Его требуют в отряд. Говорят, будто его произведут в лейтенанты.
Лефевр вышел из комнаты Екатерины взволнованный, бледный, серьезный. Он тщательно запер дверь, вынул оттуда ключ и вернул его невесте, причем тихонько произнес:
— Ты не сказала мне, что у тебя в комнате лежит мертвец.
— Он мертв? Ах, бедный мальчик! — грустно воскликнула Екатерина.
— Нет, он жив. Значит, это правда? Это не был ухаживатель?
— Дурачок! — ответила Екатерина. — Если бы он был здоров, зачем бы я спрятала его туда? Но ты не выдашь его по крайней мере? — снова заговорила она с беспокойством. — Хотя он и австриец, но это друг мадемуазель Бланш де Лавелин, моей благодетельницы…
— Особа раненого священна! — произнес Лефевр. — Твоя комната превратилась в госпиталь, а по госпиталю никогда не стреляют! Выходи этого беднягу, спаси его! Я рад помочь тебе уплатить долг той барышне, которая когда-то выручила тебя. Но постарайся, чтобы этого никогда не узнали; это может сильно повредить мне в глазах отряда.
— О, какой ты порядочный! Ты так же добр, как честен! Лефевр, я дала тебе слово. Когда ты захочешь, я буду твоей женой!
— Это будет очень скоро. Однако друзья приходят в нетерпение, я должен идти за ними.
— Сержант Лефевр, вас ждут… сейчас приступят к выборам! — сказал один из гвардейцев.
— Хорошо, хорошо, я иду за вами. Идем, товарищи!
В то время как Лефевр шел в отряд, урны которого заполнялись избирательными записками, Екатерина на цыпочках прошла в комнату, где в легком забытьи, прерываемом приступами лихорадки, спал юный австрийский офицер, которого она приняла как гостя, так как он воспользовался именем Бланш де Лавелин.
VI
Екатерина принесла раненому бульон и немного вина и, так как он проснулся от легкого шума ее шагов, сказала:
— Вот кушайте, вам надо подкрепиться. Вам понадобятся силы, так как нельзя долго оставаться в этой комнате. О, не потому, что я хотела бы прогнать вас! Вы здесь — гость мадемуазель Бланш, это она направила вас ко мне, это она приютила и защитила вас. Но, видите ли, в эту лавочку заходит много разного народа, а ваш вид очень подозрителен. Мои работницы, клиенты скоро пронюхают, что вы здесь, и донос не заставит себя ждать. Господи! Вы стреляли в народ!
Нейпперг сделал жест и медленно произнес:
— Мы защищали короля!
— Толстяка «Вето»? — сказала Екатерина, пожав плечами. — Он сбежал в Национальное собрание… там его не стали искать, он в безопасности, спокоен. Он самым эгоистичным образом предоставил другим погибать, забыв о них так же, как забыл о том красном колпаке, который сорвал с себя двадцатого июня, после того как перед нашими товарищами из предместья Сент-Антуан его украсили удалившиеся патриоты… Ваш «Вето» — ни на что не годный лентяй, которого бездельница-жена водит за нос и приведет… вы знаете куда? Под выстрелы народа! О, это с ним случится наверное! Но зачем же вы, иностранец, вмешались в эту сумятицу? — спросила она после некоторого молчания. — Вы ведь сказали, что вы австриец?
— Как лейтенант лейб-гвардии ее величества я нес известные обязанности перед королевой…
— Перед австриячкой! — проворчала Екатерина. — Так, значит, вы за нее сражались? Да какое вам дело до наших раздоров?
— Я хотел умереть! — ответил молодой офицер с удивительной простотой.
— Умереть! В ваши-то годы? За короля? За королеву? Тут должны быть другие причины, молодой человек, — заметила Екатерина добродушно-шутливым тоном. — Извините меня за нескромность, но когда человек в двадцать лет умирает за людей, которых не знает, сражается с людьми, против которых не может ничего иметь, то… он, очевидно, влюблен. А? Я угадала?
— Да, вы угадали, моя добрая покровительница!
— Ей-Богу, это нетрудно отгадать! Хотите, я даже скажу вам, в кого вы влюблены! Держу пари, что в мадемуазель Бланш Лавелин. Я не требую от вас признания, — поспешила прибавить Екатерина, заметив беспокойство на лице раненого, — дальнейшее не касается меня; к тому же мадемуазель Лавелин вполне достойна быть любимой.
Граф Нейпперг приподнялся и воскликнул:
— Да… моя дорогая Бланш добра и прекрасна! Ах, если я умру, передайте ей, что я умирал с ее именем на устах и с мыслью о ней и о…
Молодой человек сдержал готовое сорваться с уст признание.
— Вы не умрете, — сказала Екатерина ободряющим тоном, — разве умирают в ваши годы да еще влюбленные?! Вы должны жить для мадемуазель Бланш, которую вы любите и которая, по всей вероятности, любит вас; вы должны жить еще и для той особы, которую хотели только что назвать. Это, вероятно, ее отец, маркиз Лавелин? Он прекраснейший господин… я видела его раза два-три там, в нашем. родном Эльзасе.
Услыхав имя маркиза, Нейпперг сделал движение, которое можно было принять за выражение презрения и гнева.
«Кажется, они не слишком большие друзья, — подумала Екатерина, — надо принять это к сведению и не говорить больше о нем. Вероятно, отец Бланш противился их браку. Бедная барышня! Так вот из-за чего этот молодой человек искал смерти».
Она участливо вздохнула и, поправив подушку под головой больного, сказала:
— Я слишком много болтаю… быть может, вы желаете отдохнуть? Это для вас полезно, лихорадка уменьшится.
Больной слегка тряхнул головой.
— Говорите еще о ней, говорите о Бланш, — сказал он, — в этом мое облегчение.
Екатерина улыбнулась и принялась рассказывать о Бланш, которая выросла у нее на глазах, так как сама она родилась на небольшой ферме близ замка вельможи Лавелин. Маркиз служил при дворе и потому большую часть года отсутствовал дома. Бланш воспитывалась при матери и вела вполне деревенский образ жизни, бегая по лесам и полям, прыгая через рвы и заборы. Она не была горда и запросто беседовала с крестьянами, часто заходила на ферму и очень благосклонно относилась к маленькой Екатерине. Когда маркиз вызвал в Версаль жену и дочь, Екатерина и еще три крестьянские девушки были отправлены в качестве прислуги при маркизе де Лавелин и ее дочери, причем Екатерина несла обязанности прачки. Так прошло несколько счастливых лет ее жизни, пока не умерла госпожа Лавелин. Вскоре после того маркиз получил дипломатическое поручение в Англию и увез свою дочь в Лондон. Уезжая, Бланш захотела обеспечить Екатерину и приобрела Для нее прачечную, где она и сейчас находится. Ах, мадемуазель Бланш — добрейшее создание и достойна любви!
Не успела Екатерина кончить свой рассказ и самыми лестными похвалами осыпать свою благодетельницу, как постучали в дверь.
«Неужели это Лефевр так рано возвратился со своими товарищами?» — подумала встревоженная Екатерина.
— Не беспокойтесь! — обратилась она к Нейппергу, который стал прислушиваться. — Если Лефевр один, то нет никакой опасности, если же он с товарищами, я с ними поговорю и удалю их. Подождите меня и не бойтесь ничего!
Она пошла открывать дверь несколько смущенная. Но каково было ее удивление, когда она увидела молодую женщину, очень испуганно и торопливо вошедшую и сказавшую ей:
— Он здесь, не правда ли? Мне говорили, что видели человека, который с трудом дотащился сюда. Жив он еще?
— Да, мадемуазель Бланш, — ответила Екатерина, узнав в этой взволнованной женщине дочь маркиза де Лавелина, — да, он здесь, в моей комнате; он жив и все время говорит только о вас! Хотите взглянуть на него?
— Ах, моя милая Катрин, какая счастливая мысль пришла мне в голову указать ему. твой дом как самое надежное убежище! — При этом мадемуазель Лавелин схватила руку Екатерины и, с чувством благодарности горячо пожав ее, сказала: — Проводите меня к нему!
Неожиданное появление Бланш произвело на раненого чрезвычайно сильное впечатление; он чуть не вскочил с постели, на которую с таким трудом Екатерина уложила его. Обеим женщинам пришлось употребить все усилия, чтобы удержать его.
— Гадкий, — произнесла Бланш своим мягким голосом, — ты, оказывается, хотел умереть?
— Жизнь без тебя была бы слишком тягостна мне. А мог ли представиться более удобный случай, как умереть в сражении, со шпагой в руке, с улыбкой идти навстречу славной и красивой смерти?
— Неблагодарный! Ты должен был жить для меня!
— Для тебя? Разве ты не была потеряна для меня? Ведь ты собиралась покинуть меня навсегда!
— Этот ненавистный брак не был еще заключен; простая случайность могла расстроить его, нужно было надеяться!
— Ты сама сказала мне, — заметил Нейпперг, — что нет никакой надежды. Сегодня, десятого августа, ты должна была стать женою другого и назваться баронессой Левендаль; так решил твой отец, и ты не протестовала!
— Ты отлично знаешь, что все слезы, все мольбы были напрасны. Моему отцу грозило полнейшее разорение из-за барона Левендаля, этого бельгийского миллионера, который одолжил ему значительную сумму и теперь требовал немедленной уплаты или моей руки. Отцу ничего не оставалось, как согласиться на это требование.
— Твой отец избрал самый легкий способ оплаты своих долгов!
— Друг мой! Отцу неизвестно, насколько серьезна наша любовь, он ничего не знает, решительно ничего! — повторила Бланш с возрастающей настойчивостью.
Во время этого разговора двух влюбленных Екатерина из деликатности ушла в мастерскую, чтобы не мешать их интимной беседе.
В болезненном волнении глядя на Бланш, Нейпперг возразил:
— Да, они ничего не узнают, потому что я исчезну. Моя смерть водворит полное спокойствие, предаст все полному забвению. Но, к сожалению, народные пули не захотели уложить меня, и придется все начать снова! Впрочем, удобный случай не преминет представиться в ближайшем будущем; война объявлена, я пойду сражаться в рядах королевской армии, и если смерть не захотела меня принять под обломками Тюильри, то примет на берегах Рейна.
— Ты не сделаешь этого!
— Кто может помешать мне? Впрочем, позвольте спросить, Бланш! Сегодня десятое августа, день, назначенный для вашего бракосочетания; как же это случилось, что вы здесь, когда ваше место там, подле вашего супруга? Оглашение в церкви уже сделано… чего же вы медлите? Спешите осчастливить барона Левендаля и покрыть долги маркиза. Вероятно, сражение помешало совершению обряда; но теперь выстрелы прекратились, набатный колокол умолк, свадебный звон может свободно раздаваться. Оставьте меня, я хочу умереть все равно здесь или в другом месте, сегодня или затра — безразлично!
— Нет-нет, ты должен жить! Для меня… для нашего ребенка, — воскликнула Бланш, бросаясь к Нейппергу и страстно обнимая его.
— Наш ребенок! — пробормотал раненый.
— Да, наш милый маленький Анрио! Ты не имеешь права умереть! Твоя жизнь не принадлежит только тебе одному!
— Наш ребенок! — с грустью повторил Нейпперт. — А твой брак?
— Он еще не заключен, еще есть надежда.
— Правда! Ведь ты еще не баронесса Левендаль!
— Нет и, быть может, никогда ею не буду!
— Объясни мне все это, — произнес раненый с лихорадочной болезненностью.
— Когда мы расстались, как нам казалось, навеки, — начала Бланш, — и ты известил меня, что идешь в ряды защитников Тюильри, то есть, другими словами, идешь на смерть, у меня в глубине души все же таилась надежда; вот почему я и указала тебе на Катрин как на ту, которая могла бы дать тебе надежное убежище в случае, если бы тебе удалось уйти из Тюильри. Кроме того, у меня была также надежда снова встретиться с тобой.
— Ты надеялась на это? А между тем ты повиновалась отцу и согласилась сделаться женой этого Левендаля.
— Да, но что-то вселяло в меня уверенность, что эта свадьба будет отложена.
— И что же, действительно так случилось?
— В предместьях поднялось восстание. Мой отец объявил, что в назначенный день свадьба не может состояться. Тогда барон Левендаль предложил отложить свадьбу на три месяца, до шестого ноября.
— А, барон, видимо, не слишком спешит!
— Будучи взволнован событиями и боясь успеха революции, Левендаль уехал вчера из Парижа раньше, чем была закрыта застава. Он отправился в своем имение близ Жемапа, на границе Бельгии; это место он предназначил для празднования этой нелепой свадьбы.
— И ты поедешь в Жемап?
— Мой отец, также испуганный событиями, решил отправиться в замок барона. Он предполагает, что мы отправимся, как только проезд станет свободным.
— И ты поедешь с ним?
— Да, я поеду с ним. Но будь спокоен, я знаю, что мне предпринять. Никогда я не выйду замуж за барона.
— Ты клянешься мне в этом?
— Клянусь!
— Но откуда явится у тебя решимость в Жемапе, если здесь ее не было у тебя?
— Перед своим отъездом барон получил мое письмо, которое я написала ему со слезами. Я подкупила его слугу, и тот должен был передать письмо не раньше, чем они проедут заставу.
— Значит, он знает?
— Он знает правду. Он знает, что я люблю тебя и что наш маленький Анрио не может иметь иного отца, кроме тебя.
— О, моя обожаемая Бланш, моя дорогая жена! Я боготворю тебя, ты возвращаешь мне жизнь. Мне кажется, что силы вернулись ко мне и я снова могу сражаться с революционным сбродом.
Нейпперг в порыве увлечения сделал такое резкое движение, что повязка, покрывавшая рану, соскользнула, рана открылась и кровь хлынула струей. Он громко вскрикнул. Екатерина прибежала на помощь. Обе женщины занялись перевязкой, и наконец им удалось остановить кровь.
Нейпперг впал в обморочное состояние.
Лишь спустя некоторое время он пришел в себя и первые его прерывистые слова выдали их секрет.
— Бланш, я умираю, береги нашего малютку! — прошептал он.
Это открытие поразило Екатерину.
«У мадемуазель Бланш есть ребенок», — подумала она, а затем обратилась к молодой женщине, стыдливо потупившейся, и сказала:
— Не бойтесь ничего! То, что я сейчас узнала, в одно ухо вошло, в другое вышло. Если я понадоблюсь вам когда-нибудь, то знайте, что я принадлежу вам всецело. Не смущайтесь!.. Дети — это случайность, которая появляется у всех любящих друг друга людей. А сколько времени вашему херувиму? Он, наверное, очень мил.
— Ему скоро три года.
— А как зовут его?
— Анри, но мы зовем его Анрио.
— А я увижу его когда-нибудь?
Бланш де Лавелин задумалась, а затем промолвила:
— Послушай, моя милая Катрин! Ты могла бы оказать мне большую услугу… окончив таким образом то, что ты так хорошо начала, оказав помощь графу Нейппергу.
— Говорите, что нужно сделать?
— Мой сын находится в окрестностях Парижа, в предместье Версаля, у одной хорошей женщины, бабушки Гош.
— Старушку Гош я знаю! Ее сын — приятель Лефевра, моего возлюбленного или, вернее, моего мужа, так как я собираюсь выйти замуж за Лефевра и у меня тоже будет маленький Анри… много маленьких Анри.
— Поздравляю тебя! Ты, значит, можешь посетить бабушку Гош?
— У меня даже есть поручение к ней от ее сына, Лазаря, который служил во французской гвардии вместе с Лефевром; они вместе брали Бастилию. А что нужно передать гражданке Гош?
— Ты передашь ей деньги и это письмо, — сказала Бланш, подавая Екатерине кошелек и письмо. — Затем ты возьмешь ребенка и привезешь его ко мне. Не слишком ли много я потребовала от тебя, Катрин?
— Только-то? Вы хорошо знаете, что если бы вы послали меня взять Тюильри, в случае если бы швейцарцы снова явились, то и это я сделала бы для вас! Разве не вам обязана я тем, что смогла приобрести эту лавчонку и скоро стану гражданкой Лефевр? Требуйте от меня большего, этого недостаточно! А когда я вывезу крошку из Версаля, что тогда нужно делать?
— Привези его ко мне.
— Куда?
— В замок Левендаля, близ деревни Жемап. Это на границе Бельгии. Тебе удастся увезти Анрио?
— Для вас я рискну всем! А когда должна я доставить вашего малютку в Жемап?
— Не позже шестого ноября.
— Хорошо, будет сделано. Лефевр устроит мой отъезд; к тому же мы тогда уже будем повенчаны и, быть может, он поедет со мной. Возможно, что и там будут сражаться!
— Дай обнять тебя, Катрин! Чем я могу вознаградить твою услугу? Итак, в Жемап!
— В Жемапе мы встретимся шестого ноября! Затем Бланш указала на Нейпперга и сказала:
— Он спит, я побуду с ним. Иди, Катрин, занимайся своим делом; мы, должно быть, очень мешаем тебе.
— Располагайтесь как у себя дома, я уже говорила вам. Но тише, он, кажется, просыпается, — указала Екатерина на раненого, который медленно стал открывать глаза. — Ну, я пойду, не буду мешать вам; у вас, наверное, есть о чем поговорить!
— Ты уходишь? Ты оставляешь меня одну?
— Я ненадолго; отнесу только белье здесь неподалеку. Никому не открывайте дверей! До скорого свидания!
VII
В то время как граф Нейпперг и Бланш Лавелин, находясь в приятном одиночестве, обменивались планами на будущее и говорили о своем ребенке, Екатерина взяла корзину, наполненную бельем, и собралась уходить. Пусть влюбленные поболтают — они не рассердятся на ее отсутствие, тем более что и так все утро у нее было потеряно. Конечно, не каждый день завоевывают Тюильри, но все же надо было наверстать потерянное время. Екатерина размышляла о всех событиях, происшедших в последнее время. Отныне на ее душе была новая забота. Нейпперг очень одобрил доверие Бланш, поручившей Екатерине забрать маленького Анрио у старухи Гош, которая воспитывала его в Версале, и препроводить в Жемап. Со временем, когда Нейпперг выздоровеет, он заберет мать своего ребенка, не обращая внимания на гнев маркиза Лавелина и готовый снести голову барону Левендалю, если бы то понадобилось для освобождения Бланш.
Екатерина, отправляясь в путь, думала: «Лефевр находится в своем отряде, где происходят выборы. Он не вернется, прежде чем будут объявлены результаты выборов новых офицеров, а это займет добрых два часа. Там голосуют долго… много там таких говорунов, как мой Лефевр! Тем временем я успею сбегать к капитану Бонапарту».
При воспоминании о своем клиенте, худом, изнуренном артиллерийском офицере, она улыбнулась.
«Нельзя сказать, чтобы у моего капитана было слишком много рубашек, и эти будут для него не лишними! — подумала она и, вздохнув, прибавила: — Собираясь стать гражданкой Лефевр, я не хочу остаться в долгу у капитана Бонапарта… пусть лучше он мне будет должен. На всякий случай возьму с собой и счет; если он спросит, подам его, а если нет — и так обойдется… я никогда не осмелюсь требовать от него уплаты долга. Бедный малый, вот-то работник! Ученый! Всегда за письмом или чтением. Печальная молодость! Как будто уж не найдется времени и для чего-нибудь другого!» — подумала она с легким раздражением, надув губки и опуская в карман счет капитана Бонапарта.
Затем она отправилась в гостиницу «Мец», принадлежавшую Можару, где жил скромный артиллерийский офицер, занимая простенькую комнатку на третьем этаже, под номером 14.
Молодость этого человека, впоследствии великого и рокового, именем которого был наполнен целый век и слава которого еще и до сих пор окрашивает в багровый цвет наш горизонт, проходила без каких бы то ни было чрезвычайных или выдающихся событий. Случаю угодно было открыть в нем недюжинные способности и дать возможность проявить гений, создавший чудесную славу. Ребенком и юношей Бонапарт не обращал на себя ничьего внимания. Никто не мог бы предсказать его судьбу, и даже подумать о его будущей славе. В первые учебные годы он был бедным, застенчивым, работящим, гордым и немного угрюмым юношей. Он сильно бедствовал, а это заставляло его уединяться. Обладая живым темпераментом, он выбивался из сил, чтобы выйти из тяжелого положения.
Отец Наполеона, Карло Бонапарте, по профессии адвокат, происходил из древнего тосканского рода, переселившегося еще два века тому назад в Аяччо. Его предки были достойными представителями своего рода. Карло Бонапарте был одним из самых пылких приверженцев Паоли, замечательного корсиканского патриота. Он принужден был подчиниться французам, когда Паоли покинул остров. Хотя Карло Бонапарте, как член административного совета Корсики, и занимал видное положение, но всегда сильно нуждался в деньгах. Единственным средством к существованию у него было небольшое поместье с виноградником и оливковым садом, дававшее едва 1200 ливров дохода и требовавшее такого же расхода. Позже, во время восстания на Корсике, его материальное положение еще более ухудшилось, доведя его до полной нужды.
Его жена, Летиция Рамолино, родившаяся 24 августа 1749 года, была красивой женщиной с правильными чертами лица и профилем античной камеи. Впоследствии она проявила необычайную твердость духа, чуткость и тонкое понимание. В качестве государыни-матери находясь на троне рядом со своими сыновьями, властителями Европы, она была скромна в расходах и не тратила всей полагавшейся ей суммы. Однажды в ответ на упрек Наполеона она ответила:
— Я экономлю для вас, дети мои, на тот случай, когда вы будете нуждаться.
По некоторым источникам, Наполеон Бонапарт родился от Карло и Легации 15 августа 1769 года, он был вторым их сыном. По другим, более верным сведениям, Жозеф, родившийся в Аяччо, был вторым сыном, колыбелью же Наполеона, родившегося 7 января 1768 года, является Корт. В бриеннской военной школе существует метрическое свидетельство юного Наполеона, в котором временем его рождения указано 15 августа 1769 года. По другим источникам, эта неточность возникла позже. Главные объяснения этому можно найти в свидетельстве о браке Бонапарта с Жозефиной. Говорят, что Жозефина из кокетства убавила свой возраст на четыре года, а Бонапарт, желая будто бы сгладить разницу лет, прибавил себе два года. Весьма возможно, что он из любезности не назвал своих настоящих лет, а потом, в свидетельстве о гражданском положении, родители не изменили его показаний. Настоящая же причина уменьшения лет, вернее всего, зависела от возраста, требовавшегося для поступления в военную школу в Бриенне. Наполеону было больше десяти лет, то есть больше предельного возраста. Поэтому родители, дав ему метрику Жозефа, который был моложе на два года и к тому же не чувствовал склонности к военной службе, предоставили таким образом Наполеону возможность поступить в военную школу.
Два обстоятельства воздействовали на его ум и закали «вали его характер; с одной стороны — политические перевороты в родной стране, с другой — семейные бедствия. Гражданская война и нужда родительского очага закалили его душу и вместе с тем омрачили его детство.
Поступая в школу в Бриенне, Наполеон был серьезен, а окончив ее, был печален и озлоблен. Товарищи смеялись над его итальянским произношением и над странным именем Наполеон; его прозвали «Palle-au Nez». Над его бедностью глумились, а известно, сколь жестоки детские шутки и какие глубокие раны причиняют они своим жертвам!
Наполеон хорошо учился и особенно преуспевал в математике. В играх он редко принимал участие; любил только зимой играть в снежки, где при штурмах ледяных крепостей на школьном дворе оказывался великолепным стратегом. Так незаметно прошли первые годы детства Наполеона.
В школе он сошелся с Буррьеном, будущим казнокрадом, впоследствии личным секретарем Наполеона, отплатившим за благодеяния и снисходительность своего друга, ставшего императором, тем, что вышучивал и клеветал на него в своих мемуарах, подкупленный полицией во времена реставрации.
Из Бриенна Наполеон перешел в военное училище, где продолжал страдать от мелких уколов самолюбия и насмешек над его бедностью. Не имея денег, он не мог принимать участие в дорогостоящих удовольствиях своих сверстников; ему приходилось держаться в стороне, как парии. Постоянное одиночество в тот период жизни, когда велика потребность в дружеском общении, развило в нем, по всей вероятности, те бесстрашность и безжалостность, которые придали ему облик закаленного, как бронза, человека.
1 сентября 1785 года у Наполеона умер отец, тридцати девяти лет от роду, вследствие рака желудка. Это совпало с моментом его назначения младшим лейтенантом в роту бомбардиров, в полк, находившийся в Валенсе. В свободное от занятий время он писал историю Корсики; вступая в свет, брал уроки танцев у профессора Дотеля и ухаживал за полковыми дамами, которых встречал в салоне госпожи Коломбье. Внезапно его полк перевели в Лион, потом в Дуэ. Наполеон получил отпуск и отправился повидаться с родными в Аяччо. Затем он отправился в Париж, где остановился в гостинице «Шербург», на улице Сент-Оноре, и оттуда получил приказ к 1 мая 1788 года явиться в свой полк, стоявший в Осоне.
От усиленных трудов, лишений и плохого питания — из-за отсутствия денег он обходился одним только молоком — Наполеон заболел.
Чтобы помочь матери, оставшейся вдовой с восемью детьми, он взял к себе младшего брата, Людовика, и жил с ребенком, урезая себя во всем, на девяносто два франка пятнадцать сантимов в месяц.
Две темные, холодные конурки с жалкой мебелью составляли жилище. В одной комнате стояли убогая кровать, чемодан, наполненный бумажным хламом, соломенный стул и простой некрашеный деревянный стол. Там спал и работал будущий владелец дворца Тюильри и Сен-Клу. Во второй конурке, на матраце, брошенном прямо на пол, спал будущий король Голландии. Слуги у них, конечно, не было. Бонапарт сам чистил себе сапоги и одежду, готовил обед.
Наполеон намекнул однажды на это тяжелое время своей жизни в присутствии одного чиновника, жаловавшегося на скудость своего жалованья.
— Я хорошо знаю это, — сказал он. — Когда я имел честь быть подпоручиком, я завтракал сухим хлебом; но моей бедности никто не видел; в обществе я не позорил своих товарищей. Бедность делает человека целомудренным и не располагает к любви.
В этот период времени Бонапарт относился к женщинам весьма отрицательно и нередко высказывал такого рода суждения: «Любовь вредит обществу и личному счастью людей; наконец, любовь приносит больше зла, чем добра». Насколько эти суждения были искренни, неизвестно; быть может, это не более как утешение голодной лисы, смотрящей на недосягаемый виноград.
Добрая Екатерина, стирая белье своего клиента, чувствовала к нему некоторое расположение. Это было еще до ее встречи с Лефевром. Однако она успела убедиться, что и в Париже, как в Осоне, Бонапарт держался своих строгих философских воззрений.
Получив чин поручика, Бонапарт был переведен в четвертый артиллерийский полк и возвратился в Валенс в сопровождении брата Людовика. Там он снова зажил замкнутой жизнью и много занимался. Тем временем загоралась заря революции. Наполеон оказался горячим приверженцем идей свободы и народной эмансипации и стал везде выступать как революционер. Он говорил, писал, агитировал, записался в члены клуба конституционалистов и даже стал секретарем этого общества. Он казался искренне убежденным. Этот необыкновенный человек мог увлекаться различными убеждениями, мог казаться верующим и заставлял других верить в себя.
В октябре 1791 года Наполеон попросил трехмесячный отпуск под предлогом свидания с родными и поправки здоровья и отправился на Корсику. Там, в своей среде, он приобрел приверженцев и добился звания начальника батальона национальной гвардии в Аяччо. Это назначение дало ему авторитет, известную общественную силу, и он с пылом отстаивал свои убеждения.
Его главным противником был Мариус Перальди, принадлежавший к очень влиятельному роду.
Бонапарт с лихорадочной поспешностью вербовал приверженцев своей партии. Жители Аяччо разделились на два лагеря. Члены учредительного собрания, посланные от центрального управления, одним своим присутствием могли повлиять на число избирательных голосов и одержать победу.
Представитель правительства, Мюратори, остановился У Мариуса Перальди. Это имело огромное значение при подаче голосов среди конкурентов Бонапарта. Известно, какой вес имела официальная поддержка на Корсике.
Друзья Бонапарта, не имевшие возможности отразить этот удар, считали победу Перальди неминуемой. Но пылкий и упорный молодой революционер не отчаивался. Он собрал несколько наиболее надежных друзей и вечером, когда Перальди ужинал, толпа вооруженных людей ворвалась в его столовую. Прицелясь в присутствующих, они потребовали, чтобы Мюратори встал и пошел в дом Бонапарта под конвоем двух вооруженных людей.
Чиновник был ни жив ни мертв. Бонапарт вышел к нему, как будто не зная, каким образом попал к нему его гость, приветливо протянул ему руку и сказал:
— Милости просим! Я желал бы, чтобы вы чувствовали себя свободным: ведь вы не у перальдийцев. Садитесь поближе к очагу, мой милый комиссар!
Так как конвой с ружьями наготове стоял еще у дверей в ожидании приказаний Бонапарта, то Мюратори сел скрепя сердце и не заикался даже о возвращении к Перальди.
На следующий день Бонапарт был избран командиром национальной гвардии в Аяччо.
Назначение Бонапарта командиром действующей армии не было вполне законно. Но время было революционное. Случись это в другое время, он мог бы жестоко поплатиться. Он действительно продлил свой отпуск сверх положенного срока. Причинами, побудившими Наполеона остаться во главе корсиканского войска, где он получил чин подполковника, не были ни честолюбие, ни политическое увлечение; его гений не мог бы удовольствоваться небольшим, бедным островом. На Корсике его удержал вопрос материальный, который в ту пору его жизни был крайне острым, а он всегда поступался своими интересами в пользу семьи.
В национальной гвардии он получал жалованья 162 ливра в месяц, то есть вдвое больше оклада поручика артиллерии. С этой суммой он мог быть поддержкой для своей многочисленной семьи и воспитывать брата Людовика.
Нужно заметить, что, командуя батальоном в Аяччо, Наполеон не дезертировал, как то утверждали. В то время служба в национальной гвардии считалась действительной службой.
Бонапарт в свое оправдание сослался на разрешение фельдмаршала Росси, данное ему в ожидании выяснения его положения, согласно декрету Национального собрания от 17 декабря 1791 года, которым офицерам действительной службы разрешалось служить и в рядах национальной гвардии. Но Бонапарт был смещен полковником Мальяром и явился в Париж для объяснения своего поведения и защиты своего дела перед военным министром.
Он надеялся реабилитировать себя; а пока в ожидании декрета жил в Париже в одиночестве и нужде. Обедал он обычно не у себя в гостинице, а в городе, в семье Пермон, которую он знал еще в Валенсе и дочь которых вышла затем замуж за Жюно и сделалась герцогиней д'Абрантэс. Позже Бонапарт думал сам жениться на госпоже Пермон, которая осталась вдовой и имела некоторое состояние.
Несмотря на свою бережливость, Наполеон имел в это время долги; за обеды он был должен пятнадцать франков и, как мы уже знаем, своей прачке Екатерине Сан-Жень — сорок пять франков.
У него были странные знакомства; он ежедневно общался с Жюно, Мармоном и Буррьеном. Все трое, как и он, были преисполнены надежд, но всегда нуждались в деньгах.
Утром 10 августа Бонапарт проснулся под звуки набата и побежал как простой зритель к Фовле, старшему брату его приятеля Буррьена, который держал кассу ссуд и торговал старыми вещами на площади Карусель. Наполеону нужны были деньги, и он не желал терпеть какие бы то ни было убытки от революции; он заложил у Фовле свои часы и получил за них пятнадцать франков.
Из лавки ростовщика Бонапарт наблюдал за всеми перипетиями борьбы. Лишь в полдень, когда победа была одержана народом, он смог выйти на улицу и отправиться домой. Он шел медленно, в задумчивости, опечаленный видом трупов и полный отвращения к запаху крови.
Еще много лет спустя «великий мясник Европы», забыв все кровавые ужасы своего народа и груду трупов, сопровождавших его победоносный путь, вспоминал об этом ужасном зрелище. На острове Святой Елены он испытывал негодование и волнение, вспоминая неисчислимые жертвы швейцарцев и «рыцарей кинжала», которые попадались ему по дороге в свою квартиру в то памятное кровавое yтро 10 августа.
VIII
Таков был человек, еще не известный и таинственный, к которому Екатерина Лефевр пришла в его маленькую комнату, где он с нетерпением поджидал капризную богиню счастья, все еще не решившуюся постучаться в его Дверь. Казалось, все было против Наполеона. Ничто не удавалось ему, его преследовало несчастье. Вернувшись с площади Карусель в кровавое утро десятого августа, он старался в работе найти успокоение, рассеять свои заботы и забыть трагическое зрелище, которое он наблюдал из лавочки ростовщика.
Он развернул географическую карту и принялся внимательно изучать южные области, побережье Средиземного моря, Марсель и в особенности тулонский порт, где сильна была роялистская реакция и которому грозил английский флот. Время от времени он отодвигал от себя карту и, опустив голову на руки, погружался в мечты.
Пылкое воображение Наполеона разгоралось… Как при путешествии по пустыне, он видел перед собой чудесные, феерические миражи. Взятые города, в которые он въезжал победителем, верхом на белом коне, среди ликований толпы и приветствий солдат. Обстреливаемый картечью мост, по которому он шел со знаменем в руке, увлекая за собою войско и оттесняя неприятеля. Странные всадники в богатых, шитых золотом костюмах размахивали вокруг него и над ним палашами и, вдруг останавливаясь, бросали оружие и склоняли головы в тюрбанах перед его палаткой… Потом он, торжествуя, медленно проезжал среди груд тел побежденных в далеких, разнообразных странах. Палящее южное солнце жгло его голову, снег далекого севера осыпал его плащ. Праздники, процессии, торжества… Короли покоренные, униженные, королевы, предлагающие ему свою любовь… опьянение, слава, апофеоз. Этот фантастический сон рассеивался и снова начинался, чтобы снова рассеяться, и Наполеон охлаждал пылающий лоб ладонями.
Открыв глаза, Наполеон увидел убогую и банальную обстановку своей комнаты, и этот вид вернул его к грустной действительности. Горькая улыбка скользнула по его губам; здравый смысл одержал верх над мечтами. Наполеон сознавал, что настоящее плохо, а в будущем приходилось ждать еще худшего.
Положение было отчаянное, и не представлялось никакого выхода из него. У Бонапарта не было ни денег, ни места. Военный министр оставался глух к его просьбам; друзья отсутствовали, и не было надежды на какую бы то ни было протекцию. Все честолюбивые замыслы погибли при столкновении с суровой жизнью; проекты рухнули, подобно карточным домикам.
Холод разочарования охватил душу Наполеона.
«Что предпринять?» — невольно возникал вопрос.
Как-то проходя по одной из новых улиц, Бонапарт увидел дома, и ему пришла мысль нанять один из них и устроить меблированные комнаты. Он подумывал также и о том, чтобы совсем покинуть Францию и поступить на службу в турецкие войска.
Несмотря на безотрадную действительность, какая-то смутная надежда шевелилась в душе Наполеона и заставляла сильнее биться его сердце. Он снова брался за изучение топографии бассейна Средиземного моря; он искал на карте места, где вскоре раздастся грохот пушек. О, если бы он мог быть там, где будут громить англичан, защищая интересы французской нации!
Чтобы победить отчаяние, все сильнее охватывавшее его сердце, Наполеон постарался отогнать от себя неприятные мысли и совершенно погрузился в работу.
Два легких удара в дверь заставили Бонапарта поднять голову. Он вздрогнул, и смутная тревога закралась в его душу. Самые храбрые люди, не имея никаких средств к существованию, пугаются при внезапном появлении постороннего человека. Они смело смотрят в глаза смерти, но трусливо дрожат при мысли, что может явиться кредитор с требованием уплаты долга.
Снова раздался стук в дверь, на этот раз более сильный, чем первый.
«Это, вероятно, Можар явился со счетом», — подумал, краснея, Бонапарт.
— Войдите! — пригласил он.
Прошла минута, но никто не показывался.
— Войдите же! — нетерпеливо повторил Наполеон.
«Нет, это не хозяин гостиницы, — продолжал размышлять Бонапарт. — Жюно или Буррьен тоже не ждали бы так долго. Кто же может прийти сегодня?»
Наполеон не привык к посещениям и теперь смотрел на дверь скорее с любопытством, чем с тревогой.
Наконец дверь открылась, и в комнату вошел молодой человек в форме пехотинца. Его красивое, нежное лицо отличалось свежестью, а большие черные глаза выражали энергию. На одном рукаве блестела новая нашивка, обозначавшая, что молодой солдат имеет чин унтер-офицера.
— Что вам угодно? — резко спросил Бонапарт. — Вы, очевидно, ошиблись адресом.
— Я имею честь говорить с капитаном артиллерии Бонапартом, не правда ли? — спросил молодой человек, отдавая честь.
— Да, я Наполеон Бонапарт! — ответил капитан. — Что вам угодно?
— Мое имя Ренэ! — с некоторой заминкой проговорил маленький солдат.
— Ренэ? — удивленно повторил Бонапарт, разглядывая незнакомца таким острым взглядом, точно желал проникнуть в глубину его души.
— Да, Ренэ! — более уверенным тоном подтвердил солдат. — В батальоне машенских добровольцев, где я состою на службе, меня называют также Красавчик Сержант.
— Вы вполне заслуживаете это прозвище, — улыбаясь, заметил Наполеон, — вы слишком изящны, слишком кокетливы для солдата…
— Подождите высказывать обо мне свое мнение, капитан, до того дня, когда увидите меня в бою, — смело прервал Бонапарта молодой воин.
Наполеон грустно вздохнул и пробормотал:
— Удастся ли мне когда-нибудь быть на поле сражения? Однако скажите, что вам нужно от меня, чем я могу быть вам полезен?
— Вот в чем заключается моя просьба, капитан, — начал Ренэ, — мой батальон под командой Борепэра…
— Ах, я знаю, это храбрый и энергичный воин, — перебил солдата Бонапарт. — Где же теперь ваш батальон? — с интересом спросил он, не переставая пристально вглядываться в сержанта, который поражал своей девичьей застенчивостью и нежными чертами лица.
— В Париже, — ответил сержант, — но только всего несколько дней! Мы пришли из Анже и теперь хлопочем о том, чтобы нам предоставили честь первыми перейти границу… Нас посылают на помощь Вердену.
— Это прекрасно! Как вы счастливы, что имеете возможность сражаться! — со вздохом воскликнул Наполеон. — Однако скажите же наконец, что вам от меня угодно?
— У меня есть брат Марсель, капитан, — застенчиво проговорил сержант.
— Вашего брата зовут Марсель? — недоверчиво спросил Бонапарт.
— Да, Марсель Ренэ, — смутившись, поспешил ответить солдат, потупясь под инквизиторским взглядом капитана. Мой брат — доктор… Его командировали как полкового лекаря в четвертый артиллерийский полк в Валенсе.
— Мой полк, или, вернее, мой бывший полк! — воскликнул Наполеон.
— Да, капитан. Я узнал от национальной гвардии, с которой столкнулся сегодня при сражении в Тюильри, что вы в Париже. Мне, между прочим, сообщил об этом Лефевр, который знает вас.
— Ах, Лефевр, это чудесный малый, — прервал сержанта Бонапарт, — да, да, я тоже знаю его. Что же сказал вам Лефевр?
— Что вы могли бы оказать протекцию моему брату, попросив командующего войсками перевести его. Одним словом, мне хотелось бы, чтобы Марселя отозвали из артиллерийского полка, который находится в Валенсе, и перевели в северную армию.
Бонапарт глубоко задумался, не спуская взгляда с красивого сержанта, который смущался все больше и больше. По-видимому, он хотел поскорее отделаться от тяготившей его просьбы и торопливо говорил, время от времени робко запинаясь.
— Марсель был бы таким образом со мной, — продолжал сержант, — я не потерял бы его из виду, мы были бы с ним вместе и, если бы его ранили, я мог бы ухаживать за ним; может быть, даже спасти от смерти! О капитан, окажите нам обоим эту огромную услугу! Если мы будем вместе, то оба станем благословлять вас, будем признательны вам на всю жизнь.
При последних словах голос молодого солдата задрожал, как будто он удерживался от рыданий.
Наполеон поднялся с места и, подойдя к взволнованному сержанту, произнес:
— Прежде всего, дитя мое, я не в состоянии ничего сделать ни для вас, ни для того господина, которого вы называете своим братом; Лефевр, вероятно, сказал вам, что я теперь не у дел. Моя рекомендация не только не принесла бы вам пользы, но, несомненно, повредила бы. В Париже у меня вовсе нет знакомых, я совершенно одинок и сам должен искать для себя протекции. Я знаю только здесь одно лицо — брата влиятельного человека, бывшего депутата, Максимилиана Робеспьера, он живет близко отсюда, на улице Сент-Оноре. Пойдите к нему от моего имени; может быть, ему и удастся добиться того, в чем мне, наверное, отказали бы.
— О, благодарю вас, капитан! — радостно воскликнул сержант. — Чем я могу доказать вам свою признательность?
Бонапарт поднял вверх палец и полусмеясь, полусерьезно медленно проговорил:
— Вы можете доказать ее, храбрый воин, тем, что объясните мне, по какой причине вы облеклись в костюм, не соответствующий вашему полу?
Красавчик Сержант задрожал от страха.
— Простите, капитан, не выдавайте меня, — умоляющим тоном начал просить он. — Будьте великодушны! Не губите меня, не открывайте никому моего обмана. Да, я женщина!
— Я это заподозрил сразу же, — добродушно ответил Наполеон. — Но каким образом ни ваши товарищи, ни ваши начальники не заметили подлога — для меня совершенно непонятно.
— В нашем батальоне много совсем юных солдат без малейшего намека на усы, — ответила Ренэ. — И кроме того, я отношусь очень серьезно к своим обязанностям и точно исполняю порученное мне дело.
— Я в этом не сомневаюсь! — заметил Наполеон. — Итак, вы — доброволец, желаете вступить в северную армию и хотите, чтобы этот полковой лекарь, по имени Марсель, был переведен туда же. Несомненно, что он для вас ближе родного брата; я предполагаю, что ради него вы переменили костюм и подвергаетесь всем опасностям войны. Нет-нет, можете не открывать мне своей тайны! Я очень заинтересовался вами и рад оказать вам услугу. Если я буду в состоянии сделать что-нибудь для вас, то, пожалуйста, рассчитывайте на меня. А теперь пойдите к Робеспьеру младшему и скажите, что вас послал к нему его друг Бонапарт.
Он подал руку Красавчику Сержанту, который горячо пожал ее.
Капитан следил глазами за удалявшейся, сиявшей от счастья Ренэ, и его лицо омрачилось.
— Они любят друг друга, — с завистью пробормотал он, — и оба будут сражаться за свое отечество. Счастливцы! — Наполеон подошел к столу и снова начал водить пальцем по карте. Он долго с задумчивым видом смотрел на то место, где должен был находиться город Тулон, главнейшая морская южная гавань. — О, если бы я мог драться с англичанами, — тихо произнес он, — я оттуда начал бы громить их!
Палец Наполеона лихорадочно дрожал на одной точке, и он мысленно представлял себе горячий бой, в котором он уничтожал английский флот.
IX
Граф Сюржэр, обладатель замка, находившегося возле Лаваля, поспешил переселиться на гостеприимный берег Рейна при первых шумных раскатах революции. Он поселился в Кобленце и решил в качестве постороннего наблюдателя следить за событиями. Номинально он числился в армии принцев, но, ссылаясь на свой возраст — хотя ему минуло всего пятьдесят лет — и на всевозможные недуги, считал себя вправе спокойно сидеть на месте под защитой королевской и императорской армий. Поспешность, с которой граф бросил свой замок, объясняется не только страхом перед санкюлотами или любовью к принцам, а еще и совершенно посторонними обстоятельствами.
После нескольких лет супружеской жизни граф овдовел. Не имея детей и никого из близких родных, граф вступил в тайную связь с женой своего соседа по имению, горячего роялиста. Со времени ночи 4 августа сосед не переставал говорить о вооружении, о необходимости бить в набат и собирать крестьян для защиты веры и старых дворянских устоев. Графу Сюржэру, ввиду его близких отношений с соседом, волей-неволей пришлось бы последовать за другом в его воинственных предприятиях. Между тем граф не проявлял никакой склонности к военному делу; он предпочитал проводить время в обществе дам, и успех у них для него был выше всяких почестей битвы.
Помимо всех выше приведенных соображений у графа Сюржэра была одна наиболее важная причина, заставлявшая его стремиться подальше от своего дома: его начала страшно тяготить связь с женой соседа. Дама его сердца с годами отяжелела и из легкой, грациозной сильфиды превратилась в тучную, почти квадратную матрону с огромнейшим бюстом. Из всех весомых тел наибольшей тяжестью обладает всегда та женщина, которую перестали любить; по крайней мере так думал граф Сюржэр. Он считался человеком очень умным, любил удовольствия и не переносил слез, жалоб и угроз ревности. Отличаясь независимым характером, он не мог примириться ни с каким гнетом, и рабство любви теперь казалось ему самым ужасным.
Сюржэр долго оставался верен маркизе Лювиньи, терпеливо перенося свою роль нежного друга дома, но внутренне тяготился этой связью. Если он раньше не порвал ее, то лишь потому, что нигде во всей округе не было ни одной подходящей дамы для ухаживания, а у него самого не хватало денег для того, чтобы переехать в столицу и вести жизнь придворного.
Надвигавшиеся события привели наконец к развязке. Маркиз Лювиньи непременно хотел вовлечь своего соседа в партизанскую войну, а маркиза требовала, чтобы граф Сюржэр сопровождал ее в ее странствованиях по лесам. Она собиралась изображать воинственную амазонку с пистолетами за поясом и с белой кокардой на шляпе. Соседи Лювиньи так напугали бедного графа, что он твердо решил как можно скорее уехать из своего замка. Это решение имело двойное преимущество: у графа Сюржэра появлялась возможность показать свою верность королю и вместе с тем освободиться от тяжеловесной дамы сердца и ее слишком храбро настроенного супруга. Граф был одинок и потому мог чувствовать себя совершенно свободным. В один прекрасный день он объявил, что получил предписание от графа Прованса спешно присоединиться к нему и потому должен немедленно расстаться со своими друзьями.
Из боязни, чтобы маркиз и маркиза не вздумали отказаться от своих планов и не последовали за ним, граф Сюржэр сообщил соседу, что граф Прованс поручил ему передать маркизу де Лювиньи горячую благодарность за его верную службу и за старание сохранить для короля преданность народа западных провинций.
Маркиз пришел в восторг от доверия королевского дома и решил, что не имеет права покинуть свой почетный пост. Маркиза же немного поплакала, но скоро утешилась при мысли, что она будет воевать, сидя верхом на лошади, в шляпе с белой кокардой и пистолетами за поясом.
Когда граф Сюржэр попросил у маркиза разрешения поцеловать его жену на прощанье, маркиза улыбнулась сквозь слезы и подставила графу свою щеку. Целуя даму своего сердца, Сюржэр нашел возможность прошептать ей:
— Береги Ренэ! Я заеду к ней проститься.
Маркиза молча наклонила голову в знак того, что исполнит желание своего друга.
Граф, веселый, помолодевший, вскочил на свою лошадь и, посылая рукой последний привет маркизу и его жене, направился по дороге в Фужер, к чистому беленькому домику, окруженному цветущими растениями, который назывался сторожкой. Когда-то этот домик служил местом свидания для всех великосветских охотников окрестностей Маенны, а теперь в нем жил лесничий графа Сюржэра, старик Бризэ.
Граф остановил лошадь перед изгородью, окружавшей двор, и соскочил с седла, вспугнув при этом кур, рывшихся в траве, и уток, барахтавшихся в пруду, покрытом зеленой плесенью.
Собака залаяла.
— Смирно, смирно, Рамоно, — раздался чей-то громкий голос, — разве ты не узнал его сиятельства?
. — Здравствуй, Бризэ! Ну, что нового у вас? — спросил граф.
— Новостей нет никаких, ваше сиятельство! — ответил старый лесничий, стоя на пороге дома.
Он был одет в бархатную куртку и высокие сапоги, на боку у него висел большой нож. Казалось, что лесничий готов каждую минуту спустить своих собак для загонки или, схватив ружье, просидеть в засаде до самого захода солнца.
Внутри дом был так же чист, как и снаружи; охотничьи рога блестели, как зеркало; стены были украшены клыками животных и чучелами лисиц и диких коз.
— Не окажете ли вы мне чести, ваше сиятельство, войти в дом и выпить кружку сидра! — предложил лесничий.
— Я не отказал бы тебе в этом, мой милый Бризэ, во всякое другое время, но сегодня никак не могу! — ответил граф. — Я уезжаю и пробуду довольно долго в отсутствии.
— Ах, ваше сиятельство, вы покидаете нас? — грустно воскликнул лесничий. — Да еще в такое неспокойное время! Что мы будем делать без вас?
— Я вернусь, старина, — поспешил граф успокоить своего слугу, — я просто хочу прокатиться для удовольствия.
— Конечно, ваше сиятельство, вполне от вас зависит уехать или остаться, — покорным тоном заметил Бризэ. — Может быть, вам угодно будет что-нибудь приказать мне на время вашего отсутствия?
— Мне нечего приказывать, Бризэ! — возразил граф. — Как тебе известно, исключительное право на охоту отменено; таким образом тебе, собственно, нечего делать.
Бризэ печально махнул рукой.
— Это разрешение охоты вызвано отчаянием, — пробормотал он. — Если бы только этим ограничились… — Он вдруг остановился, вспомнив, что говорит с графом и своим повелителем. Слепой приверженец революции во всех ее проявлениях, Бризэ становился врагом ее, когда дело касаюсь охоты. — Стрелять чужую дичь! — мрачно прибавил он, — Ведь это нечто невиданное!..
— Вам придется, то есть я хочу сказать, нам всем придется еще очень многое увидеть и услышать, мой милый Бризэ, — заметил граф. — Но вернемся к тому, что привело меня сюда. Скажите мне, где Ренэ?
— Барышня Ренэ пошла с моей женой на ферму Вербуа, близко отсюда! — ответил лесничий. — Они скоро вернутся; я думаю, что через четверть часа они будут уже здесь.
— Я не могу ждать! — возразил граф. — Мне нужно еще сегодня вечером поспеть в Ренн. Поцелуй за меня Ренэ. Ну, прощай, милый Бризэ, будь здоров! Я вернусь, я непременно вернусь!
Благосклонно кивнув головой своему слуге, граф Сюржэр затем быстро и ловко вскочил в седло и ускакал. Мысль о нежной сцене расставания с Ренэ тяготила графа, и теперь он был рад, что избежал ее. Всякие сердечные излияния были неприятны ему, но это вовсе не было доказательством того, что у него не было нежных чувств к молодой девушке.
Ренэ была дочерью графа и маркизы Лювиньи; Сюржэр по-своему любил ее, хотя довольно умеренно. Он, конечно, заботился о Ренэ, не жалел денег ей на подарки, но почти никогда не ласкал девочку и держался вдали от нее.
Сразу же по рождении Ренэ, которая, к счастью, появилась на свет во время продолжительного отсутствия маркиза де Лювиньи, девочку отдали на воспитание лесничему Бризэ и его жене. Ребенок не знал своих настоящих родителей и лишь изредка встречался с ними случайно на прогулках или во время их редких приездов в «сторожку». Эти свидания происходили почти всегда при свидетелях, так как появление «важных господ» привлекало массу любопытных крестьян. Таким образом Ренэ не знала тайны своего происхождения, и ей никогда не приходила в голову мысль, что величавая маркиза и граф, владелец большого поместья, хозяин лесничего Бризэ, приезжают изредка специально для нее, что между нею и этими людьми существует самая близкая естественная связь.
Благодаря либеральным взглядам графа Ренэ воспитывалась на свободе; она получила хорошее образование и держала себя с непринужденностью светской барышни. Еще будучи девочкой, Ренэ отлично ездила верхом, большей частью одна, без всяких провожатых. Не зная страха, она быстро мчалась по полям и лугам на маленькой лошадке, присланной из конюшни графа Сюржэра. Иногда Бризэ брал с собой в лес маленькую Ренэ, и девочка очень полюбила таинственный шум деревьев, шорох высохших листьев и звонкие голоса птиц.
Однажды Бризэ, пообедав на свежем воздухе, крепко уснул в лесу, Ренэ, сопровождавшая своего приемного отца, тихо подкралась к спящему и унесла его ружье. Выйдя на лужайку, она прицелилась в пролетавшего мимо фазана и спустила курок. Птица тяжело упала на землю.
Ренэ стояла в первые минуты точно ошеломленная и с удивлением смотрела на свою жертву; но вдруг радость победы промелькнула в ее глазах. Легавая собака быстро подбежала к фазану, лежавшему на земле с распростертыми крыльями, и, схватив его, принесла своей маленькой госпоже. Ренэ ласково погладила собаку и, отняв у нее птицу, так тщательно спрятала фазана в сумку, точно оберегала какое-нибудь сокровище. Бризэ проснулся и, не видя своего ружья, сильно испугался. Он думал, что браконьеры воспользовались его сном и обезоружили его. Узнав, что виновницей была Ренэ, он успокоился; правда, он слегка побранил девочку, но в душе был очень горд, что его приемная дочь оказалась такой смелой и ловкой охотницей.
С тех пор Ренэ постоянно охотилась со своим названым отцом и почти всегда возвращалась с какой-нибудь добычей. Таким образом Ренэ привыкла к долгой, утомительной ходьбе, к лишению известного комфорта, к запаху пороха и оружию.
Часто, когда Бризэ, расставив силки и устроив западню, оставался в лесной чаще, высматривая браконьеров, Ренэ брала ружье и под видом охоты уходила далеко от старика. Но в такие дни зайцы, куропатки и другая дичь могли свободно наслаждаться прелестью теплого дня, так как молодая девушка не обращала на них никакого внимания. Она спешила к тенистому уголку, расположенному на берегу реки, возле мельницы, где за стеной высоких тополей образовалась как бы беседка. Ренэ привлекали не прохлада и тишина этого уединенного места, не журчанье ручейка, а нечто другое: сын мельника, Марсель, постоянно приходил сюда с книгой. Увидев Ренэ, Марсель бросал книгу и спешил навстречу молодой девушке.
Ренэ было в то время семнадцать лет, а Марселю пошел двадцатый год. Марсель был сыном зажиточного крестьянина-мельника и приходился племянником приходскому священнику. Благодаря своему дяде он выучил латынь и должен был сделаться духовным лицом, но служение церкви не прельщало юношу. Он страстно любил природу и потому хотел посвятить себя естественным наукам. Священник дал своему племяннику возможность подготовиться к деятельности медика, и Марсель даже прослушал курс анатомии у одного доктора, друга его дяди. Юноша прилежно учился и успешно сдал вступительный экзамен в городе Рене.
Всеми своими мечтами он делился с Ренэ, которая очень часто под предлогом охоты приходила к мельнице. Молодой человек представлял себе свою жизнь сначала в Ренне, а потом в Париже, где он приобретет славу и деньги и сможет помогать всем страждущим и убогим. Марсель отличался нежной, отчасти сентиментальной душой. Он был горячим поклонником Руссо и преклонялся перед природой. Он не понимал национального патриотизма, называл себя гражданином всего мира и утверждал, что не должно существовать никаких отдельных государств, что люди всего мира равны и имеют одно общее отечество — земной шар. Марселю удалось познакомиться с некоторыми трудами греческого философа Анаксагора, он проникся его учением и мечтал о всемирной республике.
Развивая свои планы на будущее, Марсель присоединял к ним и Ренэ. Она должна была ехать с ним в Париж в качестве его любимой жены. Хотя молодые люди до сих пор еще не объяснялись в любви, но твердо были уверены в чувствах друг друга; и каждый из них давно решил в глубине своей души, что никогда не расстанется с предметом своей страсти. Казалось, что не существовало никаких препятствий для их брака; оба были почти одинакового возраста, нравились друг другу, и их общественное положение было тоже одинаково. Марсель, сын мельника, был вполне подходящей партией для дочери графского лесничего.
Однажды старушка Туанон, жена Бризэ, собирала траву на берегу ручья для своих кроликов и невольно подслушала разговор молодых людей. В это время Марсель как раз говорил Ренэ, что надеется назвать ее своей женой. Старушка слегка пожурила молодую девушку и, к величайшему удивлению Марселя, намекнула, что для их брака может явиться серьезное препятствие со стороны Ренэ. Сын мельника, обладавший известным состоянием, мог еще рассчитывать на сопротивление со стороны своего отца, ввиду того, что Ренэ была бедной девушкой, но совершенно не мог понять, о каком препятствии говорит Туанон.
Когда граф Сюржэр неожиданно покинул свое поместье, а затем разнеслась весть, что он эмигрировал за границу для того, чтобы присоединиться к принцам, старушка Бризэ пошла к молодым и лукаво проговорила:
— Ну, милые дети, если у вас еще не пропала охота пожениться, то вам нужно теперь просить разрешения только у одного мельника.
Марсель никак не мог понять, почему вдруг исчезло то препятствие со стороны Ренэ, о котором недавно говорила Туанон, но не желал ни о чем расспрашивать ее и поспешил объявить своему отцу, что хотел бы жениться на Ренэ.
Мельник ответил, что ничего не имеет против молодой девушки, но тем не менее старался отговорить сына от этого брака.
— Ты еще очень молод, — сказал мельник, — тебе нужно много работать, достичь положения и только потом думать о женитьбе!
Одним словом, он сказал все то, что говорят обычно родители, когда находят невесту или жениха неподходящими и стесняются почему-нибудь отказать прямо.
Пораженный отношением отца к его заветной мечте, Марсель старался понять настоящую причину этого отказа «Молодой человек не допускал мысли, что мельник считает дочь лесничего недостойной женой для него. Ссылке на молодость Марсель тоже не придавал никакого значения.
Наконец жена мельника открыла Марселю, в чем заключается суть. Матери обычно не умеют хранить тайны, когда вопрос касается счастья их детей, этому правилу не изменила и жена мельника. Она рассказала Марселю, что нотариус Бертран ле Гоэц, управлявший всеми имениями графа и бывший полновластным хозяином в отсутствие Сюржэра, питает нежные чувства к хорошенькой Ренэ и собирается просить ее руки у Бризэ.
Марсель глубоко опечалился сообщением матери, а гнев и ревность еще усилили его страсть к молодой девушке.
Отвратительный старый Бертран, о котором говорят так много дурного, осмеливается быть соперником Марселя! Конечно, Ренэ не могла любить безобразного старого нотариуса, она не приняла бы его предложения, с этой стороны не о чем было беспокоиться; но Марселя страшно пугала мысль, что лесничий, из боязни потерять место, заставит свою дочь согласиться выйти за Бертрана. Граф Сюржэр, уезжая, дал широкие полномочия своему управляющему, и тот мог рассчитать каждого, кто показался бы ему лишним.
Однако опасения Марселя были напрасны: Бертран ле Гоэц не мог отказать Бризэ — старому, опытному лесничему графа — без какой-нибудь особенно веской причины, тем более что Бризэ служил образцом честности и порядочности для всех окрестных лесничих и егерей.
Хитрый нотариус прекрасно сознавал это и потому стал искать поддержки своим планам у мельника. Отец Марселя арендовал у графа землю, необходимую для благосостояния мельницы, и от Бертрана зависело, продолжить ли договор об аренде или уничтожить его; в последнем случае мельник был бы совершенно разорен. И вот Бертран, нисколько не стесняясь, заявил мельнику, что отдаст ему на будущий год землю лишь при том условии, что Марсель порвет всякую связь с Ренэ и никогда не будет встречаться с ней. Если же этого не будет, то Бертран собирался уничтожить договор и заставить мельника переселиться в какое-нибудь другое место.
Когда Марсель узнал о планах и условиях нотариуса, он пришел в ярость и объявил, что «пойдет в контору старой обезьяны и переломает ему ребра». Мать отговорила его от этого безумного поступка, напомнив Марселю, что нотариус обладал большим влиянием и любил мстить своим врагам.
По своим взглядам Бертран был самым страшным, кровожадным революционером. Он не переставал говорить о казнях, требовал, чтобы без всяких колебаний рубили головы всем противникам революции. Он переписывался с самыми влиятельными агитаторами в Париже и легко мог уничтожить всякого, кто стал бы ему поперек дороги. С таким гражданином нельзя было не считаться и опасно было шутить над ним.
— Что же мне делать! — в отчаянии воскликнул Марсель.
— Уехать отсюда, — ответила мать, — и не думать больше о Ренэ. Поезжай в Рен, продолжай заниматься; скоро ты станешь известным доктором, успокоишься и, может быть, найдешь счастье.
Молодой влюбленный молча покачал головой и погрузился в глубокое раздумье. Он не хотел ни покоя, ни другого счастья, кроме брака с Ренэ; да оно было и немыслимо для него без его возлюбленной. Марсель решил сначала, что никуда не уедет, но и не уступит нотариусу любимой девушки.
«А впрочем, не лучше ли будет покинуть эту старую Европу, с ее ужасами кровопролитных войн и междоусобиц? — вдруг изменил свой план Марсель. — Я буду прекрасно чувствовать себя в свободной, независимой Америке. Там я стану учиться, работать и сделаюсь полезным гражданином. Ренэ, конечно, поедет со мной».
Вечером в день решительного разговора с матерью Марсель встретил Ренэ в обычном месте, на берегу ручья. Песня, которую напевала молодая девушка, казалась особенно грустной среди сумерек угасающего дня. На западе виднелась красная полоса заходящего солнца, скрывшегося за темно-серыми облаками. На востоке медленно поднималась луна, обливая серебристым светом ветви высоких и стройных тополей.
Марсель и Ренэ сидели, взявшись за руки, на траве и следили взглядом за бледным месяцем, плывущим в необъятном небе. Минута была торжественная. Словно пение птиц, раздавались в ночной тиши голоса влюбленных молодых людей.
— Я люблю тебя, Ренэ, и никогда никого не буду любить, кроме тебя! — горячо произнес Марсель.
— Я думаю только об одном тебе, Марсель, мое сердце навсегда принадлежит одному тебе! — нежно ответила Ренэ.
— Мы никогда не расстанемся! — воскликнул Марсель.
— Всегда, всегда будем вместе! — подтвердила его невеста.
— Ничто не будет в силах разлучить нас!
— Мы не расстанемся до самой смерти.
— Поклянись, что ты всюду последуешь за мной, моя Ренэ!
— Клянусь следовать за тобой всюду, куда ты пойдешь, Марсель!
— Мы вечно будем любить друг друга!
— Пусть эти ветви, эмблемы свободы, пусть эти деревья, являющиеся колоннами в храме Природы, пусть эти вековые тополя примут мои клятвы и будут свидетелями! — сказал Марсель с той напыщенностью, которая в те времена царила как в оборотах речи, так и в жестах, и, словно присягая, протянул руку к деревьям, которые были в особенном почете у революции как символы нации.
Ренэ последовала примеру Марселя; протянув руку, °на тоже поклялась вечно любить и повсюду следовать за Тем, кого она добровольно признала своим нареченным под тополями, посеребренными ласковым светом луны.
X
Когда молодые люди скрепили целомудренным поцелуем клятвы, которыми только что обменялись в ясном свете луны, озарившей все небо и пронизавшей даже закатные туманы, им показалось, словно сзади их послышался шорох листвы, за которым последовал пронзительный совиный крик. Крик этого зловещего вещуна смутил их нежный восторг. Они испуганно поднялись, и тайная скорбь вдруг стеснила их сердца.
Марсель взял камень и, чтобы спугнуть назойливую птицу, кинул его в густую заросль ветвей, откуда послышался крик.
— Пошла прочь, мерзкая сова! — крикнул юноша, со злобой поглядывая на темную листву, где в каком-нибудь дупле засел этот ревнивый свидетель их нежности.
Но из темной чащи не вылетела никакая птица. Вместо шума крыльев наши влюбленные услыхали звук чьих-то шагов, и им показалось, будто там, в густой купе деревьев, язвительно захохотал человек.
Значит, их накрыли, выследили, подслушали?
Влюбленные вернулись в деревню опечаленные, молчаливые, обеспокоенные.
— Меня пугает это дурное предзнаменование, — сказала Ренэ, когда они прощались на луговине, окружавшей сторожку.
— Ну, вот еще, — возразил Марсель, стараясь успокоить девушку, — это просто какой-нибудь шутник дурного тона, захотевший позабавиться на наш счет, человек, позавидовавший нашему счастью… Не будем даже и думать об этом, крошка! Мы любим друг друга, мы поклялись в вечной верности, и ничто не сможет разлучить нас!
Тем не менее они расстались, взволнованные этим предупреждением, которое им было дано. Значит, кто-то хотел помешать им быть счастливыми? Но кто же мог выслеживать и грозить им таким образом? Кому могло быть не по душе их счастье? И сейчас же Марселю пришла в голову мысль о словах мельничихи о Бертране ле Гоэце, который желал обладать Ренэ, но он старался разубедить себя в таком необоснованном подозрении.
«Бертран ле Гоэц — очень злой и ревнивый человек, — сказал он себе, — но что же он может иметь против нас, раз Ренэ любит меня и поклялась не принадлежать никому, кроме меня?»
Тем не менее Марсель твердо решил быть настороже и следить за деревенским нотариусом.
Опасения, всплывшие у него, не были лишены некоторого основания. Ле Гоэц все чаще захаживал на мельницу. Он вторично предупредил отца Марселя, что срок аренды истекает в самое ближайшее время и что мельник не может рассчитывать ни на какое возобновление договора. На основании доверенности, выданной ему графом де Сюржэром, он предпишет мельнику очистить арендуемые земли и не потерпит никаких отсрочек в этом. В то же время нотариус предупредил отца Марселя, что если тот пошлет сына в Ренн и заставит его отказаться от всяких надежд на брак с Ренэ, то он согласится на продление срока аренды.
Мельник находился в сильном замешательстве: сын настаивал на своих намерениях и клялся, что все-таки женится на Ренэ, несмотря на Бертрана ле Гоэца; со своей стороны, и молодая девушка ответила категорическим отказом на все увещевания влюбленного нотариуса.
Тогда Бертран ле Гоэц решил силой разлучить молодых людей.
Вся Франция бралась за оружие, со всех сторон в муниципалитеты стекались добровольцы, требовавшие ружей и пик, желая умереть за родину. Нотариус в качестве председателя коммуны созвал в одно из воскресных утр всех местных молодых людей и обратился к ним с пламенным воззванием: надо было отправиться в Рен, чтобы пополнить состав батальона от Иль-э-Вилен. Тут же многие высказали желание стать под ружье, записались волонтерами и на следующий день выехали к месту сбора. Тогда Бертран ле Гоэц стал повсюду кричать о дурном примере и подлости тех, которые, будучи молодыми, сильными, способными носить ружье, старались увернуться от чести защищать родину, предпочитая нежиться в обществе стариков и девушек.
Это было явно направлено против Марселя. Поэтому, понимая, какую выгоду для себя может извлечь ле Гоэц из подобного положения дела, Марсель отправился к лесничему и застал ла Бризэ за чисткой ружья, которое он смазывал салом, насвистывая охотничью песенку.
Ренэ что-то шила около жены лесничего и удивленно вскрикнула, когда увидела Марселя, решив, что, очевидно, случилось какое-то несчастье. Она взглядом обратилась к нему, прося сказать, в чем дело.
— Дедушка ла Бризэ, — сказал молодой человек взволнованным голосом, — я пришел проститься с вами и Ренэ… Я уезжаю…
— Боже мой, — вскрикнула девушка, хватаясь рукой за сердце. — Почему же вы покидаете нас, Марсель? Неужели этот злой ле Гоэц все-таки хочет отнять землю у вашего отца?
— Я должен уехать не только из-за этого…
— А куда ты отправляешься? — спокойно спросил Бризэ, продолжая натирать ружейный замок.
— Не знаю… Перед всей деревней меня упрекнули в подлой трусости… Но я вовсе не из трусости не берусь за ружье; правда, я смотрю на войну как на страшный бич человечества, а люди, которые дают вести себя в сражение, словно бараны на бойню, по-моему, просто сумасшедшие, как это ясно доказал Жан-Жак Руссо, мой учитель! Ну, к чему они жертвуют собою во имя интересов, которые ни сколько не касаются их? Одна только война может быть справедливой — это та, когда рабы стремятся разрубить свои оковы, война свободы против тирании, и даже сам Жан-Жак Руссо одобрил этот род войны!
— Так ты, значит, попал в рекрутчину? — спросил ла Бризэ. — Но это хорошо, очень хорошо… ты поступил так же, как и все… Ты бравый парень! Ступай и перебей побольше этих разбойников-пруссаков… Жалко только, что ты никогда еще не стрелял из ружья! Ты не похож на Ренэ… Вот из нее вышел бы славный солдат! Ну, да со временем научишься! Только не вешай носа, Марсель!
Ренэ вскочила, близкая к обмороку, смертельно бледная.
— Я уезжаю отсюда, — со все возрастающим волнением продолжал Марсель, — потому что не могу больше жить посреди вечных угроз и оскорблений… Дедушка ла Бризэ, я с отцом и матерью отправляюсь в Америку…
— Как? — воскликнул лесничий, изумленный до того, что даже ружье выпало у него из рук. — Значит, ты отправляешься вовсе не в армию? Да что тебе делать в Америке то, Господи!
— Я хотел бы, — продолжал молодой человек с приливом энергии, — чтобы вы позволили мне взять с собой как жену вашу дочь Ренэ. Там мы создадим семью, там мы будем счастливы под вековыми деревьями девственных лесов.
Ренэ бросилась к ла Бризэ, говоря ему:
— Папа! Папа! Поедем с нами в эту Америку, которой я не знаю, но которая должна быть очень хорошей, раз Марсель говорит, что там хорошо жить.
Лесничий взволнованно встал и посмотрел на жену, которая, казалось, ничего не слыхала, так как спокойно продолжала водить взад и вперед иголкой.
— Вот так штука! Увезти Ренэ в Америку! Жениться на ней! Ну, а ты что скажешь на это, старуха?
Старушка ла Бризэ перестала шить и, подняв голову, сказала язвительным тоном:
— Скажу, что все это — одни глупости, только и всего! Пора кончать с этим. Ну-ка, расскажи всю правду этим воркующим голубкам! Они не знают, что они неровня друг другу. Так объясни им это!
Тогда ла Бризэ открыл Ренэ, что она дочь графа де Сюржэр и не может стать женой мельника.
Ренэ, пораженная и опечаленная, проклинала знатность своего происхождения, ставшую преградой между ними. Но она подумала, что раз, как говорил ла Бризэ, ее отец уехал, бросив ее на попечение приемных родителей, то он в силу этого потерял всякие права на нее и не мог помешать отдаться любимому человеку. В силу незаконности рождения она оказывалась вне светских условий, так почему же ей не порвать с ними окончательно?
Повсюду носились идеи революции, и в самых спокойных умах, даже в душе такой молодой девушки, как Ренэ, она посеяла зародыши независимости и свободы.
Со своей стороны и Марсель погрузился в раздумье. Происхождение Ренэ переворачивало вверх дном все его проекты и сбивало его с толку. Само по себе благородство этого происхождения не казалось ему препятствием — революция стерла все привилегии и объявила всех людей равными. Но Ренэ была богатой. Она уже не могла следовать за сыном разорившегося мельника: то, что на самом деле было только любовью и пылом юности, впоследствии могло бы показаться преступным расчетом с его стороны, чем-то вроде подлого обольщения. Нет! Он не смел принять жертву, на которую была готова Ренэ… Он уедет, заставит себя забыть ее, постарается найти вне пределов Франции если не счастье, то по крайней мере забвение, отдых, он один уедет в Америку.
Его решение было быстро принято: он сейчас же отправится объявить о том, что собирается эмигрировать, воздвигнуть расстоянием преграду между собой и объектом своей любви.
Вдруг в дверь постучали. Ла Бризэ пошла отворить.
Появился Бертран ле Гоэц. Он был опоясан шарфом; его сопровождали двое окружных комиссаров в треуголках с трехцветными перьями и значками муниципальных делегатов.
В то время как ла Бризэ выразил удивление по поводу этого появления, ле Гоэц сказал, обращаясь к одному из комиссаров и указывая на молодого человека:
— Гражданин, вот Марсель! Приступите к исполнению своих обязанностей!
— Вы хотите арестовать меня? — с изумлением спросил Марсель. — Что же я сделал?
— Мы просто пришли спросить тебя, гражданин, — ответил один из комиссаров, — правда ли, что ты собираешься уезжать, покинуть свой очаг, свое знамя, как это заявил твой отец-мельник?
— Я в самом деле имел это намерение.
— Ну, вот видите! — с торжеством сказал ле Гоэц, призывая комиссаров в свидетели сказанного Марселем. — Значит, ты хочешь эмигрировать? Хочешь воевать против родины? Разве ты не знаешь, что закон карает тех, которые эмигрируют в данный момент? Отвечай!
— Я не дезертирую, а эмигрирую. Но я не могу больше жить здесь. Меня с семьей гонит отсюда бедность. Я хотел поискать под другим солнцем работы и свободы!
— Свобода — под знаменами нации, — ответил ему первый комиссар. — Что же касается работы, то нация даст тебе таковую! Ты врач, как нам говорили?
— Я собираюсь быть им: мне остается только получить диплом…
— Ты получишь его… из полка.
— Из полка? Что вы хотите сказать этим?
— У нас на тебя есть реквизиционный ордер, — сказал второй комиссар. — В наших армиях недостаток врачебного персонала, и нам с коллегой поручено позаботиться пополнением его. — Он протянул пораженному Марселю какую-то бумагу и продолжал: — Подпишись вот здесь и в течение суток изволь отправиться в Анже. В штабе тебе скажут, к какому полку ты будешь причислен!
— А если я откажусь подписать?
— Мы немедленно арестуем тебя как дезертира, как эмигранта и пошлем тебя в Анже… но уже в тюрьму! Ну же, подписывай!
Марсель остановился в нерешительности.
Бертран ле Гоэц мигнул комиссарам и сказал им вполголоса:
— Вы сделали бы лучше, если бы послушались меня и сразу арестовали его. Он не подпишет, это аристократ, враг народа!
Ла Бризэ с женой молча и смущенно смотрели на эту сцену. Тем временем Ренэ подошла к Марселю, взяла перо и, подав его, шепотом сказала:
— Подпиши, Марсель… так нужно. Я хочу, чтобы ты подписал!
— Значит, вы хотите, чтобы я покинул вас, чтобы я оставил вас беззащитной против всех покушений этого негодяя? — сказал он, показывая на ле Гоэца.
Ренэ, наклонившись к самому его уху, продолжала:
— Подпиши! Я разыщу тебя… клянусь!
Марсель изумленно посмотрел на нее и тихо сказал:
— Ты? Среди солдат? Ты — в армии?
— А почему бы и нет? Я умею обращаться с ружьем, спроси у отца! Я не в тебя! Да ну же, подписывай!
Марсель взял перо и нервно подписал согласие на вступление на военную службу, а затем спросил, обращаясь к комиссарам:
— А куда следует идти?
— В Анже. Там формируют батальон из Майен-э-Луар. Желаю счастья, гражданин врач!
— Привет, гражданин комиссар!
— Ну, а мне ты и словечка не скажешь? — насмешливо спросил ле Гоэц.
Марсель указал ему на дверь.
— Ты совсем напрасно сердишься на меня. Теперь, когда ты добрый санкюлот и служишь отечеству, я возвращаю тебе свое уважение, Марсель! А чтобы доказать тебе это, я даже готов возобновить арендный договор с твоими родителями! — сказал нотариус с натянутым смехом.
Бертран ле Гоэц ушел, потирая руки. Теперь-то он возьмет свое! Соперник отправляется далеко, к врагам. Вернется ли он когда-нибудь оттуда? В его власти останется Ренэ, происхождение которой он знал и которая, став его женой, принесет ему в приданое часть владений графа Де Сюржэр. Ле Гоэц уже видел себя хозяином и собственником этих обширных поместий, сторожем которых был в настоящее время. Он может оказать ряд любезностей родителям Марселя, оставит им их землю. Тогда они будут его верными союзниками, и Марсель будет не в силах восстановить их против него. Все благоприятствовало ле Гоэцу, и он предвкушал радость объезжать поместья графа уже не в качестве управителя, а как настоящий хозяин, рядом с Ренэ, которая во что бы то ни стало будет его женой. По закону граф де Сюржэр как эмигрант потеряет все права на них, ну, а уж права наследницы он, ле Гоэц, сумеет заставить признать.
Тем временем Ренэ, заявив ла Бризэ и Туанон, что, несмотря ни на какого Бертрана, она все-таки не полюбит никогда никого, кроме Марселя, и что последний все-таки будет ее мужем, с наступлением вечера отправилась на место обычных свиданий на берегу ручья под тополями. Там она застала печального и очень обеспокоенного Марселя. Его рука дрожала словно в лихорадке, и слезы катились из глаз. Она постаралась ободрить его, повторила свое обещание отыскать его в полку, а так как он снова выразил недоверие, то она с уверенностью сказала ему:
— Ну, вот увидишь! Разве из меня не выйдет славного солдата? — И она, смеясь, прибавила: — Господи! Я не разделяю твоих взглядов на войну! Я не философствую, а просто люблю тебя и последую за тобой всюду!
— Но усталость… переходы? Ружье тяжело, а ранец оттягивает плечи. Ты не имеешь понятия о всех тяготах войны, бедная девочка! — сказал Марсель, чтобы отговорить ее от этого замысла, который казался ему безумием.
— Я достаточно сильна, да, кроме того, ко всему можно привыкнуть! Каждый день на войну отправляется масса молодых людей, и среди них очень много таких, которые гораздо слабее меня. Да и на их знамени нет, как у меня, их любви! — хвастливо ответила девушка.
— Ну, а если ты будешь ранена?
— Да ведь ты врач! Ты будешь ухаживать за мной и вылечишь меня!
Через несколько дней после этого на рассвете можно было видеть, как по дороге, ведшей в Анже, быстро шагал молодой человек, перекинув через плечо палку, на конце которой был узелок с бельем; этот юноша был одет в мундир национальной гвардии. По прибытии в Анже юноша явился в мэрию, где и записался волонтером в батальон из Майен-э-Луар под именем Ренэ Марсель, сына Марселя, мельника в Сюржэре. Молодой человек заметил при этом, что хочет попасть в полк, где служит лекарем его старший брат Марсель.
Ренэ была зачислена в полк без всяких затруднений.
Никто не заподозрил ее пола. Во времена тогдашнего всеобщего смятения и самопожертвования на благо родины случаи поступления женщин в солдаты встречались неоднократно, и в батальонах революции служило немало рекрутов женского пола. В золотых книгах военных летописей республики еще сохранилось много безвестных имен героических амазонок, оказавших в качестве простых солдат много славных услуг родине.
В батальоне из Майен-э-Луар, где Ренэ скоро добилась серебряных нашивок и заслужила прозвище Красавчик Сержант, ей пришлось вскоре испытать жестокое разочарование. Ей не суждено было долго оставаться подле того, ради которого она пошла на эту жертву: приказ свыше заставил лекаря Марселя перейти в четвертый артиллерийский батальон, где не хватало докторов и который спешили двинуть на Тулон.
Расставание было очень тяжелым. Необходимость сдерживать свою скорбь и таить слезы, чтобы не выдать истины посторонним наблюдателям, усиливала страдание разлуки. Но влюбленные дали друг другу слово, что каждый из них сделает все возможное, чтобы им снова очутиться вместе.
Мы уже видели, как Красавчик Сержант хлопотал у капитана Бонапарта, из чего знаем, насколько Ренэ старалась поскорее соединиться с возлюбленным.
Благодаря протекции Робеспьера Младшего, бывшего в дружбе с Бонапартом, желаемый перевод был получен, и мы вскоре встретим под командой Борепэра, геройского защитника Вердена, Ренэ, воодушевленную любовью, и Марселя, философа-гуманиста, ученика Жан-Жака Руссо, апостола мира и международного братства, гражданина мира, как он называл себя после своего несколько невольного поступления в полк.
XI
После ухода Красавчика Сержанта Бонапарт, замкнувшись в себе, снова взялся за работу. Раскинув карту, он представлял грандиозные проекты защиты побережья Средиземного моря, завистливо поглядывая на горы, отделявшие Францию от Пьемонта, ключа Италии.
Стук в дверь заставил его очнуться от этих стратегических расчетов.
«Ну, кто там еще? — нетерпеливо подумал Наполеон, недовольный тем, что ему опять помешали. — Сегодня какой-то приемный день у меня!»
— Кто там? — громко крикнул он.
— Это я, — ответил женский голос. — Екатерина, прачка!
— Войдите! — буркнул Наполеон.
В дверях появилась Екатерина с корзиной в руках; она казалась несколько смущенной.
— Не беспокойтесь, капитан, — почти робко сказала она. — Я просто принесла вам ваше белье. Я подумала, что оно может понадобиться вам.
Не поднимая глаз, Бонапарт буркнул:
— Белье? Хорошо… Положите его на кровать! Екатерина чувствовала себя очень смущенной. Она не решалась ни тронуться с места, ни поставить корзину, которую продолжала держать в руках. Она думала: «У меня, должно быть, очень глупый вид. Но я ничего не могу поделать с собой — этот человек внушает мне невольное уважение!»
Та, которую во всем квартале Сен-Рок звали Сан-Жень и которая постоянно оправдывала это прозвище, явно чувствовала на этот раз себя стесненной. Она посмотрела на постель, которую ей показал Бонапарт, взяла корзину в другую руку и помяла в кармане передника принесенный счет, не решаясь предпринять что-либо. Она испытывала как раз сильные денежные затруднения.
Бонапарт продолжал рассматривать карту, разложенную на столе, даже не замечая присутствия прачки.
В конце концов Екатерина принялась покашливать, чтобы обратить на себя его внимание.
«А капитан-то не очень галантен! — думала она. — Конечно, я порядочная женщина и не пришла к нему для… глупостей, но стою же я того, чтобы он хоть посмотрел на меня!»
Уязвленная в своем женском самолюбии, она снова принялась покашливать.
Бонапарт поднял голову и нахмурил брови.
— Как, вы все еще здесь? — не особенно-то любезно сказал он. — Что вам нужно? — продолжал он после короткого молчания с обычной для него резкостью.
— Да… но… гражданин… извините — капитан. Я хотела сказать вам… ну, словом, я выхожу замуж! — поспешно докончила Екатерина.
Она была красная как рак. Под полотняной кофточкой бурно волновалась пышная грудь. Капитан решительно заставлял ее терять обычный апломб.
— А, вы выходите замуж? — холодно заметил Бонапарт. — Ну что же, тем лучше для вас. Желаю вам счастья! Надеюсь, что вы выходите замуж за славного парня, наверное, за какого-нибудь прачечника?
— Нет, капитан! — поспешно ответила Екатерина, почувствовавшая себя задетой. — Мой суженый — солдат… сержант!
— А, это очень хорошо! Вы хорошо делаете, что выходите замуж за военного, мадемуазель, — произнес Бонапарт более любезным тоном. — Быть солдатом — значит быть вдвойне французом. Желаю вам счастья!
Наполеон хотел снова приняться за работу, мало интересуясь любовными делами своей прачки; тем не менее он не мог не улыбнуться при виде волнующегося корсажа Екатерины, здоровья, которым так и дышали ее щеки, и всей ее бодрой, задорной фигуры, совершенно не вязавшейся со скромной миной и видом недотроги, с которым она приносила ему белье. Его всегда особенно тянуло к полным женщинам; тощий, голодающий офицер, как и нервный первый консул, как и пузатый император, любил касаться пышных, аппетитных форм.
Полная силы красота Екатерины заставила Наполеона оторваться на минутку от своих стратегических занятий; с некоторой, уже в то время свойственной ему грубостью он быстро кинулся к молодой прачке и дерзко схватил ее за грудь.
Екатерина слегка вскрикнула.
Будущий победитель при Арколе был не из тех, кто станет колебаться в подобных случаях. Началась атака. Наполеон удвоил быстроту натиска и прижал Екатерину, вынуждая ее сесть на край кровати, она же отважно, лицом к лицу встретила неприятеля и стала защищаться, но без ложного стыда, не стараясь показать вид оскорбленной невинности. А так как Наполеон, забывая о Тулоне, очевидно, хотел ускорить победу, то для защиты она выставила перед собой в виде бастиона корзину от белья и сказала изумленному атакующему:
— Нет, нет, капитан! Слишком поздно. Вам не взять меня… я уже капитулировала. Что сказал бы мой муж!
— В самом деле! — ответил Бонапарт, приостанавливая враждебные действия. — Значит, этот брак вполне серьезен?
— Очень серьезен… и я пришла, чтобы объявить о замужестве и предупредить вас, что не буду больше стирать на вас.
— Вы закрываете заведение, красавица?
— В настоящее время прачечное дело идет очень плохо. Кроме того, я хочу следовать за мужем.
— В полк? — с удивлением спросил Бонапарт.
— А почему бы и нет?
— Это уже бывало! — заметил Наполеон, и, вспомнив о Ренэ, которая поступила в солдаты, чтобы быть около Марселя, он пробормотал: — Право, кажется, в армии теперь будут одни только воркующие парочки! — Затем он сказал вслух насмешливым тоном: — Значит, вы будете теперь учиться заряжать ружье в двенадцать приемов, а быть может, даже и управляться с пушкой?
— С ружьем я уже умею обращаться, а что касается пушки, то мне легко было бы научится под вашим руководством. Но мой муж служит в пехоте, — прибавила она смеясь. — Нет, я не буду стрелять… если не придется в силу необходимости. Но ведь полки нуждаются в маркитантках, и я в этой роли буду служить товарищам моего мужа. Надеюсь, что и вы тоже будете моим клиентом, капитан, если только будете служить в наших краях!
— Обязательно запишусь в ваш обоз. Но только не теперь! Министр не дает мне ни сражаться… ни… — Он хотел сказать: «ни есть», но сдержался и окончил свою фразу следующим образом: — Ни гратиться на маркитанток. Это будет позднее, немного позднее, дитя мое! — со вздохом прибавил он и, объятый печальными мыслями, вернулся обратно к рабочему столу.
Екатерина медленно стала раскладывать белье по кровати, как ей указал клиент; ее сердце теснили печаль и сочувствие к этому молодому человеку, которому приходилось во всем отказывать себе. Затем она сделала ему реверанс, подошла к двери, открыла ее и сказала:
— Простите, я по неосторожности прожгла утюгом одну из ваших рубашек. Я заменила ее новой… вы найдете ее там, среди кальсон и платков. До свидания, капитан!
— До свидания… в вашей маркитантской палатке, красавица! — ответил Бонапарт и сейчас же вновь погрузился в свои занятия.
Спускаясь по лестнице гостиницы «Мец», Екатерина пробормотала:
— Я принесла ему счет… но так и не решилась подать его. Ба! Он мне когда-нибудь заплатит… Я верю в этого парнишку! Не то что гражданин Фушэ. Я-то уверена, что он пробьет себе дорогу!
Затем она подумала, внутренне смеясь и окончательно приходя в хорошее расположение духа под влиянием забавного воспоминания: «А как боролся со мной капитан! О! Он все-таки оторвался от своих бумаг. Нечего сказать, он быстр на руку. Ну что же, это хоть немного развлечет его. Этому бедному юноше представляется не так-то много случаев подурачиться! — Слегка покраснев, она прибавила: — Подумать только, что если бы он захотел… О, не сегодня, но прежде, еще до того, как я влюбилась в Лефевра! — Екатерина прервала свои сожаления о неразделенной в прошлом симпатии этого худого и печального артиллерийского офицера и весело продолжала: — В конце концов, я даже и не думаю об этом… а он так и никогда не думал. Ну-ка посмотрим, в прачечной ли Лефевр? Вот этот меня сильно любит, и я уверена, что из него выйдет лучший муж, чем из капитана Бонапарта».
Не успела Екатерина вернуться в свою прачечную, как на улице раздались крики и возгласы радости. Она открыла дверь, чтобы посмотреть, что там происходило.
Все соседи были взволнованы, Екатерина увидала Лефевра без ружья, без амуниции, но с саблей в руках, на которой красовался золотой дракон. Его окружили товарищи, которые словно устроили ему триумфальный кортеж.
— Катрин, я лейтенант! — воскликнул он радостным тоном, обнимая невесту.
— Да здравствует лейтенант Лефевр! — кричали национальные гвардейцы, поднимая на воздух треуголки и ружья.
— Прибавьте, товарищи, — сказал новоиспеченный лейтенант, представляя Екатерину: — «Да здравствует гражданка Лефевр!..», потому что вот моя будущая жена!.. Мы обвенчаемся на будущей неделе!
— Да здравствует гражданка Лефевр! — крикнули восхищенные гвардейцы.
— Да здравствует мадам Сан-Жень! — подхватили сбежавшиеся кумушки.
— Пусть они не кричат так громко, — шепнула на ухо Екатерина жениху, думая о Нейпперге, лежавшем в соседней комнате. — Они разбудят нашего раненого. В это же время в маленькой комнатке гостиницы «Мец» артиллерийский офицер без жалованья и места окончил изучение карты и принялся методически складывать на сосновую полочку белье, принесенное Екатериной.
— Батюшки! Да она даже и счета не оставила! — сказал будущий император. Но в глубине души он был очень доволен такой забывчивостью, так как в противном случае ему пришлось бы сознаться в своей несостоятельности. Прикидывая в уме общий счет своих долгов, он сказал: — Я должен ей по крайней мере тридцать франков, а может быть, и больше… Черт! Постараюсь заплатить ей из первых же денег. Эта Катрин — славная девушка, и я не забуду ее.
Он оделся, чтобы идти обедать к друзьям Пермонам.
Много лет Наполеону не приходилось вспоминать об этом долге. Только много лет спустя ему вдруг предъявили забытый счет прачки, что случилось в совершенно неожиданный для него момент. Но читатели еще встретятся с этим, если захотят последовать за нами дальше, где они смогут проследить за судьбой Нейпперга, Бланш, Красавчика Сержанта, Марселя, маленького Анрио и познакомиться с полными приключений эпизодами на пути к славе прачки Екатерины, ставшей маркитанткой в 13 легкопехотном полку, затем — женой маршала Лефевра, наконец, герцогиней Данцингской; но все время она оставалась такой же симпатичной и смешливой, такой же мужественной и добродушной, героической и милосердной, сохраняя парижское прозвище мадам Сан-Жень.
— 2 — Путь к славе
«Путь к славе» — второй из 10-ти исторических романов известного французского писателя Эдмона Лепеллетье. Они рассказывают о карьере Наполеона, полной приключений и случайностей. На его пути от никому не известного капитана до всемогущего императора встречались люди, обожавшие и ненавидящие его, предававшие и бескорыстно служившие ему. Он почему-то любил женщин, которые не любили его — вечная история! Обо всем этом и рассказывается в предлагаемой читателю книге.
I
— Э, полно, они не остановятся здесь… Как почтальон прищелкнул бичом, когда проезжал мимо «Экю»! Точно хотел подразнить нас.
— Да, в эти дни не так-то много проезжающих.
— Да их совсем не видать теперь? — Они, наверное, остановятся в «Лион-д'Ор». — Или в «Шеваль-Блан».
Двойной вздох последовал за этим обменом мыслей между пузатым хозяином гостиницы «Экю» и его тощей супругой на пороге главной гостиницы Даммартена.
Путешественники в почтовой карете стали показываться очень редко после приключений, последовавших за 20 июня 1792 года.
Карета, промелькнувшая мимо полных отчаяния содержателей «Экю», отбыла из Парижа накануне вечером. Очевидно, это был последний экипаж, которому удалось пробраться через заставу, так как вечером того дня, когда былт начата атака Тюильри, был отдан приказ, запрещавший кому бы то ни было выезжать из Парижа.
Осведомленный через друзей о том, что произошло в секциях, и о готовящемся движении, барон Левендаль отложил свою свадьбу с дочерью маркиза де Лавелин и на скорую руку собрался в дорогу. Будучи генеральным откупщиком, он боялся в будущем контроля со стороны истинных уполномоченных нации; у барона Левендаля было тонкое чутье.
Таким образом, в канун десятого августа он в сопровождении своего слуги Леонарда сел в почтовую карету, увозя с собой столько денег, сколько мог собрать, и приказал почтальону гнать во весь дух.
Путешествие барона было похоже на бегство. Но в Крепи, несмотря ни на что, пришлось сделать остановку, так как лошади не могли больше двигаться.
Утро сменило ночь, и ясный день разогнал облака, заставив поредеть туманы. Последние звезды померкли на бледном своде неба, тогда как со стороны Суассона занималась заря.
Барон Левендаль направлялся к своему замку, выстроенному около села Жемап, на бельгийской границе. Родом из Бельгии, хотя и натурализовавшийся во Франции, барон думал, что будет чувствовать себя в своем замке в большей безопасности. Революция не пойдет отыскивать его на бельгийскую территорию; к тому же армия принца Брауншвейгского была сосредоточена около границы; она не замедлит проучить санкюлотов и восстановить короля во всех его прерогативах. Он пока отдохнет и подготовится к свадьбе с очаровательной дочерью маркиза Лавелин. Просто предсвадебное путешествие, и только!
Барон назначил празднование свадьбы на шестое ноября, так как сначала хотел урегулировать большое дело в Вердене, где он держал на откупе табачный акциз. Он решил если не выехать, так ускользнуть из Парижа, если его будут преследовать. У него были дивные лошади, так что стоило ему только выбраться из города, а там уж его не настигнуть ни в коем случае.
Левендаль проснулся только тогда, когда его и санкюлотов разделяло достаточное количество добрых миль. Высунув нос в окошко, он вдохнул утренний воздух, и так как карета уже проехала первые дома Крепи, то, чувствуя себя в безопасности, он приказал почтальону остановиться.
Последний с радостью повиновался. Он был крайне недоволен, что приходится так гнать, не останавливаясь нигде, чтобы сделать добрый глоток вина, и не порассказав любопытным провинциалам о парижских делах. А порассказать было что: не каждый день можно было видеть, как Париж вооружается и готовится выгнать короля из дворца его предков. Это были новости, да! С каким жадным любопытством стали бы слушать его и расспрашивать о том, что происходит в секциях!
Они остановились в «Почтовой гостинице».
В то время как хозяин и слуги торопились услужить барону, предлагая ему кровать, завтрак, перечисляя напитки, имеющиеся у них, и с нетерпением выискивая предлог заговорить о парижских новостях, его слуга Леонард скрылся на момент под предлогом удостовериться, не бродит ли вокруг какой-нибудь чересчур любопытный гражданин.
Со времени неудавшегося бегства Людовика XVI в Варенне не только муниципалисты стали более недоверчивыми, но и масса частных лиц, завидуя славе гражданина Друэ, имевшего честь остановить Людовика XVI, стала добровольно шнырять повсюду, осматривая каждую подозрительную карету. Почтовые кареты были поручены особенной бдительности граждан.
К счастью для барона, местный патриотизм еще не пробудился в то время, когда его почтовая карета с грохотом въехала в славный городок Крепиан-Валуа.
В то время как путешественник сидел за аппетитной чашкой шоколада, принесенной дородной горничной, которую он похлопал по румяным щекам, так как был нестерпимым бабником, Леонард заперся на ключ в конюшне. Там, при свете фонаря, он принялся за чтение письма, которое получил от мадемуазель де Лавелин в момент отъезда.
Бланш очень просила его, присовокупляя к мольбам пару двойных луидоров, передать это послание, страшно важное, не ранее того, как барон выедет из Парижа.
Леонард, нюхом угадывая здесь какую-то тайну, знакомство с которой могло оказаться для него очень выгодным, решил первым ознакомиться с содержанием этого важного письма. Ведь секреты господ часто являются богатством слуг. Он уже заметил, насколько для мадемуазель Бланш неприятно это супружество, которого так страстно желал барон. Как знать, может быть, в этом письме она делала ему какие-либо признания, из которых можно будет извлечь свою выгоду?
Леонард смело, но приняв известные предосторожности, чтобы можно было потом придать письму прежний вид, взломал печать, пользуясь лезвием ножа, предварительно нагретым на огне фонаря, и принялся за чтение. Вдруг его лицо выразило глубочайшее изумление, когда он увидал, какая важная тайна заключалась в письме. Вот что было написано в письме Бланш:
«Барон! Мне приходится сделать Вам очень неприятное признание, Которое необходимо для того, чтобы Вы не заблуждались более на мой счет, так как грядущие события все равно несут вам жестокое разочарование.
Вы признались мне в своей любви и получили от отца согласие на брак со мной, надеясь найти у меня свое счастье, быть может, любовь. Но в подобном союзе для Вас немыслимо никакое счастье: я не могу обещать Вам любовь, так как мое сердце принадлежит другому. Простите, если я не называю вам того, который захватил всю мою душу и на которого я смотрю как на мужа пред Богом!
Мне остается еще сделать Вам последнее признание: я мать, и только одна смерть может разлучить меня с мужем, отцом моего маленького Анрио.
Я последую за моим отцом в Жемап, так как такова его воля, но осмеливаюсь надеяться, что, осведомившись о том препятствии, которое возникает перед осуществлением Ваших проектов, вы сжалитесь надо мной и избавите меня от стыда открыть отцу настоящую причину, делающую этот союз невозможным.
Я вверяюсь Вашей чести и порядочности. Сожгите это письмо и верьте моей признательности и дружбе. Бланш».
Прочтя это, Леонард даже вскрикнул от удивления и радости.
— Черт возьми! Вот из чего можно составить целое состояние! — сказал он себе. Он вертел письмо Бланш в руках, словно желая немедленно выжать из него все то золото, которое в будущем оно принесет ему. — Я давно догадывался кое о чем, — продолжал он про себя с гримасой, которая должна была изображать улыбку. — Барон очень хотел жениться на барышне, а барышня решительно не желала моего барона. Но я не мог даже представить себе, что у мадемуазель Бланш де Лавелин имеется ребеночек, и еще менее — что она поведает барону об этом. Господи, до чего женщины глупы! Крошка Бланш даже не догадывается, какую глупость она сделала… О! Я говорю не о том, что, быть может, кажется глупостью ей самой: это-то еще ничего; одним ребенком больше или меньше — не все ли равно! Но глупость заключается в том, что она доверила бумаге такую тайну… Какое счастье, что письмо попало мне в руки!
Он остановился, поднес письмо к фонарю, свет которого наполнял конюшню неясным полумраком, и пробормотал после внимательного разглядывания бумаги:
— Это писала она сама… почерк не допускает никаких сомнений. О! Как эта девочка наивна! Впоследствии она, может быть, пожалеет о том, что рассказала в момент отчаяния и нервного возбуждения. Хорошо еще, что именно мне она доверила заботы о своем счастье и состоянии.
Он на мгновение задумался, а потом, засовывая письмо в карман, сказал про себя:
— Быть может, когда-нибудь потом барышня согласна будет дорого заплатить… о, потом, когда она станет баронессой Левендаль, что непременно должно случиться. Тогда она рада будет заплатить сколько угодно, чтобы получить обратно это письмо… Вот я тогда и посмотрю, сколько мне запросить с нее!
Леонард снова улыбнулся задорной, похотливой улыбкой.
— А может быть, — пробормотал он, — я не удовольствуюсь небольшим количеством золота и пожелаю еще чего-нибудь получше… или по крайней мере еще и другой награды… потому что я тоже нахожу мадемуазель Бланш очень хорошенькой… Но в данный момент я еще ничего не могу поделать, кроме как тщательно беречь этот драгоценный документ, это оружие, поддерживая надежды хозяина, так как теперь более, чем когда-либо, важно, чтобы мадемуазель Бланш вышла замуж за барона!
И Леонард, тщательно застегнув на все пуговицы жилет, еще раз нащупал обличительное письмо, словно желая удостовериться в обладании им, с тайной и жестокой радостью думая о клочке бумажки, которому суждено будет впоследствии предать в его власть неосторожную жертву.
Он вернулся к барону, который уже кончил завтракать и несколько беспокоился, так как маленькая толпа зевак окружила почтовую карету, с любопытством разглядывая ее. Он уже два раза спрашивал, почему не запрягают?
Объясняя свое отсутствие, Леонард сообщил, что задержался, так как хотел убедиться, все ли готово и нет ли препятствий к продолжению их путешествия. Барон, успокоенный, в отличнейшем расположении духа, снова сел в карету, и та с грохотом покатила по дороге, уже не принадлежавшей королю.
II
Стоя на пороге своей зеленной лавки, на улице Монтрей, в Версале, бабушка Гош обслуживала клиентов, не забывая материнским оком поглядывать на маленького карапуза, толстенького и краснощекого, который возился среди груд капусты и моркови.
— Анрио! Анрио! Опять ты тащишь что ни попало в рот! Ты заболеешь наконец! — покрикивала она время от времени, когда карапуз собирался засунуть в рот морковку или откусить кусок репы, а затем добрая женщина продолжала отвечать на требования покупателей, не переставая ворчать: — Вот тоже мальчишка, прости Господи! Что за аппетит! Что за баловник! А все-таки какой славненький! — И она прибавляла добродушным голосом, обращаясь к покупателям: — Ну-с, милая, что же вам еще нужно?
Вдруг, остановившись среди деликатного занятия, состоявшего в отмеривании салатной приправы для мещаночки, покупавшей салат, она громко вскрикнула от удивления.
На пороге появился рослый молодой человек с воинственным лицом, сопровождаемый поручиком, ведшим под руку разодетую в праздничный наряд молодую женщину, всю закутанную в кисейное платье, с головой, увенчанной высоким плотным чепчиком. Молодой человек был одет в гренадерский мундир. Он улыбался, протягивал руки.
— Ну что же вы, бабушка Гош, разве так-таки и не знают меня здесь? — сказал он, крепко прижимая к своей груди добрую женщину, взволнованную, дрожащую от радости и преисполненную гордости.
Покупатели с изумлением разглядывали кабриолет, который привез из Парижа молодого человека и его спутников. Все любовались новеньким мундиром, шапкой, шарфом, поясом и золотым эфесом сабли юного вояки, а кумушки уже зашептались:
— Это капитан!
— Господи! Да я отлично знаю его, — сказала одна из них.
— Ведь это маленький Лазарь… племянник зеленщицы, тот самый, которого она воспитывала как сына. Еще недавно мы видели, как он играл со сверстниками-сорванцами здесь на площади, а теперь он вдруг стал капитаном!
— Да, милая мама, — сказал Лазарь Гош своей доброй тетке, приемной матери. — Ты видишь меня капитаном. Да, вот так сюрприз, а? Правда, я произведен только вчера, но нагоню потерянное время, клянусь тебе! Первым же делом я бросился сюда, чтобы расцеловать тебя. Я хочу, чтобы ты первая выпила за мой чин, и навязываюсь к тебе на угощение с этими друзьями. — И Гош представил своих спутников: — Франсуа Лефевр… лейтенант… товарищ по гвардии… человек солидный! И ведь это он первый учил меня владеть оружием! — сказал Гош, фамильярно похлопывая товарища по плечу.
— А теперь ты стал моим начальником! — весело ответил Лефевр.
— О, ты еще догонишь и даже, быть может, перегонишь меня. Ведь война — это лотерея, в которой любому может выпасть билет с выигрышем… при условии остаться в живых. Но позволь мне докончить представление. Мамаша, вот Екатерина, жена товарища Лефевра, — продолжал Гош, указывая на бывшую прачку с улицы Рояль-Сен-Рок.
Екатерина поспешно сделала два шага вперед и без церемоний подставила обе щеки зеленщице, которая и расцеловала их.
— А теперь, — сказал Гош, — когда все знакомы, мы покинем тебя на минутку, мамаша!
— Как, вы уже уходите? — недовольно сказала зеленщица. — Так не стоило и приходить в таком случае!
— Успокойтесь, мы только зайдем здесь поблизости с Лефевром. Тут есть кое-кто… гм… офицеры, которые нас ждут, — прибавил Гош, подмигивая одним глазом товарищу, словно предупреждая его не выдавать секрета. — О, мы придем, мы не долго задержимся, я думаю. А тем временем ты состряпай-ка нам свое великолепное рагу, секрет которого известен тебе одной.
— Из гусиных потрохов с брюквой, не правда ли, постреленок?
— О, это очаровательно — рагу из потрохов! Кроме того, Катрин нужно поговорить с тобой относительно вот этого карапуза, который, присев на корточки, смотрит на нас такими удивленными глазами.
— Относительно маленького Анрио? — удивленно спросила зеленщица.
— Да, — ответила Екатерина, — речь идет о маленьком Анрио, гражданка, из-за него я и явилась к вам, без этого я оставила бы Лефевра одного с капитаном Гош. Им вовсе не нужна я для того, что они собираются делать в лесу Сатори. Мне нужно поговорить с вами относительно этого крошки.
— Ладно, поговорим о карапузике, а тем временем вы мне поможете чистить брюкву, — предложила зеленщица. — Потом мы свернем шею курочке. С яичницей на шпике это будет вкусно. Что вы скажете, ребята?
— Дивная вещь — эта яичница на шпике! — сказал Гош Лефевру. — Мамаша делает ее замечательно вкусно. Ну пойдем, их надо оставить наедине, чтобы они могли на досуге и поболтать, и постряпать. До скорого свидания! Нас ждут!
Друзья отправились на таинственное свидание, тайна которого, казалось, была известна Екатерине.
Оставшись наедине, обе женщины занялись приготовлениями к ожидаемому пиршеству. Очищая зелень и помогая щипать кур, Екатерина рассказала зеленщице, что она явилась за ребенком, чтобы отвезти его к матери, как последняя того пожелала. Добрая зеленщица совершенно разволновалась. Она очень привязалась к Анрио, так как он напоминал ей Лазаря, когда тот еще совсем маленьким играл у ее дверей. Одновременно с этим Екатерина рассказала ей, что ее муж уезжает и потому-то и приходится так торопиться с сыном Бланш де Лавелин.
— А куда вы отправляетесь? — осведомилась бабушка Гош.
— Черт возьми! На границу, где идет сражение. Лефевр будет скоро произведен в капитаны.
— Как Лазарь?
— Да… в тринадцатом легкопехотном полку. Он получил приказ направиться в Верден.
— Ну так как же это? Ваш муж отправляется в действующую армию, так почему же маленькому Анрио не остаться пока здесь? Вы можете видеть его настолько часто, насколько захотите, а в последний момент, когда настанет время везти его к матери, вы возьмете его.
— В этом есть маленькое затруднение, — улыбаясь, ответила Екатерина. — Дело в том, что я отправляюсь вместе с Лефевром.
— В полк? Вы, моя красавица?
— Да, в тринадцатый, бабушка Гош. У меня в кармане патент на звание маркитантки. — Екатерина улыбнулась ребенку, который не спускал с нее взгляда, а затем вытащила из-за корсажа большую бумагу делового формата, испещренную подписями, припечатанную печатью военного министра, и с торжеством протянула эту бумагу зеленщице: — Вот видите, назначение в порядке, и я должна явиться в полк через неделю, это последний срок… Приходится очищать Верден от роялистов, которые вступили там в заговор с принцем Брауншвейгским. Ну да мы их выбьем из их гнездышек! — весело прибавила новоиспеченная маркитантка.
Бабушка Гош с удивлением смотрела на нее.
— Как? Вот вы и маркитантка? — сказала она, покачивая головой, а затем, бросив на мадам Сан-Жень взгляд, полный зависти, продолжала: — Ах, это славная служба… Как я любила ее в молодости! Идешь под треск барабана, видишь незнакомые страны. Целый день тебя окружает одна сплошная радость. Солдату так хорошо в палатке маркитантки! Он забывает там все свои невзгоды и мечтает о том, как станет генералом… или капралом! А потом вдруг разражается сражение. И вот тогда на тебя уже не смотрят как на бабу, способную только хныкать и визжать от грохота пушек; тут ты составляешь часть армии и за два су наливаешь вместе с маленьким стаканчиком геройство и храбрость. Ведь водка, которой торгует маркитантка, — это тоже порох, и ее пары уже не раз обеспечивали победу… Я восхищаюсь вами и охотно желала бы быть на вашем месте, гражданка! Право же, если бы я была моложе, то я тоже попросилась бы в полк, чтобы сопровождать моего Лазаря, как вы сопровождаете Лефевра… Но ребенок? Что вы будете делать с ребенком посреди сражений, на переходах, в грохоте снарядов?
— Как маркитантка я имею право на экипаж и лошадь. Мы уже купили все это на наши сбережения, — с гордостью сказала Екатерина. — Я продала свою прачечную, да и Лефевр получил к свадьбе небольшую сумму денег: досталось наследство от отца, мельника в Руффахе, это в наших краях, в Эльзасе. О, у нас нет недостатка ни в чем! И крошке будет удобнее в нашей тележке, чем сыну главнокомандующего. Ведь не правда ли, тебе будет удобно, и ты не пожалеешь, что отправился с нами? — сказала она, взяв карапуза и поднимая его кверху, чтобы расцеловать.
В этот момент раздался шум шагов, и ребенок, испуганный этим, повернул голову, прячась за плечо Екатерины, и заплакал.
Вошел Гош, опираясь на плечо Лефевра. Половину его лица закрывала повязка из носового платка, насквозь промокшего от крови.
— Не бойся, мамаша! — крикнул он с порога. — Это пустяки, простая царапина, которая не помешает мне сесть за стол! — весело прибавил он.
— Ах, Боже мой, он ранен! Что же случилось? — завопила бабушка Гош. — Вы повели его туда, где убивают, лейтенант Лефевр?
Гош стал смеяться и сказал:
— Не обвиняйте Лефевра, мама! Он был просто моим свидетелем в одном, в достаточной мере глупом, деле! У меня состоялась дуэль с одним из сотоварищей. Повторяю, ничего особенного не произошло.
— О, я была уверена, что с вами не случится ничего серьезного, — сказала Екатерина, — но он?
Гош ничего не ответил. Он стал успокаивать свою приемную мать и, попросив воды, промыл глубокий порез, проходивший вдоль всего лба и оканчивавшийся у переносицы.
— Гош был храбр как всегда, — сказал Лефевр. — Когда-то в гвардии, а впоследствии в ополчении, служил поручик Сэрр, самый неуживчивый человек, какого только можно представить себе как товарища. Он обозлился на Гоша из-за буйства, происходившего в кабачке, когда Лазарь вступился за своих старых сотоварищей, простых гвардейских солдат. Этот негодяй донес на него. Гоша наказали трехмесячным тюремным заключением, так как он отказался назвать своих сотоварищей, которых разыскивали. После освобождения из тюрьмы Сэрр и Лазарь встретились друг с другом. Надо вам сказать, что Сэрр слыл за хорошего бойца, он был грозой всего квартала и уже нескольких человек убил или ранил на дуэли.
— Опасно было идти драться с этим бретером, — заметила старушка Гош, взволнованная той опасностью, которой подверг себя ее дорогой Лазарь.
— Но дуэль не могла состояться тогда же, — сказал Лефевр, — так как Лазарь был только лейтенантом, а Сэрр был уже капитаном.
— Однако ж они подрались?
— Да, лишь только Лазарь сравнялся в чине со своим противником.
— Но ведь мой Лазарь такой храбрый, ловкий! Как мог он получить этот ужасный удар?
— Очень просто, мама, — улыбаясь ответил Гош, — хотя я и небольшой охотник до таких схваток, но в данном случае мне невозможно было оставить безнаказанными угрозы и оскорбления этого негодяя. Он приводил в трепет новичков, он оскорбил жену отсутствующего друга.
Лефевр со слезами на глазах схватил руку Гоша и крепко пожал ее, после чего, обернувшись к жене, сказал:
— Это он дрался за меня, за нас!
— Да ведь Сэрр говорил, что десятого августа у тебя в комнате был спрятан любовник!
— О, чудовище! — воскликнула рассерженная Екатерина. — Где он? Теперь он будет иметь дело со мной. Скажите, пожалуйста, где этот негодяй?
— В госпитале, с раной в животе, которая вряд ли заживет раньше чем через полгода, — ответил Лефевр. — Если он поправится, я с ним постараюсь повидаться, чтобы свести одновременно счеты за себя и за Гоша.
— У нас есть теперь более важные обязанности, наше оружие может пригодиться для более высоких целей, друг Лефевр, — энергично возразил Гош. — Отечество в опасности! Родина призывает нас. Забудем же личные счеты! Мой противник оклеветал и оскорбил меня; сверх того он утверждал, что я просил о переводе в северную армию, чтобы скрыться от него. Он заставил меня против желания обнажить саблю и доказать ему, забияке, что смелого солдата запугать нельзя. Зато он и получил хороший урок, который надолго будет памятен ему. Ну, а теперь поговорим о чем-нибудь другом и, если рагу готово, окажем ему честь.
— А твоя рана? — сказала все еще испуганная зеленщица, ставя на стол миску, распространявшую вкусный запах.
— Ну, — весело сказал Гош, усаживаясь и развертывая свою салфетку, — австрийцы и пруссаки, наверно, нанесут мне не одну рану… одним рубцом больше или меньше — ведь это не так важно. При всем том кровь уже остановилась. Смотрите!
Он беззаботно снял повязку и открыл шрам, по которому позже всегда можно было узнать воинственное лицо будущего знаменитого генерала.
III
Когда обед кончился, старуха Гош и Екатерина стали снаряжать маленького Анрио в дорогу и для этого уложили его скромные пожитки в чемодан, куда добрая зеленщица прибавила несколько баночек варенья, пирожков и сластей.
Ребенок безучастно относился к этим сборам. Ведь дети любят перемены! Восхищенный золотым темляком на сабле Гоша, с которой он все время играл, Анрио даже был рад предстоящему отъезду. Он предвкушал радости путешествия да, кроме того, воображал, что там, куда его перевезут, он увидит много солдат, выполняющих военные упражнения, и что ему, без сомнения, позволят играть со всеми темляками военных, среди которых он будет жить.
Анрио забыл всю любовь, все заботы бабушки Гош. Мысль о том, что он уедет далеко, очень далеко, занимала его фантазию, не давая места печальным размышлениям.
Гош и Лефевр, предоставив женщинам хлопотать, уселись верхом на стулья и стали разговаривать о разгоревшейся революции и о войне, которая уже началась на всех четырех концах границы. Они вышли из лавки и поставили свои стулья перед дверью зеленной, выходившей на дорогу Монтрей. Жизнерадостные, молодые, с душой, полной надежд и мужества, будущие герои республиканской армии, отдыхая, переваривали превосходный завтрак старушки Гош и весело разговаривали, покуривая, смеясь и разглядывая прохожих.
Дорога Монтрей, теперь называющаяся аллеей Сен-Клу, в то время была обыкновенной большой дорогой для пешеходов, идущих из Парижа. Из экономии многие из скромных путешественников пользовались перевозом от «Самаритянского колодца» к Новому мосту, а от Северного моста доходили пешком до Версаля.
На дороге среди пешеходов Лефевр вдруг заметил худощавого молодого человека с длинными волосами, в поношенной артиллерийской форме. Этого путника сопровождала молоденькая девушка в коротком черном шерстяном платье, с небольшой картонкой в руках. Оба задумчиво двигались по пыльной дороге.
Лефевр, вглядевшись внимательнее, вдруг сказал:
— Это капитан Бонапарт, если я не ошибаюсь!
— Кто этот Бонапарт? — спросил Гош.
— Честный республиканец… превосходный артиллерист и горячий якобинец, вот он кто! — ответил Лефевр. — Он корсиканец, его на родине, кажется, лишили чина за убеждения. Ведь там на острове все аристократы, находящиеся под влиянием священников. Я позову жену, она знает его больше меня.
Сказав это, Лефевр кликнул Екатерину. Та прибежала удивленная.
— Что случилось, муженек? — спросила она подбоченясь (привычка, от которой ни один из учителей танцев, с Деспрео во главе, не мог отучить ее даже впоследствии, когда она стала женой маршала и герцогиней).
— Это не капитан ли Бонапарт идет там по дороге с молоденькой барышней? — спросил Лефевр.
— Ей-Богу, да, я узнала бы его за десять миль не потому, что он мне должен, но потому, что он мне по душе. Что ему понадобилось в Версале с этой девушкой? А что, Лефевр, если бы его с барышней запросто пригласить зайти освежиться? Такая жара и пыль.
Лефевр, с одобрения Гоша, побежал, догнал Бонапарта с его спутницей и передал им приглашение.
В первый момент Бонапарт хотел отказаться. Он совсем не страдал ни от жары, ни от жажды, да притом у него и его спутницы не было времени, так как они хотели попасть на паром, отходивший через час.
— В пять часов пойдет еще другой паром, — сказал Лефевр. — Я думаю, и барышня не прочь будет немного отдохнуть, — прибавил он, обращаясь к спутнице Бонапарта.
Молодая девушка сказала, что она была бы не прочь напиться воды. Бонапарт последовал за Лефевром.
Принесли стол и стулья и поставили их в тени, потом подали стаканы и две бутылки легкого кисленького вина виноградников Марли. Чокнулись за народ, и Бонапарт, развеселившись, представил свою сестру Марию Анну, известную более под именем Элизы, которая впоследствии вышла замуж за Феликса Баччоки и сделалась сначала принцессой Пьомбино Де Лукка, а потом великой герцогиней Тосканской.
Элизе было тогда шестнадцать лет. Это была высокая девушка, смуглая и худая, с матовым цветом лица, пышными черными волосами, чувственными губами, несколько выдающимся подбородком, великолепным овалом лица и глубоким, умным взглядом. Она гордым и презрительным взором окинула с головы до ног тех людишек, с которыми ее усадили за стол перед фруктовой лавкой.
Элиза воспитывалась на казенный счет в Сен-Сире, где все воспитание велось по правилам мадам де Ментенон, супруги Людовика XIV, и где воспитанницы воображали себя явившимися, по меньшей мере, с высоты Олимпа.
Указом от 16 августа 1792 года институт в Сен-Сире был закрыт как очаг роялизма. Родители вынуждены были взять своих дочерей обратно, и заведение быстро опустело.
Бонапарт из-за отсутствия денег несколько запоздал взять сестру из упраздненного учреждения. Между тем необходимо было очистить дом к первому сентября. Тогда по совету брата Элиза подала прошение в дворцовое управление Версаля, прося о пособии на возвращение в свою семью. Обрен, начальник управления Версаля, выдал удостоверение в том, что девица Мария Анна Бонапарт, родившаяся 3 января 1777 года, поступила 22 июня 1784 года в число воспитанниц заведения Сен-Луи, находится еще там и просит пособия в 352 ливра для возвращения в город Аяччо, находящийся в 352 лье от Версаля. После удовлетворения этого прошения Бонапарт приехал в Версаль за своей сестрой и повез ее в Париж, а оттуда собирался направиться на Корсику.
Лефевр и Гош поздравили капитана с успешным окончанием его семейного дела. Бонапарт прибавил, что необходимость сопровождать сестру дала ему возможность одновременно похлопотать с большей энергией и о собственном деле — восстановлении на военной службе.
— Значит, — спросил Гош, — вы скоро вернетесь в свой полк?
— Военный министр Серван снова назначил меня в четвертую артиллерийскую бригаду в чине капитана, — ответил Бонапарт, — но сейчас я сопровождаю сестру на Корсику. Там я уполномочен снова принять командование моим батальоном волонтеров.
— Желаю удачи, товарищ! — сказал Гош. — Может быть, и там придется драться.
— Скоро будут повсюду драться!
— Жаль, что нельзя драться сразу в двух местах, — с увлечением сказала Екатерина, которой сильно хотелось вмешаться в разговор.
— Друзья мои, если обстоятельства будут благоприятствовать мне, — сказал Бонапарт убежденным тоном, — я доставлю вам случай либо погибнуть с честью, либо стяжать славу, чины, титулы, почести, богатство в ореоле победы! Но, простите, нам с сестрой пора, становится поздно, а нам придется добираться пешком до самого Севра.
— И нам, прежде чем двинуться на освобождение осажденного Вердена, которому угрожают пруссаки, нужно поспешить в Париж, чтобы доставить туда вот этого будущего гусара, — весело сказала Екатерина, указывая на маленького Анрио, совершенно одетого и готового в дорогу.
Ребенок с нетерпением смотрел на всех этих людей, которые болтали вместо того, чтобы двинуться в путь.
— Быть может, еще встретимся, капитан Бонапарт, — сказал Гош, пожимая руку своего сотоварища.
— На пути к славе., — прибавил Лефевр.
— Чтобы попасть на этот путь, — с улыбкой сказал Бонапарт, — начнем с того, что завладеем перевозом у Севрского моста. Ну пойдем, воспитанница Сен-Луи! — сказал он сестре, показывая рукой вперед.
По дороге они вступили в разговор.
— Как тебе понравился этот капитан? — спросил пансионерку Бонапарт.
— Капитан Лефевр?
— Нет, не он…, он женат. Его жена — веселая, славная Екатерина. Я спрашиваю про другого. Лазаря Гоша.
— Он недурен.
— Хотела бы ты его себе в мужья?
Будущая великая герцогиня покраснела, сделав отрицательный жест.
— Он тебе не понравился? — сказал брат, принявший ее движение за отказ. — Жаль, Гош — хороший солдат и малый с будущим.
— Я не сказала, что Гош не нравится мне, — возразила Элиза, — но я еще слишком молода для того, чтобы думать о замужестве; к тому же я не желала бы быть женой человека, не преданного королю. Я никогда не выйду замуж за республиканца.
— Так ты роялистка?
— Как и все в Сен-Сире.
— Вот чем оправдывается упразднение Сен-Сира! — заметил, смеясь, Бонапарт. — Какие же вы все аристократки! Следовало бы восстановить в правах всех аристократов, чтобы выбрать для вас достойных мужей!
— Почему же нет? — гордо сказала Элиза.
Бонапарт нахмурил брови и ничего не ответил. На задорные слова сестры он не сердился, но был обеспокоен ее слишком гордыми мечтами.
«При таких взглядах нелегко ей будет найти мужа, — подумал он. — Эти молоденькие девушки слишком самоуверенны! Без приданого… братья без положения… это создаст еще много трудностей!»
Наполеон, всегда думавший о своей семье, вспомнил скорбное лицо своей матери Летиции, окружающее ее многочисленное потомство, потухший очаг, опустевшие кладовые и пришел в ужас, представив себе всю взятую им на себя ответственность в качестве главы семьи. Особенно беспокоило его будущее трех его сестер. Он сгорал от нетерпеливого желания устроить их судьбу и повсюду подыскивал им мужей. Сегодня он встретил Гоша и захотел, чтобы тот понравился юной институтке. Правда, Гош был только капитаном, но можно было надеяться, что он на этом не остановится. Размышляя над отказом сестры, он ворчал про себя:
— Капитанам, собственно говоря, не следовало бы жениться; но чем рискуют девушки без гроша за душой? — И, как бы возражая своим тайным мыслям, он продолжал: — Капитану есть смысл жениться, если ему попадется красивая, богатая, влиятельная жена, которая сможет создать ему связи и положение в свете… Но для этого нужно обращать свое внимание никак не на молодых девушек!
Смотря на брак как на способ вывести своих близких в люди и избавить их от надвигающейся нужды, Наполеон и сам был не прочь при помощи брака, хотя бы и неравного, выкарабкаться из бедности, составить себе карьеру и шагнуть из ничтожных капитанов вперед.
IV
На другой день, получив деньги, причитавшиеся его сестре Элизе на путевые издержки для возвращения в семью, Бонапарт отправился вместе с нею к госпоже Пермон. Он хотел перед отъездом на Корсику представить последней свою сестру, да, кроме того, им руководили еще и другие намерения.
Госпожа Пермон, мать будущей герцогини д'Абрантес, гречанка по происхождению, была еще очень красивая женщина, из кокетства тщательно скрывавшая свой возраст. Беззаботная, веселая, она умела одеться и окружить себя роскошью, столь опасной в ту эпоху. В изящной обстановке стиля Людовика XV она являлась в глазах бедняка Наполеона царицей красоты и обольстительной светской дамой. Явные морщины на лице и несколько полная, отяжелевшая фигура, указывавшая на возраст, не замечались молодым и пылким влюбленным.
Пермоны обладали довольно значительным состоянием. Часто посещая их дом и пользуясь гостеприимством, в особенности в голодные дни, когда он являлся вместе со своими товарищами Жюно, Мармоном и Буррьеном, Бонапарт успел убедиться, что состояние вдовы еще довольно значительное, и это соображение побудило его сделать двойную попытку.
Оставив Элизу наедине с Лорой, старшей дочерью госпожи Пермон, он перешел с матерью в небольшую гостиную и стал ей советовать женить ее сына. Когда она заинтересовалась, на ком именно предполагал бы он женить ее сына, он ответил:
— На моей сестре Элизе.
— Но ведь она еще слишком молода, — возразила гречанка, — и я знаю, что у моего сына пока еще нет никакого желания вступить в брак.
Бонапарт закусил губы, но немного спустя сказал:
— Быть может, моя сестра, красавица Полетта, более была бы подходяща для вашего сына? — И тут же прибавил, что одновременно можно было бы выдать Лору Пермон за одного из его братьев — Людовика или Жерома….
— Жером моложе Лоретты, — смеясь возразила госпожа Пермон. — Что это вы, мой друг, взяли на себя роль свата? У вас сегодня возникло стремление всех женить, даже Детей!
Бонапарт сделал усилие улыбнуться и со смущенным видом сознался, что действительно судьба близких родных сильно заботит его. Затем, склонясь к ручке госпожи Пермон, он запечатлел на ней два горячих поцелуя и признался, что решил соединиться с ее семьей родственными узами, самая же заветная мечта его — сочетаться самому с нею узами любви, как только окончится срок ее траура по мужу.
Застигнутая врасплох таким неожиданным признанием, госпожа Пермон рассмеялась ему прямо в лицо.
Бонапарт, казалось, обиделся, и чтобы загладить неловкость, госпожа Пермон поспешила объясниться.
— Мой милый Наполеон, — сказала она, принимая покровительственный материнский тон, — поговорим об этом серьезно! Вы заблуждаетесь относительно моего возраста, и я не сознаюсь вам, сколько мне лет; пусть это будет мой секрет, моя маленькая слабость. Скажу вам только, что я гожусь в матери не только вам, но и вашему брату Жозефу. Поэтому оставим шутки, в ваших устах они огорчают меня.
— Я вовсе не думал шутить, — возразил Бонапарт обиженным тоном, — и не вижу, что смешного вы находите в моем предложении. Возраст женщины, на которой я собираюсь жениться, для меня безразличен. Наконец, без лести могу сказать, что на вид вам нельзя дать более тридцати.
— Мне много больше!
— Какое мне дело! Я вижу вас молодой, прекрасной, — воскликнул с пылом Бонапарт, — вы именно та женщина, о какой я мечтал как о подруге жизни.
— А если я не соглашусь на этот безумный шаг? Что вы сделаете тогда?
— Если вы откажете мне, я буду искать счастья в другом месте, — ответил Бонапарт решительным тоном. — Я намерен жениться, — прибавил он после некоторого размышления, — мои друзья подыскали мне невесту, такую же прелестную женщину, как и вы, приблизительно одинакового возраста с вами… и очень почтенного происхождения. Повторяю, я намерен жениться, подумайте об этом!
Госпоже Пермон не над чем было думать, так как ее сердце было не свободно. Она тайно любила одного из своих кузенов, красавца по имени Стефанополис. Она представила его Бонапарту с тем, чтобы тот помог ему вступить в гвардию конвента, создавшегося в то время. Ради этого храброго солдата, который умер, впрочем, довольно прозаичной смертью, неосторожно срезав мозоль на ноге, она отвергла предложение Бонапарта, чем сильно оскорбила его.
Как странно складывается иногда судьба! Женившись на госпоже Пермон, Бонапарт никогда не стал бы генералом, начальником итальянской армии, а остался бы незаметным артиллеристом, бесславно участвовавшим в войнах.
Из этого разговора обнаружилось, что Бонапарт хотел жениться по расчету на женщине богатой, могущей облегчить ему доступ в высший свет, в то время запуганный и бывший тогда в опале, но готовый, как Наполеон догадывался, выйти из-под эшафота более надменным, чем он был когда-либо. Двойной отказ госпожи Пермон привел к тому, что пансионерка из Сен-Сира сделалась принцессой Пьомбиной, а будущий генерал женился на Жозефине Богарнэ.
V
Барону Левендалю удалось благополучно добраться до Вердена. Приехав, он тотчас отправился в городское управление. Две важные причины заставили его приблизиться к театру военных действий и добровольно запереться в городе, который с минуты на минуту мог оказаться осажденным. Ему необходимо было ликвидировать свои денежные дела и добиться от города Вердена возвращения залога, внесенного им за табачное производство. Кроме того, еще одно важное обстоятельство вынуждало барона явиться в Верден. Необходимо было перед вступлением в брак с Бланш де Лавелин порвать связь, тянувшуюся уже несколько лет и ставшую совершенно невыносимой для него.
В Вердене барон познакомился с бедной молодой девушкой из очень почтенной семьи, которая явилась из Анже, чтобы поступить в монастырь. Ее звали Эрминия Борепэр. Она не чувствовала большой склонности к этому призванию и решила поступить в монахини исключительно для того, чтобы дать возможность брату сохранить положение в свете и приобрести поместье.
Барону Левендалю не пришлось долго убеждать Эрминию отказаться от намерения поступить в монастырь, и он соблазнил ее. Однако, часто отлучаясь в Париж по делам своего огромного состояния, он вскоре совершенно забыл бедную Эрминию, а увлеченный затем любовью к Бланш де Лавелин стал равнодушен к молодой женщине, с надеждой и нетерпением ожидавшей его возвращения, живя у богатой, но старой и болезненной тетки.
Барон был в затруднении, какого рода объяснение придумать ему для женщины, которая несколько лет считала себя его женой. Приходилось нанести ей удар в самое сердце, дав понять, что ей уже нечего больше рассчитывать на него.
Барон спешил и волновался, так как по городу ходили самые противоречивые, самые странные известия. Явившись к прокурору — синдику города, он изложил свои требования. Тот ответил, что финансы города Вердена иссякли и что не может быть и речи о каком-либо возвращении залога.
— Впрочем, есть некоторая возможность застраховать себя от убытков, — прибавил синдик с таинственным видом.
— Какая же? Говорите! — поспешно перебил его Левендаль.
— Если у нас нет денег, — сказал синдик, — то у австрийского императора их достаточно. Пусть только будет сохранен мир и несчастный город избавится от всех ужасов осадного положения; я ручаюсь, барон, что вы не понесете никаких убытков.
Барон медлил с ответом. В сущности он был космополит, как и все финансисты, и ему было все равно, откуда шли деньги — от короля Франции или от австрийского императора, и патриотические чувства нимало не смущали его. Он не испытывал ни малейшего негодования при мысли о добровольной сдаче города неприятелю и только спрашивал себя, действительно ли представитель города осведомлен и уверен, что прусские и австрийские солдаты, завладев Верденом, будут в силах отстоять его при наступлении добровольцев-революционеров. Он обсуждал лишь выгоды от такой сделки, какую предлагали ему.
Обсудив все выгоды предложения, он осведомился о подкреплении, посланном из Парижа.
— Оно явится слишком поздно, — ответил представитель города.
— В таком случае я на вашей стороне! — сказал барон.
— Хорошо! Вы приехали сюда из Парижа? Ни с кем не говорили?
— Да!
— Имеется ли при вас человек скрытный и вместе с тем болтливый?
— Скрытный, то есть умеющий хранить секреты?
— И вместе с тем болтливый, который невзначай мог бы бросить несколько многозначительных слов.
— Такой человек есть у меня; это Леонард, мой лакей. О чем же должен он молчать?
— Прежде всего о наших планах.
— Они останутся неизвестными ему.
— Это самое верное ручательство его надежности; лучшими хранителями секретов являются те, кто не посвящены в них.
— А что должен он разболтать?
— Известия из Парижа, а именно, что город находится в руках разбойников, но королевский авторитет силен, что приближаются армия австрийского императора и войска короля Пруссии, что королевская власть будет восстановлена, а бунтовщиков постигнет кара.
— Это все? Леонард не любит народа, он с удовольствием выполнит эту миссию.
— Ваш Леонард может еще прибавить, что восемьдесят тысяч англичан высадились в Бресте и идут на Париж.
— А какая цель распространения таких слухов?
— Оправдать решение, которое мы примем этой ночью. Здесь состоится собрание главнейших граждан города, и нужно выработать ответ, заготовленный герцогу Брауншвейгскому. Вы будете на нашей стороне?
— Я обещаю это вам так же, как вы обещаете мне возвращение моих денег.
— Между порядочными людьми, барон, достаточно данного слова, — сказал синдик, пожав руку откупщику.
Соумышленники расстались. Один пошел настраивать Леонарда, чтобы тот поднял шум и тревогу в городе; другой пошел вербовать новых тайных союзников для приведения в исполнение изменнического плана.
VI
Добровольцы весело, с песнями двигались к Вердену в сопровождении отряда 13 кавалерийского полка, в котором Франсуа Лефевр в чине поручика исполнял обязанности капитана. Их глаза сверкали энтузиазмом, и они были проникнуты жаждой победы. Когда они проходили через деревни, женщины выставляли своих детей на пороге, как при проходе религиозной процессии, добровольцы же посылали им поцелуй, а мужчинам обещали победить или умереть. Они шли, доверчивые и гордые, при резких звуках рожка и под звуки барабанов; трехцветный флаг весело развевался по ветру над ними, и все они были воодушевлены патриотизмом. Покидая родину, они подарили своим родственникам все, что имели, заявив, что идут на смерть. Они с песней шли навстречу этой смерти за отечество, самой прекрасной и самой завидной из всех смертей. В дороге, чтобы сократить время, они начинали петь на мотив «Карманьолы» какую-нибудь простую и детски-наивную песенку, припев которой громко подхватывал весь отряд.
Когда в конце долины, окруженной лесом, показались стены Вердена, командир Борепэр приказал остановиться. Нужно было предварительно осмотреть местность. Пруссаки были близко; по последним сведениям, можно было опасаться засады.
Маленькая армия расположилась на небольшом холме под защитой рощицы, скрывавшей ее со стороны города. У подножия холма, среди зелени, теснилось несколько домиков.
Борепэр обратился с расспросами к пастуху, следовавшему за солдатами. Тот не мог ничего сказать о предполагаемом движении неприятельской армии. Борепэр собирался уже отпустить пастуха, но позвал его снова и спросил:
— Знаешь ли ты, как называется деревушка, вон там напротив, между холмами, среди деревьев?
— Да, сударь… это Жуи-Аргонн!
Борепэр вздрогнул, но тотчас же овладел собой. Он взят подзорную трубу и стал внимательно и грустно рассматривать эту скромную деревушку. Он не мог оторвать от нее взгляда… Можно было подумать, что он искал чего-то, что глубоко интересовало его. Однако не было никаких признаков лагеря, ничего, что указывало бы на присутствие солдат в этой лесистой равнине…
Борепэр задумчивый вернулся к солдатам, которые, сложив оружие, уже готовили обед. Одни рубили дрова, другие носили воду из источника, который весело журчал, стекая по склону холма, помощники поваров чистили овощи, собранные по дороге на полях, и над всем этим продолжала звучать веселая песня.
В нескольких шагах от походных кухонь, под открытым небом, стояла повозка. Выпряженная из нее славная старая лошадь серой масти мирно жевала траву, натягивая повод, чтобы достать кору молодых кустарников. На кузове повозки была надпись: «13 легкопехотный полк. Екатерина Лефевр, маркитантка».
Недалеко от повозки резвился ребенок, бродя вокруг ружей, поставленных в козлы; как будто ища защиты, он время от времени подбегал к маркитантке, и та ради его успокоения трепала его по щечке, не оставляя, однако, своих хлопот, потому что солдаты требовали открытия шинка. С помощью рядового Екатерина раскладывала походный стол из пары козел и большой доски.
Вскоре на этом импровизированном столе были расставлены правильными рядами кувшины, жбаны и целый бочонок водки, а также стаканы и тарелки. Торговля открылась. Желавшие выпить уже обступили неприхотливый буфет. Стаканы проворно наполнялись, поднялось оживленное чоканье за успех батальона из Майен-э-Луар, за освобождение Вердена, за торжество свободы! Не у всех были деньги, но маркитантка, женщина добрая, открывала кредит неимущим. Что за важность: с ней рассчитаются после победы.
Борепэр с улыбкой любовался этой оживленной картиной; когда же его взоры обращались к деревне Жуи-Аргонн, он в смущении бормотал про себя:
— Мне невозможно уйти… но кого же послать туда? Тут нужен человек надежный… желательно женского пола. Но где найти такую посланницу?
И он продолжал наблюдать за людьми, толпившимися перед стойкой Екатерины Лефевр.
Поодаль от прочих, как будто равнодушные к веселью отдыхающего отряда, оживленно разговаривали сержант и молодой человек в аксельбантах, указывавших на его принадлежность к врачебному ведомству; они понижали голос всякий раз, когда им казалось, что они служат предметом любопытства.
То был Марсель, встретившийся вновь с Ренэ, Красавчиком Сержантом. По протекции Робеспьера младшего и по рекомендации Бонапарта он добился отчисления от 4 артиллерийской бригады, как и рассчитывала молодая девушка. Назначенный в батарею, состоявшую при маленьком корпусе, которым командовал Борепэр, Марсель присоединился к батальону в Сен-Менегу. Требования службы, различие в чинах и место полкового лекаря в хвосте колонны мешали Марселю и Ренэ обменяться признаниями и выразить друг другу радость по поводу их встречи. Но неожиданная остановка по приказу командира на опушке леса, над маленькой деревней Жуи-Аргонн, доставила им наконец этот случай, ожидаемый с огромным нетерпением, и они спешили им воспользоваться.
Борепэр хотел уйти, несколько удивленный короткостью, как будто существовавшей между этим сержантом и полковым лекарем. Он решил осведомиться потом о причинах подобной близости, как вдруг Лефевр, проходивший мимо, внезапно заговорил с Марселем.
— Вы из четвертой артиллерийской бригады? — спросил он, нарушая интимный разговор двоих влюбленных.
— Да, господин лейтенант… прямо оттуда.
— Скажите, пожалуйста, капитан Бонапарт, которому вернули чины, находился в полку, когда вы покинули его?
— Капитан Бонапарт был на Корсике… ему дали разрешение. Однако он писал друзьям в Валенс, и мы имели сведения о нем в полку. О капитане Бонапарте ходило много толков.
Услышав это, Борепэр подался вперед и с живостью воскликнул, обращаясь к Марселю:
— Ах! Да как же поживает Бонапарт? Надеюсь, с ним не случилось ничего дурного? Не можете ли вы сообщить мне о нем что-нибудь? Я также принадлежу к числу его друзей.
— Капитан Бонапарт, — ответил полковой лекарь, — находится в безопасности, в Марселе, со всем своим семейством. Но он чуть не погиб.
— Черт возьми! Расскажите мне про это! Ах, наш славный Бонапарт! Что же с ним приключилось?
— Извините, — вмешался тогда Лефевр, — не находите ли вы, что нам было бы удобнее слушать рассказ этого лекаря, сидя там за угощением? Моя жена подаст его нам.
— Я не прочь, — ответил Борепэр, — выпьем за здоровье гражданки Лефевр, прекрасной маркитантки тринадцатого полка!
Все направились к палатке маркитантки и вскоре чокнулись стаканами, между тем как Лефевр, лукаво подмигивая, сказал жене:
— Вот послушай-ка, что расскажет нам господин лекарь! Видишь ли, у него имеются известия с Корсики. Дело идет о твоем приятеле, капитане Бонапарте!
— Не вздумай, пожалуйста, ревновать меня к этому бедняге Бонапарту! — пожимая плечами, воскликнула Екатерина. — Разве с ним стряслась какая-нибудь беда? — обратилась она к Марселю.
— Он только чудом спасся от смерти.
— Да неужели? О, расскажите нам скорее, в чем дело! — воскликнула маркитантка и примостилась на пне, разинув рот, насторожив слух, в нетерепливом ожидании известий о своем бывшем клиенте.
Марсель сначала объяснил, что корсиканцы, враждебные революции, пытались перейти к Англии. Паоли, герой первых лет независимости, вступил в переговоры с англичанами и попытался вовлечь Бонапарта в задуманное им дело отделения Корсики от Франции. Поддержка командира национальной гвардии в Аяччо была ему необходима. Однако Бонапарт с негодованием отказался от соучастия в измене. Раздраженный отказом, Паоли подговорил население к бунту против Наполеона и всей семьи Бонапартов. Наполеон и его братья Жозеф и Люсьен были вынуждены бежать переодетыми. Тогда Паоли обратил свою ярость против матери Бонапарта. Дом, где нашла себе убежище. Петиция Бонапарт со своими дочерьми, был осажден, разграблен, сожжен, а храбрая женщина должна была бежать ночью через лесные заросли.
То было трагическое бегство. Кое-кто из друзей, под предводительством энергичного виноградаря по имени Бастелика, охранял беглецов. Семейство Бонапарт шло в центре маленького отряда, вооруженного карабинами. Легация вела за руку малютку Полину, будущую генеральшу Леклерк, Элиза, воспитанница Сен-Сира, только что выпущенная из этого мирного учебного заведения, попала прямо в передряги беспорядочного и опасного перехода через горы. Она шла рядом с дядей, аббатом Фешем, которому тогда было еще далеко до кардинальского пурпура. Маленький Луи бежал вприпрыжку впереди колонны, зорко всматриваясь в чащу кустарников и настойчиво требуя, чтобы ему дали карабин. Самого младшего, Жерома, несла на руках преданная служанка Савария.
Проезжих дорог избегали, отдавая предпочтение самым крутым тропинкам. Задача состояла в том, чтобы добраться до берега, не попав на глаза паолистам. Кустарники и колючки, цепляясь, разрывали на ходу одежду, царапали руки и лица плакавших детей. После утомительной, бессонной ночи изгнанники достигли потока. Переправиться через него вброд с детворой не было возможности. К счастью, нашлась лошадь, и опасная переправа была совершена.
В момент высадки на противоположный берег был замечен отряд паолистов, высланный вдогонку за Бонапартами. Беглецы, затаив дыхание, поспешно забрались в лесные заросли. Летиция старалась удержать от крика боязливую Полину. Лошадь, которую держал за повод Луи, как будто чувствовала опасность; она притаилась неподвижно, насторожив уши, с дрожью, пробегавшей у нее по коже.
Наконец с вершины скалы увидали Наполеона, который подъезжал в шлюпке с французского корабля, крейсировавшего в заливе. Бонапарт поспешил пристать к берегу, и только он присоединился к своим, как прибежал пастух с предостережением, что паолисты обнаружили их.
Беглецы едва успели отойти от берега. Корсиканцы, высыпавшие на берег, послали вдогонку дружный залп из мушкетов, но не попали в них, так как шлюпка была уже далеко.
Вступив на борт корабля, Бонапарт проворно побежал к единственной пушке, которой было вооружено судно, зарядил ее картечью, навел и послал паолистам такой убийственный снаряд, что восьмеро или десятеро из тех, кто покушались убить его, остались мертвыми на песке, а остальные обратились в бегство. Семейство Бонапарт и его глава были спасены.
— Браво, Бонапарт! — воскликнула Екатерина, хлопая в ладоши при окончании рассказа. — Ах, эти канальи-корсиканцы! Жаль, что меня там не было с нашими солдатами! Не так ли, Лефевр?
— Достаточно с них и одного Бонапарта! — возразил Лефевр. — Он славный канонир.
— И добрый француз! — прибавил Борепэр. — Он не захотел, чтобы его родину предали врагам. Так вышло хорошо! Но представьте себе Бонапарта, умирающего от ран на острове, пленника англичан! Это было бы обидной нелепостью, и он заслуживает лучшего жребия. Спасибо вам за ваши новости, — сказал он Марселю, — когда мы освободим Верден, я напишу Бонапарту поздравительное письмо.
Командир поднялся. Находя, что его отряд достаточно отдохнул, и не заметив ничего подозрительного под Верденом, он дал приказ готовиться к выступлению… Через два часа им предстояло двинуться в путь, чтобы достичь Вердена немного раньше ночи, пользуясь сумерками.
Пока солдаты Борепэра, подкрепив силы горячей похлебкой, вычистив запыленное оружие, собирались строиться в колонну, сам он направился к запряженной и совершенно готовой в дорогу повозке Екатерины. Он подал знак маркитантке, что желает говорить с нею, и, понизив голос, дал свои инструкции молодой женщине, которая выслушала его как будто с удивлением.
Когда Борепэр кончил, она просто ответила ему:
— Я поняла, господин командир. А когда я покину Жуи-Аргонн и явлюсь в Верден, то что мне делать?
— Ожидать нас, если город спокоен, или вернуться как можно скорее, если неприятель двинулся с места…
— Хорошо, господин командир!.. Я переоденусь в штатское и надеюсь, что вы останетесь довольны мною! — Тут Екатерина крикнула мужу, который недоумевал, какое секретное поручение мог дать начальник его жене: — Франсуа… я увижу тебя в Вердене. Приказ командира! Присмотри хорошенько за Анрио. Да пускай Виолетт (так звали молодого солдата, приставленного для услуг к походному шинку) будет поострожнее на спусках… лошадь должна идти непременно шагом… и даже в поводу.
— Присмотрю, не бойся! — ответил Лефевр. — Только будь осторожна, Екатерина! Ну что, если не ровен час прусские кавалеристы, рыскающие кругом, заберут тебя в плен?
— Дуралей! Разве у меня под юбками нет двух сторожевых собак? — весело воскликнула маркитантка и, приподняв свою верхнюю юбку, показала мужу приклады двух пистолетов, заткнутых за пояс, в котором у нее хранились деньги.
Между тем добровольцы по знаку Борепэра выстроились в шеренги и собирались двинуться в путь.
Екатерина храбро спускалась с крутых скатов горловины, на дне которой ютилась деревенька Жуи-Аргонн, и уже достигла крайних хижин селения, как вдруг рощи, луга, поля огласились молодецкой песней удалых волонтеров, шедших на Верден.
И эхо долины вторило припеву, звучавшему в такт мерному солдатскому шагу этих сынов отечества, стремившихся к победе с пением, под знаменем свободы!
VII
Эрминия де Борепэр сидела в просторной комнате дома Блекуров, в Вердене, обращенной в молельню по желанию ее тетки де Блекур, крайне богомольной особы. Два аналоя для моленья и маленький импровизированный алтарь, на котором стояла статуэтка Богоматери со Святым Младенцем на руках, в голубой одежде и позолоченном венце из резного дерева, с двумя канделябрами и двумя вазами цветов по сторонам, составляли убранство этой гостиной, обращенной в домашнюю часовню со времени упразднения — монашеских орденов. Набожная тетка хотела, чтобы Эрминия продолжала готовиться к монастырской жизни в ожидании открытия монастырей.
Когда Левендаль показался на пороге молельни, Эрминия вскрикнула, вскочила от удивления, а потом остановилась, глядя на посетителя, нерешительная, смущенная, оробевшая, в ожидании слова, жеста, порыва, движения губ, сердечного возгласа.
Однако барон оставался холоден; он чувствовал легкую неловкость и закусил губы, не решаясь говорить.
— Ах, это вы? — дрожащим голосом произнесла наконец молодая женщина. — Я совсем не рассчитывала когда-нибудь свидеться с вами… Прошло так много времени с тех пор, как мы встретились в последний раз здесь, на этом месте… а потом еще там, в деревне Жуи-Аргонн…
— Ах, да! Жуи! Как поживает малютка? Надеюсь, по-прежнему хорошо?
— Ваша дочка подросла… ей скоро минет три года. Ах, если бы Господу было угодно, чтобы эта бедная крошка совсем не появлялась на свет! — воскликнула Эрминия, и ее глаза наполнились слезами.
— Не плачьте! Не убивайтесь! — сказал барон, сохраняя спокойное равнодушие. — Послушайте, Эрминия, надо образумиться! Ваши слезы, ваши рыдания могут возбудить любопытство… в доме уж и так поднялся переполох по поводу моего прихода. Неужели вы желаете огласки того, что вам крайне важно скрыть!
Эрминия подняла голову и гордо ответила:
— Когда я отдалась вам, во мне говорило только сердце, теперь же моими действиями руководит мой отрезвившийся рассудок. Час безумия, толкнувший меня в ваши объятия, миновал… я не живу больше для любви… от былой страсти во мне не тлеет ни единой искры. Перебирая свою жизнь, я не нахожу в ней ничего, кроме пепла и развалин! Но у меня есть ребенок… ваша дочь, Алиса. Ради нее я должна жить, ради нее соблюдать приличия.
— Вы совершенно правы, ей-Богу! Свет безжалостен, моя дорогая Эрминия, к маленьким приключениям вроде нашего. Да да, мы с вами оба, как вы сейчас выразились, были безрассудны, нами овладело безумие, то было опьянение… теперь же мы протрезвели… да! Но это в порядке вещей… нельзя же оставаться всю жизнь сумасшедшим и опьяненным…
Тут барон сделал жест, проникнутый самодовольством и циничной развязностью.
Эрминия подошла к нему, строгая, почти трагическая.
— Барон, — сказала она, — я не люблю вас больше!
— Неужели? Это страшное несчастье для меня!
— Не смейтесь! О, я прекрасно чувствую, что и вы точно так же разлюбили меня! Да и питали ли вы когда-нибудь ко мне любовь? Я была для вас минутной забавой, игрушкой сердца… нет, даже и не сердца, а прихотью чувств, способом скоротать часы безделья в глухой провинции. Вас здесь задерживали дела. Жизнь провинциального дворянства и военного круга с доступными развлечениями и шумными кутежами казалась вам пресной и недостойной вас, блестящего царедворца, обычного посетителя Трианона, друга принца де Рогана и графа де Нарбонна; вы увидали меня в моем углу печальной, одинокой, задумчивой.
— Вы были прелестны, Эрминия! Вы до сих пор привлекательны и хороши собой, но тогда в вас было неодолимое очарование… пикантность… сочность…
— А теперь я утратила все это, не правда ли?
— Я протестую! — любезно воскликнул барон.
— Не лгите! Я уже не прежняя в ваших глазах. Вы не ошиблись я сказала вам: тогда я вас любила, а теперь вы сделались безразличны мне.
«Так оно и лучше! — подумал барон и прибавил про себя: — Э, все складывается благополучно! Разрыв происходит без потрясения, без лишних слез и упреков. Это превосходно!»
И он продолжал вслух, протягивая руку Эрминии:
— Останемся добрыми друзьями! Согласны?
Молодая женщина осталась неподвижной, отказываясь пожать протянутую руку Левендаля, и ее губы презрительно сжались.
— Выслушайте меня, — сказала она строгим тоном. — Здесь я была далека от всякой мысли о любви. Меня предназначили к монастырской жизни, и я была готова повиноваться тем, кто предложил мне монастырь как благородное и достойное убежище для таких девушек, как я, — с знатным именем, но без всякого состояния. Возле мадемуазель де Блекур я ожидала времени своего пострига в монашество. Сказать вам, что я не жалела покинуть свет, который видела лишь мельком, но о котором составила себе довольно приятное понятие, — значило бы солгать. Я завидовала тем подругам, которые могли благодаря своему богатству выйти за честного человека и пройти по жизни с радостным сердцем, с гордым челом между своим мужем и детьми. Этого счастья мне не предложили… я покорилась судьбе.
— Однако же вы были из тех, кому жизнь должна была бы приносить одни радости.
— А между тем принесла одни горести! Простите, что я напоминаю вам такие скорбные обстоятельства. Но именно тогда, когда я считала себя совершенно покинутой, принесенной в жертву в расцвете молодости, в разгаре желаний, в чаду юношеских грез… именно тогда явились вы предо мной. Сознавала ли я, что делала? Не знаю… О, я не хочу упрекать, я даже не пытаюсь оправдать свою ошибку. Но сегодня, при этом свидании, которое может сделаться для нас обоих решительным, позвольте мне задать вам один вопрос.
— Какого рода? Говорите! Предоставляю вам задать мне хоть десять, хоть двадцать вопросов! Чего вы боитесь? В чем сомневаетесь?
— Я перестала бояться, — грустно промолвила Эрминия, — и, к несчастью, утратила право сомневаться… Барон, вы клялись, что женитесь на мне; пожалуй, цель вашего сегодняшнего визита сдержать это обещание?
«Черт возьми! Договорились!» — подумал Левендаль и с улыбкой, плохо скрывавшей гримасу недовольства, пробормотал: — Ваш вопрос восхищает меня… и, признаюсь, приводит в затруднение. Конечно, я не забыл, что в былое время… в те минуты безумия, как вы определили их сейчас, я мог взять на себя обязательство. О, я не отрекаюсь. Прошу вас верить, что мои чувства к вам всегда почтительны, горячи, искренни…
— Однако вы отказываетесь?
— Я не говорю этого!
— Значит, вы согласны? Послушайте, отвечайте откровенно! Я уже сказала вам, что у меня больше нет ни сомнений, ни боязни. Я могла бы прибавить, что надежда была со мной, но внезапно покинула меня на повороте дороги. Я ожидаю вашего ответа с твердостью сердца, в котором все успокоилось, все умерло!
— Боже мой, милая Эрминия, вы захватили меня в данном случае врасплох. Я явился в Верден вовсе не для разговоров о женитьбе. Важные дела, интересы первейшего значения требуют моего пребывания в этом городе, где мне было бы совсем некстати заниматься брачными утехами.
— Не говорите об утехах между нами! Так вы отказываетесь?
— Нет, я только прошу дать мне отсрочку. Погодите до заключения мира… это протянется недолго.
— Вы полагаете? Значит, вы надеетесь, что трусы и изменники возьмут верх и что Верден не окажет сопротивления?
— Я думаю, что оборона для него немыслима. Не вашим ремесленникам, мелким буржуа, гвоздарям и башмачникам давать отпор императорскому и королевскому войскам!
— Не оскорбляйте местных людей, которые будут драться как герои, если сумеют избавиться от изменников и неспособных руководителей! — с жаром возразила Эрминия.
— Я не оскорбляю никого, — произнес барон, не меняя слащавости своего тона, — я прошу вас только принять во внимание, что у этого города нет гарнизона.
— Он скоро обзаведется гарнизоном! — пробормотала Эрминия.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил остолбеневший барон.
— А вот что. Постойте, прислушайтесь! — И Эрминия подала ему знак насторожить слух.
Неопределенный гул, крики, возгласы «виват!» доносились до верхнего города. Веселый грохот барабанов сливался с криками бегущего народа. Барон побледнел.
— Что значит этот содом? — спросил он. — Верно, это какой-нибудь бунт. Жители требуют открытия городских ворот и не хотят слышать об осаде.
— Нет, это шум совсем иного свойства, барон! Итак, еще раз: согласны ли вы сдержать свое обещание и дать нашему ребенку, нашей дочери Алисе, имя, звание и состояние, которые принадлежат ей по праву?
— Я уже сказал вам, что в данный момент я не хотел… не могу принять какое-либо решение. Подождите! Мне нужно прежде покончить слишком серьезные дела. Немножко терпения. До заключения мира, говорю я вам! Когда крамольники будут наказаны, а его величество спокойно водворится не в Тюильри, нет, нет, революция проникает туда чересчур свободно, в Версале… тогда я посмотрю… я решу.
— Берегитесь! Я женщина, способная отомстить за ложные клятвы!
— Угрозы? Перестаньте! — усмехаясь, воскликнул барон. — Впрочем, предпочитаю это. Угрозы менее опасны, чем потоки женских слез!
— Берегитесь еще раз! Вы считаете меня слабой, безоружной, лишенной поддержки. Смотрите, как бы вам не ошибиться!
— Повторяю снова, что вам не удастся запугать меня.
— Разве не слышите уличного шума, смятения? Барабанный бой все ближе!
— В самом деле… странно! Неужели пруссаки уже заняли город? — пробормотал Левендаль и мысленно прибавил с явным удовольствием: «Наши добрые друзья-неприятели явились кстати, чтобы положить конец этой глупой истории и доставить приличный предлог откланяться этой несносной женщине!»
— Это не пруссаки, — торжествующим тоном возразила Эрминия, — это патриоты, явившиеся на выручку Вердена.
— Ожидаемые подкрепления? Полноте, это невозможно! Лафайет во власти австрийцев, Дюмурье занят в лагере Мульда, Диллон подкуплен союзниками. Неоткуда взяться подкреплениям! Да и что это за подкрепления?
— Вот вы увидите! — И Эрминия, отворив двери молельни, сказала женщине, сидевшей в соседней комнате с двумя маленькими детьми: — Войдите сюда и объясните барону Левендалю, что означает этот барабанный бой, поднявший на ноги весь город.
VIII
В молельню вошла молодая, бойкая женщина. Она отдала по-военному честь и сказала, самоуверенно поглядывая на барона:
— Екатерина Лефевр, маркитантка тринадцатого пехотного полка, к вашим услугам! Вы желаете знать, что новенького? Так вот, ей-Богу, это батальон Майен-э-Луар вступает в Верден с ротою тринадцатого полка под командованием моего мужа, Франсуа Лефевра. Эге, мадемуазель, это большая неожиданность для всех!
— Батальон Майен-э-Луар! — пробормотал озадаченный барон. — Что ему тут делать?
— Что нам тут делать? — сказала Екатерина. — Дать острастку пруссакам, успокоить патриотов и ударить по аристократам, если они вздумают пошевелиться!
— Отлично сказано! — подхватила Эрминия. — Прибавьте же, как зовут предводителя добровольцев батальона… это доставит удовольствие моему гостю.
— Ими командует храбрый Борепэр!
— Борепэр! — с ужасом повторил Левендаль.
— Да, мой брат. За час до своего вступления в город он прислал ко мне вот эту доблестную женщину, чтобы известить меня заранее и успокоить! — подтвердила Эрминия, бледное лицо которой разгорелось от радости.
— Вам это как будто не по нутру, мой батенька? — заметила Екатерина Лефевр, фамильярно хлопая по плечу сбитого с толку барона. — Значит, вы не патриот? Ах, надо быть поосторожнее, потому что аристократам, которые вздумали бы завести речь о капитуляции Вердена, придется теперь от нас плохо!
— А сколько ваших добровольцев? — спросил не на шутку озабоченный Левендаль.
— Четыреста… да еще в придачу рота моего мужа Лефевра. Это составляет в общем пятьсот молодцов, которые взбудоражат город, поверьте моему слову!
А Левендаль в это время думал:
«Пятьсот человек! Не так еще велика беда, как я боялся! Этим бешеным не удержать в своей власти города… особенно когда городское население, настроенное ловким манером, с шумом и гамом потребует капитуляции. Хуже всего присутствие этого Борепэра. Как бы мне избавиться от него?»
Между тем Эрминия пошла в соседнюю комнату и привела оттуда белокурую малютку, бледную и боязливую, слабо державшуюся на худеньких ножках.
— Вот ваша дочь, — сказала она гостю, — не хотите ли поцеловать ее?
Левендаль, скрывая брезгливость, нагнулся к ребенку и наскоро поцеловал в лобик. Испуганная девочка расплакалась. На ее плач из соседней комнаты выскочил мальчуган во фригийском колпаке с национальной кокардой, бросился к Алисе, увел ее с собой и успокоил, говоря:
— Не плачь! Нам будет превесело, Алиса… станут палить из пушки! Бум! Бум! Ах, какая это славная штука пушечная пальба!
Екатерина Лефевр с гордостью указала на маленького республиканца и сказала:
— Это мой крошка Анрио… будущий сержант, которого я воспитываю в ожидании, что мой муж подарит мне сыновей для защиты республики!
Эрминия, тихонько пожимая руку маркитантки, сказала барону:
— Эта превосходная женщина проходила с батальоном мимо деревни Жуи-Аргонн. Полковник Борепэр велел позвать ее и попросил зайти в один из деревенских домов, чтобы взять оттуда указанного ей ребенка. Он дал ей также адрес нашего жилища… здесь она должна была передать мне девочку и сообщить о прибытии добровольцев, о близости покровителя несчастной, покинутой матери.
— Значит, — в смущении пробормотал Левендаль, — полковнику известно…
— Решительно все! — с твердостью сказала Эрминия. — О, то было мучительное признание, могу вас уверить! Но у меня оставалась надежда только на брата… я не знала, как отнесется он к подобному факту, когда однажды, впав в уныние, решилась открыть ему свою грустную тайну. Тяготясь всем на свете, я хотела в то время одного — умереть.
— И ваш брат отнесся к вам снисходительно? — спросил барон, стараясь казаться равнодушным и спокойным, как и в начале разговора.
— Мой брат простил… он торопился мне на помощь, на выручку. Добровольцы батальона Майен-э-Луар, увлекаемые им, быстро прошли всю Францию…
— Ах, черт побери, какие переходы, ребятушки! — подхватила Екатерина. — Все мы ужасно хотели поспеть вовремя на помощь вашему славному городу Вердену, но командир Борепэр мчался словно на крыльях!
Грохот барабанов приблизился. Город точно справлял праздник. Крики радости, усиливаясь, неслись со стороны Масса.
— Мне пора, — сказал барон, — меня ожидают в ратуше!
— А мне надо расцеловать своего муженька! — заявила Екатерина. — Ну ты, молодой рекрут, шевелись живее, марш! — прибавила она, хватая за ручонку маленького Анрио.
Но ребенок стал сопротивляться. Он не выпускал из пальцев юбочки Алисы, по-видимому, желая остаться с ней.
— Посмотрите, Бога ради, на этого молодца! — добродушно воскликнула маркитантка. — Он уже цепляется за женскую юбку! Каково! Раненько начал! Ну пойдем, малыш, ты еще увидишься с Алисой. Мы придем опять к ней в гости, когда зададим хорошую взбучку пруссакам.
— Никогда не забуду я того, что вы сделали для меня, — с волнением сказала Эрминия Екатерине. — Скажите моему брату, что я благословляю вас и ожидаю его! Что же касается этого ребенка, — продолжала она, указывая на Алису, которая улыбалась маленькому Анрио и, по-видимому, также не хотела расстаться с ним, — то если со мной случится несчастье и я буду уже не в силах защищать мою дочь, любить ее и беречь… тогда передайте бедняжку на руки моего брата.
— Положитесь на меня! У нас с мужем есть уже этот мальчуган, которого я вожу в своей повозке, а тогда составится пара… чтобы я терпеливее ждала, когда мой муж решится наконец подарить мне родных детей… А за этим, должно быть, дело не станет! — прибавила Екатерина, заливаясь своим открытым, раскатистым смехом и выпячивая полную грудь. — До свидания. Чу! Забили сбор. Солдаты, надо полагать, ждут меня не дождутся на бивуаке, а Лефевр, конечно, удивляется, что не видит меня среди них.
И, уведя своего малютку Анрио, надутого и недовольного из-за разлуки с Алисой, Екатерина поспешила примкнуть к роте, отделенной из состава тринадцатого полка, которая ставила ружья в козлы на городской площади.
После ледяного поклона барону Эрминия вышла в соседнюю комнату с дочерью, которую она осыпала горячими ласками.
Левендаль в глубокой задумчивости шел из дома Блекуров к городской ратуше, говоря про себя:
«Ах, если бы капитуляция избавила меня от Борепэра! Но нет! Этот бешеный захочет защищать город, а потом женить меня на своей сестре! Ах, я попал впросак!»
И крайне раздосадованный событиями этого дня барон поднялся в ратушу, где уже собрались именитые граждане по приглашению президента директории Терно и прокурора-синдика Госсена, двоих изменников, имена которых должны быть пригвождены к позорному столбу истории.
IX
В большом зале верденской ратуши, при свете канделябров, собрались члены городского управления и почетные лица города. Начальник инженерного ведомства и комитета обороны присутствовал на прениях. Когда президент Терно открыл заседание, прокурор-синдик Госсен ознакомил присутствующих с положением дел.
Герцог Брауншвейгский стоял лагерем у городских ворот. Следовало ли распахнуть их настежь перед ним и провозгласить императорского генералиссимуса освободителем или же поднять подъемные мосты и ответить пушечной пальбой на требования спустить их? Позорно было даже ставить подобный вопрос.
— Господа, — жалобным голосом произнес прокурор, — сердце у нас обливается кровью при мысли о бедствиях, которые могут обрушиться на осажденный Верден. Господа, сопротивление вдесятеро сильнейшему неприятелю — прямое безумие. Желаете ли вы принять лицо, посланное к нам с целью примирения?
Тут президент обвел взором собрание, спрашивая его согласия.
— Да, мы хотим этого! — раздалось несколько голосов.
— В таком случае, господа, — продолжал президент, — я представляю вам особу, о прибытии которой было нам сообщено. — Присутствующие с любопытством переглянулись. Затем все взоры устремились на дверь президентского кабинета.
Она вскоре отворилась, чтобы пропустить молодого человека в штатском платье. Он был очень бледен и держал руку на перевязи. При взгляде на него можно было подумать, что ему только что пришлось перенести продолжительную болезнь.
— Граф Нейпперг, адъютант генерала Клерфэ, генерал-аншефа австрийской армии! — сказал президент, представляя присутствующим уполномоченного герцога Брауншвейгского.
Действительно, то был молодой австриец, спасенный Екатериной Сан-Жень утром 10 августа 1792 года.
Едва оправившись от раны благодаря уходу доброй маркитантки, он бежал из Парижа и добрался до главной квартиры австрийцев. Хотя все еще больной, он захотел непременно вернуться на службу. Воспоминания о Бланш де Лавелин заставляли его страдать больше, чем рана. Думая о своем ребенке, маленьком Анрио, подвергавшемся всем опасностям внебрачного рождения, вспоминая о попытках Левендаля, который пользовался поддержкой маркиза и мог принудить Бланш к браку, разлучавшему их навсегда, Нейпперг подвергал себя жестокой и медленной пытке. Ему требовалось забвение, а воина мешала мыслям сосредоточиваться на личном горе. Вот почему граф с удовольствием снова поступил на военную службу.
Генерал Клерфэ, оценивший достоинства храброго и умного Нейпперга, причислил его к своему главному штабу, а благодаря тому, что он в совершенстве владел французским языком, генерал выбрал его для передачи знатным лицам и властям Вердена предложения о капитуляции.
После приветствия собранию молодой посланец изложил условия герцога Брауншвейгского: он требовал сдачи города с его цитаделью в двадцать четыре часа под угрозой обстрела Вердена, который после осады будет предан ярости солдат. Эти суровые условия были выслушаны в мрачном оцепенении. Можно сколько угодно называть себя роялистом, как делали заседавшие здесь знатные горожане, и вместе с тем дрожать за свое имущество, но тяжело было этим богатым буржуа выслушать без невольного ропота надменную и оскорбительную угрозу австрийца. Многие из этих трусов были 'бы очень не прочь заявить мужественный протест, хотя бы ради формы, чтобы соблюсти внешние требования чести, однако никто ничего не сказал. Все боялись и тщательно избегали вызвать упрек в том, что они накликали на Верден гнев спесивых немцев.
Нейпперг сидел неподвижно, потупив взор. Во время переговоров он внутренне возмущался трусостью этих торгашей, предпочитавших позор и раздробление отечества мужественному отпору, при котором их домам грозили разрывные снаряды. В то же время ему приходило в голову, что это не были уже французы 10 августа, с которыми он сражался и которые яростно взяли приступом дворец Тюильри. На душе у него оставалось только восхищение патриотами, нанесшими ему рану. Солдатские сердца не помнят зла после битвы; но страх этих буржуа претил храбрецу, а их постыдное молчание вызывало в нем отвращение…
Нейпперг захотел выйти на воздух, чтобы зрелище этой коллективной трусливости не мозолило ему глаза. Ему мерещилось, будто бы боль раны усиливается от соприкосновения с этими малодушными людьми, которые являлись вместе с тем изменниками.
Он встал с места и холодно заявил:
— Вы слышали, господа, сообщение генерал-аншефа, какой же ответ мне передать от вас его светлости герцогу Брауншвейгскому?
И он, стоя, ожидал ответа, опершись рукой на край стола.
Тут среди всеобщего безмолвия раздался голос:
— Не думаете ли вы, господа, что, отдавая должное человеколюбивым чувствам его светлости герцога Брауншвейгского, вам все-таки не мешало бы отсрочить свой ответ… хотя бы для того, чтобы позволить герцогской артиллерии оказать нашему городу честь несколькими снарядами?
Человек, так внезапно возвысивший голос, был барон Левендаль.
Нейпперг узнал своего соперника. Кровь ударила ему в лицо; он сделал инстинктивное движение, точно хотел броситься к барону, чтобы вызвать его. Однако граф сдержался: в данный момент он был посланником, ему предстояло выполнить важное поручение; он не принадлежал себе. Одновременно с этим у него мелькнула мысль: если барон Левендаль находится в Вердене, не тут ли и Бланш де Лавелин? Но где можно с ней встретиться? Где повидать ее? Где поговорить с ней? Вдруг у графа возникла смутная надежда, что барон, пожалуй, сам, без своего ведома, невзначай, укажет ему убежище Бланш. Значит, надо было прикидываться бесстрастным, ждать, отыскивать.
Довольно оживленный шепот последовал за речью Левендаля в зале ратуши.
«Куда суется этот откупщик? — перешептывались между собой горожане. — Разве у него есть собственные дома, мастерские, склады товаров в городе? Разве он понесет имущественный ущерб? Раз мы знаем, что вооруженное сопротивление невозможно, как это признано начальником инженерной части, зачем же тогда доводить до кровопролития, устраивать бесполезную бойню народа? И с какой стати подвергать недвижимое имущество действию артиллерийского огня?»
— Наше население благоразумно и боится ужасов осады, — сказал президент, — предложение барона Левендаля было бы поддержано только жалким сбродом. Вдобавок почти вся крикливая голытьба успела покинуть город… Эти бездомные горланы бежали в сторону Тионвиля и там обрели какое-то ничтожество под стать себе, некоего Билло-Варенна, который пошлет их в огонь. Будем надеяться, что этой доблестной рати никогда больше не вернуться в Верден. Господа, намерены ли вы следовать по их стопам? Есть ли у вас охота быть расстрелянными картечью?
— Нет-нет! Не надо бомбардировки! Подпишем сейчас условия капитуляции! — крикнуло двадцать голосов, и самые усердные, вооружившись перьями, обступили президента, требуя, чтобы он дал им поскорее приложить свою руку к проекту капитуляции, составленному заранее, с самого объявления о прибытии австрийского уполномоченного.
Нейпперг молча наблюдал за этим собранием, которое из мирного грозило превратиться в бурное.
Барон Левендаль между тем снова занял свое место поодаль от прочих.
— Сочтем, что я ничего не говорил, — с досадой пробормотал он.
Президент уже взялся за перо и отыскивал глазами место, где ему подобало поставить свое имя на проекте капитуляции, затрагивавшем честь города, когда послышалась вдруг отдаленная ружейная пальба. В то же время барабан на городской площади забил сбор, а под окнами ратуши грянула лихая песня волонтеров.
X
Все вскочили с мест в неописуемом смятении. Те, кто не так перетрусил, подбежали к окнам.
Город казался иллюминированным, словно в праздничный день. На площади горели факелы, и в их красноватых отсветах женщины и дети хлопали в ладоши и водили какой-то фантастический хоровод. Добровольцы Майен-э-Луар запели свою военную песню, давая этим сигнал к веселому пробуждению замершего города.
В этой толпе было мало мужчин; они предпочитали держаться в стороне и, казалось, только взглядами принимали участие в обуявшем толпу воинственном задоре.
— Ну и шум же подняли добровольцы! — вздыхая, сказал Терно.
— Терпение! Герцог Брауншвейгский вскоре освободит нас от них, — произнес Госсен, — если только эти сорвавшиеся с цепи дьяволы не навлекут на нас обстрел!
В тот же момент возник какой-то красноватый свет, и в один из домов, выходивших углом на площадь, попало какое-то пылающее тело, причем в то же время звук сильного взрыва заставил задрожать окна ратуши.
— Вот видите, — крикнул синдик, — вот чему мы подвергаемся из-за этих буянов. Пруссаки осыпают наши дома ядрами! Вот и обстрел, который вы желали. Теперь вы довольны, барон?
Синдик обернулся, отыскивая взглядом Левендаля, но того и след простыл.
Полный нетерпения, стремясь за ним, предполагая, что Левендаль направился к Бланш де Лавелин, Нейпперг тоже захотел уйти и, прощаясь, сказал:
— Теперь мне уже нечего здесь делать, господа! Раз заговорили пушки, то мне остается только молчать. Я возвращаюсь в свою главную квартиру. Мой ответ — это ваши выстрелы.
— Ваше сиятельство, — взмолился председатель собрания, — не уходите… останьтесь! Это недоразумение. Все объяснится… все уладится.
— Не представляю себе как! — улыбаясь, возразил Нейпперг. — Прислушайтесь! Вот заговорили пушки и с ваших валов, отвечая нашим гаубицам. На улицах слышен барабанный бой. Мне кажется, что сюда, в ратушу, идут за подкреплением, чтобы выставить людей на стены и к пушкам!
Действительно, на лестнице ратуши трещал барабан, и слышно было, как по ступенькам шагает большая толпа; из вестибюля доносился стук ружейных прикладов о пол.
— Они осмеливаются явиться сюда! — воскликнул возмущенный синдик. — Господин комендант, поскорее подпишите приказ о прекращении барабанного боя и прикажите добровольцам вернуться обратно в отведенные им квартиры, — прибавил он, обращаясь к Бельмону, начальнику артиллерии.
— Хорошо, — произнес этот малодушный офицер, — я сейчас дам приказ. Через четверть часа в Вердене все будет спокойно…
— Через четверть часа Верден будет объят пламенем, и мы запоем «Марсельезу» под аккомпанемент гранат! — раздался сзади их чей-то громкий голос.
Дверь распахнулась от сильного толчка, Борепэр, сопровождаемый Лефевром и окруженный солдатами 13 полка, равно как и добровольцами Майен-э-Луар, предстал перед перепуганными насмерть горожанами.
Председатель попытался принять авторитетный вид.
— Кто уполномочил вас, полковник, врываться на заседание муниципалитета и граждан, собранных им на совет? — спросил он голосом, которому пытался придать твердость.
— Уверяют, — нисколько не смущаясь, ответил Борепэр, — что вы затеваете здесь подлое предательство и собираетесь сдать город. Правда ли это, граждане? Отвечайте!
— Мы не обязаны вам отчитываться в постановлениях властей, полковник. Благоволите удалиться отсюда вместе со своими людьми и приказать прекратить огонь, который вы начали без согласия комитета обороны! — строго возразил председатель, опираясь на симпатии именитых горожан, собранных им здесь.
Борепэр задумался на минутку, потом, сняв шляпу, произнес с выражением почтения:
— Господа, это правда, я не ждал указаний комитета обороны, чтобы открыть огонь по пруссакам, которые уже подошли к воротам города и собирались войти в них по первому сигналу… сигналу, которого они, казалось, поджидали из города. Я баррикадировал ворота; мой доблестный друг Лефевр, вот этот самый, разместил своих стрелков с обеих сторон ворот по стенам, и неприятель приостановился. В то же время, чтобы помешать им видеть со слишком близкого расстояния, что мы поделываем на укреплениях, я послал им пару ядер, которые заставили несколько отодвинуться взвод австрийцев, слишком спешивших посетить нас… Я только что явился со своими добровольцами, когда меня предупредили о том, что здесь происходит… Должен признаться, что я и не собирался обращаться за указаниями в комитет обороны!
— И были совершенно не правы, полковник! — сказал ему Бельмон.
Борепэр снова надел шляпу и возразил:
— Товарищ, это уж касается меня одного! Если понадобится, я лично сумею ответить за свой образ действий перед представителями нации, которые не замедлят явиться сюда. Я отношусь с большим уважением к коммуне Вердена и ко всем чинам ее муниципалитета, верю, что они тоже патриоты и готовы выполнить свой долг. Я подчинюсь всем их приказаниям, касающимся внутренней службы и полицейских мер, но в том, что касается моего ремесла как солдата и ядер, которые нужно послать пруссакам, тут уж, позвольте мне, товарищи, действовать так, как это покажется мне полезным. Здесь я совершенно равен вам, и нам остается только идти рука об руку, чтобы отразить неприятеля и спасти город!
Эти энергичные слова, сказанные мужественным голосом, произвели впечатление на Бельмона; еще недавно он был младшим офицером, и его производство состоялось несколько слишком быстро; он, наверное, выказал бы во всей этой истории больше порядочности и храбрости, если бы не поддался давлению трусливых главарей города.
— Однако, — замялся Бельмон, — комитет обороны существует. Вы обязаны были спросить его указаний, прежде чем начать сражение…
— Когда враг у ворот города, а городские ратники колеблются, то комитет обороны, будучи спрошен об указаниях, не мог бы приказать командующему войсками ничего другого, как преградить неприятелю дорогу, распределить стрелков по крепостным валам, направить пушки на приближающиеся неприятельские войска и открыть по ним огонь. Я как раз именно и сделал это, товарищ! Да разве на самом деле комитет мог бы приказать мне поступить иначе? Единственное, в чем комитет мог бы упрекнуть меня, — это что я не так быстро открыл огонь, как то было бы желательно. Но у нас был недостаток боеприпасов. Вот их везут. Слышите? Ну, теперь у нас пойдет уж музыка не та!
За словами Борепэра последовал грохот оглушительных залпов, раздавшихся со стороны ворот святого Виктора.
Присутствовавшие задрожали. Большинство из именитых граждан скользнуло за дверь, беспокоясь за судьбу своих жилищ, так как на эту бешеную канонаду пруссаки и австрийцы, наверное, должны были ответить градом снарядов.
«Черт возьми! Вот это человек! — подумал Нейпперг, глядя в открытое лицо Борепэра. — Как отрадно смотреть на него после всех этих позорных трусов и негодяев!»
И, подойдя к Борепэру, он вежливо поклонился и сказал:
— Полковник, я не считаю себя вправе оставить вас в неизвестности относительно своей особы. Я граф Нейпперг, флигель-адъютант генерала Клерфэ.
— Вы в штатском? — недоверчиво сказал Борепэр, глядя на того, кто так странно представился ему.
— Я явился сюда не з качестве парламентера, полковник, а просто для того, чтобы передать верденскому муниципалитету и комитету обороны официальную ноту генералиссимуса.
— Без сомнения, это требование сдать город?
— Да!
— И что вам ответили здесь?
Борепэр бросил грозный взгляд на представителей горожан и муниципалитета; те потупились и отвернулись, причем синдик Госсен шепнул на ухо председателю:
— Если этот агент герцога Брауншвейгского скажет все, то, пожалуй, прохвост Борепэр прикажет своим разбойникам расстрелять нас, бедный господин Терно!
— Я сам опасаюсь этого!
Но Нейпперг удовольствовался уклончивым ответом:
— Я еще не успел выслушать мнение этих господ. Вы позаботились лично ответить генералиссимусу!
Эта откровенность понравилась Борепэру, и он сейчас же сказал Нейппергу:
— В таком случае ваша миссия кончена. Может быть, вы позволите мне проводить вас лично до аванпостов?
— К вашим услугам, полковник!
Борепэр, уходя из зала, в последний раз обратился к главам города:
— Господа, я обещал своим людям лучше похоронить себя вместе с ними на развалинах Вердена, чем сдать город. Надеюсь, что вы согласны со мной?
— Но, полковник, если весь город пожелает капитулировать? Если граждане не пожелают подвергаться бомбардировке, тогда что вы сделаете? Неужели вы пойдете против всего населения и будете продолжать свой губительный огонь? — сказал председатель. — Ну, так как же? Что вы предпримете в этом случае? Мы ждем вашего ответа…
Борепэр задумался на секунду, а потом сказал следующее:
— Если вы, господа, заставите меня сдать город, то скорее, чем обречь себя такому позору и изменить данной присяге, я пущу себе пулю в лоб! Я поклялся защищать Верден до самой смерти! — Он дошел до двери, потом вернулся, с бешенством стукнул кулаком по столу и повторил: — Да, до самой смерти!
Он вышел в сопровождении Нейпперга, оставив собравшихся в страхе и смущении.
— Он покончит с собой? Ей-Богу же, это было бы утешением для всего света, — сказал вполголоса Левендаль, который только что бесшумно вошел в зал совещания.
Его стали расспрашивать о том, что делается в городе.
— Перестрелка идет с обеих сторон, — ответил барон с обычной скептической улыбкой. — Добровольцы бегут сломя голову на укрепления. Среди них есть уже несколько раненых. Ах, эти фанатики из тринадцатого полка! Среди них имеется некто вроде демона в юбке; это, как мне сказали, жена капитана Лефевра, маркитантка, которая носится во все стороны, подает снаряды и патроны, впрягается в пушки, вырывает горящие фитили из прусских гранат, падающих на укрепления. Говорят, она неоднократно подбирала ружья павших стрелков и не уходила с места до тех пор, пока не стреляла из них… совсем, как мужчина! По счастью, не так-то много солдат, похожих на эту амазонку, а то австрийцы никогда не пройдут в город!
— А вы все еще надеетесь на это, барон?
— Более чем когда-либо. Этот обстрел был необходим, я говорил вам это. Жители не были достаточно напуганы. Мой слуга, верный Леонард, подпоил порядочное количество ремесленников, мещан и наговорил им кучу сказок, согласно моим инструкциям, но они все еще не были достаточно убеждены и соглашались на капитуляцию лишь после долгих колебаний. Но завтра все они будут требовать ее!
— Вы возвращаете нам надежду!
— Я уже сказал, что к вам явятся горожане и силой заставят согласиться на капитуляцию. Вы просто уступите силе.
— Да услышит вас небо! Но посол герцога Брауншвейгского вернулся в главную квартиру. Как бы нам снова повидать его? Он взял с собой проект капитуляции.
— Достаточно, чтобы кто-нибудь, вполне надежный, отправился в австрийский лагерь и отнес туда дубликат, сохранившийся у вас, с уверениями, что завтра генералиссимус найдет ворота города открытыми.
— Но кому можно было бы поручить это?
— Мне! — сказал Левендаль.
— О, вы спасаете нас! — воскликнул председатель и от радости даже облобызал барона как вестника ожидаемой победы.
XI
Через несколько минут Левендаль, снабженный копией проекта капитуляции, выходил из здания ратуши. На площади он встретил поджидавшего его Леонарда.
Шепотом, хотя вокруг и не виднелось никого, барон дал ему подробное распоряжение. У Леонарда вырывались жесты крайнего изумления, доказывавшего, что он понимает важность поручения, но смущается и даже несколько боится его. Барону пришлось два раза повторить ему сказанное, а затем он прибавил:
— Вы, кажется, колеблетесь, Леонард. А между тем вам следовало бы знать, что хоть мы и находимся в осажденном городе, но здесь все-таки найдутся и тюрьмы, и жандармы для ареста тех, кто подобно некоторым из моих знакомых подделали государственную печать и выдали сборщикам податей и налогов фальшивые квитанции.
— Увы, я знаю все это! — покорно произнес Леонард.
— А если вы знаете это, то не забывайте, — смягчившимся тоном продолжал Левендаль, — потому что мне очень прискорбно быть вынужденным напомнить вам, преданному слуге, что я спас вас от галер.
— И что вы можете еще отправить меня туда! О, этого я не забуду!
— Значит, вы согласны повиноваться?
— Да! Но подумайте, как серьезно, как ужасно то, что вы требуете от меня!
— Вы преувеличиваете важность этого дела, доверием в котором мне заблагорассудилось почтить вас. Черт возьми, я привык встречать в вас больше послушания и преданности! Вы становитесь неблагодарным, а неблагодарность — отвратительный недостаток, Леонард…
— Я вечно буду признателен вам, — захныкал несчастный, которого Левендаль уличил в присвоении откупных податей при помощи поддельных штемпелей. — Я готов следовать за вами всюду и во всем повиноваться вам, но то, что вы приказываете мне теперь…
— Кажется вам ужасным? Да уж не завелась ли у вас совесть?! — сказал барон насмешливым тоном.
— Я не позволил бы себе находить ужасным то, что вы мне приказываете… Я хотел сказать совсем другое.
— А что именно? Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение.
— Это очень опасно… о, разумеется, только для меня одного, — поспешил добавить Леонард, — потому что если меня поймают, то я лучше позволю сжечь меня на медленном огне, чем выдам, что это сделано по вашему приказанию.
— Прежде всего вам даже и не поверил бы никто, — сухо перебил его Левендаль, — а потом если бы вы даже и стали настаивать, что получили приказание от меня, то в доказательство не могли бы привести и тени улик. Наконец — и это должно обнадежить вас — я принял свои меры, чтобы обеспечить вам отступление на тот случай, если вы будете обнаружены.
— В самом деле? — радостно сказал Леонард.
— Моя почтовая карета будет ждать вас около Порт-Нев, на дороге в Ком мерси. В той стороне не сражаются.
— Но как я выйду?
— По поручению комитета обороны. Вот возьмите этот пропуск и явитесь завтра ко мне в лагерь герцога Брауншвейгского. — И с этими словами Левендаль вручил Леонарду пропуск от муниципалитета.
— Слушаю-с! — произнес Леонард более уверенным тоном.
— Постарайтесь не скомпрометировать свою миссию и не допустите, чтобы вас арестовали эти сумасшедшие добровольцы Борепэра. Если вы отдадитесь им, то я не смогу умолчать о ваших прошлых прегрешениях, а тогда уж вам не избежать галер. А возможно, что вас ждет также и немедленная смерть в качестве шпиона.
— Постараюсь! — пробормотал Леонард.
— Хорошо! Вы поняли — теперь ступайте! И я должен получить от вас доклад в лагере эмигрантов!
— Сделаю все что могу. Конечно, то, что вы от меня требуете, не так-то легко сделать, и я боюсь, что почтовая карета будет напрасно ждать меня у Порт-Нев.
— Да полно! В городе, который обстреливают со всех сторон, где повсеместно пылают постройки, немыслим) учинять достаточно строгий надзор. Полагаюсь на вас, Леонард! Если вы измените мне или вас одолеет слабость, то первым же делом, когда я завтра вернусь в Верден, навещу прокурора и потом чиновника, обязанности которого заковывать осужденных на галеры в ожидании отправки первой партии их на Тулон.
После этого Левендаль спокойным шагом направился в Порт-Нев, а Леонард, смущенно раздумывая над выполнением своей миссии, спросил себя:
«Как, не возбуждая ничьего внимания, проникнуть в дом госпожи Блекур? Как напасть посреди ночи на полковника Борепэра… заснувшего, безоружного?»
XII
Левендаль, расставаясь с Леонардом, пробормотал с довольным видом:
— Этот дурень сделает все, как я приказал ему. Правда, он немного трусит, но галер он боится несравненно больше, чем большой сабли этого хвастунишки Борепэра. Раз человек поставлен перед задачей, возможные последствия которой далеко не одинаковы, так как, с одной стороны, ему грозят галеры наверное, а в случае, если он будет схвачен, только предположительно, ну, тогда всякий разумный человек — а Леонард не дурак! — выберет последнее. Следовательно, он сделает все это и постарается не попасться. Он пойдет неохотно, но все-таки пойдет. Разве солдаты не так идут в сражение? Когда их заставляют идти прямо на обращенное против них жерло пушки, то ими двигает не всегда одна только любовь к славе. Если они не поворачивают назад, то только из-за боязни расстрела. Это можно видеть хотя бы из того, что спасаются бегством всегда не поодиночке, а целым стадом, так как наказание, ввиду массы виновных, в этом случае не коснется их. Леонард же один, он не отступит, и я надеюсь вскоре получить от него утешительные вести.
Барон медленно шел посреди ночного мрака по пустынным кварталам города, прислушиваясь к отдаленным выстрелам и равнодушным взглядом следя за блестящей траекторией падавших снарядов, которые перекрещивались на черном фоне неба, словно хвосты комет.
В этой части города не было сражения. Несколько часовых сторожили укрепления, и только их протяжные окрики «слушай!» нарушали безмолвие местности около Порт-Нев, куда направлялся барон.
У ворот города барон застал стражу из национальной гвардии, которой еще раньше, как было тайно решено при его выходе из ратуши, синдик послал приказ пропустить барона Левендаля. Без всяких затруднений начальник поста открыл барону ворота и пропустил его, пожелав успеха.
Сориентировавшись в пустынной местности, Левендаль направился к тощему леску, редкие деревья которого одиноко вздымались на поляне, и затем свернул к огоньку, горевшему невдалеке, по всей вероятности, к бивуаку аванпостов.
Окрик «кто идет?» по-французски заставил его остановиться.
— Я не ошибся, — пробормотал барон, — это французы! — И замер в неподвижности, ответив: — Друг, человек, командированный муниципалитетом Вердена.
Ответом было сначала молчание, а потом барон увидал, как от костра отделилась какая-то темная фигура. Огонек, танцуя двигался к нему и вскоре подошли четыре человека с факелами.
Назвав себя начальнику дозора, барон попросил, чтобы его направили к командующему армией; его очень вежливо попросили присесть у бивуака в ожидании, пока можно будет проводить его в главную квартиру. Так как ночь была очень свежей, то барон с удовольствием присел к костру с роялистами-добровольцами.
Появление барона вызвало большое волнение, даже спавшие проснулись и встали, чтобы послушать новости и узнать от новоприбывшего о событиях в Вердене.
Лагерь эмигрантов представлял очень странное и пестрое зрелище. Армия принца Кондэ состояла из добровольцев, сбежавшихся со всех уголков Франции, но преимущественно с запада, чтобы сражаться с войсками патриотов, защитить белое знамя, восстановить на престоле короля и подавить революцию. Многие из этих добровольцев явились до известной степени поневоле: одни пришли, уступая давлению семьи, увлеченные примером, не чувствуя возможности оставаться в своих опустошенных поместьях, другие — из фанатизма, большинство — в надежде вернуться во Францию с триумфом и выгодой.
Эта армия была разделена по провинциям. Дворянство сохраняло все свои привилегии и преимущества и не смешивалось с разночинцами. Так, Бретань доставила семь отрядов знати и восьмой среднего сословия. Разницу каст подчеркивал костюм. Непривилегированные солдаты были одеты в серые костюмы; дворянство же носило светло-голубые мундиры с отворотами. Таким образом, роялисты, собравшись для единой цели, подвергаясь одним опасностям, заботились о том, чтобы поддерживать в своих отрядах иерархию и социальные категории, являвшиеся уже пережитком прошлого. Мещане в своих унылых касках проявляли больше самоотверженности и преданности, чем знать, хотя они сражались в защиту тех привилегий, на которые не имели ни малейшего права.
Несколько дезертиров, сохраняя мундиры полков, и масса морских офицеров представляли собой единственный действительно военный элемент. Моряки, отличавшиеся храбростью, в особенности начиненные предрассудками и преданные идее роялизма, преимущественно набирались а среде прибрежного бретонского дворянства, сплошь враждебного революционным идеям. Дезертирство этих моряков надолго ослабило морские силы французов и, несмотря на отвагу матросов, обеспечило Англии победу над французским флотом, сохранило за нею владычество на морях. До сих пор еще недостаточно учтено влияние дезертирства моряков-роялистов на общее положение дел, когда перечислялись репрессивные меры, принятые конвентом против западной части Франции. Геройское сопротивление фанатиков-шуманов нанесло прекрасной стране неизмеримо меньше вреда, чем дезертирство опытных моряков, спутников Лаперуза и д'Эстенга, этих славных противников англичан в американских войнах, которые покинули палубы своих кораблей, чтобы ползать перед прусскими генералами и подставлять головы под пули и сабельные удары солдат национальной гвардии.
Добровольцы-роялисты были плохо экипированы, плохо вооружены, скудно снабжены всем необходимым. Их ружья немецкого происхождения отличались громадной тяжестью. У многих аристократов только и были, что их охотничьи ружья. Состав этой армии, разбившейся на отдельные отряды, делал ее похожей на табор взбунтовавшихся цыган. Там можно было встретить людей всех возрастов. Старые аристократы, разбитые, согбенные, с волочащейся ногой, шли рядом с чахлыми юношами. Там можно было встретить целые семьи, от дедушки до внука включительно. Все это имело трогательный и фантастический вид.
К тому же армия принца Кондэ страдала недостатком в артиллерии, и, несмотря на личную храбрость, проявленную этими импровизированными солдатами, их заступничество за идею роялизма не представило собой мало-мальски значительной величины. Пруссаки и австрийцы не упускали, разумеется, случая неоднократно дать понять этим господам, что они бесполезны и только стесняют свободу передвижения.
Барон Левендаль с обычной насмешливой улыбкой выслушивал признания, похвальбу и перебранки добровольцев. Так как он недавно прибыл из Парижа, то его забросали вопросами о положении дел в столице и о том, какие шансы имеются на торжественное восстановление короля на престоле.
Барон отвечал очень уклончиво, говоря, что, по его мнению, все еще может наладиться, но тем не менее приходится считаться с сильным возбуждением в народе и рвением, с которым патриоты принялись записываться в солдаты с тех пор, как отечество было объявлено в опасности.
Роялисты с высокомерным смехом встречали ответы барона, а он со своей стороны, настойчиво интересовался, когда же командующий войсками примет его, так как ему хотелось поскорее выполнить свою миссию.
Продолжая рассказывать возбужденной аудитории обо всем, что он знал относительно готовности нации оказать сопротивление, о всеобщем восстании, о решимости умереть, барон, искоса посматривая сквозь красноватые отблески бивуачных огней в сторону Вердена, старался рассмотреть что-то на укреплениях около ворот святого Виктора. Казалось, он ждал какого-то сигнала, которого все не было и не было. По временам он доставал часы, с беспокойством смотрел на них, рассеянно слушая болтовню роялистов, и снова поглядывал все на тот же кусочек темного неба.
— Что же мешкает этот негодяй Леонард? — бормотал он про себя. — Неужели он изменил мне? Неужели в последнюю минуту у него не хватило храбрости? О, я жестоко отомщу ему. Я сошлю его на галеры, как сказал, если он обманул меня!
И, не притворяясь более внимательным к разговорам добровольцев, уступая непреодолимой сонливости, барон закрыл глаза и приготовился завернуться в плащ, чтобы улечься около красноватой золы бивуачных огней, но вскоре ему пришли сказать, что генерал Клерфэ готов принять его и ждет немедленно в своей палатке.
Барон с неудовольствием встал и последовал за вестовым, который должен был проводить его; при этом Левендаль не упустил случая в последний раз бросить беспокойный взгляд на дома Вердена, видневшиеся над укреплением в верхней части города. Погруженные в тень и покой, эти строения казались равнодушными к обстрелу, продолжавшемуся с другой стороны города, хотя теперь и значительно ослабевшему; пруссаки отвечали очень умеренно на орудийный огонь осажденных, а те, предвидя осаду, которая могла затянуться, берегли боевые припасы.
В палатке командующего войсками барон встретил флигель-адъютанта, бывшего в ратуше. Он внутренне скорчил гримасу, но вежливо поклонился графу Нейппергу. Последний холодно ответил ему тем же.
Переговоры были очень короткими. Австрийский генерал осведомился о боеспособности города, а когда барон заявил ему, что город снабжен всем необходимым и может продержаться очень долго, то генерал ответил немым жестом, полуоткрыв полотно палатки, словно показывая, как сверкают снаряды, разрываясь над вражескими укреплениями.
Барон машинально проследил за движением руки генерала и вдруг, как он ни владел собой, не мог сдержаться, чтобы не издать короткого возгласа, в котором слышались торжество и удовлетворение: он заметил в северной части города пылающее зарево. Пламенные вихри кружились среди облаков дыма в том квартале Вердена, который до сих пор казался пощаженным огнем осаждающих.
— Что с вами? — спросил командующий войсками, удивленный выражением необыкновенного волнения на лице барона.
— Ничего, генерал, абсолютно ничего… просто усталость, волнение да, кроме того, радость при мысли, что завтра ужасы обстрела и осады уже не будут грозить этому прекрасному городу. Вот чем объясняется мое восклицание при виде снарядов и раскаленных ядер, бороздящих небо! — ответил Левендаль, стараясь казаться спокойным.
— Значит, вы думаете, что завтра город откроет ворота? — спросил Клерфэ.
— Я уверен в этом, генерал… еще сегодня утром мне принесут подписанную капитуляцию.
— Почему же вы не принесли ее сами? Почему мой флигель-адъютант, граф Нейпперг, вот этот самый, уполномоченный мной и герцогом Брауншвейгским принять капитуляцию, был отослан вами обратно?
— Я не был уверен, что завтра город будет расположен сдаться.
— Вот как? В чем же было препятствие?
— Вчера в зал, где мы совещались, неожиданно вошел человек, совершенно неистовый, прямо атаман шайки разбойников, полковник Борепэр, который мог перевернуть вверх дном все наши проекты и разрушить все надежды.
— Этот полковник — храбрый солдат и достойный противник! — сказал граф Нейпперг генералу Клерфэ.
— Вы видели его? — с интересом спросил генерал.
— Я видел его, слышал, как он говорил, вы же можете видеть, как он действует, так как именно он так быстро привел Верден в оборонительное состояние. До тех пор пока Борепэр не сложит оружия, я не соглашусь с этим господином: Верден не капитулирует!
И Нейпперг с презрением поглядел на барона.
— Что вы скажете на это? — заметил Клерфэ барону. — Вы обещаете мне, что завтра утром ворота города будут открыты… а мой флигель-адъютант, который был там на месте и лично убедился в энергии защитников Вердена, говорит, что город не так-то легко сдастся. Ну, отвечайте!
— Простите, — сказал барон масляным голосом, — я и не собираюсь противоречить вашему флигель-адъютанту. Я уже указывал вам на препятствие. И я тоже разделял ваши опасения и недоверие, и я не был уверен, что Верден капитулирует.
— А теперь вы считаете капитуляцию возможной?
— Безусловно.
— Но… Борепэр…
— Борепер умер.
— Умер? Откуда вы знаете это? Кто сказал вам?
Барон поклонился и с еще более, чем всегда, заискивающей улыбкой ответил:
— Ваше превосходительство, разрешите мне подождать официального подтверждения новости, вестником которой я являюсь! Человек, который должен доставить капитуляцию, подписанную муниципалитетом, расскажет вам о кончине полковника Борепэра, хотя лично для меня в этом нет ни малейших сомнений.
— Хорошо, мы подождем! — холодно произнес Клерфэ, делая рукой знак, означавший, что аудиенция кончена.
Когда Левендаль ушел, граф Нейпперг сказал австрийскому генералу:
— Каким образом этот подозрительный субъект с видом шпиона под маской добродушия и улыбки может знать, что Борепэра нет больше в живых? Ведь он был жив еще каких-нибудь два часа тому назад, когда я уходил из Вердена! Неужели его убили там?
Клерфэ с удивлением поглядел на своего флигель-адъютанта и сказал:
— Мы, солдаты, сражаемся честно и открыто, но эти торгаши, протягивающие к нам руки и готовые открыть ворота города, способны на большие подлости! На кухне славы попадается много сора и всяких не особенно-то чистых отбросов. Приглашенные на пиршество не должны много расспрашивать о том, как и из чего приготовлены подаваемые им блюда, так как иначе ни у кого не будет аппетита и никто даже и не попробует славы! Закончим нашу почту, дорогой мой, потому что уже близится утро, и если этот барон сказал правду, то нам предстоит в этот день сделать немало. Надо занять город, расставить посты, сменить власти, не считая еще и смотра войскам, который должны учинить их величества среди подразделений и в сопровождении криков радости обывателей! Так за дело, и будем поступать, как будто барон Левендаль солгал. Пошлем-ка им еще несколько энергичных вестников, потому что этот Борепэр и в самом деле кажется мне опасным противником! — И в то время как Нейпперг присел за маленький столик генерала, собираясь писать под его диктовку, Клерфэ, откинув полог палатки, крикнул одному из артиллерийских офицеров, дежуривших около батареи: — Полковник! Усильте артиллерийский огонь, пока на укреплениях Вердена не взовьется парламентарский флаг!
XIII
Леонард, расставаясь в большом смущении со своим хозяином, который, как мы видели, отличался в тот день особенной строптивостью и страстью к воспоминаниям прошлого, направился к воротам де-Франс.
В этой стороне пушки громыхали без отдыха. Правда, Леонард не был особенным любителем музыки пушек, но он получил точный приказ и должен был выполнить его. Там, где шло сражение, он надеялся найти того, кого искал, кого получил приказание разыскать, а именно: полковника Борепэра.
Прежде чем добраться до городских ворот, где по реверсам ложементов виднелось много офицеров, среди которых, наверное, находился и тот, кого ему было поручено разыскать, Леонард замешался в толпу любопытных, окруживших тележку, перед которой стоял стол, заставленный бутылками, стаканами, кусками хлеба, кровяной колбасой и сосисками. Это была лавочка маркитантки 13 полка.
За столом, освещаемым двумя коптящими факелами, Екатерина Лефевр, проворная, веселая и грубоватая, занималась отпуском еды и питья, с трудом успевая удовлетворять настойчивые требования артиллеристов и пехотинцев, забежавших между двумя выстрелами выпить рюмочку-другую за освобождение Вердена от врага. Время от времени Екатерина переставала наливать вино и резать ломти кровяной колбасы, чтобы кинуть взгляд на тележку. Там, в маленькой постельке, спал безмятежным детским сном маленький Анрио.
— Пушки только убаюкивают его! — говорила успокоенная Екатерина и снова возвращалась к прерванному занятию, не упуская случая лишний раз ругнуть пруссаков.
С самого начала сражения, когда, видя приближающихся врагов, Борепэр носился, как ветер, успевая побывать везде, показываясь на батареях, расставляя стрелков, заставляя втаскивать гаубицы и фашины на укрепления, защищающие ворота де-Франс, Екатерина, бросив на волю судьбы свою палатку, взобралась на ретраншементы. Там, словно богиня войны, одергивая трусов, ободряя храбрых, подбирая первых раненых, по временам хватаясь за ружье и стреляя из него в австрийских солдат, подобравшихся к самым амбразурам, она энергично помогала подавлению паники и достойному отпору врагу, пораженному таким приемом.
Борепэр заметил это и поздравил ее.
Затем, когда враг отступил, отказываясь взять приступом город, находившийся настолько начеку, Екатерина вернулась к своей лавочке, которую одолевали клиенты. Во время первого боя она успела повидать Лефевра, который рассыпал своих стрелков по парапету и метким ружейным огнем поражал из бойниц австрийских разведчиков. Успокоенная и счастливая, так как это было для нее боевым крещением, Екатерина снова взялась за свои маркитантские обязанности и занималась ими с неизменно веселым расположением духа ко всеобщему удовольствию.
Наливая водку двум артиллеристам, она заметила, как какой-то стоявший несколько в стороне штатский наблюдал за пьющими.
— Эй, дружок! — без всякого стеснения крикнула она ему. — Что же ты не подойдешь промочить глотку добрым глотком? Хоть ты и в штатском, но это ничего не значит. Завтра ты можешь, как и другие, очутиться под ружьем. Ну, иди же! Можешь выпить вместе с защитниками родины! Ведь все мы братья! — Так как незнакомец не ответит на этот призыв и сделал движение, намереваясь удалиться, то она еще раз окликнула его: — Слушай-ка, дружок, не уходи так-то! Да иди же, говорю тебе, иди! У тебя, может быть, нет денег на выпивку? Так что за беда. Сегодня я всех угощаю, а завтра ты заплатишь в свою очередь. Ну, чем тебе услужить, гражданин?
Тот сухо ответил:
— Спасибо, я не пью.
— Ты не чувствуешь жажды… и не сражаешься? Так что же тебе нужно здесь?
Незнакомец, колеблясь, глухо ответил:
— Я — хотел бы поговорить… с полковником Борепэром. Екатерина удивленно посмотрела на него:
— Ты? Говорить с полковником? Да чтэ тебе от него нужно?
— Я имею к нему важное дело.
Екатерина пожала плечами:
— Однако ты выбрал хороший момент!
— Выбираешь момент, какой можешь.
— Возможно! Но в настоящий момент полковника как раз нельзя видеть.
Незнакомец потер лоб и пробормотал:
— Мне непременно надо разыскать его.
Екатерина недоверчиво посмотрела на своего собеседника. Такая настойчивость показалась ей подозрительной, и она решила предупредить мужа.
Она обратилась к одному из солдат с просьбой немедленно разыскать Лефевра, как вдруг появился денщик Борепэра. Взволнованный шумом сражения, с языком, развязанным обильной выпивкой, предложенной ему одним из членов магистрата, долго расспрашивавшим его о полковнике, денщик принялся болтать и, не обращая внимания на многозначительное подмигивание Екатерины, рассказал, что Борепэр отправился отдохнуть к одной из своих родственниц, дом которой находится в верхнем городе, куда он должен будет к четырем часам утра привести лошадь и разбудить полковника.
Наконец терпение Екатерины истощилось, и она крикнула денщику:
— Ты болтаешь как трещотка! Убирайся спать! Это тебе не помешает — иначе ты не будешь в силах разбудить полковника в четыре часа, как он приказал тебе. Ну, живо, проваливай! Пол-оборота налево! Кру-гом! Марш! Или я скажу лейтенанту Лефевру… а он не шутит с пьяницами и болтунами!
— Ладно, ладно! Молчу… и иду! — буркнул денщик и, пошатываясь, ушел прочь.
Екатерина снова стала подавать солдатам требуемое. Она машинально поглядела туда, где стоял человек, непременно желавший поговорить с Борепэром, но тот исчез.
Екатерине показалось, что он направился с денщиком в кабачок, гостеприимно раскрывший свои двери зевакам, решившим понаблюдать из безопасного места за защитой города. У нее мелькнула мысль, что этот человек принадлежит к заговорщикам, что Борепэру грозит какая-то опасность. Она хотела последовать за незнакомцем, но в такой момент и думать было нечего бросить лавочку.
Защитники Вердена, всю ночь занимавшиеся втаскиванием пушек на валы, рытьем ретраншементов, укреплением фашин под беспрерывным артиллерийским огнем, имели право найти лавочку открытой. Екатерина дрожала от нетерпения; она пыталась уверить себя, что все ее волнение совершенно необоснованно и Борепэру со стороны незнакомца не грозит ни малейшей опасности. Но, несмотря на это, ей невольно вспоминался Левендаль. У этого барона был вид предателя. Кто мог угадать, на что он был способен против деятельного защитника Вердена.
В конце концов Екатерина больше не могла выдержать, и когда жаждущих стало значительно меньше, резко заявила, что нуждается в отдыхе; после этого она прямо-таки прогнала запоздавших солдат, заявив, что им не худо было бы для развлечения прогуляться на укрепления, где не хватает рабочих рук для втаскивания пушек.
XIV
Прибрав все в своей лавочке и тихонько поцеловав маленького Анрио, дремавшего в сладком сне, Екатерина бросилась к мрачным улицам верхнего города.
Подозрение одолевало ее. Там, в доме госпожи Блекур, куда полковник приказал отвезти племянницу, какая-то опасность грозила Борепэру. Екатерина подозревала западню, предчувствовала предательство…
В момент, когда она подходила к дому Блекура, она услыхала звук выстрела. В городе, который обстреливают, такой шум не мог бы никого удивить; но этот выстрел раздался в уединенном квартале, мирном, далеком от укреплений, где все казалось спящим. Это испугало Екатерину, и она заподозрила несчастье, преступление.
На углу переулка она разглядела силуэт бегущего человека, и ей показалось, будто она узнала в нем того странного субъекта, поведение которого вызвало ее подозрения около лавочки. На всякий случай она крикнула ему:
— Эй, кто там? Куда бежишь? Кто это стрелял здесь сейчас?
Но неизвестный удвоил скорость и ничего не ответил; сделав резкий поворот, он исчез во тьме.
Екатерина мгновение поколебалась, не побежать ли ей следом за незнакомцем? Но она подумала, что человек, быстро бегущий ночью в осажденном городе, может и не быть непременно преступником. Да и потом, какое отношение мог иметь этот неизвестный к Борепэру? Ведь не тут грозила Борепэру опасность, если ему вообще что-нибудь грозило! Прежде всего следовало узнать в доме Блекур, в безопасности ли полковник.
Поэтому Екатерина прямиком направилась к дому, где Эрминия Борепэр, должно быть, спала около маленькой Алисы и где разбитый усталостью полковник Борепэр бросился на кровать в ожидании, когда его разбудят, чтобы вернуться снова в бой.
Екатерина уже собралась взяться за молоток и постучать во входную дверь, как вдруг из дома послышались крики и возгласы отчаяния. Окна распахнулись и оттуда выглядывали перепуганные люди, звавшие на помощь. На балконе показалась старушка Блекур, которая была в полном отчаянии.
В тот же момент на фасаде противоположного дома мрачно заиграли красные отсветы огня, из открытых окон вырвались клубы густого дыма, а по крыше забегали длинные языки пламени.
— Пожар! Пожар! — закричала Екатерина. — А тут еще дверь не открывается!
Слуги, растерявшись, бегали взад и вперед по лестнице, кричали, звали, требовали друг у друга ключ. Наконец дверь распахнулась, и все они выбежали на улицу. Прибежал кое-кто из соседей, разбуженных поднявшимся шумом.
Но Екатерина уже смело бросилась в объятый пламенем дом. Ее привлекала опасность, да и она говорила себе, что там люди, которых нужно спасти.
Екатерина бежала сквозь дым, озираясь по сторонам при смутном свете пожарища.
Вдруг она увидала комнату на первом этаже, где была открыта дверь, бурно ворвалась туда и принялась кричать:
— Есть здесь кто-нибудь? Спасайтесь скорее!
Дым не давал ей подойти ближе, никто не ответил ей.
Вдруг взметнувшийся кверху огненный язык осветил комнату, и Екатерина вскрикнула от ужаса. Она заметила, что на постели лежит Борепэр, который казался спящим; недвижимый, он не обращал внимания на все возраставший шум. Тогда Екатерина бросилась к нему и крикнула:
— Полковник, живо, проснитесь! Скорей вставайте! Пожар!
Полковник не шевелился. В комнате опять стало темно. Дым крутился вихрем, все сгущаясь.
Екатерина направилась к кровати, ощупью двигаясь вперед. Она хотела в этой дымной тьме найти Борепэра, хотела растолкать его, думая, уж не в обмороке ли он? Она тронула рукой неподвижное тело, прислушалась… От кровати не доносилось ни малейшего звука дыхания.
«Какой странный, глубокий сон!» — подумала отважная женщина, и отчаяние стало смущать ее мужественную душу. Затем, подвинувшись еще ближе, она приложила ухо к груди полковника и пробормотала в смертельном испуге:
— Его сердце не бьется!
Зловещее молчание царило в комнате.
Екатерина положила руку на лоб полковника и почувствовала что-то густое и липкое на пальцах. Она в испуге отскочила и почувствовала головокружение; общая слабость охватила ее, к горлу подступала тошнота… Полковник был мертв…
Екатерина собрала всю свою энергию.
«А! Окно!» — сказала она себе, удивленная, что этт мысль до сих пор не пришла ей в голову, тотчас бросилась к окну и резким движением распахнула его.
Это было сделано более чем вовремя. Екатерина уже задыхалась, ее мысли путались.
Отражение пожарища от противоположного дома осветило кровать, на которой лежал Борепэр. Полковник казался спящим, неподвижный, окоченевший; его лицо было багровым, подушка залита кровью; отверстие в виске, откуда струился ручеек крови, показывало, каким сном спал герой-полковник.
— Ах, негодяи, они убили его! — крикнула Екатерина, бросаясь из комнаты.
Она испустила отчаянный крик, которого никто не услыхал в этом всеобщем смятении и который затерялся в грохоте пожара.
Стараясь сориентироваться на лестнице, где сыпался град обломков, оштукатуренных досок, известки, кусков облицовки, наполовину обгорелой, рушившихся среди потока искр и густых клубов черного дыма, она вдруг услыхала нежный голос, жалобно напевавший колыбельную песенку:
«Баю-бай, баю-бай, Моя детка будет пай!»Изумленная, Екатерина старалась определить, откуда раздается это неожиданное пение. Что за слепая и глухая кормилица могла спокойно укачивать ребенка пением этой мирной песенки посреди полной отчаяния и ужаса ночи?
Голос доносился с верхнего этажа.
Екатерина решительно кинулась по лестнице, не обращая внимания на пламя, которое могло перекинуться на деревянные ступеньки и отрезать ей путь к отступлению. Пробравшись сквозь дым, она поспешно толкнула дверь комнаты, из которой доносился заунывный голос, продолжавший монотонно повторять припев колыбельной, и увидала там Эрминию Борепэр. Та, опустив книзу помутившиеся глаза, сидела на краю кровати и держала на коленях маленькую Алису, спавшую глубоким сном.
— Скорей! Скорей, мадам! — крикнула Екатерина. — Пожар!
Но Эрминия продолжала напевать и укачивать маленькую Алису.
От криков Екатерины ребенок проснулся.
— Нельзя терять ни одной минуты! Скорей! Скорей! Вниз! — повелительно крикнула Екатерина и взяла за руку ребенка, дрожавшего от ужаса.
Эрминия встала и с важным реверансом сказала:
— Здравствуйте, мадам! Разве вы не знаете? Я собираюсь выходить замуж. Ведь вы придете на мою свадьбу, не правда ли? О, вы увидите, какой красивой я буду!
— Несчастная помешалась! О, бедная женщина! — сказала Екатерина. — Но теперь не время сентиментальничать. Идем! Вы должны последовать за мной! — обратилась она к Эрминии, придавая своему голосу суровый, повелительный тон.
Сумасшедшая поднялась и пошла с неподвижным взглядом, с повисшими руками, не сгибаясь, словно сделанная из одного куска, как автомат.
Екатерина, волоча за собой маленькую Алису, поторопилась спуститься. Обернувшись, она посмотрела, следует ли за ней Эрминия. Та продолжала идти размеренным, автоматическим шагом, но, проходя мимо комнаты, где лежал Борепэр, вдруг вытянула руки и пронзительно закричала:
— Там… там… человек… с пистолетом к виску… о, он убьет и меня тоже!
После этого Эрминия без чувств рухнула на пол.
Екатерина решила, что ей немыслимо будет тащить за собой и сумасшедшую. Приходилось торопиться изо всех сил. Она быстро спустилась с лестницы первого этажа, продолжая тащить за собой Алису, и наконец выскочила на улицу. Она была спасена вместе с ребенком.
Солдаты, сбежавшиеся на пожар, возникновение которого приписали прусским ядрам, качали образовывать цепь. Екатерина поручила им ребенка и, узнав в них люден из отряда Лефевра, попросила их войти в дом и попытаться вынести из пламени еще живую Эрминию и труп полковника Борепэра. Сейчас же трое или четверо солдат добровольно бросились в огонь. Через несколько минут вынесли труп Борепэра, а два солдата держали за руку сумасшедшую, которая кричала:
— Пустите меня! Я должна идти одеваться. Неужели вы не знаете? Ведь сегодня моя свадьба! О, поглядите только на всех этих людей! Зажгли уже венчальные свечи. Ах, как прекрасна церковь, убранная для свадьбы!
И, говоря это, Эрминия показывала застывшим от ужаса слушателям на пламя, лизавшее стены, уже почерневшие от дыма.
Госпожа де Блекур сломала ногу, прыгнув с балкона на улицу, и умерла через несколько дней после этого. Тогда Эрминию, так и не пришедшую в себя, взял один из родственников, который предложил заботиться о ней.
Тело Борепэра было перенесено в ратушу. Там синдик заявил, что полковник сам лишил себя жизни, чтобы не подписывать капитуляцию Вердена. «Это решение, — сказал он, — было вслух высказано им еще накануне, когда обсуждались условия, на которых можно будет сдать город».
Это подтвердило много свидетелей, и весть о геройской смерти полковника, не желавшего живым присутствовать при сдаче города, который он обязался защищать, распространенная предателями, убившими его, была принята патриотами за чистую монету. Поэтому похороны героя-Борепэра сопровождались величайшими почестями, а конвент назвал кончину Борепэра достойной подражания и достославной.
Негодяи, содействовавшие убийству полковника, совершенному Леонардом, открыли на следующий день ворота города австрийской и прусской армиям на условиях капитуляции.
Прусскому королю была устроена торжественная встреча в Вердене. Все богатые буржуа приветствовали его радостными возгласами. Президент Терно устроил в честь короля торжественный банкет в здании ратуши, а за десертом синдик Госсен сравнил короля с Александром Македонским, овладевшим Вавилоном. Юные дочери роялистов, подвергшиеся позднее экзекуции и воспетые роялистскими поэтами в качестве мучениц, обрызгали грязью самоотверженность защитников Вердена; они, одевшись в белые одежды, со знаменем их братства во главе, преподнесли венок прусскому королю, победителю без сражения, ставшему хозяином города благодаря предательству.
Теперь вражеские войска перешли через границу, дорога на Париж была открыта и армиям австрийцев и пруссаков только и оставалось, что двинуться на столицу, чтобы подвергнуть ее достойному наказанию, согласно обещаниям герцога Брауншвейгского. Никакие крепости, никакая армия, никакое сопротивление не могли, как думали роялисты, остановить победоносное шествие союзников. Они не могли предвидеть победу французов у Вальми, которая послужила поводом к отступлению союзников из пределов Франции, тем самым способствуя торжеству революции.
Гарнизон Вердена, согласно условиям капитуляции, мог уйти с оружием и провиантом.
Лефевр, произведенный в капитаны, был направлен вместе с тринадцатым полком в северную армию.
Екатерина Лефевр увезла с собой маленькую Алису, которая стала сиротой из-за сумасшествия матери. Она посадила девочку в тележку рядом с маленьким Анрио, который был в восхищении, что встретил свою верденскую подругу.
Войска пустились в путь с болью в глазах и надеждой в сердце на реванш, поклявшись снова овладеть очищенным городом и выгнать оттуда штыками пруссаков и австрийцев, которым не всегда же придется иметь дело только с верденскими предателями…
XV
Что же делал Бонапарт в то время, когда на востоке происходили все описанные события, а Дюмурье и Келлерман, остановив при Вальми вторжение неприятеля, спасали Францию и республику, вынуждая австрийцев и пруссаков отступить в Бельгию?
Он испытывал большие затруднения вместе с семьей, бежавшей в Марсель и лишенной всяких средств к существованию. После долгих скитаний из дома в дом в дешевых кварталах, безжалостно выгоняемая отовсюду несговорчивыми домохозяевами, Летиция Бонапарт, обладавшая мужественной энергичной душой, нашла довольно приличное помещение в римском предместье. Дом принадлежал богатому торговцу мылом по имени Кларн, который сразу стал проявлять к изгнанникам большое внимание.
Жизнь семьи Бонапарт протекала в благородном и честном труде. Поднявшись с зарей, мадам Бонапарт принималась за хозяйство — мела, мыла, готовила скромный завтрак и распределяла между дочерьми работу, одна отправлялась за провизией, другая чинила белье и платье для всей семьи, и только младшей разрешалось проводить время в детских играх. Днем мать и старшие дочери усердно работали иголкой, что помогало им пополнять их скудные средства. Жозеф получил место военного комиссара в продовольственном отделе, но его жалованья едва хватало на его собственные нужды.
В качестве корсиканских изгнанников, пострадавших за свою преданность Франции, семья Бонапарта получала от городского управления солдатский хлебный паек. Бонапарт же, вновь лишившийся жалованья, не мог ничем помогать семье. Очутившись лицом к лицу с грозным призраком нищеты, он упал духом, и в его расстроенном мозгу возникла мысль о самоубийстве.
Однажды, отдав последнее су какому-то бедняку, Наполеон поднялся на возвышавшийся над морем утес и погрузился в глубокую думу. Сверкающая зеленая поверхность моря притягивала его. Бесполезный для своей страны, обескураженный, чувствуя бессилие своего гения, потеряв всякую веру в себя, не видя более на темном небе своей путеводной звезды, удрученный чувством одиночества и не будучи в силах примириться с мыслью, что он в тягость матери, вместо того чтобы быть поддержкой ей, он не сводил мрачного взора с поверхности моря, тихо плескавшегося у едва выступавшей из воды скалы. Если бы он бросился отсюда вниз, то непременно разбил бы себе голову. Освободившись сам от жизни, освободил бы своих родных от лишнего рта, предоставив в их пользу весь хлеб, выдаваемый общественной благотворительностью. Предаваясь самым мрачным размышлениям, Наполеон упрекал себя в нерешительности и старался уверить себя, что на земле для него нет более никаких надежд; а темная бездна внизу продолжала приковывать к себе его холодные глаза. Долго просидел он так на границе небытия.
Вдали показалась лодка, направлявшаяся, по-видимому, к берегу; вид ее вывел Наполеона из оцепенения.
— Надо с этим покончить! — резко произнес он.
Он уже измерял расстояние, отделявшее его от водной поверхности, когда вдруг услышал, что его зовут, и оглянулся. К нему, с широко раскрытыми объятиями бежал какой-то человек в костюме рыбака. Рассерженный тем, что ему помешали исполнить принятое решение, Наполеон уже готовился спуститься с утеса и поискать более уединенное место, когда рыбак закричал:
— Это ты, Наполеон? Какого черта ты тут делаешь? Разве ты не узнаешь меня? Помнишь Дэмазиса, старого товарища-артиллериста из лафетного полка? Или ты забыл, какие славные вечера мы проводили в Валенсе?
Бонапарт признал, наконец, своего старого товарища, и они крепко обнялись.
Дэмазис рассказал, что при первых взрывах революции он эмигрировал в Италию, где и жил спокойно на берегу моря, в окрестностях Савоне. Узнав, что его старушка мать, жившая в Марселе, опасно заболела, он снарядил на свой счет (так как был очень богат) большую неаполитанскую лодку и добрался до марсельского порта, где его рыбачий костюм не привлек ничьего внимания. Успокоившись относительно здоровья матери, которая после его приезда стала быстро поправляться, он собрался в обратный путь. Из предосторожности он приказал своим матросам встретить его не в гавани, а где-нибудь в удобном месте на берегу и теперь ожидал здесь свою лодку.
— А ты что делал в таком уединенном месте? — с любопытством спросил Дэмазис.
Пробормотав какое-то неопределенное объяснение, Бонапарт снова погрузился в мрачное раздумье и, не отрываясь, глядел на зеленые волны, покрывавшие серебристой пеной черную вершину подводной скалы.
— Да что с тобой? — воскликнул в волнении добродушный Дэмазис. — Ты совсем не слушаешь меня? Разве ты не рад видеть меня? Какое у тебя горе? Тебе грозит какое-нибудь несчастье? Да говори же! Право, ты похож на безумца, который собирается покончить с собой!
Невольно подчиняясь его ласковым увещеваниям, Бонапарт рассказал товарищу о своем положении и признался, что готов был лишить себя жизни.
— Как! Только-то и всего? — сказал Дэмазис. — Ну, я, значит, подоспел как раз вовремя! Слушай, — продолжал он, развязывая пояс, — вот здесь у меня десять тысяч франков золотом. В настоящую минуту они мне не нужны. Ты возвратишь их мне, когда сможешь. Бери их и иди спасать своих. — И он протянул ошеломленному Бонапарту десять тысяч франков, целое состояние для бедного офицера, не получающего жалованья; потом, избегая благодарности и не давая товарищу времени одуматься и отказаться от предложенных денег, он быстро удалился со словами: — До свидания! Моя лодка пристала, и матросы ждут меня. Желаю успеха, Наполеон!
Быстро спустившись по той самой тропинке, по которой только что поднялся, чтобы так кстати прийти на помощь несчастному товарищу, великодушный Дэмазис вскочил в лодку, приказал поднять паруса и быстро вышел в море. Ошеломленный Бонапарт ни слова не сказал своему спасителю; как зачарованный, смотрел он на свалившееся ему с неба золото, потом вдруг бросился бежать к городу, влетел как ураган в бедную комнату, где его мать с дочерьми сидела за шитьем, и, высыпая на стол золотые монеты, закричал:
— Матушка, мы богаты! Сестры, вы можете обедать каждый день и купить себе по новому платью. Вот что значит судьба!
Он радостно пересыпал золотые монеты, прислушиваясь к их звону, когда они падали на пол.
Впоследствии Наполеон через полицию разыскал своего благодетеля. Дэмазис занимался садоводством в скромной провансальской деревушке — разводил фиалки и, казалось, забыл о товарище, которого так кстати выручил из беды. Наполеон с трудом убедил его принять триста тысяч франков в уплату долга, предоставив ему, кроме того, место заведующего казенными садами.
Десять тысяч франков, предложенные старым полковым товарищем, не только спасли Бонапарта от нищеты, а его семью от голода, но еще помогли Жозефу сделать богатую партию, так как дали ему возможность решить повседневные проблемы.
У Клари были две прелестные дочери — Жюли и Дезирэ. Жозеф начал ухаживать за Жюли и вскоре женился на ней.
Бонапарт, по-прежнему поглощенный матримониальными проектами и завидовавший счастью Жозефа, обратил внимание на Дезирэ и несколько раз пытался просить ее руки, но ему было решительно отказано, вежливо, мягко, но все-таки отказано.
Триумфам будущего победителя предшествовали два поражения, оба нанесенные женщинами: подобно госпоже Пермон, Дезире также не прельстилась его невзрачной наружностью и сомнительным будущим.
Наполеон долго не мог простить Дезирэ ее отказ. Упорство, с каким он ухаживал за ней, только усиливало его раздражение.
Желание блестящим образом отомстить глупенькой девушке, осмелившейся отказать тому, кому впоследствии было предоставлено выбирать в изящной среде принцесс и эрцгерцогинь, в значительной степени содействовало его браку с вдовой Богарнэ — будущей императрицей Жозефиной. Но на долю Дезирэ Клари выпала все-таки блестящая, хотя и не такая ослепительная судьба. Она вышла замуж за Бернадотта, и мы встретимся с ней как с королевой Швеции.
Таково было положение Бонапарта в то время, когда Лефевр и его жена, следуя за батальонами северной армии, направлялись к заслужившей впоследствии бессмертную славу деревне Жемап.
XVI
Робеспьер сказал: «Война бессмысленна. — Но прибавил: — А все-таки надо воевать!» Таков был республиканский символ веры.
Война была нелепа, потому что не было ни солдат, ни генералов, ни оружия, ни боевых припасов, ни провианта, ни денег, то есть ни одного из тех условий, при которых народ может предпринять наступательную войну или сплотиться на собственной территории, чтобы воспрепятствовать неприятельскому вторжению.
Все генералы были роялисты и изменники; к числу их относились Дюмурье, Диллон, Кюстин, Баланс. Молодой герцог Шартрский (впоследствии Луи Филипп) пользовался благосклонностью главнокомандующего. Забегая мыслью далеко вперед, Дюмурье не без тайной цели предоставил королевскому принцу блестящую роль: молодой герцог должен был занять берега Мааса и остановить движение австрийцев на Валансьен и Лилль. Для него таким образом готовили лавровый венок, который мог превратиться в королевский венец.
Хотя в памятный день в Жемапе герцог Шартрский выказал необыкновенную храбрость, однако победа в центре была решена простым солдатом по имени Батист Ренар, находившимся на службе у Дюмурье; этот Ренар привел в порядок расстроенную бригаду молодого герцога, уже готовившуюся отступать.
В армии не существовало ни выучки, ни связи, ни дисциплины; это была просто толпа сражающихся, снаряженных черт знает как: одни были в блузах и деревенских кафтанах, у других вместо ружей были наскоро выкованные пики. В порыве энтузиазма эти люди схватились за то оружие, которое оказалось под рукой, и бросились на освобождение родной страны. Добровольцы шли с песнями, под звуки марсельезы, карманьолы и «са ира», но в этих героях было много веры, увлечения, доблестного порыва. При Вальми они живо справились со старыми иноземными войсками. При Жемапе пехота, наскоро собранная из добровольцев республики, под командой старых сержантов, как, например, Ош и Лефевр, заменивших перешедших к неприятелю благородных офицеров, стяжала себе славу, которую и сохраняла за собой в течение двадцати лет.
5 ноября 1792 года перед заходом солнца, склонявшегося к горизонту подобно кровавому знамени, республиканская армия появилась перед грозными позициями Джемаппа.
На высотах, окружающих город Монс, расположены три деревни: Кюэсм, Бертрэнон и Жемап. На этих-то позициях и укрепились австрийцы. Редуты, кучи валежника, палисады, четырнадцать небольших шанцев, многочисленная артиллерия; скрытые в лесу тирольские стрелки; кавалерия, сгруппированная в долинах между деревнями и ежеминутно готовая уничтожить всех французов, которые рискнули бы атаковать окрестные холмы, — такова была неприступная твердыня, которую предстояло взять первым борцам за свободу.
Главнокомандующим был имперский принц, герцог Саксен-Тешен, правитель Нидерландов, имевший помощником искусного генерала Клерфэ, умные советы которого, однако, никогда не принимались во внимание. Опасаясь галльского задора, Клерфэ предлагал, не ожидая приступа, с тремя колоннами напасть ночью врасплох на французов и рассеять их, прежде чем они составят план сражения. Такая неожиданность давала большое преимущество войскам, привычным к войне и хорошо дисциплинированным. К счастью для французов, герцог Саксен-Тешен считал ночную атаку делом постыдным, так как мечтал о громкой победе среди бела дня.
Воспользовавшись бездействием неприятеля, Дюмурье успел расположить свою армию полукругом: генерал Дарвиль командовал правым флангом, Бернонвиль — левым, который должен был двигаться к деревне Кдоэсм; герцог Шартрский, занимавший центр, должен был напасть на Жемап с фронта, а генерал Ферран — с левой стороны. Было приказано двигаться колоннами, побатальонно. Кавалерия должна была поддерживать фланги. Артиллерию разместили так, чтобы она могла свободно обстреливать долины между тремя холмами. Между Кюэсмом и Жемапом были стянуты гусары и драгуны, чтобы преградить путь австрийской кавалерии.
Когда приготовления с обеих сторон были окончены, всюду зажглись огни, и войска провели ночь, наблюдая друг за другом.
Тем временем вот что происходило в замке Левендаля, расположенном на окраине Джемаппского холма, между двумя армиями. От французов его отделяли ручей и небольшая роща, а гора, возвышавшаяся позади его башен, защищала его от огня австрийской артиллерии. В штабах обеих армий этот замок, находившийся на нейтральной территории, был намечен как передовой пост. Под его стенами французские отряды, посланные на рекогносцировку, встретились с австрийскими патрулями. Обменявшись несколькими ружейными выстрелами, оба отряда поспешили донести о результатах разведок. Австрийцы утверждали, что замок был во власти французов, а французы — что замком уже завладели австрийцы. В результате замок барона Левендаля оказался занят только своими постоянными обитателями.
За день до сражения барон Левендаль прибыл в замок, где, согласно условию, принял своего друга, маркиза де Лавелин и его дочь Бланш, приехавших по данному обещанию. Получив от Леонарда успокоительные известия о последствиях своей любовной интриги с Эрминией де Борепэр и сильнее чем когда-либо влюбленный в Бланш, барон спешил с приготовлениями к свадьбе. Со смертью Борепэра Эрминия не могла уже быть ему препятствием. Он навсегда отделался от ее упреков, жалоб и угроз. Маленькая Алиса, живое доказательство этой надоевшей ему связи, исчезла, и барон был совершенно свободен. Он достиг предела своих желаний: через несколько часов Бланш должна будет принадлежать ему.
На замечание маркиза де Лавелина, что ни время, ни место не подходят для свадебной церемонии, так как ежеминутно можно ожидать появления неприятеля (в глазах маркиза и его будущего зятя неприятелем были французские солдаты), барон ответил требованием, чтобы маркиз сдержал свое обещание, и грубо напомнил, что военные операции не мешают уплате долгов и что маркизу трудно будет уклониться от выполнения своих обязательств: ведь его поместья в Эльзасе, то есть под защитой императорских войск. Де Лавелин прекрасно понял угрозы барона и перестал ему возражать, сказав в заключение:
— Остается только убедить мою дочь. Не могу же я силой тащить ее к алтарю!
— Это уж ваше дело! — проворчал барон. — Образумьте эту упрямицу как умеете!
Он немедленно послал в Жемап за нотариусом, а своему священнику приказал приготовить все необходимое для брачной церемонии, которая была назначена в полночь, после чего молодые супруги должны были, пользуясь ночной темнотой, немедленно уехать в Брюссель вместе с маркизом де Лавелин.
Тотчас по приезде в замок Бланш заперлась в своей комнате и никого не принимала. Барон два раза пытался поговорить с нею, но она отказалась отворить ему двери. Она тревожно поджидала у окна кого-то, кто все не являлся, и напрасно всматривалась в пустынные окрестности. Она ждала Екатерину Лефевр.
С тревожно бьющимся сердцем, с пересохшим горлом и с нервной дрожью в руках воскрешала она в своей памяти обещания мужественной женщины. Вполне доверяя ей, Бланш говорила себе, что если Екатерина не пришла и не привела, как обещала, ребенка, то, очевидно, возникли неожиданные препятствия. Но что же могло задержать Екатерину Лефевр и заставить ее нарушить свое обещание? Бедная Бланш терялась в догадках.
О присутствии Екатерины в северной армии ей не было известно.
Она и не подозревала, что в нескольких милях от нее разведчики 13 полка обыскивали Кюэсмский лес; что, возвратившись с рекогносцировки, они сидели в лавочке Екатерины, рассказывая о своих смелых разведках под самыми стенами замка; что Екатерина подливала вино в их стаканы, а около нее вертелись Анрио и Алиса.
Екатерина без труда узнала, что Бланш находится в замке: один из крестьян, преданный делу свободы, рассказал, что накануне в замок приехал важный господин с дамой, и в этих знатных посетителях Екатерина угадала свою покровительницу. Она немедленно составила план действий: она пойдет в замок, увидится с Бланш и скажет ей, что ее ребенок, малютка Анрио, находится по соседству, под защитой штыков Лефевра; они вместе придумают, как безопаснее всего соединить мать с ребенком, облегчить им проход сквозь линию войск.
Приняв это решение, Екатерина заткнула за пояс пару пистолетов, с которыми не расставалась в дни сражений, вышла в сумерки из лагеря и направилась к замку Левендаль. Мужу она ничего не сказала, потому что он не одобрил бы ее поступка, страшась опасностей, которым она подвергалась, идя одна ночью по полям и лесам, между двух армий, ежеминутно готовых вступить в бой. Перед уходом Екатерина долго целовала Анрио, который уже улегся спать в той же повозке, где спала Алиса. «Спи, малютка, я иду за твоей матерью!» — прошептала Екатерина и отправилась в путь. Она смело двигалась вперед, не заботясь об австрийских разведчиках и боясь только, что ей, по возвращении домой, достанется от Лефевра.
Миновав небольшую рощицу и последний французский аванпост, она внезапно увидела высокого, худощавого человека, прятавшегося за деревом. Она вынула из-за пояса пистолет и, взведя курок, промолвила негромко, из боязни быть услышанной соседними часовыми: «Кто идет?» — и прицелилась, готовая стрелять.
— Без глупостей, мадам Лефевр. Я ваш друг, — ответил голос, показавшийся ей знакомым.
— Какой друг?
— Да… ла Виолетт, к вашим услугам.
— Ах, это ты, дурачок? Ты чуть не напугал меня! — сказала Екатерина, узнав помощника маркитанта, преданного, но простоватого парня, над которым в батальоне охотно подтрунивали; ла Виолетт далеко не слыл храбрецом и всегда был предметом насмешек.
Спрятав пистолет, Екатерина сама посмеялась над своим испугом.
— Иди же сюда! — сказала она. — Я ведь не страшная, черт побери! Чего ради ты, трусишка, бродишь здесь, за нашей линией?
Ла Виолетт застенчиво приблизился на несколько шагов.
— Я скажу вам. Я видел, как вы вышли из лагеря, и захотел идти за вами.
— Чтобы шпионить?
— Ах, нет! Я подумал, что там, куда вы идете, может быть опасно.
— Опасно? Да конечно, опасно, да тебе-то что до этого? Опасность и ты — понятия разные!
— Я уже давно стараюсь свыкнуться с опасностью. Вот я и подумал, что сегодня для этого удобный случай.
— Отчего же именно сегодня? — спросила Екатерина, удивленная его настойчивостью.
— Черт возьми! — смущенно пробормотал ла Виолетт, с трудом подыскивая слова. — Да оттого, что… вечером спокойнее… нечего бояться, что увидят.
— Ты не хотел, чтобы тебя увидели?
— Конечно нет! Если я испугаюсь ночью, никто не увидит этого, а днем мне было бы стыдно. Но мне почему-то кажется, что с вами мне не будет страшно.
— Разве ты хочешь идти со мной? — спросила Екатерина, все более изумляясь.
— О, не отказывайте мне в этом! Не прогоняйте меня! — стал умолять парень. — Я так вас люблю! Днем я никогда не решился бы сказать это в лавочке перед товарищами. А здесь такая темнота… я совсем расхрабрился… я сам себя не узнаю!
Слушая его объяснения, Екатерина продолжала идти дальше. Она только что собралась полунасмешливо, полусердито ответить этому влюбленному чудаку, как вдруг в темноте прозвучали два выстрела.
— Стой! — крикнула Екатерина своему спутнику, бросившемуся вперед. — Куда ты? Берегись! — крикнула она громче.
Но ла Виолетт продолжал бежать. За спиной у него болтался какой-то круглый предмет, который можно было принять за подвижный горб.
Екатерина видела, как он исчез в кустах хмеля, из которых раздались выстрелы.
Опасаясь засады, она остановилась на опушке. Был слышен треск ломающихся сухих веток, шум борьбы, шепот, потом далеко на равнине она увидела неясные очертания человеческой фигуры, бежавшей по направлению к Жемапскому лесу.
«Он совсем не туда бежит! Он наткнется на австрийские аванпосты и его заберут в плен, — думала она, предполагая, что это бежал ла Виолетт, а потом прибавила ср вздохом: — Жаль его! Славный был малый, хоть и трус! Трудно будет заменить его в лавочке!»
Она решилась продолжать путь, обогнуть рощу и направиться прямо к службам замка, уже видневшегося вдали, когда из кустов внезапно вылез ла Виолетт. В руке у него была обнаженная сабля, которую он обтирал листьями.
— Это ты? — воскликнула пораженная Екатерина. — Откуда ты взялся? Что ты сделал?
— Я помешал австрийцу снова зарядить ружье, как он собирался сделать, — спокойно ответил ла Виолетт, вкладывая саблю в ножны.
— Где же он? — спросила Екатерина.
— Там… в кустах!
— Мертвый?
— Думаю, что мертвый. Второму посчастливилось, что он имел дело с таким трусом, как я. А то уж я его догнал бы. Ведь я шибко бегаю! Мне только вот эта штука мешала, — прибавил он, указывая на круглый предмет за спиной.
— Это еще что такое?
— Это барабан. Я… занял его у немца.
— Для чего же?
— Он может когда-нибудь пригодиться. Мне больше на руку барабан, чем ружье. Ах, как бы я хотел быть барабанщиком! Да уж об этом теперь и думать нечего… я слишком велик. А теперь как бы опять не полетели эти камешки! Австрияк, которого я обезоружил, поднимет, пожалуй, тревогу, и нам может прийтись плохо от белых мундиров. Только ведь я не о себе хлопочу!
— Ты уже не боишься?
— Ночью — никогда! Ведь я сказал вам. Пойдемте дальше!
— Ла Виолетт, ты храбрый малый!
— Не смейтесь надо мной. Я сам знаю, что я трус, и знаю тоже, что люблю вас так крепко; так сильно!
— Ла Виолетт! Я запрещаю тебе говорить это.
— Ладно! Будем молчать! Но идемте же, идем! Путь очищен…
Екатерина опять взглянула на него с изумлением: помощник маркитантки представился ей теперь в совершенно ином свете. Ла Виолетт не дрогнул под выстрелами! Ла Виолетт один бросился с саблей на двоих австрийцев, сидевших в засаде! Ей просто подменили ее помощника! Она думала было отослать его в лагерь, но у него был такой мужественный, такой воинственный вид, что она побоялась огорчить его. Да и вдвоем легче выпутываться из беды.
— Ла Виолетт, — сказала она более дружеским тоном, — предупреждаю тебя, что мне грозит опасность там, куда я иду… серьезная опасность. Ты непременно хочешь сопровождать меня?
— За вами я хоть в огонь пойду!
— Ну, в таком случае начни с того, что иди за мной в воду; чтобы попасть вот в тот замок — видишь? — надо перейти через ручей. Вот куда я иду!
— Вот куда мы идем! Ступайте. Я уж не отстану!
— Хорошо! Теперь молчи и смотри в оба!
Они спустились в ручей Вэм и перешли его, вымочив ноги до колен.
Вскоре они очутились перед конюшнями замка.
Екатерина осторожно двигалась вдоль стен, отыскивая место, где можно было бы проникнуть в сад. Заметив, что в одном месте стена несколько обвалилась, она сделала знак, чтобы ла Виолетт помог ей влезть наверх.
— С восторгом! — ответил наивный влюбленный, подставляя спину и радостно чувствуя на плечах дюжую ногу Екатерины, которая воспользовалась его боками как скамейкой.
Через несколько минут оба уже были в саду и осторожно, прячась за деревьями, направлялись к ярко освещенной комнате нижнего этажа.
XVII
В откровенном разговоре барон Левендаль и маркиз де Лавелин пришли к полному соглашению.
Барон поставил вполне определенные условия: Бланш в эту же ночь должна стать его женой, в противном случае он немедленно отправится в Эльзас и наложит запрет на все поместья маркиза, оставляя за собой право прибегать и ко всяким другим мерам, а так как от него зависело окончательно погубить маркиза, то последний тотчас же выразил горячее желание сделаться тестем барона.
Не только перспектива почетного брака для дочери руководила поступками маркиза: дело шло о спасении его собственной чести, и это заставляло его горячо желать, чтобы Бланш образумилась и уступила мольбам Левендаля.
Заставляя Леонарда освободить его от Борепэра, барон прибегнул к насилию; так же поступил он и теперь: он сумел втянуть вечно нуждавшегося в деньгах маркиза в скандальное и опасное предприятие. Как друг принца де Рогана, Лавелин был замешан в злополучную историю, ожерелья Марии Антуанетты. Ему удалось избежать судебного преследования, но в руках у барона были доказательства участия маркиза в плутовских действиях инициаторов этого крупного мошенничества, в котором королева играла более чем двусмысленную роль.
Если бы маркиз вздумал, спасаясь от барона, бежать из Франции, австрийский двор возбудил бы процесс против своего пленника для отмщения за честь королевы — бывшей эрцгерцогини империи. Если бы он остался на родине — на него можно было донести революционному правительству, и тогда роль, которую маркиз сыграл в истории ожерелья, неизбежно привела бы его на эшафот. Таким образом, он всецело находился во власти барона.
Подобно тому замку, в котором он нашел теперь несколько вынужденный приют, отец Бланш также был между двух огней и потому решился на последнее средство. Так как Бланш решительнее прежнего отказывалась уступить настояниям барона, го маркиз, истощив все доводы, признался наконец дочери, какая опасность угрожала ему: его имущество, честь и даже жизнь были в руках барона. Если Бланш не спасет его, ему остается только умереть. Неужели она не боится, что совесть будет упрекать ее в отцеубийстве, если она доведет несчастного отца до такого отчаянного шага?
Дрожащая, потрясенная этим признанием, Бланш могла лепетать лишь какие-то бессвязные слова. Странное упорство барона поражало ее; неужели у человека, который стремился сделаться ее мужем, не было ни сострадания, ни чувства собственного достоинства? Как мог он домогаться ее руки, зная, что она ненавидит его и любит другого, от которого даже имеет ребенка? Уверенная, что барон получил посланное через Леонарда письмо, Бланш старалась успокоить отца. Она говорила себе, что барон, конечно, был тронут ее признанием и ничего не рассказал маркизу; а если он не выдал ее тайны, то, следовательно, не хотел злоупотреблять своим страшным влиянием на маркиза. Безумно влюбленный, он полагал, что Бланш возьмет назад свое решение, прощал ее и желал забыть, что ее сердце уже раньше принадлежало другому. Может быть, он надеялся, что заставит полюбить себя. Итак, в глубине души Левендаля все еще жила надежда, которую непременно следовало уничтожить; а для этого необходимо было настаивать на отказе. И Бланш, не объясняя отцу причин, еще раз повторила, что никогда не будет женой барона.
— В таком случае, — в бешенстве закричал маркиз, полагая, что его дочь сошла с ума, — я заставлю тебя повиноваться, непокорная развратница! Ты будешь обвенчана нынче же ночью, слышишь? Нынче же ночью, хотя бы мне пришлось самому тащить тебя к алтарю, связанную по рукам и ногам! — И он вышел из комнаты, чтобы повидаться с бароном и посоветовать ему поспешить с приготовлениями к брачной церемонии.
Оставшись одна, Бланш задумалась. Решимость Левендаля разобьется о ее энергию. Она будет бороться до конца, она не перестанет отказываться от союза, внушающего ей отвращение. Но для этой борьбы ей недоставало самого верного союзника — ее ребенка… Отчего он не здесь, не с нею? Присутствие этого живого доказательства ее любви к другому убедило бы маркиза, а барона вынудило бы отказаться от его притязаний.
Бланш с возрастающим беспокойством спрашивала себя, что могло помешать Екатерине Лефевр сдержать обещание.
Наступила ночь, и ей пришлось отказаться от надежды увидеть вдали идущую в замок женщину с ребенком на руках. Глубокая печаль охватила Бланш при мысли об армиях, которые грозной стеной окружили замок. Она говорила себе, что Екатерина, вероятно, побоялась пуститься в путь по местности, наводненной войсками; может быть, ее вынудили отложить путешествие.
«Она не придет! — с тоской думала Бланш. — И кто знает, увижу ли я когда-нибудь свое дитя?»
Мысль, что ее могут вынудить к браку, внушавшему ей отвращение, что ее отказ может стать причиной разорения и даже смерти отца, приводила Бланш в отчаяние. Тогда она решилась бежать, подумав, что пойдет прямо по дороге, наудачу. Ночь темна; соседство двух армий благоприятствует побегу. Дороги кишат испуганными людьми, спасающимися от войск, и она могла бы проскользнуть незаметно или по крайней мере не возбуждая подозрений. Добравшись до Брюсселя или хоть до Лилля, она оттуда отправится в Париж, в Версаль, разыскивать Екатерину и маленького Анрио. У нее есть драгоценности и немного золота; когда она будет далеко от этого ненавистного замка, она напишет отцу; его гнев утихнет, и он пришлет ей денег.
Составив этот план, Бланш тотчас же начала приводить его в исполнение. Кое-как уложив в небольшой мешок все свои драгоценности, она накинула дорожный, плащ, захватив с собой еще другой плащ с капюшоном, предназначенный служить и одеялом, и тюфяком в неудобных гостиницах, где ей придется искать приюта.
Нарочно оставив в своей комнате свет, Бланш осторожно открыла дверь и на цыпочках сошла вниз, прислушиваясь к каждому звуку затаив дыхание, останавливаясь на каждом шагу, встревоженная, но не теряя мужества. Добравшись до двери, выходившей на огород, она без шума отворила ее и очутилась под открытым небом.
Ночь была чудная, свежая, но недостаточно темная. Приходилось избегать открытых пространств, чтобы не быть замеченной из замка.
Осторожно огибая замок и проходя мимо ярко освещенной комнаты, где ужинала прислуга, Бланш вдруг заметила за одним деревом две странные фигуры. Она вздрогнула и остановилась. Обе фигуры стали медленно приближаться к ней.
Страх парализовал Бланш; она не могла ни бежать, ни кричать. Смутно различала она высокий и тонкий силуэт мужчины и женщину в короткой юбке и маленькой шляпе с поднятыми полями. Через минуту оба очутились возле нее.
— Молчите! Мы — ваши друзья, — быстро произнесла женщина.
— Этот голос! — прошептала Бланш. — Кто вы? Я боюсь. Я позову на помощь!
— Не зовите! Скажите, где нам найти мадемуазель Бланш де Левелин?
— Но это я! Боже мой! Неужели это вы, Екатерина?! — воскликнула Бланш, узнав наконец ту, которая должна была возвратить ей ребенка.
Изумленная и обрадованная этой встречей, Екатерина поспешно сообщила Бланш, что пришла сюда вместе с ла Виолеттом поговорить с Бланш о ребенке, которого готова передать ей, если мать уже может теперь заботиться о нем.
— Где же мой маленький Анрио? — спросила Бланш, дрожа от боязни услышать дурное известие.
Но ее тотчас успокоили.
Тогда она, удивленная нарядом маркитантки, спросила:
— Что же значит этот костюм?
Екатерина сообщила ей, что служит в полку и что маленький Анрио спит сладким сном под защитой стрелков 13 полка.
Бланш захотела немедленно отправиться в лагерь, но Екатерина посоветовала ей остаться в замке. Завтра выяснятся намерения австрийской армии. Может быть, французы займут замок, и тогда будет очень легко привести ребенка. Но идти ночью по полям, где на каждом шагу могут встретиться разведчики, — да это безумие! Екатерина добавила, что, по ее мнению, Бланш надо благоразумно переночевать в замке, а завтра видно будет, что делать. Но Бланш объявила, что решилась бежать из замка, так как ее в эту ночь хотели силой отдать за барона Левендаля.
— Что же делать? — в недоумении сказала добрая Екатерина. — Какое несчастье, что с нами нет Лефевра! — прошептала она. — Он-то уж дал бы нам добрый совет! Если бы этот дуралей мог придумать что-нибудь! — проворчала она, глядя на ла Виолетта. — Слушай, есть у тебя какой-нибудь план? — резко спросила она у своего помощника.
— Если хотите, — застенчиво ответил он, — я вернусь в лагерь и приведу ребенка.
Екатерина пожала плечами.
— Не могу себе представить тебя, ла Виолетт, с ребенком на руках.
— А если я пойду с вами? — с живостью сказала Бланш. — О, Екатерина, позволь мне идти с тобой!
— А опасность? А пули? А часовые?
— Ничего этого я не боюсь. Разве мать может бояться, когда дело идет о свидании с ее ребенком?
Екатерина уже была готова согласиться на ее просьбу, когда шум голосов заставил их замолчать и спрятаться в тени деревьев. Это был барон Левендаль, окруженный слугами с факелами в руках.
— Доложите мадемуазель де Лавелин, — приказал барон одному из слуг, — что пора приступить к церемонии и что я жду ее в часовне вместе с маркизом.
Перейдя площадку перед замком, он направился к маленькой часовне, видневшейся посреди лужайки.
— Боже мой! Я погибла! Они заметят мое отсутствие! — прошептала Бланш.
— Надо выиграть время. Но как? Ах, есть одно средство, только очень сомнительное, — сказала Екатерина. — Что, если бы кто-нибудь пошел туда вместо вас? Это на четверть часа задержало бы их розыски.
— Четверть часа? Это было бы спасением! — сказала Бланш. — Я успела бы выйти из парка и укрыться в деревне. Кто знает? Может быть, я добралась бы до французских аванпостов. Да, это чудная мысль. Но кто же может заменить меня?
— Я! — сказала Екатерина. — Но нельзя терять ни минуты. Давайте ваш плащ. Скорее! Вот уже идет барон!
Убедившись, что для церемонии все готово, барон отправился к маркизу, намереваясь мимоходом отдать в конюшнях последние приказания относительно своего отъезда. Тотчас после венчания он рассчитывал уехать с молодой женой в Брюссель. Наступление австрийской армии и неизбежность сражения заставили его назначить свадьбу и отъезд раньше предполагаемого.
Екатерина поспешно закуталась в плащ Бланш, а мадемуазель де Лавелин накинула на себя запасной плащ и, крепко поцеловав энергичную маркитантку, удалилась в сопровождении ла Виолетта, гордого своей новой ролью охранителя путешествующей знатной дамы. Екатерина с тревогой провожала их глазами, пока они не исчезли в темноте.
«Бедный маленький Анрио! Увижу ли я его когда-нибудь? — с волнением думала Екатерина. — А что, если моему Лефевру также не придется увидеться со мной? Ах, не надо думать об этом; надо как можно лучше разыграть роль невесты!»
Она смело направилась к низкой, ярко освещенной комнате, где слуги болтали после ужина.
— Доложите барону, что мадемуазель де Лавелин ожидает его в часовне! — отрывисто сказала Екатерина, остановившись на пороге, и медленно удалилась, стараясь придать величие своей походке и боясь запутаться в складках чересчур длинного плаща.
Близ часовни она услышала шум шагов и голоса.
— Так ты действительно знаешь пароль, Леонард? — спросил барон.
— Да, — ответил тот, к кому обращался Левендаль, — мне удалось узнать его. Я заманил курьера к нам в кухню, пообещав сообщить ему разные сведения, и напоил его, потому что его томила жажда и, вероятно, также сон, потому что он теперь крепко спит.
— А его бумаги? — с живостью спросил Левендаль.
— Я прочел их. Ничего важного, кроме пароля, который я запомнил.
— Хорошо, Леонард! Беги скорей к австрийцам, предупреди дежурного офицера! — И с этими словами барон вернулся в замок.
«Что это значит? — спросила себя Екатерина. — Какой пароль они узнали? Уж не наш ли?»
С минуту она колебалась. Может быть, ей следовало бежать во французский лагерь и поднять тревогу? Но она обещала своей покровительнице обмануть ее преследователей, оставшись вместо нее в часовне. Нет, сперва она исполнит свое обещание, а потом успеет добежать до лагеря и предупредить Лефевра об измене.
Екатерина с решительным видом вошла в часовню, сгорая от нетерпения поскорее увидеть барона, а потом ускользнуть, чтобы поднять тревогу в отряде мужа.
«Что, если их захватят во сне! — с ужасом думала она. Но свойственная ей беззаботность скоро взяла верх. — Нет, храбрецы тринадцатого полка спят только одним глазом; они не подпустят австрийцев на ружейный выстрел, несмотря на то, что их пароль похищен; они покажут, что у нас бдительная стража и что мы остерегаемся изменников».
Несколько успокоившись, она опустилась в одно из кресел, приготовленных перед алтарем для жениха и невесты.
В углу коленопреклоненный священник усердно молился, не обращая на Екатерину ни малейшего внимания.
Она с любопытством разглядывала изображения крестного пути, украшения на дарохранительнице, мерцавшую в темноте лампаду и четыре зажженные свечи, разливавшие печальный свет. Ожидание казалось ей бесконечным.
Вдруг дверь часовни с шумом растворилась; послышались шум шагов и бряцанье сабель.
Чтобы продлить обман, Екатерина плотнее завернулась в свой плащ и, стараясь скрыть лицо, опустилась на колени.
Священник медленно поднялся с колен и, приблизившись к алтарю, начал вполголоса читать положенные молитвы. Барон Левендаль, со шляпой в руке, подошел к той, кого принимал за свою невесту, и сказал с улыбкой:
— Я надеялся, мадемуазель, иметь честь и счастье лично проводить вас в это святое место вместе с вашим батюшкой… он не меньше меня радуется вашему согласию. Я понимаю вашу застенчивость и охотно прощаю ее. Позвольте мне занять место рядом с вами!
Екатерина молчала и не трогалась с места.
Маркиз приблизился в свою очередь.
— Ты хорошо сделала, дочь моя, — вполголоса сказал он: — Я рад, что ты наконец образумилась! — Затем он прибавил уже громко: — Да сними же этот дорожный плащ, Бланш! Невежливо венчаться в таком виде! Наконец, надо оказать честь нашим гостям, свидетелям с твоей стороны и со стороны твоего мужа; это офицеры генерала Клерфэ! Открой по крайней мере свое лицо! Да улыбнись же! В такой день, как сегодня, это обязательно!
При упоминании об австрийских офицерах Екатерина сделала резкое движение, от которого плащ распахнулся, и из-под него показалась юбка с трехцветным шнурком. Маркиз почти сорвал с нее плащ и крикнул ошеломленный:
— Это не моя дочь!
— Кто вы? — спросил не менее озадаченный барон.
В эту минуту священник обернулся к присутствующим и протянул руки, бормоча:
— Да благословит вас, всемогущий Господь Бог! Мир вам… — Он ждал, чтобы ему ответили: «И со духом твоим», но общее замешательство было так велико, что никто не следил за богослужением, австрийские офицеры тоже приблизились к Екатерине.
— Француженка?! Маркитантка?! — с комическим ужасом воскликнул ют, который казался начальником.
— Ну да, француженка! Екатерина Лефевр, маркитантка тринадцатого полка! Это вам не по сердцу, голубчики мои? — воскликнула мадам Сан-Жень, выпутываясь из длинного плаща Бланш; она готова была смеяться в лицо озадаченному жениху, высунуть язык взбешенному маркизу, щелкнуть пальцами перед носом австрийцев, с тревогой озиравшихся вокруг, точно они ожидали, что из исповедальни или из алтаря выскочат солдаты 13 полка, название которого так гордо бросила им Екатерина.
XVIII
Когда прошли первые минуты изумления, один из офицеров, положив руку на плечо Екатерины, произнес:
— Мадам, вы моя пленница!
— Ну-ну! Вот еще! — сказала Екатерина. — Ведь я не сражаюсь. Я здесь в гостях как парламентер.
— Перестаньте издеваться! Вы пробрались в этот замок, которым я овладел именем его величества императора австрийского. Вы француженка на австрийской территории, и я вас арестую!
— Вы уже нынче и женщин арестовываете? Это не очень любезно!
— Вы маркитантка.
— Маркитантки не солдаты.
— Я арестую вас не как солдата, а как шпионку! — произнес офицер и, сделав знак своим спутникам, приказал: — Позвать четверых солдат и увести эту женщину. Не спускать с нее глаз!
Барон Левендаль, бросившийся в комнату Бланш, вернулся в часовню совершенно расстроенный.
— Господа, — начал он сдавленным голосом, — эта женщина способствовала бегству мадемуазель де Лавелин, моей невесты. Где мадемуазель де Лавелин? — с гневом обратился он к Екатерине.
Она расхохоталась и ответила:
— Если вы желаете видеть мадемуазель де Лавелин, то вам придется расстаться с господами австрийцами и отправиться во французский лагерь… вот где она ожидает вас!
— Во французском лагере?! Что ей там понадобилось?
— Это должно успокоить вас. Не у французов же станет она искать Нейпперга, к которому вы ревновали ее, — сказал маркиз, пытаясь ободрить ошеломленного жениха.
— Может быть, — произнес барон. — Но что заставило ее бежать к французам? Уж не влюблена ли она в Дюмурье?
— Мадемуазель пошла к своему ребенку, — спокойно сказала Екатерина.
— К своему ребенку?! — в один голос воскликнули маркиз и барон, одинаково озадаченные.
— Ну да! К маленькому Анрио, прелестному херувимчику… от вас такой, наверно, не мог бы родиться, барон! — насмешливо добавила мадам Сан-Жень, поддразнивая обманутого жениха.
Но Левендаль был слишком удручен, чтобы обратить внимание на ее насмешливые слова.
Присутствовавший при этой сцене Леонард совершенно растерялся, вместо улыбки на его лице появилась жалкая гримаса. Все его планы рушились: с исчезновением Бланш ребенок, о существовании которого теперь стало известно барону, потерял значение постоянной угрозы Дамоклова меча для той, кому предстояло превратиться в баронессу Левендаль. У него была отнята всякая возможность осуществить выгодные комбинации, зародившиеся в его голове, когда ему стала известна тайна мадемуазель де Лавелин. Он принялся соображать, что теперь предпринять.
— Я тоже отправлюсь во французский лагерь, — прошептал он, — я знаю пароль… меня пропустят. Может быть, для меня не все еще пропало. Мы еще посчитаемся, госпожа баронесса!
Он незаметно пробрался к дверям позади солдат, которых привел один из офицеров, и бросился бежать по направлению к деревне.
— Пора с этим кончить! — отрывисто произнес офицер, арестовавший Екатерину. — Господин барон, вы ничего не хотите сказать нам? Не желаете ли вы задать какой-либо вопрос нашей пленнице?
— Нет-нет! Уведите ее! Сторожите! Расстреляйте! — с гневом воскликнул барон. — Впрочем, — продожал он с комическим отчаянием, — все-таки лучше допросите ее! Пусть она скажет, что сталось с мадемуазель де Лавелин! Пусть объяснит, что это за ребенок, о котором она говорила.
— Мы запрем ее в одном из залов замка, — спокойно ответил офицер. — Утро вечера мудренее, завтра она все расскажет.
— Завтра сюда придут республиканские солдаты, и никто из нас не будет ничего говорить, потому что вы все или будете убиты, или навострите лыжи, — крикнула Екатерина.
— Уведите ее! — холодно сказал офицер своим солдатам. — Составьте ваши ружья! Если эта женщина окажет сопротивление — свяжите ее и унесите!
Четверо солдат прислонили ружья к решетке, отделявшей клирос, и двинулись тяжелым шагом, готовые повиноваться приказу начальника.
— Не подходите! — крикнула Екатерина. — Первый, кто тронется с места, будет убит! — И, выхватив из-за пояса оба пистолета, она прицелилась в солдат.
Те невольно попятились.
— Вперед! Да двигайтесь же! — заревел офицер. — Вы теперь даже женщины боитесь!
Только что солдаты собрались исполнить его приказание, как вдруг среди ночной тишины, около самой часовни, послышалась барабанная дробь, являвшаяся сигналом к атаке.
— Это французы! Французы! — в ужасе повторял барон.
Наступила всеобщая паника. Солдаты в беспорядке бежали, позабыв о своих ружьях. Следом за ними бросились офицеры, стараясь собрать их, чтобы отступить на австрийские позиции; они были уверены, что их захватил врасплох авангард Дюмурье.
Маркиз и барон поспешили запереться в замке. Часовня опустела. В алтаре священник, безучастный ко всему, что происходило, оканчивал службу, а барабанная дробь слышалась все ближе.
Стоя на пороге часовни, Екатерина с радостным изумлением увидела, как из темноты появилась длинная и тощая фигура ла Виолетта, усердно отбивавшего дробь на барабане.
— Ты здесь?! — воскликнула она. — Зачем ты пришел? Где наш полк?
— В лагере, черт возьми! — ответил ла Виолетт, прекращая свое занятие. — Не правда ли, я пришел вовремя? Только, я думаю, безопаснее будет, если мы запрем вход?
Он быстро затворил двери и заложил их засовом. Потом он объяснил удивленной Екатерине, что повел Бланш к лагерю, но на половине дороги они наткнулись на французский патруль под командой Лефевра. Он передал мадемуазель де Лавелин двум надежным солдатам и в данную минуту она, вероятно, уже в безопасности, в отряде Дюмурье, возле своего маленького Анрио. Сам ла Виолетт решил поскорее вернуться в замок, опасаясь за участь храброй маркитантки 13 полка. Удивленный шумом в часовне, он обошел ее кругом и, влезши на окно, понял, какой опасности подвергается жена его капитана. Тогда ему пришло в голову прибегнуть к барабану, чтобы напугать австрийцев.
— Хе-хе! А ведь я умею-таки справляться с ящиком Гийомэ, как вы находите? Я был бы отменным барабанчиком, если бы только не мой длинный рост! — заключил мужественный парень свой рассказ.
— А где ты оставил моего мужа? — спросила Екатерина.
— В двухстах метрах отсюда! Он сейчас же прибежит сюда со своими людьми, если я подам сигнал.
— Какой сигнал?
— Выстрел!
— Подождем! Кажется, сюда идут. Слышишь эти шаги… этот шум? Точно лошадиный топот!
Действительно, шум шагов и стук копыт указывали на прибытие многочисленного отряда, подкрепленного кавалерией.
— Стрелять? — спросил ла Виолетт, снимая с плеча ружье и указывая на брошенные австрийцами ружья, прибавил: — Мы можем еще четыре раза подать сигнал.
— Не стреляй! — с живостью возразила Екатерина.
— Отчего не стрелять? Вы думаете, я боюсь ваших австрияков? Повторяю вам, что ночью я ничего не боюсь.
— Несчастный! Да у австрийцев есть подкрепления. Лефевр с нашими солдатами еще попадет в засаду. Мы-то вдвоем всегда спасемся. Лучше вступить в переговоры.
— Приказывайте, я вам повинуюсь!
Раздался сильный стук в дверь, и кто-то крикнул:
— Откройте или мы выломаем дверь!
Екатерина велела ла Виолетту отодвинуть засов.
Дверь отворилась, и в часовню вошли солдаты. Их темные фигуры смутно виднелись при блеске сабель, касок и штыков.
Екатерина и ла Виолетт укрылись у самого алтаря, где приметили черный, скорчившийся призрак. Это священник, окончив богослужение, тихо бормотал свои молитвы… может быть, он читал отходную.
Солдаты заняли часовню; всюду виднелись ружья и сабли. Офицер, хотевший арестовать Екатерину, тоже вернулся, стыдясь своего бегства от женщины и стремясь отплатить ей. Он обратился к человеку в плаще, украшенном галунами, казавшемуся начальником.
— Полковник, — сказал он, — мы сейчас же расстреляем их!
— И женщину тоже? — холодно спросил тот, кого назвали полковником.
— Это два шпиона, а в приказе очень определенно сказано.
— Спросите, кто они, как их зовут, зачем они проникли в замок, а там мы уже решим, что делать, — сказал полковник.
Екатерина услышала его слова.
— Я требую, чтобы с нами обращались как с военнопленными, — твердо сказала она.
— Сражение еще не началось, — заметил офицер.
— Оно уже начато… нами! Я была в авангарде, и вот первая колонна, — сказала Екатерина, указывая на ла Виолетта. — Вы не имеете права расстрелять нас, потому что мы сами сдаемся. Берегитесь! Если вы сделаете такую подлость, наши узнают об этом. Тогда не ждите пощады, от стрелков тринадцатого полка! Они уже недалеко, скоро будут здесь. Вспомните мельницу у Вальми! Ваши пленники заплатят за нас двоих! Мой муж, капитан, отомстит за нас; это так же верно, как и то, что меня зовут Екатерина Лефевр.
Офицер, которого называли полковником, с жестом удивления подошел на несколько шагов, стараясь в темноте разглядеть лицо женщины.
— Не родственница ли вы того Лефевра, который служил в парижской гвардии и женился на прачке? — вежливо произнес он. — Ее называли мадам Сан-Жень?
— Это я — прачка Сан-Жень! Лефевр, капитан Лефевр — мой муж!
Не скрывая сильного волнения, полковник подошел к Екатерине и, глядя ей прямо в лицо, спросил:
— А вы меня не узнаете?
Екатерина отшатнулась.
— Ваш голос… ваши черты, — проговорила она, — полковник, ваше лицо припоминается мне как сквозь туман.
— Туман от пушечного дыма… Вы забыли утро десятого августа?
— Десятого августа? Так это вы — тот раненый австрийский офицер? — воскликнула Екатерина.
— Да, это был я, граф Нейпперг, которого вы спасли… и который сохранил к вам вечную признательность. Дайте мне обнять вас, обнять ту, которой я обязан жизнью!
Нейпперг протянул руки, чтобы привлечь к себе Екатерину, но она отступила.
— Благодарю вас, полковник, за добрую память обо мне, — быстро заговорила она. — То, что я сделала для вас десятого августа, было сделано из человеколюбия. За вами гнались, вы были безоружны да еще ранены; я взяла вас под свою защиту, не заботясь о том, под чьим знаменем вы были ранены и почему спасались бегством. Сегодня я встречаю вас в мундире врагов моего народа, начальником солдат, которые нападают на мою родину, и не хочу больше вспоминать о том, что было в Париже. Мои друзья, солдаты моего полка, мой муж, вот этот славный парень — ваш пленник, все патриоты могли бы упрекнуть меня за то, что я спасла жизнь аристократа, австрийца, полковника, расстреливающего людей, которые сдаются ему. Граф, не говорите мне больше про десятое августа! Я и знать не хочу, что спасла врага, подобного вам!
Нейпперг молчал; энергичная речь Екатерины страшно взволновала его.
— Екатерина, благодетельница моя, — начал он задушевным тоном, — не упрекайте меня в том, что я служу своей стране, как вы служите вашей. Ваш храбрый муж защищает свое знамя, я сражаюсь за свое. Судьбе угодно было, чтобы мы родились под разными небесами; она сближает нас только в минуты серьезной опасности. Не огорчайте меня вашей неприязнью. Если вы хотите забыть десятое августа, то я-то должен помнить его, и полковник штаба победоносной императорской армии…
— Пока еще не победоносной! — сухо прервала Екатерина.
— Завтра она будет победоносной, — возразил Нейпперг. — Полковник императорской армии и командир здешнего отряда не забыл, что обязан уплатить долг за того раненого при защите Тюильри, который нашел приют в прачечной улицы Сен-Рок. Екатерина Лефевр, вы свободны!
— Благодарю вас, — просто сказала маркитантка. — Но как же ла Виолетт? — спросила она, указывая на юношу, гордо выпрямившегося во весь свой высокий рост, чтобы показаться неприятельскому офицеру с самой выгодной стороны.
— Он солдат и проник сюда хитростью. Я не могу поступить с ним иначе как со шпионом.
— Тогда расстреляйте и меня вместе с ним! — так же просто сказала Екатерина. — В нашем лагере никто не посмеет сказать, что Екатерина Лефевр, маркитантка тринадцатого полка, допустила расстрелять честного парня, который из-за нее попал в руки австрийцев. Ну, полковник, отдайте приказ, чтобы скорее все кончали, пока я на расчувствовалась. Все-таки не очень-то приятно думать, что в тебя засадят дюжину пуль, когда ты молода и любишь своего мужа. Бедный Лефевр, каково ему будет без меня! Ну, да что же! На то и война!
— Извините, полковник, прошу прощения! — начал ла Виолетт, своим детским голосом. — Лучше расстреляйте меня одного! Я заслужил это. О, я не отговариваюсь! Каждый за себя, и беда тому, кто попался! Пусть меня казнят, но мадам Лефевр ни в чем не виновата. Честное слово, полковник, это я притащил ее сюда!
— Ты? А зачем? Что вам было нужно в этом доме?
— Я заставил ее прийти, чтобы нести ребенка, когда мы договоримся… ведь я не гожусь в кормилицы!
— Какого ребенка? Боже мой! — воскликнул Нейпперг, обращаясь к Екатерине. — Вам надо было нести ребенка? Какого ребенка?
— Вашего, граф. Я обещала мадемуазель де Лавелин передать ей ее сына здесь, в Жемапе.
— Как? Вы отважились? О, мужественная женщина! Но где же мое дитя?
— В безопасности во французском лагере, со своей матерью.
— Да разве мадемуазель де Лавелин не здесь? Что такое вы говорите?
— Она убежала отсюда в ту минуту, когда отец хотел принудить ее обвенчаться с бароном Левендаль.
— Значит, я не успел бы освободить ее! И если бы не вы…
— Если бы не ла Виолетт! — поправила Екатерина. — Это он все устроил.
— Ну, я вижу, что должен освободить и ла Виолетта, — улыбаясь, сказал Нейпперг. — Мадам, повторяю — вы свободны. Возьмите с собой и своего товарища. Я дам вам двоих людей, которые проводят вас за наши линии. — Отдав необходимые приказания, он снова обратился к Екатерине: — Когда вы увидите Бланш, скажите ей, что я по-прежнему люблю ее и жду. После сражения мы встретимся на пути к Парижу. Пользуйтесь последними часами ночи, чтобы добраться до вашего лагеря. Верьте, милая моя мадам Лефевр, я все еще считаю себя вашим должником. Может быть, случайности войны дадут мне возможность доказать вам, что граф Нейпперг не неблагодарный человек!
— За десятое августа, граф, мы с вами квиты, но я вам Должна за этого парня, — сказала Екатерина, указывая на ла Виолетта.
— Может быть, мы когда-нибудь и встретимся, тогда и расквитаемся. Ну, до свидания, полковник! А ты, долговязый, направо кругом — и живо вперед! Марш! — добавила она, дружески толкая ла Виолетта.
Они гордо прошли мимо австрийских солдат. Ла Виолетт вытягивался при этом во весь рост, а Екатерина шла, подбоченившись, в сдвинутой набок кокетливой шляпке с трехцветной кокардой, с вызывающей улыбкой на губах. На пороге она обернулась и насмешливо произнесла: — До скорого свидания, господа! К полудню я вернусь сюда с Лефевром и его стрелками!
XIX
Нейпперг озабоченно смотрел вслед удалявшейся Екатерине и думал о том, удастся ли ему найти Бланш и увидеть наконец своего маленького Анрио, как в том уверяла его добрая маркитантка. Как могла бы молодая женщина с ребенком благополучно пробраться сквозь ряды сражающегося войска? Но в го время Найпперг был счастлив сознанием, что брак, задуманный маркизом Лавелином и бароном Левендалем, не состоялся. Бланш оставалась свободной и могла еще принадлежать ему.
Он стал искать глазами Левендаля и маркиза, ко они исчезли. На его вопрос унтер-офицер сообщил, что барон и маркиз сели в снаряженную для них повозку и поспешно направились по дороге в Брюссель.
Нейпперг с облегчением вздохнул; соперник удалился и не будет оспаривав у него то, что ему дороже жизни; мрачная туча рассеялась, и будущее озарилось лучом радостной надежды. Он стал мечтать о том блаженном времени, когда, вырвав из тьмы Бланш и ребенка, они все вместе будут наслаждаться лучезарным счастьем.
Но затем ясный горизонт снова заволокло тучей. Возникал вопрос: как встретиться с Бланш, где найти ребенка? Сражение начиналось. Нечего и думать было о том, чтобы пробраться сквозь строй или отправиться во французский лагерь хотя бы в качестве парламентера в тот момент, когда с восходом солнца откроется пушечная пальба между Жемапом и Монсом. Нужно было дождаться результатов дневного сражения.
Победа несомненно будет принадлежать дисциплинированным, опытным войскам императорской армии. Республиканское войско, состоящее из сапожников, портных и мелких торговцев, ни в коем случае не сможет устоять против солдат, обученных герцогом Саксонским! Канонада Вальми была простой случайностью, в Жемапе же успех будет несомненно на стороне численности, порядка и знания военной тактики; герцог Саксонский уже отправил в Вену курьера с депешей, извещавшей о поражении санкюлотов.
Но что станется с Бланш и ее ребенком при этом неизбежном поражении французов? Душевная тревога Нейпперга увеличилась еще более при мысли о всех ужасах этого поражения и переполоха в импровизированной армии, неспособной отступать по всем правилам военного искусства.
Тщетно придумывал он способы оградить дорогие ему существа от грядущих бедствий, как вдруг послышался шум на дворе, заставивший его выйти из зала замка, превращенного в главную квартиру, где офицеры под его диктовку составляли диспозицию предстоящего сражения.
Нейпперг осведомился о причине волнения.
Ему доложили, что при входе в парк часовые арестовали женщину всю в грязи и лохмотьях, с растрепанными волосами и блуждающим взором. Она хотела проникнуть в замок и уверяла, что она дочь маркиза де Лавелин, живущего в данный момент у барона Левендаля.
Нейпперг издал крик удивления и ужаса. Бланш в замке! Бланш прошла сквозь ряды войск, расположившихся в долине. Что могло означать это неожиданное возвращение после того, как Екатерина уверяла его, что молодая женщина в безопасности и находится в лагере французов? Какое новое несчастье предвещала эта неожиданная встреча!
Он приказал немедленно привести эту женщину к нему.
Действительно перед ним появилась Бланш де Лавелин; ее одежда превратилась в лохмотья, видимо, когда она пробиралась по кустарникам и рытвинам болотистых полей.
Нейпперг поспешил к ней и в страстном порыве заключил ее в свои объятия.
Рыдая и вместе с тем улыбаясь от радостной встречи, Бланш стала рассказывать своему возлюбленному о побеге и о том, как она попала в республиканский лагерь, сопровождаемая солдатами капитана Лефевра.
Следуя указаниям Екатерины, она поспешила в маркитантскую палатку тринадцатого полка. Там, в тележке маркитантки, она нашла спящего ребенка, завернутого в одеяльце. Рядом была другая постелька с отброшенным покрывалом. Она бросилась к спящему ребенку и уже хотела запечатлеть материнский поцелуй на чистом челе своего сына, как вдруг личико спящего ребенка осветилось лучом света от фонаря солдата, сопровождавшего ее. Оказалось, то была девочка, которая проснулась и стала испуганно смотреть на нее. Бланш громко крикнула: «Где мое дитя? Где мой маленький Анрио?» — причем ее сердце разрывалось от мучительной тревоги. Девочка посмотрела вокруг себя и спросила: «А где же Анрио, его уже нет в постели? Он, верно, побежал смотреть, как палят из пушек? Ах, гадкий мальчишка, не мог он меня разбудить!» Узнав эту ужасную новость, Бланш потеряла сознание. Ее отправили в лазарет, где ей оказали первую помощь.
Когда она пришла в себя, то стала требовать своего ребенка. Она вспомнила, что слышала, будто какой-то человек бежал по направлению к Мобежу с ребенком на руках. Она пыталась подняться и бежать за ним вдогонку.
Полковой лекарь, который оказывал ей помощь, сжалился над ее горем.
— Вы не в состоянии будете пробраться между тележками, артиллерийскими повозками, войсками и беглецами, — сказал он.
— Я должна разыскать моего ребенка! — с настойчивостью повторяла несчастная мать и умоляла врача отпустить ее. — Зачем этот человек взял моего сына? — спросила она. — Какое преступление кроется в этом похищении? Кем подкуплен этот разбойник? По чьему приказанию действовал он?
Лекарь — это был Марсель — ничего не мог ответить на все эти вопросы, в лихорадочном волнении задаваемые молодой женщиной.
Сержант, который пришел помогать лекарю в походном госпитале и говорил ему что-то на ухо, вдруг, как бы тронутый этим ужасным горем, обратился к несчастной женщине:
— По некоторым сведениям, которые мне удалось получить, вы могли бы напасть на след этого негодяя, который попал в лагерь, очевидно, при помощи обмана.
— Ах, сержант, скажите мне, пожалуйста, что вы знаете! — воскликнула Бланш, оживленная надеждой.
— Говори, Ренэ, — сказал полковой лекарь, — в таком дерзком покушении, как это, малейшая улика может способствовать открытию виновного.
Красавчик Сержант рассказал, что в его роте был человек, который в Вердене состоял вестовым несчастного Борепэра. Этот вестовой узнал в человеке, подходившем к повозке маркитантки, юго самого молодца, с которым пил вместе ночью во время обстрела Вердена. Этот человек был не кто иной, как слуга барона Левендаля, звали его Леонардом.
— Леонард? Это доверенный слуга барона Левендаля! — воскликнула Бланш.
Догадываясь, откуда идет удар, она заподозрила, что Левендаль поручил Леонарду украсть ребенка для того, чтобы покорить ее и принудить к браку, который она считала, благодаря своему бегству, окончательно расстроившимся. Малютка Анрио являлся в руках барона как бы залогом.
Поэтому Бланш, несмотря на советы и предостережения полкового лекаря и Ренэ, решилась отправиться на поиски своего ребенка. Она преодолела все опасности пути: пробралась сквозь кустарники и заросли, перепрыгивая через рвы и канавы, с окровавленными ногами и в изодранном платье она явилась в замок, надеясь встретить здесь Левендаля и Леонарда, похитивших ее дитя. Она не отдавала себе отчета, что сказала бы, что сделала бы с целью противостоять угрозам Левендаля и требованиям своего отца. Но она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы не сдаться, так как дело шло о том, чтобы вырвать ее ребенка из рук похитителей.
Радость неожиданной встречи в замке с Нейппергом омрачилась известием об отъезде Левендаля и ее отца и бесследным исчезновением Леонарда с ее ребенком. Без сомнения, в условном пункте разбойник встретился с бароном и передал ему ребенка. Но где и как настигнуть Левендаля и маркиза Лавелина? Никто не мог с достоверностью указать, по какому направлению отправился Леонард со своей драгоценной ношей.
Нейпперг сообщил Бланш, что ее отец вместе с бароном отправился в Брюссель.
— Мы догоним их завтра, — сказал он таким убежденным тоном, что Бланш несколько успокоилась.
— Но почему бы нам не отправиться в погоню этой же ночью? — спросила она, сгорая от нетерпения. — Завтра мы были бы уже в Брюсселе.
— Завтра, друг мой, моя дорогая жена, — сказал Нейпперг улыбаясь, — завтра я должен сражаться. Когда мы разобьем французов, я получу возможность вернуться обратно и преследовать злодеев, похитивших нашего ребенка; но теперь обязанности солдата должны быть выше моих родительских чувств и страданий!
Бланш произнесла с глубоким вздохом:
— Я подчиняюсь, я подожду. О, какими бесконечно длинными покажутся мне этот день и наступающая ночь!
Нейпперг глубоко задумался.
— Бланш, — сказал он наконец серьезным тоном, — что станется здесь с вами, одинокой женщиной, среди такого количества воюющих? Я не в состоянии быть все время подле вас, да к тому же мое покровительство может быть только тайное. Я не имею никаких прав, чтобы требовать к вам уважения, помощи или поддержки со стороны наших генералов, наших принцев и даже наших солдат… Бланш, вы понимаете меня?
Мадемуазель де Лавелин покраснела, опустила голову и ничего не ответила.
Нейпперг продолжал:
— Если после сражения мы настигнем вашего отца и барона Левендаля, неужели вы полагаете, что они не станут предъявлять свои права на вас?
— Я буду защищаться, буду сопротивляться!
— У них есть могущественное оружие против вас — ваш ребенок: они его не выдадут вам и, следовательно, завладеют моим сыном! Какие права могу я предъявить, каким способом могу я заставить их возвратить вам его? Бланш, подумали ли вы о всех затруднениях и препятствиях, которые возможно было бы преодолеть лишь при желании с вашей стороны?
— Что же нужно сделать?
— Дать мне право говорить открыто и предъявлять требования от вашего имени.
— Делайте так, как находите нужным! Разве вы не знаете, что моя судьба тесно соединена с вашей?
— Необходимо, чтобы мы были соединены навсегда, чтобы вы стали моей женой. Согласны вы?
В ответ Бланш молча бросилась к нему в объятия.
— Тут все было приготовлено для торжества бракосочетания, — сказал Нейпперг, — священник у алтаря, нотариус дремлет над своими бумагами в залах замка, остается только разбудить его, и, пока священник будет благословлять нас, он произведет запись. Пойдемте, Бланш, сделайте из меня счастливейшего супруга в мире!
Час спустя в часовне, где Екатерина Лефевр на один момент изображала невесту, Бланш де Лавелин сделалась графиней Нейпперг.
Не успело совершиться таинство, соединившее супругов брачными узами, как послышалась пальба в долине, у самого подножия часовни, и эхо повторило звуки труб и барабанов, возвещавших начало сражения.
— Господа, — сказал Нейпперг, подводя Бланш к группе офицеров, — представляю вам графиню Нейпперг, мою жену.
Все поклонились и пожелали счастья молодым, сочетавшимся так оригинально под гром пушек накануне предполагаемой славной победы.
XX
Находившиеся в памятное утро 6 ноября 1792 года на Жемапском хребте бельгийские крестьяне, которых угнетала империя и должна была освободить победа революционного народа, были свидетелями величественного и незабываемого зрелища.
Бледное серое утро вставало над холмами. Легкий ветерок пробегал по вершинам, раскачивая кусты и крутя сухие листья. Огромные массы австрийцев, венгров, пруссаков покрывали все высоты. Мохнатые шапки гусар, высокие каски гренадеров, полуконические кивера пехоты, копья, кривые сабли кавалерии сверкали, мелькали и гремели в бледном свете осеннего утра.
Несколько ниже наскоро построенные редуты и укрепления скрывали тирольских стрелков в остроконечных фетровых шляпах, украшенных перьями фазана или цапли. Артиллерия, скрытая справа и слева, грозила из амбразур своими бронзовыми жерлами, готовыми начать изрыгать огонь.
Австрийская армия раскинулась широко: правое крыло упиралось в деревню Жемап, образуя угол с центром, а левое подходило вплотную к Валансьенской дороге. На трех лесистых холмах амфитеатром возвышались в три ряда укрепления, снабженные двадцатью большими орудиями и столькими же гаубицами; кроме того, на каждый батальон было по три пушки, так что в общем имелось около ста орудий.
Выгода положения, бесспорное превосходство опытной армии, хорошо снабженной всеми припасами, руководимой опытными генералами Клерфэ и Болье; преимущество артиллерии, громившей с высоты неприятеля, приближавшегося по болотистой равнине и вынужденного под убийственным огнем подниматься на сильно укрепленные высоты, — все это давало имперским генералам почти полную уверенность в победе. Кроме того, австрийская армия, хорошо отдохнувшая, расположенная на сухом месте, хорошо поужинала к тому моменту, когда на рассвете раздался первый пушечный выстрел, начавший сражение. Французы же, всю ночь шедшие по болоту, не успели подкрепиться пищей. Им было сказано, что они позавтракают днем в Монсе, после победы, и они отправились в путь с пустыми желудками, но полные надежды, намереваясь выиграть вместе с битвой и свой завтрак.
Туман медленно поднимался над болотистой долиной, покрытой людьми, усталыми и спотыкающимися, но продвигающимися вперед беспорядочным потоком. При первом выстреле, заставившем всколыхнуться армию, музыканты торжественно и стройно начали марсельезу. Звуки труб слились с громом канонады. Пятьдесят тысяч человек подхватили величественные слова гимна революции под аккомпанемент пушек и труб. Высоты Жемапа, Кюэсма и Бертрэнона донесли до австрийцев звуки героических призывов.
«К оружию, граждане! Сомкните ряды».
Теперь уже не армия шла против них; целая нация ринулась на защиту своей страны и своей свободы.
Старая тактика была забыта. Как море, сокрушающее все преграды, возмущенная Франция хлынула на эти высоты, ломая и уничтожая укрепления и редуты, все больше и больше расходясь. Эта битва была похожа на наводнение с ураганом. Только пушки и штыки работали. Артиллерия издали разрушала австрийские укрепления, а добровольцы, вчерашние мирные горожане и ремесленники, бросались на эти развалины, рубили артиллеристов, расстраивали ряды пехоты, останавливали и опрокидывали целые эскадроны конницы.
Старые имперские войска, ветераны династических войн, были разбиты, рассеяны, уничтожены этими новыми героями, большинство которых еще носило платье крестьянина или ремесленника и в первый раз в жизни держало в руках ружье.
Генерал д'Арвиль командовал левым крылом вместе со старым генералом Ферраном. Последний должен был занять Жемап, но встретил сопротивление; Дюмурье послал к нему на помощь Тевено, который вскоре с торжеством вошел в деревню. Это было в полдень.
Бернонвиль наступал справа. Под его начальством Дампьер командовал парижскими добровольцами. Этим детям парижеих предместий досталась честь захватить три редута. Импровизированные солдаты несколько колебались. Их поражал стройный порядок в австрийской армии, имперские драгуны смущали их великолепным и внушающим ужас порядком. Однако бесстрашные перед лицом смерти, они скрестили ружья и выждали атаку, затем, выстрелив в упор, бросились вперед в штыки и рассеяли эту кавалерию. Гусары Дюмурье довершили победу, все разрушив вплоть до Монса.
В центре две бригады вдруг остановились. Тогда один из сражавшихся, не имевший ни чина, ни даже форменного платья, лакей Дюмурье, Батист Ренар, взялся их ободрять и воодушевлять, и победа была обеспечена. Здесь командовал генерал-поручик Эгалите, более известный позже под именем Людовика Филиппа.
При звуках марсельезы и песенки «са ира» последние укрепления австрийцев были разрушены парижскими отрядами, а также волонтерами. Регулярное войско, 13 пехотный полк, где Лефевр дрался как бешеный, стрелки и гусары Бертини и Шамборана также содействовали этой решительной победе, спасшей Францию от вторжения и освободившей Бельгию, уничтожившей старые германские войска и давшей крещение славой нарождающейся республике.
После битвы победители принялись за ужин. Время завтрака и обеда уже прошло, оставалось вознаградить себя ужином.
Пили за победу, за нацию, за Дюмурье, за Батиста Ренара, героя в ливрее, за национальное собрание, за освобожденных бельгийцев, за человечество! Этот последний тост был провозглашен на бивуаке добровольцев Майен-э-Луэр полковым лекарем в мундире, совершенно забрызганном кровью, так как он так же отчаянно сражался вместе с другими героями этого бессмертного дня.
Среди рассказов о разных отдельных моментах сражения один солдат вдруг сказал:
— А вы не знаете, что мы нашли вон в том замке, на склоне горы, где, кажется, была главная квартира австрийцев? Господин Марсель, это может заинтересовать вас.
— Что же такое было в этом замке? — спросил философ, у которого в этот день не было недостатка в живых и мертвых аргументах против варварства войны.
— Знаете, ведь там был ребенок…
— Как ребенок? Объясните! — сказал Ренэ, подошедший в это время, что никого не могло удивить, так как все были уверены, что встретят Красавчика Сержанта там, где находится Марсель. Ренэ прибавил: — Гражданка Лефевр, маркитантка тринадцатого полка, спрашивала о каком-то ребенке. Скажите же, какого это ребенка вы подобрали под пулями?
— Я его не подобрал, — ответил солдат.
— У вас хватило жестокости оставить это невинное создание там под картечью? Это недостойно французского солдата!
— Послушайте же, сержант, — возразил рассказчик. — Я подошел вместе с несколькими товарищами к этому заброшенному замку… Шли мы осторожно, так как можно было ожидать засады. Это молчание, это спокойствие не обещало ничего доброго.
— Это разумно, — сказал Марсель. — Дальше!
— Вдруг, заглянув через отдушину в погреб, мы увидели какую-то тень. Я прикладываюсь, стреляю… она исчезает. Мы спускаемся в подвал, слышим слабый зов, крик… взламываем дверь и находим как бы вы думали, кого? — крохотного перепуганного мальчугана, который был там заперт и который сказал, увидев нас: «Это Леонард! Он убежал вот сюда» — и при этом показал нам на отдушину, выходящую на наружный двор.
— Леонард! О, этого предателя найдешь всюду, где может быть совершена какая-нибудь подлость, — сказал голос за спинами солдат.
Это была Екатерина Лефевр, подошедшая к ним и слышавшая конец рассказа солдата.
Она живо спросила:
— Что же вы сделали? Расстреляли Леонарда, надеюсь, и успокоили ребенка? Где же мой милый Анрио? Я уверена, что это он, что его украл негодяй Леонард, который хотел выдать его барону Левендалю. Да говори же, мямля! — прикрикнула она на солдата.
Тот замялся и опустил голову.
— Леонард убежал, а ребенок…
— Ты оставил его там, несчастный?
— Пришлось! Убегая, этот негодяй, которого вы называете Леонардом, поджег бочонок с порохом, оставленный австрийцами. Мы все взлетели бы на воздух вместе с замком! Поэтому мы отступили.
— Друзья, — воскликнула Екатерина, — здесь нет недостатка в храбрых людях. Кто пойдет поискать ребенка там, под развалинами замка? Может быть, мальчуган еще жив!
— Мы совершенно разбиты от усталости, — заметил один из солдат.
— И еще не ужинали, — прибавил другой.
— А завтра надо быть крепкими для вступления в Монс, — сказал третий.
Тот, который рассказывал всю историю, проворчал!
— Там, в этом проклятом замке, получишь, чего доброго, еще пулю в лоб или взлетишь на воздух! Из-за мальчишки не стоит рисковать своей шкурой.
— В таком случае я пойду сама, — сказала Екатерина, — пойду одна, потому что Лефевр стоит в карауле со своим отрядом, а вы все слишком трусливы для того, чтобы идти со мной. Я обещала его матери вернуть ей ребенка и сдержу это обещание! Пейте, кушайте, спите хорошенько, детки! Покойной ночи!
— Гражданка Лефевр, я пойду с вами, если вы хотите, — сказал Красавчик Сержант. — Вдвоем не страшно!
— Скажу, лучше втроем, — сказал негромкий голос, и к ним приблизился ла Виолетт.
Его сабля не имела ножен, весь мундир был изрублен. На голове у него была австрийская драгунская каска.
— Ты пойдешь с нами, ла Виолетт? Вот это славно, парень! Ты знаешь, ведь это наш малютка Анрио, это его негодяй Леонард бросил в замке!
— Дело не в нем, а в вас! Я не могу оставить вас одну на поле битвы, вы знаете… О, я порядком-таки боялся весь День, и это увидел драгунский капитан, который рассек мне кивер своей саблей. Я остался без шапки, как видите.
— И ты убил его?
— Да, чтобы отнять у него каску. Не мог же я ходить без каски, это имело бы вид, что я заснул во время сражения! О, это было не так просто! Капитан был окружен пятью драгунами, которые не подпускали меня к каске их командира. По-видимому, они очень дорожили ею. Но я все-таки достал ее, хотя это и было не легко. Пятеро драгун держались долго. Ужасно упрямый народ — эти австрийцы!
— И ты, помощник маркитанта, сделал это? Ай да молодец!
— Да!.. Но пойдемте же в замок! Я докажу вам, что ночью я не трушу, как я вам и говорил.
В ту минуту, когда они собирались отправляться, темная тень загородила им дорогу.
— Как? Это вы, Марсель? — воскликнула Екатерина в изумлении.
— Он тоже пойдет с нами — заявил Ренэ. — Разве там не пригодится врач, если ребенок ранен?
И они вчетвером пошли во мраке, среди тел, развалин укреплений, поломанного оружия, загромождавших окрестности Жемапа.
Под развалинами замка Левендаля Екатерина нашла маленького Анрио без чувств, но только слегка обожженного. Марсель начал ухаживать за ним и скоро привел в чувство. Когда спасенного мальчика привели в лагерь, он был усыновлен 13 полком и стал сыном полка.
XXI
Тулон так же, как Марсель, Лион, Кан, Бордо, противился революции. Роялисты в союзе с жирондистами открыли коалиции ворота города и арсенал. В тот момент, когда вся Европа ринулась на Францию, стремясь диктовать ей законы, жирондисты, забывая о своем прошлом, отступили и заключили союз с врагами, призывая во Францию иностранные державы.
Но в это же время в комитете общественного спасения были Робеспьер, Сен-Жюст, Катон, Карно; добровольцы постоянно прибывали в армию; молодые генералы, как, например, Гош и Марсо, заменили на границах Дюмурье и Кюстена, участвовавших в роялистском заговоре. Особенно же счастливый случай сделал то, что артиллерия республики, направленная против Тулона и английского флота, была поручена молодому, неизвестному артиллерийскому офицеру Наполеону Бонапарту.
Город был наполнен пестрой толпой, собравшейся со всего побережья: тут были испанцы, неаполитанцы, сардинцы, мальтийцы. Папа прислал монахов для возбуждения населения. Это была южная Вандея, более страшная, чем западная, так как в руках восставших был морской путь, благодаря чему они могли получать подкрепления, а среди них английские войска.
Республиканская армия была разделена на два корпуса, между которыми возвышалась гора Фарон. В ней царила смесь энтузиазма с неопытностью, храбрости с отсутствием дисциплины, и эти импровизированные, нестройные отряды были ядром будущей итальянской армии.
Командирами люди делались случайно; за какую-нибудь неделю простые солдаты превращались в генералов. Высшее руководство находилось в руках плохого художника и еще более плохого солдата Карто. Врач Доппе и бывший маркиз Лапойп были его помощниками. Эта странность объяснялась тем, что почти все прежние офицеры принадлежали к дворянству и потому бежали или эмигрировали. Комиссары конвента — Салисетти, Фрерон, Альбитт, Бар-рас и Гаспарен — воспламеняли мужество и энергию командиров, возбуждали солдат, призывая их к сопротивлению и ожиданию победы.
Осада длилась. Ольюльские ущелья, примыкающие к Тулону, были взяты, но крепость держалась, защищаемая сильными укреплениями. Осада требует военной опытности, знаний и хладнокровия, а всего этого не было ни у вождей, ни у солдат этой только что возникшей армии. Карто, главный начальник, не имел ни малейшего представления об артиллерии.
Случай привел к нему Бонапарта, который на пути из Авиньона в Ниццу остановился в Тулоне, чтобы повидаться со своим земляком Салисетти. Последний представил его Карто, который с искренним удовольствием, ожидая похвал, принялся показывать артиллерийскому офицеру свои батареи. Бонапарт только пожимал плечами; пушки были поставлены так неумело, что ядра, направленные против английского флота, не долетали даже до берега.
Карто оправдывался тем, что порох был плохой, но Бонапарту не стоило никакого труда опровергнуть все его объяснения. Представители конвента, пораженные его доводами, тотчас же поручили ему руководство осадой.
В несколько дней, обнаружив поразительную энергию, Наполеон вызвал офицеров и артиллерийские припасы из Лиона, Гренобля, Марселя. Он чувствовал, что здесь было бы бесполезно вести атаку по всем правилам. Если бы удалось заставить английскую эскадру уйти из Тулона, то осажденный город должен был сдаться, поэтому необходимо было завладеть пунктом, откуда можно было бы обстреливать рейд; таковым был мыс Эгильетт. «Здесь весь Тулон!» — решил Бонапарт с гениальной проницательностью. Он занял этот мыс; английский флот ушел, и Тулон сдался. Коалиция была побеждена. На юге не могла больше повториться Вандея, а Бонапарт, победоносный и гениальный, занял место в истории. Он был сделан артиллерийским генералом и послан в Ниццу, где находилась главная квартира итальянской армии под начальством Дюмербьона.
Прославленный, достигший в двадцать четыре года такого положения, которое удовлетворило его честолюбие и насытило его желания, Бонапарт занялся устройством судьбы своих братьев и сестер, мысль о которых по-прежнему не давала ему покоя.
Удача брата Жозефа приводила его в восторг. Говоря о нем, он всегда прибавлял: «Счастливец этот негодяй Жозеф!» Женитьба на дочери торговца мылом казалась ему в то время верхом счастья. К. этому восхищению счастьем юной четы присоединилось некоторое сожаление о невозможности жениться на Дезирэ, второй дочери мылоторговца Клари.
Однако другой брак, которого он не предвидел, расстроил и рассердил Наполеона.
В Ницце он узнал, что его брат Люсьен женился, но при таких обстоятельствах, воспоминание о которых еще через десять лет вызывало его гнев.
Люсьен занимал маленькую должность в военном управлении в Сен-Максимене, в Воклюзе. Он был молод и пылок, хорошо говорил и был общим любимцем в трактире, где обедал.
У трактирщика Буайе была хорошенькая дочь Кристина. Она не устояла против красноречия и комплиментов будущего председателя совета пятисот и объявила отцу, что хочет выйти замуж за Люсьена.
Трактирщик, уже собиравшийся отказать в обедах своему клиенту, запоздавшему с платежами, почесал затылок и наконец согласился. Все-таки это было средством покрыть счета этого неисправимого неплательщика.
Наполеон, узнав, что его брат дал ему в родственницы дочь трактирщика, не помнил себя от гнева. Он уже предвидел свое величие и его приводило в бешенство все, что могло повредить его карьере или уменьшить блеск его имени. Он прекратил всякие сношения с братом и никогда не примирился с молодой женщиной. Кристина Буайе была кротка и скромна; несколько раз она пыталась смягчить Наполеона и снискать его расположение, но он оставался глух; дочери трактирщика не было места в его сердце.
Для себя самого он мечтал о блестящем браке, льстящем его самолюбию, и не имел ни малейшего желания представить блестящей даме, на которой ему предстояло жениться, простенькую и невежественную Кристину.
Обстоятельства складывались неблагоприятно для Бонапарта. Он потерял своих покровителей: оба Робеспьера были гильотинированы, деятели термидора спешили отомстить своим врагам. 31 мая 1793 года революция во Франции достигла апогея, вступив в новую эпоху своего развития, так называемую эпоху террора. То была целая система устрашения, которой главари революции думали предупредить всякую возможность попыток возврата к старому. Особенными жестокостями террор отличался тогда, когда в Комитет общественного спасения, главный очаг террора, вступили полновластными членами Дантон и Робеспьер, пользовавшиеся почти диктаторской властью и в своей жестокости не останавливавшиеся ни перед чем. 9 термидора (по революционному календарю, т. е. 27 июля 1794 года) произошло падение Робеспьера, чем был положен конец террору. То был новый поворотный пункт в истории Великой французской революции.
Одно время Бонапарт, узнав о 9 термидоре, подумывал предложить представителям конвента идти с войсками на Париж. Он отказался от этого плана, но ему не удалось заставить забыть о его связях с революционерами.
Дюбуа-Крансэ, член Комитета общественного спасения, стремясь разогнать якобинцев, которых, по полицейским сообщениям, было очень много в итальянской армии, назначил Бонапарта командующим артиллерией в Вандею. Пораженный и удрученный этим ударом, Бонапарт отправился в Париж в сопровождении своих адъютантов Жюно и Мармона.
Незначительный артиллерийский капитан Обри, бывший тогда военным министром, завидовал другим артиллерийским офицерам, быстро возвышавшимся. Будучи, кроме того, жирондистом, Обри выместил все свои неудачи на Друге Робеспьера, тулонском герое Наполеоне, отправив его в качестве генерала пехоты к западной армии. Этим он превзошел Дюбуа-Крансэ.
Когда военного министра старались поколебать в его решении, этот жалкий преемник Карно выражал удивление тому, что такая энергичная поддержка оказывается террористу. Бонапарт сам хотел защищать свое дело, но Обри сухо заметил ему:
— Вы слишком молоды для того, чтобы командовать артиллерией целой армии!
— На поле битвы старятся быстро, а я явился оттуда! — резко ответил Наполеон.
Обри остался непоколебим. Бонапарт отказался отправиться в Вандею и был исключен из армии. Тогда он попытался поступить на службу к турецкому султану и близок был к нищете, какую испытывал раньше, если бы ему не помог брат Жозеф.
Один из управляющих военным министерством, Дульсе де Понтекулан, внезапно вспомнил о Наполеоне и дал ему место в топографическом отделе как раз в то время, когда он собирался уезжать в Константинополь.
Восток всегда манил Наполеона. Он мечтал о славе и удаче под далеким небом. В его душе царил чисто мусульманский фатализм.
Рядом со странами Востока другие видения наполняли воображение Наполеона: ему представлялась женщина, прекрасная, блестящая, нарядная, принадлежащая к старинной аристократии, которая принесет ему наслаждение, семейное счастье, комфорт и доступ в возрождающееся высшее общество в обмен на его любовь и имя.
Потрясающее событие превратило эти грезы в действительность.
Конвент закончил свою трудолюбивую и страшную деятельность. Созданием ее была конституция 111 года. Член конвента, расходясь, постановили, что треть его членов остается на местах. Это решение вызвало в Париже восстание.
11 вандемьера (3 октября 1795 года) избиратели разных округов собрались к Одеону, а 12 октября избиратели округа Лепеллетье (Биржи) подняли оружие. Генерал Мену, которому было поручено обезоружить восставших, запоздал. Он вышел для переговоров из монастыря сестер святого Фомы, где теперь находятся улица Вивьенн и улица Четвертого сентября. Восставшие торжествовали. Это было около 8 часов вечера.
Бонапарт был в это время в театре Фэйдо. Пораженный всем происшедшим, он отправился в собрание, где обсуждались меры, которые необходимо было принять, и решался вопрос о назначении генерала вместо Мену.
Баррас, которому было поручено поддерживать порядок, вспомнил о Бонапарте; он узнал и оценил его в Тулоне. На другой день, 13 вандемьера, Бонапарт разогнал восставших у церкви св. Рока и был назначен командующим войсками внутри города.
Он получил власть в свои руки и не думал отдавать ее. Будучи еще накануне без места и без средств, теперь он стал властелином Парижа, а вскоре и всей нации. Его звезда до сих пор то сиявшая, то меркнувшая, теперь светила ярко и постоянно. В течение двадцати лет ей предстояло быть маяком для ослепленной Франции.
XXII
Счастье внезапно улыбнулось Бонапарту. Неожиданный могущественный толчок возвел его на высоту.
Но, несмотря на проявившийся военный талант и похвалы, публично расточаемые ему людьми, власть имущими, все же его имя оставалось малоизвестным, а положение непрочным.
Камбон, управлявший финансами конвента, человек неподкупный и выдающегося ума, малорасположенный к истинным деятелям революции, отзывался о Бонапарте по поводу сражения при Антиое следующим образом: «Нам грозила неминуемая опасность, когда доблестный и храбрый генерал Бонапарт стал во главе пятидесяти гренадеров и открыл нам проход». Фрерон заявил, что только Наполеон был в состоянии спасти армию. Баррас, развращенный, но умный политик, забыл о нем. Мариэтт, спасенный им от смерти среди тулонских каторжников, выпущенных англичанами, не подавал никаких признаков жизни. Обри, тупоголовый капитан, объявивший себя дивизионным генералом и получивший портфель военного министра, исключил его из армии. Наконец, попытки Наполеона добиться богатой женитьбы сначала на вдове его друга Пермона, потом на Дезирэ Клари оказались неудачными.
Наполеону ничего более не оставалось, как отправиться в Турцию на службу к султану, что и засвидетельствовано Комитетом общественного спасения в следующем документе от 15 сентября 1795 года:
«Генерал Бонапарт отправляется в Константинополь со своими двумя адъютантами, чтобы поступить на службу в армию султана и своими знаниями и талантами способствовать усовершенствованию артиллерии этого могущественного повелителя и исполнять то, что ему прикажут министры Порты. Он будет служить в гвардии султана наравне с прочими генералами султанского войска. Его будут сопровождать граждане Жюно и Анри Ливра в качестве адъютантов; капитаны Сэржи и Било де Вилларсо в качестве батальонных командиров; Блэз де Вильнефть — капитаном инженерного войска; Буржуа и Лашас — поручиками артиллерии первого разряда; Месоннэ и Шпейд — фельдфебелями артиллерии».
Однако восстание 11 вандемьера изменило обстоятельства. Все потеряли голову, за исключением того, кто должен был спасти конвент и восстановить законный порядок.
Баррас, которого воспоминания о девятом термидоре вынуждали избрать из среды своих коллег людей, облеченных властью, искал вокруг себя людей, способных командовать войском в те знаменательные дни, когда каждый рисковал жизнью. Его взгляд упал на Бонапарта, бродившего по коридорам.
Карно предложил вверить командование войском Брюпу. Баррас возразил, что требуется артиллерист. Фрерон, влюбленный в Полину Бонапарт и домогавшийся ее руки, поддержал имя Бонапарта.
— Я даю вам три минуты на размышление, — сказал Баррас.
В продолжение этих трех минут мысль Бонапарта работала с головокружительной быстротой. Он опасался, что согласие возложит на него тяжелую ответственность, которая всегда тяготеет над людьми, применяющими репрессии. Рассеять восставших значило, быть может, навсегда предать свое имя народным проклятиям. Он отказался от команды бригадой, посланной против вандейцев, должен ли он был теперь вести солдат против парижан? Он не создан был для гражданской войны. Кроме того, в глубине души он во многом разделял чувства мятежников. Они хотели изгнать людей слабых и неспособных, стремившихся закрепить за собой навсегда власть, отняв у народа права на выбор своих представителей. Будучи побежден, он стал бы жертвой мести мятежников, овладевших Парижем, а победив, обагрил бы свою шпагу французской кровью и стал бы козлом отпущения за грехи революции, которым он был чужд. Но с быстротой молнии мысль Наполеона менялась и показывала ему последствия отказа: если конвент будет разогнан, что станется с завоеваниями революции? Победы при Вальми, Жемапе, Тулоне, славные успехи двух армий становились бесполезными; их результаты уничтожались изменой и реакцией. Падение конвента было бы концом революции и порабощением Франции; в Страсбурге — австрийцы, в Бресте — высадка англичан; идеи и свобода, введенные в жизнь революцией, должны были погибнуть вместе с завоеваниями. Долг доброго гражданина предписывал ему присоединиться к конвенту несмотря на его недостатки, и, раз уж он носил оружие, он должен был защищать установленное правительство, как бы велика ни была неспособность его членов. Поэтому, подняв голову, Наполеон ответил Баррасу:
— Я согласен, но предупреждаю вас, что, раз обнажив шпагу, я вложу ее в ножны только после окончательного восстановления порядка.
Это было в час ночи. Утром победа явно была за конвентом, и Баррас заявил с трибуны:
— Я обращаю особое внимание конвента на генерала Бонапарта. Только ему и его быстрым и умелым распоряжениям мы обязаны защитой этой ограды, вокруг которой он так искусно расположил охрану. Я прошу, чтобы конвент назначил Бонапарта на должность помощника командующего внутренней армией.
Через несколько дней Баррас подал в отставку и Бонапарт остался один во главе армии.
Это было своевременно. У Наполеона уже не было сапог, и его платье имело почти неприличный вид.
За несколько дней до того он осмелился явиться к мадам Тальен. Эта увлекательная и лукавая женщина, Тереза Кабаррюс, вдохнула огонь в непостоянного Тальена, из своей тюрьмы подготовила день 9 термидора, а теперь властвовала над Баррасом, занимавшим влиятельное положение. Чтобы получить поддержку Барраса и добиться какого-нибудь места, Бонапарт, дошедший до последней крайности, не имея ни денег, ни приличного платья, отправился на один из вечеров прекрасной куртизанки. Ему потребовались вся его энергия и сила его характера для того, чтобы решиться войти в своем жалком костюме в среду прекрасных женщин, нарядных щеголей и блестящих генералов.
Его длинные, ненапудренные (потому что это стоило слишком дорого) волосы падали двумя прядями по сторонам лба; сзади они были связаны. Его сапоги держались на ногах каким-то чудом, дырки на них были замазаны чернилами. Совершенно вытертый мундир, тот самый, в котором он был и на поле сражения, был отделан скромным шелковым галуном вместо блестящего шитья, присвоенного генеральскому чину. Наполеон показался таким жалким блестящей куртизанке, что она тотчас же дала ему письмо к Лефевру, кригс-комиссару 17 парижской дивизии, по которому ему должны были выдать сукна на новый мундир, согласно сентябрьскому декрету III года, предписавшему давать одежду офицерам действующей армии. Бонапарт не принадлежал к ним и не имел права на такую выдачу, но покровительство госпожи Тальен было сильнее декрета, и бедный офицер без жалованья получил сукно на платье, в котором позже, 13 вандемьера, предстал в почти приличном виде перед членами конвента, полными страха и не помнящими себя от восторга.
Быстро, как сказочные принцессы, для которых вырастают дворцы из тыквы, Бонапарт преобразился; изменилось и все вокруг него. Он разместился в главной квартире, на улице Капуцинок. При нем были Жюно и Лемаруа. Своего дядю он вызвал в Париж в качестве своего секретаря. Первое полученное жалованье он употребил на помощь семье. Матери он послал пятьдесят тысяч франков, а себе купил только новые сапоги, которые ему давно хотелось иметь, и велел расшить золотом мундир, который получил благодаря госпоже Тальен. Он поспешил воспользоваться своим влиянием для того, чтобы устроить братьев: Луи он взял к себе в адъютанты, дав ему чин капитана, а для Жозефа добился консульства. В колледж, где учился брат Жером, он послал денег для уплаты долгов и для обучения его изящным искусствам, рисованию, музыке.
Устроив судьбу своих родственников, спокойный за свое будущее, снова сделавшись генералом, могущим выбирать любое место, так как конвент не мог ни в чем отказать своему спасителю, а директория, вступившая в исполнение своих обязанностей, нуждалась в нем, Наполеон снова стал думать о женитьбе. Выгодный брак, благодаря которому он приобрел бы богатство, влияние и общественное положение, который уничтожил бы следы прежней нужды и помог бы ему поддержать свое новое положение, — вот что было целью его стремлений.
Но Бонапарт, великолепный математик, с сильным и ясным умом, должен был испытать, как самый наивный юноша, силу бурного чувства, направляющего, а иногда и расстраивающего все дела человеческие. Он влюбился.
С легкомыслием школьника он попал в сети стареющей кокетки, пустой, легкомысленной креолки, расточительной и глупой, любившей его только в тот день, когда он, император, снял с ее головы императорскую корону, столь неразумно возложенную им на легкомысленную женщину.
У госпожи Тальен, к которой Бонапарт после 11 вандемьера пришел, чтобы поблагодарить за ласковый прием, оказанный ему в тяжелые дни, он встретил вдову Богарнэ.
Эта вдова была креолкой с Антильских островов, одна из тех авантюристок, которые блуждают по свету, чувственные, смелые, привлекательные, более опасные, чем все куртизанки, и под защитой своего иностранного происхождения проникают в лучшее общество.
Ее звали Мария Жозефа Роза Ташер де ла Пажери. Она родилась 23 июня 1763 года в приходе церкви Богоматери на Мартинике. Отец этой Жозефы, которую звали Жозефиной, по имени Жозеф Гаспар, имел плантации, которые завещал своей семье, переехавшей туда из Франции в 1726 году. Бывший драгунский капитан, кавалер ордена св. Людовика и паж наследной принцессы, он был беден и очень озабочен вопросом о том, чтобы выдать замуж свою старшую дочь, так как у Жозефины были еще две сестры — Екатерина Мария Дезирэ и Мария Франсуаза.
Тетка молодой девушки, госпожа Ренодэн, нашла для нее мужа. Он оказался под рукой: это был сын маркиза Богарнэ, когда-то губернатора островов. Богарнэ были родом из Орлеанской провинции, а госпожа Ренодэн была любовницей маркиза.
Брак был решен заочно, так как молодой Богарнэ был во Франции, и его невеста отправилась туда в сентябре 1799 года. Она приехала в Бордо и через некоторое время обвенчалась с виконтом Александром Богарнэ, назначенным капитаном саррского полка по случаю его брака. Ему было восемнадцать лет, ей — шестнадцать. Бонапарт в то время, когда будущая императрица выходила замуж, был десятилетним мальчиком и поступал в бриеннскую школу.
Молодые супруги поселились в Париже на улице Тевено. Второго сентября 1780 года у них родился сын Евгений, будущий принц и вице-король Италии. Они не долго прожили вместе; скоро молодой виконт покинул жену и отправился в Америку на службу под начальством Булье. Желание доставить американцам независимость и приобрести бессмертную славу вместе с Лафайетом и Рошамбо соединялось у юного супруга с желанием уйти подальше от своей жены-кокетки, очень легкомысленной и расточительной. Он оставил Жозефину беременной. 10 апреля 1780 года она произвела на свет будущую королеву Гортензию, мать Наполеона III.
В это время Жозефина не подавала мужу никаких поводов к упрекам. Сам же он, женившись слишком молодым, стал предаваться новым увлечениям и мимолетным лечениям. Его отъезд мало омрачил легкомысленную женщину, так как возвращал ей свободу, крайне заманчивую для нее.
С топ поры Жозефина вела сравнительно регулярный образ жизни: у нее были любовники, долги, приливы и отливы благополучия. Она жила на окраине общества. Доступ ко двору не был для нее закрыт, потому что Богарнэ принадлежали к почтенному орлеанскому дворянству, но затруднен. Представить туда Жозефину могла только ее тетка Ренодэн, между тем сомнительное положение этой дамы преграждало ей вход в Версаль.
По возвращении во Францию Богарнэ подал просьбу о разводе. Парламент уважил ее, но ввиду обоюдной виновности супругов Жозефине была назначена пенсия в десять тысяч ливров. После развода она сочла нужным побывать у себя на родине, поехала на остров Мартинику и возвратилась оттуда в 1791 году в обществе флотского офицера Сииниона де Рура.
В Париже Жозефина нашла своего мужа занимающим высокое положение. Виконт де Богарнэ, депутат дворянства, сделался одним из влиятельных членов учредительного собрания. Ему принадлежит честь предложения в знаменитую ночь на 4 августа, допускать одинаково всех граждан на должности по гражданскому, военному и духовному ведомствам, а также установить одинаковые наказания для всех классов населения, что было равносильно отмене старого порядка в двух статьях закона. Его неоднократно выбирали президентом национального собрания, и в своем особняке, на Университетской улице, он принимал множество депутатов, старшиной которых состоял.
Честолюбивая Жозефина, жаждавшая быть главой политического салона, где вращался цвет национального собрания, вздумала примириться с мужем. Она прикинулась смиренной, кроткой, раскаявшейся, и благодаря ее ласковой вкрадчивости креолки цель была достигнута. Некоторое время она блистала в этом особняке на Университетской улице, сделавшись его королевой.
Однако дни омрачались. Террор закрыл салоны. Богарнэ отправился на войну. В звании главнокомандующего рейнской армией он вел осаду Майнца. Уволенный в отставку, он был арестован в 1794 году как брат принца Кондэ и генерал-майор его армии. Хотя Богарнэ, будучи всем известным республиканцем и патриотом, очевидно, не мог вступать в договоры с изменниками, однако он был обезглавлен на гильотине 5 термидора. Четыре дня спустя тюрьмы отворились, и Богарнэ уцелел бы и вышел бы на свободу вместе с прочими заключенными, если бы с его казнью не поспешили.
Смерть этого героя была результатом ошибки и торопливости, с какой исполнялись в тот ужасный момент приговоры по уголовным делам. Честь Богарнэ должна быть восстановлена безусловно, хотя его голова и скатилась с плеч заодно с головами изменников, заговорщиков и врагов отечества. Он пал жертвой ложных доносов. Тем не менее этот благородный человек заявил сам, что его смерть никак не следует ставить в упрек революции. Прежде чем взойти на эшафот, в завещании, полном душевного величия, достойном философа древности, Богарнэ особенно подчеркнул свою боязнь, чтобы потомство не сочло его «плохим гражданином» по той причине, что его труп был поднят среди мертвых тел изменников, сраженных мечом правосудия.
«Старайся всеми силами восстановить мою честь, — написал он своей жене в этом последнем предсмертном письме, которое было прервано приходом палача, — докажи, что Целая жизнь, посвященная служению родной стране, торжеству свободы и равенства, должна в глазах народа опровергнуть нарекания гнусных клеветников, вышедших преимущественно из разряда подозрительных людей. Однако этот труд необходимо отсрочить, потому что в разгар революционных бурь великий народ, который борется, чтобы сокрушить свои оковы, должен окружать себя справедливым недоверием и более опасаться забыть виновного, чем поразить невиновного».
Жозефине благоволила судьба в деле брака. Богарнэ и Бонапарт — какая женщина не гордилась бы этими двумя мужьями, но окружила бы их любовью, обожанием, почтением! Между тем она не любила ни того, ни другого, она изменяла им сколько ее душе было угодно с первым смазливым офицериком или молодым щеголем, случайно попавшимся ей в веселой компании, где эта прелестница чувствовала себя в своей стихии.
Революция сделала из Жозефины, отбившейся от своего круга и державшейся до сих пор особняком, подобие важной дамы. Имя ее мужа создало ей ореол в глазах женщин, вращавшихся при прежнем дворе и пощаженных террором. В тюрьме она коротко сошлась со многими почтенными особами, пережившими крушение старинной аристократии, там же завязалось у нее знакомство и с госпожой Кабаррюс. В доме этой дамы, где царила и жеманилась сама хозяйка под двойным флагом гражданина Тальена, своего супруга, и директора Барраса, своего любовника, Жозефина очутилась однажды лицом к лицу с сухопарым и неразговорчивым победителем вандемьера.
Бонапарт вошел в моду. Только и было разговоров, что о молодом генерале, который одним прыжком достиг своей цели и прославился. Парижские салоны наперебой оспаривали его друг у друга. Женщины дарили ему свои улыбки, старались завлечь героя. А он проходил мимо, серьезный, равнодушный и уже властный.
Вдова Богарнэ со своею беспечностью креолки, своими важными манерами и уже поблекшими прелестями пленила холодного молодого человека с первого взгляда. При этой роковой встрече у госпожи Тальен Бонапарт почувствовал себя увлеченным, околдованным, охваченным страстью. Смуглая островитянка, созревшая под знойным солнцем, манила его к себе неодолимыми чарами, и он с восторгом отдался ее обаянию.
Жозефина далеко не обладала красотой. Ее будущий деверь, Люсьен Бонапарт, такими словами передает впечатление, которое она произвела на него:
«У нее было мало, очень мало ума и совсем отсутствовало то, что можно назвать красотой; ее заменяли известные особенности креольской расы в гибких движениях стана при невысоком, скорее низком росте; ее лицу недоставало природной свежести, хотя этот недостаток довольно удачно пополнялся ухищрениями дамского туалета при свете люстр; наконец наружность Жозефины в общем была не лишена кое-каких остатков ее первой молодости, которые живописец Жерар, этот искусный реставратор поблекшей красоты у женщин зрелых лет, весьма талантливо воспроизвел на сохранившихся у нас портретах супруги первого консула… На блестящих вечерах директории, на которые я удостаивался приглашения от Барраса, Жозефина казалась мне уже немолодой и гораздо менее привлекательной, чем другие красавицы, обыкновенно составлявшие двор сластолюбивого директора, среди которых прекрасная Тальен была настоящей Калипсо».
Этот не особенно лестный портрет кажется верным.
Жозефине тогда перевалило уже за тридцать лет. Она была матерью двух малолетних детей, и тревожное существование, превратности судьбы, далекие путешествия, жизнь на широкую ногу, домашние неурядицы, мимолетные любовные связи, конечно, содействовали тому, чтобы ускорить для этой женщины постепенный ход времени.
Тем не менее она победила победителя при их первом разговоре наедине. Бонапарт вышел от Тальен после беседы с Жозефиной с взволнованным сердцем, блестящими глазами, дрожа всем телом от лихорадки, которая была впервые не лихорадкой славы, мучимый потребностью, которая не была уже голодом, забыв даже о своей семье и пренебрегая завоеванием мира, о котором он мечтал в одинокие часы убогой юности. Наполеон думал только о победе над соблазнительной Жозефиной, или Иейт, как, по ее словам, называлась запросто среди близких друзей эта сладострастная креолка.
XXIII
Бонапарт, ранняя юность которого была сплошь целомудренна, трудолюбива и который знавал лишь мозговые кутежи и упоения интеллекта, влюбился в Жозефину без памяти. Бесспорно, что она нисколько не заслуживала этой чрезмерной любви. Но молодой генерал находился в таком психологическом состоянии, что его сердце должно было роковым образом воспылать при первом соприкосновении с женщиной, приблизительно соответствовавшей тому женскому типу, тому образцу, который в давнишних мечтах лелеяло и жадно призывало его воображение.
Жозефина была не из числа умных женщин, синих чулков, всю жизнь внушавших Наполеону непреодолимое отвращение. Она не любила щеголять игривостью ума, отпуская ловкие остроты или лукавые эпиграммы. Она понравилась сначала Бонапарту тем, что, по-видимому, очень интересовалась его военными победами и рассуждала с ним о стратегии.
Кроме того, она обладала ни с чем не сравнимым достоинством в глазах Наполеона: разве Жозефина не принадлежала к старинной аристократии? По мнению мелкого корсиканского дворянчика, воспитанного в жалкой усадьбе и никогда не видавшего вблизи изысканно одетых женщин, сохранивших аромат старинного королевского двора, эта виконтесса воплощала в себе женскую красоту в сочетании с величием. Престиж знатности после окончания террора оживал обновленным: гильотина освежила потускневшую мишуру старого режима, и под волною крови дворянство снова получило яркий колорит и жизненную силу. Подтверждалось правдивое слово искушенной в любовных интригах вдовствующей аристократии: «Для простолюдина маркиза остается всегда тридцатилетней». Эта притягательная сила знатности, этот престиж титула, имени, ранга проникли до самой глубины деморализованных общественных слоев. Разве торговец не выставляет напоказ свою титулованную клиентуру? Разве содержатели гостиниц не отворяют настежь двери своих помещений, а иногда и своих денежных сундуков перед знатными господами, зачастую не менее опасными, чем щипцы карманных воров? А в тривиальности своего любовного жаргона разве донжуаны в фуражках не изъявляют до сих пор своего восхищения и своих желаний при виде красивой девушки таким возгласом, пропитанным насквозь почтением былых времен: «Я расцеловал бы ее как королеву!»?
Бонапарт, кипучий гений которого в силу незнания светских обычаев и светской жизни не мог отличить настоящую важную даму (потому что никогда не видывал таких раньше) от этой беспутной вдовы Богарнэ с мягкими движениями и томными глазами, с искренностью и простодушием восхвалявшей его военные таланты.
Во всякой возникающей страсти, как бы ни была она безрассудна или, наоборот, логична, как бы ни казалась она неизбежной впоследствии, всегда нужно установить зародыш, начальный двигатель, толчок. У одного — это потребность любить, запросы пола; другой подчиняется законам притяжения и общества, избегая одиночества, скуки — этого дряблого чудовища, липкого, как спрут, который цепко обхватывает вас своими щупальцами; для третьего — любовь уподобляется цветку, выросшему на возделанной почве, распускающемуся на растении под напором изобильных соков; наконец, для иных мужчин, обладающих созерцательным умом и объективным мышлением, для людей с громадной творческой фантазией, строителей воздушных замков, владельцев невероятных кораблей, предназначенных к отплытию в сказочные страны, любовь есть осуществившееся понятие, воплощенная идея, умственный пар, сгустившийся в беломраморное женское тело. У таких (к числу их принадлежал и Наполеон) — у поэтов, никогда не писавших, однако, стихов, женщина, парящая перед ними в мечтах, непременно принимает назначенный ей облик; она выходит из таинственных глубин неведомого, подобно статуе, предварительно задуманной ваятелем и выходящей постепенно из бесформенной глиняной глыбы, почти подобная златокудрой праматери Еве, взятой из ребра первого супруга на земле.
Наполеон любил в Жозефине идеальную любовницу. Он не нашел в ней знакомых черт, носа, рта, глаз, скомбинированных им в воздушном образе воображаемого предмета своей любви. С ее матовым цветом лица и смугловатой кожей, свойственными богачке из тропических стран, которая была воспитана в тени, прогуливаясь в паланкинах из индийского тростника и качаясь в гамаках, тогда как две негритянки обмахивали ее опахалами из крупных страусовых перьев во время этой грациозной сиесты, послеобеденного отдыха в жарких странах, с ее темно-синими глазами, каштановыми волосами золотистого оттенка, которые кудрявились, будучи схвачены золотым обручем, Жозефина, конечно, не воплощала в точности физический тип, созданный воображением этого мечтателя. Зато она превосходно олицетворяла собой идеальную женщину, которой дожидался Наполеон, которую он желал.
Попытка сойтись с вдовой Пермон, годившейся ему в матери, доказывала, что Бонапарт придавал лишь второстепенное значение вопросу о годах. Зрелость Жозефины, бесспорно, была лишней прелестью в глазах этого сурового солдата, неумолимого и холодного политика, каким он успел уже сделаться.
Его неудачное обращение к торговцу марсельским мылом, когда он вздумал свататься к Дезирэ, родной сестре жены его брата Жозефа Бонапарта, служит доказательством, что будущий повелитель Франции не был равнодушен к вопросу о приданом. Он искал себе жену, которая могла бы держать модный салон и вместе с материальным обеспечением принесла бы ему хорошо обставленный дом, связи и прочно установленное общественное положение. Жозефина, в его глазах, обладала всеми этими достоинствами. Подобно вдове Пермон, она принадлежала к аристократии, а вдобавок, подобно Дезирэ Клари, была богата. По крайней мере так думал Наполеон Бонапарт.
После их встречи в доме Тальен он был приглашен в маленький особняк под № 6 на улице Шантрейн, где был ослеплен тем, что принял за роскошь настоящей виконтессы.
В действительности квартира на улице Шантрейн отличалась скромностью и была меблирована с грехом пополам кое-каким старым хламом. Недостаток средств сквозил здесь на каждом шагу. Тем не менее с помощью Готье, совмещавшего в своем лице и садовника, и кучера, и лакея, а также горничной Компуан, которая пользовалась большой дружбой и доверием Жозефины, одевалась почти так же элегантно, как ее госпожа, и занимала возле нее место приятельницы и сестры, обаятельной креолке удалось ослепить Бонапарта, который ничего не смыслил по части роскоши и был похож на унтер-офицера, приглашенного в гости к жене полковника.
В особняке № 6 на улице Шантрейн, нанятом у гражданки Тельма за четыре тысячи ливров, в сущности жила золотая богема. Вина в погребе там не было, как и дров в сарае, но карета, запряженная парой чахлых кляч, красовалась на виду у входа в павильон. Жозефина, большая кокетка, весьма ловко выезжала на показной роскоши. У нее было множество платьев и очень мало рубашек. Ее легкие, воздушные костюмы из газа и кисеи производили большой эффект на парадных собраниях, а стоили ей дешево.
Бонапарт тотчас попался на удочку. Он вышел из убогого домишка с обезумевшей головой и распаленными чувствами. Жозефина сделалась теперь предметом его желаний как женщина, как тело, как существо, которым можно обладать; и он жаждал заключить ее в объятия, смять под бурным натиском своих ласк.
Та, которую он не зная искал по ее внешним качествам, по ее положению в свете, по ее происхождению, родству, по ее кругу, была наконец найдена им и как женщина удовлетворяла всем требованиям его желания. Наполеона влекло к Жозефине, и он был уверен, что она достанется ему, так как ничто не могло остановить его волю, стремительную, как снаряд, выпущенный из орудия.
Жозефина сначала колебалась. Хотя ее собственное положение было непрочно, однако она спрашивала себя, не изменит ли счастье генералу Бонапарту. В конце концов для нее он был лишь выскочкой, сделавшим карьеру благодаря расположению к нему Барраса. Если бы последний не остановил своего выбора на Наполеоне, то защиту конвента 13 вандемьера поручили бы Брюну или Вердьеру, которых предлагал Карно. Будет ли Баррас и дальше покровительствовать молодому искателю приключений? Не взглянет ли неблагосклонно на этот брак всемогущая директория? И Жозефина решила посоветоваться с чувственным и циничным властелином Франции того времени. Однажды вечером она приказала запрячь лошадей и отправилась в Люксембургский дворец к гражданину Баррасу, члену директории.
XXIV
В Люксембургском дворце давали праздник и шло шумное веселье, когда Жозефина Богарнэ велела доложить о себе. Она оделась изысканно, по новой моде, в платье фасона «флора», свободно развевавшееся наподобие шарфа, легкое, воздушное, почти прозрачное, из-под узорной ткани которого сквозила матовая белизна тела оттенка слоновой кости.
Ей хотелось не только понравиться сегодня Баррасу, но и затмить всех красавиц, казавшихся подобным роскошным цветам в облаках розового, белого, голубого газа, в греческих и римских одеяниях, в костюмах Дианы, Терпсихоры; одним словом, она хотела превзойти всю мифологию тогдашнего Олимпа, собравшегося в салоне Барраса.
Независимо от того, выйдет ли она за генерала Бонапарта или отвергнет его, Жозефина твердо решилась поддерживать свою репутацию модной красавицы, окруженной поклонниками, осыпанной вниманием, и доказать, что она не отступилась от владычества своих прелестей. Смелый шаг, на который отваживалась креолка, ее решимость обратиться за советом и помощью к блестящему директору на самом деле служили только предлогом показать ему, что она составляет предмет домогательств, пылких желаний и любви выдающегося человека, правда, вчерашней знаменитости, но уже обещавшей подчинить своей власти мир, который пророчил новому баловню судьбы высокий жребий. Жозефина спешила похвастаться перед своими соперницами влюбленным в нее Бонапартом как невиданным украшением, как драгоценностью, немножко дикой с виду, но громадной стоимости; ей было приятно сообщить Баррасу, прикрываясь желанием посоветоваться с ним, что его сотоварищ по командованию внутренней армией, его помощник в знаменательный день, день вандемьера, победоносная шпага которого могла весить не меньше его парадной сабли на весах будущего, находил ее восхитительной и не был настолько глуп, чтобы предпочесть ей какую-нибудь порочную женщину с оскверненными прелестями.
Было ли то кокетство, сожаление или ирония? Исторически Жозефина не считалась любовницей Барраса, в реальности же реставрированных будуаров, в поэтической обстановке сильфид и прозрачных нимф, написанных Прюдоном, она была султаншей на час для Барраса, этого демократического паши с зверским лицом рубаки и с изящными претензиями кутилы эпохи регентства.
Ни одна женщина не устояла против этого сердцееда, который был предательски опасен для женской добродетели. Вся его жизнь представляла ряд любовных приключений. Этот революционер был аристократом по рождению, одновременно красным каблуком и красным колпаком (красный каблук — отличительный признак французского дворянства в старину; красный фригийский колпак — отличительный признак революционеров), и назывался граф Поль де Баррас. Южанин, родом из Фокс-Анфу в Варе, капитан королевских армий, член конвента, цареубийца, президент грозного собрания, облеченный властью главнокомандующего 9 термидора и 13 вандемьера, Баррас был избран членом директории, получив 129 голосов из 218. Известно, что директория состояла из пяти членов, назначенных советом старшин по списку из пятидесяти членов, представленных собранием пятисот. Сотоварищами Барраса были Ларевельер-Лепо, Рьюбель, Летурнер и Карно. Последний из всех, Баррас, выдвинулся на первый план и на самом деле управлял директорией. Он был высок ростом, крепок и смахивал с виду на сказочного простака, достигшего высоких почестей; под пышным директорским плащом он сохранял нравы и повадки казарменного донжуана. Его товарищи, трудолюбивые, как Летурнер, строгие, как Карно и Рьюбель, восторженные, честные, но невзрачные, как безобразный Ларевельер-Лепо, не служили представителями блестящей, театральной, даже фиглярской власти, если можно употребить это слово, в то время неизвестное, так, как того хотели французы III года, которым надоела свобода и которые сожалели об удовольствиях, беспечности, вольности нравов и пышном обиходе старого режима. По своей важной осанке, по манере держать голову среди просителей всякого звания и происхождения, по месту, которым он приподнимал свою шляпу с тройным белым пером, по солдатской небрежности, с какой он волочил по паркетам Люксембургского дворца свою кривую саблю в серебряных вызолоченных ножнах, Баррас превосходно олицетворял для толпы, вернувшейся к былому раболепию, королевское величие, восстановленное без монархии. Этот Людовик XIV гвардейского корпуса был королем республики. Все служило ему на пользу, в особенности его пороки. Любовницы Барраса составляли охрану его веселой власти. Он успокаивал умы праздниками, которые давал. Народ не думал упрекать этого жуира его наслаждениями. Для Франции только что миновала жестокая битва, ужасный пост, и всем классам общества представлялся желанным единственный режим — тот, который позволял бы жить в мире и ежедневно справлять масленицу.
Гильотина, страшные праздники улицы, мужчины в красных колпаках и карманьолах, фурии гильотины в шелковых платках на голове с изображением отвратительного лица Марата, изгнанная роскошь, подозрительная любовь, искусство, бежавшее за границу, — все это превратилось теперь в тягостный кошмар. Французы пробуждались в радости, в упоении, брались вновь за удовольствия, внезапно оживившиеся к общему благополучию; республиканцы пировали за столом среди аристократов, пощаженных террором. Обеды, загородные прогулки, бутылки вина, откупоренные среди веселых товарищей и красивых девушек, розы, которыми усыпали скатерти и столовые приборы, экипажи, как будто возвращавшиеся из конюшен Плутона, гости, между которыми многие, подобно Лазарю, действительно вышли из могилы, придавали этой странной, пестрой, могучей эпохе колорит и чрезвычайность, каких никогда не увидят больше умиротворенные века.
Сластолюбивый и умный Баррас превосходно олицетворял этот переходный период директории с его безумством, страстями, а также и мощью. Он восстановил порядок на улице и удовольствие в обществе. Мудрено ли после этого, что все женщины были от него без ума? Вместе с тем Баррас был весьма расточителен: как он кидал золото на столы для игры в брелан в Пале-Рояле, как сыпал горстями луидоры юным красавицам — продажным ночным бабочкам, привлеченным сиянием этого нового светила. Кабаррюс играла роль его любимой одалиски. Эта пронырливая куртизанка, которая оттолкнула от себя отвратительного Тальена, больше не нуждалась в нем, была не только признанной любовницей Барраса, но и его сообщницей. Это она являлась великим агентом общественного растления. Она исправно помогала сибариту-директору похоронить революцию под цветами и призвать на смену кровавому распутству грязную оргию.
Вечеринка у Барраса соединяла все, что было в тогдашнем обществе изящного, благородного, порочного, добродетельного, славного. Молодые генералы, старые парламентарии, женщины, носившие в брелоках локон жениха, брата или первого любовника, срезанный с милой головы в тот момент, как ею готовился завладеть палач Сансон, поставщики, более раззолоченные, чем прежние генеральные откупщики, модные франты в широчайших кисейных галстуках госпожи Анго, унизанные драгоценностями, ученые, писатели; Монж, Лаплас, Вольней толпились в салонах Люксембургского дворца, счастливые тем, что уцелели, желавшие наверстать потерянные часы, думавшие про себя со скептической улыбкой: «Только бы это продолжалось!», Поодаль, в тени, Талейран, вернувшийся из Америки, посмеивался и не сводил взоров с этого разлагающегося общества, как коршун, реющий над свалкой падали.
Когда Жозефина сообщила Баррасу, что желает переговорить с ним наедине, ее провели в маленькую гостиную, смежную с директорским кабинетом. Тут ей пришлось обождать несколько минут. Перегородка оказалась тонкой, и из соседней комнаты явственно доносились голоса. Жозефина услыхала конец жаркого спора:
— Почему ты подозреваешь Бонапарта? — сказал Баррас, звучного голоса которого нельзя было не узнать. — Си человек без корыстолюбия, какого нам и надо…
— Я считаю его честолюбцем, — возразил невидимый оппонент хозяина.
— А разве сам ты, Карно, не честолюбив? — продолжал Баррас. — Признайся откровенно: Бонапарт внушает тебе зависть. Ведь ты уничтожил, не представив их директории, составленные им планы для итальянской армии, из боязни лишиться своей славы благодаря триумфу нашего оружия!
— Я не знаком с этими планами, — возразил Карно, — они мне совершенно не известны. Клянусь, что это неправда.
— Не поднимай руки для клятвы! — грубо перебил его Баррас. — С нее, того и гляди, закапает кровь!
— И ты? Так же и ты упрекаешь меня в том, что я подписывал смертные приговоры? — резко подхватил Карно.
— Все смертные приговоры… да, ты подписывал их все с Робеспьером.
— Я подписывал их, не читая, как Робеспьер подписывал все мои планы нападения, не бросив на них даже взора. Мы служили революции каждый по-своему. Нас будет судить потомство!
— Убирайся, кровопийца! — воскликнул Баррас.
— Прощай, упивающийся золотом и сладострастием! — ответил Карно. — Повторяю тебе: я боюсь честолюбия Бонапарта, но не противлюсь тому, чтобы назначить его главнокомандующим в Италии! Ведь, в конце концов, он был цареубийцей, как и мы с тобой. Награждай его — это твое дело! Только не верь, что его намерения столь добродетельны, как ты воображаешь… Тринадцатого вандемьера он спас не Рим, а Византию! — И бывший член Комитета общественного спасения вышел вон, громко хлопнув дверью.
Баррас откинул портьеру, с улыбкой предстал перед Жозефиной и спросил:
— Какая счастливая случайность принудила вас, прекрасная виконтесса, удалиться от праздничного веселья и доставила мне приятную неожиданность этого разговора с вами наедине?
В глубине души Баррас был встревожен. Он не пренебрегал мимолетной благосклонностью соблазнительной креолки, но совсем не имел в виду возобновлять отношения, которые время от времени носили только характер случайной прихоти. Жозефина, сильно нуждавшаяся в деньгах, без поддержки, без связей, была счастлива сблизиться на минуту с человеком, победившим термидор, бывшим аристократом, щедрым, любезным, который мог послужить ей если не явным покровителем, то по крайней мере порукой в затруднительных обстоятельствах. Он же, со своей стороны, нетерпеливо спеша восстановить традиции старого режима, был польщен победой над женщиной знатного происхождения — вдовой президента учредительного собрания, главнокомандующего славной рейнской армией. Но между ними не оставалось ничего, кроме воспоминаний о приятной связи и прелести быстро миновавших наслаждений.
Несколько смущенная Жозефина откровенно сообщила ему о цели своего визита.
— Мне представляется возможность вторичного замужества, милейший Баррас. Что скажете вы на это?
— По-моему, вы осчастливите своего суженого… Могу ли я узнать, на ком остановили вы благосклонный взор?
— Вы его знаете, Баррас! Это генерал Вандемьер, — с улыбкой ответила Жозефина.
— Бонапарт? Малый с будущим… первостатейный артиллерист. Если бы вы, как я, видели его верхом на коне, в закоулке Дофина, наводящим пушки на секционеров, взобравшихся на ступени церкви Сен-Рока, то вы убедились бы, что такой храбрец непременно должен быть превосходным мужем! О, ему неведом страх! Мы стояли рядом, а секционеры открыли дьявольский огонь, — промолвил Баррас как бы в сторону.
— Он добр, — заметила Жозефина, — ему хочется заменить отца осиротевшим детям Александра Богарнэ и мне — мужа.
— Это весьма похвально. Но любите ли вы его?
— Я буду откровенна с вами, Баррас. Нет, я не люблю его. Я не чувствую к нему отвращения, но не могу сказать, чтобы он и нравился мне. Относительно его я нахожусь в состоянии прохлады, которая не предвещает хорошего. Люди набожные — ведь вам известно, что на Мартинике, моей родине, сильно развита набожность, — так вот люди набожные считают такое состояние самым опасным для души.
— Но вопрос касается и тела, когда заходит речь о браке.
— Любовь есть также культ, Баррас! Она требует веры… человеку нужны советы, поучения, чтобы верить, проникнуться усердием. Вот почему пришла я посоветоваться с вами. Решаться на что-нибудь самой всегда казалось непосильным для моей беззаботной натуры. Всю жизнь я находила более удобным подчиняться чужой воле.
— Значит, я должен приказать вам выйти за генерала?
— Посоветуйте только мне это. Я восхищаюсь храбростью Бонапарта. Тринадцатого вандемьера он спас общество. Это человек высшего полета, — промолвила Жозефина. — Я ценю обширность его познаний по всем отраслям, которая дает ему возможность здраво судить обо всем, ценю живость его ума, благодаря которой он схватывает на лету чужую мысль раньше, чем ее успеют выразить; но меня, признаюсь, пугает то, что Бонапарт, по-видимому, стремится подчинить своей власти все окружающее.
— У него в самом деле повелительный взор! При нашей первой встрече, — серьезно заметил Баррас, — я был крайне удивлен его наружностью. Предо мной стоял мужчина ниже среднего роста и чрезвычайной худобы. Его можно было принять за аскета, бежавшего из пустынного уединения. Волосы, подстриженные на особый манер, заложенные за уши, ниспадали у него по плечам… О, это не щеголь из среды нашей золотой молодежи! На нем был фрак прямого покроя, застегнутый доверху, с узенькой каемкой золотого шитья, а на шляпе — трехцветное перо. С первого взгляда он показался мне некрасивым, но характерные черты, живой, пытливый взор, быстрота и резкость жестов обнаруживали пылкую душу; широкий, нахмуренный лоб обличал в нем глубокого мыслителя. Его речь была отрывиста; он выражается не совсем правильно. Но если Бонапарт не гонится за правильностью языка, зато ежеминутно находит великое… Это настоящий мужчина, Жозефина, человек цельный, доблестный, который, может быть, завтра сделается героем! Если он сватается к вам, берите его. Вот мой дружеский совет.
— Значит, вы предлагаете мне выйти за него?
— Да… и со временем вы его полюбите.
— Вам так кажется? Я немного побаиваюсь генерала…
— Не вы одна! Все мои сотоварищи опасаются его. Карно, террорист, кровопийца, сообщник Робеспьера, ненавидит Бонапарта, потому что завидует ему и боится его. Но ведь он любит вас, как вы сказали мне?
— Он страстно влюблен в меня, но, Баррас, — ведь между друзьями можно говорить откровенно! — пережив первую молодость, могу ли я надеяться сохранить надолго эту пылкую любовь, которая у генерала походит на припадок бреда?
— Не беспокойтесь о будущем.
— А вдруг после свадьбы он разлюбит меня? Не придет ли тогда ему в голову вымещать на мне свое малодушие, свою податливость? Пожалуй, он раскается в своем увлечении и затаит в сердце горечь разочарования. Не пожалеет ли он впоследствии, что не составил более блестящей партии, не женился на женщине моложе меня годами? Что отвечу я ему тогда? Какой найду выход? Я буду плакать. Не лучше ли заблаговременно избежать этих слез?
— Зачем рисовать себе заранее мрачные картины? Мы навлекаем на себя лишнее горе, страдая заранее от воображаемых бедствий! Бонапарту написано на роду сделаться счастливцем. Скажите, вы суеверны? Так вот, извольте видеть, генерал говорил мне, что у него есть счастливая звезда и что он верит в нее.
. — Когда я жила на острове Мартинике, то одна негритянка, занимавшаяся колдовством и удивительно верными предсказаниями будущего, напророчила мне, что я со временем надену королевскую корону. Мне что-то не верится, чтобы Бонапарт сделался королем, а я разделила с ним трон.
— Вы можете разделить с ним славу, которая увенчает главнокомандующего прекраснейшей армией республики.
— Что хотите вы сказать этим? — спросила удивленная Жозефина, припоминая только что происходившую перебранку Барраса с Карно из-за генерала Бонапарта.
— Я хочу сказать, что вы будете счастливейшей из женщин, как теперь вы прелестнейшая царица красоты в нашей республике, если выйдете за Бонапарта. А в виде свадебного подарка я, ваш старинный друг, благодарный сверх того и генералу, под моим начальством так славно расстреливавшему мятежников, положу вам в корзинку чудесную вещицу — назначение вашего мужа главнокомандующим итальянской армией! Однако гости, должно быть, уже удивляются моему отсутствию на празднике, — сказал Баррас, наслаждаясь смущением Жозефины, — берите меня под руку и вернемся в салоны. Я хочу первым поздравить Бонапарта с предстоящей женитьбой и его новым назначением!
И, увлекая вдову Богарнэ, пораженную предписанным ей решением и неоценимой милостью, которую всемогущий директор оказал ее будущему супругу, Баррас величаво вступил в парадные комнаты, залитые огнями, пестревшие цветами и женскими туалетами, под руку со своей бывшей любовницей, которой предстояло отныне называться госпожой Бонапарт.
XXV
23 февраля 1796 года Бонапарт был назначен главнокомандующим итальянской армией. Карно присоединился к мнению Барраса, один Рьюбель противился этому назначению, но дело обошлось без его согласия.
9 марта, то есть несколько дней спустя, была отпразднована свадьба генерала и вдовы Богарнэ.
Надо думать, что их брак совершился раньше.
Весь этот период жизни Бонапарта был сплошной любовной горячкой. Он буквально обожал свою Жозефину, молился на нее, падал перед нею на колени как самый пламенный поклонник перед святыней. Он осыпал ее ласками, душил в объятиях, кидался к ней и уносил ее, как зверь свою добычу, в разоренный альков. Подобно варвару при грабеже, набрасывался он на воздушные покровы, которыми Жозефина, в память тропических вечеров, люби;а окутывать свои прелести. Наполеон срывал, раздирал, распарывал, превращал в клочья все, что служило помехой для его трепетных рук, для его жадных уст. Вся крайность исключительной натуры сказывалась в этом завладевании, жестоком, как кавалерийская атака. Он любил и брал женщину в первый раз в жизни или около того, и накопившиеся в нем запасы страсти прорывались наружу подобно потоку, опрокидывали все преграды подобно реке, которую долго сдерживали и для которой наконец открыли плотину. В этом мощном разливе, в этом утолении голодной плоти, в этом двойственном наслаждении, где удовлетворенное самолюбие, польщенное тщеславие, радость достижения цели, осуществившаяся мечта сливали вместе свои восторги, Бонапарт забывал жажду войны, жажду славы, жажду могущества, которая всю жизнь чрезмерно напрягала его нервы. Воинственный корсиканец стал неузнаваем. В экстазе любви он дрожал, бормотал несвязные речи, смеялся и плакал. К этому обладанию Жозефиной у него примешивалось безумие, что-то болезненное, точно его организм был отравлен непомерными излишествами.
Свадебное празднество положило конец их краткому медовому месяцу.
Два дня спустя после официальной церемонии Наполеон снарядился в дорогу, чтобы отправиться в Италию. С той поры он вступил на путь славы; отныне ему предстояло останавливаться в гостинице любви лишь мимоходом, между двумя победами, пока не было суждено роковым жребием споткнуться об ослепительно белую постель Марии Луизы, эрцгерцогини Австрийской.
В брачной записи Бонапарт из любезности, с целью уравнять разницу лет, прибавил себе два года лишних, тогда как Жозефина из кокетства, с помощью свидетельства о рождении, за неимением правильной метрики, убавила себе четыре года. Однако это плутовство хорошенькой Женщины, не желавшей показаться слишком пожилой рядом с молодым супругом, привело к ужасным последствиям Для Жозефины при разводе, повлияв на признание законности ее брака с Наполеоном.
Бонапарт унес с собой горячку страсти, ускакав в Италию, где его ожидали самые невероятные триумфы. Он не пропускал дня, чтобы не написать своей Жозефине любовное послание, несколько напыщенное по тону. Заваленный работой, утомленный бессонными ночами, едва успев спрыгнуть с коня после объезда позиций накануне боя, молодой генерал среди умножившихся забот и опасностей никогда не забывал набрасывать на бумаге пламенные фразы, свидетельствовавшие о силе его любви. И это письмо тотчас вручалось курьеру, который скакал сломя голову день и ночь, отвозил его в Париж вместе с донесением о выигранной накануне битве и перечнем знамен, отнятых у неприятеля, которые возлагались впоследствии адъютантом на алтарь отечества при великолепной церемонии под председательством директоров.
Наконец настал дивный праздник Победы, организованный Наполеоном из его палатки, разбитой на плоскогорье Риволи. Этот день патриотических восторгов, доставленных Парижу, когда его друг Жюно поднес конвенту австрийские знамена, был задуман им ради своей Жозефины. Ничтожная и чувственная креолка превратилась в тот же день в королеву Франции. Перед войсками, перед лицом всего собравшегося народа, под пушечную пальбу и колокольный звон, которые возвещали ликующему городу торжество победы, Жозефина шествовала под руку с Жюно. В лице последнего население приветствовало представителя, друга, соратника героя Наполеона, имя которого неслось к небу, возглашаемое сотней тысяч исступленных уст. Карно, стоя в центре трибуны на Марсовом поле, держал речь, сравнивая в ней молодого победоносного генерала с Эпаминондом и Мильтиадом. Лебрен, официальный поэт, управлял хором, исполнявшим гимн, специально сочиненный для этого случая.
Весь Париж был заинтересован гражданкой Бонапарт, а ее супруг, находясь вдали от Франции и отдавая приказ наступать и взять Мантую штурмом, наслаждался заочно триумфом, который приготовил для предмета своей любви. Между тем Жозефина в тот же самый вечер после апофеоза, где она выступала богиней, спровадив мелкого актера, занимавшего ее в последнее время, отдалась гусарскому корнету, некоему Шарлю. Этот любовник получал от своей покровительницы все, что у нее оставалось от уплаты торговцам, ростовщикам, модисткам из тех денег, которые высылал семье Наполеон, обрекая себя на лишения. Таков был придуманный ею способ награждать армию.
Жозефина не только обманывала своего молодого мужа, пылкого, славного, кумира всех прочих женщин, но не любимого ею; она даже не считала нужным оказывать ему внимание, какого требовало простое приличие. Эта беспечная женщина долго отказывалась отправиться в Италию, куда Наполеон призывал ее всей силой своих пылких желаний. Изнывая в тоске по ней, он был готов на всякие сумасбродства: хотел бросить командование армией, подать в отставку, примчаться в Париж к своей Жозефине, если она не решится приехать к нему.
Наконец Жозефина с большим трудом согласилась покинуть Париж, который так любила, и пуститься в дорогу. Вместе со своим багажом она сочла нужным захватить и красавца Шарля.
Когда в продолжение настоящего рассказа у нас зайдет речь о разводе Наполеона, мы еще вернемся к многочисленным эпизодам постоянной измены этой коронованной беспутницы, судьбой которой старались разжалобить народную душу романисты, драматурги и поэты, обманывая потомство.
Наполеону изменяли не только те маршалы, которых он щедро осыпал почестями, обогащал наградами. И обе женщины, которым он предложил разделить славу его имени, оказались грязными плутовками. Мария Луиза, дочь императора, эрцгерцогиня, падкая до мужской любви, пожалуй, заслуживает даже большего снисхождения. Ведь она не была вытащена Наполеоном из сомнительных будуаров директорского волокитства, и от нее нельзя было требовать благодарности коронованному солдату, который завоевал ее со шпагой в руке и занял ее ложе победителем, как занимают сдавшуюся неприятельскую столицу.
После итальянского похода, предварительных переговоров в Леобене и заключения мира в Кампо-Формио Бонапарт, одновременно триумфатор и миротворец, снова стал бредить Востоком. На этот раз его подстрекали к тому не нужда, не честолюбие, но смутное вожделение женщины, пылкой и алчной до всего, что можно приобрести, добыть, захватить и удержать в руках, хищных и цепких, как когти. Восток был для Наполеона не только раем побед и славы, которые мерещились ему в чаду его сна и наяву. Этот край манил к себе корсиканца, как пристань и убежище.
По возвращении в Париж 5 декабря 1797 года, после утверждения Кампо-Форминского трактата и подписания военной конвенции, по которой к Франции отходили Майнц и Манигейм, то есть Рейн, Наполеон, поселившийся в своем маленьком особняке на улице Шантрейн, лестным образом переименованной в улицу Победы, вскоре изведал неудобства популярности и опасности исключительного положения в республике.
Прежде всего ему пришлось присутствовать на торжествах в честь победоносных армий. Наполеон был героем этих праздников. Все взоры устремлялись только на него среди яркой пестроты трепещущих знамен, и имя Бонапарта было у всех на устах. Баррас, Талейран, который уже пробовал свои способности в искусстве предательства, торжественно прославляли его. Наполеон отвечал в неопределенных выражениях. Из его благодарственной речи ясно выделялась лишь одна фраза, почти угрожающая: «Когда счастье французского народа будет опираться на лучшие органические законы, вся Европа сделается свободной». Этими словами возвещалась гроза. Под этой фразой, чреватой бурями, глухо рокотал громовой удар 18 брюмера (9 ноября 1799 года), когда во Франции пала директория. Один из директоров, Сийес, вместе с Бонапартом замысливший этот переворот, предложил своим товарищам по директории, Роже-Дюко и Баррасу, выйти в отставку. Таким образом из пяти членов директории остались только двое и их власть, согласно конституции, считалась недействительной. На следующий день их арестовали и затем была принята новая конституция и было назначено временное правительство из трех консулов (Бонапарт, Роже-Дюко, Сийес). Этот день считается концом французской революции. Бонапарт стал почти полновластным диктатором.
Тогда Бонапарт стал уклоняться от оваций, которые преследовали его. Карно, изгнанный из Франции после переворота 18 фрюкидора (4 сентября 1797 года), оставил вакантное место в Парижской академии. Оно было предложено Наполеону, и с той поры он нарочно появлялся на публичных церемониях в скромном фраке с зелеными пальмами. Под этой ливреей науки баловень военного счастья казался менее солдатом-победителем, чем трудолюбивым слугой идеи.
Внезапно ему в виде национального подношения вздумали подарить замок Шамбор, это чудо искусства Возрождения, однако Наполеон отказался. Он отклонил также все предложенные ему отличия и согласился только принять звание главнокомандующего английской армией.
Бонапарат подготавливал с некоторым шумом проект высадки французских войск в Великобритании. На самом же деле он занимался втихомолку изучением средств поразить неумолимого врага Франции и революции там, где он был особенно уязвим, а именно в его колониях. Наполеона соблазнял Египет, и он решил увлечь туда своих соратников. На берегах Нила представлялась возможность пожинать неожиданные лавры. Бонапарт рассчитывал вернуться из этой сказочной страны с ослепительным престижем. В его кипучем мозгу развивался гигантский и химерический план; он мечтал покорить не только Египет, но и Сирию, Палестину, Турцию, вступить, подобно предводителю крестоносцев, в Константинополь и тут обойти Европу с тыла, гоня волны своей армии, пополненные свежим притоком феллахов, бедуинов, турок и различных племен, привлеченных из Малой Азии. Наполеон мысленно расправлялся со всеми противниками, переделывал по-своему карту мира и заставлял склоняться перед мощью своего непобедимого оружия всех земных владык и все нации.
Так, увлекался он перед планами и картами, относившимися к Египту, поглощенный фантастическими мечтаниями об обширной западной империи. В то же время его холодный рассудок указывал ему на необходимость немедленной отлучки. Бонапарт находил нелишним доказать, что в его отсутствие директория способна только делать промах за промахом, а генералы — нести одно поражение за другим. Врожденная потребность в деятельности побуждала предприимчивого корсиканца искать новых случаев прославиться. Сверх того он ясно сознавал, что народу свойственно непостоянство и что ему скоро надоедает воскурять фимиам своим кумирам.
Глухой заговор заставил его ускорить свой отъезд. У директоров разгорелась зависть к нему. Рьюбель, человек честный, но настоящий дурак, дошел до того, что когда Бонапарт заикнулся однажды об отставке, то он подал ему перо подписать эту бумагу. Делались неопределенные попытки предать Наполеона суду под предлогом присвоения сумм, полученных им в Италии. Директория как будто забыла, что она сама заставляла главнокомандующего доставать там деньги, брать картины, статуи, добычу всякого Рода и что счастливым сотоварищам в рейнской армии выдавались значительные субсидии, помогавшие им выплачивать войскам задержанное жалованье.
19 мая 1798 года Наполеон отплыл из Тулона, направляясь походом в Египет. Перед выходом в море он обратился к своим войскам со следующим воззванием: «Солдаты, знайте, что вами сделано еще недостаточно для отечества, а отечеством — для вас. Вы отправляетесь со мной в страну, где ваши будущие подвиги затмят те, которым дивятся теперь люди, восторгающиеся вами; там вы окажете отечеству услуги, каких оно вправе ожидать от армии непобедимых. Обещаю каждому солдату, что по возвращении из этой экспедиции он будет иметь в своем распоряжении достаточно средств на покупку шести десятин земли».
Египетский поход с его легендарными стоянками (попирая ногами пески пустыни Гизех, солдаты спрашивали в шутку, не тут ли генерал Бонапарт думал наделить их обещанными участками земли), с его невероятными победами, бедствиями на море и сухопутным реваншем в Абукире, — представлял собою настоящую сказку из «Тысячи и одной ночи», которая очаровала султана в лице французского народа, нетерпеливо желавшего узнать ее продолжение.
15 октября 1799 года распространилась важная новость: Бонапарт высадился в Фрежюсе и направился оттуда в Париж. Всюду его сопровождали восторженные клики народа. Теперь он был герой, спаситель, бог. Франция отдалась ему в мощном порыве, как разнеженная женщина, падающая в объятия первого любовника в антракте чувствительной драмы.
Было ли у Наполеона при этом поспешном возвращении в Париж из победоносного похода в Египет заранее обдуманное намерение низвергнуть правительство и заменить своим личным произволом существующий государственный строй? Ничего подобного! Бонапарт был великим фантазером. Перед ним мелькала возможность перемены режима в виде гипотезы восстановления империи Карлов-вингов, и он подчинял события осуществлению этих утопических затей.
Переворот 18 брюмера был предписан общественным мнением, а исполнен Наполеоном. Директория утратила доверие; Франции же надоело это самовластие неспособных правителей. Страна не отдавала себе ясного отчета в том, что она хочет, но настоятельно хотела чего-то. Если бы Бонапарт не решился на отчаянный шаг, на ту же самую попытку отважились бы Ожеро, Бернадотт или Моро.
Наполеон сгруппировал вокруг себя настоящий главный штаб, блестящий и доблестный. В состав его входили Ланн, Мюрат, Бертье, Мармон, затем законоведы, склонявшие юриспруденцию перед силой, как Камбасерес, и мастера удить рыбку в мутной воде, как Фушэ и Талейран. Оба брата Наполеона, Люсьен и Жозеф, действовали энергично в его пользу, особенно Люсьен, состоявший членом собрания пятисот.
Заговор составился без больших предосторожностей. В нем участвовали все или около того.
18 брюмера (9 ноября) 1799 года в шесть часов утра все генералы и старшие офицеры, созванные Бонапартом, собрались в его доме на улице Победы под предлогом назначенного смотра войск. Тут находились все шестеро адъютантов французской национальной гвардии: Моро, Макдональд, Мюрат, Серюрье, Андреасси, Бертье и осторожный Бернадотт, единственный, явившийся в штатском платье.
Отсутствовал один важный генерал.
Бонапарт с беспокойством заметил это и спросил у Мармона:
— Где же Лефевр? Разве он не желает примкнуть к нам?
Как раз в ту минуту доложили о приходе генерала Лефевра. Этот храбрый супруг маркитантки Сан-Жень пошел далеко. Бывший французский гвардеец, поручик милиции, капитан северной армии у Вердена, Лефевр сделался теперь генералом и командиром 17 военной дивизии, т. е. губернатором Парижа. Будучи капитаном 13 полка легкой пехоты в бою при Жемапе, он затем был произведен в батальонные командиры, потом назначен командиром полубригады и, наконец, бригадным генералом в мозельской армии под начальством своего друга Гоша. 10 января 1794 года его повысили до звания дивизионного командира и передали ему командование бессмертной армией Самбрэ-Мёз после смерти Гоша. Под Флерюсом, под Альтен-кирхеном он вел себя героем. После командования дунайской армией Лефевр сделался кандидатом в директорию, но его кандидатура была отклонена из-за крайне республиканских мнений и военного звания доблестного патриота. Содействие Лефевра в качестве главнокомандующего парижской армией было, пожалуй, необходимее всего для Успеха планов Бонапарта. Между тем он не был уведомлен о намерениях будущего повелителя Франции. В полночь, узнав о том, что происходит передвижение войск, Лефевр вскочил на коня и объехал город. Удивленный при виде кавалерии, готовой без его приказа к выступлению неизвестно куда, он строго потребовал отчета у командира Себастьяна, но тот отослал его к Бонапарту. Таким образом, почтенный Лефевр явился к генералу весьма не в духе.
Увидев его, Бонапарт бросился к нему с распростертыми объятиями.
— Ах, старина Лефевр, — дружески воскликнул он, — как поживаешь? А твоя жена, добрейшая Екатерина? По-прежнему душа нараспашку и бойка на язык, не так ли? Моя супруга жалуется, что редко видит ее.
— Моя жена жива и здорова, благодарю вас, генерал, — весьма холодно произнес Лефевр. — Но в данную минуту речь идет не о ней…
— Послушайте, Лефевр, дорогой товарищ, — перебил его Бонапарт ласково и с добродушным видом, который он умел принять в случае надобности, — вы — один из столпов республики; неужели вы допустите, чтобы она погибла в руках адвокатов? Постойте, вот сабля, которую я носил у пирамид: дарю ее вам в знак моего уважения и доверия.
И Наполеон подал Лефевру, колеблющемуся и польщенному, великолепную саблю с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями, палаш Мурада-бея.
— Вы правы, — ответил внезапно успокоившийся Лефевр, — кинем адвокатов в реку! — И он опоясался саблей пирамид.
Переворот 18 брюмера совершился — директория была свергнута.
Вечером этого решительного дня, снова изменившего судьбу Франции, Лефевр, целуя жену, сказал, наполовину вынув из ножен подарок Бонапарта:
— Вот это, Екатерина, турецкая сабля, годная только для парада или на то, чтобы колотить ею плашмя по адвокатским спинам. Мы оставим ее в ножнах. Она будет напоминать нам только о дружбе генерала Бонапарта, такого же выскочки, как мы с тобою, милая женушка!
— Так ты не будешь сражаться этой прекрасной саблей? — спросила Сан-Жень.
— Нет! Чтобы защищать отечество, колотить австрийцев, англичан, пруссаков, повсюду, куда вздумает вести нас Бонапарт, — хоть в тартарары, у меня есть моя сабля Самбрэ-Мёз, которой с меня достаточно!
И, привлекая к себе свою славную жену, которую он любил все так же пылко, как и 10 августа 1792 года, генерал Лефевр запечатлел на ее пухлой щеке долгий поцелуй, откровенный и чистый, как его боевая сабля.
— 3 — Тайна Наполеона
«Тайна Наполеона» — третий из 10 исторических романов известного французского писателя Эдмона Лепеллетье. Они рассказывают о карьере Наполеона, полной приключений и случайностей. На его пути от никому не известного капитана до всемогущего императора встречались люди, обожавшие и ненавидящие его, предававшие и бескорыстно служившие ему. Он почему-то любил женщин, которые не любили его — вечная история! Обо всем этом и рассказывается в предлагаемой читателю книге.
I
Дверь элегантной спальни во дворце Сен-Клу осторожно приотворилась, и в щель высунулось розовое, задорное личико горничной. Затем, осторожно подкравшись к громадной кровати из красного дерева стиля жакоб, над которой у потолка высилась корона, откуда широкими складками ниспадали большие занавеси с разводами, горничная вполголоса окликнула спящую:
— Сударыня! Сударыня! Уже десять часов!
Из-за занавесок послышался звучный, несколько хрипловатый голос:
— Черт знает что такое! Неужели в этом картонном дворце и поспать-то нельзя как хочется?
— Простите, мадам, но вы сами распорядились, чтобы вас разбудили в десять часов.
— Неужели уже десять часов?! Что за лентяйкой я стала теперь! А ведь прежде, когда я была прачкой, я постоянно вставала ни свет ни заря. Ну, и в полку, будучи маркитанткой, я не дожидалась, чтобы барабаны два раза пробили зарю, а сразу вскакивала на ноги. Но теперь, когда я стала женой маршала, я никак не могу вылезть из этой коробочки. Скорей, Лиза, давай мне мой пеньюар! — И та, которая назвала себя женой маршала, соскочила с постели, разражаясь, словно солдат, градом проклятий, так как ей не удавалось найти чулки, которые она куда-то забросила, раздеваясь вечером.
Лиза протянула ей их, но супруга маршала не увидела и торопливо принялась в рубашке и босиком бегать по комнате, опрокидывая по пути стулья и продолжая ругаться и проклинать. Наконец горничная догнала ее и подала чулки; барыня стала надевать их, не преминув ошибиться ногой.
Да, да, в том, что касалось туалета, супруга маршала не была ни терпеливой, ни искусной: она, невзирая на свое теперешнее высокое положение, сохранила все свои манеры, простоту обращения и грубовато-добродушную веселость прачки из квартала Сен-Рок в дни великой революции и маркитантки Северной армии, армии Самбр-э-Мез и Мозеля, по-прежнему оправдывая приставшую к ней кличку «мадам Сан-Жень».
С того времени обстоятельства сильно изменились, увлекая за собой и мировые судьбы, и судьбу каждого отдельного действующего лица.
Маленький артиллерийский офицер из Тулона, нищий клиент прачки с улицы Рояль-Сен-Рок, превратился сначала в главнокомандующего, потом — в первого консула и наконец — в императора. Слава озаряла его трон, перед которым с унижением заискивали остальные государи мира. Франция с воинственным звоном оружия и с развевающимися знаменами высилась в центре Европы словно громадный лагерь, озаряемый сиянием солнца Аустерлица.
Как и изголодавшийся, худой артиллерист, вынужденный утром 10 августа 1792 года снести свои часы в заклад, так и остальные действующие лица, фигурировавшие в прологе этой грандиозной мировой трагедии, выросли и изменились до неузнаваемости.
Предсказания мага Фортунатуса в бальном зале «Во-Галь» осуществились для Лефевра и его жены почти в полной мере и степени. Быстро подвигаясь по военно-иерархической лестнице, былой сержант гвардии уцелел среди сражений. 18 брюмера он стал дивизионным генералом, комендантом Парижа, слепо доверившим свою судьбу счастью Бонапарта. С тех пор благоволение первого консула и императора никогда не покидало Лефевра. В 1804 году Наполеон восстановил упраздненный институт маршалов Франции. Лефевр был одним из первых, кого император произвел в этот высший чин. В то же время он занимал должность сенатора.
Конечно, нельзя сказать, чтобы Лефевр обладал хоть какой-либо способностью для участия в заседаниях законодательного учреждения. Но сенат 1804 года представлял собой чисто декоративное учреждение, в действительности не обладавшее никакими полномочиями и только соединявшее в своих недрах самых достославных мужей современности. Но хотя Лефевр в качестве сенатора и не отличался особой говорливостью и красноречием, он все же, несмотря на это, пользовался особенным уважением Наполеона. Последний считал его самым храбрым и решительным человеком с обнаженной саблей в руках, но когда вместо сабли маршалу приходилось вооружаться пером, то Лефевр оказывался самым невежественным, самым неспособным из числа всех генералов. Как только приходилось обсуждать план военной кампании, Лефевр в нетерпении переворачивал вверх дном все бумаги, проекты, фортификационные чертежи и крепостные планы, в которых ничего не понимал, и принимался кричать: «Все это чепуха! Пустите меня с моими гренадерами, и я покажу себя неприятелю без всяких ваших бумажек!» — и действительно показывал.
Правда, бесконечно уважая, боготворя императора, своего кумира, он в точности исполнял все его приказания. Наполеон думал, а Лефевр действовал. Он был ядром пушки; куда император направлял его, туда Лефевр устремлялся лавиной, с несокрушимой силой двигаясь вперед без отклонений и отступлений, и перед этой могучей энергией все отступало. Это он имел честь командовать в великой армии императорской пешей гвардией и представлял собой колосс, ставший во главе легиона гигантов.
Однако Лефевр был не только выдающимся воином, но и отменным мужем. Хотя его мундир и изменился, но для своей Катрин он остался все тем же, и орден Почетного легиона, украсивший его грудь, не изменил нежного биения его любящего сердца. При императорском дворе несколько потешались над супружеской верностью этой образцовой парочки, но Наполеон, желавший видеть в окружающих его лицах большую строгость нравов, поздравлял Лефевра и его жену с великолепным примером, который они дают семьям офицеров империи, примером, заметим кстати, которому следовали очень слабо, в особенности же в семье Наполеона.
Тем не менее императору не раз приходилось делать Лефевру замечания по поводу манер и поведения Екатерины.
— Слушай-ка, — сказал он ему однажды, поднимаясь на цыпочки, чтобы взять за ухо гиганта Лефевра, который наклонялся, чтобы облегчить императору его излюбленную ласковую фамильярность, — постарайся внушить своей жене, чтобы она не поднимала юбок, когда входит к императрице; она делает это, словно ей приходится перепрыгивать через ров. Скажи ей, пожалуйста, кроме того, что ей следует отучиться от постоянного чертыхания по всякому поводу. Ты слушаешь, Лефевр?
— О, разумеется, ваше величество, — отвечал маршал, признавая справедливость замечаний императора, но в то же время сильно страдая от необходимости выслушивать их.
— Ну, так вот: твоя жена постоянно готова схватиться с моими сестрами, в особенности с Элизой. Черт возьми! Мой дворец не харчевня, как можно подумать, если послушаешь все эти женские крики и свары.
— Ваше величество! Госпожа Баччоки упрекает мою жену в низком происхождении, в патриотизме и республиканских взглядах. А ведь и мы с вами тоже республиканцы.
— Разумеется, — ответил Наполеон, улыбнувшись наивной доверчивости Лефевра, который, как и большинство старых солдат армии 1792 года, верил, что, повинуясь императору, он служит республике. Для всех этих преданных и наивных людей Наполеон являлся самой коронованной революцией. — Лефевр, мой старый солдат, — продолжал император, — сообщи своей жене, что я прошу ее в будущем избегать ссор с моими сестрами. Можешь передать ей также, что не особенно-то прилично похлопывать себя по ляжкам каждый раз, когда она хочет придать какому-либо утверждению больше убедительности.
— Ваше величество, я передам моей жене ваши замечания; обещаю вам, что она примет их к сведению.
— Если только сможет! — буркнул император. — Я не требую ничего невозможного. Привычки молодости держатся в нас очень упорно. — Он остановился в своем быстром хождении из угла в угол кабинета и сердито сказал: — Что за безумие жениться сержантом! — Вдруг какая-то озабоченная тень скользнула по его лицу, и он прибавил: — Я сделал почти ту же ошибку, что и Лефевр. Он женился на прачке, а я… гм! Правда, против этого еще имеется противоядие в виде развода, но…
Словно желая прогнать неприятную мысль, он поспешно запустил пальцы в карман белого суконного жилета и вытащил оттуда красивую овальную черепаховую табакерку. Открыв ее, он засунул туда нос и обеими ноздрями втянул едкую пыль тертого табака. Такова была его манера нюхать табак.
Понюхав своего макуба (нюхательный табак особенного сорта из породы мартинникских Табаков), Наполеон, словно приняв важное решение, обратился к Лефевру, который уже начал беспокоиться при виде того, как лоб императора морщится и меняются все его манеры, и сказал следующее:
— Твоей жене непременно нужно брать уроки у Деспрео, знаменитого учителя танцев. Только он один и хранит до сих пор прекрасные традиции элегантности и манер прежнего царствования.
Лефевр поклонился в знак повиновения и, выйдя от императора, первым делом поспешил вызвать знаменитого профессора Деспрео.
Что за тип был этот учитель танцев и хороших манер! Маленький, худой, проворный, грациозный, ступающий вприпрыжку, напудренный, надушенный, одетый в короткие панталоны при длинных чулках, он проскользнул ужасы террора на цыпочках, не получив ни одной раны и не пролив ни капли крови. Но как только окончились ужасы и удовольствия снова стали приотворять двери салонов, еще закутанных в креп траура, Деспрео стал незаменимым человеком, без которого нельзя было обойтись. Он выбивался из сил, чтобы восстановить утраченное искусство. Он был единственным авторитетом в вопросе традиционных любезностей, поклонов, сложных, как военный маневр, и в танцах, которые для молодых девиц воскрешали сказочные радости исчезнувшего земного рая былых времен.
Все дамы оспаривали и рвали друг у друга из рук Деспрео, и его пируэты, реверансы, расшаркивания и антраша гораздо больше содействовали искоренению воспоминаний о всеобщем равенстве по идее революции и возрождению обычаев и манер прежнего режима, чем все противореволюционные декреты термидорианцев и Директории.
Вот именно из-за визита Деспрео, назначенного на утро описываемого нами дня, жена маршала Лефевра, вернувшаяся накануне не очень поздно с вечера у императрицы Жозефины, и должна была подняться с постели и одеваться уже в десять часов утра.
Выйдя в салон, Екатерина застала профессора грации перед зеркалом, упражнявшимся в изысканных реверансах и строившим умильные рожи.
— А, вот и вы, господин Деспрео! Ну, как здоровье? — крикнула при виде его Екатерина, хватая его за руку, которую тот и не собирался протягивать, и с силой тряхнула ее в энергичном рукопожатии.
Деспрео покраснел и пришел в полное замешательство, так как рукопожатие жены маршала прервало его посреди второй фигуры большого реверанса, которым он хотел приветствовать ее. Он освободил свою руку от чистосердечного пожатия госпожи Сан-Жень и, оправляя слегка помятые кружева манжет, довольно-таки сухо ответил:
— Имею честь быть к услугам вашего высокопревосходительства!
— А, ну вот что, паренек! — сказала Екатерина, садясь на край стола. — Дело в следующем. Император находит, что при его дворе манеры прихрамывают. Он хочет вымуштровать нас. Понимаешь, чего он от нас хочет, сынок?
Деспрео, шокированный в самых святых своих чувствах, возмущенный фамильярностью Екатерины, ответил с большой едкостью:
— Его величество более чем прав, думая восстановить при своем дворе манеры и изящества просвещенных дворов. Я с преданностью и уважением готов исполнить его волю. Но не будете ли вы так любезны сообщить мне более определенно, что именно хотите вы изучить в искусстве светского обращения, чтобы удовлетворить его величество?
— Да вот в чем дело, братец: во вторник при дворе дают большой бал, придется танцевать гавот. Император хочет, чтобы мы все приняли участие в танцах. Ты же как-будто кое-что смыслишь в этом, ну вот, научи-ка и меня танцевать гавот!
— Гавот — очень трудный танец. Тут требуются особые способности. Не ручаюсь, что я смогу посвятить вас в тайны этого танца, который особенно нравился супруге дофина, удостоившей меня неизреченным счастьем быть ее учителем танцев, — сказал Деспрео с лицемерной скромностью.
— Ну, все-таки попробуем. О, если бы все дело было только в императоре, так я не очень-то заботилась бы обо всем этом: он не спрашивал, танцую ли я гавот, когда я стирала ему белье. Но этого очень хочет Лефевр, а всего, чего хочет Лефевр, хочу и я! Да, уж нечего сказать: Лефевр и я, мы словно два пальца на одной руке; нам ровным счетом наплевать — пусть над нами смеются те пустоголовые сорванцы, которые окружают принцесс; им смешно, что мы с Лефевром исполнили то, что они только обещают! Ну, паренек — в позицию! За гавот! Ну-ка, скажи, куда мне девать ноги? — И госпожа Сан-Жень подбоченилась и два раза топнула ногой об пол, словно собираясь переходить по данному сигналу в атаку.
Деспрео незаметно передернул плечами и испустил глубокий вздох. Этот аристократ-гаер приходил в отчаянье от грубости нравов и необходимости учить хорошим манерам и посвящать в тайны гавота былых прачек, ставших, благодаря победе демократии, влиятельными и чиновными дамами. Он нетерпеливо подошел к Екатерине, тихонько наклонил ее корпус вправо и спросил:
— Вы когда-нибудь танцевали прежде?
— Да, когда-то давно… В Во-Гале.
— Не слыхал о таком, — ответил Деспрео, поджимая губы. — Ну, а какой танец вы танцевали тогда? Курант, паванну, пасспье, трени, монако, менуэт?
— Нет, фрикасе. Я танцевала его с Лефевром в первый раз. Мы так и познакомились… и поженились.
Профессор изящных манер меланхолически покачал головой, как бы говоря: «Вот до чего я опустился! Кого мне приходится учить — мне, профессору танцев супруги дофина!» — и с выражением сосредоточенной скорби принялся учить Екатерину Сан-Жень составным фигурам благородного танца, восстановленного Наполеоном на придворных балах.
II
Екатерина изощрялась в постановке рук, в сгибании колен, в поклонах и мерных отдергиваниях ног согласно звучанию музыки, извлекаемой из пронзительной скрипки Деспрео, который наигрывал ариетту Паэзьелло, когда дверь стремительно распахнулась и показался Лефевр.
Он был в парадном, сплошь расшитом мундире. На голове у него была большая шляпа с перьями; на его груди сверкал бриллиантовыми искрами орден Большого Орла, а поверх маршальского мундира, расшитого золотом, шла широкая красная орденская лента.
Лефевр, казалось, был в крайне приподнятом состоянии духа.
— Вот так история! — закричал он входя словно пьяный, с конвульсивными подергиваниями, бросил шляпу оземь и закричал: — Да здравствует император! — и прижал к своей груди жену.
— Да в чем дело, говори Бога ради! — сказала Екатерина.
Деспрео, прерывая легкое антраша, которому старался обучить свою непонятливую ученицу, подошел ближе и, сгибая в изящном реверансе колено, спросил:
— Господин маршал, уж не умер ли император?
Вместо ответа Лефевр наградил профессора танцев здоровым пинком ногой; последний пришелся тому в нижнюю часть спины и заставил совершить такой пируэт, который абсолютно не предусмотрен правилами искусства хореографии.
Кое-как оправившись от толчка, Деспрео снова склонился в изящном реверансе и сказал:
— Простите, господин маршал, я не расслышал, что вы изволили сказать.
— Да ну же, Лефевр, успокойся! Скажи же, что случилось? — воскликнула Екатерина. — Деспрео спрашивает тебя, уж не умер ли император. Ведь этого не может быть?
— Нет, этого не может быть! Император не умер, да он и не может умереть… Император никогда не умрет! Тут дело совсем в другом. Катрин, мы выступаем!
— А куда именно, муженек? То есть, простите, я хотела сказать господин маршал! — поправилась Екатерина, бросая иронический взгляд в сторону смущенного и удивленного Деспрео.
— Не знаю, куда именно мы отправляемся, но мы должны быть там во что бы то ни стало, и поживей! Мне кажется, мы двигаемся на Берлин.
— А далеко отсюда этот Берлин? — наивно спросила Екатерина, которая была не очень-то сильна в географии.
— Не знаю, далеко ли это, — ответил Лефевр, — но для императора ничто не может оказаться слишком далеким.
— А когда мы выступаем на Берлин?
— Завтра. Император очень торопится, эти пруссаки что-то очень уж зазнались. Император никогда ничего не делал им. В прежние времена они нападали на Францию вместе с австрийцами, англичанами, русскими, испанцами — словом, вместе со всем светом, но мы все это простили им. Это маленькое государство, в котором много образованных людей, кажется. Император их любит; он постоянно говорит об одном из них, которого зовут Гёте — это субъект, пишущий в газетах. Император говорит, что сделал бы его графом, если бы этот Гёте был французом, как он возвел в князья какого-то Корнеля, руанца, который, кажется, давно умер.
— Значит, император хочет потрепать пруссаков?
— Да. Он удивил нас всех, когда сказал, что это будет нелегко. Да эти пруссаки у нас и в счет не идут! Страна, которой и на карте-то не разглядишь. Император уверяет, что эта война принесет нам много славы. Ну, что же, в этом он понимает больше меня. Да и в конце концов это его дело! Наше дело — драться за него; везде, где он нам укажет неприятеля, мы вступим в бой! Но мне все-таки кажется унизительным расточать сабельные удары такому маленькому народу, как эти пруссаки! Право же, мало славы победить такого незначительного противника!
— Простите, у пруссаков был Фридрих Великий, и они каждый год справляют праздник Росбаха! — вставил свое слово Деспрео, постаравшийся тем не менее отодвинуться подалее из боязни снова соприкоснуться с кончиком сапога маршала.
Лефевр пожал плечами.
— Росбах? Такого не помню, это из древней истории… Да и к тому же, в те времена императора не существовало на свете. Ну, а там, где он сражался, поражений не было.
— Что правда, то правда, — подтвердила Екатерина. — Что это за человек! Но, слушай-ка, Лефевр, могу я ехать с тобой?
— Если хочешь, до границы. Император берет с собой императрицу. Это — военная прогулка. Ах, Катрин, каким ударом грома среди безоблачного неба покажется эта война, разразившаяся вдруг! Однако займемся же нашим отъездом! Ты видела Анрио?
— Анрио ждет тебя, как ты приказал.
— Хорошо, я представлю его императору, быть может, эта война, объявленная так неожиданно, посодействует его повышению. Поди-ка, позови нашего Анрио!
Екатерина бросилась исполнять его распоряжение. Но Деспрео, стремившийся обратить на себя внимание, хотел упредить ее и стремительно направился к двери, опережая Екатерину; вдруг бешеный удар кончиком сапога снова отбросил его назад и голос Лефевра загремел:
— Провалишься ли ты, наконец, гаер проклятый?
Деспрео вышел, почесывая нижнюю часть спины, проклиная солдатские нравы и в то же время сожалея от всей души о той счастливой эпохе, когда он посвящал супругу Дофина во все элементы реверанса.
Екатерина появилась в сопровождении молодого сублейтенанта. Лефевр подбежал к нему и, резко взяв его за руку, сказал:
— Анрио! Большие новости! Объявлена война!
— А где придется сражаться?
— Господи, до чего молодость самонадеянна! Разве ты уверен, что тебе уж непременно придется сражаться? Я сначала должен поговорить с императором. Неужели ты думаешь, что любой человек может иметь честь дать себя убить за императора? Впрочем, я надеюсь, что тебе-то выпадет эта честь!
Анрио радостно воскликнул:
— Благодарю вас, крестный! Когда же вы думаете представить меня императору?
— Сию минуту. Сейчас назначен смотр императорской гвардии. Ты отправишься со мной, а жена со своей стороны попросит за тебя императрицу.
— Да, я сейчас же отправлюсь к Жозефине. Уж поверь, крошка Анрио, что ты отправишься в поход, обещаю тебе это!
Под окном раздался барабанный бой.
— Поспешим! — сказал Лефевр, — Император садится на коня, смотр сейчас начинается.
И он потащил за собой Анрио, тогда как Екатерина, подавая звонок за звонком, крича, толкая Лизу и двух других горничных, прибежавших на ее бурный призыв, торопилась одеться, чтобы отправиться к императрице.
Это происходило в сентябре 1806 года. Французская империя занимала две трети Европы. Наполеон, воссев на трон из трофеев и знамен, руководил народами и государями. Открывая сессию законодательной палаты, он мог без всякого преувеличения сказать: «Неаполитанский царствующий дом перестал царствовать. Он безвозвратно потерял корону, полуостров Италия объединился в единое государство. В качестве суверена, я гарантировал конституции различных частей ее. Мне приятно заявить здесь, что мой народ выполнил свой долг. Из глубины Моравии я непрестанно получал доказательства его любви и патриотического энтузиазма; эта любовь стала моей славой еще задолго до того, как стране удалось проявить вовсю свое богатство и славу!».
Но, достигнув такой высоты, славы и могущества, Наполеон не мог не поддаться тщеславному головокружению. Он имел неосторожность, безумие раздать королевства своим братьям вместо того, чтобы сделать союзников, помощников из всех этих микроскопических государей, которых он превратил в регентов, в вице-королей их собственных государств.
Жозеф Бонапарт стал королем Неаполя и обеих Сицилии. Людовик — голландским королем. Элиза получила герцогства Лукка и Пиомбино. Каролина, жена маршала Мюрата, стала великой герцогиней Берг. Паулина, вдова генерала Леклерка и вновь вышедшая замуж за принца Боргезе, стала герцогиней Гвастала. Но все сестры императора ссорились между собой, завидуя друг другу. Ни одна из них не довольствовалась подачкой, кинутой ей всемогущим братом.
Компания 1806 года еще более увеличила соперничество и несогласие в среде императорской фамилии.
Война разразилась внезапно и неожиданно. Аустерлицкая победа, казалось, должна была бы побудить Пруссию к сохранению нейтралитета. Если она хотела броситься на западного колосса, то ей следовало бы обождать, пока она будет в союзе с Австрией, Россией, Англией, Швейцарией и обеими Сицилиями. Но в этом выступлении было какое-то безумие.
Проявленное Пруссией безрассудство явилось следствием крайнего шовинизма и самых опасных иллюзий. Ее публицисты, философы, учителя во главе с Фихте, — псе кричали о войне и о походе на Францию. С непростительной самонадеянностью войска кричали о своей готовности к бою, о том, что они достаточно экипированы и совершенно непобедимы. Народ, опьяненный речами ораторов, увлеченный студентами, только и говорил, что о Фридрихе Великом, и во всех пивных немцы похвалялись, что они напомнят французам под стенами Парижа о Росбахе.
Пруссаки забывали, что их страна представляла собой равнину, куда Наполеон со своей наступательной тактикой мог легко проникнуть. Кроме того, французская армия уже находилась на половине пути и могла с поразительной быстротой ринуться на прусские войска, пока еще совершенно не организованные.
Но Пруссия совершенно обезумела. Народу вбили в голову, что дело шло о национальной войне. Повсюду были рассеяны патриотические брошюрки, и в этой кампании 1806 года Наполеон впервые натолкнулся не на войска более или менее дисциплинированные и подчиняющиеся команде, а на целую нацию, поднявшуюся от мала до велика и твердо решившую не уступать своей земли иностранцам. Побежденная в 1806 году, как это было в свою очередь с Францией 1814 года, Пруссия проиграла все сражения, но не уронила своей чести.
Когда Екатерина спустилась в салон императрицы, то она застала весь двор в большом волнении. Новость об объявлении войны уже успела обежать всех, и каждый боязливо спрашивал себя, когда именно Наполеон предполагает назначить общее выступление. Придворные окружили императрицу и старались разузнать у нее о намерениях Наполеона.
— Но я сама ничего не знаю, — отвечала она, стараясь скрыть под улыбкой свое беспокойство, — его величество только уведомил, чтобы я собиралась. Я буду сопровождать его до Майнца.
— Мне это же сказал Лефевр, — промолвила Екатерина, — я тоже отправляюсь вместе с ним. О, я так рада, что буду снова среди солдат! О, ваше величество, сидя во дворце, тупеешь и глупеешь! Вот увидите, как сладко спится в походной кровати! Но когда это будет? Завтра? Сегодня вечером?
— Кто же может знать это? — ответила императрица, покачивая головой. — Вы сами отлично знаете, как действует император. Он готовит все быстро, тайно, заранее, словно собираясь выступить каждый день. Ни в чем не должно быть недостатка, все должны быть на местах. Благодаря этому он может в любой момент, когда захочет, объявить войну и пуститься в путь. Он предупредил меня, чтобы я собиралась, и я готова. Когда его величество даст сигнал, я спущусь с лестницы и сяду в карету рядом с ним, вот и все!
— Ну, мы-то привычны к этой внезапной тревоге барабана, — сказала Екатерина, — из-за таких пустяков нам не приходится смущаться. Я просто хотела узнать у вашего величества, изволили ли вы видеть сегодня утром императора и в хорошем ли он расположении духа?
— Вы собираетесь просить у него чего-нибудь, какой-нибудь милости?
— Да, ваше величество! У меня есть крестник, маленький Анрио, красивый юноша, которому уже двадцать один год. Он — сублейтенант и ему очень хотелось бы отправиться с Лефевром.
— Если это может доставить вам удовольствие, то скажите вашему протеже, что я беру его адъютантом к себе.
— Благодарю вас, ваше величество, но Анрио хочет заслужить отличия на поле сражения, а не в приемных. Ведь недаром же он крестник Лефевра.
— Ну, что же, пусть все-таки отправляется. Там мы постараемся предоставить ему возможность умереть, если ему уж так хочется этого.
— Ваше величество, вы слишком добры! — воскликнула Екатерина, восхищенная этим обещанием; наконец-то ее приемный сын, дитя Нейпперга и Бланш де Лавелин, заслужит себе славу и послужит императору!
Громкие крики, перемешанные с неистовым грохотом барабана и трубными звуками, заставили вскочить всю свиту Жозефины. Все подбежали к окнам.
Во дворе император делал смотр войскам гвардии. Около него находились генералы, которые должны были командовать великой армией: Лефевр, Бернадотт, Ней, Ланн, Да-ву, Ожеро и Сульт. Мортье, командовавший резервом в Вестфалии, и Мюрат, командовавший всей кавалерией, одни только и отсутствовали в этом сонме героев.
После тщательного осмотра солдат, как это всегда и делал Наполеон, он подошел к тамбурмажору гренадеров, стройному и рослому парню, который гордо заломил на затылок свою гигантскую меховую шапку с громадными перьями и держал наготове палочку, словно собираясь по первому знаку забить барабанную дробь.
— Как тебя зовут? — спросил Наполеон.
— Ла Виолетт, ваше величество! — ответил гигант приятным голосом.
— А где ты служил?
— Везде, ваше величество!
— Хорошо! — сказал император, который любил лаконичные и определенные ответы. — Ты знаешь Берлин?
— Нет, ваше величество!
— Хочешь идти туда?
— Пойду всюду, куда мой император захочет, чтобы я пошел!
— Хорошо, ла Виолетт, держи в исправности свои барабанные палочки. Через месяц ты первым войдешь с высоко поднятой палочкой в столицу прусского короля! Кстати, сколько в тебе роста? — резво спросил Наполеон, с Удивлением поглядывая на бывшего субмаркитанта, который, разумеется, еще подрос с тех пор, как превратился в тамбурмажора гренадеров.
— Ваше величество, во мне пять футов одиннадцать Дюймов.
— Ты высок, словно тополь!
— А вы, мой император, вы велики, как мир! — возразил ла Виолетт, чуть не помешавшийся от радости, что говорит с Наполеоном, и не будучи более в силах сдерживать свой энтузиазм.
Наполеон улыбнулся от этого комплимента и, наклонившись к Лефевру, сказал ему:
— Напомни мне при случае об этом тамбурмажоре, маршал!
Лефевр поклонился в ответ.
Император продолжал свой осмотр; потом по сигналу, данному маршалом, все барабаны забили, все трубы загремели, и гренадеры, которым суждено было стать эпической фалангой Иены, Эйлау, Фридланда, а также и Ватерлоо, стройной колонной пошли мимо своего земного бога, который равнодушно, заложив руки в карманы своего серого редингота, посматривал на них. А когда палочка ла Виолетта опустилась, чтобы прекратить барабанный бой и трубный звук, то из этого леса человеческих тел, прямых и кряжистых, словно дубы, из которых многим суждено было остаться в Пруссии, куда их гнал жестокий дровосек-император, вырвался единодушный крик:
— Да здравствует император!
Наполеон обернулся к Лефевру и сказал ему полным удовлетворения шепотом:
— Мне кажется, что прусский король не замедлит раскаяться в своем вызове. С подобными парнями я в случае нужды не побоялся бы объявить войну самому Богу, хотя бы на защиту встали все легионы ангелов под командой святых Михаила и Георгия. Маршал, ступай попрощайся со своей женой — мы выступаем сегодня ночью!
III
В центре Парижа, на улице Бург-л'Аббэ, где живут преимущественно рабочие, теснящиеся семьями в маленьких комнатах, и которая в силу своей темноты и непрестанной сырости производит крайне мрачное впечатление, в тот самый день, когда император Наполеон делал смотр войскам гвардии во дворе Сен-Клу, при наступлении ночи можно было видеть семь или восемь человек, скользивших вдоль стены. Затем эта компания осторожно завернула в коридор, едва освещаемый коптившим фонариком, и проникла во двор дома, где находился сарай, по внешнему виду напоминавший столярную мастерскую. Эти таинственные тени одна за другой исчезли в сарае, большие двери которого бесшумно открывались и закрывались.
Около восьми часов там собралось двенадцать человек; посредине большого сарая стоял единственный стул около маленького столика, освещенного парой свечей. Присутствовавшие переговаривались вполголоса; по временам все замолкали, прислушиваясь к доносившимся с улицы шумам, при этом кое-кто из них даже подходил к дверям и прикладывал ухо к дверным щелям.
Вдруг в этом полном сдержанного шепота полумолчании послышался голос.
— Граждане, — заговорил молодой человек в мундире старшего врача армии, — товарища, о прибытии которого нас уведомили и который непременно явится здесь, пока еще нет среди нас, но, если хотите, мы все-таки можем открыть заседание. Нам нужно прочесть протоколы прошлого заседания, заслушать рапорты.
— Да, да, начнем сейчас же. Открой заседание, Марсель! — заметил один из присутствующих, который, казалось, выражал желание всех.
Марсель, полковой лекарь, которого мы видели в бою при Жемапе, подошел к столу, два раза слегка ударил бумажным ножом по нему и важно сказал:
— Филадельфийцы, заседание открыто!
Все подошли ближе. Из-под распахнувшихся пальто можно было разглядеть несколько офицерских мундиров.
Марсель окинул аудиторию взглядом и сказал:
— Филадельфийцы, я приступаю к перекличке…
Затем, взяв лист бумаги, он быстро прочел следующие фамилии: Флоран Гюйо, Рикор, Гарио, Делавен, Бодемон, Бурно, Жакмон, Рикар, Льебо, Жендр, Лемарк, Пуальпрэ, Ригомар, Базэн, Демайо, Лювеньи и Марсель.
— Здесь! — поочередно отзывались присутствовавшие на перекличке.
Затем Марсель взял другой лист бумаги и прочел: «Протокол заседания первой среды августа 1806 года».
Во время чтения протокола кинем более подробный взгляд на лица, собравшиеся в сарае в глубине двора одного из домов улицы Бург-л'Аббэ с какой-то очень серьезной целью, если судить по тем мерам предосторожности, которые принимались ими, чтобы пробраться в это уединенное место.
Этот сарай был местом собраний филадельфийцев. Это тайное общество было основано полковником Жозефом Удэ, носившим прозвище Филопомен. Вообще большинство из заговорщиков присваивали себе имена, взятые из древней истории; например, некоторые из них назывались Катоном, Спартаком, Фемистоклом и т. п. С 18-го брюмера филадельфийцы поставили своей задачей сначала ниспровержение института консульства, а потом — империи. Большинство из заговорщиков было республиканцами, но вскоре в общество ухитрились проникнуть также и эмигранты, роялисты и агенты Англии.
Для достижения своей цели филадельфийцы намеревались убить Наполеона.
Зерно общества возникло в департаменте Юры под первоначальным названием «альянс». Своих приверженцев оно набирало по преимуществу в армии. Одними из наиболее деятельных членов его были, между прочим, печальной памяти Моро, который после достославной службы Франции и бессмертного отступления из Германии позорно погиб при Дрездене во вражеских рядах, и предатель Пишегрю.
Построенное по образу масонских лож, общество филадельфийцев (оно получило свое название от группы, основанной в штате Филадельфия, в Америке) имело разветвления в Англии, Америке, России и Италии. Позднее оно слилось с другими тайными группами, почти сплошь военными: с Микелэ из Верхних Пиренеев, Барбэ из Альп, Бандолье департамента Франш-Контэ, Голубыми Братьями и т. д.
Официальной программой филадельфийцев были взаимопомощь, дружеское общение, взаимная поддержка. Конечная цель тайного общества — убийство императора — была известна только высшим членам. Филадельфийцы были разделены на три степени. Только высшая степень давала знание великой тайны. Члены первой и второй степеней не знали мастеров третьей. Высший мастер, называвшийся цензором, избирался из числа двадцати пяти кандидатов, список которых по очереди предлагался всем трем степеням, начиная с низшей. Первая и вторая степени вычеркивали из числа кандидатов по десяти имен. Из числа оставшихся пяти третьей степенью избирался цензор. Единственное условие, которому непременно должен быть удовлетворять цензор, это быть военным.
Эмблемой филадельфийцев служила звезда, похожая на эмблему позднее учрежденного ордена Почетного легиона.
Филадельфийцы настолько тщательно соблюдали все предосторожности, что вплоть до того времени, когда мы застаем заговорщиков собравшимися в сарае на улице Бург-л'Аббэ, полиция Фушэ и Дюбуа не могла схватить ни одного из членов этой широко разветвленной организации, ветви которой коренились почти во всех полках империи.
Полковнику Удэ, или Филопомену, было тридцать лет. Это был изящный и любезный кавалер. Обладая красивым лицом и приятными манерами, он постоянно вертелся около женщин, делая вид, будто не интересуется ничем, кроме успеха среди них. Но под маской опасного дон Жуана Удэ сумел затаить как пламенную ненависть к Наполеону, так и холодную расчетливость заговорщика. В день заседания, на которое мы пригласили присутствовать читателя, его не было в Париже. Приказ императора заставил его отправиться в Безансон, где стоял его полк, так как война была неизбежной и предполагалось сосредоточить в Франконии войска.
Членами собравшихся в сарае филадельфийцев «высшей степени» были по преимуществу все старые республиканцы. Двух из них мы уже встречали раньше — эго Марсель и маркиз де Лювиньи.
Во время республиканских и консульских войн Марсель продолжал оставаться все тем же философом-космополитом. Он проклинал войны и возлагал ответственность за них на полях сражения на императора. Мечтая о всеобщей республике, основанной на братстве и мире, в которой, сложив руки, люди встречались бы только для обмена продуктами труда и для веселых праздников, Марсель одним из первых вошел в общество филадельфийцев. Он стал секретарем общества и носил имя Аристотель.
Другим знакомым нам сочленом был здоровенный, коренастый парень с энергичным лицом, рассеченным длинным шрамом. Все его манеры изобличали в нем человека не слова, а дела. Это был маркиз де Лювиньи, муж той самой жирной авантюристки-помещицы, матери Ренэ, от интимности которой, ставшей чересчур тяжелой, граф Сюржэр сбежал в Кобленц. Будучи пламенным роялистом, маркиз де Лювеньи после вандейских войн был шуаном в Бретании и Нормандии. Он чуть-чуть не попался вместе с Кадуалем и Фроттэ и спасался бегством в Англлию, только каким-то чудом. Вернувшись после амнистии во Францию, он замешался в дело адской машины (как назвали потом заговор против Наполеона, которого Кадуаль хотел взорвать при помощи адской машины) и вступил в число членов общества филадельфийцев во имя непримиримой ненависти, которую питал к Наполеону. Будучи тайным агентом Бурбонов, маркиз де Лювеньи с большой ловкостью и осторожностью защищал в этом республиканском сообществе роялистские интересы.
Люди, пустившиеся в это ужасное предприятие, в конечной цели его видели только в случае успеха ниспровержение империи и восстановление республики. Но старый начальник шуанов, более дальновидный, говорил себе, что смерть Наполеона могла принести пользу только Бурбонам, и, изо всех сил поддерживая проекты своих республиканских друзей, с радостью думал, что в случае если филадельфийцы восторжествуют, то образом правления во Франции станет не республика, а реставрация монархии, потому что со смертью великого военного гения страна будет отдана во власть иностранцам, побеждена, обезоружена, лишена покровов былой славы.
Когда протокол был прочтен и утвержден без возражений, Марсель доложил собравшимся о поступившей корреспонденции.
— Со всех концов, — сказал он, — поступило очень много интересных сведений. Во многих полках, которые до сего времени считались восторженными приверженцами императора, удалось завербовать новых членов. Повсюду работают бродильные элементы. Матери семейств, испуганные рекрутчиной, которая ежегодно отнимала у них детей, влияли на мужей, уговаривая их вступать в ряды филадельфийцев. Угнетенность печати и насильственное молчание парламента содействовали успеху тайной пропаганды. Страна созрела для независимости; теперь надо лишь ждать какого-нибудь события, благоприятного случая, чтобы поднять восстание, и вождя вроде Вашингтона, чтобы обеспечить ему победу.
Присутствовавшие разразились сдержанными аплодисментами, так как боялись привлечь внимание соседей, среди которых могли оказаться агенты полицейского префекта Дюбуа. В этот момент дверь сарая распахнулась, и на пороге показался еще не старый мужчина, носивший, согласно кокетливой моде прежнего царствования, напудренный парик и одетый в длинный, плотно обхватывавший талию и застегнутый на все пуговицы серый редингот; в руке у него была тросточка с набалдашником в виде золотого яблока.
— Граждане, — сказал Марсель, указывая на новоприбывшего, — позвольте представить вам товарища Леонида, рекомендованного нам нашим начальником Филопоменом. Быть может, именно ему-то и суждено стать Вашингтоном Франции! Сейчас он доложит вам, достаточно ли удобен настоящий момент, чтобы покончить с тираном!
— Никогда еще не было более удобного момента! — воскликнул новоприбывший. — И скажу вам, товарищи, почему: война объявлена!
— Подойдите ближе, товарищ Леонид, и благоволите ознакомить филадельфийцев с вашим планом, — сказал Марсель, уступая новоприбывшему единственный стул, украшавший место собрания комитета улицы Бург-л'Аббэ.
IV
Леонид сдержанным голосом вкратце изложил верховному комитету свой проект. Он начал со страстного выпада против Наполеона, упрекал его в безграничном честолюбии, в жадности к завоеваниям, в корсиканском происхождении, в диктаторских замашках; он не мог отрицать его организаторский гений или оспаривать военные таланты Наполеона, но не мог не указать на то, что Бонапарт возвысился за счет генералов Моро, Массены, Бернадотта. Продолжая свою обвинительную речь, Леонид перебрал все инсинуации, обвинения и сплетни, которыми позднее роялистские писатели воспользовались для своих памфлетов против Наполеона, а затем объявил, что момент благоприятствует, что пора уже низвергнуть тирана и вернуть Франции свободу. Случай представлялся: надо ухватиться за него; совсем ни к чему рисковать покушением на убийство, которое могло и не удастся. Убийство нужно оставить в качестве последнего и крайнего средства. К нему можно прибегнуть только в том случае, если под рукой не будет других способов. А в настоящий момент имелся такой способ. Вновь объявлена война. Во главе громадной армии Наполеон устремится в болотистые равнины Вестфалии, Ганновера, Бранденбурга и может остаться там навсегда. На самом деле вовсе не требуется, чтобы он фактически исчез в какой-либо торфяной яме Пруссии — надо только, чтобы в Париже его считали пропавшим в этой дальней кампании. Новости оттуда будут очень редкими, они долго идут; прежде чем ошибка будет разоблачена и новость о смерти императора опровергнута, революция разыграется.
— Да, — продолжал Леонид таким громким голосом, что присутствовавшие даже испугались, как бы его голос не обратил внимания любопытствующих соседей или шнырявших повсюду агентов тайной полиции. — Да! Вовсе не требуется, чтобы Наполеон фактически умер — достаточно, если весть о его смерти обежит всю Францию. А как только повсеместно заговорят: «Император умер», так во всеобщем смятении империя распадется сама собой. Разве же это не колосс на глиняных ногах?
— Браво, гражданин Леонид! — сказал один из членов комитета. — Значит, вы хотите использовать отсутствие императора, чтобы распространить ложное известие о его смерти? Но какую же пользу для нашего дела вы собираетесь извлечь из того смятения, той анархии, которая явится следствием этой вести?
— Все предусмотрено, — спокойно ответил Леонид. — Сенат издаст декрет, которым вашему покорнейшему слуге будет вручено командование парижской армией. Генералу Массену будет поручено командование войсками, двинутыми против неприятеля. Другим декретом будет восстановлена национальная гвардия, главнокомандующим которой будет назначен генерал Лафайет.
— А что вы наметили для внутреннего управления страной?
— Заготовлено сенатское решение, назначающее состав временного правительства…
— Из кого будет состоять это временное правительство? — спросил Марсель. — Можете вы назвать нам имена?
— Не вижу причин скрывать от вас их. Это будут граждане Гара, Дестю де Траси, сенатор Ламбрех, генерал Моро и член бывшей Директории Карно. Председательствовать в этом комитете будет временный президент из военных.
— А кто этот президент? — нетерпеливо спросили многие из присутствующих, интересуясь именем истинного вожака, души этой организации.
— Этим президентом буду я.
— Отлично! — сказал маркиз де Лювеньи. — Ну, а скажите, ваше правительство будет по характеру республиканским?
— А какой же другой образ правления возможен в нашей стране? — ответил Леонид, сурово смотря на маркиза.
Роялистский агент смолчал из боязни возбудить подозрения.
— За нас будут народ и армия, — продолжал Леонид. — Мы отменим рекрутский набор и объявим мир всей Европе Никаких войн! Никаких военных повинностей! Французы смогут в мире вкушать плоды своей славы и благодетельного союза со всем человечеством! Вот что мы предложим народам. Освобожденный от тирана, народ снова восстановит республику, водрузит на прежнее место повергнутую статую Свободы!
Присутствующие ответили аплодисментами на эту программу, и руки близстоящих протянулись к Леониду с поздравлениями.
Но тут Марсель, который отчасти руководил прениями, вмешался и сказал:
— Граждане, вы выслушали это ясное, блестящее и практическое изложение плана, созданного нашим товарищем Леонидом с одобрения цензора Филопомена. Согласны ли вы принять этот план?
— Да, да! — закричало большинство.
— Теперь только остается назначить число и день приведения его в исполнение!
— Простите, но только я один должен знать это число и день, — вмешался Леонид, — необходимо, чтобы оно сохранялось в абсолютной тайне. В решительный момент я извещу вас. Согласны?
— Да, да! Смерть тирану! Долой императора! — раздались возгласы заговорщиков, захваченных энергией и властью их нового начальника.
— Друзья мои, я рассчитываю на вас так же, как вы можете рассчитывать на меня, — продолжал Леонид. — Теперь, прежде чем мы расстанемся, я должен поблагодарить вас за лестный прием, который вам было угодно оказать мне согласно рекомендации моего товарища полковника Удэ. А затем мне предстоит еще кое-что. Я назвал вам имена всех членов временного правительства, за исключением одного… это — моего собственного. Я должен назвать вам и его тоже.
Воцарилось мертвое молчание; все с громадным любопытством ждали имени того смелого заговорщика, который собирался, распространив внезапно известие о смерти императора, овладеть властью и вынудить армию к повиновению.
— Филадельфийцы! — сказал Леонид с отважной простотой. — Я родился в Доле двадцать восьмого января 1754 года; таким образом мне уже пятьдесят два года; солдатом я стал с шестнадцати лет. Я командовал франконским отрядом на празднике федерации. Я был губернатором Безансона. В Италии я стал бригадным генералом, где служил под началом моих друзей Шампьонэ и Массены. Я всегда защищал отечество и любил свободу. Меня зовут… В этот момент раздался бешеный стук в дверь сарая. В заседание комитета ворвался гусарский квартирмейстер, очень тоненький, изящный и кокетливо одетый, который, задыхаясь, крикнул:
— Скорей! Скорей! Прочь отсюда, товарищи!
— Что случилось, Ренэ? — поспешно спросил Марсель, подбегая к квартирмейстеру, бывшему не кем иным, как Ренэ, Красавчиком Сержантом батальона Майен-э-Луар, верным и неразлучным спутником полкового лекаря.
— Случилось то, что вы попались! Если вы останетесь здесь еще хоть на секунду — вас арестуют! Агенты Дюбуа следуют за мной по пятам…
Марсель немедленно кинулся на середину помещения и, открыв люк, обратился к заговорщикам:
— Товарищи, скроемся этим ходом. Мы попадем в погреб друга, сообщника, а оттуда мы сможем пробраться в соседний дом, выходящий на другую улицу. В дорогу! Тирану недолго еще осталось травить нас своими сбирами. Да здравствует республика!
— Смерть тирану! Долой императора! — ответили филадельфийцы.
Марсель придерживал крышку и все собравшиеся по очереди спускались туда.
Ренэ хотел обождать, пока Марсель в свою очередь исчезнет в дыре, но гот сделал ему знак, приказывавший проходить дальше, и, указывая на Леонида, сказал:
— Проходите! Я после вас.
— Ни в коем случае, — отозвался тот. — Я являюсь здесь капитаном потерпевшего крушение судна. Я должен уйти последним.
Марсель жестом выразил покорность и поставил ногу на ступеньку лестницы. Но, начав спускаться, он поднял голову и спросил:
— Простите, вас перебили как раз в тот момент, когда вы собирались назвать ваше имя. Быть может, вы все-таки скажете мне его… хотя бы для занесения в протокол этого заседания?
— Совершенно правильно, — ответил Леонид и, спускаясь в свою очередь в темное отверстие хода сзади Марселя, он назвал себя: — Генерал Мале!
Затем он опустил за собой крышку.
Было самое время. В дверь сарая, служившего помещением для заседания комитета улицы Бург-л'Аббэ, раздался бешеный стук ружейных прикладов, и наконец агенты префекта Дюбуа осторожно вошли в опустевший зал, тогда как филадельфийцы, добравшись до соседнего дома, рассеялись во все стороны, откладывая таким образом на неопределенное время выполнение проекта, за которое генерал Мале взялся много спустя, в момент отступления из России, 10 (22) октября 1812 года.
V
Война началась. Наполеон с такой осторожностью и осмотрительностью готовился к первой встрече с врагом, как будто от этого зависело спасение Франции.
Наоборот, пруссаки с непростительной самонадеянностью положились на свою прежнюю военную репутацию, полную воспоминаний о Фридрихе Великом. Шовинистские публицисты вроде Генца раздували воинский задор граждан, а военные обманывали страну, уверяя, хоть и в других выражениях, но с той же кичливостью, как и французский маршал Лебеф спустя шестьдесят четыре года, будто у прусских войск не только нет ни в чем недостатка, но даже на гетрах гренадеров не найдется ни одной оторванной пуговицы. Пруссия, предводительствуемая старыми, выжившими из ума генералами, вроде герцога Брауншвейгского, Блюхера и Моллендорфа, стала, казалось, жертвой безумия и неосторожности.
5 октября 1806 года в Эрфурте был созван военный совет под председательством короля Фридриха Вильгельма. Герцог Брауншвейгский, князь Гогенлоэ, маршал Моллендор, министры, масса генералов, из которых состоял совет, заседали целых два дня.
Очень легко выигрывать сражения задним числом и исправлять план кампаний после его выполнения на деле — тогда можно легко избежать ошибок. Но и не впадая в этот обычный способ критики совершенных деяний, не аргументируя сообразно с результатом, все-таки нельзя не признать, что пруссаки с самого начала военной кампании совершили громадную ошибку.
Им следовало избежать немедленного столкновения с войсками Наполеона, имевшего в своем распоряжении южно-германские полки, им надо было сначала отступить, противопоставить французам труднопроходимые болотистые равнины, заманшь к северу и там соединиться с русской армией, которая, благодаря своей отдаленности не могла явиться на поле сражения ранее чем через два-три месяца. Некоторые из членов совета и подавали разумный совет в этом смысле, но королева Луиза, присутствовавшая на заседаниях, была в этом случае дурным гением Пруссии, как позднее другая государыня своими советами навлекла раздор на Францию.
Королева шептала супругу на ухо о том, что постыдно отступать перед французами, которым еще не приходилось иметь дело с первой армией в мире, с победителями при Росбахе. Что скажет народ, столь воодушевленный, экзальтированный, кричащий на всех площадях: «На Париж! На Париж!» А тут еще студенты, каждый вечер электризовавшие атмосферу пивных своими воинственными речами, произносимыми между обильными возлияниями богу Гамбринусу! И философы во главе с Фихте тоже совались сюда, так что в лабораториях и пинакотеках только и мечтали о том, как бы истребить французскую армию и отобрать древнюю немецкую область Лотарингию. Надо было грудью выступить на врага; первая победа откроет прусской армии дорогу на Париж! И королева Луиза заявила своему супругу:
— Вы колеблетесь, ваше величество? Народ, пожалуй, подумает, что вы просто трусите.
Слабый и нерешительный король Фридрих Вильгельм, который склонен был приостановить враждебные действия и вступить в переговоры о мире, поддался на подзуживания королевы Луизы. Впрочем, эта женщина явилась на эрфуртском совете просто выразительницей экзальтированных голов, формулируя взгляды всей расфантазировавшейся нации.
Таким образом было решено двинуться вперед. В оскорбительной и вызывающей ноте Пруссия потребовала от Франции, чтобы та немедленно убрала свою армию с правого берега Рейна. Крайний срок тому был назначен на 8 октября 1806 года.
Эту ноту передал императору Наполеону генерал-майор Бертье.
— Отлично, — холодно ответил ему Наполеон, — мы будем в назначенный срок на свидании, которого желает прусский король. Восьмого октября мы будем не во Франции, а в Саксонии!
Наполеон сейчас же обратился к армии со следующей прокламацией: «Солдаты! Уже готов был приказ, которым вы отзывались обратно во Францию. Вас ждали триумфальные торжества! Но из Берлина послышались воинственные кличи. Тот же самый дух самонадеянности, который четырнадцать лет тому назад завел пруссаков в долины Шампании, по-прежнему царит в умах членов их военного совета. Если в настоящее время они и не собираются срыть Париж до основания, зато мечтают о срочной эвакуации, которую мы должны предпринять при виде их армии! Среди вас не найдется ни одного, кто захотел бы вернуться во Францию другим путем, кроме пути славы. Мы должны вернуться на родину не иначе, как через триумфальные арки. Так горе же тем, которые вызывают нас на военные действия! Пусть пруссаки понесут ту же участь, которая уже постигла их четырнадцать лет тому назад!»
На следующий день после восьмого октября армия тремя колоннами вступила в Саксонию, и Мюрату во главе кавалерии пришлось обменяться с неприятелем первыми сабельными ударами. Это было сражение при Шлейце. Прусскому генералу Туаенцину пришлось иметь дело с 27-м легкопехотным полком под командой генерала Мэзона и с 94-м и 95-м линейными дивизионами Друэ. Мюрат с четырьмя гусарскими и пятью стрелковыми полками лично вмешался в сражение и обеспечил таким образом первую победу. Второе сражение произошло в десяти лье оттуда, у Заальфельда. В этом сражении был убит принц Людовик, и маршал Ланн двинулся на Иену.
Пруссаков охватила страшная паника. Улицы маленького университетского городка были переполнены беглецами. Мост через Заалу был совершенно загроможден фургонами, повозками с ранеными, багажом и провиантом. Отступление продолжалось вплоть до Веймара. 13 октября Наполеон был под Иеной. Он отдал следующий приказ: Сульт и Ней должны подойти к Иене самое позднее ночью. Мюрат стянет свою кавалерию за Иеной, а Бернадотт будет ждать между Иеной и Наумбургом, в Дорнбурге, где был мост через Заалу. В Наумбурге была главная квартира маршала Даву, которому было поручено следить за армией принца Гогенлоэ.
Около Иены имеется холм, господствующий над городом. Там Наполеон разбил лагерь вместе с Ланном и гвардией. В центре квадрата, заполненного четырьмя тысячами человек, Наполеон раскинул свою палатку. С тех пор этот курган получил прозвище Наполеонсберг (то есть гора Наполеона).
Затем с поразительной энергией занялся установкой артиллерийских орудий и подъемом их по трудным путям. С факелом в руке он лично распоряжался инженерными работами по прорытию скалы для обеспечения свободного пути пушкам. Разбитый усталостью, он не пожелал отдохнуть до тех пор, пока не увидел, как были установлены первые пушки. Он приказал принести себе стул и уселся на него верхом около бивуачных огней, опираясь обеими руками на спинку. В таком положении он заснул посреди полного священного трепета кружка солдат и офицеров.
Победа, паря над великой армией на невидимых крыльях, покровительствовала сну великого солдата. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что всю долину застилает густой туман. В сопровождении солдат с факелами Наполеон обошел войска. Он воодушевил их своей энергией и огнем речей. Надо было разбить пруссаков, разобщить их с русскими, и наступал день, когда вновь должны были ожить чудеса Аустерлица! Раздались крики: «Да здравствует император», и Ланну был дан сигнал к атаке.
День 14 октября 1806 года ознаменовался двойной победой: при Иене и Ауэрштадте. У Иены, где лично командовал Наполеон, победа чуть-чуть не стала сомнительной из-за маршала Нея, который неосторожно увлекся. У Ауэрштадта, где Даву не получил подкрепления от Бернадотта, завидовавшего ему и буквально придерживавшегося приказа Наполеона оставаться на позиции у Дорнбурга, пруссаки на момент вообразили, что им удалось уничтожить весь третий корпус, но дивизии Фриана и Морана решили победу. Герцог Брауншвейгский был убит наповал, маршал Моллендорф — опасно ранен.
Двойное и достославное сражение 14 октября уничтожило прусскую армию. Разгром ее не поддается описанию. Кавалерия Мюрата преследовала сабельными ударами беглецов вплоть до самого Веймара. Если бы не бездеятельность Бернадотта, то в Пруссии не осталось бы ни единого солдата на другой день после этих двух сражений, где маршал Даву сравнялся с Наполеоном и разделил его славу.
Вечером после сражения Наполеон обошел часть поля битвы. Он задумчиво осмотрел трупы, нагроможденные около рощицы, откуда стреляла прусская артиллерия. Его поразил номер полка.
— Из тридцать второго! — воскликнул он. — И опять из тридцать второго! Сколько их уже пало в Италии, в Египте, в Германии, везде… О, храбрецы! — взволнованным голосом сказал он Раппу, своему флигель-адъютанту. — Каким чудом еще остались люди в этом непобедимом полку! — И император, остановившись, снял шляпу, пустив лошадь шагом, отдавая таким образом последнюю почесть храбрецам 32-й полубригады, солдатам Аркольского моста и Маренго, а затем продолжал свой обход.
При въезде в деревню Ауэрштадт находилась маленькая ферма, около которой по всем признакам разыгралось жаркое дело, если судить по количеству трупов, разбросанных повсюду, и по количеству ломаного оружия, усеявшего весь лужок и садик у фермы. Перед дверью риги, тщательно запертой, император заметил силуэт какого-то худого великана, который, казалось, стоял на часах. Под мышкой этот великан держал длинную палку.
VI
Наполеон пришпорил лошадь и, подскакав к странному часовому, спросил:
— Какого черта ты здесь делаешь, тамбурмажор?
Тамбурмажор, вытягиваясь во весь свой рост, взял палку, искусно повертел ею в воздухе, подбросил кверху, подхватил на лету и, взяв ее к плечу, словно солдат, отдающий честь ружьем генералу, ответил:
— Ваше величество, я жду подкрепления!
— Ба! Да я тебя узнаю! Ты — тамбурмажор моих гренадеров и зовут тебя ла Виолетт?
— Да, ваше величество, это я самый! Я нахожусь в пути на Берлин, как вы, ваше величество, изволили приказать.
— Хорошо, успокойся, мы идем на Берлин, братец! Теперь дорога открыта, — улыбаясь, ответил император. — Но о каком подкреплении ты говоришь?
— Ваше величество, не могу же я один увести с собой всех моих пленников.
— Твоих пленников? Каких пленников? — спросил заинтересованный Наполеон.
— Да тех самых, которых я взял в плен. Они там, в риге. Я запер дверь и жду.
— Ты захватил пруссаков в плен? Ты?
— Да, ваше величество, целый эскадрон! Я был тут неподалеку с моими барабанщиками. Тут я и увидал спешившихся красных драгунов, которые удирали во все лопатки. Я и предложил им сдаться. Они послушались. Подумали, наверное, что за мной идет целый полк, вот и сдались. Тогда я запер их там. Вот как это все произошло, ваше величество!
Один из офицеров свиты во время разговора императора с тамбурмажором прошел в ригу, а затем, явившись обратно, доложил Наполеону, что тамбурмажор говорит сущую правду: шестьдесят красных драгунов, бросив оружие, сдались на милость победителя, прося оставить им жизнь.
Наполеон, восседая на лошади, приходился почти на уровне лба ла Виолетта.
— Подойди-ка сюда, — сказал он ему тоном, доказывавшим великолепнейшее расположение духа, схватил ла Виолетта за ухо и больно оттрепал его.
Ла Виолетт сдержал крик боли: очевидно, император был чертовски доволен, раз трепал его за ухо с такой силой!
— А, так ты, какой-то там тамбурмажор, позволяешь себе брать военнопленных?… Ну ладно же, погоди! Я тебя проучу за это! — Император возвысил голос и крикнул: — Рапп, подойдите сюда!
Рапп подъехал. Наполеон быстро отцепил с его груди крест Почетного легиона и, протягивая остолбеневшему ла Виолетту, сказал ему:
— Тамбурмажор ла Виолетт, ты — герой. Отныне ты будешь носить знак своего геройства. Рапп, прикажите направить этих пленников в Иену! — И, не дожидаясь выражений благодарности новопожалованного дворянина, остолбеневшего от неожиданности, Наполеон пришпорил лошадь и галопом помчался заканчивать осмотр поля битвы.
Ла Виолетт, опершись обеими руками на палку, задумчиво рассматривал крест, сверкавший на его груди. Он пробормотал глубоко взволнованным голосом:
— Так, значит, я не трус, а герой? Это я-то? Ну, полно! Однако это сказал сам император… — Он прибавил, энергично размахивая палкой: — Однако это так. Теперь остается только доказать императору, что он не ошибся. О, когда же я буду иметь честь разбить себе череп за него? — И ла Виолетт, отчаянно размахивая палкой, словно командуя целой армией невидимых барабанщиков, добежал до своего лагеря с криком: — Господи! Да где бы мне найти еще пруссаков, чтобы разнести их вдребезги?
Войдя в главную квартиру, Наполеон приказал Раппу сейчас же позвать маршала Лефевра, а затем, сделав знак своим секретарям, которые, положив возле себя портфели, готовились писать, принялся быстро диктовать им. По своему обыкновению, Наполеон все время расхаживал взад я вперед по комнате, останавливаясь лишь для того, чтобы взять щепотку нюхательного табака из черепаховой табакерки.
— Пишите, — обратился император к первому секретарю: — «Корпус маршала Даву произвел чудеса. Картечная пуля снесла шапку с головы маршала, задела волосы и пробила в нескольких местах его платье. Маршал Даву выказал необыкновенную храбрость и стойкость характера — необходимые качества для военного человека. Маршалу помогали генералы: Гудэн, Фриан, Моран и Дельтан, начальник главного штаба. Результаты этой битвы следующие: от тридцати до сорока тысяч пленников, триста пушек, отобранных у неприятеля, и большие запасы провианта, которые перешли в наши руки. В жалких остатках неприятельской армии царят чрезвычайное смятение и беспорядок».
Наполеон остановился. Он сам не в состоянии был писать, так как его рука не могла угнаться за полетом мысли. На бумаге получалась масса каких-то иероглифов, которые он даже сам не мог разобрать. Писать под диктовку императора тоже было делом не легким, но его секретари Буррьен, Фэн и Менневаль привыкли к этому тяжелому труду и успевали записывать лихорадочные импровизации Наполеона.
Император понимал, как трудно следить за его речью, и потому по окончании каждого приказа делал перерыв, который давал возможность его секретарям привести в больший порядок набросанные ими буквы.
— То, что я сейчас продиктовал, пойдет в великую армию в виде пятого бюллетеня, — проговорил Наполеон, обращаясь к секретарям. — Теперь пишите вы, — приказал он второму секретарю, — я продиктую вам сообщение для газет! — прибавил император саркастическим тоном.
Он снова зашагал взад и вперед по комнате, быстро выбрасывая слова на ходу:
— «Королева прусская появилась несколько раз вблизи наших позиций. Она была в постоянной печали и тревоге. Накануне битвы при Иене она сделала смотр своим войскам и все время подзадоривала прусского короля и генералов. Ей хотелось крови, и вот самая драгоценная для Пруссии кровь пролилась. Наиболее известные прусские генералы, герцог Брауншвейгский и Моллендорф, первыми погибли от французских пуль».
В тоне Наполеона чувствовалась горечь. Казалось, что оскорбленный мужчина желает отомстить прусской королеве, а не завоеватель сообщает о своей победе над врагом.
Наполеон остановился, как бы не находя подходящих слов; это было так необычно, что секретарь с недоумением и тревогой взглянул на него.
«Не заболел ли император? — подумал он. — Может быть, какое-нибудь внезапное страдание охватило этого необыкновенного человека, не знающего ни усталости, ни голода, ни болезней?»
Наполеон как будто понял немой вопрос своего секретаря и быстро продолжал:
— «Император живет в веймарском дворце, в котором находилась несколько дней тому назад королева прусская. Кажется, слухи о ней были верны. Эта женщина обладает прекрасной фигурой, но ее разум настолько скуден, что она не способна предвидеть результаты того, что делает. Теперь ее нужно скорее жалеть, чем обвинять, так как ей, вероятно, приходится испытывать сильнейшие угрызения совести за те страдания, которые она причиняла своему государству. Для всех ясно, что вся вина на ее стороне. Она дурно влияла на своего супруга, которого нельзя не признать в высокой степени порядочным человеком, желавшим мира и блага своему народу».
Наполеон снова остановился.
В комнату тихо вошел человек в разорванном мундире, покрытом грязью и закопченном порохом. Он почтительно ждал, когда император окончит диктовать.
Наполеон пошел навстречу вошедшему и крепко пожал его руку.
— Что скажешь, старина Лефевр? Мы сегодня одержали недурную победу, не правда ли? — проговорил он.
— С вами, ваше величество, и с моими генералами нельзя не одержать победы! — ответил Лефевр.
— Императорская гвардейская пехота, которой ты командовал, была великолепна! — похвалил Наполеон.
— Императорская конная гвардия, которой командовал Бесьер, была тоже очень хороша! — возразил Лефевр, которому незнакомо было чувство зависти.
Он любил всех маршалов, за исключением Бернадотта. Честный, прямой Лефевр чувствовал недоверие к хитрому маршалу и подозревал его в измене.
— Да, вы все были восхитительны, — повторил Наполеон, — скажи сегодня своим гренадерам, что император очень доволен ими.
— Благодарю, благодарю вас, ваше величество! — радостно воскликнул Лефевр. — Солдаты будут счастливы, и они вполне заслужили вашу благодарность. Знаете ли вы, ваше величество, что гвардия совершила переход в четырнадцать миль ни разу не отдыхая, причем ей приходилось еще все время отбиваться от неприятеля. Вы, ваше величество, дали мне когда-то свою саблю; теперь было бы недурно, если бы вы предложили мне другую, — с некоторой фамильярностью прибавил маршал. — Видите, эта совершенно иступилась и больше похожа на штопор.
— Хорошо, хорошо, — прервал его Наполеон, — вместо своей сабли ты получишь шпагу. У тебя уже есть трость, а если еще прибавить шпагу…
— Я не понимаю, ваше величество, что вы хотите сказать, — заметил Лефевр, у которого соображение было мало развито. — Объясните мне, пожалуйста.
— Ведь у тебя уже есть трость — жезл маршала! — пояснил император.
— Да, это правда. А какое значение имеет шпага? — продолжал недоумевать Лефевр.
— Ты поймешь впоследствии. А теперь выскажи мне свое мнение относительно прусской королевы, — попросил император.
— Смею ли я, ваше величество! — начал Лефевр.
— Говори со смелостью солдата, не умеющего приукрашивать истину! — с пафосом произнес Наполеон, любивший иногда цитировать трагических героев. — Я тебя слушаю, Лефевр.
— Хорошо, ваше величество! Я не стал бы воевать с женщинами, и на вашем месте я не трогал бы королевы прусской! — ответил Лефевр.
— Она сама хотела войны, — возразил Наполеон, — по ее милости мои храбрые воины спят вечным сном под холмами Иены.
— Прусский народ тоже желал войны! — заметил Лефевр.
— Королева соблазнила его, обманула, — настойчиво продолжал Наполеон свое обвинение. — Рабочие, крестьяне, ремесленники были очень огорчены этой войной. Горсточка женщин и несколько молодых офицеров произвели всю бурю и нанесли страшный вред своей стране. Нет ни одного благоразумного человека ни в Париже, ни в Берлине, кто не предугадал бы, чем окончится эта битва.
— Да, это верно, — согласился Лефевр. — Пруссаки не могли вообразить, что побьют Наполеона, Нея, Даву и меня с моими гренадерами! — прибавил маршал с такой наивной простотой, которая исключала малейший намек на хвастовство.
— Умные люди, — продолжал Наполеон, весь поглощенный одной мыслью, — обвинят в несчастье Пруссии императора Александра. Со дня его приезда прусская королева совершенно изменилась. Скромная, застенчивая женщина, занятая исключительно своим домом, превратилась в воинственную амазонку, жаждущую битвы и крови. И все это произошло благодаря впечатлению, произведенному на нее прекрасным императором Александром.
— Вы думаете, что королева влюбилась в него? — спросил Лефевр.
— Во всяком случае она хотела понравиться ему и потому старалась подделаться под его вкус, — ответил Наполеон. — Она начала командовать полком и присутствовала на военных советах. Она так ловко провела своего мужа, что тот даже не заметил, что в течение нескольких дней его трон очутился на краю пропасти. О, женщины, женщины, какие вы пагубные советчицы, в особенности для властителей государства! Лучше было бы, если бы вы сидели за своими прялками, предоставив мужчинам управлять скипетром. Подожди, Лефевр, я еще хочу сказать кое-что по поводу этой отважной, дерзкой королевы. — Наполеон снова подошел к своим секретарям и приказал одному из них писать дальше. — Прибавьте к тому, что вы написали, следующее: «Во всех лавках города и даже в избах крестьян можно найти картину, возбуждающую всеобщий смех. — Наполеон остановился, как бы отыскивая наиболее язвительную фразу; на его губах блуждала ироническая улыбка. Затем он продолжал диктовать: — На картине изображена прусская королева, а рядом с ней прекрасный император Александр. По другую сторону королевы находится прусский король, который, подняв вверх руку, клянется над могилой Фридриха Великого, что разобьет французскую армию. Королева, драпируясь в шаль, наподобие леди Гамильтон, которая изображена на английских гравюрах, прижимает руку к сердцу и смотрит на русского царя. Тень Фридриха Великого содрогнулась бы при виде этой картины. Весь ум, весь гений этого короля, все его мысли и желания принадлежали французской нации; он говорил, что если бы он был королем Франции, то ни один пушечный выстрел во всей Европе не раздался бы без его разрешения».
Наполеон улыбался, диктуя последнюю фразу; по-видимому, он был доволен собой и смотрел на Лефевра, как бы ожидая от него одобрения.
Но маршал был погружен в созерцание плана, лежавшего на столе императора. Все поля этого плана были испещрены линиями, черточками, геометрическими фигурами.
— Ты здесь видишь прекрасную работу, — проговорил Наполеон, подходя к Лефевру. — Это — труд весьма достойного инженера, генерала Шасслу.
— Да, да! — безразличным тоном пробормотал маршал и отвернулся от чертежа, который был для него так же мало понятен, как китайская грамота.
— Это план города Данцига, — пояснил Наполеон, — здесь отмечены все возвышенности, расстояния от одного пункта до другого, расположение построек.
— А, это Данциг? Очень хорошо! Я никогда не слыхал о нем! — тем же безразличным тоном заметил Лефевр.
— Ты скоро поближе познакомишься с ним, мой милый Лефевр, — с улыбкой проговорил Наполеон. — Это первейший порт на Висле. Торговля всего севера сосредоточена на этом месте. Данциг — очень богатый город; там находятся неистощимые запасы провианта, который понадобится нам, когда мы двинемся к равнинам Польши. Я думаю пойти навстречу русским.
— Тем лучше! — воскликнул Лефевр. — Мне доставит удовольствие померяться силами с более солидным войском, чем армия прусского короля. Когда же мы выступим навстречу русским?
— Погоди, имей терпение, Лефевр! Россия — огромная империя и очень трудно добраться до нее. Ее охраняют расстояния, морозы и голод. Мои солдаты умрут с голода и застрянут в снегах Польши, не добравшись до центра России, если я не буду уверен, что у нас имеются позади большие запасы провианта. Ввиду этого мне и нужен Данциг.
— Если он нужен вам, то вы получите его! — уверенно заявил Лефевр.
— Надеюсь! — ответил Наполеон. — Но нужно знать, что Данциг представляет собой первоклассную крепость, ее охраняет гарнизон в четырнадцать тысяч пруссаков и четыре тысячи русских. Губернатором Данцига состоит маршал Калькрейт. Это храбрый, энергичный солдат. Он способен скорее сжечь город, чем сдаться осаждающим. Но это еще не все. Взгляни на карту.
Наполеон начал водить кончиком пальца по карте, а Лефевр широко раскрывал глаза, напрягал все свое внимание и все-таки ничего не мог вынести из труда гениального инженера Шасслу.
— Ты видишь эту черту? — продолжал Наполеон. — Это песчаный мыс Неерунг, который тянется на протяжении двадцати миль. Здесь нет ни одного здания, ни одного деревца, которые могли бы служить пристанищем. Данциг находится на одну милю от моря и этот мыс соединяет город с портом Кенигсберг. Канал с островом Гользен ведет в открытое море, и вход в него защищен редутами. Как видишь, все это место с трех сторон окружено реками Вислой и Мотлау; тут всюду устроены бастионы; одним словом, мой храбрый Лефевр, Данциг считается неприступным.
Лефевр с серьезным видом покачал головой и повторил:
— Неприступным? Прекрасно!
«На кой черт рассказывает мне все это император? — подумал он. — Что он хочет показать на этой бумажке? Какие-то там линии, точки, черточки направо и налево. Ничего не понимаю».
— Да, Данциг неприступен, — проговорил еще раз Наполеон, потрепав по плечу маршала, — поэтому ты должен взять его.
Лефевр выразил сильнейшее изумление.
— Я должен взять его? — воскликнул он, — Да, да. Мы возьмем его с моими гренадерами.
— Не с твоими гренадерами, а вот с этим, дурачина! — возразил император, показывая на план Шасслу.
Удивление маршала возросло до самой сильной степени. Он смотрел то на план, то на Наполеона и не мог понять, говорит ли император серьезно, или шутит.
«Что это за новость? — думал Лефевр. — С каких это пор города берутся не оружием, а какими-то клочками бумаги? Император хочет, чтобы я взял Данциг, — прекрасно, я пойду на него приступом во главе своих гренадеров; но при чем тут эта бумажка?»
Наполеон искоса поглядывал на старого солдата. Он очень любил Лефевра и считал его самым достойным из своих маршалов, несмотря на то, что тот был очень мало умственно развит. Лефевр сохранил республиканские взгляды и смотрел на империю как на вооруженную республику, причем считал, что управление страной перешло из рук адвокатов к военным. Наполеон слегка побаивался прямого и грубовато-добродушного маршала, а вместе с тем несколько опасался острого язычка жены Лефевра, госпожи Сан-Жень. Давно уже хотелось императору как-нибудь особенно вознаградить и чувство дружбы. Осада Данцига показалась ему весьма прекрасным случаем для этого. Император не строил никаких иллюзий по поводу таланта Лефевра. Он знал, что тот — недостаточно ловкий полководец, а потому решил сам руководить издали атакой, сообразуясь с планом Шасслу. Лефевр должен был исполнять предписание императора и в последнюю минуту, во время натиска, броситься вперед во главе своих гренадеров. Наполеон не сомневался, что Данциг не в состоянии будет устоять перед этими гигантами и отдастся в руки Лефевра.
Маршал обладал здравым смыслом и достаточной скромностью; он боялся, что император преувеличивает его военные способности, и потому попросил поручить это трудное дело кому-нибудь другому, а его послать туда, где нужно открыто драться с врагом.
— Ах ты, глупое животное! — воскликнул Наполеон, ласково теребя Лефевра за ухо. — Я хочу, чтобы именно ты взял Данциг; когда мы вернемся в Париж, у тебя тоже должно быть что-нибудь такое, о чем ты мог бы рассказать в зале сената.
Лефевр поклонился; его лицо сияло радостной гордостью от доверия императора. Наполеон обещал посылать своему маршалу точнейшие инструкции и дать ему в помощь инженера Шасслу и генерала артиллерии Ларибуазьера.
— Я должен сообщить эту приятную новость своей жене, — проговорил Лефевр, откланиваясь императору, — она будет очень счастлива и станет благословлять вас, ваше величество, за вашу доброту ко мне.
— Твоя жена? Мадам Сан-Жень? А ты очень привязан к ней? — пренебрежительно спросил Наполеон.
— Привязан ли я к своей жене? — в величайшем изумлении воскликнул маршал. — Почему вы спрашиваете об этом, ваше величество? Да я и Катрин обожаем друг друга, как самые простые молодые люди. Да, мы друг для друга остались теми же: она — прачка, я — простой сержант. Мы никогда не мечтали, что можем быть при дворе: она в качестве жены маршала, а я — как командующий императорской гвардией. Вы спрашиваете, люблю ли я Катрин. О, ваше величество, для меня существуют лишь три святыни на свете: император, жена и знамя! Я невежествен, учился на медные гроши, но твердо знаю, что должен служить своему императору, любить жену и охранять знамя, которое вы, ваше величество, доверили мне. Эти три вещи я знаю твердо и меня не собьют в них ни Бернадотт, ни ваш Фушэ.
— Хорошо, хорошо, успокойся, старина! — проговорил Наполеон, скрывая под лукавой улыбкой внезапную мысль, которая пришла ему в голову и которую он не считал нужным сейчас высказать. — Я не помешаю тебе приласкать твою жену, когда ты возьмешь Данциг и мы вернемся победителями во всех отношениях. Да, я знаю, что твоя жена, несмотря на грубый язык и вид жандарма, — очень хорошая и достойная женщина. Иногда она… действительно кажется неуместной при моем дворе, но это не важно. Пусть люди втайне смеются на ее счет, но им все-таки придется низко склониться перед нею. Я сумею украсить чепец бывшей прачки таким трофеем, которому позавидуют все.
— Ах, я стараюсь понять, что вы хотите сказать, ваше величество, — пробормотал Лефевр, потирая лоб, как-будто давая возможность мысли легче проникнуть в его голову. — Я стараюсь понять. Вы уже дали мне жезл маршала, а теперь, вероятно, собираетесь вознаградить меня еще чем-нибудь… Скажите, ваше величество, что я должен сделать для того, чтобы заслужить все ваши милости? Прикажите сделать что-нибудь необыкновенное…
— Возьми Данциг! — улыбнулся Наполеон.
— Слушаюсь! — ответил Лефевр.
Затем, отдав честь и поклонившись своему обожаемому императору, маршал быстро вышел из комнаты. Его глаза сверкали, лицо разгорелось; он принял такой торжественно воинственный вид, точно готовился моментально взять приступом город.
— Благородная душа! — пробормотал Наполеон, смотря вслед скрывшемуся Лефевру. — Что за герои — эти солдаты прежнего времени! Но они скоро будут бесполезны; приемы войны меняются; я сам преобразовал ее. Больше не будет Лефевров, а, может быть, не будет и таких людей, как я. Впрочем, поживем — увидим.
Наполеон круто повернулся и взглянул на своих секретарей, которые, вооружившись перьями, внимательно ждали, когда императору угодно будет что-нибудь продиктовать им.
— Пишите, господа! — проговорил Наполеон. — Фэн, напишите письмо Фушэ. «Дорогой министр, я очень недоволен французской академией. Аббат Сикар, принимая кардинала Мори, дурно отозвался о Мирабо. Я не желаю, чтобы в общественном мнении существовало реакционное направление. Прикажите газетам хвалить Мирабо».
Приказав адресовать это письмо министру юстиции, император немедленно занялся другим посланием.
— «Прошу директора оперы, — продиктовал он, — не делать никаких неприятностей машинисту, который обратился ко мне. Этот усердный служака не виноват, что перемена декорации в балете не последовала вовремя. Я не желаю, чтобы бедный машинист стал жертвой случайности; я всегда поддерживаю мелких служащих. Актрисы могут витать или не витать в облаках, но я не допущу, чтобы из-за этого велись интриги».
Император еще коснулся нескольких самых разнообразных вопросов и затем отпустил своих секретарей.
— До свидания, господа, — проговорил он. — Отдохните немного. Завтра мы будем в Потсдаме, а послезавтра войдем в Берлин.
VII
27 октября 1806 года берлинцы присутствовали при грандиозном зрелище, напоминавшем самые торжественные минуты античной жизни. Подобно римским легионам, в столицу вошла великая армия победите.
С самой зари весь город был на ногах. Окна и балконы были усеяны рядами мужчин и женщин. Целое море человеческих голов виднелось повсюду. Аллея, которая вела от Шарлоттенбурга к дворцу короля, тоже была полна народа. Отцы несли на плечах своих детей. Вдоль домов стояли табуреты, скамейки, лестницы, на которые взбиралась публика, желавшая увидеть хоть что-нибудь. Все взоры были устремлены на ворота Шарлоттенбурга, которые были еще закрыты. Двое полицейских отгоняли любопытных, старавшихся поближе пробраться к воротам. Вся эта масса людей разговаривала пониженными голосами; полушепотом передавались известия о необыкновенных подвигах Наполеона, и взрослые мужчины с таким страхом слушали эти рассказы, точно дети, которым рассказывают сказки о разбойниках.
Любопытство и желание видеть поближе великого Наполеона, рассмотреть его черты, манеры, познакомиться с человеком, одержавшим уже сорок побед, заглушали чувства горечи и унижения, которые должны были ощущать все истинные прусские патриоты. У берлинцев было грустное преимущество присутствовать при этой необыкновенной и незабвенной сцене.
Наконец ворота Шарлоттенбурга открылись и по толпе пронесся какой-то гул, в котором можно было уловить беспокойство, смешанное с удовольствием, как это бывает, когда люди издали наблюдают катастрофу, не грозящую им лично никакой опасностью.
— Вот они, вот они! Смотрите, смотрите!
Точно огромный блестящий маяк, возвышаясь над морем человеческих голов, показался сначала трехцветный султан цветов революции. Он высоко поднимался в воздухе, послушно поворачиваясь в руках Виолетта, который торжественно выступал впереди всех и казался теперь выше, чем когда бы то ни было. Согласно обещанию императора, Виолетт первый вошел в Берлин, и трость тамбурмажора, казалось, приходилась сродни шпаге Наполеона. На груди Виолетта сверкала звезда.
Плоская физиономия бывшего маркитанта тоже блестела в сиянии прекрасного дня. Он проходил мимо берлинцев, держа на своей трости трехцветный султан, и точно хотел сказать: «Смотрите на меня, жители Берлина! Франция — лучшая страна в мире. Армия — выше всего, что есть во Франции; первый гренадерский полк прекраснее всех французских полков, а в первом гренадерском полку самый добрый человек — я, тамбурмажор гренадеров. Смотрите же, пруссаки, на меня; вы видите перед собой превосходнейшего человека на всей земле!»
— Ах, если бы Катрин, то есть я хочу сказать, жена маршала, могла видеть теперь меня! — со вздохом пробормотал блестящий тамбурмажор.
В глубине души он сохранил к Сан-Жень глубокую, почтительную любовь, такую же простую, как и его героизм.
За барабанщиками следовал целый лес гренадеров, которые, точно великаны-автоматы, медленно двигались равномерным шагом. За гренадерами на известном расстоянии показался ослепительный генеральный штаб. «Даву, Лефевр, Бертье, Ожеро!» — повторяла толпа имена знаменитых маршалов Франции.
Снова за ними пустое пространство — и вот на белой лошади и позолоченном седле проехал император, светило первой величины, заставившее померкнуть в своих лучах все другие звезды.
Простое серое пальто императора было расстегнуто и открывало его мундир полковника и белый жилет. За Наполеоном следовали гвардейские кирасиры, которыми командовали генералы Готпуль и Нансути.
Почтительное восхищение невольно охватило толпу. Среди молчаливых рядов людей императорский кортеж проехал по городу.
Нужно отдать справедливость патриотическому такту пруссаков: ни один враждебный крик не вырвался из груди побежденного народа в адрес победителей; но пруссаки ни разу не высказали и одобрения этой блестящей армии, занявшей их родной город.
Наполеон, торжественно получив ключи от города, дал аудиенцию представителям городского управления и постарался успокоить их относительно дальнейшей участи жителей Берлина.
Он отдал строгий приказ, чтобы дисциплина ни в чем не нарушалась с обеих сторон, и предупредил, что всякое насилие как со стороны побежденных, так и победителей будет жестоко наказываться.
Особенно благосклонно император принял бургомистра Берлина князя Гацфельда. Он спросил, не желает ли князь оставить за собой свое место, причем обещал ему почтительное обращение со стороны французов. Наполеон заявил, что ничего не изменит в учреждениях Пруссии, если администрация согласится признать его авторитет. Он предложил Гацфельду управлять городом на таких же основаниях, как и раньше, при одном лишь условии, чтобы он не предпринимал ничего враждебного против французов.
Князь Гацфельд принял это условие. Он горячо поблагодарил императора за его доброту и, положив одну руку на Библию, поднял другую и поклялся, что никогда не причинит вреда французской армии, будет верно служить императору и ничего не сообщит генералам прусского короля, если узнает что-нибудь о планах и действиях французского войска.
Простившись с князем Гацфельдом, Наполеон только что собирался сесть за работу со своими секретарями, как вошел Дюрок и доложил ему, что маршал Лефевр желает говорить с ним.
— Пусть войдет, — живо воскликнул император. — Разве Лефевр нуждается в специальной аудиенции? У меня существуют доклады для королей, а маршалу Лефевру вход всегда открыт.
— Он не один, ваше величество, — возразил Дюрок, — с ним пришел младший лейтенант, и маршал не знал, захотите ли вы его принять.
— Это, может быть, его сын? — спросил Наполеон.
Дюрок отрицательно покачал головой.
— Нет, ваше величество, у маршала Лефевра нет сына в армии.
— Но ведь, насколько я знаю, у него был какой-то ребенок; мне как-то говорили об этом…
— Это его крестник!
— Крестник? Жаль, что не родной сын. Лефевр мой славный сотоварищ и хорошо было бы, если бы его имя сохранилось. Ну, да хорошо! Позовите сюда Лефевра и его питомца.
VIII
Лефевр представил императору своего крестника, лейтенанта Анрио.
Смотря на молодого человека испытующим взглядом, Наполеон коротко спросил его:
— Который вам год?
— Двадцать один, ваше величество!
— Вы служили в четвертом гусарском полку? Ваш генерал — Лассаль? Вы крестник маршала Лефевра?
— Моя жена подобрала его на поле битвы при Жемапе! — ответил за смущенного офицера Лефевр.
— Это была прекрасная битва! — воскликнул Наполеон. — При Иене вы в первый раз участвовали в сражении? Это очень хороший дебют, лейтенант!
— Какого полка, ваше величество? — спросил Анрио.
Наполеон любил точные выражения и ценил всякое проявление ума.
— Ах, я назвал вас лейтенантом? — проговорил Наполеон. — Ну что ж, вы и останетесь лейтенантом в своем же полку. Если нет свободной вакансии, то Мюрат или Лассаль постараются найти ее при первом деле. Места в этой кампании будут для всех. Ведь она только что начинается.
— Благодарю вас, ваше величество, за вашу доброту к моему приемному сыну, — сказал Лефевр, кланяясь императору, — моя жена будет очень счастлива. Впрочем, Анрио вполне заслужил это повышение в чине. Вы отдали дань справедливости храброму солдату…
— Как и подобает быть твоему воспитаннику, Лефевр.
— Я горжусь им, ваше величество! Расскажи, мой мальчик, что ты сделал; докажи его величеству, что твоя награда заслужена! — обратился старик к молодому офицеру.
Анрио покраснел и не решался заговорить.
— Ты не дрожал так перед Штеттином! — упрекнул его Лефевр.
— Император страшнее Штеттина, — пробормотал Анрио.
— Однако ты взял Штеттин! — громко воскликнул маршал.
— Как? Этот гусар взял Штеттин? — спросил император очень благосклонно. — Расскажите, в чем дело. Я действительно получил извещение о неожиданном взятии значительной крепости. Но я предполагаю, что вы не один совершили это дело; ведь там имелись сильный гарнизон и артиллерия.
— Со мной, ваше величество, был взвод гусаров.
— Совершенно верно, ваше величество, — подтвердил Лефевр. — Дело было великолепное! Генерал Лассаль скакал со своими гусарами по деревням; он плохо знал местность. Увидев вдали нечто вроде большой деревни, генерал отправил на разведку моего Анрио со взводом солдат.
— С одним только взводом? — воскликнул Наполеон. — Какая неосторожность! Продолжай, Лефевр.
— Анрио сейчас же помчался и увидел, что перед ним не деревня, а стена большого города, окруженная бастионами. Кончай сам, Анрио, расскажи его величеству, что было дальше.
Лефевр с гордостью взглянул на своего крестника.
— Увидав перед собой солидную крепость вместо деревушки, я был очень поражен, — проговорил молодой человек, — и в первою минуту остановился в нерешительности…
— Лассаль храбр так же, как ты, Лефевр, и так же мало смыслит в географии, — прервал Анрио Наполеон. — Но продолжайте!
— Пока я раздумывал, что делать, — уверенным тоном стал рассказывать Анрио, ободренный видимой благосклонностью императора, — гарнизон заметил меня и начал уже заряжать пушки. Если бы я скомандовал своим солдатам повернуть назад, нас, наверно, всех перестреляли бы и я не в состоянии был бы предупредить генерала о существовании этой крепости. Не отдавая себе отчета в том, осторожно ли я поступаю, я выхватил саблю и крикнул солдатам: «Вперед».
— Очень хорошо! Что же дальше? — спросил император, сильно заинтересованный рассказом.
— Увидев, что мы приближаемся к поднятым мостам, к нам вышел офицер-парламентер. Я выстроил в ряд своих людей и потребовал от коменданта, чтобы он сдал мне крепость. Мосты опустились, и мы вошли в город. Я сейчас же отправил нарочного к генералу Лассалю, и через час он въехал в крепость. Комендант торжественно вручил ему ключи, и гарнизон был взят в плен вместе со всем имуществом.
— Сколько человек? — спросил Наполеон.
— Около шести тысяч.
— Прекрасно, это большое военное дело. Поздравляю вас, капитан, то есть, виноват, командующий эскадроном, — поправился император. — Взять сильную крепость с одной кавалерией — большая заслуга. Поздравляю тебя, Лефевр, с таким крестником. Позаботься о том, чтобы Рапп сегодня же дал мне подписать приказ о производстве храброго офицера. До свидания, командир, я буду иметь вас всегда в виду. Я прочту сейчас донесение Лассаля и пошлю его Талейрану; пусть он выпустит бюллетень об этом прекрасном событии. Великая армия должна познакомиться с ним.
Наполеон протянул руку молодому командующему эскадроном, так быстро и законно поднявшемуся вверх. Лефевр и его крестник ушли очарованные императором. Растроганный Анрио шел рядом с маршалом. Любопытные взгляды берлинцев все время сопровождали их, а встречавшиеся прусские офицеры почтительно отдавали им честь.
— Куда мы идем? — удивленно спросил Анрио, увидев, что его приемный отец направляется к прекрасному зданию поблизости от дворца, где жил император.
— В городской дом, к бургомистру князю Гацфельду! — ответил Лефевр.
— Что же мы будем делать у него? — продолжал недоумевать Анрио.
— Ты эго скоро узнаешь! — лукаво улыбнулся маршал. — Скажи, Анрио, ты вспоминаешь когда-нибудь свою маленькую подругу Алису?
— Еще бы! — воскликнул молодой человек, слегка краснея. — Мы с ней играли вместе и спали в полковой повозке.
— Да, когда моя милая Катрин была маркитанткой, она подобрала Алису среди разгрома осажденного города; это было в Вердене, в тысяча семьсот девяносто втором году. Мы воспитывали вас обоих как брата и сестру. Может быть, мы поступили неосторожно, — прибавил маршал, искоса поглядывая на молодого офицера.
— Я был очень огорчен, когда меня заставили расстаться с Алисой, — заметил Анрио, — я очень привык к ней. Она была добрая, любящая, хорошенькая.
— Да, вы часто играли в мужа и жену, — напомнил Лефевр. — Эти детские игры имеют иногда серьезное значение. После всех ужасов войны родственники Алисы Борепэр эмигрировали и потребовали к себе дочь. У бедной девочки, в сущности, не было матери, так как несчастная Эрминия Борепэр лишилась рассудка после трагической смерти своего брата. Волей-неволей нам пришлось расстаться с Алисой.
— Я в тот день так страдал, точно похоронил часть самого себя, — задумчиво сказал Анрио.
— Так ты любишь маленькую Алису? — спросил Лефевр. — Я всегда подозревал это! Может быть, мне не следует делать то, что я задумал, — вдруг воскликнул маршал и остановился.
— А что вы задумали? — спросил молодой офицер.
— Я хотел… а теперь боюсь, что Катрин будет недовольна, когда узнает. Одним словом, Алиса здесь.
— В Берлине?
— Да, да. Ее семья очень бедна и не могла содержать ее должным образом во время эмиграции. В Кобленце один из Борепэров довольно близко сошелся с князем Гацфельдом. Жена князя пригласила к себе Алису, и она состоит теперь при ней в качестве лектрисы.
— Так мы, значит, увидим ее? — воскликнул Анрио, не помня себя от восторга. — Боже, какое счастье!
— Алиса заметила нас обоих, когда мы проходили по улицам Берлина. Она рассказала о нас, в особенности о тебе, княгине, и я получил от нее приглашение прийти сегодня обедать вместе с тобой. Я принял приглашение за тебя и за себя и теперь уже поздно отказываться.
— Этот день будет для меня самым счастливым в жизни, — радостно проговорил Анрио.
— Этому легко поверить, — заметил Лефевр. — Подумай только, в двенадцать часов ты был младшим лейтенантом, а в четыре уже произведен в командующие эскадроном.
— Но самое главное — то, что я увижу Алису.
— Ах вы, молодые люди! Все-то у вас глупости на уме! — проворчал маршал. — Погоди немножко, мой маленький петушок, я привел тебя в Берлин через Иену не для того, чтобы ты спрятал свою саблю и прицепился к юбкам. Ты обнимешь Алису, вспомнишь с ней детство, а затем дальше в путь; я уведу тебя.
— Куда? — спросил Анрио.
— В Данциг, конечно! — ответил маршал.
— О, это прекрасная крепость, самая лучшая на всем севере, как говорят.
— Да, там восемнадцать тысяч гарнизона, двести пушек, редуты, каналы, бастионы, — вспоминал Лефевр все то, что слышал от Наполеона, — это очень хороший подарок. Император дарит мне Данциг, нужно только войти в него.
— Мы и войдем! — решительно заявил Анрио.
— Надеюсь, но император не хочет, чтобы на приступ шли гренадеры. Может быть, мы обойдемся и гусарами; ведь теперь цитадели берет кавалерия, — несколько иронически прибавил Лефевр.
Будучи главнокомандующим пехоты, он слегка завидовал Мюрату, Лассалю, Нансути и Бесьеру и по временам отпускал колкости по адресу кавалеристов.
— Когда-то в Голландии гусары разбивали флот, — вступился за свой гусарский полк Анрио.
— На войне все возможно, — согласился Лефевр. — Итак, решено: повидаем Алису, скажем ей «здравствуй» и «прощай», а затем на лошадь и в путь!
— Позвольте мне видеться с Алисой, — умоляющим тоном попросил молодой человек. — Я люблю ее с самого раннего детства. Мысль о ней не покидает меня. Я люблю ее и умру, если вы скажете, что она никогда не может быть моей женой.
— Ты хочешь жениться, в твои годы? Подожди по крайней мере, пока тебя произведут в полковники! — возразил Лефевр.
— Но ведь вы сами женились, когда были еще совсем молодым! — напомнил Анрио.
— Я — другое дело. Я был простым сержантом, а не командующим эскадроном. Во всяком случае мы поговорим об этом позже, мой мальчик, гораздо позже, когда возьмем Данциг.
— Тогда возьмем его сейчас!
— Погоди, нам сначала нужно побывать у бургомистра. Вот мы и пришли, и эти добрые горожане перестанут рассматривать нас, как заморских зверей. Ах, вот еще что я хотел тебе сказать: когда будешь писать во Францию, не пиши ничего об этом визите моей жене, она станет ругать меня.
Оба вошли в дом бургомистра, где стояли на часах два гренадера. Один из них пошел докладывать князю Гацфельду о приходе приглашенных гостей.
IX
Княгиня Гацфельд приняла маршала и его крестника чрезвычайно любезно. Она сумела избежать всякой неловкости, которая могла возникнуть из-за ее тяжелого положения; Лефевр в свою очередь старался не дать почувствовать жене побежденного, что французский маршал чувствует себя хозяином во всей Европе. Князь Гацфельд был сдержан, величественен и непоколебим.
Что касается Анрио, то он был весь поглощен радостью свидания с Алисой и ни о чем не мог думать, кроме счастья быть вблизи любимой девушки.
Анрио и Алиса разговаривали вполголоса в продолжение всего обеда, который был очень долгим и изобильным. Оба они были совершенно счастливы. Одно только печалило Анрио, — что он не успел прикрепить к своему гусарскому мундиру знаки своего нового отличия.
Алиса тоже была не совсем довольна: она жалела, что у нее все еще не было нового платья; оно уже давно было обещано ей княгиней, но этот подарок был теперь отложен в силу несчастий, постигших немецкую армию.
Во время обеда, за которым тщательно соблюдался строгий немецкий этикет, Лефевр выбивался из сил, чтобы показаться элегантным мужчиной. Он знал взгляды императора на этот счет. Уже сколько раз, собирая частным образом лиц, занимавших высшие должности в империи, Наполеон читал им своего рода лекции по поводу умения держать себя в светском обществе.
— Я сделал вас маршалами, генералами, камергерами, сенаторами, — говорил он им обычным суровым тоном, — значит, вы являетесь первыми лицами того света, который я создал. Так постарайтесь же оказаться на высоте того ранга, которым я вас облек! Учитесь кланяться, входить в салон, подавать руку дамам, говорить при случае и молчать, когда это следует. Не давайте повода ни к насмешкам, ни к сплетням! Будьте полны достоинства, импозантны, изящны.
Изящны! Вот в этом-то и была трудность! Ах, если бы император требовал от своих соратников только храбрости, отваги, неустрашимости, если бы им нужно было сотни раз рисковать жизнью, лезть в самое жерло пушки, проводить дни и ночи не вылезая из седла, браться за невозможное и совершать невероятное, тогда все было бы еще хорошо! Но быть придворными, им, людям бивуаков и полей сражения, — о, черт возьми, это было несравненно труднее!
И добряк Лефевр, самый грубый, самый неотесанный, самый невоспитанный из всех маршалов империи, сын мужика, выслужившийся из сержантов, бесконечно изводился, чтобы, повинуясь императору, быть в силах соперничать в присутствии дам с ветрогонами прошлого царствования, которых он здорово расчесал 10 августа 1792 года, с олухами Царя Небесного, которых он потрепал 13 вандемера. Втайне, чтобы сделать удовольствие императору, Лефевр купил маленькую книжку госпожи Кампан, воспитательницы королевских детей прежнего царствования, названную «Искусство жить в свете». По ночам, между двумя переходами, Лефевр брался в палатке за эту книгу и зубрил ее предписания с упорством, достойным капрала, который, желая получить повышение, готовится к экзамену на чин.
Все время, пока продолжался этот нескончаемый обед, Лефевр сдерживался, следил за собой во время еды и питья. По временам он наклонялся то вправо, то влево, смотря по тому, веяло ли на него нестерпимым холодом от манер князя Гацфельда или пугали улыбки изящного, но полного величия лица княгини, и в уме повторял советы Кампан.
Но раза два-три он жестоко нарушил правила, рекомендуемые этим знаменитым уставом хорошего тона. Отведав стакан дивного токайского, налитого ему лично княгиней, он забылся, прищелкнул языком, как в те времена, когда попивал белое вино на Ла-Рапэ с своей суженой, Екатериной Сан-Жень, и опрометчиво воскликнул вслух:
— Ах, чтоб его! Вот, доложу вам, напиток! Так и просится, чтобы его распробовать получше!
Князь и княгиня переглянулись, поджав губы и стараясь сдержать улыбку. Заметив это, Лефевр резко встал и, подняв стакан, воскликнул:
— За здоровье его величества Наполеона, императора и короля!
Со всех уст так и смело иронические улыбки.
Лефевр снова вернул себе прежний апломб. Он величественно протянул свой стакан смущенной княгине и, произнеся: «Еще стаканчик, если позволите!» — снова поднял стакан и воскликнул решительным тоном:
— За славу великой армии! Честь и уважение прусским войскам!
Князь и княгиня поклонились и поднесли стаканы к губам.
Теперь никто, даже бесстрастные лакеи, прислуживавшие за столом, не рискнули хотя бы внутренне посмеяться над маршалом. Великая армия не давала повода для насмешек.
Обед закончился в холодном молчании.
Лефевр, сославшись на необходимость заняться рапортом, простился довольно рано, оставив Анрио в полном удовольствии от возможности побыть еще с Алисой.
— Ты знаешь, мы завтра отправляемся! — сказал Лефевр своему крестнику, прощаясь с ним на пороге салона. — Я сейчас пошлю флигель-адъютанта к Лассалю, чтобы предупредить его, что я беру тебя с собой.
— Як вашим услугам, крестный. Но вы позволите мне еще раз вернуться сюда, чтобы проститься с княгиней и мадемуазель Алисой перед отъездом в…
— Довольно, черт возьми! — поспешил Лефевр зажать рот молодому человеку, не давая ему сказать запрещенное слово. — Ты зайдешь еще раз, если хочешь, чтобы проститься с дамами, но, — прибавил он, наклоняясь к его уху, — главное: держи язык за зубами!
Анрио был сильно сконфужен этим внушением. Он чуть-чуть не выболтал тайны задуманного императором похода, доверенной Наполеоном Лефевру. Он прикусил язык и дал себе слово не быть больше таким опрометчивым.
Но гнев маршала, смущение молодого офицера — все это не ускользнуло от князя Гацфельда. Он заподозрил здесь государственную тайну, наступление великой армии, быть может, быструю атаку на фланг русской армии, направлявшейся в Польшу. Такие сюрпризы были в обычае военного гения Наполеона.
Казалось весьма вероятным, что именно теперь, когда император, видимо, всецело занялся внутренней реорганизацией завоеванной Пруссии, когда он только и думал, что о празднествах, приемах, спектаклях, порядок и репертуар которых распределял лично сам, он на самом деле подготавливал один из тех смелых ударов, которые так ошеломляли его противников и обеспечивали неизменную победу.
И князь Гацфельд в страхе задумался, каким образом он мог бы узнать этот секрет, чуть не слетевший с уст молодого гусара. Если бы ему удалось узнать намерения Наполеона и предупредить о них короля, своего повелителя, то он, быть может, помог бы Пруссии избегнуть окончательной гибели. Одно-единственное поражение уже могло лишить Наполеона ореола непобедимости. Став победителями в одном сражении, немцы быстро оправились бы, да и император Александр, со своей стороны, поторопил бы, ускорил бы движение своей армии против упавших духом от первого поражения французов. Да, во что бы то ни стало надо было узнать таинственную цель, к которой направлялся маршал Лефевр, надо было использовать случай и разузнать, в чем заключается новый план императора. Гацфельд погрузился в глубокую думу, размышляя над способом узнать эту тайну. Его взгляд бесцельно скользил по обширному салону, в котором княгиня, окруженная несколькими визитерами, вела легкий разговор, тогда как в самом темном углу комнаты, тесно-тесно прижавшись друг к другу, Анрио и Алиса болтали самым очаровательным образом.
«Ба! Да через эту девушку я могу узнать кое-что!» — подумал князь, и его лицо немедленно просветлело, а по устам скользнула улыбка надежды.
Он замешался в кружок приглашенных и очаровал всех своей любезностью. Когда настал час прощания, он сердечно пожал руку Анрио и сказал ему:
— Я очень попрошу вас смотреть на этот дом как на ваш собственный все время, пока продлится ваше пребывание в Берлине. Но мне кажется, что вы не можете посвятить нам очень-то много времени? Ведь вы, кажется, скоро уезжаете? — прибавил он голосом, которому старался придать совершенно равнодушное выражение.
Анрио на момент заколебался, а затем просто ответил:
— Я еду вместе с маршалом!
— Ну что же, тогда милости прошу воспользоваться моим домом по возвращении! — произнес князь, оканчивая всякие расспросы.
Когда разошлись все гости и княгиня проследовала в свои апартаменты, князь позвонил и приказал позвать к себе Алису, которая ушла в сопровождении хозяйки.
Самым масляным голосом и глубоко-отеческим тоном князь принялся расспрашивать дрожащую девушку. Он заставил ее рассказать ему про свое детство и вызвал на разговор об Анрио. Набравшись смелости — ведь так легко вызвать на откровенность, когда заговоришь о любимом человеке! — Алиса призналась, какое место в ее сердце занимает Анрио. Князь улыбнулся, сказал ей несколько ласковых слов и попросил, чтобы она все рассказала ему. Когда же девушка остановилась и сказала в целомудренном смущении: «Но это — все, ваше сиятельство. Я все рассказала вам!» — бургомистр возразил ей:
— Вы любите этого офицера, и я предполагаю, что и он тоже любит вас; вам нечего скрывать друг от друга. А между тем он покидает вас, он скроется, быть может, надолго, быть может, навсегда, а вы даже не знаете, куда именно он отправляется.
— Нет, я ничего не знаю! — промолвила Алиса, и ее сердечко болезненно сжалось, взволнованное тревожными словами князя: да неужели же возможно, чтобы Анрио, с трудом обретенный вновь, вдруг опять скрылся, даже не сказав, куда именно он отправляется, долго ли пробудет там, скоро ли вернется?
Князь, улыбаясь, следил за смущением, посеянным его словами в душе молодой девушки. Он нашел, что теперь бесполезно продолжать этот допрос; по его мнению, он достаточно сказал, чтобы Алиса на следующий же день, увидев Анрио, постаралась разузнать у него цель таинственной поездки, и с нетерпением стал ждать наступления этого дня.
Около десяти часов шум лошадиных копыт, раздавшийся во дворе, предупредил князя о появлении Анрио.
Бросив поводья, молодой человек поднялся в комнаты и попросил доложить о себе княгине Гацфельд. Но та выслала ему лектрису с извинениями, что она больна и, к сожалению, не может принять его.
Расставание молодых людей было очень спешным и грустным. В тог самый момент, когда Анрио решился наконец покинуть Алису, так как Лефевр, назначивший отъезд на одиннадцать часов, очевидно, уже отчаянно волновался и ругался, не видя крестника, Алиса робко спросила его:
— Анрио, вы гак и не сказали мне, куда вы отправляетесь. А мне так бы хотелось мысленно следить за вами, всем сердцем сопутствовать вам в новых сражениях, к которым вы, без сомнения, несетесь теперь! Почему вы скрываете от меня, куда именно отправляетесь?
Анрио особенно внимательно посмотрел на Алису.
— Вы хотите знать, куда меня увозит маршал? Женское любопытство, не правда ли? Ну так вот: император посылает меня в Данциг. Да, мы собираемся осадить и взять приступом этот город. Вот видите, Алиса, что от вас у меня нет никаких тайн.
— О, каким тоном вы говорите мне это, Анрио! Разве я плохо сделала, что спросила вас об этом? В таком случае простите меня!
— Но от себя ли лично расспрашивали вы меня, Алиса? Не старался ли кто-нибудь другой узнать от вас, куда приказал нам император отправляться? Ответьте мне! — спросил юный офицер, которого вчерашнее предупреждение Лефевра сделало недоверчивым.
— Да, князь Гацфельд расспрашивал меня. Он хотел узнать от меня, знаю ли я, куда вы отправляетесь.
— Князь Гацфельд? О, он хочет предать нас! — воскликнул Анрио. — А ведь между тем он торжественно присягнул императору. До свидания, дорогая моя, до скорого свидания! Мне нужно поспешить к маршалу. Мы увидимся, когда Данциг будет взят, а до тех пор молчание! Ни слова князю или кому-нибудь из окружающих его! По счастью, он еще ничего не знает! До скорого свидания!
Анрио так торопился, что ошибся дверью, и вместо того чтобы попасть в вестибюль, нечаянно открыл дверь кабинета князя. Он застал бургомистра стоящим около двери и прикладывающим ухо к щели; князь страшно смутится при виде Анрио.
«Князь все подслушал у двери! Он знает теперь тайну нашего маршрута! — подумал Анрио. — Нельзя терять ни одной секунды. Надо предупредить императора!»
Он поторопился к Лефевру и поделился с ним своими подозрениями.
Маршал поручил Дюроку уведомить императора о том, что рассказал Анрио. Через два часа после этого на дороге перехватили курьера, посланного бургомистром к прусскому королю с донесением. У курьера нашли письмо Гацфельда, в котором князь сообщил о походе Лефевра и неминуемой осаде Данцига.
Наполеон разразился бешеным гневом.
— Вот и доверяйтесь слову пруссака! — ругался он, бегая вдоль и поперек по своему кабинету. — А ведь князь обещал ничего не предпринимать против нас; при этом условии, которого он свободно мог не принимать, я оставил ему все его чины, отличия, титул, прерогативы, обходился с ним как с чиновником моей империи, а он воспользовался моим расположением, моим великодушием только для того, чтобы изменить мне! О, я жестоко отомщу ему за это! Да, генерал, я хочу дать суровый пример! Я готов простить солдата, который старается бежать к своим и сражаться потом против меня, тогда как перед тем униженно складывал оружие для спасения жизни. Я уважаю воодушевленный патриотизм тех крестьян, которые по вечерам, спрятавшись в засаде, вымещают на наших случайно отбившихся в сторону солдатах обиду за понесенное поражение; я готов быть терпимым и великодушным ко всякому гражданину; который защищает свою родину; я готов восхищаться даже этими дикими взрывами отваги побежденных, столь жестокий пример которому вам явили мамелюки Сен-Жан-Акра. Но я раздавлю, как извивающихся гадов, всех тех дворянчиков, этих лицемерных аристократишек, этих лживых придворных, которые сгибаются передо мной в три погибели, чтобы я позволил им сохранить их титул, их состояние, их привилегии, и которые затем подло, трусливо, без риска пользуются случаем, стараются воспользоваться нескромностью, слабостью девушки, подслушивают у дверей словно вороватый лакей, чтобы изменить клятве и нарушить данное слово… Поэтому я жестоко накажу этого Гацфельда, чтобы никто не рискнул больше последовать его примеру.
— Ваше величество, вы всемогущи, так будьте же великодушны, — попытался умилостивить его Дюрок.
— Я не желаю быть слабым, — быстро перебил его император. — Весь смысл моих действий — проявлять силу и силу. В тот день, когда люди перестанут трепетать передо мной, я буду наполовину побежден. Надо накинуть узду на это высокомерное, скрытное прусское дворянство. Людьми управляют только посредством страха; дружба, благодеяния, доброта — все это лишние добродетели, над которыми просто издеваются. Снисходительность зачастую считают просто слабостью, и люди, которые все — подлецы на подлеце, склоняются только перед бичом и угрозой. Вы советуете мне милосердие, Дюрок, но это, может быть, было хорошо во времена Цинны. Августу хорошо было сидеть на вполне твердом троне посреди умиротворенной империи; он не сражался, вроде меня, за несколько сот лье от своего дворца, посреди строптивого народа, каждый момент готового на предательство. Дюрок, вы сейчас же отправитесь и арестуете князя Гацфельда, а на завтрашнее утро созовете военный суд! Ступайте!
Дюрок поклонился в ответ; когда император говорил таким тоном, то возражать было нельзя.
Князя Гацфельда арестовали, и военный суд, собравшийся наспех, расследовал обвинение, признал вину и приговорил князя за государственную измену к высшей мере наказания: он подлежит расстрелу через двадцать четыре часа после конфирмации приговора.
Но Даву, Рапп и Дюрок попытались в последний раз подействовать на императора. Они умоляли его пощадить князя. Ведь он поступил так из патриотизма, его преступление имело характер законной защиты. Они заявили, что и император вызовет гораздо больше уважения и страха, если покажет, что может прощать; он обезоружит таким образом предубеждение и вызовет всеобщее восхищение немцев за акт великодушия.
Однако Наполеон оставался глух ко всем этим мольбам. Тогда вздумали растрогать его видом княгини Гац-фельд.
Княгиня была беременна в это время и умоляла императора пощадить ребенка, которому иначе придется стать сиротой еще не родившись. Но она не имела бы никакого успеха, если бы в последний момент Раппу не удалось впустить в кабинет императора молодую девушку.
Это была Алиса, одетая в траур, с заплаканными глазами; она присоединила к просьбам княгини и свои мольбы. Она рассказала императору про свое детство, про заботы о ней жены маршала Лефевра, которая заменила ей мать; рассказала, как потом нашла поддержку у княгини Гацфельд. Наконец, она заговорила о друге своих детских игр — Анрио, крестнике маршала, и, краснея, призналась о своих мечтах о счастье с ним.
— Неужели, ваше величество, вы желаете, — закончила она, — чтобы я стала невольной причиной вечного траура моей благодетельницы?
Наполеон долго думал. Его тронули и взволновали мольбы этой девушки, его бронзовое сердце стало таять…
— Так вы невеста майора Анрио, того самого храброго гусара, который взял мне Штеттин с шестьюдесятью кавалеристами? — спросил он, устремляя пронзительный взгляд на дрожащую девушку, ставшую рядом с княгиней на колени перед ним.
— Да, ваше величество, и с вашего позволения я выйду замуж за майора Анрио. Маршал Лефевр уже дал нам свое согласие.
— Ладно! Мы посмотрим, когда Лефевр выполнит порученную ему мной миссию. Ну что же, барышня! Ради этого храброго офицера, который совершил один из самых поразительных военных подвигов этого века, я готов исполнить вашу просьбу. Встаньте обе! — Император подошел к своему бюро, достал оттуда письмо, показал его княгине Гацфельд и сурово сказал: — Вот доказательство измены вашего мужа, военный суд вынес приговор на основании этой документальной улики. Но эта улика больше не будет существовать; военный суд соберется снова, и ваш муж, против которого уже не будет никаких улик, будет выпущен на свободу.
С этими словами Наполеон резким жестом бросил в камин письмо, перехваченное у курьера и содержавшее сообщение прусскому королю о походе Лефевра на Данциг.
Когда княгиня и Алиса уходили, благословляя милосердие императора, последний, улыбаясь, сказал молодой девушке:
— Если майор Анрио будет вести себя так же отменно перед Данцигом, как под Штеттином, то обещаю вам, мадемуазель, что я дам вам приданое, подписывая ваш свадебный контракт! — После этого император снова сел за работу, сказав Дюроку: — Ну вот, маршал, теперь вы довольны мной? Я проявил порядочную слабость! Я простил этого Гацфельда, как болван. А тем не менее я был очень зол! Нет, мне все-таки надо было дать пример. Я был не прав!
— Ваше величество, вы победили самого себя! Это самая великая победа, которую вы когда-либо одерживали, — ответил обер-гофмаршал, — и потомство прославит этот день как один из самых лучших в вашем царствовании!
— Ах, Дюрок! — воскликнул император, с горькой усмешкой покачивая головой, — если я когда-нибудь буду вынужден рассчитывать на милость королей, то ко мне они будут очень безжалостны. Они сочтут решительно все позволительным для них, прирожденных государей, по отношению ко мне, солдату, «которому повезло», как они говорят обо мне… Но потолкуем о чем-нибудь другом! Что нового слышно из Парижа? Задает ли императрица балы и празднества, как я приказывал ей? Так же ли хорош Тальма, как всегда, в «Британике»?
X
Маршал Лефевр, сидя в своей палатке, рассеянно выслушивал какой-то незначительный рапорт, читаемый ему его адъютантом. По временам маршал бешено ударял кулаком по плану, разложенному перед ним, и, прерывая адъютанта, разражался бешеными проклятиями.
— Дальше! Дальше! — орал он. — И без вас знаю, сколько у меня войска, черт возьми! Шесть тысяч поляков, которые пьянствуют, словно казаки; две тысячи двести баденцев, вялых, как тряпки; пять тысяч датчан, которых я вздул под Иеной и за которыми приходится следить в оба, так как мне кажется, что они больше склоняются к прусскому королю, чем ко мне. Вот и все, что дал мне император, чтобы взять этот проклятый город…
— Ваше высокопревосходительство, вы изволите забывать о втором легкопехотном, — сказал флигель-адъютант.
— Нет, сто тысяч дьяволов, я не забыл, но не хочу, чтобы их перебили, словно стаю воробьев. Я берегу их для приступа, этих молодцов из второго легкопехотного. Ах, если бы у меня были мои гренадеры! — сказал он со вздохом.
Адъютант продолжал:
— Вы не имеете ничего приказать стрелкам?
— Ах, да, кавалеристам… Ну, они собственно ни к чему. Правда, двадцать третий и девятнадцатый — отличные полки. Но какого дьявола! Ведь лишь один-единственным раз может случиться, что крепость берегся кавалерийской атакой. Анрио сделал это, но это не скоро повторится опять. Ах, в какую квашню посадил меня император! — Лефевр схватился руками за голову и продолжал: — Значит, у меня имеется всего-навсего три тысячи французов, только три тысячи настоящих солдат, и с этими-то тремя тысячами героев я должен взять крепость, которая всеми объявлена неприступной! Правда, у меня имеются шестьсот саперов, которые тоже парни на славу, но все это еще мало. Ну что я могу тут сделать? Я уже отморозил себе ноги от этого топтания по снегу. Да, нечего сказать, славный подарочек он захотел мне сделать!
И несчастный маршал рвал на себе волосы, не будучи а силах более выдерживать ту неподвижность, на которую он был обречен из-за медлительности и кропотливости осады.
Данциг был окружен совершенно. Эта достопамятная осада, единственная по значительности среди всех войн империи, требовала долгих предварительных операций.
С того дня, как Лефевр в сопровождении Анрио выехал из Берлина, осадные работы велись с поразительной точностью и тщательностью. Прежде чем взять город приступом, его постарались изолировать. Дело шло о том, чтобы отрезать его от форта Вейксельмюнде и овладеть песчаной отмелью, соединяющей Данциг с Кенигсбергом.
Генерал Шрамм с двумя тысячами стрелков поддерживаемый эскадроном 19-го стрелкового полка и батальоном 2-го легкопехотного, перешел через Вислу и высадился на отмели. Солдаты 2-го легкопехотного полка имели честь быть выдвигаемыми впереди каждой атакующей колонны. Гарнизон Данцига сделал энергичную вылазку. Но 2-й легкопехотный полк остановил ее. Весь маленький корпус Шрамма, увлеченный примером, пылко бросился вперед и заставил осажденных вернуться в город. Таким образом французам удалось завладеть переправой через Вислу. Сейчас же был выстроен понтонный мост, и французские аванпосты вытянулись почти до форта Вейксельмюнде.
Обе следующие вылазки были точно так же доблестно отражены.
Генерал Шасслу, которому очень доверял Наполеон, упорно продолжал охватывать город плотным кольцом, к великому горю Лефевра, который ежедневно нетерпеливо осведомлялся, когда же ему можно будет пойти на приступ.
Зима была очень суровой, но благодаря мерам, принятым маршалом, солдаты не терпели недостатка ни в чем. Каждый вечер зажигались громадные костры, и солдаты весело варили пунш, напевая песни.
Нравственное состояние войск было превосходным. Один только маршал приходил в полное отчаяние. Он ничего не мог понять в мерах предосторожности, принимаемых инженерами. Словно старая боевая лошадь, он грыз удила от нетерпения броситься скорее в атаку и так и трясся от желания поскорее услыхать призывные звуки труб.
День, когда мы застаем его в палатке за выслушиванием дневного рапорта от своего адъютанта, которого он прерывал нетерпеливыми возгласами: «Как ничего нового? Все еще ничего нового?», был ознаменован заседанием малого военного совета. На совещание к маршалу явились генерал Шасслу, заведующий инженерными работами, и генерал Киргенер, командовавший артиллерией, равно как и генерал Шрамм.
— Ну что же, господа, скоро ли мы пойдем к концу? — спросил он при виде их.
— Немножечко терпения, — ответил генерал Шасслу, — мы продвигаемся, мы продвигаемся!
— А скоро ли мы будем в состоянии пойти на приступ? Что вы тянете? Уж не собираетесь ли вы прожить здесь до самой смерти? — продолжал Лефевр, который воображал, что эти ученые генералы, эти люди пера, нарочно затягивают час решительной атаки.
— Пожалуйста, — вежливо ответил Шасслу, — взгляните на этот план. Вот укрепления Данцига, — прибавил он, указывая на черту на картe. — Вот там два верка, разделяемые селением, называемым Шельдлиц.
— Когда мы возьмем это предместье?
— Через неделю.
— Не ранее? Почему?
— Потому что мы сначала должны попробовать ложную атаку на правый верк, Бишофесберг.
— Хорошо-с! Ну, а после ложной атаки?
— Вы распорядитесь произвести настоящую, вот отсюда слева. Этот редут называется Гагельсберг.
— Пусть будет Гагельсберг, пусть дерутся справа или слева, это мне все равно, но лишь бы драться!
— Да уж будет дело, не беспокойтесь! — ответил с обычным решительным спокойствием генерал Шасслу.
— Чем раньше, тем лучше. Но почему же мы будем драться с этой стороны, а не справа?
— А вот почему. В противоположность мнению моего уважаемого коллеги генерала Киргенера, я избрал левый верк, — ответил Шасслу.
— Он очень тесен и не позволит осажденным развернуть войска. Поэтому осажденные будут иметь возможность делать вылазки только вытянутой колонной, а ее мы будем расстреливать с наших позиций. Подъем к этому верку идет плавным уклоном. Наоборот, Бишофсберг защищен очень обрывистым оврагом.
— Но, генерал, этот овраг мог бы прикрыть моих солдат, они так и продвигались бы под его прикрытием. Почему вы не выбрали этой стороны? Мы могли бы броситься на стены Данцига, не подвергая людей чересчур большой опасности? — спросил Лефевр, который постоянно видел только момент решительной финальной атаки.
Но генерал Шасслу немедленно ответил ему:
— Но как же мы будем делать наши подступы в этом овраге?
Лефевр только рот разинул в ответ.
— Наши подступы? Объяснитесь, генерал.
Тогда инженер принялся читать маршалу лекцию по искусству взятия крепостей.
Не было ничего удивительного, что маршал был мало компетентен в этой части военного искусства. Большинство генералов империи были столь же невежественны, как и он. Со времени Вобана в Европе не велось правильной осады. За исключением Мантуи, большинство осажденных крепостей сдавалось до окончания решительных для атаки операций. Сен-Жан-д'Арк, защищаемый Ахмедом-Буше и сэром Сиднеем, не мог идти в пример правильным осадам, так как у египетской армии и не было материала для полных осадных работ.
Генерал Шасслу ознакомил маршала с действительными трудностями задачи, порученной ему Наполеоном. Теперь дело заключалось не в том, чтобы кинуть широким размахом отряд гренадеров или стрелков в атаку и с разбега овладеть бастионом. Тут главное дело было в подземной войне, которую приходилось вести, отказываясь от сражения при свете дня. Генерал заявил, что по траншеям, окопы которых прикрывают саперов, французские войска шаг за шагом подойдут к стенам. Первая траншея, так называемая параллельная, во избежание огня защитников будет прорыта ночью; от нее зигзагами поведут другую траншею до известного расстояния, откуда пойдут второй параллельной траншеей. Таким образом, с помощью этих траншей осаждающие дойдут вплоть до самых укреплений. Каждая траншея будет вооружена пушками, которые помешают осажденным слишком уж беспощадно расстреливать ведущих.
— Ну, а когда таким образом мы дойдем до укреплений, тогда что будет? — спросил Лефевр, явно заинтересованный.
— Тогда пушки генерала Киргенера пробьют в стене брешь, достаточную для приступа, накопанной землей забросают рвы Данцига, и вот в этот-то момент, но только в этот момент, ваши солдаты доделают остальное.
— Ах так, значит, надо еще проделать дыру в этой проклятой стене? Ну что же! Сделайте мне эту дыру, сделайте мне ее поскорее, и я уж ручаюсь вам, что войду в город!
Оба генерала поклонились и заявили маршалу, что в прошлую ночь удалось прорыть первую параллель на расстоянии двести футов от Гагельсберга. Естественная насыпь прикрывала работающих. Теперь оставалось только идти подступами, остерегаясь мин и контрмин, которые уж, наверное, заложены гарнизоном Данцига.
— Благодарю вас за все, что вы мне тут рассказали, — сказал Лефевр, милостиво отпуская их. — Вы знаете, что подступы — это не мое ремесло. Я еще никогда не воевал с кротами. Но это все равно! Я вижу, чго вы стараетесь проделать для меня дыру, через которую я смогу пройти в город. Благодарю вас! В ближайшем рапорте я доложу императору о вашем усердии и работах, о всех этих траншеях и подступах.
Дверь палатки раскрылась, и на пороге показался очень взволнованный Анрио в мундире майора.
— Ну, в чем дело? Уж не взял ли ты Данциг со своим эскадроном? — спросил Лефевр, как всегда насмешливо, когда дело шло о кавалеристах.
— Нет, я принес новость… Две новости, из которых одна для армии, а другая лично для вас.
— Сначала то, что касается армии! — повелительно сказал маршал.
— К нам идут сорок четвертый линейный, отряженный маршалом Ожеро, и девятнадцатый линейный полк из франции с артиллерийским обозом.
— Ура! Вот подкрепление, которого я ждал! — с восторгом крикнул Лефевр. — Император сдержал слово! Господа, с молодцами сорок четвертого и девятнадцатого полков мы меньше чем через месяц войдем в этот проклятый город. Уж я знаю их, голубчиков! Ну, другую новость, Анрио, ту, которая меня касается?
— Ваша супруга только что прибыла в лагерь!
Лефевр разразился дикими проклятиями.
— А, тысячу дьяволов! — с удивлением крикнул он. — Какого черта ей нужно здесь! Что, у нее случилось что-нибудь там в Париже? На кой черт нам женщины под Данцигом? Повсюду снег, а тут еще эти подступы, параллели, траншеи и вся эта чертовщина осадных работ, которые никогда не кончатся! — Затем, дав простор этому взрыву чувств, он прибавил с выражением радости и добродушия, осветившего его воинственное лицо: — А все-таки я здорово рад, что увижу мою Катрин. Анрио, пойдем, обнимем ее. А вы, господа, — обратился он к инженерам, — я рассчитываю, что вы как можно скорее проделаете мне дыру. Моя жена будет очень рада видеть, как я возьму Данциг!
XI
Свидание супругов было трогательным и простым.
После первых излияний Лефевр сказал:
— Ну, зачем тебя Бог принес сюда?
— Это государственная тайна! — ответила Екатерина. — Меня послала императрица.
— Она хочет узнать, скоро ли я возьму Данциг?
— Нет, она хочет узнать чувства императора.
— Император по-прежнему сильно привязан к ней. Правда, в прошлые времена она таки выкидывала ему штучки, но теперь, когда у нее уже прошла первая молодость, а пожалуй и вся вторая, так, наверное, охота к любовным шашням поостыла. Я даже уверен, что теперь она любит императора.
— Она обожает его!
— Пора! Только ей следовало бы иметь к нему эти чувства раньше, когда он командовал итальянской армией. Но как бы не так! В те времена Жозефина только и думала о любовных победах. В Париже за ней волочился целый штаб обожателей; там был Баррас, а потом актер Ипполит, красавчик Шарль, адъютант Леклерк и десяток других. Да, как император любил в то время свою жену, до сумасшествия, до бреда!
— Я слышала об этом. Говорят, что в Милане Бонапарт корчился в судорогах, как бесноватый, от того, что жена запоздала с приездом: он слал ей курьера за курьером, жить не мог без нее…
— Да, все это продолжалось вплоть до возвращения из Египта. Там Бонапарт непосредственно узнал правду. О, он жестоко страдай! Однажды, показывая мне портрет Жозефины, у которого разбилось стекло — этот портрет он постоянно носил при себе, — Бонапарт сказал мне: «Лефевр, или моя жена больна, или она неверна мне!» Возвращаясь обратно, он нарочно не поехал по той дороге, по которой Жозефина выехала ему навстречу; он продержал ее целый день в слезах на пороге комнаты. Правда, в конце концов он простил ее, но этому прощению я не очень-то доверяю. Я знаю, одно время он подумывал о разводе. Быть может, он опять взялся за эту мысль? Уж не это ли — та новость, которую ты принесла мне, уж не это ли — та великая тайна, в которую ты собираешься посвятить меня?
— Нет, я думаю, что император по-прежнему привязан к Жозефине; он вторично обвенчался с ней церковным браком, он миропомазал ее в соборе, и теперь у него не может явиться мысль о разводе. Но у Жозефины тем не менее уже имеются свои опасения. Ведь ей уже тридцать семь лет, она родом из той страны, где женщины быстро стареют. Подумай только — уже в двенадцать лет она была женщиной, в шестнадцать она стала матерью! Теперь она уже пожилая женщина. Теперь она вне всяких подозрений, но не безупречна…
— В чем же может упрекнуть ее теперь император?
— В бесплодии! Для нее гораздо опаснее проступка убеждение, что она не может быть матерью.
— Да, — задумчиво сказал Лефевр, — император жестоко страдает, не имея наследника. Дело его рук, эта колоссальная империя, грозит распасться после него; он чувствует, как падет после него его трон. В настоящем у него все хорошо, но будущего он не видит! Ах, если бы наука могла дать ему наследника!
— Доктора только понапрасну теряли время. Императору остается одно: отказаться от мысли иметь прямого наследника. Его наследником будет его брат Жозеф.
— Гм… брат? Наполеон один во всей семье. Вот еще Мюрат, его зять, тоже мечтает стать его наследником. Нет, жена! Я думаю, что Наполеон, отчаявшись иметь детей от Жозефины, узаконит ее детей от первого брака, сделает наследницей голландскую королеву и ее ребенка…
— Маленького Карла Наполеона? Сына Гортензии? Ты хочешь поговорить с Наполеоном, чтобы он назначил этого ребенка своим наследником?
— А почему бы и нет? — шутливо ответил Лефевр. — Ведь император всегда был очень привязан к его матери — своей падчерице; это была его любимица. Дурные языки даже уверяли…
— Да, — перебила его Екатерина, — уверяли, будто в то время, когда император выдавал ее замуж за своего брата, Людовика, Гортензия Богарнэ была беременна и что отцом ее ребенка был он. Ну, теперь злые языки уже не будут больше сплетничать. Маленький Карл Наполеон умер!
— Ах, Господи! Что ты говоришь? Император будет в полном отчаянии, он очень любил сына Гортензии.
— Да, и кроме того эта смерть расстраивает все его расчеты. Я-то уж знаю нашего императора: симпатии, влечение, нежные чувства, движения сердца — все это у него подчиняется политическим соображениям, и вот это-то и мучает меня. Что-то он скажет, когда я принесу ему эту неприятную новость? — сказала Екатерина с видимым беспокойством.
— Он примет тебя очень дурно, накричит…
— Ну, это что! Пусть кричит — я ему не спущу и тоже буду кричать! Ты ведь знаешь, муженек, что я за словом в карман не полезу. Недаром же и зовут меня госпожой Сан-Жень!
— Но все это еще не объясняет мне твоего неожиданного приезда в лагерь, — задумчиво продолжал Лефевр. — Почему императрица поручила тебе объявить об этой досадной истории императору? Обычно не очень-то приятно быть вестником таких новостей. Я не понимаю, что заставило тебя исколесить всю Европу, чтобы отыскать меня посреди этих песков и снегов Данцига!
— Да, я хотела посоветоваться с тобой! Скажи мне, что мне ответить Наполеону.
— Я-то почем знаю? Нужно сначала знать, что скажет император.
— Ну, это ты легко можешь догадаться.
— Да ну же, приступи к делу! Что тебе сообщила императрица? Каким таинственным поручением снабдила она тебя?
— Выслушай меня хорошенько, Лефевр, и постарайся понять. Смерть маленького Карла Наполеона не только опечалила, но и испугала императрицу. Она советовалась с кучей народа, с докторами, колдунами и костоправами, спрашивая у них средство, чтобы сделаться матерью. Но, что она ни делала, ничто не помогло!
— Да, это правда! Наша бедная Жозефина охотно отдала бы половину своей короны за возможность получить одного из таких карапузов, которые так легко рождаются у бедняков. Уж нечего сказать: у одних густо, у других пусто! Как были бы счастливы жены бедняков, если бы они, подобно императрице, были избавлены от необходимости каждый год рожать по ребенку! Ну, да никто никогда не бывает всем доволен! У императрицы имеются другие удовольствия…
— Она боится испытать страдания брошенной жены, опасается, как бы император не отверг ее!
— Из-за того, что у нее нет детей? Но это было бы несправедливо! Очень возможно, что это вовсе не ее вина! Если бы император поговорил об этом со мной, то я знал бы, что ответить ему! Я сказал бы ему, что с ним путалось немало женщин — маленькая Фуррэ, Белилота, хорошенькая подруга из Египта, Грассини, мадемуазель Жорж, не говоря уже о разных придворных дамах, лектрисах, фрейлинах. А ведь ни одна из них не могла похвастаться, что Наполеон сделал ее матерью, а им это было бы очень на руку! Ты понимаешь, что если бы им удалось доказать императору, что он стал отцом, то все эти веселые подруги стали бы очень влиятельными дамами. Никто — ни Дюрок, ни Буррьен, ни Жюно или Мармон — не могли бы привести случай, когда Наполеон стал отцом. А для Жозефины тут совсем другое дело — она-то уж доказала на деле то, что может! Принц Евгений и принцесса Гортензия налицо в доказательство того, что она обладает всеми способностями, присущими ее полу.
— Ты прав. Жозефина была матерью, но вполне очевидно, что отныне ей приходится отказаться от мысли когда-либо снова стать ею. Она уже не молода, жизненные силы у нее ослаблены, а Наполеон, по всем признакам, неспособен передать другим существам свой гений. Так и придется оставить империю без наследника! Но Наполеон может вообразить, что препятствием является только возраст Жозефины. О, он уже не питает к ней любви. Правда, он еще очень хорошо к ней относится и никто не мог бы упрекнуть его в недостатке знаков внимания к той, которую он любил в молодости. Но ему легко вбить в голову, будто от молодой жены он получит сына. Люсьен, Талейран и некоторые другие рекомендуют ему развестись. Они разжигают его честолюбие, указывая на возможность жениться на какой-нибудь принцессе, дочери или родственнице одного из могущественных монархов Европы.
— Да, говорят, будто этот хромой паршивец Талей-ран, — произнес Лефевр, — этот пройдоха и ренегат, которого я не могу видеть без того, чтобы не ощущать смертельной охоты пнуть его носком пониже спины — так разит от него предательством… Так вот, говорят, будто он стряпает проект женитьбы Наполеона на сестре русского императора. Правда, настоящая война является препятствием, но победа в один прекрасный день может устранить всякие трудности.
— Императрица догадывается об этих проектах, она знает, что на ее счастье покушаются. Она ждет, что император вдруг заговорит с ней о необходимости развестись в интересах династии. И вот она нашла средство, как отвести от себя тот гибельный удар, который уже грозит ей.
— Какое же это средство? Должен признаться, что я даже не догадываюсь.
— Помнишь ли ты некую Элеонору, элегантную брюнетку с дивными глазами?
— Бывшую ученицу мадам Кампан, вышедшую замуж за мародера Жана Ревеля, выгнанного из армии и осужденного за воровство? О, я отлично помню ее! Император сошелся с нею после возвращения из-под Аустерлица. Она была разведена, а муж отбывал наказание. Но какое отношение имеет эта Элеонора к императрице?
— Очень далекое, но ужасное для Жозефины. Элеонора получила то, что не могла получить императрица: у Элеоноры родился сын!
— Так это, верно, не от императора?
— Нет, от него. Это подтверждают обстоятельства, а кроме того ребенок имеет разительное сходство со своим великим папашей!
— Черт возьми! Так уж не собираешься ли ты дать нам в императоры сына Элеоноры? — воскликнул маршал.
— Возможно. То, что не могут сделать доктора и шарлатаны, то возможно для законников. Императрица советовалась с юристами. Божественное право признает наследниками престола только принцев крови, но римское право позволяет и усыновление с этой целью. Камбасерес разъяснил мне все это, меня натаскали во всем этом перед отъездом! Теперь я сильна в вопросе об усыновлении и не уступлю в этом Порталису или Биго-Прэмено!
— Ну, и ученая же ты стала, Катрин, — сказал Лефевр, восхищаясь женой. — Так, значит, все эти римские императоры прибегали к усыновлению каждый раз, когда у них не было сыновей?
— Да! Величайшие императоры во главе с Августом — ну, вот тем самым, которого во французском театре изображает Тальма, прибегали к усыновлению. Это очень удобно: достаточно сенатского указа.
— О, сенат! — сказал Лефевр с жестом, выражавшим полное презрение к этому величественному собранию, которое ползало во прахе перед Наполеоном вплоть до того дня, когда надо было дать последний пинок ногой умирающему орлу.
— Понял ты теперь, что я собираюсь делать в императорском лагере в Финкенштейне?
— Не совсем. Договаривай!
— Ну так вот. Императрица, узнав, что Элеонора стала матерью как раз в тот момент, когда смерть сына Гортензии лишила ее возможности усыновить этого ребенка, хочет предложить императору признать приемным сыном и наследником сына Элеоноры. Сама она готова стать матерью этому ребенку. Народ и армия, привыкшие всем восхищаться и соглашаться со всем, чего хочет Наполеон, разразятся криками радости. Этот ребенок по рождению незаконнорожденный, но у него в жилах течет кровь Наполеона, так что его во всяком случае предпочтут Жозефу или Людовику Бонапарту. К братьям императора Франция никогда не будет питать особенно теплые чувства; она знает, что они представляют собой, а именно — пустых тщеславных болванов, а может быть, даже и подлецов, которые готовы будут изменить при первом удобном случае брату, чтобы сохранить короны, полученные ими от него же. Но ребенок, воспитанный во дворце, между императором и императрицей, окруженный всеобщим вниманием в качестве истинного принца крови, не возбудит ни в ком мысли о сопротивлении. Вот, Лефевр, что я собиралась предложить императору от имени и с согласия императрицы. Теперь-то ты понял наконец?
Лефевр погрузился в глубокую задумчивость. Он соображал туго, но мыслил честно и правильно. Здравый смысл руководил им во всех обстоятельствах жизни.
Проект Жозефины показался ему почти неприемлемым для императора, и он не стал скрывать опасений за исход миссии Екатерины.
— Но тебе дано поручение, и ты должна довести его до конца! — закончил он с твердостью солдата, неспособного отступить, раз ему дан приказ двигаться вперед.
Послышался грохот барабанов, которым аккомпанировали звуки труб.
— А, вот и суп, — сказал маршал. — Знаешь ли, здесь я привык есть одновременно с солдатами и почти то же самое, что и они. Но сегодня ради твоего приезда я прикажу повару прибавить еще одно блюдо. Ведь мы пообедаем наедине? Да? Ты хочешь?
— О да, как когда-то на Ла-Рапэ, где давали такое вкусное белое вино! Помнить?
— Как не помнить! У меня до сих пор мое небо чувствует его! Нет здесь такого вина, не умеют его делать в Германии! Я угощу тебя венгерским, которое послал архиепископ бамбергский моему духовнику для богослужения. Ты знаешь, женушка, у меня теперь имеется духовник!
— У тебя? Что за комедия! — сказала Сан-Жень, расхохотавшись во все горло. — Да ведь ты и «Отче Наш» не сумеешь прочитать!
— Я постарался вспомнить. Император обращает на это большое внимание, в Польше все очень набожны, ну и приходится много пить, потому что здешние дворяне это любят.
— А скажи-ка, Лефевр, ты не наберешься дурных привычек в этой отвратительной дыре?
— Дыре? О, Катрин! Эта дыра еще не пробита. Мои черти-инженеры собираются пробить ее для меня. Уж будь спокойна! Как только я увижу эту дьявольскую дыру, так сейчас же брошусь на Данциг: здесь-то я уже не засижусь, нет!
Пришли лакей и два денщика маршала, чтобы расставить обеденный стол.
Екатерина освободилась от шубы и, усевшись в углу па походный стул, обратилась к лакею со следующими словами:
— Смотри, паренек, не забудь подать архиепископского винца. Мы с маршалом собираемся сегодня немножечко клюкнуть! — И она закончила это приказание выразительным похлопыванием по бокам, что всегда служило у нее выражением хорошего расположения духа.
XII
— Ты голодна? — спросил Лефевр жену, протягивая ей тарелку жирного супа, аппетитный запах которого наполнил палатку своим ароматом.
— Голодна как собака! — ответила Екатерина. — Господи! Есть от чего проголодаться, когда несешься без отдыха в почтовой карете по всем этим странам, имен которых даже не запомнишь! Да и суп здесь, кажется, великолепен, прямо слюнки текут!
— Мои солдаты другого не едят. Каждую неделю я пробую из пищевого котла то в одной роте, то в другой, как придется. Мне ведь наплевать, если надо мной смеются! Император заботится главным образом о ногах солдат. Сколько раз я видел, как он останавливал колонну на походе и приказывал кому-нибудь из солдат разуться. Он хочет собственными глазами убедиться, соблюдаются ли его распоряжения относительно обуви. Я же забочусь о желудке. С ружьем через плечо, в хороших сапогах и поев хорошего супа, можно обойти кругом весь свет. Еще говядины, Катрин?
— С удовольствием. И корнишонов дай, если есть, — промолвила она, протягивая тарелку.
— Корнишонов в этой свинской стране не знают. Но есть квашеная капуста — вот получай!
— О, как это кисло! Налей-ка, Лефевр!
— Архиепископского винца?
— Да, мы выпьем его за здоровье императора, — ответила Екатерина с набитым ртом и весело подняла свой стакан.
Перед тем как выпить, супруги чокнулись на старый французский манер.
— Ну, что новенького в Париже, при дворе? — спросил Лефевр, разрезая курицу, поданную лакеем.
— У нас было много балов. Император приказал, чтобы этой зимой двор развлекался вовсю. Он не хотел, чтобы в его отсутствие Париж и двор были лишены привычных удовольствий. Была особая почетная кадриль, в которой участвовала и я.
— Ты? Ты танцевала с принцессами?
— Да мы-то теперь разве не принцессы? Да, императрица почтила меня приглашением. Нас было шестнадцать дам, одетых по четыре штуки в разные цвета. Была белая кадриль, была зеленая, красная и голубая. Белые дамы были в бриллиантах, красные — в рубинах; зеленые — в изумрудах; я была в голубой кадрили, на мне были сапфиры и бирюза.
— Ты была, вероятно, похожа на звезду, Катрин! Как мне хотелось бы посмотреть на тебя!
— Да, у меня, должно быть, был славный вид с громадным страусовым пером, которое покачивалось в прическе. Ах, это было так чудно! Мы были одеты в платья испанского покроя с токами под цвет платья. Можешь себе представить?
— Ну, а кавалеры?
— Кавалеры были в бархатных костюмах, тоже с токами и с шарфами цвета кадрили. У меня кавалером был красавец-мужчина Лористон, о, не вздумай ревновать, ведь это — штатский! А всей этой путаницей заправлял Деспрео, знаешь — мой учитель танцев. Принцесса Каролина в виде исключения не очень цапалась с принцессой Элизой. Бал был очаровательным. Я опишу его императору; это позабавит его, бедняжку!
— Боюсь, что ему не до того будет после рассказа о новостях.
— Ах, он живо примирится с этим. Кроме того, он будет в восторге, увидев меня вместо Жозефины. Это избавляет его от сцен, потому что, как уверяют, польки… Но я молчу, молчу!
— Разве императрица собиралась навестить его в лагере?
— Она предупредила императора о желании сделать это. Она умирала от желания повидаться с ним в Польше, беспокоилась, ну, и ревновала тоже! Но он прислал ей приказание оставаться в Париже. Вот тогда я и пустилась в путь. Однако знаешь что? Архиепископскому вину не след киснуть в бутылке, — и с этими словами она снова протянула мужу свой стакан, и Лефевр, улыбаясь, наполнил его.
Бесхитростные, откровенные, честные, счастливые свиданием, эти супруги с беззаботностью влюбленной молодой парочки наслаждались своим скромным ужином.
Ужин подходил к концу, и Лефевр достал свою трубочку, с которой не расставался так же, как и с саблей; он приготовился раскурить ее, чтобы посидеть у огонька, поболтать с женой и понаслаждаться клубами ароматного дыма.
Екатерина, окинув беглым взглядом обстановку палатки мужа, смеясь и хитро показывая мужу на походную кровать, сказала:
— Неужели ты спишь на этой узенькой кровати? Ах) бедный муженек; как же это нам улечься на ней вдвоем? я рассчитываю, что ты не отошлешь меня спать в карету?
— У меня есть другая, такая же железная кровать, мы сдвинем их. Ну, да кроме того, если любишь друг друга, то как бы тесна кровать ни была, а уж всегда найдешь возможность улечься! — ответил Лефевр, вставая и прижимая к груди жену.
Вдруг в палатку влетел денщик с перепуганным лицом. Екатерина смущенно высвободилась из объятий мужа и сказала ему на ухо:
— Удали его и запрети являться сюда, а то даже и десертом нельзя будет заняться спокойно!
Маршал собрался отдать приказание сообразно желанию жены, когда вдруг послышались выстрелы вместе с криками: «К оружию!», сопровождавшиеся треском барабанов и тревожными призывами труб, от которых весь лагерь пришел в движение.
— В чем дело? — спросил Лефевр денщика.
— Майор Анрио хочет поговорить с вами!
— Пусть войдет! Но черт возьми, кажется, разыгрывается нешуточное дело! — сказал Лефевр, прислушиваясь к ружейной пальбе, все учащающейся и сопровождаемой грохотом орудий.
Анрио, дружески кивнув своей приемной матери, быстро проговорил:
— Неприятель сделал большую вылазку; он овладел редутом, который мы взяли.
— Это тем, которым овладел сорок четвертый линейный? Благодаря которому мы были в каких-нибудь сорока футах от Гагельсберга? Ведь его сторожили саксонцы Бенилака?
— Да, саксонцами овладела паника и они очистили' траншеи. Это — серьезное отступление: через четверть часа, если их не остановить, пруссаки будут здесь.
— Сорок четвертый линейный там? — спросил Лефевр.
— Да, один батальон. Командир Ронья.
— Этого довольно. Пойдем со мной! Или нет, лучше побереги свою приемную мать.
— Это меня-то? Это еще что? — обиженным тоном возразила Екатерина. — Разве я не нюхала порохового дыма? Оставь меня, Лефевр, я помолодею, видя, как ты сражаешься, это мне напомнит Жемап! Не беспокойся обо мне! Поди, задай хорошенького перца этим пруссакам, которые нам помешали… Мы встретимся после сражения.
Как только маршал вышел из палатки, перед дверью выросла гигантская тень.
— Батюшки! Да ведь это милый ла Виолетт! — радостно крикнула Екатерина, узнав военного тамбурмажора.
— Да, мадам Катрин. Как вы любезны! Это я. Я служу старшим вестовым у маршала и, если хотите, отведу вас в хорошенькое местечко, откуда вы увидите всю музыку.
— Спасибо, я все увижу и одна. А ты лучше ступай за маршалом, ты можешь понадобиться ему в этой суматохе.
— Слушаюсь, хотя вы ведь знаете — с ним не опасно! Проклятые пруссаки уже расслабились, они, верно, подумали, что им только и придется иметь дело, что с саксонцами. Но когда на них двинется сам маршал во главе с сорок четвертым… Фюить! Вот-то поскачут они, словно лягушки, обратно к себе за ров!
Тем временем Лефевр на скорую руку выстроил батальон сорок четвертого линейного полка и сказал:
— Солдаты! Этот редут не только защищает наш лагерь, но и является ключом к Данцигу. Его занял неприятель — так надо выбить оттуда врага! Я обещал императору взять Данциг и рассчитываю на то, что вы не допустите, чтобы французский маршал не сдержал свое слово. Так вперед, ребята, и да здравствует император!
Затем, словно простой сержант, с саблей в руках и с непокрытой головой, так как случайная пуля сбила у него фуражку, растрепанный, стремящийся вперед, ничего не видя и не слыша, маршал Лефевр первым бросился к траншеям, увлекая за собой сорок четвертый линейный полк.
Пораженные пруссаки на момент задумались. Лефевр первый накинулся на них; в одну секунду они были исколоты штыками, изрублены саблями. Не было времени разряжать ружья.
Град пуль встретил маршала при его вступлении в отбитую траншею.
— Вперед, на редут! — сказал он, поднимая саблю, сплошь залитую кровью, и бросился в пролом траншеи, шедший к редуту, топая, крича, разражаясь проклятиями, прокладывая саблей дорогу среди неприятеля, валившегося, как колос под серпом.
Около маршала можно было видеть молодого человека, который парировал удары штыков, направляемых на Лефевра, словно великан, размахивая ружьем, которое он держал, словно палицу, за дуло, громил всех, кто попадался среди круга, описываемого страшным в его руках орудием. Время от времени великан останавливался, наклонялся, поднимал с земли новое ружье, заменяя им сломавшееся, и снова принимался с губительной быстротой вращать им.
Вскоре французы овладели редутом.
В одной из траншей стояла пушка, брошенная неприятелем; в панике бегства артиллеристы даже не выстрелили из заряженного орудия.
— О, — сказал Лефевр, — если бы у меня были лошади, чтобы повернуть эту пушку и направить ее на убегающих!
— Зачем лошади, маршал? — произнес ла Виолетт и, бросив на землю свое залитое кровью оружие, спокойно взялся за пушку, выгнулся, напряг мощные мускулы и медленно повернул ее на Данциг.
Тогда Анрио склонился к пушке, быстро прицелился и поджег фитиль.
Пущенный вдогонку беглецам снаряд докончил поражение пруссаков. Редут был взят, и французы были у самых глассисов Гагельсберга.
Маршал с удовлетворением посмотрел, как неприятель исчезал за укреплениями, и, вложив саблю в ножны, сказал Анрио и ла Виолетту:
— Слушайте-ка, молодцы, доверяю вам охрану редута. Не позволяйте еще раз отобрать его у нас этой ночью! А я пойду к жене, которая ждет меня, чтобы окончить десерт!
XIII
На другой день Екатерина проснулась при первых звуках зори. Это пробуждение под музыку привело ее в прекрасное настроение. Звуки труб напомнили ей молодость. Перед ее глазами снова встали картины лагеря республиканцев, когда оборванные, не имевшие обуви добровольцы рвались к оружию под звуки «Марсельезы» и, просыпаясь утром, думали о победе, которая должна была завершить их день. Екатерина быстро оделась с помощью своей горничной, которая последовала за ней, и теперь, растерянная, вдали от родины, постоянно спрашивала свою госпожу, скоро ли они вернутся во Францию.
Маршал на рассвете отправился осматривать сторожевые посты и определить положение. Взятый накануне редут в течение ночи был укреплен и вооружен; необходимо было удержаться в нем, так как оттуда можно было грозить стенам самого Данцига.
Лефевр вернулся скорее, чем ожидала его жена, весь бледный и, по-видимому, сильно потрясенный.
— Что случилось? — спросила Екатерина. — Неужели пруссаки пытаются снова сделать вылазку? Или редут потерян?
— Нет, редут прекрасно охраняется, и осажденные еще долго не повторят вчерашней безумной попытки. Но случилось несчастье, которое поразит тебя, моя дорогая Катрин, как и меня…
— Боже мой, что же случилось? Говори скорее!
— Анрио, наш милый Анрио, которого мы воспитали как нашего ребенка, которого мы любили как доброго и почтительного сына…
— Он умер? — глухо спросила Екатерина, и ее глаза наполнились слезами.
— Успокойся. Он в плену!
Екатерина вздохнула с облегчением; слезы сразу исчезли у нее и глаза блеснули.
— Ах, как жаль! — спокойно сказала она. — Но я ожидала худшего. Ты напрасно напугал меня, мой друг! Военнопленный — это не опасно: ты обменяешь его при первом же случае, ведь у тебя достаточно есть пленных пруссаков!
Но Лефевр оставался мрачным и серьезно сказал:
— Как только я узнал, что Анрио попал в плен, я отправил парламентера к маршалу Калькрейту с предложением дать в обмен за Анрио двух офицеров и десять солдат из взятых в плен вчера.
— Анрио стоит этого! И этот пруссак, конечно, сейчас же согласился?
— Он ответил отказом. Они видят в Анрио не военнопленного, а шпиона, схваченного в то время, как он, переодетый, пробирался в город!
— Анрио шпион? Что за вздор! Такой солдат, как он, не станет шпионить; он сражается, как и ты сам, лицом к лицу с врагом, с саблей в руке и в своем мундире! Твой Калькрейт говорит вздор; это старый дурак. Неужели при нем нет никого поумнее?
— К несчастью, все обстоятельства говорят против Анрио… Когда его схватили сегодня ночью на улицах Данцига, после того взятия редута, в котором он так отличился, на нем не было французского мундира; он был переодет австрийским офицером.
— Австрийским офицером? Но ведь в Данцинге нет австрийцев и мы не воюем с Австрией.
— Потому-то он и надел мундир австрийского офицера.
— Но что за фантазия? Зачем? Объясни мне!
— Я был так же удивлен, как и ты, когда узнал, каким образом он пробрался в осажденный нами город. Ла Виолетт, которому я сделал строгий выговор за то, что он не помешал этой безумной выходке, знает, как Анрио переоделся и зачем он надел этот не принадлежащий ему костюм, благодаря которому теперь он, храбрый и честный французский офицер, считается шпионом.
— Что же тебе рассказал ла Виолетт?
— Странную историю.
— Наверное, тут замешана любовь! — живо сказала Екатерина.
— Да, ты угадала, это любовная история!
— Что же, Анрио молод, красив, способен внушить к себе любовь и достоин ее. Что бы он ни сделал, я заранее прощаю его.
— О, женщины! — сказал Лефевр, пожимая плечами. — Вы всегда и везде видите романтических героев и непременно восхищаетесь ими, в особенности, когда они делают глупости!
— Какие же глупости?
— Ну, слушай! Анрио был еще на аванпостах и собирался возвратиться в главную квартиру, когда подъехала карета, прибывшая из Кенигсберга. Кучер предъявил проездную грамоту, которая разрешала австрийскому генеральному консулу проехать через французский лагерь вместе со свитой, и подъехать к воротам Данцига. Грамота была подписана Раппом. Ее представили Анрио, и он скомандовал, чтобы карету пропустили. Из любопытства он заглянул внутрь кареты и испустил крик удивления. Угадай, кого он там увидел?
— Я не могу угадать. Я думаю, генерального консула.
— Да, и трех дам: жену генерального консула, княгиню Гацфельд — жену берлинского бургомистра, и молоденькую девушку — нашу дорогую Алису, ребенка, спасенного при бомбардировке Вердена. Анрио видел ее в Берлине вместе со мной у княгини Гацфельд. После тяжелого обвинения в измене князь Гацфельд ожидал, что император прикажет расстрелять его; но Наполеон просто приказал изгнать его, а его жена получила разрешение вернуться к своим родным. Она присоединилась к данцигскому австрийскому консулу.
— Итак, отправившись в Данциг, Анрио снова встретился с Алисой? Он ее любит и хотел последовать за нею. Теперь я все понимаю, — сказала Екатерина, — он отправился проводить Алису до самого города.
— Он выдал себя за офицера, прикомандированного к консульству. Как раз случилось, что Анрио свел дружбу с одним австрийским офицером, который одолжил ему свой мундир. Анрио мог таким образом сопровождать консула до самого города, а затем, благодаря императорскому пропуску, и войти в город.
— И его узнали?
— Скорее он был выдан.
— Кем?
— Австрийским генеральным консулом.
— О, негодяй! Что же, он любит Алису? Это ревность? Соперничество?
— Не думаю. Этот консул действовал из вражды, скорее даже из мести; он ненавидит Францию и непримиримый враг нашего императора, в котором ненавидит борца революции, своей непобедимостью распространившего по всему миру идеи восемьдесят девятого года. Это — аристократ, враг всех выскочек, якобинцев, цареубийц, как он называет нас! У меня есть о нем точные сведения; Фушэ доставил мне очень обстоятельный доклад.
— Не доверяйте Фушэ?
— Да, я знаю. Этот бывший поп такой же изменник, как Талейран, другой расстрига. Оба они злые гении императора. Они втихомолку обделывают темные дела. Несомненно, он на жаловании у Англии! Но что касается генерального консула, Фушэ дал точные сведения, — они не служат одному и тому же господину. Консул — тайный агент Австрии, и Фушэ выгодно перебежать ему дорогу, так как он работает для англичан. Ах, если бы император слушал меня! Как я вымел бы всю эту дрянь прочь! Я доверялся бы только его старым товарищам по подвигам и славе, его верным солдатам: Даву, Дюроку, Бесьеру и мне. Среди нас нет изменника, а он окружает себя алчными и подозрительными авантюристами — Бернадоттом, Мармоном, Талейраном, Фушэ… Они погубят его, бедная моя Катрин, и вместе с ним Францию.
— Император заметит в один прекрасный день, что его советники — предатели… Но, Лефевр, надо подумать о нашем деле. Что ты сделаешь, чтобы спасти Анрио? Пруссаки хотят расстрелять его, не правда ли?
— Да! Анрио схвачен переодетым, в городе, который находится в осадном положении, куда он пробрался обманом, а за это он должен быть расстрелян. Законы войны неумолимы! — торжественно сказал маршал. — Если бы я сам схватил здесь переодетого прусского офицера, я никак не мог бы избавить его от наказания.
— Значит, ничто не может спасти Анрио?
— Ничто, кроме чуда! Если бы я мог внезапно ворваться в город с моими гренадерами!
— Так ворвись! Ступай, скомандуй приступ! — воскликнула с энтузиазмом Екатерина.
Лефевр с жестом отчаяния покачал головой.
— Я не могу! Ведь я не начальник! Мне уже приходила в голову эта мысль. Как только я узнал, что Анрио, которого я люблю как сына, находится там и что ему предстоит быть расстрелянным, я не хотел ничего слушать, ни с кем советоваться, а действовать на свой страх. Я хотел немедленно скомандовать идти на приступ и во главе сорок четвертого линейного полка и всех других солдат, какие оказались бы под рукой, броситься на эти укрепления и постараться взять их. Мне помешали! Говорят, подходят подкрепления, надо подождать их. Мортье приближается с новыми полками, с артиллерией. Император приказал осаждать по всем правилам. Проклятые инженеры насмехались надо мной, говоря, что я несомненно храбр, но города, подобные Данцигу, не берутся одной храбростью. Нужны планы, машины, вычисления, в которых я ничего не понимаю. Император понимает, да, ведь он учен и теперь любит ученую войну. Генерал Шасслу показывал мне заметки Наполеона. Тогда я вложил свою саблю в ножны и пришел к тебе совсем уничтоженный и удрученный. Я маршал Франции, главнокомандующий ее войсками, и я не могу спасти моего доброго Анрио только потому, что я недостаточно долго пробыл в школе!
— Значит, конец? Анрио умрет?
— Увы! Но я отомщу за него! Когда я войду в Данциг — я войду непременно! — ничто не помешает мне схватить негодяя-австрийца, предавшего Анрио. Когда я сам буду командовать солдатами после взятия города, клянусь тебе, Катрин, этот граф Нейпперг будет расстрелян!
— Что ты сказал? Какое имя ты назвал? — спросила она в крайнем возбуждении.
— Граф Нейпперг. Этот непримиримый враг Наполеона, австрийский генеральный консул.
— Ты не знаешь, кто такой граф Нейпперг? Кем он был раньше и где я его когда-то видела?
— Ты знаешь его?
— Да. Помнишь ночь после взятия Жемапа, когда я была схвачена в замке Левендаля вместе с ла Виолеттом и едва не была расстреляна, как теперь наш Анрио?
— Черт возьми! Ты мне часто рассказывала об этом случае! Тебя спас какой-то австрийский офицер. Неужели…
— Ты угадал. Это был граф Нейпперг.
— Ты обезоружила меня, — с грустью сказал Лефевр. — Теперь я не смогу расстрелять его, когда вступлю в Данциг. Я обязан ему твоей жизнью, Катрин!
— Погоди, не один ты обязан. Помнишь утро десятого августа? Помнишь, что произошло в моей прачечной, когда ты пришел вместе с твоими товарищами, национальными гвардейцами, и стучали ко мне?
— У тебя в комнате был раненый, один из защитников Тюильри. Я даже немного приревновал тебя. Помню ли я? Точно это было вчера!
— Этот раненый был граф Нейпперг!
— Так и он обязан тебе жизнью?
— Мы не покончили еще счеты! Лефевр, мне непременно нужно пробраться в Данциг!
— Ты с ума сошла? Тебе идти к неприятелю? Ты хочешь остаться у них заложницей?
— Мне необходимо поговорить с графом Нейппергом.
— Ты хочешь просить его о помиловании Анрио? Он не может помиловать его. Откажись от этой безумной попытки!
— Я хочу пойти в Данциг и пойду туда! — решительно заявила Екатерина, а затем, сжимая руку мужа, прибавила: — Когда граф Нейпперг услышит то, что я скажу ему, он скорее убьет сам себя, чем позволит расстрелять своего, нашего Анрио, — прибавила она.
— У тебя есть с ним какая-то тайна?
— Да. Предоставь мне действовать, я ручаюсь, что приведу Анрио целым и невредимым! — И не давая мужу времени ответить, представить ей доводы благоразумия, Екатерина приподняла полог палатки и громко закричала: — Ла Виолетт! Ла Виолетт! Ступай скорей сюда!
XIV
В те дни, когда обстрел города прекращался, под стенами Данцига во французском лагере шли оживленные сношения, не предусмотренные властями, с какими-то пришельцами, женщинами, продававшими водку и приносившими разные новости, с подозрительными разносчиками и торгашами. Во всех осадах бывают такие перерывы, во время которых устанавливается общение между враждебными сторонами. Один из таких моментов и выбрал ла Виолетт для своей попытки пробраться в осажденный город вместе с Екатериной. Он был посвящен в ее планы и поклялся, что поможет ей спасти Анрио. Сняв свой блестящий мундир, ла Виолетт облекся в грязный широкий балахон, приобретенный у одного из многочисленных евреев-купцов, сопровождавших армию, и в таком виде подошел к воротам города в сопровождении Екатерины, одетой крестьянкой из окрестностей Кенигсберга.
Ла Виолетт говорил по-немецки, Екатерина также могла объясняться на этом языке, так как была родом из Эльзаса.
Ла Виолетт объяснил начальнику караула, что он и его спутница были застигнуты врасплох приходом французов и не успели войти в город, где их ожидали родственники, очень обеспокоенные их участью, и попросили разрешения войти в город повидаться с ними.
Начальник караула предупредил их, что будучи впущены в город, они уже не могут выйти оттуда.
— Ну, — весело ответил ла Виолетт, — мы подождем, пока эти проклятые французы будут разбиты, и выдержим осаду вместе с вами!
Получив разрешение, Екатерина и ла Виолетт вошли в город с замиранием сердца, боясь каждую минуту быть узнанными, не решаясь спросить кого-нибудь, чтобы какой-либо вопрос не обнаружил их обмана. Город был переполнен солдатами, среди которых было много раненых; повсюду стояли артиллерийские орудия и бараки; улицы были полны народа, так как все окрестное население поспешило укрыться в стенах Данцига.
Ла Виолетт заметил палатку маркитанта, раскинутую на открытом воздухе; возле нее солдаты и горожане пили и обменивались новостями. Подойдя к ним, тамбурмажор смешался с толпой и стал прислушиваться.
Здесь шел разговор о французском шпионе, переодетом австрийским офицером, которого только что судили и должны были расстрелять на следующее утро.
Ла Виолетт вздохнул с облегчением. До утра было еще довольно времени; Анрио не погиб, его можно было спасти.
Екатерина в свою очередь зашла в один магазин под предлогом покупки каких-то мелочей и ловко разузнала, где живет австрийский генеральный консул. Она объяснила, что ее племянница находится в услужении у жены консула. Получив нужные сведения, она присоединилась к ла Виолетту и оба направились к дому консула.
Двери дома были плотно закрыты, во всем доме не было ни малейших признаков движения. Никого не было вокруг, с кем можно было бы заговорить. Екатерина и ее спутник в волнении обошли вокруг всего здания.
— Ничего! Все закупорено! — произнес ла Виолетт, пожимая плечами с таким выражением, которое не предвещало ничего хорошего. Но вдруг он поднял кверху руки, достав окна первого этажа, и радостно воскликнул: — Это — окно!
— Ты хочешь влезть в него? — с испугом спросила Екатерина.
— Окно отлично заменяет дверь, если можно добраться до него, а я могу, — ответил ла Виолетт. Он ухватился за край полуоткрытого окна, приподнялся так, что смог заглянуть внутрь комнаты, затем снова спрыгнул на землю и, прибавив с обычным спокойствием: — В комнате никого нет, мы можем пробраться туда. Ну, смелей! — наклонился и подставил спину своей спутнице.
— Что ты хочешь, чтобы я сделала?
— Взбирайтесь ко мне на спину! О, не бойтесь, эта лестница самая прочная!
И он сгибался все больше и больше, ожидая, чтобы Екатерина взобралась на его могучие плечи.
Когда она наконец сделала это, он осторожно слегка выпрямился, так что Екатерина очутилась на высоте окна.
— Войдите! — сказал ла Виолетт, и его голос первый раз в жизни звучал повелительно. Но тотчас же он прибавил: — Простите меня! Дело идет о жизни Анрио! Входите, я сейчас же последую за вами!
Екатерина решительно подобрала юбки, влезла на подоконник и спрыгнула в комнату.
Через секунду ла Виолетт стоял рядом с ней.
— Иногда полезно быть таким высоким! — просто сказал он, как бы извиняясь за свой чрезмерно высокий рост. — Теперь не будем терять ни минуты, нагрянем к консулу! — И открыв первую же дверь, бывшую перед ними, он увлек Екатерину в мрачный и безмолвный коридор, внушавший недоверие своим спокойствием.
Осторожно, осматриваясь в полумраке, прислушиваясь и стараясь ориентироваться, оба продвигались вперед.
Вдруг до них донеслись голоса. Слышались приглушенные рыдания, можно было различить один мужской голос и два женских, которые о чем-то умоляли.
— Мы пришли, — сказал ла Виолетт, — это здесь! Ах, я сто раз предпочел бы идти в атаку вслед за маршалом! — прибавил он со вздохом.
— Войдем! — решительно сказала Екатерина. — Я узнаю голос Алисы.
Она схватилась за ручку двери и стремительно отворила ее. Крик изумления встретил их неожиданное появление. Они очутились в парадном салоне, мебель которого была покрыта чехлами. Граф Нейпперг быстро направился к ним навстречу.
— Кто вы? Что вам надо? — строго спросил он.
В комнате находились две женщины, одна бледная, серьезная, с большими черными буклями, обрамлявшими ее прекрасное лицо, другая юная, грациозная, с белокурыми локонами. Екатерина посмотрела на обеих и бросилась к молодой девушке со словами:
— Алиса! Моя дорогая Алиса! Неужели ты не узнаешь меня?
Молодая девушка, сначала очень пораженная, воскликнула:
— Матушка? Вы здесь? Что вы тут делаете?
— Я пришла спасти Анрио! — с достоинством ответила Екатерина.
— О, матушка, помогите нам, поддержите наши просьбы! Граф неумолим!
Екатерина обернулась к Нейппергу, ошеломленному, готовому звать на помощь, недоумевающему, каким образом они проникли в его дом, и спросила:
— Вы не узнаете меня, граф Нейпперг?
— Нет, и я недоумеваю, кто мог позволить вам войти сюда без доклада…
— Я — Екатерина Лефевр!
— Как, жена маршала Лефевра здесь! Боже мой, неужели город взят? — в ужасе воскликнул граф.
— Нет еще! Я опередила моего мужа, вот и все, и сделала это для того, чтобы спасти Анрио, моего приемного сына — понимаете, граф? Моего приемного сына — от ожидающей его смерти.
— Я ничем не могу помочь, — ответил Нейпперг в смущении. — Майор Анрио пробрался сюда, в осажденный город, переодетый, прикрывшись моим именем и моим флагом. Я знаю, какие узы связывают его с Алисой. Поверьте, что, если бы я мог, я ходатайствовал бы за него перед губернатором. Но мое ходатайство только ускорило бы казнь: явилось бы подозрение, что Австрия заинтересована в спасении офицера, в котором есть основания предполагать шпиона.
— Значит, вы не надеетесь, что можете повлиять на прусские власти? — сказала Екатерина.
— Нет, не думаю, не могу! Анрио подвергнется всей тяжести военных законов. Я очень сожалею, и если бы я мог…
— Вы можете! — повелительно сказала Екатерина. Нейпперг сделал нетерпеливое движение.
— Попросите этих дам оставить нас на минуту одних! — сказала Екатерина.
— Зачем? У меня нет тайн. Обе они просили меня за Анрио. Графиня Нейпперг, тронутая слезами Алисы, упрашивала меня сделать последнюю попытку, но я должен был отказать.
— Вы спасете Анрио! — повторила Екатерина. — Выслушайте меня! Я буду говорить в присутствии Алисы, но смотрите, чтобы потом вам не пришлось раскаяться в том, что вы вынудили меня открыть серьезную, очень серьезную тайну!
— Графиня, Алиса, оставьте нас! — сказал граф, пораженный тоном Екатерины.
Обе женщины вышли. Алиса, поддерживаемая графиней, едва держалась на ногах, близкая к обмороку. Графиня старалась утешить ее, поддерживая в ней надежду.
— Жена маршала Лефевра не пришла бы сюда без надежды спасти Анрио от казни, — сказала она. — Граф Нейпперг многим обязан ей; да и я сама слишком признательна Екатерине Лефевр, которая когда-то служила у моего отца, маркиза де Лавелина, и всеми средствами поддержу ее усилия.
Алиса немного ободрилась и вытерла слезы.
Между тем Екатерина и граф продолжили разговор. Ла Виолетт удалился по знаку Екатерины.
— Я буду за дверью, и если только понадоблюсь вам, — сказал он перед уходом, причем выпрямился и смерил взглядом графа, как бы говоря: «Если этот австрийский окурок только пикнет, я спрячу его к себе в карман!»
— Ну, теперь мы одни, говорите! — сказал Нейпперг, указывая Екатерине на кресло.
Она села и взволнованно произнесла:
— Давно мы не виделись с вами, граф! Сколько воды утекло со взятия Жемапа!
— Я очень радуюсь переменам, которые совершились, в особенности для вас, — вежливо ответил граф, — я покинул вас маркитанткой, женой сержанта.
— Поручика, исполняющего должность капитана, граф!
— Поручик быстро пошел вперед; теперь он маршал Франции, один из самых славных вождей первой армии в мире, друг Наполеона. Я от души поздравляю вас и прошу передать маршалу мой искренний привет, когда вы вернетесь в свой лагерь.
— Если я вызываю эти старые воспоминания, граф, то совсем не для хвастовства и не для сравнения тогдашней маркитантки с теперешней женой маршала, командующего осадой Данцига. Граф, в том самом замке, где мы виделись с вами в последний раз, вам удалось вырвать у негодяя, хотевшего принудить к ужасному браку молодую, достойную любви женщину, его жертву, Бланш де Лавелин.
— Теперь графиню Нейпперг.
— О, я отлично узнала ее, но волнение и беспокойство за ужасную участь Анрио помешали мне снова выразить ей мою благодарность за то, что она когда-то сделала для меня… Ведь это именно она устроила мою судьбу, купила для меня прачечную Лоближуа и этим дала мне возможность выйти замуж за Лефевра! Теперь я жена маршала Лефевра только благодаря вашей прекрасной и достойной супруге, граф! О, я не неблагодарна и только жду случая выразить вам обоим мою признательность! Но, к несчастью, теперь опять мне приходится просить.
Граф вежливо склонил голову, по-видимому ожидая объяснения, которое обещала ему Екатерина.
Между тем она медлила, но, сделав над собою усилие, сказала:
— Когда вы спасли меня от расстрела вместе с храбрым ла Виолеттом, который только что был здесь и не узнал вас, — помните? В той самой капелле, где готов был совершиться брак Бланш Лавелин… когда барон Левендаль уже собирался увезти в Брюссель или Кобленц ту, кого маркиз отдавал ему в жены, — знаете ли, какая причина заставила меня выйти за аванпосты и проникнуть в австрийский лагерь?
Граф сделал неопределенное движение и сказал:
— Я смутно припоминаю.
— Я вам напомню. Утром десятого августа тысяча семьсот девяносто второго года в своей маленькой комнатке скромной прачки я приняла на себя священное обязательство по отношению к Бланш де Лавелин. Неужели вы забыли это?
— О, нет, — с глубокой грустью ответил граф, — но я не хочу думать об этом далеком прошлом. Вы, госпожа Лефевр, должны были разыскать в Версале моего ребенка и доставить его к его матери, теперешней моей жене, в Джемапп. Ах, вы прикасаетесь к плохо зажившей ране. Продолжайте, пожалуйста! Впрочем, нет, лучше говорите о настоящем. Мне нет надобности вызывать это прошлое. Вы с большой опасностью и риском проникли в этот город с похвальной целью спасти интересующего вас французского офицера, конечно потому, что ему покровительствует ваш муж, и потому, что он — жених Алисы, которую вы воспитали. Говорите о майоре Анрио и дайте мне забыть о нашем несчастном ребенке, которого мы с женой не перестаем оплакивать.
— Говорить об Анрио значит говорить о вашем прошлом! — сказала Екатерина с ударением, заставившим Нейпперга содрогнуться. — Как вы думаете, граф, что случилось с ребенком, который находился в Версале на попечении тетушки Гош и которого я должна была привезти к вам в Джемапп?
— Увы, этот ребенок умер! Мне сказали об этом маркиз де Лавелин и один преданный слуга барона Левендаля. Ребенок был погребен под развалинами замка, разрушенного бомбардировкой и взрывами.
— Ребенок был спасен из-под этих развалин!
— Что вы говорите? Это невозможно! Но скажите, на чем основывается это предположение, к сожалению, слишком невероятное?
— Ребенок остался в живых, вырос и в настоящее время это сильный, храбрый, красивый молодой человек, достойный любви.
Нейпперг, охваченный непреодолимым волнением, смертельно бледный, пробормотал:
— Я боюсь угадать…
— Вы начинаете понимать. Ваш ребенок, граф, был воспитан Лефевром и мной и стал прекрасным французским офицером. Граф Нейпперг, неужели вы допустите, чтобы пруссаки расстреляли вашего сына?
Нейпперг, пораженный, упал в кресло, закрывая лицо руками и бормоча:
— О, это ужасно! Это дитя, так долго оплакиваемое, оставшееся в живых, спасенное каким-то чудом, предано мной же самим ужасному военному суду!
— Надо спасти его!
— О да, я спасу его. Но как? Как найти средство? — оживился Нейпперг.
— Подумаем вместе. Но надо спешить! На какое время назначена казнь?
— Завтра на восходе солнца.
— Предложите губернатору обмен. Лефевр отдаст за Анрио все, что от него потребуют — десять, двадцать, тридцать офицеров… пятьдесят солдат, если нужно! У нас много пленных! — с гордостью прибавила Екатерина.
— Все равно откажут!
— Но что же делать?
— Я придумал! — сказал вдруг Нейпперг. — Я сейчас же пойду к губернатору и потребую выдачи мне Анрио как австрийского подданного. Под защитой австрийского флага он будет неприкосновенен. Я буду держать его здесь, в плену, пока его новая национальность не будет оформлена.
— Как же вы можете считать Анрио австрийским подданным?
— Разве он не мой сын? Он должен принадлежать к национальности своего отца, это общее правило. Но вам необходимо немедленно удалиться, иначе я не отвечаю за вашу безопасность!
Екатерина не ответила ни слова, не решаясь высказать возражение, которое остановило бы графа в его намерении. Она не могла больше оставаться в городе — это могло повредить, быть может, Анрио.
— Ступайте, — сказала она решительно, — и да поможет вам Бог вернуть нам Анрио.
Снабженная пропуском от австрийского консульства, Екатерина вышла из города вместе с верным ла Виолеттом, не возбуждая никаких подозрений. Она вернулась в лагерь, удрученная мыслью о том, что Анрио станет австрийским солдатом.
— Согласится ли он на это? — спросила она, рассказывая мужу все, что произошло при свидании с Нейппергом.
Лефевр задумался на минуту, затем порывисто воскликнул:
— Ну, что ж! Тем хуже! Пусть инженеры делают, что хотят, пусть жалуются императору, если им угодно, а я скомандую приступ! — И он вышел из палатки, сказав Екатерине: — Успокойся, нашего Анрио не расстреляют! У меня есть Удино со своими солдатами, я пойду во главе их и, клянусь всем святым, сегодня же вечером я возьму Данциг!
XV
В то время как Лефевр готовился к штурму, граф Нейпперг спешил во дворец, где помещалась главная квартира маршала Калькрейта. Он по секрету объяснил маршалу тайную связь, существующую между ним и майором Анрио, выросшим в рядах французской армии, но оставшимся по рождению подданным австрийского императора, и потребовал, чтобы пленник тотчас же был выдан ему.
Россия и Пруссия тщательно поддерживали хорошие отношения с Австрией; хотя последняя и устранилась от коалиции, однако могла во всякий момент снова поднять оружие против Наполеона. Присутствие графа Нейпперга в Данциге имело важное дипломатическое значение. Его вмешательство могло спасти город от ужасов штурма, а дворец австрийского генерального консульства являлся нейтральной почвой, на которой должна была обсуждаться и подписываться капитуляция в случае, если бы французы взяли последние укрепления. Поэтому Калькрейт уступил доводам Нейпперга и отдал распоряжение о том, чтобы французский пленник был отведен под конвоем в австрийское консульство, где он и должен был находиться в полном распоряжении властей, которые тем временем должны были обсудить заявление консула.
Встреча Анрио с Алисой была радостна и трогательна: оба, забыв об испытанных опасностях, предались радужным планам о будущем, надеждам на счастье. Они уже чувствовали себя вне всякой опасности и надеялись на то, что по окончании осады они женятся с разрешения маршала Лефевра и все, перенесенное в Данциге, будет представляться им в воспоминаниях только дурным сном.
Граф Нейпперг, предоставив Анрио и Алисе некоторое время для радостных излияний, прислал затем просить Анрио зайти до ужина к нему в кабинет. Анрио отправился на этот зов в самом благодушном настроении, уверенный, что дело идет о том, чтобы дать ему пропуск и проводить его до французского лагеря.
Нейпперг серьезно принялся расспрашивать молодого человека о его происхождении и о подробностях его детства. Анрио откровенно и просто рассказал ему о своих первых годах, проведенных в лагере. Это было настоящее дитя бивуаков. Он смутно помнил Версаль, где играл около лавочки зеленщицы Гош; его жизнь начиналась только среди отрядов добровольцев, Самбр-э-Мёз, где он стал сыном полка.
Анрио с глубоким волнением рассказывал о первых впечатлениях своей жизни в качестве воспитанника бригады, припоминал свою юность, когда он просыпался от звуков барабана, воспитывался и закалялся среди утомительных переходов, атак и блестящих побед.
Нейпперг осторожно спросил его о родителях. На это Анрио ответил, что никогда не знал их, что всю его семью составляли маршал Лефевр и его жена.
Тогда консул сказал голосом, прерываемым волнением:
— Но ваши настоящие родители существуют, мой молодой друг, и вы, может быть, очень скоро и очень близко увидите их.
Анрио сделал движение, выражавшее удивление, но вместе с тем и равнодушие.
— Извините меня, — твердо сказал он, — но как же мое сердце может рваться к родителям, которые покинули меня и никогда не заботились обо мне в детстве, которых я никогда не стремился увидеть и которые никогда не осведомлялись обо мне? Какие чувства любви и нежности могу я чувствовать к тем, кто никогда не обнаруживал их ко мне?
— Нельзя так обвинять. Обстоятельства — быть может, более сильные, чем какая бы то ни было воля, — помешали вашим родителям заняться вами, дать вам узнать себя. Они считали вас умершим, и их сердца долго страдали от этой потери. Теперь их слезы будут осушены, радость зажжется в их глазах, которые так долго были затуманены горем. Анрио, разве вы не хотите обнять свою мать?
Молодой человек находился в крайнем волнении. Имя матери, которое до сих пор он только из благодарности давал доброй жене Лефевра, он мог теперь дать той, которая носила его под сердцем?! Теперь он мог назвать своих родителей, перестав быть детищем случая, подобранным из милосердия, выращенным, воспитанным, ставшим человеком благодаря доброте солдата и маркитантки? В присутствии женщины, которая называла себя его матерью, он не мог оставаться равнодушным, каким был до сих пор в разговоре с консулом; его душа размягчалась от нового, неизвестного до сих пор, теплого чувства любви и благоговения, и он с невольной дрожью в голосе спросил:
— Когда же я увижу мою мать?
— Сейчас! — ответил обрадованный консул и, распахнув дверь в салон, где сидели Алиса и графиня, сказал жене: — Бланш, моя дорогая Бланш, обними своего сына!
Он быстро рассказал ей то, что сообщила ему Екатерина Лефевр. Графиня бросилась к молодому человеку и прижала его к своей груди.
После первых минут восторга и умиления Анрио спросил с внезапным смущением, обращаясь к Нейппергу, который ждал, взволнованный, с глазами, полными слез:
— Значит… вы — мой отец?
Вместо ответа Нейпперг раскрыл свои объятия. Анрио колебался одно мгновение, но затем, победив смущение, к которому примешивалось инстинктивное недоверие, обнял отца.
— Наконец наш сын спасен! — сказала графиня. — Дорогая Алиса, я надеюсь, что теперь не встретится никаких препятствий к союзу, которого вы так желаете. Граф и я не помешаем вашим планам!
Алиса с благодарностью взглянула на графиню и, чтобы скрыть свое смущение, бросилась к ней на шею со словами:
— О, как вы добры!
Нейпперг обратился к Анрио:
— Мы оставим на минутку графиню и Алису; нам необходимо вместе отправиться к губернатору. Я хочу, мой дорогой сын, представить тебя официально маршалу Калькрейту и выяснить твое положение.
— Я к вашим услугам, — с поклоном ответил Анрио.
— Ты все еще в австрийском мундире, в котором так неосторожно пробрался в город. Это очень хорошо, так как с этих пор ты будешь иметь право носить его. Я позволяю себе прибавить к нему шнуры: это мундир капитана, а во французской армии ты командовал эскадроном. Я беру на себя сохранение за тобой твоего чина; император Австрии, мой августейший государь, без всякого сомнения утвердит мое решение, когда узнает, какие узы связывают нас. Пойдем, Анрио, маршал Калькрейт ждет твоего визита!
Анрио, смертельно бледный, не двигался с места. Стиснув руки, с глазами, загоревшимися гневом, он ответил:
— Что вы говорите? Я не понял вас. Сегодня я — тот же, кем был вчера, кем был несколько минут назад, а именно — французским офицером, всецело преданным Франции и императору Наполеону. И если я на несколько часов позволил надеть себе этот костюм, то теперь я срываю его с себя и снова делаюсь гусарским майором и ничем больше!
С этими словами Анрио быстро расстегнул белый мундир, под которым оказалась куртка французского гусара.
— Анрио, это безумие! — воскликнул Нейпперг. — Ты мой сын, следовательно, австрийский подданный. Я предлагаю тебе сохранить твой чин в армии моего государя. Ты быстро станешь возвышаться, твоя карьера обеспечена. Я предлагаю тебе очень выгодную комбинацию.
— Вы предлагаете мне совершить подлость!
— Анрио, думай о своих выражениях! Ты говоришь с отцом!
Графиня приблизилась, пораженная этим спором.
— Мой сын! Граф! Успокойтесь! — сказала она, становясь между ними. — Я понимаю негодование Анрио: оно естественно для солдата, проникнутого чувством чести. С юных лет он служил Франции и не может в один час переменить знамя. Дайте ему подумать! Ваш авторитет и насилие не могут и не должны заставлять его нарушать солдатскую верность.
— Спасибо, матушка, за ваше доброе вмешательство, — сказал Анрио, — вы не захотите назвать своим сыном изменника и ренегата!
— Анрио, дитя мое, не произноси этих ужасных слов!
— Я француз и останусь французом, — твердо сказал молодой гусар.
— Несчастный! Это смертный приговор для тебя! — произнес подавленный Нейпперг.
— Я предпочитаю умереть, чем изменить своему знамени!
— Я не требую от тебя измены, — сказал граф, — ты вошел в этот город в мундире офицера нейтральной державы, и я прошу сохранить этот нейтралитет. Ты мой сын, твое происхождение дает тебе право на защиту австрийской национальности. Будь благоразумен! Позволь мне действовать за тебя! Послушайся своей матери и меня. Ведь мы твои родители!
— У меня нет другой матери, кроме Франции, и моя семья — мой полк! — воскликнул Анрио в каком-то экстазе. — Я совершил преступление, я вошел в этот город как шпион, и потому прошу, чтобы меня расстреляли как шпиона! По крайней мере тогда мои товарищи, которые не могут понять мое присутствие здесь, будут знать, что нашли меня в неприятельских рядах, переодетым, в качестве шпиона, а не дезертира!
В этот момент со стороны укреплений донеслись глухие удары. Дом весь затрясся от близких артиллерийских залпов. Крики, стоны, дикие вопли перепуганной толпы сопровождали гул пушек и треск ружейных залпов. Затем наступило молчание. Слышно было, как беспорядочная толпа бежала по улице под окнами консульства. Залпы совершенно прекратились. Вдали послышался торжественный барабанный бой. Затем снова наступила тишина.
— Что происходит на укреплениях? — спросила в волнении графиня.
— Попытка штурма со стороны французов, которая, без сомнения, отбита, — холодно ответил Нейпперг. — Подумай, Анрио, если ты откажешься вступить в австрийскую армию, тебя сочтут опасным гостем, с которого сорвана маска, и с тобою поступят по всей строгости законов осадного положения. Подумай, пока еще не поздно!
— Я подумал, — гордо ответил Анрио, — и вот мой ответ! — Он бросился к окну, широко распахнул его и крикнул так громко, что испугал жителей Данцига, беспорядочной толпой бежавших по улицам: — Да здравствует император Наполеон!
— Ах, несчастный! Теперь ничто не может спасти его! — сказал Нейпперг, сжимая жену в объятиях и стараясь утешить ее.
Но на этот более чем соблазнительный возглас знакомый голос ответил снаружи:
— Да здравствует император! Это мы, майор, мы пришли вовремя, черт возьми! Вперед, друзья! Майор здесь! Идите сюда, я знаю дорогу! — И гигантский силуэт ла Виолетта с великолепным трехцветным султаном и тростью показался в окне с мохнатыми шапками семи или восьми гренадеров Удино. Ла Виолетт влез в окно со словами: — Это моя обычная дорога!
Гренадеры, помогая друг другу, последовали за ним.
В ту же минуту Анрио был окружен этими усатыми и бородатыми молодцами, которые прицелились в Нейпперга, снова ставшего спокойным и бесстрастным.
— Ружья долой! — скомандовал ла Виолетт, протягивая свою тросточку. — Уважение к побежденным! Данциг сдался, мы не имеем права коснуться ни одного волоса его защитников — таков приказ маршала! О, майор, вы произвели чудеса! — прибавил ла Виолетт, отдавая Анрио честь. — Вы заставили нас идти на приступ двумя днями раньше, чем хотели собаки-инженеры. Теперь конец: маршал Калькрейт капитулировал, и город наш! Да здравствует император!
Действительно, Данциг был сдан.
Ожидаемые подкрепления пришли: маршал Мортье, Удино со своими гренадерами, маршал Ланн с пехотой из резерва — все присоединили свои силы к осаждавшей армии. Русские пытались произвести атаку с целью прогнать французов с песчаной равнины, по которой они с каждым днем подходили все ближе и ближе и все больше грозили городу. Если бы им удалось вытеснить Лефевра и отодвинуть назад передние линии осаждавших, защита города была бы непреодолима. Но Удино со своими гренадерами отбил русских и вынудил их запереться в форте Вейксельмюнде, откуда они не могли больше помогать пруссакам.
Во время этой редкой борьбы, в которой лично участвовали три маршала Франции, русское ядро пролетело между Удино и Данном и едва не убило их обоих. Под Удино была убита лошадь, а у Ланна, для которого еще не наступил роковой момент, весь мундир был забрызган кровью и грязью.
Среди сражения произошло неожиданное событие: Англия прислала свои корветы на помощь Данцигу. Главной целью их было доставить в город съестные и военные припасы. Один из этих корветов, «Неустрашимый», хотел, пользуясь северным ветром, подняться вверх по Висле. Но встреченный сильным артиллерийским огнем он не мог двинуться вперед и выбросился на мель, где и был захвачен в плен гренадерами со всем своим экипажем.
Маршал Лефевр, будучи ободрен успехами и видя, что его силы увеличены подкреплениями Мортье и Ланна, решил сделать решительную попытку.
Он радостно встретил вернувшуюся из города жену, так как ее похождения внушали ему немало беспокойства. Новости, принесенные ею относительно Анрио, не особенно понравились ему. Он с недоверием относился к прусской верности и сказал Екатерине, что сделал все приготовления к немедленному штурму.
21 мая в шесть часов вечера по приказанию Лефевра четыре колонны, каждая в четыре тысячи человек, были введены в ров, которым французы завладели еще накануне. Эти отборные отряды, очутившись у подошвы вала, получили приказ молча ожидать сигнала, чтобы броситься на приступ.
Вал был сильно защищен палисадами, крепко врытыми в землю и сопротивлявшимися даже ядрам, которые их ломали, но не могли пробить. Кроме того, на вершине вала были подвешены на веревках три громадных бревна, грозя раздавить осаждающих по первому желанию осажденных.
Среди осаждавших тихо производились поиски смельчака, который мог бы пробраться осмотреть эти бревна и найти средство сделать их безопасными.
— Здесь! — сказал чей-то голос. — Я пойду, если угодно! — С этими словами ла Виолетт приблизился к Ларибуазьеру, который командовал саперами, и скромно прибавил: — Генерал, здесь, наверное, есть гораздо более храбрые люди, чем я, которые обделали бы это дело… Но я предлагаю свои услуги только потому, что я могу без лестницы добраться до высоты этих веревок, и у пруссаков не возникнут подозрения.
И ла Виолетт выпрямился перед Ларибуазьером, как бы желая подтвердить ему истинность своего замечания и преимущества своего роста.
Генерал в волнении сжал руку тамбурмажора и сказал:
— Иди, молодец, в твоих руках находится спасение тысяч людей!
Все увидели, как ла Виолетт, взяв у одного сапера топор, согнулся, прижался к стене, ползком вскарабкался на поросший травой склон и приблизился к бревнам; затем, очутившись под канатами, он выпрямился во весь рост и изо всех сил стал рубить подпорки бревен, и те вскоре очутились в пустом рве, никого не ранив.
При этом падении Лефевр скомандовал, размахивая саблей: «Гренадеры вперед! Данциг наш!» — и первый бросился на вал.
Люди хлынули за ним как бурный поток или водопад, неудержимо, яростно, карабкаясь, цепляясь за стены, опрокидываясь и катясь, с воплями и криками, но без ружейных выстрелов. Знаменитая брешь, которую Лефевр напрасно требовал от инженеров, на этот раз была пробита гренадерами Удино и стрелками Ланна. Достигнув хребта, они дали ружейный залп; из города ответили им пушки, но ничто уже не могло удержать победоносных французов.
Тогда маршал Калькрейт пришел в отчаяние и, сознавая бесполезность дальнейшего сопротивления, выразил полковнику Лакосту желание капитулировать.
Было восемь часов вечера. Артиллерийский огонь сейчас же смолк и было немедленно послано за маршалом Лефевром, чтобы приступить к обсуждению условий сдачи. Маршал предложил сложить оружие, что же касается самих условий капитуляции Данцига, то он решил известить Наполеона о победе и обождать от него инструкций.
Во время этих переговоров ла Виолетт, обещавший Екатерине доставить Анрио обратно здравым и невредимым, бросился с несколькими товарищами в город и достиг австрийского консульства в тот момент, когда молодой офицер, предпочитая лучше умереть, чем отказаться от своей присяги, крикнул: «Да здравствует император!» Анрио надеялся, что эти крики привлекут взбешенных неприятелей, но на самом деле они помогли тамбурмажору и гренадерам сориентироваться и вовремя прибежать к нему на помощь.
XVI
Известие о взятии Данцига сильно порадовало Наполеона. Он решил сейчас же отправиться туда, чтобы на месте изучить боевую и защитную способность крепости. Поэтому, оставив свою главную квартиру в Финкенштейне, он отправился в данцигский лагерь.
Поздравив маршала Лефевра с отвагой войск и наговорив любезностей генералу Шасслу за его инженерные работы, император вернулся к себе, чтобы перечитать условия капитуляции и приготовить приказ о торжественном входе войск в побежденный город. Вскоре Рапп доложил ему, что жена маршала Лефевра просит быть допущенной к частной аудиенции у его величества.
— Что за черт! Да как она попала сюда? — с удивлением воскликнул Наполеон. — Говорят, что она очень привязана к мужу; это очень похвально, но недостаточно, чтобы следить за ним даже в военном лагере. Место жен наших маршалов при дворе, около императрицы, а место мужей — в траншеях и среди их войск. — Император остановился, улыбнулся и сказал: — Правда и то, что если бы я послушал Жозефину, то и она прибежала бы сюда. Как видно из ее последнего письма, Жозефине смертельно хочется познакомиться с Польшей. Гм… Полячки, вероятно, привлекают ее гораздо больше, чем снега этой проклятой страны! Может быть, Жозефина посылает мадам Лефевр для того, чтобы следить за мной? Ну, это мы посмотрим! Я старый воробей, которого на мякине не проведешь. Рапп, попросите войти ее высокопревосходительство!
Екатерина чувствовала себя не очень-то ловко в присутствии императора. У него была крайне неприятная манера смотреть на людей: его взгляд, словно бурав, впивался в глубину души, а с женщинами он и вообще-то не отличался особой любезностью.
Екатерине приходилось неоднократно слышать не особенно любезную отповедь, которой император отвечал на заискивания, авансы и чересчур бесцеремонные предложения своих услуг со стороны придворных дам, страстно жаждавших привлечь к себе взоры повелителя и мстивших ему потом, подобно де Ремюза, в своих воспоминаниях за отказ императора снизойти к их желаниям.
Такого рода неприятностей Екатерине не приходилось бояться, но она ждала, что император выскажет ей недовольство за ее появление в лагере, особенно потому, что неминуемо придет в дурное расположение духа под влиянием печальной новости, которую она должна была принести ему.
Но она знала, как ему ответить! Ведь она не привыкла, как любила зачастую повторять, лезть за словом в карман. Кроме того, этого окруженного ореолом славы императора она знавала ничтожным офицериком, и воспоминания о скромной гостинице «Мец», куда она носила ему белье, постиранное в кредит, придавали ей храбрости и помогали сохранить прирожденный апломб.
Постаравшись вспомнить как следует уроки Деспрео и приветствовать императора рядом положенных и прекрасно выполненных придворных реверансов, Екатерина осталась стоять, смотря на императора и дожидаясь, пока он не обратится к ней с вопросом.
Наполеон был в хорошем расположении духа. Он был очень доволен взятием Данцига и не мог дурно принять жену героя-Лефевра, как ни был удивлен этим ее неожиданным путешествием через всю Европу.
Екатерина, ободренная тоном императора, поспешившего предложить ей стул, осторожно начала свой рассказ. Она сообщила о беспокойстве императрицы. Вечно воображая себе разные опасности, которым подвергался император в этой далекой кампании, ее величество захотела получить достоверные сведения о здоровье супруга, находящегося в армии. Затем Екатерина перешла к первому пункту своей миссии: слегка глуховатым голосом она сообщила скорбную новость о безвременной кончине Карла-Наполеона, сына Гортензии.
Император отрывисто и резко всхлипнул. Он любил этого ребенка, искренне привязался к нему. Этот безжалостный завоеватель, этот истребитель наций, этот покоритель континентов обожал детей.
Сколько раз видели его играющим с маленьким Карлом-Наполеоном! Он приказывал приносить его во время обеда и сажал на скатерть среди блюд, оставляя барахтаться между серебряными колпаками, плато и подставками, смеясь, когда малютка ступал ножкой в один из соусников. Его приводили в кабинет к императору, и он бросал диктовать план сражения или распоряжения по гражданскому управлению, чтобы встать на четвереньки и возить на своей спине ребенка. Тогда он становился «дядей Бибиш», как на своем детском жаргоне маленький Карл Наполеон называл грозного завоевателя.
Наполеон собирался усыновить сына Гортензии. Разумеется, для него не оставалась тайной ходившая на этот счет сплетня. Он знал, что пасквилянты распространяли слух, будто он выдал замуж за своего брата Людовика хорошенькую свояченицу тогда, когда она уже была беременна от него, газета «Монитер» сообщила, что «мадам Луи Бонапарт благополучно разрешилась от бремени мальчиком 18 вандемьера», словно дело шло о наследнике империи. Это официальное сообщение в свое время вызвало большие толки и пересуды.
Но Наполеон был не такой человек, чтобы задуматься перед выполнением намеченного проекта только из-за боязни сплетен и скандальных предложений. Он предусматривал возможность передать свою корону сыну Гортензии, да и в глубине души был даже рад, что его называли отцом. Ведь в этом случае армия и народ охотнее согласились бы с передачей власти ребенку Гортензии, если бы предполагали, что в жилах этого ребенка течет кровь Наполеона. Да, это усыновление наконец положило бы предел бесконечным раздорам семейства Богарнэ с семьей Наполеона, и таким образом его династические заботы могли бы считаться оконченными.
Но смерть этого ребенка разрушала все проекты, низвергала родословное дерево, которое Бонапарт старался взрастить.
Несколько минут Наполеон просидел безмолвно и не шевелясь, словно пораженный молнией сфинкс. Екатерина с удивлением созерцала эту немую скорбь, в которой сердце человека, привязавшегося к ребенку, страдало так же, как и мозг политика, видящего, как рушится часть его создания.
Наконец Наполеон поднял голову и, сделав над собой усилие и поборов внутреннее волнение, как привык это делать на полях сражения, спросил:
— Ну, а еще какую новость принесли вы мне?
— Ваше величество, — ответила Екатерина, — в жизни радость и горе так же идут рука об руку, как и рождение и смерть. Я являюсь к вам вестницей не одной только печали; я должна сообщить вам о рождении ребенка, который хотя и не сможет вполне утешить вас в понесенной потере, но, без сомнения, смягчит остроту вашего горя. Одна из придворных дам, состоявшая при ее высочестве принцессе Каролине, только что стала матерью.
— У Элеоноры родился ребенок? Может быть, даже сын? — быстро спросил Наполеон.
— Да, ваше величество, сын, нареченный именем Леон.
Наполеон бросился к Екатерине и, схватив ее за обе руки, спросил с дрожью в голосе, крайне редкой у этого особенного человека, великолепно умевшего владеть собой.
— Вы уверены в том, что вы сейчас объявили мне?
— Разумеется да, ваше величество. Я сама видела ребенка, он похож на вас! — напрямик отрезала Екатерина.
Император пристально, но без раздражения смотрел на нее.
— Вас недаром зовут мадам Сан-Жень! — сказал он, протягивая руку, чтобы схватить Екатерину за ухо, как это у него было в привычке по отношению к гренадерам, дворцовым офицерам и даже маршалам. Затем он отвернулся и лихорадочно забегал из угла в угол. Екатерина слышала, как он бурчал: — У меня сын?! Ведь это мой ребенок! Да, да в этом не может быть сомнений! Да, это указующий перст судьбы… Ну, вот весь этот дурацкий слух, который распустили господа Богарнэ во главе с Жозефиной, да и мои сестры тоже, слух о том, будто от меня не может родиться ребенок, будто ради династических целей я должен пользоваться чужими ребятами, — все оказалось вздором! Понятно, для чего всем это было нужно. Но дудки! Я все-таки положил начало роду. И Корвизар просто болван, как и все доктора вообще. Природа ответила на мой вызов, теперь и будущее принадлежит мне! Да, дело моих рук не умрет вместе со мной. Ах, если б вы знали, — обратился он прямо к Екатерине, — какую хорошую весть принесли вы мне! Нет, вы с мужем положительно такие счастливчики, которым в данное время все решительно должно удаваться. Слушайте-ка! Как только ваш супруг совершит торжественный въезд во взятый им для меня город, так вы оба, надеюсь, будете мною довольны! — И со свойственной ему резкостью отпуская Екатерину, он заметил ей, улыбаясь: — Вы владеете тайной Наполеона, так постарайтесь сохранить ее, по крайней мере!
— Ваше величество, я владею также тайной императрицы Жозефины и должна сообщить ее вам! — ответила Екатерина, останавливаясь и показывая твердое намерение не уходить, несмотря на желание императора выпроводить ее.
— У Жозефины имеется тайна? И она поручила вам передать ее мне? Ну, в чем же тут дело? Готов держать пари, что эта тайна касается какого-нибудь нового долга, счетов, предъявленных поставщиком? У Жозефины это — старая песня… А она ведь знает, как я не люблю этого мотовства, этого безумия. О, на деньги, которыми она бросается на пустяки, я мог бы каждый год снаряжать по судну, набирать по дивизиону, прорыть Бордосский канал, проложить дорогу на Майнц. Ну, да что же делать! Раз вы являетесь послом этой сумасшедшей, так скажите мне, сколько ей надо. Ну, живее, сколько?
— Ваше величество, тут вовсе не в деньгах…
— А в чем же тогда?
— Императрица, которая так добра и так нежно любит вас, ваше величество, извещена о рождении ребенка.
— А! Так императрица знает…
— Ей все рассказали. При дворе вашего величества достаточно завистливых и злых людей.
— Понимаю! Мои дорогие сестры очень восстановлены против императрицы. Элиза и Каролина воодушевлены такими чувствами, которые сильно огорчают меня. Ах, Боже мой! Обе мои семьи приносят мне больше неприятностей, чем все европейские короли, вместе взятые! — сказал Наполеон с глубоким вздохом, показывавшим, как он устал от этих домашних разговоров, от всех интриг этих завистливых женщин, досадливых пчел, вылетевших из-под его императорской мантии. — Ну, а что сказала на это императрица? — продолжал он после короткого молчания. — Мне очень интересно знать, как она отнеслась к рождению этого ребенка.
— Императрица хотела бы, чтобы вы, ваше величество, разрешили ей взять ребенка к себе воспитать… и даже усыновить, если вы согласитесь на это.
С обычным умением быстро ориентироваться и проницательностью Наполеон сразу понял, к чему клонилось это предложение: хотели воспользоваться тем душевным расстройством и смятением, в который должна была погрузить его весть о неожиданной смерти сына Гортензии.
— Вижу, вижу, куда это клонится! — пробормотал он. — Ребенок, усыновленный Жозефиной, станет новым и мощным связующим звеном для меня. Мюраты, Жозеф, Людовик, словом, все, кто мечтает стать моим наследником, увидят, что их надежды рухнули, а семья Богарнэ восторжествует. Да, это было бы возможным! Усыновление этого ребенка могло бы избавить меня от забот о престолонаследии. Но что скажут государи Европы? Признают ли они право незаконнорожденного? Да и раз я могу иметь ребенка, раз возможен прямой наследник моего царствования, то не лучше ли будет, если этот ребенок… Если Наполеон второй будет рожден… от принцессы какого-либо царствующего рода?
Он остановился, испугавшись, не слишком ли много сказал, и его подозрительный взгляд снова впился в Екатерину. А она ответила с глубоким реверансом:
— Ваше величество, моя миссия кончена. Я позволю себе пожелать вам всего хорошего и передам императрице, что воля ее державного супруга будет сообщена ей. Теперь я возвращаюсь во Францию счастливой, что застала вас, ваше величество, в добром здравии и победоносным, как всегда!
— Благодаря вашему супругу! До скорого свидания! Вы тоже узнаете от меня кое-какие новости, хорошие новости!
И император, сияя от удовольствия, сделал рукой жест, означавший конец аудиенции.
Екатерина ушла, унося с собой в качестве неожиданной поверенной тайну Наполеона, которой суждено было изменить всю его политику и перевернуть жизнь. Она уже догадывалась о намерениях императора, частью проскользнувших в отрывистых фразах, которые он пробурчал в ответ на ее сообщение, а именно о намерении дать империи наследника, отпрыска королевского рода. Развод, как зерно, посаженное в тучную почву, уже пускало ростки в голове нового Карла Великого.
XVII
Развод! Этот важный момент в истории первой империи пока еще смутным проектом витал в уме Наполеона в виде чего-то возможного в будущем, но еще не решенного, в виде простой мечты, желания.
Уже неоднократно Наполеон мечтал об этом способе разорвать брак с Жозефиной. В первый раз мысль о разводе появилась у него после возвращения из Египта, когда он узнал о похождениях легкомысленной креолки, затем — в период церковного брака и коронования, наконец, в момент отправления в поход на Пруссию.
Фушэ, один из самых пламенных сторонников этого развода, все время готовил, расследовал, выискивал почву. Но каждый раз после того, как Жозефина проводила ночь с мужем, она одерживала верх. Более влюбленный, чем когда-либо, он спускался со свечкой в руках и с ночным колпаком на голове по лестнице, соединявшей его апартаменты со спальней Жозефины, и на супружеском ложе происходило трогательное примирение.
Да, на этом поле битвы победитель всей Европы неизменно оказывался побежденным! Престарелая Жозефина своими кошачьими ужимками и вкрадчивыми ласками воскрешала свое былое влияние и порабощала его на несколько часов. Она крепко держала его в руках, действуя на его чувственность.
До того времени, к которому мы подошли в нашем рассказе, измены Наполеона носили только случайный, но отнюдь не серьезный характер.
Точный список любовниц Наполеона всем известен. Герцогиня д'Абрантэс, мадемуазель д'Аврильон, Констан, Бурьен, Фэн и некоторые другие дают нам полную картину увлечений генерала Бонапарта и императора Наполеона. В своей документально обоснованной и очень интересной книге Фредерик Массой совершенно беспристрастно описывает анекдотическую историю любовниц императора. Но никто из этих любезных особ не имел серьезного влияния на Наполеона.
О связях Наполеона в бытность его офицером известно очень немногое. Но он был слишком беден, трудолюбив, горд и невзрачен собой, чтобы можно было предположить, будто в Валенсе или Озоне его любовные похождения выходили за пределы редких и коротких кутежей.
Во время пьемонтской кампании ему приписывали любовную интригу с госпожой Тюро, но муж не имел никаких подозрений на этот счет, а если и имел, то по крайней мере тщательно скрывал их под видом великодушной протекции, оказываемой юному артиллерийскому генералу. 13 вандемьера Тюро поддержал кандидатуру Наполеона и настаивал на назначении его главнокомандующим войсками конвента. Бонапарт впоследствии отблагодарил сначала Тюро, а потом и его жену. Он назначил мужа старшим интендантом итальянской армии, что было очень доходным местом; позднее, когда после его смерти вдова впала в крайнюю нужду, Наполеон назначил ей щедрую пенсию.
Одной из самых романтических связей была та, в которой героиней была мадам Фурэс. Это была его «египтяночка». В Каире, в одном из общественных садов, называемом Тиволи, он однажды вечером заметил прелестную блондинку, которая резко выделялась из среды черноволосых, накрашенных женщин, утомленных одалисок, приехавших за армией из Марселя или с Мальты и казавшихся лакомым кусочком для офицеров, разгуливавших по Тиволи. Наполеон навел справки. Поразившая его блондинка оказалась модисткой из Каркасона, Маргаритой-Паулиной Белиль, вышедшей замуж за племянника своей хозяйки, некоего Фурэс. Вскоре после свадьбы муж, лейтенант 22-го коннострелкового полка, получил приказание отправиться в египетскую армию. Расстаться в первой четверти медового месяца показалось новобрачным слишком грустным. Тогда проказливой модистке пришла в голову мысль переодеться солдатом и пробраться на борт судна, увозившего ее мужа.
В те времена это случалось неоднократно: мы уже знаем, как Ренэ, переодетая мужчиной, поступила в солдаты, чтобы следовать за своим возлюбленным Марселем. Но Маргарита Фурэс уже в Каире рассталась с солдатским мундиром. Бонапарт заметил ее и тут же влюбился. Несколько дней она сопротивлялась, отказываясь от подарков генерала, но потом приняла их. В конце концов она окончательно сдалась. Несчастного мужа, совсем как в оперетке, немедленно командировали во Францию с важным секретным поручением. Главнокомандующий, видите ля, отличил его за храбрость, ум, интеллигентность и поручил передать Директории сообщение первостепенной важности. При этом офицеру было сказано, что, когда он выполнит поручение, он вернется снова в Дамьетту.
Фурэс, пришедший в полный восторг от милости главнокомандующего, сел на судно, которое должно было доставить его во Францию, а Бонапарт поспешил сейчас же пригласить к обеду целое общество, среди которого была также и хорошенькая «египтяночка». За столом он поместил ее около себя. В середине обеда Наполеон умышленно, как будто по неловкости, опрокинул на нее графин воды, и все платье молодой женщины оказалось замоченным. Тогда он сейчас же встал и повел ее в свою комнату под предлогом дать возможность обсушиться и поправить туалет. Но у него ушло столько времени на ухаживание за облитой водой дамой и последняя вернулась с такой растрепанной прической, хотя вода и не замочила таковой, что все приглашенные поняли, в чем тут было дело.
Генерал устроил «египтяночку» в доме, находившемся по соседству с занимаемым им дворцом. Не успели отпраздновать новоселье, как вдруг — опять-таки словно в оперетке — Фурэс, который, по мнению всех, должен был быть на пути к Парижу или уже в Люксембурге, совещаясь с членами Директории, появился словно театральный черт, внезапно выскакивающий из люка. Оказалось, что судно, на котором он плыл, попало в плен к английскому крейсеру. Отлично осведомленный обо всем, что происходило на материке, и желая сыграть шутку с генералом Бонапартом, английский адмирал приказал отпустить на свободу мужа любовницы Наполеона, снабдив его ироническими советами и весьма точными указаниями.
Фурэс вернулся в Каир взбешенный вконец, но, не имея возможности предпринять что-либо против своего начальника, ограничился разводом с неверной женой. Она получила свое девичье имя Паулины Белиль, но в просторечии ее обыкновенно называли Белилоточкой. Бонапарт, все еще сильно влюбленный в нее, позволял ей сопровождать его в походах верхом; он показывался вместе с ней на парадах и смотрах. Уверяют, что он был готов даже развестись с Жозефиной, чтобы жениться на Белилоточке, если бы она подарила ему ребенка.
Но, к несчастью для нее, бедная Белилоточка плодовитостью не превосходила Жозефину. Ее бесплодность не преминула произвести на Наполеона неприятное впечатление и пробудить в нем сомнение, может ли он быть отцом вообще; и это сомнение было рассеяно впервые сообщением о рождении ребенка у Элеоноры.
«Египтяночка» вернулась во Францию после отъезда Бонапарта, но корабль, на котором она плыла, попал в плен к англичанам. Когда же вместе с Жюно и несколькими офицерами и учеными, находившимися на борту «Америки», была отпущена на свободу, то примирение Бонапарта с Жозефиной уже состоялось, и дело 18 брюмера было выполнено. В этот день Бонапарт низверг Директорию и стал первым консулом. Он отказался принять Белилоту, но тем не менее купил ей замок, дал приданое и выдал замуж за субъекта, не особенно-то щепетильного насчет происхождения приданого и получившего в виде свадебного подарка консульство. Разойдясь со вторым мужем, которого она добросовестно обманывала, Белилоточка отправилась в Бразилию с любовником по имени Беллар. Во время Реставрации она вернулась в Париж и, само собой разумеется, проявила себя рьяной роялисткой. Ведь нельзя требовать от молодой любительницы приключений и легкомысленной женщины большой верности императору, раз вероломными оказались Удино, Мармон и куча других неблагодарных шутов.
Бонапарт был почти лишен художественных эмоций. Он абсолютно не признавал живописи, а из всех жанров литературных произведений любил только трагедию, величественный тон которой, сильные душевные движения и резкие характеры действующих лиц гармонировали с его собственным душевным строем. Но музыка, в особенности пение, производила на него глубокое впечатление. Сам он пел в высшей степени фальшиво и не мог отличить мажор от минора; оставаясь совершенно равнодушным к симфонической музыке, он испытывал глубокое волнение при звуках человеческого голоса. Когда пел сопранист Кресчентини, Наполеон дрожал, слезы наполняли его глаза, и он не побоялся шокировать всю Италию, дав этому музыканту-евнуху орден Железной Короны. Его влечение к знаменитой певице Грассини коренилось столько же в чарах ее голоса, как и в наружности этой красавицы. Впервые Бонапарт увидал и познакомился с ней в Милане, сошелся с ней, а затем вызвал ее в Париж. Там она жила замкнутой жизнью, никого не принимая, в маленьком домике на улице Шантре и стала скучать. Некий скрипач по имени Родэ предложил ей развлечь ее, и она согласилась. Но музыка артиста наделала слишком много шума, и Бонапарт, извещенный обо всем Фушэ, прервал всякие отношения с Грассини. Впрочем, в дальнейшем он проявил по отношению к ней большое великодушие, и каждый раз, когда она проезжала через Париж, возвращаясь из Лондона или Гааги, она получала ночную аудиенцию императора, сохраняя о таковой неизменное приятное воспоминание. Впоследствии Грассини отличилась традиционной неблагодарностью: она не только пела у герцога Веллингтона, победителя Наполеона, но даже в тот момент, когда ее державный любовник томился на острове Святой Елены, покоилась в объятиях победителя при Ватерлоо, гордого возможностью пользоваться наполеоновскими остаточками.
Пять или шесть женщин — актрис и певичек — были временными подругами монарха. Указывают на Браншю, артистку оперы, страшно уродливую, но очень талантливую; затем — Бургуен и наконец — Жорж, дивную царицу сцены. Жорж одна только осталась верной памяти низложенного императора и из-за верности к великому человеку, бывшему ее любовнику, поплатилась службой во Французском Театре по интригам смотрителей королевских левреток, заведовавших в то время сценой.
Вечно торопившийся и занятый работой, Наполеон занимался любовью только мимоходом. Он ценил в ней развлечение, не нарушавшее методичности его занятий, и, наверное, согласился бы с поэтом, сказавшим позднее: «Всякое счастье, до которого не достал рукой, является просто миражем».
Поэтому не приходится удивляться большому количеству дам, постоянно вертевшихся при дворе, жен камергеров или чинов личной охраны, лектрис императрицы и т. п., проскальзывавших в маленькое личное помещение Наполеона в Тюильри, ключ от которого хранился у императорского камердинера Констана.
Император охотно пользовался этими временными связями, так как хотел избежать постоянной связи, сильной привязанности, которая могла бы отнять у него слишком много времени, внимания, воли, да кроме того, боялся, как бы постоянная любовница не стала оказывать на него влияние. Он не хотел допустить воздействие женщины на государственные дела, придерживаясь мнения, что место женщины никак не в комнате совета.
Боязнь фаворитки, любовницы с претензиями на управление государственными делами, подобной Монтеспан, Ментенон, Помпадур и Дю-Барри прежней монархии, заставляла его вступать в связь даже с подозрительными авантюристками, среди которых была и де Водей.
Эта кокетливая интриганка была дочерью знаменитого офицера д'Арсона, который взял Бреда и составлял планы похода на Голландию. Выйдя замуж за капитана де Водей, она была назначена статс-дамой в 1804 году и сопровождала императрицу на воды в Ахен. Сам Наполеон должен был встретиться там с Жозефиной, и там-то впервые он увидел де Водей. Они сошлись, но вскоре она опротивела Наполеону, когда вздумала симулировать самоубийство, чтобы вытянуть из императора порядочную сумму денег. К несчастью для нее, ее письмо было передано императору слишком скоро, и дежурный флигель-адъютант, посланный Наполеоном вместе с требуемой суммой денег, застал де Водей за веселым ужином и совершенно не расположенной быстро отправляться в царство Плутона. Впоследствии эта женщина оклеветала и осыпала Наполеона оскорблениями в своих странных мемуарах, изданных Ладвокатом. Она даже предлагала свои услуги князю Полиньяку, обещая заманить императора в ловушку, чтобы его могли убить там.
Среди второстепенных подруг императора следует назвать Лакост, маленькую блондиночку, не имевшую доступа в салон императрицы и державшуюся в передней; потом Фелиситэ, дочь дворцового швейцара, специально распахивавшего двери перед их величествами; далее лектрису Гаццани, рекомендованную де Ремюза после того, как ему не удалось пристроить свою собственную жену на императорское ложе; ей наследовала Гюйлебо. Она сидела в своей скромной комнатке у самого чердака, когда Рустан, мамелюк Наполеона, внезапно объявил ей о посещении императора, но, благодаря допущенной ею неловкости, потеряла свое место и лектрисы, и любовницы: было перехвачено письмо, в котором ее мать давала ей бесконечно практические советы. Достойная мамаша советовала ей постараться во что бы то ни стало заполучить ребенка от императора или заставить его поверить, будто она беременна от него. Гюйлебо тут же отправили восвояси. Реставрация наградила ее за инсинуации, которые она возводила на императора, назначив ее мужа, некоего Сурдо, французским консулом в Танжере.
Наконец, после Элеоноры де ла Плэн, материнство которой так взволновало Наполеона, на сцену выступила истинная подруга императора, та, которая глубоко любила его и оставалась ему верной вплоть до изгнания — правда, только до, но не более. Этой подругой была красавица-полька графиня Валевская.
Во время осады Данцига император, отправившись в Варшаву, был встречен на одной из станций приветствиями и букетом от депутатов польской шляхты. Дама, вручившая ему букет, была очень молоденькой, почти ребенком; белокурая, розовая, миниатюрная, она была очаровательна со своими громадными голубыми наивными глазами.
Дюрок представил ее императору, чтобы дать ей возможность сказать свое приветствие. Но она не смогла выговорить ни слова от волнения и смущения. Тогда император ободрил ее несколькими словами, в которых было много милостивого благоволения, и, принимая букет, выразил надежду встретиться с нею в Варшаве.
Эта молодая женщина была Марией Лазинской, супругой графа Анастасия Колонна-де-Валевского. Ему было семьдесят лет, ей — девятнадцать. Чтобы выйти за него замуж, она отказала красивому молодому человеку, носителю знаменитого имени, очень богатому и влиятельному. Этого молодого человека звали Орловым; он был русским и состоял в родстве с теми лицами, которые отличались в деле угнетения и терроризации Польши. Наоборот — старый граф Валевский был испытанным патриотом. У юной Марии была душа героини; любовь к родине царила в ней над всеми остальными чувствами, и она отдала свою руку старому графу в надежде иметь от него сына, который будет в состоянии освободить Польшу.
В ожидании, пока вырастет этот наследник Валевских, юная графиня с энтузиазмом следила за победоносным шествием Наполеона. Разве он не нанес русским ряд самых жестоких поражений? После Аустерлица она вся дрожала от радости, а поход 1807 года еще усилил ее экзальтацию. Она уже видела в своем воображении, как победитель-Наполеон прогоняет угнетателей-московитов в их степи, возвращая полякам их отечество!
С того времени восхищение императором заняло такое место в ее сердце, что при первом же случае оно неминуемо должно было превратиться в другое, более теплое чувство.
Друзья графа Валевского, такие же патриоты, как и он сам, надеясь на восстановление древней Польши с помощью оружия Наполеона, сейчас же заключили наступательный союз, целью которого было бросить красавицу-графиню в объятия императора. Они заметили, с каким глубоким вниманием смотрел на нее император на балу, да кроме того от этих «сводней для добрых целей» не ускользнули волнение, ряд промахов и рассеянность Наполеона во время обеда, на котором присутствовала и Валевская. Дюрок оказался их союзником в этом. Было решено, что графиня должна принадлежать Наполеону, так как существовала уверенность, что она использует свое влияние на него для блага родины! И весь высший свет составил заговор против добродетели Валевской. Любовь Наполеона, вскоре достигшая апогея, находила во всех окружающих помощников и пособников. Даже муж красавицы-графини настойчиво рекомендовал ей согласиться на предложения императора. Польское шляхетство приводило ей в пример историю Эсфири, которая, пленив государя своей красотой, освободила угнетенный израильский народ. Со всех сторон убеждали, торопили, ободряли, умоляли графиню согласиться на бесчестье, так как последнее должно было привести к славе ее родины.
А Наполеон все щедрее и щедрее засыпал Валевскую нежными посланиями, объяснениями в любви и подарками. Она отказывалась принимать драгоценности и не желала ничего отвечать ему. Наконец удалось уговорить ее согласиться на свидание с императором. Дюрок ввел Марию в одну из комнат дворца. Она вошла туда с таким видом, словно ее обрекали на пытку, а затем, закрыв лицо руками, в полубесчувствии опустилась в кресло.
В этот момент она почувствовала, что кто-то покрывает ее руки бессчетными поцелуями; она посмотрела — у ее ног был Наполеон. Мария долго сопротивлялась, плакала, и Наполеон был достаточно тактичен, чтобы не пустить в ход насилие. Такое отношение Наполеона придало Валевской храбрости, она снова явилась в уединенную комнату дворца и на этот раз уступила желаниям Наполеона. Но между восторгами страсти, между поцелуями, она нашла возможным заговорить об отечестве с влюбленным императором, хотя тот жаждал слышать от нее только слова любви.
Можно смело утверждать, что Мария Валевская не любила Наполеона в тот момент, когда стала его любовницей, но впоследствии сильно привязалась к нему; когда же она подарила ему сына, названного графом Валевским и ставшего во времена второй империи президентом законодательной палаты, ее любовь превратилась в искреннюю страсть. Со своей стороны и Наполеон был искренне увлечен ею. Он оставался верным ей вплоть до своего падения и прекратил отношения с нею только в первое время после свадьбы с Марией Луизой. Валевская навестила его на острове Эльба и в продолжении «ста дней» не разлучалась с ним. Но при окончательном поражении побежденного воина и прекрасная полька тоже доказала все вероломство и непостоянство своего пола. Одной из наиболее неприятно поразивших пленника Святой Елены новостей была та, которую поспешил ему передать подлец Хадсон, а именно о состоявшейся в 1816 году в Льеже женитьбе генерала графа д'Орнано, бывшего полковника лейб-гвардии Наполеона, на графине Валевской.
Привезенная Екатериной новость о рождении ребенка у Элеоноры сейчас же заставила императора подумать о красавице-графине. Раз он мог быть отцом, раз с его стороны не было никаких физических препятствий и неимение у империи до сих пор наследника зависело исключительно от Жозефины, то ведь графиня Валевская могла бы стать матерью? Так почему же ему не усыновить тогда ее ребенка? Ну, а если он и не решится на усыновление, то почему бы ему не поискать среди царствующих домов принцессы, на которой он мог бы жениться и которая подарила бы ему сына? Ведь дедушкой этого сына был бы прирожденный венценосец, могущий сохранить права престолонаследия внука в империи?
Наполеон долго перебирал в своем уме все эти проекты, внезапно воспылав жаждой жениться так, чтобы снять с себя клеймо «выслужившегося солдата». Его сын, ребенок, которого он будет иметь от женщины королевского происхождения, будет царствовать после него на правах престолонаследия по монархическому принципу. Уверенность в возможности стать отцом с другой женой явно поставила перед ним необходимость развода с Жозефиной как средства обеспечить его трону непоколебимость. Любовь к прекрасной польке побуждала Наполеона разорвать узы, уже столько времени приковывавшие его к Жозефине; теперь в первый раз ему пришло в голову, что она уже стара, и его мысль поспешно заработала, стараясь припомнить, какая именно молодая и приятная наружностью европейская принцесса была бы наиболее подходящей, чтобы стать императрицей Франции.
Эти размышления были прерваны Раппом, который явился с докладом, что армия двинулась в путь и что маршал Лефевр во исполнение приказания его величества приступил к торжественному вступлению в Данциг.
XVIII
Торжественное вступление в Данциг маршал Лефевр совершил 26 мая 1807 года. Он предложил своим коллегам-маршалу Ланну и маршалу Мортье — ехать рядом с ним вдоль расставленных двойными шпалерами солдат и принять вместе с ним приветствие и шпагу от маршала Калькрейта, который должен был продефилировать перед ними вместе с побежденным гарнизоном. Но Ланн и Мортье отказались: Лефевр один имел право на все эти почести, так как он один вынес на себе все труды и опасности этой достопамятной осады.
Все войска, участвовавшие во взятии Данцига, образовали почетную свиту, которая с развернутыми знаменами и барабанным боем шла за своим увенчанным славой командиром. Впереди шли инженерные войска. Из шестисот человек, составлявших это отборное войско, половина погибла в траншеях.
Заслуги саперов были признаны императором, и в приказе по армии, который был прочтен перед вступлением в Данциг, стояло следующее: «Крепость Данциг капитулировала, и наши войска займут ее сегодня в двенадцать часов дня. Его величество выражает свое удовлетворение осаждавшим войскам. Саперы покрыли себя неувядаемой славой».
Вся осада продолжалась пятьдесят один час. Неприступность позиций, количественное равенство сил осаждающих и осажденных войск, суровость климата, снег, дождь, грязь — все это содействовало длительности сопротивления.
Гарнизону Данцига сильно досталось от осаждавших. Из 18 320 человек живыми из города и соседних фортов вышло только 7120.
Моральный эффект взятия Данцига был очень значителен, да и материальный результат был не из плохих: Наполеон нашел во взятом городе массу провианта, состоявшего главным образом из зернового хлеба и вина. Драгоценный напиток оказался в этом холодном климате отличным возбуждающим средством и эликсиром здоровья и хорошего расположения духа для солдат.
Через два дня после вступления Лефевра в город Наполеон явился туда, чтобы осмотреть траншеи и произведенные работы. Он назначил в гарнизон Данцига 44-й и 151-й линейные полки и пригласил всех генералов на парадный обед, где Лефевру было отведено место по правую руку императора.
Перед обедом, в то время как все генералы и маршалы Лефевр, Ланн и Мортье ожидали прибытия императора, появился обер-гофмаршал Дюрок со шпагой, рукоятка которой была художественно сработана из золота и усеяна бриллиантами. За ним шел офицер с подушкой красного бархата, на которой лежала золотая корона. Дюрок со шпагой и офицер с подушкой расположились по обе стороны кресла, приготовленного для Наполеона.
Вскоре появился и император. На нем был обычный мундир полковника стрелкового полка, он улыбался и хитро поглядывал на подушку, корону и шпагу. Он остался стоять и торжественно сказал Дюроку:
— Потрудитесь предложить нашему дорогому и возлюбленному маршалу Лефевру подойти поближе!
Дюрок отсалютовал, передал Лефевру приказание, и сейчас же отправился к Наполеону.
Он машинально протянул руку, так как подумал, что император собирается публично поздравить его со взятием Данцига и по-товарищески пожать ему руку, но Наполеон продолжал:
— Господин обер-гофмаршал, благоволите предложить герцогу Данцигскому преклонить колени, чтобы принять пожалование его герцогским достоинством!
Услыхав этот неизвестный ему титул «герцога Данцигского» Лефевр обернулся недоумевая, не обратился ли император к кому-нибудь из стоявших сзади него, прусскому или русскому чиновнику, так как среди французов не было ни герцогов, ни герцогств. Но Дюрок наклонился к его уху и шепнул:
— Становись на колени!
Офицер-ассистент предложил Лефевру подушку под колени; после чего Наполеон взял корону и возложил ее ему на голову.
Лефевр был до такой степени поражен и оглушен всем происходящим, что никак не мог понять, что именно приделывается над ним, пока Наполеон, взяв шпагу и троекратно слегка ударив его ею по плечу, сказал с важностью священнодействующего жреца:
— Во имя империи, Божией милостью и по воле нации, я возвожу тебя, Лефевр, в достоинство и сан герцога Данцигского, дабы ты пользовался всеми преимуществами и привилегиями, которые нам благоугодно связать с этим саном! — Затем более нежным голосом он прибавил: — Встаньте же, герцог Данцигский и поцелуйте вашего императора!
Немедленно все барабанщики под окнами дворца забили «в поход», а генералы и офицеры, присутствовавшие здесь, поспешили с поздравлениями окружать новопожалованного герцога.
Это возведение выслужившегося солдата в герцогское звание было событием большой политической важности; звание герцога было уничтожено во время революции; когда-то ненавистное народу, теперь оно было почти забыто и звучало как-то странно.
Но это являлось следствием строгой системы, с помощью которой Наполеон хотел утвердить свой трон и династию, опираясь на нововозникшую аристократию. Он постарался путем всяких приманок, выгодных женитьб и назначений на придворные должности привлечь к своему двору представителей старинной аристократии, а теперь хотел создать новое дворянство, недостаток происхождения которого возмещался бы военной славой; и уже мечтал о том, как в будущем эти представители новой знати смешаются с потомками старой. Тогда будет заложено основание преданного ему и его династии дворянства, которое должно стать оплотом трона.
Мысль о создании нового дворянства соединялась у Наполеона с мечтой о разводе и надеждой на брак с принцессой из царствующего дома. Он хотел восстановить все былые социальные ступени и иерархию, хотел воздвигнуть пирамиду знати, на вершине которой в одиноком величии возносился бы он, император. Немного ниже его должны были стоять его братья, ставшие королями, а именно: Людовик, получивший Голландию, Жозеф — Испанию, Жером — Вестфалию; немного ниже их, сбоку — его зять Мюрат, король неаполитанский, Евгений, вице-король Италии, а еще ниже — принцы, великие герои сражений Ней, Бертье, герцоги Лефевр, Ожеро, Ланн, Виктор, Сульт, графы и бароны, среди которых должны были находиться администраторы, финансисты, дипломаты и наконец в самом низу — обыкновенное дворянство.
Таким строем Наполеон восстанавливал феодальный характер общественной иерархии, и в котел старинной Франции полными пригоршнями бросал революционный элемент.
Именно поэтому-то, решив восстановить уничтоженные титулы и создать новых герцогов и графов империи, он остановил выбор прежде всего на Лефевре. Легендарная храбрость, военные заслуги, неподкупная порядочность Лефевра — все оправдывало такое отличие, предлогом для которого было взятие Данцига, особенно в такое время, когда даже самые блестящие генералы вроде Массены были отпетыми жуликами. Но на самом деле, возводя Лефевра в сан первого герцога империи, Наполеон старался поразить этим актом армию и дать ей понять, каким образом образуется новая знать. Именно потому, что Лефевр был сыном крестьянина, что Наполеон знавал его еще сержантом гвардии, он и возвел его в такой высокий сан, делая его прототипом слуги, облагораживаемого верной службой.
Новый герцог, который вместе со шпагой и короной получил еще и денежную награду в сто тысяч ливров, разумеется, стал предметом всеобщей зависти. Но кроме того, это событие значительно увеличило геройство товарищей Лефевра по оружию; каждый из них втайне думал, что и ему тоже удастся добиться такого же отличия, какое выпало на долю этого бывшего сержанта, затем — добровольца 92-го полка и младшего офицера армии Самбр-э-Мёз.
Растроганный объятием императора, слегка стесненный короной, которая плохо держалась на голове, и не зная, куда девать герцогскую шпагу, Лефевр, теперь герцог, сказал поздравлявшему его Дюрану:
— Мне-то самому ровным счетом наплевать на всю эту мишуру, но вот кто будет здорово доволен, так это жена! Екатерина — герцогиня! Можешь себе представить это, Дюрок?! — Лефевр рассмеялся от чистого сердца. Вдруг он заметил в свите Ланна молодого офицера, принадлежавшего к старинному аристократическому роду и смотревшего на него с насмешливой улыбкой. Лефевр напрямик отправился к нему и обрушился на него со следующими словами: — Вы смеетесь надо мной потому, что я имею титул, которым обязан самому себе. Смейтесь, фатишка, смейтесь! Говорите с гордостью о своих предках! У каждого из нас имеется своя гордость: вы — потомок, а я — предок! — И, повернувшись спиной к смущенному аристократу, Лефевр сказал Дюроку: — Дорогой маршал, когда же император даст сигнал садиться за стол?
— Вы голодны, Лефевр?
— Нет, но чем скорее император отобедает, тем скорее мы освободимся, а я чувствую бешеное желание поскорее расцеловать и поздравить ее светлость герцогиню Данцигскую!
— 4 — Прачка-герцогиня
Почему Наполеон не женился на сестре Александра I, почему он развелся с Жозефиной, которая, как считали в народе, приносила счастье ему и армии, как император женился на молодой австрийской принцессе Марии Луизе — обо всем этом вы узнаете из романа «Прачка-герцогиня».
I
Ждали императора.
Победоносный властитель судеб Европы, предложив России свою дружбу и предписав Пруссии свою волю, в ближайшее время должен был совершить торжественный въезд в Париж. Согласно его приказаниям, Жозефина должна была устраивать приемы, приглашать членов дипломатического корпуса и поддерживать императорское достоинство. В честь новой герцогини Данцигской в Тюильри тоже был устроен торжественный вечер.
Весь большой свет, живший и интриговавший вокруг Жозефины, живо интересовался этим приемом. Все спрашивали друг друга с усмешкой, как это удастся новоявленной герцогине поддержать свой ранг. Тут было раздолье для злых языков. С плохо подавляемым смехом вспоминали, что герцогиня была когда-то прачкой.
Большинство из этих брызгавших ядом женщин было низкого происхождения, и не у одной из них в прошлом бывали темные истории и скандальные анекдоты. Но добрая Екатерина пользовалась незапятнанной репутацией, ее любовь к мужу слыла даже чудачеством.
Прачка, маркитантка, генеральша, жена одного из старших офицеров империи, а впоследствии даже и маршала, во время своего благородного существования как дочери народа, превратившейся в знатную даму, знала только одну-единственную любовь — это к Лефевру, своему мужу.
Он же, со своей стороны, хранил ей полную верность, крайне редкую среди вояк империи. Он не обладал даже простительными и допускаемыми его положением слабостями: Наполеон мог мимоходом обманывать императрицу, а Лефевр только покачивал головой и говорил: «Это — единственная область, в которой я не буду следовать примеру императора?» — а потом с откровенным смехом простодушного героя прибавлял, обращаясь к своим адъютантам, менее щепетильным в этом отношении:
— Видите ли, если бы я обманул мою Катрин, то это помешало бы мне как следует потрепать пруссаков! Я стал бы все время думать об этом, терзаться угрызениями совести, ну а когда приходится сражаться подобно нам — одному против двадцати, тут необходимо иметь совершенно чистое сердце!
Честный Лефевр нисколько не стыдился своей супружеской верности. Впрочем, необходимо заметить, что в отношении порядочности, верности и героизма он составлял счастливое исключение среди своих соратников. Этот деревенский Ахиллес, вышедший из народа, отказавшийся когда-то стать коллегой Карно и Барраса в директории, так как не считал себя способным для этого, любил только три вещи на свете: жену, родину и императора. Остальные маршалы смеялись над ним и не следовали его примеру; впоследствии они с такой же легкостью обманули Францию и Наполеона, с какой изменяли своим женам, не остававшимся, впрочем, в долгу перед ними.
Вечер у императрицы был уже в полном разгаре, когда появилась Екатерина Лефевр, Каролина и Элиза, сестры Наполеона соперничали в дерзости и бесстыдной распущенности. Каролина, супруга Мюрата, была королевой неаполитанской, Элиза же обладала только княжествами Лукка и Пьомбино. Отсюда проистекали глухая вражда и эпиграмматическая война между сестрами.
В блестящем кружке, теснившемся вокруг Жозефины, на первом плане виднелся Жюно, губернатор Парижа, бывший сержант, которого Наполеон сделал своим адъютантом, а потом и дивизионным генералом; он все время вертелся около королевы неаполитанской.
Их связь уже давно стала достоянием скандальной хроники двора. Карета Жюно оставалась во дворе дома Каролины до очень поздних часов. Мюрат, занятый войной, не подозревал ни о чем. Жюно, первоклассный стрелок из пистолета, неоднократно хвастался, что сделает Каролину вдовой по первому ее желанию. Их сдерживало единственное опасение: приезд императора. Во время его отсутствия все при дворе распускались до последних пределов, не зная ни границ, ни меры. Но достаточно было одного только известия о его прибытии, как все эти рептилии, из которых воля, слава и гений Наполеона сделали видных особ, становились тише воды, ниже травы. Только две отвратительные мегеры, которых он имел несчастье звать своими сестрами (Полина Боргезе, сестра Наполеона, которая после смерти первого мужа, генерала Леклерка, вышла замуж за римского аристократа Камилла Боргезе, как самая обыкновенная проститутка, не могла идти в счет), решались бравировать гневом грозного завоевателя. Он имел безумие любить, обожать своих родных, несмотря на все их ничтожество, и осыпать их своими милостями. Но история Каролины с Жюно сильно рассердила его после возвращения в Париж. Он упрекал Жюно в явной компрометации неаполитанской королевы и в наказание сослал его в Португалию, дав звание посланника и сан герцога д'Абрантеса. Как видно из этого, гнев Наполеона не был слишком страшен, когда обрушивался на старых солдат, не имевших других заслуг, кроме его расположения, и мечтавших, подобно этому ничтожному Жюно, стать наследником его трона, женившись на его сестре.
В тот день, когда Екатерина Лефевр должна была отправиться к Жозефине, ее муж, бравый маршал, завтракал с императором.
Во время завтрака, который подавал камердинер Констан, Лефевр совершил несколько неловкостей. Каждый раз, когда Наполеон обращался к нему со словами: «господин герцог», Лефевр вздрагивал и оборачивался, разыскивая глазами того человека, которому было адресовано это обращение.
Наполеон любил пошутить. Он знал, что Лефевр честен и беден. Он сделал его герцогом, а теперь захотел сделать его также и богатым человеком.
За завтраком, на котором присутствовал еще и Бертье, он вдруг спросил маршала:
— Вы любите шоколад, герцог?
— Да, ваше величество! Я очень люблю шоколад, если вам угодно; люблю все, что вы любите!
— Ну ладно, так я подарю вам фунт. Это данцигский шоколад. Должны же вы попробовать изделие того города, который вы завоевали.
Лефевр молча поклонился. Он не всегда понимал, что говорил ему император, и зачастую боялся ответить какой-нибудь глупостью, а потому в таких случаях он молчал и ждал, что будет дальше.
Наполеон встал, взял с маленького столика коробочку, достал оттуда продолговатый пакет, имевший форму фунта шоколада, и протянул его Лефевру, говоря:
— Герцог Данцигский, примите этот шоколад. Маленькие подарки укрепляют дружбу!
Лефевр без церемоний взял пакет, засунул его в карман мундира и снова уселся за стол, сказав:
— Благодарю вас, ваше величество, я отдам это в госпиталь. Говорят, что для больных шоколад очень полезен.
— Нет, — улыбаясь, ответил император, — пожалуйста, не отдавайте никому и оставьте у себя. Очень прошу вас об этом!
Лефевр поблагодарил, но внутренне выругался: «Что за странная идея у императора дарить мне шоколад, словно любовнице!»
Завтрак шел своим чередом.
Наконец подали пирог, представлявший собой город Данциг, мастерское произведение императорского повара. Император обратился к Лефевру:
— Невозможно было бы дать пирогу другую форму, которая больше бы понравилась мне! Вам, господин герцог, принадлежит право первому дать сигнал к атаке. Это — ваша добыча, так вы и должны первым оказать ей честь! — И с этими словами Наполеон передал Лефевру нож.
Маршал разрезал пирог, и все трое нанесли крепости жестокое поражение зубами.
Маршал вернулся к себе в восторге от любезности императора.
— Как жалко, что там не было Катрин! — сказал он, вздыхая. — Я не помню, чтобы его величество был в лучшем настроении. Но что за странный подарок — этот данцигский шоколад!
Он машинально развязал пакет, данный ему Наполеоном. Там под шелковой бумагой оказались триста тысяч франков ассигнациями. Это был подарок новому герцогу для поддержания его ранга. С того времени между военными (Лефевр и не подумал скрывать милость императора) всякие неожиданные награды получили название «данцигского шоколада».
Благоволение императора к маршалу должно было бы защитить его жену от всякого злоречия и язвительных уколов, но обе сестры Наполеона и те дамы, которые заискивали перед ними, не желали упустить такой благоприятный момент, как прием у императрицы, чтобы лишний раз поиздеваться над Екатериной и попрекнуть ее низким происхождением.
Обстоятельства благоприятствовали этим ядовитым бестиям.
Екатерина Лефевр в парадном туалете, с искусной прической, вздымавшейся на голове в виде громоздкого сооружения, на вершине которого развевался громадный ток из белых страусовых перьев, в придворном платье с длинным шлейфом и в крайне стеснявшей ее мантии из светло-голубого бархата с золотыми пчелками и с герцогскими коронами, вышитыми по углам, появилась на пороге салона сияющая и в то же время смущенная.
Утром она вместе с Деспрео упражнялась в церемониале представления в качестве герцогини, место которой было подле императрицы наравне с королевами и, желая не ударить в грязь лицом, мысленно повторяла свою роль.
Толстый, величественный, краснолицый дворецкий, который уже много раз прежде впускал ее в Тюильри, поспешил провозгласить как можно громче:
— Ее высокопревосходительство супруга маршала Лефевра!
Екатерина повернулась к нему в пол-оборота и пробормотала:
— Ах прохвост! Он не знает своей роли.
Тем временем императрица, сойдя с трона, пошла навстречу Екатерине. Всегда очень любезная, Жозефина такими словами приветствовала жену победителя северной крепости:
— Как поживаете, герцогиня Данцигская?
— Что мне делается? Я крепка, как Новый мост! — без стеснения ответила Екатерина. — Ну а вы, ваше величество, надеюсь, тоже здоровы? — Затем, повернувшись к невозмутимому дворецкому, она сказала ему с жестом полного удовлетворения: — Что, съел, мошенник?
Герцогиня при подавленных смешках и многозначительных перемигиваниях заняла место в кругу дам.
Хотя императрица и старалась смягчить всеобщую недоброжелательность, обращаясь к новой герцогине с милостивыми словами, но Екатерина заметила, что над нею смеются Она стиснула зубы, чтобы не наброситься на этих нахалок и не заткнуть им глотки.
— Что нужно от меня этим фуриям? — пробормотала она. — Ах, если бы император был здесь, вот-то отвела я бы душеньку, отчихвостив их как следует!
В то время как среди дам поднялся оживленный разговор, темой для которого была Екатерина, взбешенная, что не может ничего ответить им, к ней подошел какой-то выбритый субъект с худощавым, хитрым лицом, на которого большинство придворных смотрело с особым вниманием, казавшимся одновременно полным как презрения, так и страха.
— Вы не узнаете меня, герцогиня? — спросил он, кланяясь Екатерине с притворной вежливостью.
— Нет, никак не могу узнать, — ответила Екатерина, — а между тем я готова поклясться, что когда-то прежде мы с вами встречались.
— О, да! Мы старые знакомые. Но встречались мы с вами в те давно прошедшие времена, когда вы… еще не были облечены тем высоким саном, с которым я имею честь поздравить вас ныне!
— То есть вы хотите сказать — когда я была прачкой? О, не стесняйтесь, пожалуйста, я нисколько не стыжусь прошлого. Да и Лефевр тоже. Я до сих пор храню в шкафу свой скромный костюм работницы, а Лефевр сохраняет мундир сержанта гвардии!
— Ну так вот, герцогиня, — продолжал этот человек с вкрадчивой речью и мягкими манерами, в которых что-то напоминало отчасти священника и весьма — бандита, — в ту отдаленную эпоху я однажды имел удовольствие находиться в вашем обществе на одном из общественных балов. Ведь я был вашим клиентом, почти другом. И вот уличный чародей предсказал вам, что вы станете герцогиней.
— Да, я помню этого предсказателя счастья. Сколько уж раз мы с Лефевром вспоминали его! Ну, а вам-то он что-нибудь предсказал тогда?
— Как же! Мне он тоже составил гороскоп и предсказал будущее. Его предсказания мне так же сбылись, как и у вас!
— Неужели? А что он предсказал вам?
— Что я стану министром полиции, и я стал им! — ответил он с тонкой улыбкой.
— Так вы — господин Фушэ! — вздрогнув, сказала Екатерина, несколько обеспокоенная соседством этого страшного человека, в котором она женским инстинктом угадывала предателя.
— К вашим услугам, герцогиня! — произнес он шепотом, склоняясь перед ней в изысканном придворном реверансе, а затем поспешил сейчас же предложить свои услуги, так как, видя доказательства особой милости императора к Лефевру и его жене, хотел завоевать расположение новоявленной герцогини. — У вас здесь найдется немало завистников, даже врагов, так позвольте мне оградить вас от некоторой опасности. Не давайте этим дамам пользоваться вашей неосторожностью, а отчасти и незнанием придворных обычаев.
— Вы очень милы, господин Фушэ, — добродушно ответила Екатерина. — Я с благодарностью принимаю ваше предложение. Вы давно знакомы со мной и знаете, что я не люблю церемоний. Но я отлично понимаю, что бывают вещи, о которых нельзя говорить в обществе. Но только я зачастую не отдаю себе отчета, развяжу язык — и поехало! Вы-то понимаете в этом толк, так как министру полиции надо все знать и уметь быть хитрым.
— Существуют вещи, которые я знаю, и такие, которых я не знаю, — скромно ответил Фушэ. — Так вот, герцогиня, не разрешите ли вы мне кричать «огонь» — ну, как это делается в игре в жмурки! — говорить это всякий раз, когда вы слишком смело понесетесь прямо в одну из тех западней, которыми обильно усеян наш двор.
— С удовольствием, господин Фушэ, вы бесконечно обяжете меня! Ведь я не имею никакого понятия о придворных обычаях. Да и откуда знать их мне, бросившей утюг для того, чтобы взяться за манерку маркитантки!
— В таком случае следите за мной и каждый раз, когда я ударю вот так, двумя пальцами по табакерке, остановитесь. Это значит «огонь»!
Фушэ при этих словах два раза слегка ударил по эмалированной коробочке, в которой держал нюхательный табак.
— Хорошо, господин Фушэ, я не буду терять из виду ни вас, ни вашу табакерку!
— Главное — мою табакерку!
Покончив с этим, они последовали за императрицей, которая повела приглашенных в соседний салон, где был накрыт ужин.
II
Злословие и сплетни в адрес Екатерины Лефевр не прекратились и с переходом общества в столовую.
Королева неаполитанская Каролина и ее сестра Элиза собрали вокруг себя кое-кого из добрых друзей, которые надрывались в насмешках по поводу новоявленной герцогини, припомнив следующий пикантный анекдот.
Однажды исчез очень красивый бриллиант, который хранился у Екатерины в шкатулке с драгоценностями. Она очень быстро заметила эту пропажу и заподозрила полотера, так как только он один и мог пробраться в комнату, где был этот ларчик. Рыцарь вощения полов энергично отпирался. «Обыскать его!» — приказал полицейский агент, которого позваи слуги из боязни, чтобы не заподозрили и их. Полотера обыскали по всем правилам искусства, его даже раздели донага, но ничего не нашли.
— Эх, дети мои! Ничего-то вы в этом не понимаете! — сказала Екатерина, присутствовавшая при обыске. — Если бы вам пришлось, подобно мне, видеть за работой Сен-Жюста, Леба, Приера и других комиссаров конвента, которым чуть не ежеминутно приходилось обыскивать солдат, сержантов и даже полковников, мародерствовавших среди населения, тогда вы знали бы, что для мошенников существуют другие тайники, кроме карманов, чулок и шляп. Ну-ка, пустите меня!
И затем с обычной бесцеремонностью, которая могла бы показаться очень смешной, если бы в данном случае дело не грозило кончиться для обыскиваемого трагически, Екатерина лично принялась обыскивать раздетого донага полотера и вскоре вытащила украденный бриллиант из такого интимного отверстия, что полицейскому даже в голову не пришло искать.
Это приключение наделало много шума, и добрые души из придворных дам не могли удержаться от смеха, когда в ответ на их лицемерно участливые просьбы Екатерина наивно рассказала им все детали своего обыска.
Элиза хотела доставить себе и обществу удовольствие, заставив герцогиню рассказать эту историю в присутствии императрицы. Она постаралась навести Екатерину на эту тему, и та уже была готова попасть в расставленную ей ловушку, когда легкое покашливание заставило ее обернуться.
Она увидала, что стоявший в нескольких шагах от нее Фушэ нервно барабанил по табакерке.
«Черт возьми! Он мне кричит «огонь»! Значит, я опять чуть-чуть не сделала глупости! Хорошо, что Фушэ предупредил меня. Я считаю его канальей чистейшей воды, но он все же может дать хорошее указание», — подумала Екатерина и, будучи очень умной и смелой, решила сейчас же проучить всех этих псевдовеликосветских дам, которые стали богатыми и сановитыми только благодаря милостям Наполеона.
Она подошла к кружку насмешниц и, глядя в упор на Каролину и Элизу, сказала им со смутившей их иронией:
— Черт возьми, ваше величество и вы, ваша светлость, вы делаете слишком много чести такой бедной женщине, как я, разговаривая о том, как мне удалось поймать воришку… опасного вора, злодея-вора, лакея, полотера, который не был ни маршалом, ни королем, ни родственником императора. Таких бездельников только и ловят, других же берегут, перед ними пляшут, приседают! Нет, ей-Богу, я была не права, что не оставила украденного бриллианта этому несчастному, раз столько коронованных воришек спокойно грабят империю и делятся между собой награбленным у бедной Франции добром!
Слова Екатерины произвели громовое впечатление на блестящую свиту неаполитанской королевы. Фушэ подошел поближе и бешено забарабанил пальцами по табакерке.
Но Екатерина закусила удила, она не хотела останавливаться и, притворяясь глухой к предупреждениям Фушэ, продолжала, в упор глядя на пришедших в ужас дам:
— Да, да, император слишком добр, слишком слаб! Он, который не знает, что такое деньги, он, воздержанный, экономный, способный прожить на капитанское жалованье, дает всем проходимцам, которых его милость подняла из рядов подонков общества, возможность грабить, воровать, открыто разорять нацию и утаивать народные деньги. Да, да, не полотеров, которые пользуются драгоценностями, брошенными в комнате, а маршалов и королей, созданных императором, следовало бы обыскать как следует, раздеть донага!
Голос Екатерины дрожал от злобы. Сильная непоколебимой честностью Лефевра, Екатерина Сан-Жень полными пригоршнями кидала правду прямо в лицо нахалкам, проходимцы-мужья которых грабили империю, дожидаясь, пока можно будет изменить императору.
Каролина неаполитанская была смела, да и гордость от сознания, что она королева, еще больше придавала ей храбрости.
— Герцогиня, вероятно, хотела бы вернуть нас к эпохе республиканских добродетелей! — сказала она с презрительным смехом. — О, вот-то были славные времена, когда все говорили друг другу «ты», а человек, слишком часто мывший руки, уже вызывал подозрение!
— Не смейте оскорблять солдат республики! — промолвила Екатерина дрожащим голосом, — они все были героями, как Лефевр! Они сражались не так, как сражаются ваши мужья, ваши любовники, — ради чинов, привилегий, майоратов, ради возможности нажиться за счет народных денег. Солдаты республики сражались, чтобы освободить угнетенный народ, чтобы разбить оковы рабства, прославить Францию и защитить свободу. Те, кто явился после них, сражаются тоже храбро, но их привлекает не сама слава, а то, что она может принести. Они ищут лишь добычи, которая загромождает фургоны кавалеристов, предводительствуемых — правда, с большой отвагой — вашим королем Мюратом. Император не видит, что в тот день, когда войскам придется думать не о наживе, а о том, как защищать родину, когда им придется бороться за опустошенный Эльзас, быть может, даже за Шампань, — все эти славные победители потребуют отдыха. Никто из них не захочет сражаться за отечество ради одной только чести; все потребуют мира, все заголосят, что Франция истощена, что ей необходим отдых. Да, нашему дорогому императору еще придется пожалеть о солдатах республики! Когда в минуту опасности он будет искать вокруг себя друзей, то найдет только мужей королев, которым очень важно будет прежде всего сохранить случайно добытые ими троны!
Каждое слово было пощечиной для смущенных принцесс. Элиза резко встала и сказала Каролине:
— Пойдем отсюда, сестра; мы не умеем разговаривать на одном языке с прачкой, которую слабость нашего брата сделала герцогиней!
Обе они покинули зал с оскорбленным видом и сухим поклоном императрице, которая не могла понять, из-за чего рассердились ее свояченицы.
Фушэ подошел к Екатерине и сказал с легкой улыбкой:
— Вы говорили немножко слишком резко, герцогиня! Ведь я изо всех сил барабанил тревогу на табакерке! Но вы понеслись, и ничего не могло бы остановить вас!
— Не беспокойтесь, господин Фушэ, — спокойно произнесла Екатерина, — я лично расскажу все императору, и когда он узнает, как все это произошло, он только похвалит меня!
III
22 июня 1807 года Франция торжествовала победу. Лефевр взял Данциг; 14 июня Наполеон нанес поражение русской армии при Фридланде, а Сульт овладел Кенигсбергом.
14 июня была славная годовщина, и суеверный Наполеон назначил генеральное сражение на это чис-бо, бывшее днем Маренго.
Вся русская армия под командой генерала Беннигсена шла на Фридланд, чтобы прикрыть Кенигсберг. Около Фридланда извивается река Аль, на которой было наведено много мостов. Маршал Ланн с 10000 гренадеров и стрелков Удино, с гусарами и драгунами Груши поспешил преградить дорогу русской армии.
В три часа утра был открыт огонь. Дело обещало быть жарким и решительным. Это был натиск всех сил, которыми располагал русский император Александр, обещавший Фридриху Вильгельму попытаться решительным боем спасти Пруссию.
Ланн, у которого было гораздо меньше войск, находился в большой опасности, когда Мортье вывел в бой дивизион Дюша. В этот момент ядром убило лошадь под маршалом Мортье, но судьбой ему не суждено было умереть в этот момент. Ему пришлось встретить смерть не под неприятельским огнем в пылу сражения: много лет спустя, на бульваре Тамполь во время парада национальной гвардии он был поражен насмерть взрывом адской машины Фьекки, покушавшегося на Людовика Филиппа.
Сопротивление, оказанное Ланном, дало Наполеону возможность подойти. Он скакал галопом впереди своего эскорта, сияя доверчивой надеждой, в нетерпении поскорее лично вмешаться в дело и повести войска к победе.
Удино, весь окровавленный, в изорванном мундире, крикнул императору на ходу:
— Поторопитесь, ваше величество! Мои генералы больше не могут выдержать. Но дайте мне только подкрепление, и я прогоню русских ко всем чертям за реку.
Наполеон ответил безмолвным жестом и, остановив лошадь, стал в бинокль рассматривать поле сражения.
День уже клонился к вечеру. Ланн, Мортье, Ней, окружившие императора, советовали отложить продолжение сражения до следующего дня, говоря, что к этому времени по крайней мере можно будет собрать всю армию.
— Нет! — ответил император. — Необходимо продолжить то, что вы начали так хорошо. Не каждый раз удается поймать неприятеля на такой ошибке!
И он стал объяснять внимательно слушавшим маршалам, как он собирался смять русских, не принявших во внимание извилистого русла Аля, которое не позволит им развернуть надлежащим образом свои силы. С поразительной дальновидностью он тут же распорядился занять город Фридланд. Но для успешного выполнения намеченного следовало произвести атаку справа и отбросить русских к реке. Однако для того чтобы выполнить это смелое движение, надо было сначала поручить верному и бесстрашному командиру овладеть мостами, и с этим поручением император обратился к храбрейшему из храбрых, маршалу Нею.
Наполеон резко схватил его за руку и сказал, показывая на Фридланд:
— Вот туда следует идти! Ступайте все прямо и прямо, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам! Врежьтесь в эту толпу людей и пушек! Разрушьте мосты! Займите Фридланд во что бы то ни стало! Не заботьтесь о том, что будет происходить справа, слева, сзади. Я останусь около армии, чтобы следить за всем и быть начеку. Ступайте, маршал, и дайте Маренго другую бессмертную годовщину!
Ней отправился в бой с таким энтузиазмом, что император, показывая на него, сказал Мортье:
— Теперь Ней уже не человек, а лев!
В то время как герой, которому было суждено погибнуть от пуль убийц реставрации, шел к мостам, энергично защищаемым русскими, Наполеон собрал своих генералов и с поразительным хладнокровием стал диктовать им свои инструкции из боязни, чтобы в пылу проведения намеченных маневров не были забыты его указания и желания.
Он поместил Нея справа, Виктора — между Неем и Ланном, Мортье — немного спереди, а позади — поляков под командой Домбровского и драгунов Латур-Мобура. Расположенная таким образом французская армия представляла собой внушительную массу в восемьдесят тысяч человек.
Приказание не наступать на левый фланг и ждать, пока русские будут смяты справа, было отлично понято и великолепно выполнено.
Огонь почти смолк. Русские думали, что сражение кончено по крайней мере на этот день. В молчании, которое было похоже на затишье, обыкновенно предшествующее взрыву бури, французская армия располагалась группами по намеченному Наполеоном плану сражения. Сигнал к началу боя должна была дать батарея из двадцати пушек, около которой поместился сам император.
Наполеон хотел дать передохнуть тем, кто держал в своих руках его счастье и славу Франции. Не обращая внимания на нетерпеливые вопросы генералов и выклики солдат, которым хотелось броситься на неприятеля, он спокойно дожидался окончания того обходного движения, которое должно было произойти согласно намеченному им плану, и только тогда дал сигнал.
Ней двинул своих людей вперед. Это было каким-то схождением в геенну огненную. Русская артиллерия расстреливала атакующих, и опустошения, вызываемые огнем, оказались столь значительны, что из колонн вырывались целые ряды сплошь, и пехота дивизиона Биссона остановилась в нерешительности.
Тогда Наполеон приказал генералу Сенармону перенести орудия в упор против русских батарей. Генерал отважно расположил свои орудия под огнем неприятеля, и сражение вновь разгорелось.
Русские, смятые беглым артиллерийским огнем, сами попали в мышеловку, поставленную Наполеоном. Тогда спрятанная в лощине императорская гвардия двинулась со штыками наперевес на русские войска. В страшной резне русские вынуждены были отступить, мосты были разрушены, сожжены, и маршал Ней соединился с генералом Дюпоном среди объятого пламенем Фридланда.
Словно механик, нажимающий на каждый рычаг в определенное для этого время и таким образом управляющий хорошо выверенной машиной, Наполеон приказал двинуть всю армию. Натиск отличался стремительностью и силой. Русская армия в беспорядке отступила под покровом мрака.
Было десять часов вечера; победоносный Наполеон, сойдя с лошади, закусил куском хлеба из пайка, который ему протянул солдат; это было его первой едой за весь день.
В тот момент, когда он подходил к бивуачным огням, чтобы обсушить промокшие при переправе через ручей сапоги, из рядов армии Ланна раздался громкий восторженный крик:
— Да здравствует император всего Запада!
Услыхав этот новый титул, которым окрестили его солдаты, Наполеон не сделал ни малейшего жеста удовлетворения или гордости; он только задумался и пробормотал:
— Император всего Запада! Это славный титул. Ах, если бы император Александр захотел вступить со мной в соглашение! Вдвоем мы разделили бы с ним весь мир!
И глубокий вздох вырвался из его груди.
Это было началом того, что называют наполеоновским безумием; союз с Россией был первым симптомом умственного расстройства великого человека, первым шагом к пропасти.
19 июня Наполеон дошел до берега Немана, реки, отделяющей Восточную Пруссию от России. Великая армия, отправившаяся из Булони в сентябре 1805 года, триумфальным шествием прошла через всю Европу.
После того как Австрия была раздавлена при Аустерлице, Пруссия уничтожена при Иене, Россия побеждена и деморализована при Фридланде, что же оставалось еще? Заключить мир? Да, но только с Англией, Австрией, Пруссией, а не с Россией, которая только искала случая, чтобы наброситься на Францию, дочь революции с неизменно демократическими убеждениями. К сожалению, Наполеон не предусмотрел этого.
Тайлеран и Фушэ — два великих предателя, близко стоявших к Бонапарту, — нашептывали ему о возможности женитьбы на великой княжне Александре Павловне, сестре русского императора. В данном случае они воздействовали на тайные мечты Наполеона жениться на принцессе царствующего дома, чтобы иметь наследника, дедушка которого занимал бы трон не по праву победителя, а в силу божественного права престолонаследия.
Великой княжне Александре Павловне в то время было около пятнадцати лет. Она была маленького роста и обещала быть очень красивой. В ней находили сходство с императрицей Екатериной Великой, особенно в орлином изгибе носа. Тщательно воспитанная княгиней Ливен, великая княжна обещала быть достойной супругой могущественного властителя.
Но в данном случае физические и нравственные достоинства значили очень мало. Наполеона, уже решившего порвать с Жозефиной, занимала только возможность союза с императором Александром, а потому он очень приветливо встретил князя Багратиона, явившегося предложить ему от имени русского императора мир.
Багратион предложил Наполеону устроить свидание императоров. Бонапарт был в восторге от возможности лично познакомиться с великим русским монархом, которого он победил и которого в тайниках своей души, недоступных ни для кого на свете, надеялся в скором времени назвать не только другом, но и шурином.
Свидание было назначено в Тильзите в час дня 25 июня 1807 года.
Генерал Ларибуазьер соорудил на Немане плот, на котором был построен павильон, украшенный тканями и коврами, найденными в Тильзите.
Наполеон и Александр одновременно отчалили от берегов и в час дня одновременно вступили на плот.
Наполеона сопровождали Мюрат, Бертье, Бесьер, Дюрок и Коленкур; свиту императора Александра составляли великий князь Константин Павлович, генералы Беннигсен и Уваров, князь Лобанов и граф Ливен.
Взойдя на плот, оба императора расцеловались на виду у обеих армий, расположившихся по берегам: крики «ура» и радостные возгласы приветствовали эту торжественную дружественную демонстрацию.
Декорация, на фоне которой происходило это свидание, отличалась странностью и меланхоличностью. Куда ни доставал глаз, везде виднелась бесконечная, бесплодная пустыня. Узкий Неман катил илистые воды по этим наносным землям, посреди которых виднелся маленький городок Тильзит, важный рынок Литвы; около города был высокий холм, на котором тевтонские рыцари когда-то построили укрепленный замок.
На правом берегу Немана виднелись мохнатые, страшные казаки с длиннейшими пиками в руках, сидевшие на лошадях такого же дикого вида, как и они сами; затем башкиры с примитивными колчанами и луками, мохнатые, бородатые люди с приплюснутыми носами, напоминавшие о нашествиях азиатских народов в былые дни. Рядом с этими восточными инородцами держалась русская гвардия, корректная, внушительная, вызывавшая восхищение высоким ростом солдатки строгостью зеленых мундиров с красной выпушкой. А левый берег был усеян толпой героев, испещренных нашивками, увенчанных плюмажами, разукрашенных прошивками, доломанами и меховыми шапками.
Сбежались и литовцы, и их крики «виват» смешались с возгласами обеих армий. Оба императора поцеловались, примирились — значит, теперь наступил мир, деревни перестанут быть местом боев, обработанные поля уже не будут вытаптываться кавалеристами и провозимыми пушечными лафетами. Значит, и оба народа тоже расцелуются и примирятся, как это только что сделали оба императора в этом павильоне, выросшем на воде посреди реки, оба берега которой как бы связывались таким образом новым союзом.
Повсюду слышались возгласы радости. Самые отчаянные рубаки были не прочь отдохнуть немного и вернуться во Францию, чтобы побыть с женами и покрасоваться рубцами и нашивками. В своей наивности все эти герои принимали за выражение искренности, за точное выражение мыслей государей то, что на самом деле было чисто дипломатическим поцелуем. Дальнейшие события не замедлили доказать им, что у политики нет сердца и что два государя могут наисердечнейшим образом целоваться, чтобы потом биться насмерть.
Не следует представлять человеческую природу хуже, чем она есть на самом деле. Быть может, император Александр Павлович был чистосердечен и искренен в этом сердечном приветствии Наполеона, с которым позднее отказался вступить в переговоры, считая его бандитом, человеком вне закона, так как он не был рожден королевой, потому что его корона была дарована ему шпагой и славой, потому что он олицетворял собой демократию, право гения добывать то, что другими наследуется. Император Александр был совсем молодым. Это был чистейший славянин, человек нервный и подвижный, впечатлительный, склонный к быстрой перемене решений. Ему было всего двадцать восемь лет, и, несмотря на свое поражение, он испытывал известную гордость при мысли, что ему пришлось помериться силой с победителем Европы, который при Эйлау и Фридланде не так-то легко справился с ним.
Поцеловавшись, оба государя заперлись в павильоне и приступили к переговорам.
На правом берегу блуждала еще третья личность меланхолически мещанского вида, внушавшая презрение и, быть может, жалость. Это был прусский король. Фридрих Вильгельм не получил приглашения присутствовать при свидании императоров; он поручил императору Александру защищать свои права и с боязливым нетерпением дожидался конца переговоров.
Оставшись с глазу на глаз, Наполеон, бросив на императора Александра один из тех чарующих взглядов, в которые умел вкладывать массу силы, сказал с глубокой сердечностью:
— К чему мы воюем? Нам следует побить одну только Англию!
— Если вы сердитесь на Англию и только на нее, то мы скоро сойдемся с вами, — ответил император Александр. — Я одинаково с вами ненавижу англичан: они обманули меня, бросили в минуту опасности.
— Если вы полны такими чувствами, то мир заключен! — сказал Наполеон, резко пожимая ему руку.
Разговор перешел на причины того недовольства, которое испытывала Россия против Англии.
Наполеон поклялся завоевать дружбу императора Александра, так как был очень занят мыслью о союзе с Россией. Он уже видел, что Англия будет окончательно раздавлена, а ее политическая роль будет кончена благодаря единодушию двух великих держав. Желая очаровать молодого царя, Наполеон уступал по всем пунктам. Он был победителем, и все-таки ему предписывали условия. В этот решительный и мрачный момент своей карьеры он безумно пожертвовал самыми явными интересами Франции ради двойной химеры — иметь союзниками казаков и башкир и стать супругом русской принцессы.
Император Александр не расставлял Наполеону никакой западни. Это сам Наполеон, поглупевший, сошедший с ума, опьяненный мыслью иметь Россию союзницей, императора Александра — другом, а его сестру — женой, все выпустил из рук, уступил, бросил…
Из всех ошибок, сделанных Наполеоном в последние годы его царствования, только одна была капитальной: в Тильзите, будучи безусловным хозяином положения, ему следовало восстановить польское королевство, а он, не сделав этого, лишил Запад его естественной защиты от угрожающего панславизма. Эта ошибка стоила Франции Ватерлоо, Седана и двух нашествий.
Наполеон хотел пленить императора Александра при этом знаменитом свидании, которое много раз было неправильно понято, ошибочно истолковано, но сам был обольщен им. В угоду своему новому другу, русскому царю, он пожертвовал Турцией, старинной и надежной союзницей Франции. Он обещал Оттоманской Порте никогда не вступать в переговоры с русскими, вечно стремившимися завладеть выходом в Средиземное море и взять Константинополь. Он позабыл это обещание, которое являлось задачей всей французской дипломатии, и дозволил императору Александру завладеть Молдавией и Валахией, и вместе с тем пожертвовал русским Персию. Что касается Польши, то, несмотря на слезы и чары прекрасной графини Валевской, отдавшейся ему напрасно, он предал ее. Эта спасительная преграда, этот оплот из народа и областей, малодоступных для набега, сделались не более как историческим выражением, над которым посмеется забывчивое потомство.
Что же предлагал красавец Александр в обмен за все эти дары, за все эти отданные ему во власть народы и уступленные территории? Он отделывался одними обещаниями, благосклонными улыбками, любезностями. Он заявил, что охладел к Англии, и, льстя династической мании Наполеона, соглашался признать новых королей, его братьев, только что возведенных им на шаткие троны. К чему обязывал его этот шаг? В дни бедствий император Александр мог преспокойно предоставить этим тронам рушиться и исчезать этим королям, которых он признал на минуту чисто из вежливости, и он же, как послушное орудие в руках Англии, нанес впоследствии смертельный удар поверженному гиганту. Рука Александра доконала его и кинула благородные останки героя во власть британского леопарда.
Маскируя лестью свое настоящее впечатление, русский государь, крайне холодный и превосходно владевший собой, видя, как легко в угоду ему Наполеон предавал своих верных союзников, как, например, Турцию, и отказывался воскресить Польшу, — вероятно, усомнился в прочности союза с Францией; с этой минуты он решил сдерживаться и оставаться другом великого человека лишь до первого поражения.
При прочих свиданиях, последовавших в нейтральном Тильзите, на которых император Александр неизменно обедал с Наполеоном, последний вздумал открыть перед честолюбием своего гостя неожиданную ослепительную перспективу.
Дворцовая революция обеспечила низложение султана Селима. Наполеону показалось ловким маневром предложить императору Александру раздел Турецкой империи. Русскому царю очень понравилось такое предложение: ему — Восток, Наполеону — Запад, они делили между собой земной шар, как двое наследников, пришедших наконец к соглашению, делят поле, долго остававшееся спорным.
В этот момент император Александр воскликнул, восторгаясь Наполеоном:
— Какой великий человек! Какой гений! Какая широта горизонта! Какая глубина ума! Ах, зачем я не знал его раньше! От скольких ошибок избавил бы он меня! Сколько великих дел совершили бы мы вдвоем!
Он воспользовался своим возрастающим влиянием на Наполеона, чтобы заступиться за прусского короля. Этого государя без королевства держали в почтительном отдалении. Все три монарха обедали вместе, а после обеда расходились, причем оба императора предоставляли прусскому королю изнывать в тоске ожидания, а сами запирались вдвоем в салоне и подолгу беседовали между собой.
Несчастный король Пруссии, которому угрожал раздел его государства, умолял императора Александра защитить его и добиться от Наполеона, чтобы его владения не были ограничены бывшими курфюршествами Бранденбургским и Саксонским, и думал поправить свои дела, вызвав к себе жену в расчете на то, что ее красота, обаяние и ум непременно подействуют на впечатлительного Наполеона.
Прусская королева Луиза, ожидавшая в городе Мемель результата переговоров, поспешила приехать. Ей было тогда тридцать два года, и она слыла первой красавицей в Европе. Она пыталась обольстить Наполеона, однако он, не доверяя ее искренности, остался глух и слеп ко всем обольщениям. Королева взялась за дело неискусно. В глубине души она ненавидела победителя, и ей не удалось прикинуться влюбленной в него до безумия. Роль женщины, внезапно охваченной страстью, Луиза сыграла как посредственная актриса, в исполнении которой прорывается плохо заученное с чужого голоса жалкое притворство.
Всем заискиваниям этой государыни Наполеон противопоставил равнодушие и ледяную твердость. Во время одного визита он вежливо поднес ей розу, взятую со стола.
— Ах, ваше величество, прибавьте к этому и Магдебург! — воскликнула королева вкрадчивым тоном, а затем, нюхая поднесенный ей цветок, склонилась к императору с влажным взором и с приветливой улыбкой и прошептала ему: — Ох, ваше величество, если бы вы пожелали быть великодушным… быть добрым! Как вас благословляли бы! Как любили бы!
— Ваше величество, — сухо перебил ее Наполеон, — вам следовало бы знать мои намерения; я сообщил их русскому императору, и он взялся передать принятое мною решение королю Вильгельму, так как императору Александру было угодно выступить посредником между нами. Эти намерения неизменны. То, что я сделал, сделано мной — должен сказать вам откровенно — только ради русского монарха. — И он удалился с поклоном. Это было сказано сухо и непреклонно.
Прусская королева, униженная как женщина, оказывалась окончательно лишенной своих владений как монархиня. И она затаила непримиримую ненависть к Наполеону и к Франции.
Что же касается ее малодушного и несколько смешного мужа, то оскорбления, которые наносил ему Наполеон, нарочно обращавшийся с ним как с коронованным ничтожеством, он принимал ближе к сердцу, чем потерю половины своих провинций.
Однажды Фридрих Вильгельм был особенно жестоко уязвлен во время катания верхом.
Наполеон, всегда ехавший впереди, пустил свою лошадь вскачь, насвистывая про себя и оставив прусского короля с Дюроком, и король робким тоном спросил последнего:
— Нужно ли следовать за ним?
Но побежденный король припомнил свое унижение, когда, сделавшись в свою очередь победителем, поступил неумолимо с тем, кто в сущности пощадил его.
Если Наполеон совершил в Тильзите громадную ошибку, поддавшись химере союза с Россией, то он сделал так же второстепенный промах, не раздавив своего врага, не раздробив прусских владений. Он разбил эту державу как раз настолько, чтобы внушить германскому народу желание отыграться и воодушевить его патриотизм. У Наполеона в руках было еще иное средство: он мог пощадить самолюбие прусского короля и сделать из него друга, покровительствуемое лицо. Фридриху Вильгельму только этого и было нужно. Но у него, к несчастью, не нашлось ни сестры, ни родственницы, которую он мог бы дать в супруги Наполеону, и по этой причине им пожертвовали без всякой жалости.
Тильзитский мир был подписан 6 июля 1807 года, а на другой день государи обменялись ратификациями.
Наполеон присутствовал на церемонии в андреевской ленте, император Александр возложил на себя знаки ордена Почетного легиона первой степени. Русская императорская гвардия и старая гвардия французов, выстроенные в боевом порядке, составляли шпалеры. Наполеон вызвал из строя русского гренадера и собственноручно повесил ему на грудь крест Почетного легиона среди восторженных возгласов обеих армий. Потом, когда барабаны забили поход, оба императора обнялись в последний раз и расстались.
Достопамятное свидание кончилось. Франция была в то время славной, торжествующей, Наполеон главенствовал в Европе, почтительно склонившейся перед ним, ослепленной его подвигами. Император Александр унес с собой искреннее восхищение полководцем-выскочкой да вдобавок к тому уступки, весьма выгодные для государя, оружие которого не одержало победы.
Прусский король поплатился своим достоянием за этот союз, но, скрывшись в Мемеле возле плачущей супруги, Фридрих Вильгельм обдумывал план мщения. Его поразили достаточно для того, чтобы ожесточить, но слишком слабо для того, чтобы отнять возможность реванша. А Наполеон, увлеченный своим воображением, обманутый миражем союза с Россией, стоя на вершине, куда вознесла его победа, начал спускаться по роковому склону, у подножия которого его подстерегали бедствия, отречение от престола, ссылка и смерть.
IV
Прошло три года со времени беседы Наполеона с Екатериной Лефевр под Данцигом, когда у него возникла мысль о необходимости вступить в брак с женщиной монархического происхождения, а он и не думал начинать развод с Жозефиной, не старался осуществить свою мечту о союзе с Россией, скрепленном его женитьбой на великой княжне Александре Павловне. Война с Испанией, австрийский поход не давали ему времени заняться этими делами.
Между тем стремление иметь наследника и основать династию путем женитьбы на дочери или сестре какого-либо монарха усиливалось все более и более в сердце Наполеона.
В Эрфурте он прямо сказал своему доброму другу, императору Александру о желании скрепить их союз, сделавшись его зятем. Царь выслушал этот проект не моргнув глазом и привел только одно возражение: сопротивление императрицы-матери. В то же время император Александр настоял на том, чтобы Польша была навсегда стерта с лица земли как нация и чтобы никакая мысль о возрождении этой несчастной страны не могла возникнуть ни при каких бы то ни было обстоятельствах.
Секретные переговоры о брачном союзе Наполеона с великой княжной Александрой Павловной были начаты Талейраном и Шампаньи. Для разбора этого важного дела Наполеон созвал 21 января 1810 года частный совет. В состав его вошли: государственный канцлер Камбасерес, король Мюрат, Бертье, Шампаньи, государственный казначей Лебрен, принц Богарнэ, Талейран, президент сената Гарнье, президент законодательного корпуса Фонтан и Марэ, исполнявший должность секретаря.
Император председательствовал. Он сообщил о своем желании расторгнуть брак с Жозефиной и спросил мнение советников относительно выбора новой упруги.
— Выслушайте, — сказал он им, — доклад де Шампаньи, а затем потрудитесь высказать мне свои соображения.
Шампаньи представил доклад о всех трех брачных союзах, среди которых можно было сделать выбор: о союзе русском, саксонском и австрийском.
При рассмотрении личных качеств трех принцесс оказалось следующее: дочь саксонского короля была уже несколько зрелой невестой, но редких достоинств; эрцгерцогиня австрийская отличалась красотой, прекрасным здоровьем и получила превосходное воспитание; сестра императора Александра, более юная, к сожалению, исповедовала религию, чуждую Франции, и ее восшествие на французский престол угрожало религиозными затруднениями. В таком случае потребовалось бы устроить в Тюильри православную церковь. Шампаньи, бывший посланник в Вене, рекомендовал, с точки зрения политических выгод, брачный союз с австрийской принцессой.
После этого доклада Наполеон собрал мнения, начиная с лиц, наименее способных подать правильный совет. Дебрен высказался за брак с саксонской принцессой, принц Евгений и Талейран объявили себя сторонниками австрийского дома, Гарнье одобрил Лебрена, говоря, что саксонский союз не нарушает ничьих интересов и соответствует главной цели императора — рождению наследника. Фонтан восстал против присутствия в Париже императрицы не католического вероисповедания. Марэ одобрил выбор эрцгерцогини, Бертье присоединился к нему, но Мюрат отверг брак, способный воскресить неприятные воспоминания о Марии Антуанетте, так как в брачном союзе с австриячкой французы могли бы усмотреть нежелательный возврат к старому режиму. Государственный канцлер Камбасерес, которого спросили напоследок, подал голос за русский союз. Вековой антагонизм Австрии и Франции он считал постоянной опасностью для трона, которая не могла быть устранена браком. Россия, удаленная от Франции, не имела причин сделаться ее противницей, а война с ней была бы опаснее и рискованнее, чем с Австрией. Таким образом он остановился на русском союзе.
Император отпустил совет, с чувством поблагодарив его участников, и отложил свое решение.
Предварительные переговоры с Россией продолжались с целью добиться согласия императрицы-матери. Коленкур, посланный к императору Александру для этого сватовства, назначил срок, но русский двор нарочно затягивал дело и не спешил с ответом. Там ссылались на состояние здоровья великой княжны да, кроме того, требовали постройки православной церкви в Тюильри, при которой должен был состоять штат православного духовенства.
Все эти промедления раздражали Наполеона, и его горячий темперамент побуждал к разрыву переговоров. Под этими оттяжками он чувствовал недоверие к себе, нежелание отдать за него дочь русского царя. Вопрос о православной церкви тоже задевал Бонапарта, да, кроме того, он был оскорблен поставленным ему условием: никогда не восстанавливать польское королевство. Поэтому его решение отказаться от брачного союза с русской великой княжной было вскоре принято.
Но сначала требовалось расторгнуть брак с Жозефиной.
Император любил ее, и дело не обошлось без жестокой нравственной борьбы, без настоящего внутреннего сопротивления, когда он готовился порвать эти крепкие узы привязанности и привычки.
Жозефина имела значительное влияние на своего супруга. Несмотря на зрелые годы и морщины, она по-прежнему казалась ему прекрасной и обольстительной.
Сделавшись женой, обаятельная креолка осталась для Наполеона любовницей, желанной и возбуждавшей его страсть.
После возвращения из Шенбрунна, загородной императорской резиденции около Вены, где он жил в тайной близости с графиней Валевской, которую оставил беременной, Наполеон решил ускорить развязку и реговорить с Жозефиной. Два последовательных доказательства, которые предоставили ему Элеонора де ла Плен и прекрасная полька, убедили его, что природа не отказывала ему в наследнике; и он задумал безотлагательно приступить к разрыву с Жозефиной, а после того сделать выбор между дочерью саксонского короля и дочерью австрийского императора. От дочери императора Александра Наполеон отказался уже окончательно.
После частного совета, на котором он собрал различные мнения, император, прежде чем объявить свое решение, пожелал посоветоваться в последний раз с Камбасересом. С этой целью он призвал его в Фонтенбло.
На утренней заре в кабинете, тускло освещенном догорающими свечами, свет которых боролся с розовым сиянием утра, сошлись Наполеон и его поверенный, государственный канцлер, и, обменявшись несколькими словами, касавшимися здоровья, вступили в разговор.
— Что я слышу? — сказал император Камбасересу. — В Париже в эти дни распространилась боязнь… там носились с неприятными новостями, битва под Эслингом показалась сомнительной. Неужели меня лишают доверия?
— Нет, ваше величество, вами по-прежнему восхищаются, вас любят, за вами готовы идти на край света. Если замечается боязнь, то она вызвана тем, что в последние месяцы было много поводов к тревоге: толковали о покушении на вашу жизнь в Шенбрунне.
— Напрасно беспокоились о таких пустяках, — поспешно ответил Наполеон. — Впрочем, тут есть доля правды. Я находился в Шенбрунне, где было большое стечение народа. Публика хотела полюбоваться нашими прекрасными победоносными войсками. Вдруг возле меня очутился молодой человек, которого я и сам приметил, потому что он много раз старался пробраться ко мне. Он размахивал бумагой, бывшей у него в руке; вероятно, то была какая-нибудь просьба. Однако Раппу что-то показалось подозрительным в его манере. Незнакомца схватили, обыскали и нашли при нем длинный нож без ножен.
— Это оружие предназначалось для вас, ваше величество?
— Да, арестованный сознался. Я допросил его сам и велел Корвизару освидетельствовать этого субъекта, предполагая, что он сумасшедший. Его имя Стаапс, он сын протестантского пастора из Эрфурта. Этот жалкий чудак говорил спокойно. На мой вопрос он ответил, что действовал один, без сообщников. Я полагаю, что он принадлежал к обществу филадельфов, последователи которого поклялись умертвить меня или дать убить самих себя. Ну что ж, это профессиональные опасности, сопряженные с должностью правителя! В Париже совершенно напрасно тревожатся из-за таких ребячеств!
— Это оттого, что ваша жизнь так драгоценна, ваше величество!
— Да, — продолжал Наполеон после минутного раздумья, — мне надо жить. Если бы я исчез, сраженный слепой пулей или глупым кинжалом, что сталось бы с делом рук моих, с моей Францией? Все рухнуло бы со мной. Я строил на песке, Камбасерес, и пора, если мы люди мудрые, даровать империи более прочные основы.
Государственный канцлер скорчил гримасу.
— Ваше величество, вы желаете иметь наследника. Я не имею в виду напомнить вам это желание, а только позволю себе заметить следующее: не говоря уже о неблагоприятном впечатлении, какое произведет в народе ваш насильственный разрыв с императрицей, это дело не обойдется без вмешательства духовенства, которое возбудит против вас общественное мнение.
— Я приведу наше духовенство к повиновению, как сумел удержать в границах папу! — надменно возразил Наполеон.
— Во всяком случае, ваше величество, остерегайтесь религиозных осложнений; если вы женитесь на католической принцессе, от вас потребуют расторжения тайного брака, совершенного накануне коронации.
У Наполеона вырвался жест досады.
— Этот брак недействителен, — сказал он, — не были соблюдены формальности.
— Однако вы соединились церковно в момент коронования. Без этой церемонии папа Пий Седьмой не соглашался на коронацию.
— Это правда! Феш обвенчал меня и Жозефину тайно в одной из комнат Тюильри, но без свидетелей. Это была пустая формальность из любезности, чтобы успокоить сомнения папы. Тут не было согласия; я только подчинился необходимости. Это подобие церковного брака не может послужить препятствием. Во всяком случае слишком поздно поднимать это возражение. Духовный суд и государственный совет разберут настоящее дело. Я призвал вас, Камбасерес, чтобы попросить о помощи. Подготовьте императрицу к важному разговору со мной о предмете, на который вы должны намекнуть ей заранее.
Камбасерес поклонился и, уходя от императора, пробормотал про себя:
— Он не хотел ничего слушать; его решение принято. Он поссорится с Россией, и мы заключим австрийский союз, иначе говоря, восстановим против себя всю Европу, и не пройдет трех лет, как нам придется разделываться с нею! Бедный император! Бедная Франция!
И Камбасерес с тяжелым вздохом, скорбно пожимая плечами, отправился на половину Жозефины.
V
Императрица уже давно готовилась к удару, который должен был так жестоко поразить ее. Хотя она и вытребовала у кардинала Феша формальное свидетельство о своем духовном бракосочетании, но Для поддержки своего звания супруги более полагалась на привязанность Наполеона, искреннюю и неизменную, чем на документы. Однако после романа с красавицей полькой и тесной близости между ней и императором в Шенбрунне могла ли Жозефина быть уверенной в том, что сердце Наполеона принадлежит ей по-прежнему?
Предупрежденная государственным канцлером, она явилась к супругу вся дрожа, со слезами, готовыми брызнуть из ее прекрасных, томных глаз.
Между супругами разыгралась короткая и мучительная сцена.
Дело происходило после обеда 30 ноября 1809 года, когда подали кофе, Наполеон сам взял чашку, которую поднес ему дежурный паж, и подал знак, что желает остаться один. Царственная чета в последний раз осталась наедине.
Наполеон высказал свое решение в коротких словах, стараясь казаться хладнокровным. Он кратко объяснил, что интересы государства требуют продолжения его рода, и по этой причине ему следует расторгнуть свой брак, чтобы заключить другой. Жозефина пробормотала несколько слов, напоминая о том, как она любила своего Бонапарта, как он платил ей взаимностью, и попыталась возбудить его нежность, напомнив о минутах блаженства, сладостных часах тесной близости, пережитых ими. Тут Наполеон резко перебил ее, опасаясь поддаться овладевавшему им волнению. Он чувствовал, что слабеет, и поспешил защититься жестокой, безжалостной фразой:
— Не пытайся растрогать меня, не рассчитывай повлиять на мое решение. Я не разлюбил тебя, Жозефина, но политика требует, чтобы мы расстались. У политики нет сердца, у нее только голова!
При этих словах Жозефина с громким криком упала без чувств.
Дежурный камер-лакей, стоя за дверью, хотел войти, думая, что императрице дурно, но не решился нарушить интимный разговор между супругами и сделаться очевидцем тяжелой сцены.
Наполеон сам выглянул из комнаты, позвал дежурного камергера де Боссэ и сказал ему:
— Войдите и заприте за собой дверь!
Де Боссэ последовал за императором. Он увидел на ковре плачущую Жозефину.
— Ах, я не переживу этого! Дайте мне умереть! — восклицала она среди рыданий.
Хватит ли у вас силы поднять императрицу и отнести ее в комнаты по внутренней лестнице, которая ведет в ее помещение? Государыне нужна медицинская помощь, — сказал Наполеон. — Погодите, — прибавил он, — я вам помогу.
И встревоженный император вместе с камергером подняли общими силами Жозефину, лежавшую в обмороке. Боссэ положил неподвижную императрицу себе на плечо и осторожно двинулся вперед со своей ношей. Наполеон с канделябром в руке освещал это почти погребальное шествие. Он сам отворил дверь коридора и сказал камергеру:
— Теперь спускайтесь с лестницы.
— Ваше величество, лестница очень узкая. Я упаду.
Тут император решился прибегнуть к помощи камер-лакея. Он передал ему канделябр, а сам стал придерживать ноги Жозефины, указав знаком Боссэ, чтобы тот взял ее под мышки. Таким образом несчастную женщину медленно, с трудом несли вниз по лестнице.
Неподвижная и бездыханная Жозефина походила на мертвую, которую собираются положить в гроб. Вдруг камергер услыхал ее тихий шепот: «Не жмите меня так крепко!» — и успокоился относительно здоровья отринутой супруги.
Наполеон был взволнован и огорчен больше, чем Жозефина: он пожертвовал своим счастьем, своей любовью политике, и ему предстояло впоследствии жестоко поплатиться за это.
Этот зловещий спуск по лестнице женщины, которая была подругой славы Наполеона, его доброй феей, приносившей ему счастье, как говорили в народе, был ужасным и пророческим предзнаменованием собственной судьбы императора. После разрыва с ней счастливая звезда Наполеона стала клониться к закату.
Декрет о разводе был подписан 15 декабря 1809 года. По этому поводу состоялось торжественное собрание в Тюильри.
В парадном кабинете императора заняли в креслax места: государыня-мать, королевы испанская, неаполитанская, голландская и вестфальская, а также принцесса Полина — все сестры Наполеона, торжествующие и плохо скрывавшие свою радость от Гортензии, опечаленной королевы голландской. Короли голландский, вестфальский и неаполитанский с Евгением, вице-королем Италии, сели напротив. Камбасерес со своими ассистентами, Мюратом и Рено де Сен-Жан-д'Анжели, заняли стулья за столом, на котором лежал приготовленный акт развода.
Тогда Наполеон, взяв за руку Жозефину, прочитал, стоя, с непритворными слезами на глазах, речь, приготовленную Камбасересом; в ней он сообщил о своем решении, принятом с согласия его дражайшей супруги, причем единственным поводом к разводу выставил потерянную им надежду иметь детей от Жозефины.
— Достигнув сорокалетнего возраста, — сказал Наполеон, — я надеюсь прожить достаточно долго для того, чтобы воспитать в моем духе и по моим понятиям детей, которых будет угодно Провидению даровать мне. Одному Богу известно, чего стоила подобная решимость моему сердцу, но нет той жертвы, которая была бы свыше моего мужества, раз я убедился, что она необходима для блага Франции. Нужно прибавить, что я не только никогда не имел повода жаловаться на мою супружескую жизнь, но, напротив, могу только хвалиться привязанностью и любовью моей любезнейшей супруги. Она украсила пятнадцать лет моей жизни, и воспоминание об этом никогда не изгладится из моего сердца. Она была коронована моей рукой; я желаю, чтобы за ней были сохранены сан и титул императрицы, а главное, чтобы она никогда не сомневалась в моих чувствах и всегда считала меня своим лучшим и дражайшим другом.
Жозефина должна была в свою очередь прочесть ответ на это заявление, но не могла преодолеть волнение, слезы душили ее. Она передала врученную ей бумагу Рено де Сен-Жан-д'Анжели, и тот прочел этот документ вместо нее.
Императрица заявляла со своей стороны, что соглашается на развод с покорностью судьбе, не будучи в состоянии дать империи наследника престола.
«Но, — гласит текст, — расторжение моего брака не изменит ничего в моих чувствах: император будет всегда иметь во мне своего лучшего друга. Я знаю, насколько этот акт, предписанный политикой и крайне важными интересами, огорчил его сердце, но мы с ним оба гордимся жертвой, которую приносим ради блага отечества».
К этим фразам, сочиненным Камбасересом или Марэ, Жозефина присовокупила только одну строчку, трогательную в самой ее простоте: «Я с радостью даю императору величайшее доказательство расположения и преданности, какое когда-либо давалось на земле!»
Поведение Жозефины в тяжелое время развода заставляет простить ей многие прегрешения, и к ней, жертве политики и династического честолюбия Наполеона, потомство будет всегда снисходительно.
На другой день, 16 декабря, решение сената утвердило развод. Он был изложен в деловых и точных выражениях. Параграф 1-й гласил, что брак между императором Наполеоном и императрицей Жозефиной расторгнут. Параграф 2-й сохранял за императрицей Жозефиной титул и звание коронованной императрицы. Параграф 3-й определял ее вдовью часть: ей было назначено ежегодное содержание из государственного казначейства в два миллиона франков. Преемники императора обязывались соблюдать условия развода. Кроме того, наваррские вдовьи владения, составлявшие отдельное герцогство, также были отданы в пожизненное пользование Жозефине.
Существовали некоторые доказательства, что декларация развода противоречила юридическим нормам, так как они подтверждали действенность гражданского брака, совершенного 9 марта 1796 года в присутствии муниципального чиновника второго парижского округа. Кроме того, ссылались на то, что Жозефина убавила себе четыре года в этом акте, тогда как Бонапарт прибавил себе лишний год. Если бы Жозефина указала настоящую дату своего рождения, то в 1809 году ей официально считалось бы сорок шесть лет, согласно ее настоящему возрасту, развод же допускался только для лиц моложе 45 лет. Говорили также, что можно было сослаться на параграф 7-й закона об императорском доме, который гласит, что «развод воспрещен членам императорской фамилии обоего пола и всякого возраста».
Но что значили эти доводы, эти судебные ограничения, эти законные препятствия перед непреклонной волей всемогущего императора! Наполеон захотел развода, и Жозефина подчинилась ему. Со стороны императрицы было самоотверженностью и самопожертвованием согласиться на этот мучительный разрыв. Со стороны императора также потребовались самоотверженность и самопожертвование, потому что он по-прежнему любил Жозефину, конечно, менее чувственной, менее страстной любовью, чем в молодые годы, но все-таки его привязанность к ней была непритворна, серьезна и глубока. Слезы, пролитые им в момент торжественного разрыва их любви, были так же искренни, так же жгучи, как те, что текли из томных глаз Жозефины.
Для совершения утвержденного развода был установлен особый церемониал.
16 декабря — день сенатского решения, по которому брачный союз Наполеона объявлялся расторгнутым, — приходилось в субботу. В четыре часа вечера в Тюильри была подана карета, чтобы увезти Жозефину в Мальмезон. Погода стояла ужасная; небо как будто облеклось в траур для этой церемонии, напоминавшей похороны. Реймская дорога, избитая, мокрая, подернутая мглой и печалью, усиливала скорбь императрицы. Сколько раз ездила она по ней в блеске могущества, в сиянии царственного величия! Теперь же ей сопутствовал лишь ее сын, принц Евгений, присутствовавший, впрочем, на частном совете.
Император в свою очередь покинул Тюильри и отправился ночевать в Трианон. Два дня спустя он навестил императрицу в Мальмезоне.
— Я нахожу тебя слабее, чем следует, — ласково сказал Наполеон. — Ты выказала мужество, тебе нужно запастись им еще, чтобы поддерживать свои силы. Не поддавайся пагубному унынию! Береги свое здоровье, которое драгоценно. Спи хорошенько! Помни, я хочу видеть тебя спокойной, счастливой!
Он нежно поцеловал Жозефину и уехал обратно в Трианон.
Прошло несколько дней, потом настало последнее свидание, похоронный обед, состоявшийся в Трианоне в день Рождества Христова.
О чем говорили между собой супруги, разлученные отныне публичным актом подавляющей торжественности? Надо полагать, что Жозефина плакала, и Наполеон был нисколько не веселее ее. Роковое стечение обстоятельств встало между ними; они были игрушками политики, рабами неумолимой судьбы и не могли освободиться от этого гнета.
Нельзя без щемящей боли расстаться с женщиной, которая была подругой вашей молодости, возле которой вы покоились сладким сном в зрелые годы. Несмотря на недостатки Жозефины, на ее мимолетные измены Наполеону, императорская чета жила счастливо. Впоследствии император никогда не высказывал сожаления по поводу своего рокового шага, так как гордость заглушала в нем голос сердца. Но в смертельном томлении на острове Св. Елены, когда его точила болезнь и он подвергался ежедневному унижению в когтях британского леопарда, воспоминание о счастливых годах, прожитых с Жозефиной, вероятно, мелькало перед Наполеоном, и последний обед в Трианоне, несомненно, вызывал у него угрызения совести. Но его толкала таинственная, неодолимая сила. Как человек, летящий стремглав вниз головой, он уже не мог остановиться иначе как на дне пропасти, разбившись насмерть.
После того как Жозефина была похоронена заживо в Мальмезоне, стали спешить с приготовлениями ко второму браку императора. Талейран и Фушэ, два неразлучных предателя, да вдобавок к ним коварный дипломат Меттерних, тот самый, о котором Камбасерес говаривал: «Он близок к тому, чтобы сделаться государственным человеком, так как он отлично лжет», — торопились предоставить опустевшему и печальному дворцу Тюильри молодую императрицу.
Меттерних через герцога Бассано дал знать императору Наполеону, что если он обратится к австрийскому двору с предложением о браке, то не получит отказа, а переговоры не затянутся здесь, как в России.
У Австрии действительно не было причин, как у России, затягивать осуществление ожиданий Наполеона. Император австрийский опасался раздробления своей империи. Выдав дочь за Наполеона, он отвращал войну от своего государства по крайней мере на время, а выигранное время было здесь, как всегда, спасением. Кроме того, Франца II могли обуревать честолюбивые мечты. Две монархии, согласно грандиозному плану Наполеона, должны были управлять миром и поддерживать его равновесие. Россия разделяла это всемирное господство с Францией; почему бы Австрии не встать на место России? Франц II решил толкнуть свою дочь в объятия Наполеона.
Он позвал графа Нарбонского и открылся ему. — Эрцгерцогиня австрийская, снова водворенная во Францию, — сказал он с лицемерной нежностью, — изгладила бы печальные воспоминания о Марии Антуанетте и, конечно, побудила бы Наполеона остановиться на мире, чтобы наслаждаться наконец своей славой вместо того, чтобы беспрестанно рисковать ею, и трудиться над счастьем народов заодно с добродетельным монархом, для которого Наполеон сделался бы приемным сыном.
В начале февраля 1810 года Наполеон, посвященный в намерения австрийского императора, порвал переговоры с императором Александром и отправил собственноручное письмо Францу II. То было официальное предложение. Бертье, принцу Невшательскому, было поручено просить для Наполеона руки эрцгерцогини Марии Луизы, и, исполняя это поручение, он в качестве чрезвычайного посланника имел полномочие демонстрировать исключительную роскошь.
Наполеон стал неузнаваем с той поры, как у него появилась уверенность, что он породнится с королем, настоящим королем, что стало его коньком. Он с любопытством всматривался в самого себя, с тревогой выяснял состояние своего здоровья: стучал по грудной клетке, прислушивался к звукам, издаваемым его грудью, и, став перед зеркалом, двигал челюстями, точно старался убедиться в прочности и яркой белизне своих зубов.
Лицо и фигура Наполеона сильно изменились в эту пору его карьеры. Рост его был пять футов два дюйма три линии, что составляет по метрической системе один метр семьдесят два сантиметра. Эти данные опровергают расхожее мнение, будто знаменитый полководец был низенький человечек, почти карапуз. у него был рост французских кавалеристов. Наполеон казался маленьким, потому что его окружали такие великаны, как Бертье, Лефевр, Ней, Мортье, Дюрок и прочие колоссы армии.
Цвет лица, некогда местами оливковый и медно-красный на щеках, стал светлее, принял матовый оттенок старинной слоновой кости. Его крайняя худоба сменилась уже значительной полнотой. Щеки стали пухлыми, подбородок округлился. Напоминавшее античную медаль лицо полководца итальянской армии, корсиканца с прямыми волосами, изнуренного лихорадкой, походило теперь на полное и жирное лицо прелата эпохи Возрождения. Редкие от природы волосы Наполеона поредели еще больше, образуя лысину, которая увеличивала и без того открытый и высокий лоб; виски также начали обнажаться.
Его взгляд сохранил острую проницательность, а глаза с приобретением могущества как будто наполнились лучезарным светом, распространявшим вокруг ослепительное сияние.
Физические особенности Наполеона не представляли ничего ненормального. Его голова имела большой размер — двадцать два дюйма в окружности (60 сантиметров), была сплющена на висках. Кожа на голове отличалась чрезвычайной чувствительностью, так что знаменитые маленькие треуголки приходилось подбивать ватой. Ноги императора были миниатюрны, руки очень красивы и тщательно выхолены. Тем не менее он имел привычку грызть ногти в дни сражений, когда артиллерия мешкала или когда Мюрат или Бертье медлили кидаться в атаку.
Здоровье Наполеона было превосходно, телосложение — необычайной крепости. Усталость приносила ему отдых. Он был одарен исключительной трудоспособностью, изнеможение было ему незнакомо. Спрыгнув с лошади, он тотчас приступал к просмотру счетов, ведомостей, к проверке денежных сумм. Этот человек входил во все мелочи, его ум стремился вникнуть в самые незначительные факты.
Итак, Наполеон был в расцвете сил и на вершине могущества, когда после развода вздумал жениться на Марии Луизе.
Мысль об этом браке, об этой молодой девушке, которой предстояло вскоре сделаться его женой, поглощала императора, а отсюда проистекали тревожное заглядывание в зеркала и изменения в его манерах.
Первым изменением, внесенным в привычки Наполеона близостью свадьбы, явилась невиданная прежде забота о своем костюме.
Между прочим, император обычно повязывал голову на ночь фуляровым платком; это был не особенно величественный головной убор; он не был смешон старухе Жозефине, но мог уронить Наполеона в глазах юной Марии Луизы. Приняв это в соображение, царственный жених отказался от своей ночной короны и стал приучать себя спать с непокрытой головой.
Наполеон не изменял своему обычаю ежедневно принимать ванну. В ней он прочитывал депеши, а после нее заставлял массировать себя, растирать тело щетками и освежать одеколоном. Он брился сам перед зеркалом, которое держал Рустан, его верный мамелюк. Император носил нижнее белье из полотна, белые шелковые чулки и брюки до колен из белого казимира. То был его обычный костюм полковника стрелкового полка. Но, желая понравиться Марии Луизе, он призвал портного, который шил на Мюрата, и заказал ему роскошный фрак, в каких щеголял неаполитанский король, франт и хвастун большой руки Впрочем, заказанный фрак не понравился Наполеону и он не захотел оставить его у себя. Напрасно портной предлагал перешить эту вещь по-другому; великолепное и слишком богатое платье было не по душе императору; он не мог видеть его и подарил своему зятю, который был в восторге от дорогого шитья, покрывавшего сплошь этот парадный наряд. Зато Наполеон, расставшись со своими сапогами, на которых неизменно звенели шпоры, велел дамскому башмачнику сшить легкие башмаки и стал учиться вальсировать в этой обуви у несравненного Деспрео. Ему хотелось открыть бал с Марией Луизой на своем свадебном пиру, а ведь известно, что немецкая принцесса не обойдется без вальса!
В то же время Наполеон с лихорадочной поспешностью носился по дворцу Тюильри, приказывая снимать обивку, картины со стен, менять меблировку, обновлять украшения, решив, что ничто не должно было напоминать новой императрице о пребывании здесь прежней. Порой среди этой суетливой беготни по дворцовым галереям Наполеон останавливался в задумчивости перед портретами Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, которые он приказал повесить в гостиной будущей императрицы, и можно было расслышать, как этот честолюбец бормотал с улыбкой удовлетворенной гордости на устах:
— Король — мой дядя! Моя тетка — королева! Мария Луиза действительно приходилась родной племянницей Марии Антуанетте.
В один из таких моментов экстаза и затаенной радости император увидал Лефевра.
— Идите сюда, идите, герцог Данцигский, — весело сказал он, — мне надо с вами потолковать.
— Гм… — проворчал сквозь зубы Лефевр, — опять он прожужжит мне все уши похвалами своей австриячке! Это совершенство, восьмое чудо света, никогда еще не бывало такой прекрасной принцессы. Пусть бы выбирал для своих излияний Марэ или Савари, а мне они давно набили оскомину!
Маршал Лефевр жалел отверженную Жозефину. Ему было больно, что император опять возводит на французский трон одну из тех австрийских принцесс, брачный союз с которыми всегда был пагубен для приютившей их страны. Кроме того, развод претил старому служаке. Он смотрел на него как на побег. Если ты вступил вдвоем в битву с жизнью, то не надо бросать друг друга в пылу сражения.
Между тем Лефевр не мог не пойти на зов императора, и ему пришлось присоединиться к Наполеону в парадной гостиной Тюильри, где партия обойщиков покрывала стены материей ярко-желтого цвета, усыпанной пчелами, и прилаживала пышные занавеси с Разводами.
— Ну что, маршал, ведь красиво, свежо? — спросил Наполеон с довольным видом купца, удалившегося от дел, который показывает приятелю свои владения, гордясь роскошью устроенного им жилища.
— Богато, что и говорить, — ответил Лефевр, — должно быть, эти затеи стоили вам недешево!
Император, человек расчетливый, хотя совсем не скупой, не допускал грабежа со стороны поставщиков и не любил бросать денег на ветер. Единственным поводом к его супружеским ссорам с Жозефиной служили ее расточительность и слишком большие счета, представляемые ей портнихами и модистками. Теперь же он возразил маршалу самым убедительным тоном:
— Нет ничего слишком прекрасного, слишком дорогого для той, которая скоро сделается императрицей.
Лефевр поклонился и продолжал восхищаться меблировкой, занавесями из шелка, затканного узорами, позолоченными креслами, диванами с роскошной чеканной отделкой.
В углу гостиной стояла арфа изящной формы из позолоченного дерева с вереницей пляшущих амуров на ее подножии, которые выделялись розовыми тонами обнаженных тел на нежно-зеленом фоне прелестного оттенка.
— Эрцгерцогиня — хорошая музыкантша, — заметил император, слегка дотрагиваясь пальцем до струн инструмента, которые издали жалобный, жидкий звук. — Пойдемте, я покажу вам приданое императрицы, — продолжал он с наивной и нетерпеливой радостью, увлекая маршала в спальню, приготовленную для Марии Луизы.
Хотя герцог Данцигский был более компетентным лицом по части инспекции гренадерского ранца или осмотра лагеря, чем в деле оценки изящных вещей, разложенных на постели, на столиках, на диванах и козетках императорской комнаты, однако ему пришлось внимательно следить за перечислением этих сокровищ, любезно предпринятым Наполеоном.
Лефевр последовательно любовался кружевами, рубашками с отделкой из валансьенских кружев, носовыми платками, кофточками, юбками, ночными чепчиками, всеми принадлежностями белья, изготовленного в мастерских знаменитой мадемуазель Лолив и мадам Беври. Этого добра здесь было почти на сто тысяч франков. Кроме того, было на сто тысяч кружев английской работы и на сто двадцать шесть тысяч франков платьев от Леруа. Затем следовали всевозможные украшения, дамские уборы, ленты, аграфы, которыми Наполеон наполнил объемистые корзины.
Драгоценности были дивные, каких не имела еще ни одна королева. Портрет императора, усыпанный бриллиантами, стоил шестьсот тысяч франков. Ожерелье в девятьсот тысяч франков, затмевавшее своей красотой знаменитое колье королевы Марии Антуанетты, две подвески в четыреста тысяч франков и уборы из крупных изумрудов, из бирюзы, осыпанных алмазами, — таковы были роскошные свадебные подарки Наполеона, к которым присоединялся бриллиантовый убор, поднесенный государственным казначейством и стоивший свыше трех миллионов трехсот тысяч франков. Сверх того императрице было назначено на ее личные расходы тридцать тысяч франков в месяц — по тысяче франков в день.
Наполеон был совершенно счастлив, показывая старому товарищу все эти сокровища, все эти богатства, свидетельствовавшие о той пылкости, с какой он ожидал свою молодую супругу.
— Ну что, ведь императрица будет счастлива, не так ли? — спросил он в заключение Лефевра.
— Да, ваше величество, тем более что, как слышно, эрцгерцогиня живет очень скудно при дворе своего отца. Драгоценности у нее самые простые, а все платья, вместе взятые, едва ли стоят одной из этих рубашек. Черт возьми, ваши победы заставили императора Франца положить зубы на полку. Вот развернется-то эрцгерцогиня, попав в такой рай! Однако на ее месте все эти бриллианты, кружева, уборы показались бы мне пустяками по сравнению со славой быть женой императора Наполеона!
— Льстец! — весело подхватил император и ущипнул маршала за ухо.
— Говорю, как думаю, ваше величество. Вы знаете, я сам по примеру моей жены немного бесцеремонен!
— Ах да, кстати: мне надо поговорить с тобой о ней конфиденциально. Ты пообедаешь со мной. Пойдем садиться за стол!
И Наполеон толкнул в столовую несколько удивленного Лефевра, который не без тревоги спрашивал себя: «Что он хочет сказать мне насчет моей жены? Уж не вышло ли у нее снова какой-нибудь перебранки с сестрами императора?»
VI
Обед императора был готов, а стол накрыт в маленькой столовой, которую победитель под Иеной предпочитал нарядным залам.
С отъезда Жозефины Наполеон обедал всегда только вдвоем, приглашая кого-нибудь в последнюю минуту: Дюрока, Раппа, дежурного камергера или министра, вызванного для указаний по службе.
Наполеон никогда не был любителем еды. Он ел очень быстро и спешил кончить обед как скучную церемонию. Даже на парадных обедах император мог едва высидеть четверть часа за столом. Он поднимался со стула внезапно посреди обеда, подавая знак рукой, чтобы за ним не следовали и кончали трапезу, всегда превосходного качества, потому что, хотя сам император был плохим гастрономом, но следил за своим поваром и хотел, чтобы за его столом подавались самые лучшие блюда. Все его маршалы отличались здоровым аппетитом, а государственный канцлер Камбасерес приводил в восторг Наполеона способностью поглощать между двумя комплиментами громадные куски мяса, которые он запивал двумя графинами шамбертена, своего любимого вина. Наполеон, не пивший ровно ничего, всегда наблюдал за тем, чтобы с обеих сторон прибора государственного канцлера стояло непременно два графина этого короля Бургундии.
Поспешно поднимаясь однажды по своей привычке из-за стола, император сказал принцу Евгению, обедавшему с ним в тот день:
— Ведь ты не успел поесть, Евгений?
— Извините, ваше величество! Получив ваше приглашение, я пообедал заранее.
Многие из придворных, по примеру сына Жозефины, предпринимали эту мудрую предосторожность, когда знали, что будут приглашены к императорскому столу.
Император завтракал один, без салфетки, на маленьком столике. Он глотал в несколько минут поданные ему яйца и котлету.
Рассказчики анекдотов времен Империи утверждали, что великий муж ел не особенно опрятно. Он часто забывал о вилке, поглощенный заботой разбить пруссаков или образумить папу, и часто пускал в ход ложку праотца Адама. Он без церемонии макал свой хлеб в блюдо, поставленное перед ним, и подбирал с него соус. Так бывало даже в тех случаях, когда за столом сидели принцы, герцогини, маршалы и женщины, весьма жеманные в другом месте, и никто из благородных гостей не отказывался брать кушанья с этого блюда, в которое император запускал пальцы.
У императора были свои любимые блюда: цыпленок а-ля Маренго, который напоминал ему одну из прекраснейших его побед, а потом кушанье бедняков — чечевица, турецкие бобы, жареная телячья грудинка и свиное сало. Наполеон не был любителем вина и позволял поставщикам обворовывать себя.
Обед, за которым неожиданно очутился Лефевр, был подан просто, но немного обильнее обыкновенного. Наполеон старался привыкнуть теперь сидеть за столом, и это была новая жертва, которую он приносил своей будущей супруге.
Лефевр, отличный едок, не имел ничего против новых привычек своего повелителя. Между тем его по-прежнему разбирало некоторое беспокойство и портило его прекрасный аппетит. С какой стати император, пригласив его, упомянул о Екатерине?
Когда после обеда подали кофе, Наполеон внезапно спросил своего гостя:
— Что говорите вы, господа маршалы, о моем Разрыве с Жозефиной между собой, вдали от меня?
Должны же вы толковать об этом, не так ли? Я желаю знать, что думают мои приближенные о разводе, о моей новой женитьбе.
— Но, ваше величество, мы не можем иметь иную идею, кроме той, какую вам было угодно нам сообщить. Мы преклоняемся перед вашей волей, у нас нет привычки обсуждать ваши распоряжения. Развод, женитьба — в наших глазах это перемена фронта, новый маневр, который вы сочли нужным произвести. Мы не можем высказать никаких возражений… по крайней мере вслух!
— Вот как? Ну а потихоньку? Мне хотелось бы знать именно то, что говорится между вами потихоньку.
— Гм… В этом нет ни особой важности, ни большого интереса, — нерешительно ответил Лефевр. — Говоря по правде, ваше величество, императрицу жалеют. Она была добра, любезна, всегда готова обласкать каждого, кто приближался к ней. Кроме того, к ней привыкли, да и она привыкла к нам. Мы вместе выбрались вслед за вами, ваше величество, на то прекрасное место, где находимся теперь. Государыня и не подумала бы никогда упрекать нас ни нашим скромным происхождением, ни нашей непривычкой к большому свету. О, я знаю, что говорят про всех нас, особенно про меня и мою добрую, милую жену у королевы неаполитанской или среди приближенных великой герцогини Элизы!
— Не надо придавать излишнее значение насмешкам моих сестер! Впрочем, я скажу им, что мне неприятно, когда поднимают на смех храбрецов, помогавших мне выигрывать сражения и воздвигнуть этот трон, на который они смотрят как на фамильное наследство!
— Императрица Жозефина, ваше величество, никогда не допускала этих презрительных шуток и издевательств, которые оскорбляют самолюбие; она всегда обращалась с нами ласково и внимательно. Мы боимся, чтобы новая повелительница — принцесса, воспитанная при венском дворе, среди гордых аристократов, со всеми предрассудками своей касты, — не стала смотреть на нас свысока. Мы опасаемся показаться людьми слишком скромного происхождения такой важной особе. Ваше величество, нас немножко пугает эта избранная вами дочь императора. Вот что говорят ваши маршалы, генералы, ваши боевые товарищи, которые, как вам известно, не вышли из чресл Юпитера!
— Успокойтесь, мои храбрые сподвижники! Мария Луиза чрезвычайно добра; ваша новая императрица может только любить и почитать таких героев, как вы, Лефевр, как Ней, как Удино, как Сульт, Мортье, Бесьер или Сюше. Ваши рубцы и шрамы заменяют красивейшие гербы, а у вашей знатности вместо фантастических химер и грифонов, украшавших в былые времена гербовые щиты, есть взятые вами города, завоеванные крепости, мосты, пройденные под градом картечи, знамена, даже троны, ставшие вашей добычей. Мария Луиза познакомится с этой новой геральдикой и научится уважать ее.
— Но кроме нас, — пробормотал Лефевр, — есть еще наши жены.
У Наполеона вырвался жест досады.
— Ну да, я понимаю! Ваши жены, чтоб им пусто было, не выигрывали сражений, они…
— Они, ваше величество, — с жаром подхватил Лефевр, — делили наше существование, возбуждали наше мужество, воспламеняли нашу энергию. Они любят нас, восхищаются нами. Они добрые супруги и заслуживают жребия, дарованного им вами, ваше величество, и победой!
— Да, да, знаю, — пробормотал император. — Однако некоторые из этих превосходных женщин, добродетелям которых я воздаю должное почтение, представляют собой необычайных светских дам, невероятных герцогинь. Ах, зачем, черт побери, всех вас дернула нелегкая жениться, когда вы были сержантами!
— Ваше величество, пожалуй, то была ошибка, но я никогда не раскаивался в ней.
— Ты добрая и честная душа, Лефевр, и я одобряю как твои слова, так и поступки. Но сознайся, что в настоящее время, когда ты получил звание маршала империи и титул герцога Данцигского, твоя добрейшая жена оказалась немножко не на месте.
Она смешит своими манерами пригородной слобожанки, а ее язык по-прежнему отзывается прачечной.
— Герцогиня Данцигская, или скорее мадам Лефевр, любит меня, ваше величество, а я люблю ее, и ничто в ее манерах не заставит меня забыть долгие годы счастья, прожитые нами.
— Досадно, что ты женился во время революции, Лефевр!
— Ваше величество, дело сделано; нечего об этом толковать.
— Ты полагаешь? — спросил Наполеон, устремив на маршала свой глубокий взор.
Тот вздрогнул и пролепетал, внезапно оробев, боясь угадать мысль императора:
— Екатерина и я, мы вступили в супружество, значит, уже соединились совсем, на всю жизнь.
— Но, — с живостью подхватил Наполеон, — ведь вот и я был женат на Жозефине, однако же…
— Ваше величество, вы — дело другое.
— Весьма возможно. Но все-таки, любезный Лефевр, ты никогда не помышлял о разводе?
— Никогда, ваше величество! — воскликнул маршал. — Я смотрю на развод, как на…
Он спохватился, внезапно испугавшись, что у него вырвется слово, которое можно было бы счесть критикой поведения императора.
— Послушайте, маршал, — продолжал Наполеон, заметивший его замешательство, — что если бы ты и твоя жена с обоюдного согласия развелись? Помни, что в этом случае я назначу твоей жене значительное содержание; с нею будут обращаться с уважением, ей будут воздавать почести в ее уединении, она сохранит за собой герцогский титул, будет именоваться вдовствующей герцогиней. Ты хорошо понимаешь это?
Лефевр поднялся и, прислонившись спиной к камину, с побледневшим лицом выслушивал, покусывая губы, не особенно соблазнительные предложения императора.
А тот продолжал, прохаживаясь по комнате, заложив руки за спину, точно диктовал боевой приказ:
— Когда развод совершится, я найду тебе супругу, женщину, состоявшую при прежнем дворе, с титулом, с именем, с предками. За богатством не стоит гнаться. Я дам тебе денег, награжу тебя поместьями, у вас будет всего вдоволь. Нужно, чтобы наше молодое дворянство смешивалось с старинною знатью. Вы, современные паладины, должны жениться на дочерях героев крестовых походов. Вот каким образом мы заложим основу путем слияния обеих Франций — старой и новой — общество будущего, новый порядок возрожденного мира. Тогда между обеими аристократиями исчезнет всякий антагонизм. Ваши сыновья пойдут рука об руку со всеми наследниками благороднейших родов Европы, и через два поколения не останется больше следов, пожалуй, даже не останется и воспоминаний об этой розни, об этой враждебности старинных партий. Будут только одна Франция, одно дворянство, один народ… Тебе нужно развестись, Лефевр! Я подыщу для тебя жену.
— Ваше величество, вы можете послать меня на край света — в раскаленные пустыни Африки, в глубь ледяных степей Сибири; вы вольны располагать мной во всем и для всего, приказать мне найти себе смерть, если вам угодно, и я послушаюсь вас. Вы можете также лишить меня чинов, титулов, которые я добыл благодаря своей сабле и вашему благоволению, но вы не можете заставить меня разлюбить мою добрую Екатерину, вы не можете принудить меня к разлуке с той, которая была мне преданной подругой в тяжелые дни и останется моей женой до смерти. Нет, ваше величество, ваша власть не простирается до этого. И если я даже рискую навлечь на себя тем вашу немилость, я все-таки не разведусь, и мадам Лефевр, маршальша и герцогиня по вашему изволению, останется мадам Лефевр по моей воле! — гордо заключил герцог Данцигский, осмеливаясь впервые пойти наперекор императору и противиться его намерениям.
Наполеон исподлобья взглянул на маршала и холодно сказал ему:
— Вы славный малый, образцовый муж, герцог Данцигский. Я не разделяю ваших взглядов, но уважаю вашу добропорядочность, черт побери! Ведь я не какой-нибудь тиран. Хорошо, оставим навсегда разговор о разводе. Сохраните при себе свою пригородную слобожанку, только посоветуйте ей следить за своим языком и не вводить при моем дворе, около императрицы, рыночного говора и манер торговок. Ступайте, герцог, мне надо поработать с министром полиции; можете отправляться к своей благоверной!
Лефевр поклонился и вышел, все еще взволнованный предложением императора и кисло-сладкими словами, сопровождавшими его отказ. Когда он переступал порог комнаты, Наполеон, следивший за ним взором, пожал плечами и обмолвился словом, выражавшим мнение, которое было вызвано отпором Лефевра его матримониальным планам:
— Дуралей!
VII
Лефевр с багровым лицом, недовольный, встревоженный, недоумевавший, каким образом примет император его сопротивление и как выдержит нравственное поражение, нанесенное им, вернулся восвояси, ругаясь про себя.
Он нашел Екатерину за примеркой придворного наряда, предназначенного для церемонии императорской свадьбы. Она побросала все при виде мужа, кинулась ему навстречу и повисла у него на шее, радостная, бесцеремонная, а потом, почти тотчас заметив его расстроенное лицо, спросила с тревогой:
— Что с тобой? Разве в императора стреляли?
— Нет! Его величество здоров и невредим.
— Ах, ты снимаешь у меня тяжесть с души! — промолвила Екатерина.
У всех в голове была мысль о возможности неожиданной смерти Наполеона. Никто не мог представить себе более ужасную катастрофу, и эти опасения мучили не только приближенных Наполеона, их разделяла вся Франция, и эта общая тревога немало способствовала успеху смелых планов Мале и его филадельфийцев.
Успокоившись относительно императора, Екатерина повторила свой вопрос:
— Так что же случилось? Ты ходишь взад и вперед, точно минутки не можешь постоять на месте; дело, значит, серьезное?
— Очень серьезное! — И Лефевр опять принялся шагать по комнате, слегка подражая императору.
— Ты поспорил с его величеством? — спросила Екатерина.
— Да, мы немножко сцепились. Император повел на меня основательную атаку; я держался как мог, а потом сам перешел в наступление и… победил! Но одерживать победы над императором очень опасно: он из тех, которые всегда мстят.
— Похоже на то! Но из-за кого или из-за чего вы спорили?
— Из-за тебя!
— Из-за меня? Быть не может!
— Нет, это правда! Угадай-ка, чего захотел император?
— Право, не знаю… Он хочет, чтобы ты отправил меня в тот замок, который он велел нам купить? На который он в Данциге дал тебе денег?
— Да, он именно хочет, чтобы ты жила в имении, в провинции, и довольно-таки далеко.
— Отчего же ты не согласился? Я отдохну в деревне. У нас будут большая карета для катания, собаки, корова. Это будет очень забавно! И знаешь, Лефевр, мне уже по горло надоели все эти придворные злючки, которые постоянно насмехаются над нами! Мне вовсе не весело на праздниках и приемах у его величества. А во время всех этих свадебных церемоний придется целые часы выстаивать в тяжелых накидках, задыхаться в тесных лифах и мучиться в узких бальных башмаках. Если император желает, чтобы мы уехали в то имение, которое он для нас выбрал, — купим поскорее замок и уедем! Ведь теперь у нас долго не будет войны, может быть, никогда! Послушай, Лефевр, почему ты не согласился? Отчего сейчас же не сказал: «Государь, мы едем!»?
— Да видишь ли, дорогая моя Катрин, когда император говорил, чтобы ты оставила двор и поехала в отдаленный замок, он подразумевал только тебя одну.
— Как так? А ты?
— Я должен остаться при императоре.
— Вот еще! Разлучить нас в мирное время? Понятно, что на войне я не могу следовать за тобой по пятам, как адъютант или вестовой, но теперь, когда во всей Европе мир и тишина… Да что же это сделалось с императором?
— Он хотел не только разлучить нас, дорогая моя Катрин, но… знаешь, что он хотел сделать со мной?
— Дать тебе отдельный корпус? Послать тебя управлять каким-нибудь государством? Неаполем? Или Голландией?
— Не угадала: он хотел женить меня!
Екатерина громко вскрикнула:
— Тебя? Женить тебя?! Ну а я-то?
— Мы должны развестись.
— Развестись? Он смел предложить это? Смел говорить о нашем разводе? Какой он мерзкий, твой император! А что же ты ответил ему, Лефевр?
Маршал, улыбаясь, открыл объятия. Екатерина бросилась к нему на грудь, и муж и жена крепко обнялись. Счастливые тем, что опять вместе, они страстно обнимали друг друга, как бы для того, чтобы отогнать страх, навеянный перспективой разлуки. Нет, ничто не могло разъединить их! Этими молчаливыми, горячими объятиями они протестовали против самой возможности развода, подтверждали друг другу, что мысль о подобной измене никогда не могла прийти им в голову, и ободряли друг друга ввиду смутной опасности, которой грозил им план императора.
— Так что же ты ответил ему? — спросила Екатерина после долгого молчания, потихоньку освобождаясь из объятий мужа.
Лефевр усадил жену рядом с собой на диван и заговорил, нежно глядя ей в глаза и не выпуская ее рук из своих:
— Я сказал императору, что люблю тебя, Катрин, одну тебя и что, прожив вместе очень счастливо и согласно годы нашей молодости, мы мечтаем только о том, чтобы это продолжалось, пока русское ядро или испанская пуля не отправят меня туда, где уже покоятся Ош, Дэзэ, Ланн — все мои товарищи по прежним битвам.
— Ты сказал то, что следовало, Лефевр! Во что только не вмешивается император! Сам развелся, так хочет, чтобы и все на свете делали то же самое! У него была особая цель, свой определенный план. Зачем он говорил тебе о разводе?
— Да ведь я же сказал тебе: он хотел меня женить.
— На ком же? Я хочу знать! Ведь я же ревную! Скажи мне имя той, которую он предлагал тебе! Нечего сказать, хорошими делами занимается твой император! У него есть барышни, которых ему нужно пристроить. Он, конечно, предлагал одну из своих любовниц? Гаццани? Или Элеонору? Или прекрасную польку?
— Он не назвал никого, он говорил вообще. Видишь ли, он хочет, чтобы ему подражали… чтобы его принимали за образец. Сам он женится на эрцгерцогине, и каждого из нас хотел бы женить на аристократке.
— Вот так придумал! Я не про тебя говорю, бедный мой Лефевр, твои чувства я знаю; а другие-то маршалы? Что они будут делать с благородными барышнями, которые так гордятся своими предками? Разве Ожеро не сын рыночной торговки? Ней, Массена? Да все они, все из народа, как и мы с тобой! Просто безумие — навязать им в жены девиц, которые будут сравнивать их с знатными дворянами, каковы они сами. Боюсь, Лефевр, не спятил ли немножко наш император! Уж одно то, что он собирается жениться на дочери императора, гордой австриячке, для которой он будет таким же солдатом-выскочкой, как и ты.
— У императора на все свои причины.
— А у нас свои! Ведь ты отказался? Решительно отказался? Наотрез?
— Неужели ты в этом сомневаешься? — нежно спросил Лефевр, снова целуя жену, которая, краснея от удовольствия, охотно отдавалась его ласкам. — Ты, значит, не испугалась? Ты была вполне уверена, что я никогда не соглашусь развестись и жениться на другой?
— Черт возьми! Да разве ты не принадлежишь мне? Притом ты поклялся, что будешь только моим!
— Да, перед муниципальным чиновником. Это было давно. Но я не забыл, моя милая Катрин, той клятвы, которую дал тебе, когда взял тебя в жены.
— Я также! А если бы ты и забыл, так есть одна вещь, которая напомнит тебе твое обещание.
— Что такое? — рассеянно спросил Лефевр.
— А это что? — И, взяв мужа за руку, Екатерина быстро засучила рукав его мундира и отвернула рубашку: на коже виднелось голубоватое изображение пылающего сердца со словами: «Екатерина — навеки». Эту татуировку маршал, в то время простой сержант, сделал перед свадьбой и шутя назвал своим свадебным подарком. — Ага! Вот эта клятва! — с торжеством воскликнула Екатерина. — Разве ты можешь с такой рукой жениться на какой-нибудь эрцгерцогине? Что сказала бы она, увидав такую штуку? Она спросила бы, какой это Екатерине ты обещал быть верным до гроба, и стала бы делать тебе сцены. Ведь ты не можешь отречься от своего обещания, старина?
— Верно! Да и другая рука не больше понравилась бы ей! — смеясь, сказал Лефевр и, отогнув другой рукав, добродушно посмотрел на другую татуировку, сделанную 10 августа 1792 года, с отчетливо сохранившейся надписью: «Смерть тирану!».
— Что бы там ни было, а мы навеки принадлежим друг другу, — сказала Екатерина, с любовью опуская голову на грудь мужа.
— Навеки! — тихо сказал маршал.
— Ах, пусть бы теперь император пришел и увидел нас! — сказала растроганная Екатерина.
VIII
Мария Луиза задумчиво сидела в своей просто убранной комнате на втором этаже императорского дворца в Вене и лениво играла с маленькой, нарядно разукрашенной лентами собачкой, которую ей поднес английский посланник. Это была одна из тех крошечных кудрявых собачек с лисьей мордочкой, какие тогда были в большой моде и получили название кингчарльс в память Карла II, который любил их и подарил несколько экземпляров своей фаворитке, герцогине Портсмутской.
Раздался торопливый стук в дверь, и в комнату, задыхаясь и охая, прижимая руку к боку как бы для того, чтобы унять учащенное биение сердца, вбежала единственная дуэнья эрцгерцогини, в одно и то же время статс-дама и камеристка.
— Что случилось? — спросила удивленная Мария Луиза. — Уж не пожар ли во дворце?
— Никакого пожара нет, но сюда идет ваш августейший батюшка, его величество император!
— Мой отец? Ко мне в комнату? Боже мой! Да что же случилось?
— Не знаю, ваше высочество; вероятно, вы сейчас услышите это! — И дуэнья, уже несколько оправившись от своего волнения, удалилась, сделав низкий реверанс входившему императору.
Франц II, или Франц Иосиф I, сначала император германский, а после победы Наполеона и учреждения Рейнского союза император австрийский, был очень ничтожным государем. Он упорно боролся с французской революцией, затем с Наполеоном, защищая то, что считал основанием социального строя: сохранение привилегий дворянства и уничтожение всякого рода народного представительства. Подчас жестокий, он не стеснялся отправлять в шпильбергские казематы всякого из своих подданных, согласного с принципами французской революции хотя бы только в теории или с философской точки зрения.
Разбитый во всех сражениях, вынужденный после Маренго подписать Кампоформийский договор, лишившись после аустерлицкого боя Венеции, он более всех европейских государей имел основание ненавидеть Наполеона, но скрывал эту ненависть до тех пор, пока его победитель не был сам окончательно побежден и не очутился под строгим надзором английских солдат.
Постепенно ожидая перемен в чувствах Наполеона. изменчивых, как случайности войны, он при посредстве Меттерниха и князя Шварценберга расточал перед победоносным императором дружеские уверения и пошлую лесть.
С самого начала переговоров о брачном союзе он не скрывал желания иметь Наполеона своим зятем и ликовал как монарх и как отец.
К своей дочери Марии Луизе он питал прочную и спокойную родительскую привязанность, свойственную германской расе, и думал, что она будет вполне счастлива с Наполеоном, трон которого уже блистал славой пятидесяти побед. Император французов был не только самым богатым государем Европы, но слыл и самым щедрым. Франц II с удовольствием отметил количество присланных высоким женихом подарков — драгоценностей, кружев и платьев, и через своего представителя в Париже, князя Шварценберга, дал понять, что австрийский двор беден и что подношения национальных музеев и знаменитых фабрик богатой Франции будут приняты в Вене с большой признательностью.
Наполеон очень гордился будущим родством, жаждал угодить императору широкой щедростью и внушить Марии Луизе выгодное мнение о пышности французского двора. По его желанию Серван, Моллиен и все, заведовавшие музеями, принялись усердно хлопотать: грабили Гобеленов, опустошали Севр, налагали контрибуции на чудные произведения Обюссона и Сен-Гобэна. В Вену потянулись вереницы фургонов, нагруженных мебелью, тканями, произведениями искусства. Будущий тесть принимал все эти доказательства величия Наполеона с безграничным удовольствием, что не помешало ему впоследствии отказать узнику Св. Елены в лишней паре лошадей для кареты и находить его стол чересчур обильным.
Теперь из политических расчетов Франц II притворялся совершенно очарованным предстоящим браком, который должен был упрочить его трон, уничтожить последствия прежних поражений и разрушить союз с Россией.
Поэтому он сделал все, чтобы довести до благополучного конца предварительные переговоры в Париже, и с радостью получил собственноручное письмо Наполеона, извещавшее о приезде в Вену Бертье, принца Нёшательского, уполномоченного официально просить руки Марии Луизы. Его собственное согласие было дано заранее; оставалось исполнить лишь небольшую формальность: предупредить эрцгерцогиню, что ей предстоит отправиться во Францию и сделаться французской императрицей. Вот какую новость явился Франц II лично сообщить Марии Луизе.
Молодой принцессе было восемнадцать лет. Это была здоровая девушка, не отличавшаяся ни грацией, ни привлекательностью, но плотно сложенная, свежая и розовая. Она была довольно красива, но ее красота была красотой продавщицы из пивной; с толстыми руками и талией, с большими ногами, с сильно развитой грудью, полными, чувственными губами и холодными голубыми глазами, лишенными выражения. Она представляла собой красивое животное, равнодушное, ленивое, толстое и грубое, женщину, созданную лишь для алькова.
Собирая отовсюду сведения о своей невесте, Наполеон с удовольствием узнал о ее физических качествах, что для него было важнее всего. Эта тяжеловесная принцесса обещала быть превосходной матерью; он был уверен, что она подарит его империи наследника.
Мария Луиза была воспитана тщательно и очень строго, должна была подчиняться чисто монастырской дисциплине и получила довольно солидное образование. Она знала почти все европейские языки: французский, немецкий, английский, итальянский, испанский, чешский и даже турецкий, так как предназначалась в супруги члену одного из царствующих домов, поэтому ей не мешало знать язык своих будущих подданных. Не была забыта и музыка, о чем было доведено до сведения ее будущего супруга. Религиозное воспитание Марии Луизы ограничивалось внешними обрядами, чтобы в случае выгодной партии с иноверным государем ей ничего не стоило сделаться православной, лютеранкой или кальвинисткой.
Юную принцессу окружала крайняя простота; утрата провинций, военные контрибуции, поражения, формирование новых армий совершенно истощили австрийскую казну, вынуждая двор к строгой экономии. Пышные балы уступили место скромным музыкальным вечерам; ценные вещи и дорогие украшения исчезли из дворца.
Молодость принцессы протекала среди постоянных опасений французского нашествия. Часто раздавались вокруг нее испуганные крики: «Французы!». По залам суетливо бегали дрожащие камергеры; слуги как попало бросали в сундуки платья, посуду, драгоценные вещи. Улицы наполнялись бегущим народом, яростно требующим мира; а Франц II, не успевший добриться, выглядывал из своей комнаты с тревожным вопросом: «Успеем ли мы добраться до Тироля?»
Принцессу торопливо усаживали в карету, и весь двор спешил укрыться в горах, с отчаянием повторяя: «Все погибло!»
Из случайно долетавших до нее во время бегства разговоров прислуги принцесса вынесла убеждение, что на свете существует коронованный разбойник, чудовище, всегда верхом на коне, со шпагой в руке, с угрозой смерти на устах, носящийся по Европе с отрядом свирепых рубак, сопровождаемый толпами пастухов, ремесленников и всяких бродяг, вооруженных чем попало после разграбления замков; одетые в фуфайки, деревянные башмаки и красные шапки, они пьют кровь стаканами, уводят в лесную глушь захваченных женщин, а вместо знамен водружают гильотины с вечно окровавленным ножом. Воображение принцессы рисовало ей Наполеона тем корсиканским людоедом, каким легенды изображали его после падения.
Франц II несколько опасался страшной славы, которою пользовался его будущий зять, и сознавал, каким малопривлекательным представлялся для принцессы подобный разбойник. Поэтому он до последней минуты откладывал объяснение с дочерью; но теперь оно было необходимо: Бертье уже находился в дороге, и бракосочетание по доверенности было назначено на следующей неделе.
С первых слов отца Мария Луиза выразила полную покорность родительской воле, объяснив, что ничего не имеет против предлагаемого брака. Она знала, что Франция — обширная и прекрасная страна и что ей самой титул императрицы даст преимущество перед всеми членами ее семьи, поставив ее наряду с самыми могущественными монархинями Европы. Она заставила отца дважды повторить ей, что никакая королева, никакая императрица не сравнится с ней в блеске и могуществе. Франц II тут же перечислил ей все великолепные подарки, приготовленные ей Наполеоном, и сказал, что все эти сокровища она найдет в Париже, где будущий супруг ожидает ее с нетерпением.
В качестве послушной и покорной дочери Мария Луиза ответила, что, конечно, очень жалеет о необходимости покинуть своего доброго отца, нежную семью и венский двор, где провела первые годы своей жизни, но что без всякого неудовольствия соглашается сделаться супругой императора французов, избранного для нее отцом, и готова отправиться во Францию, как только принц Нёшательский приедет за нею.
Казалось, ее вовсе не удивляло, что ею распоряжались из малопонятных ей политических целей. Мысленно она перечисляла драгоценности, кружева и наряды, ожидавшие ее в Париже, сожалея лишь об одном — что не может надеть их немедленно. Она несколько раз переспрашивала отца о количестве, достоинстве и цене подарков, приготовленных к свадьбе, но ей ни на минуту не пришло в голову расспросить о том, кто приготовил для нее эти подарки. Богатый и могущественный император обеспечивал ей выдающееся положение среди тех самых принцесс, которым она завидовала, — это было для нее достаточно.
На прощание Франц II сказал дочери:
— Ты будешь очень одинока, Луиза, среди чужого двора, вдали от всех нас; ты будешь окружена храбрыми воинами и блестящими дамами, но ничто не будет напоминать тебе отечество. Я хочу, чтобы около тебя был кто-нибудь из нашей среды, почти из нашей семьи. В Париже ты найдешь соотечественника.
— Моего милого Зозо? Моего прелестного кингсчарльса? — воскликнула Мария Луиза, радостно хлопая в ладоши при мысли, что может увезти с собою своего неразлучного друга.
— Нет, — возразил Франц II, улыбаясь заблуждению дочери, — речь не о нем, да и император Наполеон не терпит собак. Зозо останется в Вене. Будь спокойна, о нем будут заботиться!
На ясных голубых глазах опечаленной принцессы выступили слезы. Она тяжело вздохнула и с раздражением начала стучать носком по ковру. Зозо был единственным существом, которое она любила.
В холодной, надменной принцессе не было ни молодых порывов, ни девичьего любопытства, ни смутного стремления к неизвестному. Любовь, желания не существовали для этой невозмутимой души, замкнутой для всего возвышенного. А между тем в ее жилах текла пылкая кровь дочерей Марии Терезии, горячих, ненасытных любовниц: Марии Каролины, королевы неаполитанской, знаменитой своим распутством; Марии Амелии, герцогини пармской, имевшей бесчисленных любовников; казненной королевы Марии Антуанетты, прославившейся громкой историей с ожерельем и двусмысленной дружбой с герцогиней де Полиньяк и принцессой де Ламболь. Но час пробуждения еще не пробил, и чувства еще спали в груди Марии Луизы. Только иногда ощущала она трепет — предвестник чувственных наслаждений, впоследствии наполнивших всю ее жизнь и сделавших из нее развратницу, которой Франция была обязана своим позором, а Наполеон — своим пленом на острове Св. Елены. У нее чувственность заменила сердце, ум, волю, разум, честность, она для утоления неугасимой жажды любви изменила мужу, бросила сына, отказалась от трона, забыла всякий стыд и навсегда опозорила свое имя. Но теперь Мария Луиза рассеянно слушала долетавшие до нее намеки на любовь. Как ни охраняли ее в затворнической жизни — в Лаксенбургском монастыре, в садах Шенбрунна, в императорском дворце в Вене, к ней все-таки нашла доступ почтительная, но смелая любовь.
Однажды, во время прогулки по Шенбруннскому парку, принцесса увидела на поверхности пруда, посреди водяных растений, красивый голубой цветок, который ей захотелось сорвать. Очутившись на сыром, скользком берегу, она неосторожно нагнулась, потеряла равновесие и чуть не упала в тинистую воду, между тем как отчаянные крики ее воспитательницы обращали в бегство уток и разгоняли лебедей, величественно удалявшихся с полураспущенными крыльями, подобно белым парусам. Вдруг чья-то рука поддержала и вывела на твердую зехмлю ошеломленную, но уже оправившуюся от испуга Марию Луизу. Ни она, ни ее воспитательница не знали изящного кавалера, почтительно склонившегося перед ними. Принцесса милостиво улыбнулась так кстати подоспевшему спасителю и сказала, протягивая ему руку:
— Благодарю вас! Без вашей помощи я барахталась бы в грязи, как эти бедные утки, испугавшиеся, кажется, не меньше меня.
Незнакомец молча склонился над протянутой рукой и запечатлел на ней почтительный поцелуй.
— И все это из-за цветка, которого я все-таки не достала, — продолжала Мария Луиза.
Обращение и наружность кавалера произвели на нее благоприятное впечатление. Поскользнувшись, она сильно задела ногой тот кустик водорослей, среди которого рос цветок-искуситель, и все поплыло по воде вслед за лебедями.
Не успела эрцгерцогиня закончить свои слова, как незнакомец в своем элегантном костюме, в напудренном парике, в шелковых чулках и со шпагой, не колеблясь, бросился в прозрачную воду глубокого пруда. Она была страшно холодна, так как стояла уже глубокая осень. Сильно работая руками, он не без грации доплыл до пучка зелени, уносимого течением, сорвал желанный цветок и вернулся на берег.
Изумленная и очарованная, Мария Луиза с живым интересом взглянула на человека, который, удачно удержав ее от падения в воду, не задумался принять ледяную ванну, чтобы добыть понравившийся ей Цветок, и даже не обратила внимания на беспорядок в костюме изящного кавалера. А он действительно имел комичный вид в платье, испачканном тиной, и в съехавшем на сторону парике, в котором запутались водяные растения, а из его шляпы вода лилась, как из лейки. Но молодую эрцгерцогиню поразила та трогательная нежность, с которой этот уже немолодой человек с правильными чертами лица два раза украдкой поцеловал, выйдя на берег, цветок, добытый им с такой самоотверженностью.
Приняв этот трофей из его дрожащих рук, принцесса поднесла его к лицу, желая понюхать, или, может быть, она хотела прикоснуться к нему собственными губами, чтобы уловить секрет незнакомца. Отвесив ей почтительный поклон, он уже хотел удалиться, когда она обратилась к нему с вопросом:
— Извините! Потрудитесь сказать мне ваше имя: император, мой отец, конечно, пожелает узнать, кто был кавалер, не задумавшийся броситься в пруд, чтобы исполнить мой каприз, за который мне теперь, право, стыдно.
Кавалер вспыхнул от удовольствия.
— Мое имя — граф Нейпперг, — тихим голосом ответил он. — Я нахожусь на службе его величества как генеральный консул. На сегодняшнее утро я как раз получил аудиенцию у императора и прошу вас, ваше высочество, милостиво извинить меня: я должен вернуться домой и переодеться для представления его величеству.
— Идите, граф! Я извинюсь за вас перед моим отцом, который, узнав, что это я виновата в вашем опоздании, уже заранее простит вас.
И она еще раз улыбнулась Нейппергу.
А он из этой нечаянной встречи на берегу пруда вынес неизгладимое впечатление, глубокое, как рана.
С этого дня малоподвижному девичьему воображению Марии Луизы иногда рисовался образ Нейпперга, но неясно и не смущая ее сердца мыслью или желанием, которые она не могла бы доверить отцу или своей воспитательнице. Психологический момент еще не наступил, и слово «любовь» имело для принцессы лишь значение любви христианской или родственной. Она не забыла Нейпперга, даже иногда думала, что с удовольствием встретила бы его при дворе своего отца, но ожидание этой встречи не возбуждало в ней никаких страстных мечтаний.
Известие о браке с французским императором не давало ей ни малейшего повода думать, что это событие может иметь какое-либо отношение к графу Нейппергу, поэтому она очень удивилась, когда Франц II сказал ей:
— Нет, милое дитя, дело идет не о таком сотоварище, каким был для тебя твой Зозо. Я хочу дать тебе шталмейстера — благородного дворянина, во всех отношениях достойного такого доверенного поста; придворного кавалера, который будет служить тебе при чужом для тебя дворе, будет всегда около тебя, своим присутствием напоминая тебе твою родину, беседуя с тобой о твоем отце и родных — обо всем, что ты покидаешь здесь навеки. Ты поняла меня? Ты должна с кротостью и добротой относиться к этому представителю моей власти, к поверенному, а в случае нужды — даже защитнику, которого я приставлю к тебе.
— Батюшка, я буду поступать согласно вашим желаниям, — спокойно ответила эрцгерцогиня, в глубине души очень мало интересуясь наставником, которого ей навязывали, и продолжая сожалеть о своей собачке Зозо.
— Твой новый шталмейстер вступит в исполнение своих обязанностей с завтрашнего же дня, так как принц Нёшательский уже в дороге и его прибытие в Вену ожидается с минуты на минуту.
— Как вам угодно, батюшка!
— Но… Ты даже не спрашиваешь, кто этот кавалер? — сказал император, слегка задетый равнодушием дочери.
— В самом деле! Как же его зовут?
— Граф Нейпперг, который давно служит нам. Он был уполномоченным при Марии Антуанетте. Его возраст и характер вполне ручаются за него, и я надеюсь, что ты останешься довольна моим выбором.
— Да, батюшка, — ответила Мария Луиза, в сущности довольная, что снова увидит изящного незнакомца, о котором часто вспоминала, но нисколько не подозревая, какое место займет в ее жизни этот предупредительный кавалер, ментор и наставник, которому ее поручают, и какую роль — увы! — он сыграет в несчастиях Франции, корону которой так торжественно готовился ей поднести принц Нёшательский.
IX
11 марта 1810 года совершилось в Вене заочное бракосочетание Марии Луизы, причем в качестве представителя царственного супруга фигурировал эрцгерцог Карл.
Отбытие из Вены Бертье, увозившего новую императрицу, было обставлено очень торжественно. В Браннене, на границе австрийских владений, немецкие офицеры и придворные дамы откланялись и их сменили французы. Император австрийский провожал свою дочь до границы инкогнито; там он нежно простился с нею, и слезы струились по его загорелым щекам, огрубевшим в беспокойной, малоблагоприятной жизни. Но его дочь оставалась совершенно равнодушной.
Мария Луиза не испытывала ни малейшего волнения, покидая дворец, где протекало все ее детство. Она не проронила ни единой слезинки, прощаясь с отцом, который любил ее, но к которому она была совершенно равнодушна. Единственно, что причиняло ей горе во время путешествия, была мысль о любимой собачке Зозо, оставшейся в Вене.
Неаполитанская королева, сестра Наполеона, выехала навстречу Марии Луизе и сопровождала ее на пути во Францию. Этот путь представлял собою сплошной ряд оваций, подношений цветов, триумфальных арок, хвалебных гимнов, речей, пиршеств и церемониальных маршей.
Все эти почести, совершенно новые для Марии Луизы, приводили ее в восторг и наполняли гордостью. У нее, казалось, не было ни желания поскорее увидаться со своим супругом, ни сожаления о покинутом родительском доме и родной стране, возвращение куда не могло ей тогда представляться возможным. Однако время от времени она слегка поворачивалась и бросала благосклонный взгляд на Нейпперга, сопровождавшего ее карету.
Между тем Наполеон с лихорадочным нетерпением считал дни и часы. Его состояние граничило почти с безумием. Он беспрестанно только и думал о своей будущей супруге и готов был сократить все формальности, все, что отдаляло их свидание. Навстречу новой императрице ежедневно отправлялись курьеры и специальные гонцы, чтобы засвидетельствовать ей расположение того, кто ждал ее с неизъяснимым нетерпением. Чтобы успокоить нервы и утихомирить свою пылкую страсть, Наполеон отправлялся на охоту, хотя не любил подобного рода удовольствия и с наивной радостью посылал Марии Луизе огромные корзины, наполненные настрелянной им дичыо.
Недовольный своим портным, он выписал громадный набор всевозможных костюмов, не находя ничего, что казалось бы ему достаточно подходящим. Сапожники не покидали Фонтенбло целыми часами, занимаясь примерками. Наполеон отсылал министров и маршалов, запирался на полдня с учителем танцев Деспрео и старательнейшим образом учился танцевать вальс.
Желая во всем понравиться Марии Луизе, он приказал вынести из картинной галереи все картины, изображавшие победы над Австрией, так как боялся оскорбить дочь Франца, оставляя у нее на глазах изображения отцовских поражений.
Любовная лихорадка Наполеона усиливалась еще более при мысли об обладании девушкой, чистой, прекрасной, целомудренной, соблазнительной, существом недоступным, запретным, являвшимся в его глазах как бы из другого, высшего мира. Он был безумно влюблен в Марию Луизу, хотя знал ее только по портретам, быть может, неверным и приукрашенным. Его пленило главным образом ее царственное происхождение. Он не мог скрыть свое счастье, свою гордость и торжество бедняка-корсиканца: ведь его мать ходила в свое время на базар с корзинкой и испытывала горькую нужду, почти голод, а он вдруг женится на эрцгерцогине, дочери и внучке трех императоров. Это, быть может, единственный момент, когда обаятельный, великий Наполеон казался довольно ничтожным!
По церемониалу первая встреча их величеств должна была состояться между Компьенем и Суассоном. В двух лье от Суассона на дороге была устроена площадка с двумя входами, и на ней был поставлен шатер, окруженный решеткой. В момент приближения Марии Луизы император должен был выехать из Компьеня в сопровождении принцев и принцесс в пяти каретах, конвоируемых гвардейскими отрядами. В назначенном месте император и императрица должны были встретиться; в шатре императрица должна была преклонить колена, а император — поднять ее и заключить в свои объятия. Затем оба они должны были сесть в карету и отправиться в Компьень, где городские власти должны были встретить и приветствовать их.
Однако этот величественный церемониал был нарушен из-за безумной страсти Наполеона.
Как только было получено известие, что императрица выехала из Витри в Суассон, он не мог более сдерживаться, вскочил в карету и в сопровождении Мюрата пустился во всю прыть навстречу своей супруге, решив явиться перед нею инкогнито. Проскакав таким образом пятнадцать лье, император близ деревни Курсель преградил путь каретам эрцгерцогини и, бросившись к экипажу изумленной Марии Луизы, представился ей, удалил свою сестру Каролину, а сам, оставшись наедине с молодой девушкой, обрушился на нее с грубыми ласками, которые и удивили, и испугали ее, а быть может, даже сразу оттолкнули от него. Наполеон приказал форейтору гнать лошадей, чтобы как можно скорее прибыть в Компьень. Гнали безостановочно и проехали мимо шатра, приготовленного для торжественной встречи, оставив за собой изумленных офицеров, придворных, местные власти и население, собравшееся со всей округи.
В десять часов вечера 28 марта Наполеон и Мария Луиза прибыли в компьенский дворец. Императрица должна была там остановиться одна, а для Наполеона была приготовлена комната в особом флигеле. Но он не воспользовался этим помещением. Торжество гражданского бракосочетания было назначено на 1 апреля, а 2 апреля должно было состояться венчание в соборе Парижской Богоматери, после чего только и мог совершиться брак. Но Наполеон спешил, как будто дело шло о военном походе против Австрии. Поужинав вместе с Марией Луизой, которая считалась еще невестой, он спросил ее, не согласилась бы она, чтобы он теперь же вступил в свои права супруга.
Принцесса не знала, что ей на это ответить. Тогда Наполеон пригласил своего дядю, кардинала Феша, и спросил:
— Не считаете ли вы, что наш брак уже состоялся представительством в Вене и мы теперь — муж и жена?
— Да, ваше величество, по гражданскому закону вы уже сочетались браком, — почтительно ответил придворный кардинал.
После этого Наполеон остался, решив воспользоваться своими супружескими правами.
На следующее утро он велел подать завтрак в спальню Марии Луизы, цветущей, спокойной как всегда и нимало не смущенной присутствием своих дам.
Придворные дамы скрыли впечатление, какое произвел на них этот эпизод. Они были настолько поражены, что даже не заметили, как в передней императрицы ее австрийский адъютант проливал горькие слезы, забившись в кресло.
X
Любила ли когда-нибудь Наполеона Мария Луиза? Возможно, что в первые месяцы этого брака, заключенного австрийским двором в качестве перемирия с врагом, молодая австриячка нашла прелесть в удовольствиях замужества и почувствовала некоторую признательность к тому, кто познакомил ее с ними. Однако позже она не только забыла про этот медовый месяц, но даже не стыдилась признаться, что всегда была равнодушна к Наполеону.
Вот, например, как она приняла известие о фатальной развязке, сделавшей ее вдовой императора.
Курьер привез ей в Парму лаконичную депешу от отца, гласившую:
«Генерал Бонапарт скончался на острове Св. Елены после продолжительной и тяжкой болезни 5 мая 1821 года, в 5 часов 45 мин. вечера. Шлю тебе, дорогая дочь, мои самые нежные утешения. Генерал Бонапарт умер как христианин. Присоединяя мои молитвы об упокоении его души к твоим, прошу Бога сохранить тебя под Своей защитой. Франц».
Мария Луиза тотчас же ответила отцу. Уведомляя его о получении депеши, сообщавшей печальную новость, она написала:
«Признаюсь, что я крайне поражена. Хотя я никогда не питала к нему каких бы то ни было чувств, я все же помню, что он является отцом моего сына; правда, говорили, что он дурно обходился со мной, но я заявляю здесь, что он всегда выказывал по отношению ко мне полное уважение и внимание, а в сущности говоря, это все, чего можно требовать в политическом браке. Я очень огорчена, и, хотя нужно было бы радоваться, что он окончил, как христианин, свое несчастное существование, тем не менее я желала бы ему долгих лет счастья и жизни, только подальше от меня».
Какое суровое, жестокое письмо! А между тем Мария Луиза была горячо любима тем, кто сначала руководствовался лишь простым тщеславным желанием. Наполеон добивался руки дочери австрийского императора и желал иметь детей от эрцгерцогини; позже, сделавшись повелителем и мужем, он стал влюбленным и рабом. В Марии Луизе он действительно любил женщину. Он всеми силами старался ей понравиться, он осыпал ее подарками, расточал знаки внимания, но Мария Луиза принимала все это с равнодушной надменностью, как должную дань. Для своей Луизы, которую он называл «ты», требуя того же от нее, что, впрочем, нисколько не смущало эту принцессу, отличавшуюся мещанскими вкусами, Наполеон был готов на все.
Так, например, он изменил своей закоренелой привычке есть быстро и смотреть на обед как на простой перерыв в дневной работе. У Марии Луизы был волчий аппетит. За столом, изобиловавшим яствами, приходилось сидеть долго. Однако Наполеон покорился этому, считая за счастье смотреть, как его супруга объедается в свое удовольствие.
Сама она даже в возрасте сорока одного года сохранила все привычки ранней молодости, веселость выпущенной на свободу школьницы, съезжавшей по перилам лестницы, играющей в жмурки и горелки в парке Мальмезон. Наполеон играл с ней в мяч, в прятки и в кошки-мышки. Вечером под сенью деревьев в Компьене или Сен-Клу он устраивал с придворными дамами игры, и можно было часто видеть победителя Европы «собирающим мнения» или за ширмой спрашивающим «сестру Луизу» в качестве привратника монастыря.
Мария Луиза захотела иметь лошадь, и Наполеон тотчас же обратился в берейтора, а когда она выучилась ездить верхом, он впервые в своей жизни пренебрег важнейшими государственными делами, диктовкой повелений, проверкой отчетов и вообще всеми мелочами, касавшимися управления обширной империей, в которые он вникал лично, чтобы отправиться сопровождать верхом молодую амазонку. К несчастью, сложные политические отношения заставляли его не раз прерывать верховую езду и возвращаться в свой кабинет. Он удалялся с тяжелым сердцем, оставляя Марию Луизу беззаботной, скорее веселой, продолжать без него прогулку. Тогда, выждав момент, когда император должен был удалиться, граф Нейпперг показывался императрице; она дружелюбно подзывала его, и он приближался.
— Поезжай, Наполеон, — говорила императрица в таких случаях супругу, — я не хочу соперничать ни с Савари, ни с Талейраном. Отправляйся к своим солдатам и полицейским шпионам, а я сделаю еще два или три тура галопом. О, не беспокойся… со мной ничего не случится. Кроме того, меня будет сопровождать Нейпперг.
С тяжелым вздохом император поворачивал лошадь и возвращался во дворец, нисколько не беспокоясь относительно Нейпперга. Этот австрийский адъютант был приставлен к Марии Луизе ее отцом. Он был своего рода опекуном, избранным Францем I, и Наполеону и в голову не могло прийти заподозрить его в любовной интриге с Марией Луизой. Возраст Нейпперга и его подчиненное положение устраняли какое бы то ни было недоверие императора.
Но у женщин, даже носящих титул императрицы, самое невероятное часто становится истиной и самые худшие предположения оправдываются.
Ревность к Нейппергу у Наполеона проснулась внезапно.
Однажды он сопровождал императрицу в одной из ее верховых прогулок в Сен-Клу, когда на повороте дороги у подъема на холм близ Монтрету они встретили человека, стоявшего у дороги. Этот человек, правильнее говоря — великан, был одет в поношенную солдатскую шинель, на которой выделялся знак отличия военного ордена; на голове у него была плоская фуражка. Левая рука была на перевязи, но правую он держал горизонтально, как бы салютуя толстой и длинной палкой с серебряным набалдашником. Он стоял при въезде на мост с очевидным намерением обратить на себя внимание императора, галопировавшего возле императрицы в сопровождении только графа Нейпперга и верного Рустана, в его обычном костюме мамелюка, с тюрбаном на голове, в широких шароварах, при палаше и с пистолетами, заткнутыми за пояс. Более чем храбрый, отважный даже перед подосланными убийцами, Наполеон, находясь вместе с императрицей, принимал некоторые меры предосторожности. Он увидал этого необычайно высокого человека, как будто подстерегавшего его на дороге, и, несколько задержав свою лошадь, стал приглядываться к нему без малейшего беспокойства, даже не подзывая к себе Рустана. Крик «Да здравствует император!» вырвался из груди великана, продолжавшего салютовать своей большой палкой с серебряным набалдашником как ружьем. Наполеон круто остановил лошадь и подозвал незнакомца.
Великан подошел, по-прежнему держа с серьезным видом свою палку.
— Я где-то видел тебя! — сказал вдруг император. — Постой, не был ли ты тамбурмажором в первом гренадерском полку моей гвардии?
— Да, я там был, ваше величество!
— Почему же тебя там теперь нет?
— Моя рука, ваше величество. Картечная пуля попала в нее при высадке на остров Лобау.
— Ах! Ужасное сражение. Эсслинг! Асперн! Могила моих храбрецов… Здесь я потерял Ланна. Ты служил под начальством герцога Монтебелло? — спросил Наполеон печальным тоном, потому что воспоминание об этом сражении с сомнительным исходом, в котором пал один из его лучших друзей, не оставлявший его в дни несчастий, всегда вызывало у императора тяжелое чувство.
— Ваше величество, под Берлином он был позади меня, когда я первым, с моей тростью тамбурмажора в руке, во главе первого гренадерского полка вошел в столицу пруссаков.
Наполеон расхохотался.
— Ей-Богу, я узнал тебя. Я же сам и надел на тебя орден. Вечером под Иеной… ты один взял в плен целый эскадрон красных драгунов?
— Со мной была моя трость! К тому же ваше величество, все знали, что вы были поблизости!
— Хорошо, льстец! Ну, теперь я вспомнил… Тебя зовут л а Виолетт?
— Точно так, ваше величество!
И ла Виолетт взял по всем правилам «на караул», испугав этим лошадь императрицы, безучастно прислушивавшуюся к беседе императора со старым солдатом.
— Хорошо, — сказал император, наклоняясь к лошади и сильно ущипнув за ухо ла Виолетта. — О чем ты просишь?
Ла Виолетт показал на молодую женщину в трауре, стоявшую на коленях в нескольких шагах, и произнес:
— Ваше величество, у нее прошение…
Император сделал нетерпеливое движение.
— Что нужно этой женщине? Пенсию? Имеет ли она на нее право? Что, она — вдова одного из моих солдат?
Ла Виолетт вместо ответа подал женщине знак приблизиться.
Поднявшись с колен, дрожащая, с покрасневшими глазами, просительница пролепетала:
— Ваше величество, я прошу справедливости… милосердия. Прошу вас, ваше величество, прочтите! — И она подала императору бумагу.
Наполеон развернул ее, прочел подпись и воскликнул:
— Генерал Мале… это о генерале Мале, неисправимом якобинце, заговорщике, изменнике, идеологе. Что ему нужно от меня? Я мог бы расстрелять его за все проделки и интриги, но ограничился лишь отправкой в Сент-Пелажи. Пусть он там и останется. Пусть он даст забыть о себе.
— Соблаговолите прочесть, ваше величество, — пролепетала женщина, набравшись немного смелости.
Наполеон быстро пробежал поданное ему прошение; это было письмо, составленное в очень почтительных выражениях, от генерала Мале, арестованного два года тому назад за попытку на покушение филадельфов, раскрытую благодаря промаху одного из заговорщиков — генерала Гийома, который пытался склонить к измене своего друга генерала Лемуана, находившегося не у дел. Последний, желая заслужить расположение и милость Наполеона и загладить свое прошлое, предупредил начальника полиции о заговоре и выдал всех, чьи имена были известны. Мале был мало замешан в это дело, и лишь на одного Демайо ложилась вся тяжесть доноса.
Письмо Мале заключало в себе следующее:
«Ваше Величество! Сделав все, что предписывали мне долг и честь, чтобы указать Вам мою невиновность и непричастность к этому печальному делу, я решил ожидать молчаливо того акта справедливости и милосердия, который может вернуть мне свободу. Два года прошло с тех пор, Ваше Величество, а меня еще держат в тюрьме как преступника за намерения, быть может, нескромные, но во всяком случае преувеличенные и истолкованные в дурную сторону из желания возвести на мою голову гнусные подозрения, единственной защитой от которых могла бы служить память о моей прежней службе. Так как она. забыта, а заслуги, которые я имел счастье оказать Вам, Ваше Величество, быть может, никогда не доходили до Вашего сведения, то я считаю необходимым вкратце напомнить о них, прилагая эту записку, содержанию которой умоляю Вас уделить минуту внимания».
Император, которого покаянные выражения прошения привели в более милостивое настроение, быстро пробежал список заслуг генерала Мале, между которыми тот не забыл упомянуть о своей приверженности к делу 18 брюмера.
— Оказывается, Мале вовсе не так страшен, как мне расписал его Фушэ, — пробормотал император, удовлетворенный почтительным тоном просителя, — он вовсе не был таким неукротимым заговорщиком, каким мне изображали его в полицейских донесениях.
После этого Наполеон перелистал несколько страниц записки и бросил взгляд на ее конец. Генерал Мале, перечислив все свои несчастья, заканчивал письмо следующими словами:
«Такие невзгоды могли бы вселить скорбь в самую мужественную душу, но меня утешает мысль о том, что лучшим доказательством могущества монархической власти является право прекращать и одним словом исправлять незаслуженные несчастья осужденных. Этого слова я жду, Ваше Величество, надеясь на Вашу справедливость и доброту, которые могут вернуть мне свободу. Находясь в силу повеления от 31 мая 1808 года в заключении, я скорблю при мысли о том, что не могу быть более полезен своей службой Вам, Ваше Величество, и умоляю Вас приказать военному министру разрешить мне вернуться в Иль де Франс, где я мог бы снова вступить в свою семью, если, конечно, Вы найдете это уместным. Остаюсь с глубоким уважением покорным, послушным и верным слугой Вашего Величества. Генерал Мале».
Император пробормотал:
— Это писано от чистого сердца. Я рад убедиться в искреннем раскаянии генерала Мале. Но я не могу даровать ему свободу, о которой он умоляет; это послужило бы нежелательным примером. Необходимо сперва заглушить даже малейшие признаки мятежного духа в армии. Все, что я могу сделать, — обратился он к женщине, — это разрешить генералу Мале выйти из тюрьмы Сент-Пелажи; но он будет еще на некоторое время помещен в госпиталь, и таким образом его заточение будет несколько облегчено. Потом я подумаю. Ну, ты рад, ла Виолетт?
Наполеон весело обернулся к тамбурмажору; в глубине души он был доволен своим милосердием, проявленным по отношению к такому несерьезному врагу, каким оказался генерал Мале. Он уже хотел пустить лошадь легкой рысью, чтобы нагнать императрицу, когда просительница сказала:
— Ваше величество, вы только что оказали мне милость: теперь я прошу о справедливости.
Император сейчас же остановил лошадь и сказал:
— Прежде всего скажите, кто вы? Родственница генерала Мале, его жена, дочь?
— Нет, ваше величество! Спросите ла Виолетта, он скажет вам, кто я. Этому свидетелю вы можете поверить.
— Говори! — сказал император красному и смущенному тамбурмажору, сунувшему свою трость под мышку, чтобы отдать честь, приложив руку к фуражке.
— Ваше величество, — заговорил ла Виолетт, — эта женщина солдат. Она была в походе со мной… и ее звали Красавчик Сержант.
— Красавчик Сержант? Мне знакомо это имя. Подойдите сюда! Я, кажется, видел вас когда-то?
— Да, ваше величество, это было довольно давно. В Париже, в гостинице «Мец». Вы тогда очень позаботились обо мне… о нас… я хочу сказать — о Марселе, который был полковым лекарем в Валенсе и благодаря вашему покровительству был переведен в Верден…
— Марсель? Постойте, мне кажется, что это имя мне уже знакомо! Что сталось с ним?
— Ваше величество, его также арестовали вместе с генералом Мале. Он заключен в тюрьму в Гаме. Марсель никогда не был на стороне врагов вашего величества. Убедившись, что один человек, которого он считал таким же честным французом, как и самого себя, замышляет восстановить королевскую династию во Франции, он указал на этого агента графу де Прованс.
— Вы знаете имя этого агента?
— Ваше величество, его зовут маркиз де Лавиньи.
— Он не арестован?
— Он на свободе, тогда как Марсель в тюрьме.
— Я проверю и выясню все, что вы сказали мне. Но, — спросил император после минутного размышления, — кому сообщил Марсель о планах этого агента Бурбонов?
— Министру полиции, ваше величество, герцогу д'Отранту!
— Фушэ ничего не сказал мне. Он не говорил мне ни о маркизе де Лавиньи, ни об этом заговоре… Ах мошенник! Он, пожалуй, заодно с ними! — проворчал император возбужденным тоном, а затем продолжал: — Хорошо! Если дело обстоит так, как вы говорите, я подумаю и поступлю по справедливости!
После этого император, очень взволнованный, повернув лошадь, пустился в том направлении, куда уехала императрица.
Ренэ, успокоенная участием императора, воспрянула духом и сказала ла Виолетту, указывая ему на таверну, зеленая беседка которой манила отдохнуть:
— Вы, вероятно, чувствуете жажду. Пойдемте, я угощу вас.
— От бутылочки я никогда не отказываюсь, Красавчик Сержант, а сегодня, кстати, жарко, да и разговор с императором вогнал меня в краску.
— Я хочу написать моему узнику, — сказала Ренэ, — я горю желанием поделиться с ним хорошими вестями. Перевод Мале в госпиталь — уже шаг к свободе. Что касается Марселя, то император, подробно разузнав, не оставит его в тюрьме.
— Выпьем же за его освобождение и за здоровье императора! — весело сказал ла Виолетт, усаживаясь за стол в беседке вместе с Ренэ, менее печальной и даже почти улыбавшейся.
В то время как Ренэ писала Марселю, а ла Виолетт вспоминал о своих походах, опоражнивая бутылку, Наполеон ехал по парку, разыскивая свою супругу.
Он заметил свежие следы лошадиных копыт на одной из аллей, а потом следы вдруг исчезли. По примятой траве было видно, что всадники свернули с дороги, чтобы углубиться в лес.
— Странно, — проговорил про себя император, — зачем Луиза свернула с дороги? Не случилось ли чего-нибудь? Не понесла ли лошадь?
Волнуясь, он свернул в свою очередь с дороги в лес, сопровождаемый Рустаном, и, проехав немного, Увидел двух лошадей, привязанных к дереву.
Наполеон узнал скакуна императрицы, тотчас сошел с коня, так как густые ветви деревьев затрудняли дальнейшее движение, и, бросив поводья Рустану, направился в чащу.
Неподалеку находилась лужайка с простой беседкой посредине, из которой доносились звуки голосов.
Наполеон узнал резкий голос императрицы, к которому присоединился мужской баритон. Его глаза свирепо сверкнули, а рука, державшая хлыст, слегка задрожала.
В голове в одно мгновение промелькнули тысячи раздражающих, тяжелых, скорбных мыслей, в мозгу зашевелилось неопределенное подозрение, смутные догадки, ревность.
Вместо того чтобы сдержать себя, обождать, отдать себе отчет, потому что разговор лиц, находившихся в беседке, был настолько громок, что он мог слышать его, Наполеон бросился как бешеный в беседку, крича Нейппергу, стоявшему на почтительном отдалении от императрицы, которая сидела:
— Что вы здесь делаете? Уходите! Императрица не должна оставаться наедине с вами в глубине леса!
Нейпперг поклонился и, ничего не сказав, вышел.
Императрица, не изменяя своему обычному спокойствию, смеясь сказала:
— Что с тобой, Наполеон? Уж не ревнуешь ли ты?
Император, гнев которого остыл при виде его прелестной супруги, всецело властвовавшей над ним, стал бормотать возражения.
Ревность — низкое чувство, и такой человек, как Наполеон, не должен был бы поддаваться ей; к тому же Нейпперг, приставленный австрийским императором к дочери, не мог внушить ему подозрение; однако видимая близость и глубокая привязанность, которую, казалось, питала императрица к этому кавалеру, требовали его удаления. Он получил вместе с хорошим вознаграждением приказ возвратиться в Австрию.
Мария Луиза не настаивала на сохранении при себе этого адъютанта, но страшно рассердилась на Наполеона за такое решение. Он казался ей смешным со своими подозрениями, отвратительным в своей ревности. Зато Нейпперг, которому она все время выказывала знаки благоволения, стал в ее глазах жертвой супружеской тирании. Она думала о нем, мысленно вспоминала тысячи мелких подробностей из их ежедневных бесед, и в ее мыслях он занял одно из важных мест. Мария Луиза с умилением вспоминала о первой встрече с ним. Приключение на пруду с цветами получило теперь в ее глазах совершенно особенное значение. Она поняла, что Нейпперг любил ее. Мария Луиза созналась себе, что и он ей не был противен, и перебирала в уме его любезности, заботливость, манеру держать себя всегда почтительно, но в то же время с некоторым оттенком превосходства; последнее так действовало на нее, что она, вообще крайне гордая, при нем чувствовала себя слабой, покорной, побежденной.
В течение всего дня, когда Нейпперг уезжал, она проплакала в укромном уголке своей комнаты, удалив Наполеона под предлогом головной боли, а в тот момент, когда Нейпперг садился в карету, горничная передала ему маленькую шкатулку, которую он открыл с волнением и чувством счастья. В шкатулке были перстень и голубая незабудка.
XI
Вызвав к себе великого канцлера Камбасереса, император заперся с ним в обширном кабинете и занялся рассмотрением дела маркиза де Лавиньи. Слова Ренэ и подозрение министра полиции в измене только подтвердили опасения, зародившиеся у него благодаря внутренним военным заговорам. Ему небезызвестны были деяния графа де Прованса в Лондоне, но Фушэ каждый раз, когда император спрашивал его, отвечал с уверенностью, что с той стороны нечего опасаться беды. Таким образом и сам Наполеон стал понемногу забывать о тех, кто на чужбине в ожидании его поражения готовились к реставрации, считавшейся в то время невозможной и невероятной.
Итак, опасность перестала угрожать со стороны недовольных военных вроде Мале, мечтавшего о возмущении полков и содействии гарнизона гибели Наполеона. Эти казарменные мятежи были невероятны. Выражения в письме генерала Мале доказывали, что по крайней мере в данный момент филадельфы отказались от своих планов.
Оставались неведомыми замышляемые роялистами ухищрения Бурбонов, сношения, которые поддерживались во Франции принцами с помощью денег и с помощью Англии. Пожалуй, тут-то и таилась настоящая опасность.
Де Лавиньи, тайного агента, тем более опасного, следовало бы арестовать десять раз. Без сомнения, уже предупрежденный в настоящее время, он мог ускользнуть обратно в Англию.
Фушэ оставил его на свободе. Со стороны министра тут была или преступность, или глупость: он или не знал о его роли агента принцев и тогда заслуживал просто отставки за свою неспособность, или же ему были известны как присутствие де Лавиньи в Париже, так и цель, которую он преследовал; в последнем случае Фушэ оказывался изменником, достойным жестокой кары.
Раздраженный приключением в беседке, недовольный своей горячностью, которую он не мог сдержать при виде Нейпперга возле императрицы, Наполеон поспешно послал в полицейскую префектуру за сведениями о филадельфах и маркизе де Лавиньи. Он отдал этот приказ таким резким, нетерпеливым тоном, что секретарь, посланный за этими бумагами, находясь в очень хороших отношениях с Дюбуа, префектом полиции, не мог умолчать о явном гневе Наполеона.
Граф Дюбуа встревожился и, сев в карету, сам повез во дворец потребованные от него справки. Когда Наполеон принял его в своем кабинете, там уже был Камбасерес.
Император казался сильно взволнованным. Он прохаживался взад и вперед по комнате. На письменном столе лежал лист бумаги большого формата, на котором было набросано несколько строк его совершенно неразборчивым почерком. Император, круто повернувшись, внезапно остановился пред графом Дюбуа и сказал:
— Дюбуа, этот Фушэ — страшный негодяй.
Префект полиции, враг Фушэ, поклонился, не говоря ни слова. Он не одобрил и не подтвердил это определение, сделанное императором его начальнику.
Принявшись снова шагать по кабинету, Наполеон обратился тогда к Камбасересу:
— Да, это негодяй! Страшный негодяй! Но пусть он не рассчитывает сделать со мной то, что сделал со своим Богом, своим конвентом и своей директорией, которые были поочередно преданы и проданы им на самый низкий манер. Я дальновиднее Барраса и сладить со мной будет потруднее! Пусть Фушэ остерегается. Но у него есть мои записи, инструкции, и я хочу получить их обратно. — Тут, вернувшись опять к Дюбуа, император прибавил: — Я знаю, что вы и Фушэ — заклятые враги, однако, несмотря на это, я избрал именно вас, чтобы вы исполнили важное поручение, относящееся к этому человеку. Важное в особенности для него, потому что здесь дело идет о его голове!
— Ваше величество, — сказал Дюбуа, — соблаговолите избавить меня от такой чести. Вы сами изволили сказать, что герцог д'Отранте — мой враг; он вообразит, что я пришел к нему с враждебной целью.
— Молчать! — продолжал император. — Вы поедете к Фушэ, чтобы исполнить государственную миссию, с которой не справиться никому, кроме вас. Слушайте внимательно! Герцог в бытность свою министром получил от меня много записок, конфиденциальных писем: нужно добыть их обратно.
— А вы требовали их у него раньше, ваше величество?
— Требовал, и не раз. И знаете, что он мне отвечал? Будто эти бумаги сожжены им! Чтобы он, Фушэ, стал жечь мои бумаги, бумаги, написанные моей рукой! Никогда не поверю!
— Ваше величество, я потребую обратно эти записки.
— Да, мне они нужны сейчас! Я только что получил доказательство, что Фушэ изменял мне, что он был в сношениях с роялистскими агентами. Я хочу лишить его возможности вредить мне; он уже не министр полиции. Отправляйтесь в его замок Ферьер, где он теперь находится, и моим именем потребуйте у него бумаги.
— Ваше величество, мне был бы нужен их список.
— Вот он! — сказал Наполеон, кидая Дюбуа большой лист, испещренный иероглифами.
— А если его светлость герцог д'Отранте ответит отказом? — спросил префект, убежденный заранее, что хитрый министр ни за что не расстанется с бумагами, которые служили ему охраной, с бумагами, имевшими отношение к казни герцога д'Энтьена.
— «Если он ответит отказом»?! — гневно воскликнул император. — Возьмите с собой десятерых жандармов, и пускай его отведут тогда в Аббатство, а я покажу ему, как скоро можно решать судебные дела! Ступайте, Дюбуа, и постарайтесь избавить меня от этого изменника!
Облегчив себя таким крутым поступком, император подписал декрет, которым герцог де Ровиго назначался министром полиции, и его ярость утихла. Он с улыбкой отпустил Камбасереса и Дюбуа, после чего сошел вниз к императрице.
Дюбуа старательно исполнил поручение, однако ему не удалось ничего захватить в замке Ферьер; Фушэ заранее спрятал в безопасное место бумаги, которые продал впоследствии Людовику XVIII. Впрочем, эти документы не представляли той важности, которую приписывал им Наполеон. Они устанавливали прежде всего, что казнь герцога д'Энтьена произошла по наущению Савари, получившего потом титул герцога де Ровиго и назначенного как раз преемником Фушэ.
Отрешенный от должности министр заверил Дюбуа в своей почтительности к императору, с которой он принял постигшую его опалу, и сообщил о своем предстоящем отъезде в Рим, а сам тайно покинул Ферьер и засел в Париже, устроившись в маленьком домике невзрачного вида. Окруженный здесь надежными агентами, которыми он пользовался для личных целей, организовав собственную контрполицию, Фушэ зорко следил за каждым шагом императора, императрицы и всех лиц, приближавшихся к ним.
В бытность министром ему случалось получать довольно темные донесения, содержание которых, однако, живо интересовало его. Они касались шталмейстера-австрийца, назначенного его величеством Францем II состоять при Марии Луизе, графа Нейпперга. Кое-какие личные наблюдения позволили Фушэ проверить точность сведений, доставленных его сыщиками.
— Граф Нейпперг влюблен в императрицу, — сказал он, улыбаясь про себя, и его лисий профиль принял выражение необычайного лукавства. — Дело очевидное… даже слишком очевидное, если император заметил что-то неладное и удалил графа. Но любит ли его императрица? Этот вопрос, требующий проверки. Впрочем, я увижу сам. Нейпперг уехал, но он вернется; я уверен, что он покажется в Вене лишь на короткое время, как раз достаточное для того, чтобы французский посланник успел убедиться в его присутствии, а потом уедет снова, не мешкая. — Фушэ понюхал табакерку и пробормотал: — Как заяц в нору, вернется этот любезник во дворец. Тут я его сцапаю и притащу, как верный пес, императору, который поневоле признает мое усердие и поспешит загладить свою теперешнюю несправедливость. Или же — ведь императрица могущественна и пользуется большим влиянием на супруга! — я предупрежу ее об опасности… возьму ее под свою защиту и спасу ее. Тогда Мария Луиза изъявит мне свою признательность. — И, восторгаясь своей проницательностью, Фушэ, обнадеженный, успокоенный, сказал сам себе, потирая руки: — Пусть Нейпперг вернется через два месяца… тогда я отошлю вас в ваши поместья, герцог де Ровиго!
XII
— Вот шляпа вашей светлости! — сказала горничная Лиза, отворяя дверь гостиной, где Екатерина Лефевр, стоя пред трюмо, выгибалась и вертелась, примеряя амазонку, только что принесенную ей портнихой.
На другой день предстояла охота в Компьене, устроенная императором, и герцогиня Данцигская заказала себе для этого случая длинную юбку, жакет с металлическими пуговицами и кокетливую шляпку.
Она ворчала про себя, надевая юбку и корсаж, который оказался ей чересчур тесным:
— Ни за что не влезть мне в него! Наверное, он лопнет на мне, когда я буду стоять перед их величеством, и меня поднимут на смех! — заключила она вздыхая. — Ну, да что за важность? Наплевать! Я нисколько не хуже этих жеманниц! Ах, если бы только хоть одна из них попалась мне когда-нибудь с глазу на глаз! Королева Каролина, например! Даром, что она сестра императора, я задала бы ей такую трепку, что ух! Это напомнило бы ей то время, когда она сама ходила в прачечную. Мы присягали в верности и повиновении его величеству, а не ей! Черт возьми! Ведь не эта Мюратша выиграла сражение под Аустерлицем! Ну давай шляпу, Лиза! — Екатерина схватила головной убор, поданный горничной, надела на голову, слегка сдвинув на затылок, и, посмотрев в зеркало, воскликнула: — Совсем не к лицу мне эта шляпа! По-моему, она мала мне. Шляпочник делает их только по своей голове.
— Не прикажете ли, ваша светлость, позвать его? Он дожидается в прихожей. Это приказчик шляпного мастера.
— Хорошо, пусть войдет! — согласилась Екатерина и снова принялась вертеться и прихорашиваться перед трюмо.
Дверь отворилась. Герцогиня продолжала свое занятие, то снимая, то надевая шляпку, то сдвигая ее набекрень нетерпеливыми движениями. Но вдруг у нее вырвался крик: она увидала в зеркале человека, приведенного Лизой, приказчика из шляпной мастерской, обернулась и поспешно сказала, указывая озадаченной горничной на дверь;
— Оставьте нас!
«Что такое сегодня с герцогиней? — недоумевала Лиза. — Странное дело, как ее смутил приход этого приказчика из магазина!»
И, закрывая за собой дверь, плутовка рассмеялась:
— Ага! Должно быть, она знала его, когда была еще прачкой. Странная дружба, приятное воспоминание давних времен! Вот была бы потеха, если бы этот молодчик, прикативший из Парижа с головным убором для герцогини, уехал отсюда, снабдив украшением также и голову почтенного маршала! Ха-ха!
Пока Лиза потешалась таким образом над своей титулованной госпожой, та проворно подбежала к приказчику и, схватив его за руки, воскликнула:
— Это вы? Какими судьбами удалось вам попасть в Компьен?
— Я был в Париже и, зайдя к вашему шляпочнику, случайно узнал, что вам отправляют сюда готовый заказ. Я последовал за приказчиком, которому была поручена его доставка. Дорогой мне удалось с помощью наполеондора уговорить его, чтобы он передал мне свое поручение, а сам обождал меня в кабачке. Я заменил его и, по-видимому, искусно вошел в роль: по крайней мере ваши люди поддались на обман. Принимая меня, ваш управляющий предложил мне сделать приписку к вашему счету, лакей потребовал с меня полагающийся ему процент, а ваша горничная настоятельно рекомендовала мне не забывать о ее булавках. После всего этого, кажется, вы можете быть спокойны относительно моей безопасности!
— Какая неосторожность! Как будто вы не знаете, что у вас могущественные враги при дворе!
— Только один, именно сам император!
— И того достаточно! Ах, какая поднялась бы тревога, если бы узнали, что граф Нейпперг находится здесь!
— Никто не узнает! — беззаботно возразил Нейпперг.
Это действительно было так.
Не будучи в силах дольше переносить разлуку, влюбленный пренебрег всем, чтобы вернуться во Францию и увидать Марию Луизу, как предугадывал Фушэ.
— А шпионы! — подхватила встревоженная Екатерина. — Вспомните о том, что вас выслеживают, за вами наблюдают, ходят по пятам. Императору, конечно, доставляли сведения о вас, писали донесения.
Женскую прислугу императрицы расспрашивали обо всем. Одним словом, если вас найдут, если узнают о вашем пребывании во Франции, то вы погибнете!
— Я рассчитываю остаться здесь лишь самое короткое время; через два дня, самое позднее, мне надо пуститься обратно в Вену.
— Тогда зачем же вы явились?
— Я должен увидеть императрицу.
— Это невозможно! К чему такая настойчивость? Вы неосторожны! Мало того: вы не имеете права смущать покой императрицы, навлекать на нее подозрения.
Нейпперг задумался на минуту, потом, взяв за руку Екатерину, сказал ей с волнением:
— Дорогая герцогиня, не расспрашивайте меня слишком подробно! Не заставляйте открыть перед вами мое сердце, мое печальное сердце! Вы угадали! Вы видите — я люблю императрицу, что-то подсказывает мне, что и она не совсем равнодушна ко мне…
— Несчастный! Обманывать императора! Это смерть для вас, позор, несчастье для императрицы, потому что она будет отвергнута тогда своим супругом! Откажитесь от этой безрассудной страсти!
— Не могу! Только с моей жизнью угаснет эта безумная любовь! — с жаром воскликнул Нейпперг. — Но я не хочу по крайней мере, чтобы моя страсть повредила той, которая' зажгла ее во мне.
— Что вы задумали? О какой смелой попытке мечтали, возвращаясь сюда?
— Увидаться в последний раз с Марией Луизой, как я вам говорил, и передать ей одну вещь, полученную от нее, вот это кольцо, — продолжал граф, вынимая из кармана маленький футляр. Он открыл его и вынул оттуда перстень, который Мария Луиза подарила ему с цветком, сорванным ею на память в день его отъезда. Нейпперг покрыл поцелуями эту вещицу и снова убрал в футляр, который крепко стиснул в руке, говоря про себя: — Я должен расстаться с этой драгоценностью, которая для меня дороже всех сокровищ мира, дороже моей собственной жизни. Но — увы! — так нужно.
— Так для того, чтобы передать этот футляр императрице, вы покинули Австрию и явились сюда, пренебрегая гневом Наполеона, рискуя подтвердить его ревнивые подозрения?
— Мог ли я поступить иначе? Наполеон — вероятно, благодаря нескромности горничной императрицы — узнал, что этого кольца уже нет у Марии Луизы. Она уверяла, будто кольцо нечаянно потеряно. Наполеон потребовал, чтобы его непременно нашли. Императрица смогла уведомить меня о том. Получив ее отчаянное письмо, я поспешил покинуть Вену. Сегодня вечером Мария Луиза получит обратно свой перстень, и подозрения ее супруга рассеются.
— Но если вас схватят, чем вы оправдаетесь? Кроме того, кто поможет вам проникнуть во дворец?
Нейпперг колебался с минуту, не спуская пристального взгляда с Екатерины, а затем произнес:
— У меня только одна-единственная добрая и верная приятельница во Франции, а именно вы, дорогая герцогиня. Я надеялся, что вы согласитесь при данных обстоятельствах прийти мне на помощь, оказав содействие, и, пожалуй, спасти меня… еще раз!
— Нет, не рассчитывайте на меня!
— Екатерина Лефевр, вспомните десятое августа! Зачем подобрали вы меня тогда, защитили от мести национальных гвардейцев, собиравшихся расстрелять меня, раненого пленника?
— Теперь уже не десятое августа, милейший граф, — с достоинством ответила Екатерина, — я сделалась супругой маршала Лефевра, герцогиней Данцигской. Я всем обязана императору. Мой муж, его верноподданный, товарищ его сражений и славы, теперь маршал императорских войск, герцог империи Наполеона; с ним он прошел все поля битв в Европе. Нам — моему мужу и мне — не подобает содействовать планам противника его величества, хотя бы он был нашим личным другом, а мы сами были обязаны ему признательностью за давние услуги: ведь если помните десятое августа, то и я не забываю ночи в Жемапе! Рассудите хорошенько, граф, и вы поймете, что требуете от меня невозможного! Я не должна знать о том, что привело вас во Францию. Честь императора, добродетель императрицы даже не могут затрагиваться в нашем разговоре.
— Значит, вы покидаете меня на произвол судьбы?
— Я советую вам уехать, вернуться в Вену, не делая попытки приблизиться к императрице.
— Это сверх моих сил. А как же кольцо?
— Доверьте его мне! Я возвращу потихоньку Марии Луизе заветную вещицу. Обещаю вам это!
И Екатерина протянула руку Нейппергу.
Он припал к ней долгим поцелуем и прошептал:
— О, благодарю, благодарю! Передайте вместе с тем императрице, что хотя я и удаляюсь, но готов спешить к ней по первому зову, по первому знаку.
— Я исполню ваше поручение, граф, но полагаю и надеюсь, что императрице никогда не понадобится напоминать вам ваше сегодняшнее обещание и прибегать к вашей преданности.
— Как знать, герцогиня, почва подрыта под стопами вашего государя.
— Мина взорвется без вреда для Наполеона, победа покровительствует ему! Посмотрите на его трон, окруженный коленопреклоненными королями. Кто осмелится прорваться за эту ограду венценосных караульных, стоящих на часах со скипетрами?
— Распростертые в прахе короли поднимутся и отомстят за то, что им так долго пришлось гнуть спину. Мне известно многое, милая герцогиня. Венский двор выдал мне свою тайну. Пусть ваш император остерегается! Гроза идет, скоро грянет гром.
— Если бы роковая буря и угрожала императорскому трону, то не из Вены ударит она, я полагаю. Ведь ваш император приходится тестем нашему.
— Мой государь никогда не принимал всерьез сближения с Наполеоном. Он пожертвовал родной дочерью, чтобы сохранить несколько своих провинций. Этот брак, заключенный из политических целей, может быть и расторгнут с помощью политики. Пока Наполеон будет скакать с победой на крупе своего коня, к нему будут относиться по-прежнему как к зятю Франца Второго, но стоит ему пошатнуться, вылететь из седла и скатиться в канаву побежденным, как все пойдет прахом. Когда он захочет встать на ноги, то царственный тесть протянет ему не руку, а шпагу острым концом. Франц поступит так, как поступят повелители России, Пруссии, Англии. Вот его настоящие союзники, настоящая родня. Он никогда не расстанется с ними и поможет им доконать поверженного Наполеона. Поэтому повторяю вам снова: уверьте императрицу, что в день несчастья, который я предвижу, она увидит меня спешащим к ней, чтобы пролить за нее кровь, пожертвовать ей всю мою жизнь.
— Однако у вас мрачные предчувствия, Нейпперг! К счастью, ничто не предвещает здесь их подтверждения. Не забывайте, что Наполеон по-прежнему могуществен, что его трон не опрокинут, что его охраняют преданные слуги, готовые безжалостно покарать того, кто позволит себе бродить вокруг императрицы, подстерегая ее. Такому человеку не будет пощады: приказы на этот счет даны самые строгие.
— Я знаю, — с улыбкой ответил Нейпперг, — первый телохранитель Наполеона — мамелюк Рустан. Но, как ни окружай он себя восточными янычарами, чтобы сторожить свою особу и свою жену, все-таки его дворец — не гарем турецкого султана. Там не схватят человека, чтобы заткнуть ему рот и утопить в Босфоре!
— Не шутите ни с ревностью Наполеона, ни с палашом Рустана.
— Мне известно, что Наполеон посадил за решетку, замуровал Марию Луизу. Он держит ее взаперти, точно одалиску. Я знаю, что каждому мужчине, не исключая заслуженных офицеров, не исключая его лучших друзей: Бертье, Камбасереса, Лефевра, Коленкура, запрещено являться на половину императрицы иначе как по приглашению и в сопровождении самого Наполеона. Я знаю также слепую преданность мамелюка: он убил бы родного отца, если бы нашел его вопреки данному приказу в коридорах дворца. Но я принял свои предосторожности, я сделал себя неприкосновенным!
— Как это неприкосновенным?
— Не объясняя австрийскому императору настоящую цель моей тайной поездки во Францию, я сообщил ему в частном разговоре, что увижу императрицу в Париже, в Сен-Клу, в Компьене, что я свободно побеседую с ней и Мария Луиза сможет сообщить мне без свидетелей, счастлива ли она, хорошо ли обращается с нею Наполеон.
— Неужели императору Францу нужен таинственный посол вроде вас, чтобы узнать о чувствах своей дочери? Разве императрице запрещают писать родному отцу?
Нейпперг едва заметно пожал плечами.
— Вы забываете Савари! Он организовал черный кабинет повсюду — в Сен-Клу, в Тюильри, в Компьене. Ни одно письмо не отправляется в Вену, не будучи предварительно распечатано, представлено императору и снова запечатано с большим искусством. Герцог де Ровиго слывет мастером по части вскрытия писем, по части умения снимать сургучные печати лезвием раскаленного докрасна ножа. Зная о том, император австрийский уполномочил меня добиться тайного разговора с его дочерью. Ради этого, пренебрегая всем, я проникну переодетый в Компьеньский дворец…
— Нейпперг, не губите себя, не компрометируйте императрицу! Поклянитесь мне, что вы немедленно уедете, не пытаясь проникнуть к ее величеству.
Нейпперг колебался.
— Но вот что еще: на кого вы рассчитываете, кто может ввести вас к императрице?
— На госпожу де Монтебелло.
— Статс-даму? Это важный вопрос! А известно ли вам, граф, что по случаю болезни генерала Орденэ, заболевшего внезапно, к большой досаде императора, Компьеньский дворец передан под охрану Лефевра, который занимает здесь теперь должность гофмаршала? Госпожа де Монтебелло состоит под началом моего мужа, и он отвечает за самовольное появление во дворце каждого лица, которое не было вызвано сюда. Нейпперг, не захотите же вы заставить Лефевра выбирать между его дружбой к вам и долгом? Ведь вы знаете, что он непреклонный человек.
— Неужели Лефевр прикажет расстрелять меня? — с улыбкой спросил австриец.
— Если бы император велел, если бы вас застали здесь — да! Итак, уезжайте, умоляю вас, ради нашей старинной дружбы, ради вашего сына Анрио, которого император любит. Не захотите же вы испортить ему карьеру, разбить его будущее из-за минутного разговора, из-за свидания, не обещающего никакой надежды. Уезжайте!
— Будь по-вашему! Я послушаюсь вас. То, что вы сказали мне про Лефевра, которого я не хочу подвергать ответственности, заставляет меня отказаться от моего плана. Я уеду! Моя карета ожидает на суассонской дороге. Я зайду за приказчиком шляпного фабриканта, которого заменял тут, и отправлю его обратно в Париж, а сам немедленно пущусь назад в Австрию. Итак, прощайте! Вы передадите кольцо ее величеству и скажете ей то, что я сообщил вам.
В эту минуту раздался стук в дверь и в комнату заглянула Лиза.
— Что случилось? Почему нам помешали? — с живостью спросила Екатерина.
— Господин де Ремюза, камергер его величества, желает говорить с вашей светлостью.
— Камергер? Ах, да, знаю, — сказала вполголоса Екатерина. — Должно быть, это из-за стычки, которая опять произошла у меня вчера с сестрами императора. О, им досталось от меня! Они, конечно, пожаловались, и мне предстоит нагоняй от императора. Пригласи же сюда господина де Ремюза, — прибавила герцогиня, обращаясь к Лизе, которая сгорала от желания узнать, о чем могла шептаться ее госпожа с приказчиком из шляпного магазина. — Прощайте! — сказала герцогиня Нейппергу.
— Итак, ваша светлость, вы довольны исполнением заказа? — спросил «приказчик».
— Очень довольна! Передайте от меня поклон вашему хозяину! — И герцогиня бросилась в кресло, чтобы с подобающим достоинством принять камергера его величества.
XIII
Приказ, переданный камергером Ремюза, был строг, Император немедленно требовал герцогиню Данцигскую к себе в кабинет.
Посланный ушел, исполнив поручение, а герцогиня поспешила переодеться и закуталась в плащ, отправляясь к Наполеону.
Он занимался за письменным столом, освещенным тремя свечами и лампой. При нем был его камердинер Констан, варивший ему кофе. Флигель-адъютант де Лористон и де Бригод ожидали пакетов, которые вручал им император. По коридорам беспрерывно носили эстафеты.
Раздраженный, взволнованный Наполеон с лихорадочной поспешностью подписывал разложенные перед ним бумаги. Вперемежку с этим он яростным взором пробегал иностранные газеты, заполненные корреспонденциями скандального свойства, которые были направлены против его частной жизни и в особенности задевали его сестер. Предметом этих недоброжелательных анекдотов служили рубака Жюно, любовник Каролины, и де Фонтан, ректор университета. Прочитав, Наполеон сердито комкал и кидал в огонь топившегося камина вырезки из враждебных листков, ежедневно доставляемых ему бдительным Савари.
Одна из этих ядовитых статей особенно рассердил императора: в ней говорилось о немилости, постигшее графа Нейпперга, шталмейстера императрицы, приставленного к ней ее августейшим отцом. Остальное сводилось к намекам на то, будто отъезд этого графа довел до отчаяния Марию Луизу, которая горевала и томилась, проклиная ревность Наполеона.
К этим причинам раздражения императора присоединилась еще сильная досада: обе его сестры, беспрерывно ссорившиеся между собой (Элиза все более и более завидовала Каролине, получившей сан королевы, тогда как сама она была только герцогиней Лукки и Пьомбино), затеяли перебранку с Наполеоном, которая, начавшись по-французски, закончилась на корсиканском наречии с чисто южным избытком жестикуляции. В разгаре спора рассерженный император, напрасно пытавшийся унять обеих болтливых сорок, бросив помешивать угли в камине, перед которым он, задыхаясь от гнева, грел ноги, схватил щипцы и, размахивая ими с комичным и азартным видом, пригрозил расходившимся сестрицам этим орудием, как бывало во времена нужды в убогом марсельском жилище Бонапартов.
Таким образом Екатерина Лефевр, на которую королева неаполитанская с герцогиней Лукки и Пьомбино подали формальную жалобу, могла рассчитывать на весьма нелюбезный прием со стороны разгневанного государя. Однако она вооружилась терпением и, будучи уверена в том, что присутствие духа не изменит ей, приготовилась дать отпор грозному повелителю, который требовал ее к себе, чтобы распечь.
На всякий случай, как последнее оружие защиты, Екатерина, порывшись в своем ларце, где у нее хранились драгоценности и особенно дорогие вещицы, вынула оттуда пожелтевший листок бумаги, протершийся на сгибах, что свидетельствовало о долгом лежании в бумажнике. Взглянув на эту бумажку с умилением, как на милое воспоминание далекого прошлого, герцогиня сунула ее за корсаж и, видимо, приободрившись, чувствуя себя более способной отразить колкие грубости Наполеона, прошла довольно твердым шагом ряд длинных коридоров Компьеньского дворца, где дремали дежурные офицеры, и достигла порога императорского кабинета.
Рустан, верный мамелюк, стоял на карауле. Один из адъютантов доложил о приходе герцогини Данцигской и удалился.
Екатерина Лефевр вошла, сделала реверанс и стоя ожидала, чтобы император, читавший ведомость, представленную ему министром финансов, заговорил с нею.
Глубокая тишина царила в кабинете Наполеона.
— Ах, вот и вы! — воскликнул император, внезапно подняв голову. — Славные вещи узнал я про вас, нечего сказать! Что такое произошло третьего дня? Опять ваш язык не знал удержу и вы отпускали крепкие словечки, которые потешают всех журналистов Европы, придавая моему двору сходство с рыночной площадью! Я знаю, что вы — женщина далеко не глупая, но вы не можете усвоить придворную манеру выражаться, вы никогда не учились этому. О, я не сержусь на вас за подобное невежество, мне досадно только за Лефевра, который имел глупость жениться сержантом, тогда как У него в ранце лежал маршальский жезл! — Наполеон замолчал, подошел к буфету, где на конфорке стоял горящий кофейник, налил себе полчашки кофе и проглотил душистый напиток, горячий, как крутой кипяток. Затем, вернувшись к Екатерине, которая стояла неподвижно, спокойно, выжидая, когда минует гроза, он продолжал: — Ваше положение при дворе стало невозможным, вы удалитесь отсюда. Вам назначат содержание, вы не будете иметь повода жаловаться на материальные условия, в которые будете поставлены. Ваш развод не изменит ничего в вашем звании, в ваших преимуществах. Я уже сообщил обо всем этом Лефевру. Говорил он вам?
— Да, ваше величество, Лефевр сказал мне все.
— А что ответили вы мужу?
— Я? Да расхохоталась ему в глаза!
Император от удивления уронил серебряную чашку, снятую им с блюдечка, и она покатилась со звоном.
— Это что за новости? А что сказал, что сделал сам Лефевр?
— Он расцеловал меня, давая клятву, что не послушается вас!
— Однако это чересчур! И вы осмеливаетесь отвечать мне таким образом — мне, вашему императору, вашему повелителю?
— Ваше величество, вы наш повелитель, наш император, это совершенно верно, — с твердостью сказала Екатерина. — Вы можете располагать нашим достоянием, нашей жизнью — Лефевра и моей… мы обязаны вам всем! Вы император и можете одним жестом, одним мановением руки бросить на Дунай, на Вислу пятьсот тысяч человек, которые с радостью позволят убить себя ради вас. Но вы не можете заставить Лефевра и меня разлюбить друг друга, не можете разлучить нас друг с другом. Ваше могущество кончается здесь. И если вы попытаетесь выиграть эту битву, то напрасно: тут вас постигнет поражение!
— Вы полагаете? Но так как, насколько я слышал, язык у вас не на веревочке, то вам следовало бы уметь держать его за зубами и не доставлять моему двору зрелища слишком частых скандалов, подобных вчерашнему. Разве не оскорбили вы королеву неаполитанскую и герцогиню Лукки и Пьомбино? Вы оказываете неуважение к императору в лице членов его семьи. Могу ли я потерпеть эти публичные дерзости, эти оскорбления, которые вы позволяете себе как будто нарочно?
— Ваше величество, вы плохо осведомлены; я только защищалась, оскорбления исходили не от меня. Сестры вашего величества оскорбляли армию… да, армию в моем лице! — сказала Екатерина, гордо выпрямляясь, почти с отвагой принимая военную осанку.
— Я вас не понимаю, объяснитесь!
— Ваше величество, ваши августейшие сестры упрекали меня в том, что я принадлежала к числу тех геройских солдат Самбр-э-Мёз, со славой которых можно сравняться, но не превзойти ее.
— Это правда! Но как вы попали в их ряды?
— Маркитанткой тринадцатого пехотного полка. Я. сопровождала Лефевра. Верден, Жемап, Альтенкирхен… Я служила в северной армии, в мозельской, ц рейнской, в армии Самбр-э-Мёз. Восемнадцать походов. Мое имя было упомянуто в реляции о деле под Альтенкирхеном.
— Ваше имя? Удивительно!
— Славный подвиг, да, ваше величество. А не так-то легко было отличиться в этих армиях. С Гошем, Журданом, Лефевром все были героями.
— Но это очень хорошо! Очень хорошо! — улыбаясь, сказал император. — Черт возьми! Как это Лефевр ни разу не заикнулся мне о том?
— С какой стати, ваше величество? У него хватало славы и почестей на двоих. Я только случайно упомянула об этом. Если бы не подвернулся случай, я не сказала бы ни слова. Вот хоть бы моя рана…
— А вы были ранены?
— Ударом штыка под Флерю… тут, пониже плеча, в руку!
— Посмотрим! Дайте мне применить единственное леченье, подходящее для этой прекрасной руки. — И, Превратившись в любезного кавалера, Наполеон приблизился к Екатерине, взял ее руку и припал губами к тому месту, где австрийский штык оставил свою метку в виде шрама. Затем, развеселившись и перестав браниться, он пробормотал: — Славная, атласная кожа! Вы позволите, герцогиня?
— О, у меня тут нет больше ран! — смеясь, сказала она, спеша освободиться и оттолкнуть проворные, слишком смелые пальцы Наполеона, соблазненного, разгорячившегося, восхищенного, после чего прибавила с лукавой миной: — Однако же вам понадобилось много времени, ваше величество, для того, чтобы заметить атлас моей кожи…
— Мне? Да разве вы были когда-нибудь… так близки от меня? — спросил Наполеон, придвигаясь опять к Екатерине, чтобы ласково потрепать ее по белой пухлой руке.
— А как же, ваше величество! О, это было давно, очень давно! В славную эпоху десятого августа я не была еще помолвлена с Лефевром. Однажды утром я пришла в маленькую комнату в гостинице «Мец», где вы тогда квартировали.
— Совершенно верно! А за каким чертом явились вы в мою тогдашнюю каморку? — полюбопытствовал Наполеон, все более и более заинтересованный тем, что рассказывала герцогиня Данцигская.
— Я принесла вам чистое белье, в котором вы очень нуждались. Ах, тогда стоило вам захотеть! Не ручаюсь, что я ушла бы такой, как пришла. Но вы совсем и не думали обо мне! Вы уткнулись носом в географическую карту и все время, пока я была у вас, не двинулись с места, как тумба… Вот почему я вышла за Лефевра! Тогда он не нравился мне, а теперь я обожаю его. Если бы вы объяснились мне в любви, я отдала бы вам предпочтение, говорю истинную правду! Но все это было когда-то и быльем поросло; не надо и думать о том, ваше величество!
И Екатерина, оканчивая описание сцены, кинула на императора иронический взгляд.
Наполеон внимательно смотрел на нее. Его необычайно глубокий взор озарился странным сиянием при этом воспоминании о прошлом, и он с любопытством продолжал:
— Значит, вы были тогда…
— Прачкой! — подсказала Екатерина. — Да, ваше величество; ваши сестры упрекнули меня в этом.
— Прачкой! Прачкой! — проворчал Наполеон. — Кажется, вы занимались всевозможными ремеслами? Маркитантка — это еще куда ни шло, но прачка!
— Ваше величество, люди делают что могут, когда хотят зарабатывать хлеб честным трудом. Да и то сказать, прачечное ремесло было не из выгодных — очень уж туго платили заказчики. Вот хоть бы, к слову поверите ли вы, что в вашем дворце есть один военный, который еще не уплатил мне по счету с той поры?
— Надеюсь, вы не рассчитываете на меня, чтобы получить с него долг? — спросил Наполеон, наполовину смеясь, наполовину досадуя.
— А то как же! На вас одних, ваше величество. Ведь я требую только положенного. Кроме того, мой должник пошел далеко… он достиг высокого положения, — сказала герцогиня, насмешливо посматривая на императора, а затем прибавила, достав из-за корсажа пожелтевшую бумажку, которую сунула туда, когда камергер пришел звать ее к Наполеону: — О, ему нельзя отказаться от своего долга. Вот тут у меня письмо, в котором он, признавая поданный счет, просил меня обождать немного с уплатой. Постойте, я прочту вам, что тут написано: «… в настоящую минуту я не могу рассчитаться с Вами; мое жалованье, недостаточное для меня самого, должно еще идти на поддержку моей матери, братьев и сестер, бежавших в Марсель вследствие волнений, разыгравшихся на Корсике. Когда я буду восстановлен в чин капитана артиллерии…»
Наполеон кинулся к Екатерине, поспешно взял у нее из рук письмо, которое она читала, и воскликнул с видимым и глубоким волнением:
— Значит, то был я! Ах, вся моя молодость оживает в этой измятой бумажке с побледневшим почерком! Да, я был тогда беден, безвестен и, пожираемый честолюбием, в то же время беспокоился об участи моих родных, тревожился судьбами моего отечества. Я был одинок, без друзей, без кредита, не имея никого, кто верил бы в меня. А вот вы почувствовали доверие ко мне… вы… простая прачка. О, теперь я припоминаю! Вы оказались доброй и предвидели, что ничтожный артиллерийский офицер не застрянет навсегда в каморке меблированного дома, где вы оставили ему принесенное вами белье из жалости к его одиночеству и бедности… Император не забудет этого!
Наполеон был искренне растроган. Весь его гнев пропал. С благоговейным вниманием рассматривал он пожелтевший листок и усиленно припоминал мельчайшие события той эпохи.
— О, — сказал он, — теперь я вижу вас такую, какой вы были у себя в лавочке на улице Онорэ-Сен-Рок. Мне кажется, что я там… Вот мастерская с ее лестницей, ее столами, ее ушатами, огромным камином. Дверь вашей комнаты была налево, а выходная дверь направо. Большие окна, двустворчатая дверь и повсюду белье: развешенное для сушки, выглаженное… Но как же вы назывались тогда, до вашего замужества?
— Екатериной… Екатериной Юпшэ.
Император покачал головой. Это имя было ему незнакомо.
— У вас не было другого имени? Понимаете? Прозвища… клички?
— Было. Меня называли Сан-Жень.
— Теперь я припомнил! И это прозвище осталось за вами и при моем дворе!
— Повсюду, ваше величество! И на полях сражений также.
— Ваша правда, — с улыбкой подтвердил император, — вы хорошо сделали, что защищали свою благородную юбочку маркитантки против наглости придворных мантий. Избегайте, однако, этих сцен, которые мне неприятны. Я сам, Катрин Сан-Жень, потребую с этих пор уважения к вам от всех. Будьте завтра на охоте, которую я даю в честь баварского принца. В присутствии всего двора, в присутствии моих сестер я стану говорить с вами таким образом, что никто не посмеет больше задевать вас или ставить вам в упрек ваше скромное происхождение и бедную молодость, которую вы разделяли, впрочем, с Мюратом, с Неем… со мной, черт побери! Позвольте, однако, до вашего ухода император обязан еще уплатить долг артиллерийского капитана. Сколько я вам задолжал, мадам Сан-Жень?
И Наполеон принялся весело шарить по своим карманам.
— Три наполеондора, ваше величество! — ответила Екатерина и протянула руку.
— Вы ставите слишком высокие цены! — возразил император, умевший разбираться в расходах и тщательно проверявший свои счета в ливрах, су и денье.
— Сюда прибавлена плата за починку, ваше величество.
— Мое белье вовсе не было рваным!
— Извините, пожалуйста! А потом проценты…
— Ну так и быть! Я подчиняюсь… — И Наполеон продолжал ощупывать, обшаривать карманы своего жилета и брюк с комической поспешностью. — Клянусь честью, мне не везет, — добродушно промолвил он, — при мне нет этих трех наполеондоров, которые вы требуете от меня.
— Не беда, ваше величество, я опять поверю вам в долг!
— Благодарю вас! Однако становится поздно, вам пора домой. Черт побери! Бьет одиннадцать часов, и все во дворце уже спят. Нам обоим следовало бы лежать теперь в постели. Я пошлю Рустана проводить вас.
— О, ваше величество, я не боюсь! Да и кому придет в голову забраться во дворец в ночную пору? — спокойным тоном возразила герцогиня.
— Нет, по всем этим коридорам, пустынным и темным, лучше проводить вас с канделябром. — И, повысив голос, император крикнул: — Рустан!
Внутренняя дверь отворилась, и в кабинет вошел верный мамелюк.
— Ты проводишь эту даму в ее апартаменты. Они расположены на другом краю дворца, — сказал Наполеон. — Возьми канделябр.
Рустан поклонился и, взяв канделябр, притворил дверь императорского кабинета, выходившего в длинную галерею.
Он собирался двинуться вперед, предшествуя Екатерине, как вдруг обернулся к императору и с восточной невозмутимостью, но тоном, заставившим содрогнуться герцогиню Данцигскую, сказал:
— Ваше величество, по галерее ходят! Мужчина в белом… Он направляется к покоям императрицы…
XIV
Наполеон страшно побледнел, узнав, что в галерее, которая ведет в апартаменты Марии Луизы, находится какой-то человек в белом мундире.
Кто же из носящих австрийскую форму мог забраться ночью в ту часть дворца, которая даже днем была закрыта для всех посторонних?
Прежде всего Наполеон подумал о Нейпперге, но поторопился отогнать от себя эту мысль.
«Какой вздор, — стал успокаивать он себя, — Нейпперг в Вене, я напрасно беспокоюсь. Право, я, кажется, схожу с ума; мне всюду мерещится этот австриец. Нет-нет, это не он. Белый мундир, о котором говорит Рустан, может принадлежать какому-нибудь роялисту, соучастнику Кадудаля; может быть, это даже сам маркиз Лавиньи; ведь ему удалось тогда ускользнуть от Фушэ. Наверное, он забрался во дворец, чтобы убить меня, когда я засну».
С той же быстротой, с которой он расставлял войска на поле битвы, Наполеон сделал знак Рустану погасить лампу и стать за дверями его спальни, чтобы иметь возможность прибежать по его первому зову, а затем сам быстро потушил свечи, горевшие на письменном столе. Императорский кабинет погрузился во мрак; только догоравшие в камине угли бросали на пол слабый красноватый свет, позволявший видеть дверь кабинета, выходившую в галерею. Повернувшись к Екатерине Лефевр, Наполеон крепко сжал ее руку и прошептал:
— Сидите тихо и молчите!
Екатерина дрожала; она догадывалась, в чем дело, и боялась выдать тайну. Она не сомневалась, что человек в белом мундире был Нейпперг.
Она придумывала всевозможные способы, чтобы спасти австрийца, но ничего не получалось. Оставалось подчиниться обстоятельствам и молча ждать неизбежного хода вещей.
Изнемогая от жалости, чувствуя, что вся кровь прилила к ее сердцу, Екатерина опустилась на диван, на спинку которого облокотился Наполеон.
Послышался тихий шелест; дверь кабинета осторожно открылась и при свете пламени угасающих углей можно был рассмотреть женскую фигуру. Она медленно, ощупью двигалась вперед.
— Графиня Монтебелло! — прошептала Екатерина, узнав статс-даму Марии Луизы.
Наполеон снова сильно стиснул ее руку, боясь, чтобы она не вскрикнула или не шелохнулась.
Появление в его кабинете статс-дамы, осторожно осматривавшейся по сторонам, возбудило у императора прежние подозрения. Он гневным взором следил за каждым движением герцогини Монтебелло, которая, убедившись, что в кабинете никого нет, тихонько обернулась по направлению галереи, которая вела в комнату императрицы.
Наполеон не мог более владеть собой, бросился вслед за статс-дамой и в ту минуту, когда переступил порог, столкнулся с каким-то человеком, который спросил:
— Можно мне пройти, герцогиня?
Наполеон грубо схватил непрошеного гостя и крикнул:
— Рустан!
Телохранитель моментально явился, держа факел в руках.
— Нейпперг. Да, это он! — в безумном гневе прохрипел император, узнав человека в белом мундире.
Ошеломленный, не зная, что сказать, неосторожный австриец старался сохранить хладнокровие и держать себя с достоинством.
Герцогиня Монтебелло, о которой Наполеон совсем было забыл, вскрикнула от ужаса и тем напомнила о себе.
— Рустан, уведи эту женщину, — обратился император к своему телохранителю, указывая на статс-даму, — и не входи сюда, пока я тебя не позову.
Телохранитель увел почти потерявшую сознание герцогиню Монтебелло.
— Теперь поговорим, сударь, — живо обратился Наполеон к Нейппергу, на которого Екатерина смотрела с бесконечной жалостью. — Как вы попали в мой Дворец ночью? Вы забрались сюда, точно вор. Что вы вообще делаете в Париже, когда должны были бы быть в Вене?
Нейпперг был очень бледен и, стараюсь казаться спокойным, медленно ответил:
— Я покинул Вену, ваше величество, по приказанию моего повелителя, чтобы передать конфиденциальное сообщение ее величеству императрице.
— Так что это по поручению австрийского императора вы являетесь ночью ко мне во дворец? Да вы смеетесь надо мной, господин необыкновенный посланник! — не помня себя от гнева, воскликнул Наполеон.
— Вы изгнали меня, ваше величество, вход во дворец мне был запрещен; волей-неволей мне пришлось избрать для выполнения поручения моего повелителя неподходящее время. Ее величество обещала мне в полночь дать свой ответ для его величества австрийского императора!
— Императрица не могла сделать этого, вы лжете! — крикнул Наполеон.
Нейпперг вздрогнул от оскорбления.
— Ваше величество, — возразил он, стиснув зубы от обиды, — я австрийский генерал и состою полномочным министром. Сюда я явился как представитель австрийского императора к австрийской же эрцгерцогине. Вы оскорбляете меня в вашем собственном дворце, зная, что здесь я не в состоянии защищаться. Не могу не сказать вам, ваше величество, что так поступать низко!
— Негодяй! — крикнул Наполеон, приходя в бешенство.
Дерзость этого австрийца, забравшегося в его дворец ночью, чтобы похитить у него жену, довела императора до помрачения рассудка. Поддаваясь своему вспыльчивому характеру, он сорвал аксельбант Нейпперга и произнес:
— Вы явились ко мне во дворец ночью, как разбойник, и потому недостойны носить благородный знак отличия!
Выведенный из себя насилием Наполеона, Нейпперг выхватил шпагу и замахнулся ею на императора.
Екатерина быстро бросилась вперед и стала между мужчинами.
— Рустан, сюда! — крикнул Наполеон, как бичом размахивая аксельбантом, единственным своим оружием.
В одну секунду дверь из императорской спальни открылась, Рустан подскочил к Нейппергу, свалил его на землю, обезоружил и пронзительно свистнул. На этот свист прибежали еще трое телохранителей, подчиненных Рустана, и они помогли своему начальнику удержать Нейпперга.
— Пощадите его, ваше величество, будьте милосердны! — обратилась к императору Екатерина.
Наполеон молча оттолкнул ее и, подойдя к двери галереи, громко позвал:
— Лористон, Бригод, Ремюза, идите все ко мне!
Почти тотчас же в кабинет вошли дежурный камергер и адъютанты, которые находились в комнате рядом.
— Вот, господа, человек, осмелившийся поднять на меня руку, — обратился к ним Наполеон. — Бригод, вы отберите у него шпагу, а вы, Лористон, арестуйте его.
Телохранители помогли Нейппергу подняться с пола.
Бригод схватил его шпагу, а Лористон, положив руку на плечо графа, торжественно проговорил:
— Именем императора арестую вас. Куда прикажете увести арестованного, ваше величество? — спросил он Наполеона.
— Посадите его в ту комнату, которая предназначена для вас, и следите за ним, — ответил император. — Нужно известить герцога де Ровиго; пусть он распорядится, чтобы военный суд был назначен сейчас же. После удостоверения личности виновного и установления факта покушения со стороны этого господина на мою особу должен быть вынесен приговор и приведен в исполнение немедленно. Я требую, чтобы до восхода солнца все это было окончено.
Нейпперга увели в дежурную комнату адъютантов, а император прошел в свою спальню, оставив в сильной, тревоге всех свидетелей этой трагической сцены.
XV
Екатерина Лефевр находилась в подавленном состоянии в ожидании приговора Нейппергу. Она старалась найти способ спасти графа, но все ее планы оказывались неудачными. Было бы безумием надеяться на то, что можно смягчить Наполеона. Нейпперг был приговорен, ничто не могло защитить его от мести императора. Всемогущий повелитель хотел наказать графа за оскорбление, нанесенное ему как мужу Марии Луизы.
Когда маршал Лефевр вошел в кабинет императора, он нашел свою жену в полном отчаянии. Лефевр был в парадной форме и казался очень озабоченным. Один из адъютантов только что сообщил ему об аресте Нейпперга.
— Ты слышал ужасную новость? — спросила маршала его жена.
— Да, я знаю все. Несчастный сам себя погубил! — ответил ей Лефевр, вздохнув. — Император позвал меня для того, чтобы я как маршал двора председательствовал в военном суде, когда будут судить графа.
— А между тем Нейпперг спас, мне жизнь когда-то, в Жемапе, — напомнила Екатерина. — Меня хотели расстрелять, и, если бы не граф, меня не было бы теперь здесь.
— Да, у нас есть долг перед Нейппергом, — согласился Лефевр мрачным тоном. — А потом, помнишь, утром десятого августа ты в свою очередь не допустила, чтобы его убили. Да, подобные вещи связывают людей. Но, черт возьми, я ничего не могу сделать для него! Я состою на службе и вынужден подчиниться приказу императора.
— Ну, а я не состою на службе, — воскликнула Екатерина, — и не имею никаких обязанностей; я женщина с сердцем и жалею несчастного графа. Ты сказал о нашем долге, Лефевр. Да, долг сделала маркитантка, а уплатит его герцогиня. Предоставь мне свободу действовать и скажи только, кто может проникнуть сейчас к императрице?
— Единственный, кто может подойти к дверям комнаты ее величества, это я. Как маршал двора я имею право проверить, находятся ли на своих постах все часовые.
— Ах, ты можешь сделать это? — радостно воскликнула Екатерина. — Значит, не все еще потеряно, ты Сможешь мне! Постарайся подойти как можно ближе к дверям той комнаты, в которой отдыхает императрица.
— Это нетрудно сделать! — заметил Лефевр.
— И начни так сильно шуметь, чтобы она проснулась, — продолжала Екатерина. — Нужно, конечно, чтобы Мария Луиза узнала твой голос. Присутствие ночью у ее дверей маршала сразу убедит императрицу, что во дворце происходит что-то необычное. Скажи громко часовым следующее: «Следите хорошенько за тем, чтобы никто не проник в комнату императрицы. Задержите каждого, кто бы ни прошел мимо с письмом, если даже это письмо адресовано австрийскому императору». В особенности произнеси как можно громче слова: «австрийскому императору».
— Я не вполне понимаю тебя, — пробормотал Лефевр, — ты объяснишь мне…
— Это лишнее, — прервала Екатерина своего мужа, — да и времени нет. Бывают такие обстоятельства, когда каждая минута дорога; иди скорее и действуй! Главное, как можно громче произнеси слова «австрийскому императору»!
Когда Лефевр ушел по направлению к апартаментам императрицы, Екатерина начала искать кого-нибудь, кто мог бы помочь ей спасти Нейпперга, но, кроме офицеров-ординарцев и адъютантов Наполеона, никого не было вблизи, а с офицерами нельзя было говорить об арестанте, которого они обязаны были стеречь.
Уже два раза Лористон выходил из спальни Наполеона и справлялся, не приехал ли герцог Ровиго.
— Что делает этот министр полиции? Не понимаю, почему его нет до сих пор, — негодовал Лористон, — он, очевидно, не знает, что здесь происходит?
— Теперешний министр полиции ничего не знает, Даже и того, что его жена наставляет ему рога, — послышался чей-то едкий писклявый голосок.
— Вероятно, вы помогаете ей в этом, герцог? — шутливо спросил Лористон.
— Возможно. Это лучший способ следить за тем, что делает мой заместитель! — смеясь проговорил все тот же писклявый голосок.
— Ах, это вы, герцог? Само небо посылает мне вас, — воскликнула Екатерина, бросаясь навстречу бывшему министру полиции Фушэ, герцогу д'Отранте. — Бы можете оказать мне большую, огромную услугу, — начала Екатерина.
— В чем дело? Вы знаете, что я всегда был дружески расположен к вам, — ответил Фушэ, — ведь мы с вами очень давние знакомые. Вы видели меня молодым бедным человеком, все состояние которого заключалось в патриотизме и революционном задоре, а я вас помню прачкой. Теперь вы — герцогиня…
— А вы — бывший и будущий министр полиции, — прервала его Екатерина. — Но не в этом дело. Вы слышали, что произошло с графом Нейппергом?
— Да. Ожидают только Савари, чтобы расстрелять австрийца!
— Нельзя допустить смерти Нейпперга, — горячо воскликнула Екатерина, — я надеюсь, вы поможете мне снасти его.
— Надеетесь на меня? — с удивлением переспросил Фушэ. — На каком основании? Граф Нейпперг — австриец и открытый враг нашего императора. Он мне не друг и не родственник, какое же мне дело до него? Он просто глуп и неловок; вместо того чтобы броситься в объятия женщины, он попадает в руки охранников. Австриец так глупо попал впросак, что пропадает всякое желание облегчить его участь.
Внезапный арест Нейпперга помешал планам Фушэ, который рассчитывал сам выследить графа и тогда, смотря по обстоятельствам, или представить его императору и получить за это благодарность, или дать графу возможность убежать, потребовав за такую услугу значительную сумму.
Теперь дело было проиграно, и потому Фушэ был в дурном настроении. Ну, стоило ли ему так долго выслеживать Нейпперга, тратить столько труда, чтобы арестовать его, когда тот сам бросается в руки Рустана!
Слова Екатерины подали некоторую надежду Фушэ: может быть, удастся снова восстановить то здание, которое собирается рухнуть?
— Кроме удовольствия быть вам полезным, какую выгоду я лично могу получить, занявшись делом Нейпперга? — спросил он.
— О, очень большую! — ответила Екатерина. — Вам хотелось бы сделаться снова министром полиции? Не правда ли? Да? Ну теперь вам представляется для этого прекрасный случай. Спасите Нейпперга — и вы получите портфель министра. Я сейчас объясню вам все. Ввиду того, что между императрицей и графом Нейппергом не существует ни малейшей интриги…
— Ни малейшей интриги! — насмешливо повторил Фушэ.
— Вы сомневаетесь в этом? — спросила Екатерина.
— Ничуть, ничуть! Каким образом австриец докажет свою невиновность? — все так же насмешливо заметил Фушэ.
— Не он один докажет, но и императрица подтвердит это! — возразила Екатерина.
— Совершенно верно. Императрица больше всех заинтересована в этом. Что же произойдет дальше?
— Если вам удастся отсрочить военный суд, удалить Савари и дать время императрице принять со своей стороны какие-нибудь меры, наш осужденный будет спасен. Когда императрица узнает, что благодаря вам казнь отсрочена, она начнет убеждать Наполеона в вашем необыкновенном уме и ловкости и ей нетрудно будет добиться от своего супруга, чтобы вам вновь вернули вашу должность, которую вы так прекрасно исполняли.
— Честное слово, герцогиня, вы склонили меня на свою сторону, — воскликнул Фушэ, доставая табакерку и взяв из нее щепотку табаку. — Вы прекрасно придумали все, и я постараюсь вырвать из рук Савари несчастного Нейпперга. Я должен сейчас же видеть императора.
В эту минуту в кабинет вошел Констан, камердинер Наполеона, чтобы узнать, не приехал ли герцог Ровиго.
— Доложите, пожалуйста, дорогой Констан, его величеству, что я здесь и весь к его услугам! — обратился Фушэ с любезной улыбкой к весьма влиятельному камердинеру.
Констан почтительно поклонился и удалился.
— Если Савари опоздает еще минут на десять и мне удастся в это время переговорить с императором то граф Нейпперг будет вне опасности! — убежденно проговорил Фушэ.
— Что же вы сделаете для этого? — спросила Екатерина.
— Я докажу его величеству, что невозможно казнить сейчас же, почти без всякого суда человека только за то, что его видели ночью во дворце. Это значило бы навлечь на себя всеобщее негодование, скомпрометировать императрицу, подтвердить скандальные слухи, которые уже и так носятся относительно Марии Луизы и графа Нейпперга и вызвать серьезное неудовольствие австрийского двора.
— Как же вы объясните его величеству присутствие во дворце графа? — поинтересовалась Екатерина.
— Заговором! — не задумываясь, ответил Фушэ.
— Но тогда нужно, чтобы заговор действительно существовал! — проговорила Екатерина.
— Это не важно. У хорошего министра полиции всегда имеются в запасе два-три заговора. У меня есть нити двух заговоров. Одно из этих сообществ — республиканское. Лагори, Мале, филадельфы… Но, конечно, было бы маловероятно, чтобы граф Нейпперг, австрийский генерал, аристократ, вступил в сношения с бывшими якобинцами. Придется прицепить его к заговору роялистов, в котором значится граф де Прованс и лондонские эмигранты.
— Это опасно, — возразила Екатерина. — Ведь можно доказать, что он не состоял в том сообществе.
— Да сообщества и нет вовсе, — хитро улыбнулся Фушэ. — Как же найти доказательства того, что оно не существует? Во всяком случае мы таким образом выиграем время. А вот и Констан. Вы пришли за мной, мой друг? — обратился Фушэ к лакею.
— Его величество приказал сказать вам, что примет вас после герцога Ровиго.
— Его величество ничего больше не прибавил? — спросил Фушэ, делая недовольную гримасу.
— Нет, его величество изволили сказать при этом, что не торопятся принять герцога д'Отранте, так как он вероятно, сообщит какую-нибудь глупую историю о новом заговоре. «Я должен покончить раньше с Нейппергом!» — вот последние слова его величества. Как видите, герцог, вам придется подождать. А вот и герцог де Ровиго.
— Что случилось? Почему император послал за мной среди ночи? — спросил Савари, запыхавшись и тяжело дыша. — Ведь вы всегда все знаете, — обратился он к Фушэ, — объясните же мне, в чем дело? Держу пари, что это из-за вас меня разбудили, — прибавил он пренебрежительным тоном. — Вы, наверно, опять стараетесь вбить в голову его величеству какую-нибудь историю о военном заговоре?
— Ничего подобного, — спокойно возразил Фушэ, — дело идет о графе Нейпперге.
— О Нейпперге? — удивился Савари. — Но тот благополучно живет в своем имении возле Вены. Он охотится, занимается рыбной ловлей и играет на флейте. Я только что получил подробный рапорт об этом господине.
— Скажите об этом его величеству, мой милый заместитель, — насмешливо заметил Фушэ. — Император будет очень доволен и поблагодарит вас за точные сведения.
— Я это не считаю большой заслугой с моей стороны.
Савари гордо откинул голову и прошел в спальню императора.
— Вот все наши планы и рухнули! — воскликнул Фушэ, когда дверь за Савари закрылась. — Нужно придумать что-нибудь другое.
— Так думайте, думайте скорее! — в отчаянии прошептала Екатерина.
— Ну, вот еще одно средство; оно, правда, не особенно удачно, но у нас нет выбора, — проговорил Фушэ после короткого раздумья. — Нейпперг знает ваш почерк? В таком случае напишите то, что я сейчас скажу вам.
Фушэ взял со стола императора бювар и листочек бумаги, на котором Екатерина Лефевр должна была письменно посоветовать Нейппергу, чтобы он притворился спящим, а потом, когда его стражу постараются отвлечь, тихонько открыл окно и выскочил из него.
— Теперь положите записочку в бювар и попросите передать этот бювар от вашего имени Нейппергу для того, чтобы он мог написать перед смертью письмо своей матери, — сказал Фушэ. — В этой просьбе не откажут.
Екатерина обратилась к Лористону, и тот взялся исполнить ее поручение.
Через несколько минут он вернулся с пустыми руками; бювар дошел по назначению, и стража Нейпперга не заметила записочки, которая лежала внутри.
— Теперь я на время покину вас, — обратился Фушэ к Екатерине. — Я поставлю перед окном надежных людей, которые примут нашего пленника и переправят его дальше. Постарайтесь отвлечь Бригода, который через открытую дверь следит за графом Нейппергом; нужно дать возможность вашему протеже приготовить для побега окно и так положить свой плащ, чтобы подумали, что он сам завернулся с головой в него и спокойно спит.
Фушэ тихонько вышел, как тень, прошмыгнул между ординарцами и незаметно исчез.
— Господин Бригод, — смело и громко обратилась Екатерина к одному из адъютантов, — будьте так любезны, спросите императора, могу я уйти, или должна подождать, пока он позовет меня.
— Император желает кое о чем спросить вас, герцогиня, — вдруг услышала она за своей спиной голос Наполеона.
— Я к вашим услугам, ваше величество, — ответила Екатерина, задрожав с ног до головы.
Наполеон стал спокойным, и это не предвещало ничего хорошего. Савари следовал за ним. Что, если император велел ускорить казнь и граф не успеет убежать? Эта мысль мучила Екатерину Лефевр.
— На этот раз, надеюсь, вы хорошо поняли мое желанье? — обратился Наполеон к Савари резким то ном. — Постарайтесь быть более ловким, чем всегда.
— Ваше величество, саперы уже роют яму в лесу, — низко кланяясь, ответил герцог Ровиго, — через три часа, еще до восхода солнца, виновный будет лежать в этой яме и на земле не останется от него и следа.
Министр полиции попятился к дверям с гордым видом, довольный, что уразумел инструкции императора. Он ждал, что получит награду, когда сообщит его величеству, что дело окончено.
— Теперь мы наедине, — сухо проговорил Наполеон, смотря на Екатерину суровым взглядом. — Впрочем, мы будем сейчас втроем. Позовите сюда герцогиню Монтебелло, — обратился он к адъютанту, — и затем оставьте нас.
Статс-дама пришла трепещущая, закрыв руками заплаканное лицо.
Наполеон приступил к допросу. Он старался сбить с толку и Екатерину и Монтебелло и заставить их таким образом проговориться. Он был убежден, что обе женщины кое-что знают, что статс-дама ввела Нейпперга во дворец. Ему было известно, что Екатерина была хорошо знакома с графом. Во время пребывания во Франции Нейпперг часто посещал Лефевра; ходили слухи, что между ним и Екатериной Лефевр существует любовная интрига. Наполеон не сомневался, что граф нарочно распространял эти слухи, чтобы лучше скрыть истинное положение вещей.
Пронизывая острым взглядом испуганных женщин, император потребовал, чтобы они говорили всю правду, не скрывая ничего, как бы ужасна ни была для него эта правда. Он боялся услышать об измене жены и вместе с тем искал доказательства этой измены, предпочитая самую жестокую уверенность постоянному сомнению.
Он принимал тысячу самых разнообразных решений и с отчаянием приходил к заключению, что его жизнь разбита, надежды неисполнимы и все планы на будущее рухнули: Мария Луиза вернется к отцу, новая война восстановит против него всех монархов Европы, да и французы отвернутся от него. Но ужаснее всего было сознание, что Мария Луиза отдалась другому! Сильный, могущественный человек чувствовал себя маленьким и слабым при мысли, что его жена могла изменить ему! Он будет вынужден оттолкнуть ее, жить вдали от нее, отказаться навсегда от ее ласк! Наполеон сознавал, что не может жить без Марии Луизы. На что ему были слова, все победы, завоеванные территории? Он раздавал их братьям и своим маршалам. Ему ничего не нужно было на земле, кроме Луизы! Поэтому он с таким напряженным беспокойством задавал вопросы своим собеседницам; в их власти было прекратить его муки! Он следил за каждым движением их лиц, старался проникнуть в самую глубину их сердец.
Обе женщины твердо выдерживали этот трудный экзамен, и чем настойчивее они отвергали подозрения Наполеона, тем более смягчался его голос, тем яснее становилось выражение его глаз.
— Итак, вы думаете, герцогиня Данцигская, что я заблуждаюсь относительно причины, заставившей графа Нейпперга явиться ночью ко мне во дворец? — спросил Наполеон менее раздраженным тоном. — Вы действительно предполагаете, что герцогиня Монтебелло говорит правду, утверждая, что дело идет о письме, которое Нейпперг должен был передать моему тестю?
— Я убеждена, ваше величество, что это сущая правда! — уверенно ответила Екатерина.
— Я хотел бы, чтобы это было так! — грустно пробормотал Наполеон.
— Вы легко можете проверить слова герцогини Монтебелло, — сказала Екатерина, которой вдруг пришла в голову смелая мысль. — Императрица спит, она ничего не знает о том, что происходит здесь, во дворце. В таком случае пусть герцогиня Монтебелло при вас исполнит данное ей поручение. Если она обманывает вас, то вы сейчас же сами заметите это.
— Черт возьми, вы очень умны, герцогиня! — воскликнул император. — Я сейчас же произведу этот опыт. Только берегитесь, не вздумайте одурачить меня, — строго обратился он к статс-даме, сильно стискивая ее руку. — Не произносите ни одного слова, не делайте ни одного жеста, которые могли бы предупредить императрицу. Идите и помните, что я слежу за вами.
По приказанию Наполеона герцогиня направилась к комнате императрицы. У нее подкашивались ноги от страха. Она не знала, что Мария Луиза уже предупреждена Лефевром, который громко, у самой ее двери, сказал часовому, что всякое письмо, которое вынесут из покоев императрицы, будет вскрыто и передано его величеству.
Наполеон, судорожно сжав спинку кресла, стоял в углу и с беспокойным блеском в глазах следил за тем, что должно было сейчас произойти.
Герцогиня Монтебелло вошла в спальню Марии Луизы и, согласно распоряжению императора, оставила дверь открытой.
— Ваше величество, — громко и ясно проговорила она, — граф Нейпперг послал меня к вам за ответом, он ждет в приемной. Что вы прикажете сказать ему?
Мария Луиза глубоко вздохнула, как бы проснувшись от сладкого сна, протянула руку, достала с ночного столика письмо и подала его статс-даме.
— Вот ответ, — зевая, произнесла она, — поблагодарите от меня графа Нейпперга и уходите; я страшно хочу спать!
Монтебелло вернулась к Наполеону с письмом в руках. Император жадно схватил его, сорвал печать и начал читать.
Екатерина Лефевр и герцогиня Монтебелло с беспокойством следили за лицом Наполеона; они видели, как оно прояснялось по мере чтения, потом он вдруг расхохотался и прижал листок бумаги к губам.
— Дорогая Луиза, как она любит меня! — растроганно прошептал император. — Да, вы были правы, — обратился он затем к дамам, смотревшим на него, — здесь нет ни одного слова, которое могло бы возбудить тревогу в самом ревнивом муже. Императрица высказывает свои взгляды на политику, которые не вполне согласуются с моими, и только один раз упоминает имя Нейпперга: она просит своего отца избрать в будущий раз другого посланника, так как ей неприятно видеть при своем дворе лицо, возбуждающее своим появлением сплетни в газетах. Ах, герцогиня, я так счастлив! — с искренней радостью воскликнул Наполеон и, подойдя к Екатерине, ущипнул ее за ухо.
Это была его обычная ласка в минуты торжества.
— Теперь, ваше величество, когда ваши опасения рассеялись, я надеюсь, вы отмените военный суд и от пустите графа Нейпперга! — проговорила Екатерина, потирая ухо.
— Пусть он уезжает сейчас же и больше никогда не показывается во Франции, как советует ему императрица! — приказал Наполеон. — Я, собственно, против него ничего не имею, так как ни одной минуты не думал, что он виновен; все это глупое приключение вызвало недоверие моего тестя: австрийскому императору вдруг понадобилось узнать, счастлива ли его дочь со мной, — вот и все! А бедный Нейпперг пострадал!
Император совсем позабыл о своих недавних подозрениях, о ревности и злобе, клокотавших в нем. Позвав Ремюза, он приказал ему отдать шпагу Нейппергу.
— А затем? — спросил камергер.
— А затем проводите графа Нейпперга до кареты и пожелайте ему счастливого пути! — ответил Наполеон.
— Увы, Нейпперг уже умер! — раздался голос Савари, который вошел в комнату в сопровождении адъютантов и ординарцев.
— Как умер? Вы уже расстреляли его? — с огорчением спросил император. — К чему такая поспешность? Вы должны были подождать восхода солнца!
— Я и собирался сделать это, ваше величество, но граф Нейпперг сбежал, выскочив в окно. К счастью, под окном стояли мои агенты; они схватили преступника, посадили его в карету и отвезли в лес, где его уже ожидал взвод солдат. Спросите герцога д'Отранте — он тоже был там.
— О, совершенно случайно! — заметил Фушэ, доставая свою табакерку.
— Вы поступили глупо, — строго заметил Наполеон, обращаясь к Савари. — Раз Нейпперг убежал, нужно было оставить его в покое. Не правда ли, Фушэ?
— Совершенно верно, ваше величество, — поспешил согласиться Фушэ. — Если бы я имел честь состоять еще министром полиции, я догадался бы, что может существовать недоразумение, нужно было предвидеть, что император, наведя более точные справки, помилует обвиняемого.
— Да, следовало предвидеть это, — обратился Наполеон к злополучному Савари. — У вас нет дара предвидения, поэтому вы не можете быть министром!
— Следовало, — продолжал Фушэ, пользуясь одобрением императора, — дать полицейским агентам приказание отвести арестанта не в лес, а в сторону, противоположную той, где ждал взвод солдат. Вот как бы я распорядился, если бы имел честь быть министром полиции.
— Очень жаль, что вы не министр! — проговорил Наполеон.
— Осмелюсь доложить вам, ваше величество, — живо воскликнул Фушэ, — что я поступил так, как будто был министром. Предвидя, что существует какое-то недоразумение и что вы, ваше величество, убедившись в совершенной невиновности заподозренных лиц, пожелаете помиловать графа Нейпперга, я вызвал команду полицейских агентов, на которых я могу положиться, и приказал им отвести графа на дорогу, ведущую в Суассон. Полицейские подумали, что я снова стал министром…
— Вы действительно стали им, — прервал его Наполеон, очень довольный сообщением Фушэ.
— Полицейские повиновались мне, — продолжал последний, — и граф Нейпперг вовсе не умер, как уверяет вас, ваше величество, герцог Ровиго, не всегда точно осведомленный, а едет по направлению к Суассону, где его ожидает завтрак.
— Благодарю вас, герцог д'Отранте, — воскликнул Наполеон, — вы неоценимый администратор! Вы предугадываете то, чего другие не понимают, когда им даже разжевывают и в рот кладут. Скажите, пожалуйста, вы были уверены, что я помилую графа?
— Почти уверен, ваше величество, в особенности после того, как поговорил с герцогиней Данцигской.
— А если бы я не изменил своего первого решения, вы дали бы таким образом возможность убежать важному политическому преступнику! — сказал Наполеон.
— Ваше величество, я отправил вперед отряд полицейских, они задержали бы в Суассоне графа Нейпперга, если бы вы нашли его достойным наказания.
— Что за бес сидит в этом человеке, он предвидит все! — пробормотал император и, подойдя к Екатерине Лефевр, весело сказал ей: — Я думаю, герцогиня, что вам уже пора вернуться к своему мужу, а я пойду разбужу императрицу и уверю ее, что письмо, которое она написала, уже отправлено в Вену.
Чувствуя себя счастливым от уверенности, что Мария Луиза не обманывает его, и довольный тем, что граф Нейпперг избежал смерти благодаря догадливости Фушэ, император приходил все в лучшее и лучшее настроение. Он подошел к Екатерине, приподнял ее голову, поцеловал и ласково сказал:
— Спокойной ночи, мадам Сан-Жень!
Это была неслыханная милость при дворе Наполеона.
С чувством страстной любви к жене император вошел в комнату Марии Луизы.
Через девять месяцев после этой тревожной ночи на свет появился Римский король, которому мы посвящаем целый роман.
— 5 — Римский король
В романе «Римский король» прекрасно описана попытка государственного переворота, предпринятая во Франции во время знаменитого Бородинского сражения под Москвой. Интересны подробности похода Наполеона в Россию, увиденные глазами французского писателя.
I
Император Наполеон 20 марта 1811 года находился на вершине могущества и в апогее славы. Он являлся властелином Европы, вершителем судеб остального света. От него зависели мир и война, и ничто как будто не могло поколебать его трон, воздвигнутый на пятидесяти победах, трон, у которого доблестные сабли знаменитых маршалов и грозные штыки гренадеров составляли ослепительный и надежный оплот. Смущенные короли, фиктивные преемники Людовика XVI, соскучившиеся в ожидании все более и более невероятной реставрации, позабытые народом за время продолжительного изгнания другими монархами как разоренные и компрометирующие родственники, наконец, бывшие заговорщики, преследуемые и деморализованные, отказались от своих претензий, признанных тщетными, и прозябали в унылой покорности. Все враги империи были удручены и буквально пресмыкались, хотя им предстояло вскоре воспрянуть в дни реставрации. Но в то время они жили лишь одной надеждой, лишь одной мыслью уже не о падении колосса, а о внезапной смерти человека.
«Ах, если бы Наполеон мог умереть!» — таково было единственное желание всех, кому мешал император. Враги нашептывали эту надежду всем, кто был расположен благосклонно принять ее, и распространяли при всех европейских дворах веру в возможность такой случайности.
Заклятым врагом баловня судьбы — Наполеона — был граф Нейпперг, и читатель увидит на следующих страницах романа, что это зловещее пожелание высказывалось им даже во дворне самого Наполеона, где Мария Луиза без страха и негодования слушала эту молитву.
Смерть императора объединяла все виды ненависти, все виды мести, все пылкие надежды вокруг нового Карла Великого.
Наполеон не имел прямого наследника, и его государство рисковало распасться в жестоких столкновениях. Вся его громадная империя была бы обречена на раздел. Генералы, братья, союзники Наполеона выкроили бы себе по хорошему куску из великолепных остатков и на поживу сбежались бы издалека. Смерть Наполеона явилась бы для побежденных монархов отместкой, для порабощенных наций — избавлением, а для Бурбонов, вычеркнутых из списка королей, становилась возможной реставрация.
Весть о том, что Мария Луиза готовится подарить императору ребенка, уничтожила все эти планы, разрушила надежды. Итак, мечте Наполеона было суждено сбыться вполне!
Победоносный всюду, доверчиво наслаждавшийся миром, имея только одну обузу на плечах — Испанию, он с лихорадочным нетерпением ожидал разрешения императрицы от бремени.
Несмотря на самый тщательный уход, беременность Марии Луизы протекала тяжело, а в последнюю минуту у ее постели водворилась молчаливая и глубокая тревога, и обеспокоенный доктор Корвизар послал за императором.
Отбросив всякий этикет, без камергера, без дежурной дамы, с обнаженной головой и помутившимся взором, тот, видимо упавший духом, показался на пороге спальни Марии Луизы.
— Спасите мать! — воскликнул он. — Не дайте погибнуть моей Луизе! Корвизар, вы отвечаете головой за жизнь императрицы! — воскликнул он.
— Ваше величество, я попытаюсь спасти также и ребенка, но придется, пожалуй, прибегнуть к щипцам…
Наполеон с горестным видом махнул рукой, предоставляя полную власть доктору, а затем, увидав знаменитого акушера Дюбуа, который должен был принимать младенца, и заметив его смущение, сказал ему:
— Сохраните хладнокровие и поступайте — черт побери! — так, как если бы вы находились у постели крестьянки.
Некоторое время Наполеон с тревогой и нежностью смотрел на юную страдалицу, с любовью пожимал влажную руку Марии Луизы, бледной и задыхавшейся под кружевами в приступе первых болей. Потом он вернулся опять в кабинет, расстроенный, взволнованный, неспособный усидеть на месте.
Его не только пугали осложнения при родах, предсказанные Корвизаром, но боязнь за жизнь ребенка усиливалась беспокойством за мать. Допуская даже благополучный исход, император мучился вдобавок неизвестностью о том, какого пола будет ребенок. Дарует ли Провидение ему сына, а Империи Наполеона II? Конечно, он обрадовался бы и дочери, но ее появление на свет расстроило бы все или по крайней мере отсрочило бы на неопределенное время его планы, все его надежды. А если здоровье Марии Луизы, расшатанное рождением принцессы, если ее организм, потрясенный трудными родами, не позволят ей вторично сделаться матерью? Что тогда? О, это было бы возвратом к прежней неуверенности, к боязни, что императорское наследие будет расхищено или перейдет в руки чересчур слабые, чтобы принять его и удержать…
Чтобы рассеять томительное нетерпение, император подходил время от времени к одному из окон кабинета и смотрел на толпы народа, который наводнял площадь Карусель, не сводя взора с Тюильрийского дворца.
Народ, подобно Наполеону, томился в лихорадке.
20 марта 1811 года тревога витала и над всей Францией: подданные не меньше своего повелителя изнывали от нетерпения узнать, что совершит природа в спальне роженицы. Рождение сына у императора представлялось всем залогом мира, поддержкой французского могущества, гарантией для будущего.
Большинство рассуждало таким образом. Мыслившие иначе точно так же не скрывали того, что событие имело большую важность в их глазах. Враги Наполеона, приверженцы принцев, люди, примкнувшие к заговору шуанов и готовившие втихомолку возвращение Бурбонов, надеялись, что ребенок родится нежизнеспособным. Неблагоприятные слухи, ходившие по городу, радовали их. А если бы ребенку было суждено случайно явиться на свет здоровым, то они желали в виде утешения, чтобы то была девочка. Мальчик расстроил бы их планы, основанные на внезапной смерти Наполеона без наследника, без возможного преемника.
Филадельфы, рассеянные, заточенные в тюрьму или сосланные, сговорились между собой перед разрешением императрицы. Те из них, которые были на свободе, прилагали все усилия, чтобы сплотиться.
20 марта 1811 года мы находим главных из них за столом в кабачке на площади Карусель. Здесь, в тесном кабинете, Марсель, выпущенный из тюрьмы благодаря ходатайству Ренэ перед императором, беседовал с тремя мужчинами, различными по возрасту и манерам, по имевшими одинаковые черты; ту профессиональную особенность, которая позволяет военным, актерам и духовным лицам узнавать своих собратьев даже под одеждой, способной обмануть остальных.
Первый, самый молодой из собеседников, назывался Александром Бутрэ. Двадцати восьми лет, родом из Анжера, он занимал место учителя в одной роялистской семье и поддерживал отношения с друзьями принцев и важными эмигрантами.
Второй, бритый, с мягким обращением, как Бутрэ, но с более острым взглядом и более сдержанной улыбкой, носил имя аббата Лафон. Этому пламенному роялисту было уже под сорок лет.
Третий мужчина, низкого роста, коренастый, с лицом оливкового цвета, стрелял налево и направо пронзительными черными глазами. Жесткая черная борода покрывала его щеки и подбородок. То был испанский монах по имени Каманьо. Он мечтал о восстановлении Вандеи, а его ненависть к Наполеону основывалась преимущественно на преследованиях, направленных против папы.
Эти трое заговорщиков сообщили Марселю об усилиях филадельфов сорганизоваться вновь в Бордо, Пуату и восточных областях. Они выжидали только удобного случая, чтобы подать сигнал к восстанию.
Чокаясь за осуществление своих надежд, четверо единомышленников напрягали слух в ожидании пушечного выстрела, который должен был возвестить рождение царственного младенца. Для них это событие также представляло немалую важность. Наполеон без наследника был более уязвим. Новорожденный сын, упрочив императорский трон, становился в глазах армии и народа как бы законным наследником грозного имени Наполеона, продолжателем его дела, его могущества и поэтому делал сомнительной удачу замыслов, взлелеянных заговорщиками.
Они оканчивали свою беседу, в которой обменивались мнениями и излагали планы, когда грянула пушка…
Этот выстрел был встречен страшным гамом, поднявшимся на площади Карусель. Тысячи стесненных грудей спешили облегчить себя невнятным ревом, который звучал и надеждой, и приветом, и радостью, инстинктивным и смутным взрывом чувств. Люди отводили душу после напряженного ожидания среди продолжительного и хриплого шепота.
Пушка Инвалидов заговорила… Императорский младенец родился на свет! Был ли то ожидаемый принц? Или корона Наполеона переходила к женскому поколению?
Через минуту грянул второй выстрел.
Новое смутное неистовство собравшегося народа, в котором выделялись отрывистые восклицания, грубые окрики: «Молчите! Не мешайте! Шш!.. Шш!.. Да здравствует император!»
Третий выстрел!
В тишине, почти ненарушаемой, слышался только слабый шепот, похожий на журчание воды, доносившееся издалека, раздались голоса, считавшие выстрелы:
— Три!
Марсель и его товарищи вышли к порогу, чтобы лучше слышать, а также следить за впечатлениями любопытных.
Тут в нескольких шагах от них очутились двое мужчин, которые, по-видимому, избегали привлекать к себе внимание, потому что притаились у кабачка за оконным ставнем, откинутым напором толпы.
— Мне знаком этот человек, — тихо заметил Марсель, обращаясь к аббату Лафону, — он принадлежит к нашей партии. Это агент графа де Прованс маркиз де Лювиньи. Он отошел от нас, когда узнал, что нашей целью было восстановление республики.
— Ого! Мале не сказал еще последнего слова, — возразил аббат, — и я твердо надеюсь вместе с отцом Каманьо склонить его к признанию королевской власти, единственной формы правления, возможной во Франции. Ведь вы этого же мнения, ваше преподобие?
— Мне решительно все равно, как будет называться режим, которым мы заменим власть Бонапарта, — свирепым тоном ответил монах, — только бы новое правительство восстановило церковь в ее славе.
— Я не разделяю ваших идей, — сказал тогда Бутрэ, — касательно возвращения короля, которое кажется мне весьма проблематичным; я полагаю, что если Наполеон будет наконец повержен нами, то непременно нужно ввести республику! Но вот в чем я схожусь с вами: в том, что я требую, чтобы эта республика не была нечестивой, но христианской. Не слишком примешивайте папу к нашим делам. Французская церковь — вот что было бы нам нужно! Как по-вашему?
Марсель покачал головой.
— Нужна всемирная республика, — ответил он. — Все люди братья! Никаких границ! Война уничтожена! Согласие вместо соперничества, свободный обмен продуктами, а идеи, как и товары, освобожденные от таможенной пошлины, уже не подлежат произволу властей, посягательствам казны и полицейским притеснениям; вот мой идеал, и вот почему хочу я ниспровергнуть Наполеона! — заключил этот восторженный проповедник равенства и свободы.
Пушка продолжала палить, и возрастающий гул толпы вторил ее залпам.
— Семнадцать! Приближается, милейший Мобрейль, — сказал Лювиньи своего товарищу достаточно громко для того, чтобы его слова донеслись до Марселя и его друзей.
Этот спутник маркиза Лювиньи — личность, не внушающая доверия, с ухватками забияки и проходимца, со зверским взором и тонкими, неприятными губами, — пробормотал;
— Еще четыре минуты! Ах, Наполеон, закатится ли наконец твоя звезда?
— Если, к несчастью, нам придется услышать еще восемьдесят четыре выстрела этой проклятой пушки… если у Бонапарта родился мальчик, какое решение должны принять наши принцы, господин де Мобрейль?
— Сделать то, что я всегда советовал: устранить тирана. Для этого достаточно хорошего кинжала.
— Нужен человек, чтобы действовать им…
— Этот человек существует. Он готов. Это я! — и выражение ненависти исказило лицо этого искателя приключений, Герри, маркиза д'Орво, графа Мобрейля, который впоследствии получил поручение от Талейрана и Бурбонов убить Наполеона с его братьями Жеромом и Жозефом, а также похитить Римского короля и королеву Вестфальскую.
Всеобщее безмолвие заставило замереть всякий шум, всякий шепот. Прозвучал двадцать первый пушечный выстрел. Закончился ли им салют, положенный на случай рождения принцессы?
Все собравшиеся замерли. Казалось, что промежуток был более продолжительным, и некоторые уже говорили:
— Это все! У Наполеона не будет наследника…
Но вдруг грянул новый выстрел, подхваченный громовым «ура!», за ним другой, третий. Сомнений больше не было: родился младенец мужского пола.
Ликование, крики, шляпы, подброшенные в воздух, рукопожатия, обмен сердечными излияниями — весь избыток народной радости дал себя знать в тот несравненный день счастья для Наполеона.
Он пережил страшные волнения. Усилия скрыть их совершенно разбили его. Покинув спальню Марии Луизы во время родов, он удалился к себе и принял ванну для успокоения нервов и отдыха.
Императрица, испытывая жестокие боли, стонала, корчилась, издавала хриплые вопли и, с испуганными глазами при виде щипцов в руках Дюбуа, кричала, что она не позволит накладывать их, что она слышала приказание Наполеона пожертвовать ею ради спасения наследника. Это была неправда. Наполеон, как известно читателю, в страстном порыве крикнул Дюбуа, предупреждавшего его о трудностях предстоящего разрешения: «Прежде всего спасайте мать!» Но Мария Луиза в своих мучениях с ненавистью смотрела на кабинет мужа. Можно сказать, что эта пытка материнством повлияла на ее чувства к нему. Наполеон, и прежде нелюбимый ею, представлявшийся ее напуганному воображению скверным и злым чудовищем, а вдобавок грубым человеком, в этот момент, когда ее чувства были возбуждены до крайних пределов, а душа терзалась, как и тело, сделался для нее тайным предметом отвращения и вражды. Что же касается ребенка, причинившего ей эти нестерпимые боли, то она никогда не любила его. Этот несчастный, вся жизнь которого была лишь кратковременной весной, безотрадной, как ненавистная осень, был обречен прозябать сиротой при живом отце и живой матери. Войны, необходимость защищать Францию, охваченную вражеским нашествием, плен и медленная агония на отдаленном острове помешали отцу нежить и холить желанного сына, а Марию Луизу удерживал при себе граф Нейпперг, и ей предстояло иметь других детей, нуждавшихся в материнской ласке.
Перед наложением щипцов снова послали за Наполеоном.
Успокоившийся, преодолевший душевные муки, он присутствовал при операции от начала до конца. Он склонился к императрице, которая обливалась потом и вся трепетала среди прерывистых рыданий, запыхавшаяся, терпевшая настоящую пытку. Император держал ее за голову и потихоньку прикасался губами к ее лбу, чтобы запечатлеть на нем нежный, боязливый поцелуй; он нашептывал ей слова любви, которые она не могла слышать и которые были не в состоянии ни растрогать, ни ободрить ее, ни придать ей терпения и энергии, столь важных в такой критический момент. Акушер между тем начал вводить щипцы. Ребенок шел ногами; требовалось освободить голову.
Жуткое безмолвие царило в спальне, где, кроме императора и Дюбуа, находились де Монтескью, сиделка императрицы, герцогиня Монтебелло, первая статс-дама, и де Лукай, дежурная в тот день во дворце, государственный канцлер Камбосерес и Бертье, принц Нёшательский (двое последних были вызваны в качестве свидетелей).
С улицы доносился шум, напоминавший рев моря; невнятный говор толпы усиливался от ожидания. По городу распространилась весть, что муки императрицы возрастают, что роды опасны. Присутствующие молчали из боязни увеличить боли матери и тревогу императора.
Наконец Дюбуа, долгое время стоявший согнувшись, быстро отступил назад, подняв склоненную голову; очень бледный, он обернулся к императору, держа в руках что-то крошечное, красноватое, бесформенное, неподвижное и окровавленное…
— Ваше величество, родился мальчик! — сдавленным голосом произнес акушер.
Вздох облегчения, в котором выразилась вся сдерживаемая внутренняя радость, вырвался из груди Наполеона.
Наконец-то! Судьба не отвернулась от него! У него наследник! Свету предстояло считаться с Наполеоном Вторым!
Наполеон рванулся к акушеру, чтобы взять своего ребенка, но Дюбуа остановил его нетерпеливым, повелительным жестом и бросил беспокойный взгляд на маленькое, по-прежнему неподвижное существо с багровым тельцем, которое походило на ком безжизненного мяса, извлеченного из утробы умирающей матери.
Наполеон внезапно почувствовал острую судорогу. Ему стали понятны озабоченность и сомнение врача. Закусив губы, сжав пальцы, он старался сохранить царственную безмятежность, которую демонстрировал до сих пор. Он молча пристальным и мрачным взором следил за всеми движениями акушера, старавшегося оживить ребенка.
Между тем Дюбуа растирал маленькое тельце, влажное и помертвевшее; он вдувал воздух в легкие новорожденного, приникая губами к неподвижному и холодному ротику, потихоньку хлопал по бедрам и осторожно качал малютку.
Семь минут прошли таким образом, и ни один крик, ни одно проявление жизни не успокоили истерзанного императора.
Вдруг рот ребенка полуоткрылся и его первый писк, для ушей Наполеона более восхитительный, чем звук триумфальных фанфар, раздался в тревожной тишине спальни. Наследник империи был жив, несомненно жив!
Несмотря на всю силу воли и удивительную способность оставаться непроницаемым, Наполеон невольно издал какое-то радостное ворчание. Он схватил наскоро спеленутого ребенка и бросился в соседнюю гостиную, где ожидали все депутаты империи, маршалы, принцы. С грубым тщеславием, в порыве гордой и вульгарной радости удовлетворенный император и счастливый отец представил новорожденного собравшимся и сказал:
— Господа, вот Римский король! В этот момент по сигналу, поданному из дворца, большой колокол на колокольне собора Парижской Богоматери и пушечные залпы в доме Инвалидов начали извещать о появлении на свет Наполеона Второго.
Тогда император в приливе отцовского счастья и торжества основателя династии выбежал на балкон Тюильрийского дворца, перед которым дожидалась несметная толпа, сдерживаемая только простой веревкой. Тут в виде трофея, в знак победы и славного будущего он поднял царственное дитя над головой и показал его народу.
Так, подобно первым франкским королям, которых поднимали на большом щите, сын Наполеона получил национальное признание своих прав. Эта живая корона, возложенная поверх императорских и королевских диадем, которыми уже увенчал себя Наполеон, была приветствуема кличем, грозным для врага и радостным для Франции: «Да здравствует император!»
В радостном гуле едва можно было различить глухие проклятия немногочисленных приверженцев Бурбонов, рассеянных в толпе. Маркиз де Лювиньи и граф де Мобрейль быстро удалились, проклиная слишком благосклонную судьбу. Недовольные, раздраженные, раздосадованные Марсель, аббат Лафон, монах Ка-маньо и Бутрэ вскоре после того ушли из кабачка} тревожно качая головами, они говорили между собой:
— Пойдемте, посоветуемся с Филопеменом. Изменит ли это рождение его планы?
И все четверо, все более и более задумчивые и смущенные, направились к лечебнице доктора Дюбюиссо-на, где был помещен генерал Мале.
Никто не предвидел тогда, что рождение Римского короля не послужит ни препятствием для смелых планов Мале, ни гарантией мира для Франции. Никто не мог предугадать злополучную и трогательную судьбу этого ребенка, которого отец мог ласкать только в детстве и молодость которого зачахла в царственной темнице вне пределов Франции, в грустной неволе, где ему запрещали даже говорить на родном языке и скрывали от него громкую славу отечества.
Но колокола, звонившие всю ночь, артиллерия, возвещавшая о счастливом событии, ошеломляли, опьяняли, отуманивали народ и двор, и 20 марта 1811 года было днем триумфа, кульминационной датой в жизни Наполеона.
Горный склон молодости, побед, смелого и могучего подъема был пройден: после краткой остановки на вершине сначала медленный спуск, затем поспешный, потом обрыв, падение, пропасть со всеми ее ужасами, Фонтенбло и попытка самоубийства, измена, отречение, остров Святой Елены и оскорбления английского тюремщика, — вот что готовилось судьбой эфемерному властелину мира, который, сделавшись отцом, безмерно радовался в это утро, внушавшее столько веры и надежд.
II
Граф де Мобрейль, расставаясь с маркизом де Лювиньи, многозначительно пожал ему руку и сказал:
— Счастье не всегда будет служить Наполеону! Мы еще увидимся, маркиз!
Лювиньи тряхнул головой и пробормотал:
— Не думаю… или по крайней мере не сейчас. Я уезжаю.
— А не будет некоторой нескромностью спросить причине вашего отъезда?
— Пока Бонапарт остается здесь, — промолвил маркиз, грозя кулаком Тюильри, — я буду вдали от Франции.
— А куда вы поедете?
— В Лондон к нашим законным государям.
Мобрейль глубоко задумался. Вдруг по его измученному лицу скользнула улыбка.
— Я знаю, — сказал он, — вы имеете доступ ко двору их высочеств? С вами, дорогой маркиз, там считаются? А по временам и совещаются с вами, не правда ли?
— Их высочества изволили оценить мою преданность. Граф де Прованс почтил меня особой благосклонностью, а граф д'Артуа соблаговолил неоднократно поручать мне весьма ответственные поручения, за исполнение которых неизменно выражал мне благодарность.
— Вы отчасти причастны к заговорам, маркиз?
— Я принимал участие во всех заговорах, — оживленно ответил Лювиньи. — Ведь это я служил посредником между их высочествами и господами Кадудалем, Пишегрю, Фушэ, Талейраном, Моро. Бернадотт, наша последняя надежда, как-то странно охладел. В настоящий момент князь де Понтекорво старается для себя; это честолюбивый и неблагодарный человек! На этого интригана больше нечего рассчитывать!
— Найдутся другие. Фушэ и Талейран всегда пойдут за теми, на чьей стороне успех. Но как, прислушиваясь к этой проклятой пушке, я только что сказал сам, существует одно-единственное средство избавиться от империи.
— Это покончить с императором. Мы уже думали об этом, изыскивали средства…
— Все это никуда не годится! Старо, опасно, слишком неверно! Нет, надо отказаться от излюбленного средства участников всех военных и гражданских заговоров, надо напасть на тирана, схватиться с ним лицом к лицу и поразить его. Вот то средство, которое я имею е виду! Не дадите ли вы мне возможность лично представить их высочествам мои предложения и не возьмете ли вы меня с собой в Лондон?
— Я с удовольствием представлю вас их высочествам, так как вы кажетесь мне человеком дела.
— В деле меня и оценят! — холодно заметил Мобрейль.
— Но будем считать, что я ничего не знаю. Как сегодня, так и завтра или через десять лет — мне одинаково неизвестны ваши проекты. Вы отправитесь вместе со мной в Лондон; вы француз, верноподданность которого мне хорошо известна; вы желаете иметь честь засвидетельствовать свое почтение своим законным государям, я даю вам возможность проникнуть к ним, вот и все. Но вы не посвящали меня в ваши намерения. Решено?
— Даю вам слово! Так когда же мы едем?
— Если хотите — завтра.
— Маркиз, я отправлюсь уложить свой чемодан, и завтра мы будем уже на дороге в Кале.
— Скажите-ка, господин Мобрейль, значит, вы сильно ненавидите Наполеона? — спросил Лювиньи, внимательно вглядываясь в авантюриста.
— Да, я ненавижу его и хочу мстить! — с мрачной энергией ответил граф Мобрейль.
— А ведь вы почти из его дома. Ведь вы, кажется, были шталмейстером при дворе его брата, Жерома Бонапарта, которого он имел смелость сделать королем Вестфалии. Сделать такого шута горохового королем! Ну не насмешка ли это?
— А, так вы, значит, слышали мою историю? — сказал Мобрейль. — О, это самое банальное приключение! Королева проявила ко мне известную благосклонность, а Жерому это не понравилось. Он сообщил о своей супружеской неудаче брату, а тот вместо того, чтобы посмеяться и посоветовать несчастному мужу философское спокойствие, необходимое в подобных случаях, решил стать мстителем за честь Жерома. Я был как раз накануне назначения на в высшей степени выгодную должность комиссара у испанской границы. Наполеон разорил меня одним росчерком пера: он вычеркнул мое имя из доклада о назначении на место и строго-настрого приказал никогда не упоминать ему обо мне. Мне думается, что он сам приревновал меня: у него были определенные намерения на королеву Вестфальскую… Бедная Екатерина Вюртембергская! Как мне жалко ее! Положив на месте проклятого корсиканца, я хочу отомстить также и за нее! Маркиз, я сгораю от нетерпения предложить нашим принцам всю свою энергию и ненависть!
— Я помогу вам! Но будем осторожны! Так до свиданья, до завтра!
— До завтра! Господи Боже, маркиз, благодаря счастливой случайности, которая так неожиданно свела нас с вами, я уже не нахожу сегодняшний день таким отвратительным.
— Так вы прощаете Римскому королю его рождение?
— Римскому королю? О, черед дойдет и до этого королька. Пусть только он попадет в мои руки!
— Вы убили бы и его? — спросил Лювиньи, на которого произвел сильное впечатление мрачный тон заявления Мобрейля, сопровождаемый свирепым блеском глаз. И словно охваченный заранее жалостью к маленькому королю, он прибавил: — Ребенка! Вы, значит, не отступаете ни перед чем? О, вы ужасный человек!
— Говорят, что так! — ответил злодей, польщенный этим замечанием, словно комплиментом, а затем пробормотал с жестокой улыбкой: — Ребенок вырастет. Было бы безумием убить льва и оставить в живых львенка. До завтра, и постараемся провести агентов корсиканца!
Через пять дней после этого соглашения Мобрейль по рекомендации маркиза де Лювиньи был допущен к графу де Прованс, которому впоследствии история дала имя Людовика Восемнадцатого.
Будущий король Франции жил в Англии, в элегантном поместье в графстве Бекингэм Там он ждал, хотя и без особенной надежды, чтобы Франция раскаялась в своих революционных заблуждениях, прогнала узурпатора и вернула ему, Людовику Станиславу Ксавье графу де Прованс, корону его брата Людовика XVI. Но ему так часто нашептывали на ухо слова одобрения, он видел столько разочарования и безнадежной усталости в окружавших его лицах, что теперь очень рассеянно и вскользь выслушивал редкие предсказания будущего возвращения в Тюильрийский дворец. Впрочем, эти предсказания обычно звучали без внутреннего убеждения, скорее банальным комплиментом, какой-то заученной формулой обязательной вежливости в устах все более редких преданных роялистов, являвшихся принести его высочеству выражения верности и предложить к его услугам свою шпагу.
И граф де Прованс уже не верил в успех заговора или мятежа. Без всякой грусти, со спокойствием примирившегося философа и скептической улыбкой на устах он признавал бесполезным и все эти выражения преданности, и готовность жертвовать человеческими жизнями. Он совершенно не старался отыскать подражателей отважным партизанам вроде Кадудаля или Фроттэ, сама порода которых казалась ему уже иссякнувшей. Он более чем умеренно доверял проектам заговорщиков, этих разинь, которые давали себя арестовать до начала открытых действий и адские машины которых неизменно отказывали в благоприятный момент. Некоторое время он еще верил в маршала Бернадотта, которого ему рисовали в виде ловкого интригана, безумно завидовавшего Наполеону и готового в силу этого изменить ему и использовать против него те военные силы, которыми он командовал, равно как и старинные связи с оставшимися независимыми офицерами; за Бернадоттом было еще большое влияние на истинных республиканцев, которые ценили в нем генерала, явившегося в штатском платье на свидание с Бонапартом утром восемнадцатого брюмера. Бернадотт не мог сам питать надежду на корону. После низложения Наполеона он стал бы Монком и призвал законного государя. Генерал Монк был одним из ближайших сподвижников английского диктатора Кромвеля, низложившего и казнившего английского короля Карла I, сына Марии Стюарт. Через два года после смерти Кромвеля Монк счел более выгодным для себя не поддерживать правление сына Кромвеля, а содействовать восстановлению на престоле короля из дома Стюартов — Карла II, сына казненного Карла I. До самого последнего момента Монк действовал так, что даже ближайшим сотрудникам оставалось неизвестным его намерение — он боялся скомпрометировать себя на случай неудачи. Бернадотта справедливо сравнивают С Монком, так как оба они были чистокровными политиками, руководствующимися не идеей или привязанностями, а только соображениями выгоды.
Но и этой обольстительной мечте суждено было рассеяться. Бернадотт внезапно резко оборвал начавшиеся переговоры. Уверяли, будто он искал в Европе княжество или королевство для себя, где, избавившись от всяких вассальных обязательств и необходимости быть благодарным Наполеону, он мог бы для укрепления своего юного трона опереться на древнюю монархию.
Но так или иначе, в данный момент не приходилось рассчитывать на этого честолюбивого сержанта, ставшего маршалом империи и князем де Понтекорво. Что мог бы дать, даже обещать ему государь в изгнании, шансы которого на трон были столь эфемерны?
И с ироничной гримасой граф де Прованс припоминал имена всех тех старинных слуг его рода, потомков придворных Людовика XV и Людовика XVI, наследников геройской фамилии, которые мало-помалу снизошли до принятия от этого корсиканского выскочки, ставшего их господином, должностей, денежных наград, командования полками, а иные из них — даже новых титулов.
И не разражаясь громогласными сетованиями, не жалуясь на всеобщее оскудение, не сожалея об изменниках, чувствуя себя забытым французами и презираемым европейскими государями, сознавая, что какими бы внешними знаками почета ни окружали его англичане, а на их поддержку ему рассчитывать не приходится, Людовик Станислав Ксавье, все более и более тучневший из-за недостатка движения и физических упражнений, изо дня в день жил только ожиданием хорошего обеда, так как, подобно всем Бурбонам, был изрядным обжорой. Дожидаясь, пока накроют стол, он спокойно откидывался в кресле, не думая больше о короне, и погружался в латинский текст Горация, изданного Эльзевиром и облеченного в кокетливый переплет, перечитывал ту или другую оду, которую он смаковал с наслаждением безмятежного любителя науки, удалившегося на покой и отказавшегося от всякого мирского шума.
При докладе о маркизе д'Орво, графе Мобрейле, Людовик, не выпуская из рук Горация и карандаша, которым он делал пометки на полях, вытянулся в кресле, стараясь придать величественный вид своему гигантскому телу, и затем, посмотрев через потайное зеркало на человека, о приходе которого ему доложили, пробормотал с иронией:
— Вот тип завзятого хвастуна! В то время как Мобрейль приветствовал графа, а Блакас быстро перечислял титулы этого француза, явившегося в Англию специально для того, чтобы сложить свои приветствия к ногам того, кого он считал своим законным государем, граф де Прованс думал: «Меня опять собираются прельстить каким-нибудь казарменным заговором, бесшабашным замыслом соскучившегося гарнизона. Этого субъекта, который, судя по внешнему виду, подвизался главным образом на больших дорогах, либо сейчас же заберут и расстреляют, если только не предпочтут спрятать в какой-нибудь отдаленный и усиленно охраняемый уголок; либо ему в случае неуспеха удастся ускользнуть, но тогда он не посмеет явиться ко мне с какими-либо требованиями. Так или иначе, но я буду избавлен от него. Значит, я могу выслушать его; это меня ни к чему не обязывает, но доставит только удовольствие верному Блакасу! Хотя я все-таки предпочел бы не прерывать своей беседы с Горацием»…
Герцог Казимир де Блакас д'Ольн был поверенным, другом и секретарем графа де Прованс. Он следовал за ним повсюду — в Кобленц, в Петербург, в Лондон, во время скитаний не находившего нигде приюта принца, и был обычным покровителем всех искавших доступа к графу де Прованс заговорщиков. В этом амплуа ему приходилось фигурировать гораздо чаще, чем в качестве камергера или церемониймейстера, которым он, в сущности говоря, и был. Но изгнанному принцу редко приходилось устраивать приемы при своем дворе. Там после длительных перерывов показывались только такие же изгнанники, как и сам принц, или же являлись подозрительного вида личности с истасканными, изрубленными, сожженными солнцем и обветренными лицами; предъявляя рекомендательное письмо и показывая иногда свои раны, эти заблудившиеся дети шуанства проклинали республику и хвастались готовностью покончить с Бонапартом; они предлагали снова начать войну по лесам, уверяя его высочество, что достаточно одного сигнала, чтобы поднять шесть западных департаментов Франции, и одного энергичного человека, чтобы ввести короля в Париж во главе победоносных крестьян с королевскими лилиями вместо знамени.
Обычно в этих случаях его высочество неизменно отвечал, что данный момент кажется ему неблагоприятным для высадки у нормандских берегов и что он предпочитает обождать еще немного; тогда посетитель удалялся, не упуская случая попросить вознаграждение за убитых лошадей и имущество, разграбленное «этими сорвавшимися с цепи дьяволами», то есть солдатами империи.
Как правило, аудиенция кончалась тем, что Блакас, нахмурившись, выдавал посетителю некоторую сумму денег, а Станислав Ксавье снова откидывался на спинку кресла и брался за своего Горация.
Но на этот раз выразительное лицо Мобрейля, глубокая решимость, сквозившая во всех его манерах, суровые черты нос хищной птицы, придававший ему сходство с великим Кондэ, военная осанка — все это расположило принца более милостиво. Он подумал: «Быть может, этот субъект не похож на других; быть может, он далек от мысли предлагать мне какое-нибудь безумное предприятие, как это делают другие; выслушаю-ка его!» — и с обычной своей улыбкой, хотя и облекаясь в обычную для него броню скептицизма, показал рукой посетителю на стул.
Мобрейль поклонился, но не сел, ожидая, пока принц обратится к нему.
— Вы из Парижа? — спросил претендент. — Ну, какие новости принесли вы нам оттуда? Наверное, плохие?
— Отвратительные, ваше высочество!
— Генерал Бонапарт все еще победоносен, как всегда, и пользуется прежней популярностью и любовью?
— Счастье снова оказалось милостивым к нему! Рождение сына, которого он называет своим наследником, как будто укрепляет его трон, на самом деле шаткий и колеблющийся.
— Если вы на самом деле думаете так, то я поздравляю вас с дальновидностью: эта империя, основанная на жестокости и насилии, на презрении к правам, совести и свободе, не может долго продержаться. Но забывчивые, неблагодарные, обольщенные французы не разделяют ваших достойных убеждений; французы уже позабыли о своих старых королях, и вы являетесь исключением; вы доводите вашу преданность даже до того, что являетесь к нам сюда засвидетельствовать свои верноподданнические чувства! О, вы найдете не очень-то много подражателей! — прибавил граф де Прованс с улыбкой разочарования. — Впрочем, проходя передней и приемной вы уже должны были заметить, что подобные вам гости очень редки у меня.
— Внезапное событие может переполнить ваш салон толпой, которая будет наперебой домогаться чести видеть вас!
— Что значит «внезапное событие»? Я не понимаю вас…
— Смерть Наполеона! — громко ответил Мобрейль.
— Неужели вы думаете, что подобное «внезапное событие» способно произвести переворот в положении вещей? Ведь за Бонапарта стоят вся армия, солидная администрация; кроме того, его окружает сонм маршалов, которые, судя по всему, глубоко преданы ему и не преминут обнажить шпаги в защиту его сына, его наследника. Так неужели же вы думаете, что империя представляет собой столь шаткое здание? Неужели вы решитесь утверждать, будто институт империи не способен пережить своего основателя?
— Раз император умрет, то и его империя разлетится в пыль, ваше высочество! Армия устала сражаться и вечно летать с севера на юг, с берегов Таго на берега Вислы; она требует только мира, ждет только отдыха. Смерть Наполеона даст ей тут же одно и обеспечит в будущем другое, оставляя в прошлом славу. Большего армия и не потребует. Вечно враждующие между собой маршалы, не доверяющие друг другу и тоже усталые, никогда не будут в силах прийти к соглашению, если в случае регентства им придется делить власть. Да и многие из них больше солдат желают как можно скорее сложить оружие. Имея земли, замки, молодых жен, они хотят использовать последние годы физической бодрости и уже пошатнувшегося здоровья, остающиеся им в жизни. Они не так глупы, чтобы снова вскочить на лошадей и пойти войной против всей Европы, а может быть, и Франции, ради того, чтобы обеспечить сыну Наполеона оспариваемое престолонаследие. Таким образом трон Франции вернется к своим законным обладателям. Маршалы, восхищенные, что вы, ваше королевское высочество, обращаетесь с ними как с великими вассалами короны, гордые тем, что их боевое дворянство признано равным родовому — потому что необходимо будет признать такое равенство, — станут самой мощной опорой вашего реставрированного трона! Что же касается ребенка, которого называют Римским королем, то ему не выдержать на своем тщедушном челе тяжести императорской короны; его сломи г уже то, что он должен будет носить имя воина, перед которым так долго трепетала вся Европа и чьи предприятия ему придется поддерживать и продолжать; это будет какая-то тень императора, призрак государя. Поверьте мне, ваше высочество, что стоит Наполеону умереть, как ему уже невозможно будет воскреснуть в лице сына!
— Может быть, вы и правы, — сказал граф де Прованс, погружаясь в глубокое раздумье, — возможно, что империя падет в тот момент, когда того, кто является всем в этом громадном государстве, не будет в живых. Но едва ли это может случиться так скоро. Наполеон отличается крепким здоровьем, он еще молод, гораздо моложе меня… Но, может быть, вы случайно уже составили себе понятие, каким образом произойдет то важное, но гадательное событие, на которое вы намекаете и которое должно будет совершенно изменить судьбы Франции?
— Я не только имею то понятие, ваше высочество, а нечто большее: уверенность. Для этого нужно, чтобы…
— Довольно, маркиз! — поспешил перебить его граф де Прованс. — Мне не подобает слушать дальнейшие подробности. Я живу здесь в уединении, вдали от всякой агитации и политики; в обществе старого Блакаса и вечно юного Горация я без всякого нетерпения дожидаюсь, пока повернется колесо фортуны. Я не хочу заниматься такими гадательными событиями, вызвать которые, несмотря на всю их желательность, мне было бы невозможно. Если вы питаете какие-то надежды, если кое-какие признаки дают вам основание предвидеть их быстрое осуществление, то расскажите все это Блакасу. Он очень интересуется подобными радостными гипотезами; что же касается меня, граф, то я махнул рукой, совершенно махнул рукой! Поговорим о чем-нибудь другом!
Еще некоторое время разговор продолжался, затрагивая совершенно безразличные, невинные темы; затем граф де Прованс сделал жест, означавший, что он хочет закончить аудиенцию и вернуться к своему Горацию.
Мобрейль почтительнейше откланялся.
Блакас пошел провожать его и предложил осмотреть дивные аллеи парка.
Оба они углубились под тенистые своды столетних дубов, где прыгали грациозные, боязливые лани. Мобрейль, который отлично понял осторожность графа де Прованс, открылся во всем его доверенному. Он рассказал ему во всех деталях свой проект: следовало убить императора и похитить Римского короля; тогда во всеобщем смятении можно было бы надеяться на реставрацию.
Блакас спокойно выслушал его. Не выказывая ни малейшего отвращения, он в то же время не решался высказываться одобрительно о злодейском плане Мобрейля. Он удовольствовался тем, что ответил несколькими незначительными словами, которые не были ни одобряющими, ни порицающими. Было ясно, что граф де Прованс и его секретарь, не будучи уверены в успехе, хотели гарантировать себе возможность отказаться от всякого знакомства с убийцей и его планами в случае, если его покушение не удастся. Но в глубине души они желали его успеха и не хотели обескураживать его.
— Ну, а чего вы потребуете для себя лично, господин Мобрейль? — спросил Блакас, прощаясь с авантюристом у ограды парка.
— Ничего, кроме признательности моего короля в тот день, когда его величество воссядет в Тюильри на престоле своих предков и снова возьмет в руки скипетр Франции, освобожденной моей рукой от угнетающего ее тирана.
— Так да поможет вам Божественное Провидение и да укрепит Оно ваши намерения, которые имеют целью освободить угнетенный народ и восстановить законного государя на престоле, узурпированном безбожником-бандитом! Буду очень рад увидеться с вамп, граф, и с удовольствием ждать от вас радостных новостей!
Они церемонно раскланялись и разошлись.
Мобрейль, пешком возвращаясь к себе в гостиницу, думал в большом замешательстве: «Надо было ждать от них такой уклончивости! Что за черт — ничего определенного, ни одного искреннего слова, одни только уклончивые речи, шаткие обещания… Не только не хотят дать прямое указание, но даже и не высказывают явного одобрения! Ну да, конечно, они боятся скомпрометировать себя! Как бы там ни было, но я обещал, что император вскоре умрет. Это обещание, кажется, заставило просиять наше брюхатое величество и улыбнуться его тощего камергера; оба они как будто поверили в меня. Теперь надо доказать им, что я не хвастался напрасно! Бонапарт жив и пользуется прежней популярностью; как устроиться, чтобы до истечения месяца он отправился на тот свет? Э, да что там! Сначала надо вернуться к себе в гостиницу и спокойно пообедать. Трактирщица обещала угостить меня знатной едой, а за добрым куском мяса и стаканчиком вина хорошие мысли являются сами собой!»
И, веря в свою смелость, в свою звезду, в счастливую случайность, которая поможет убрать Наполеона в самом непродолжительном времени, Мобрейль в отличном настроении духа, войдя в гостиницу «Королевский дуб», крикнул с порога на ломаном английском языке:
— Ну что, мистрис Бэтси, готов ли обед? Ну, живо! Принесите мне кубок канарийского вина, чтобы я мог выпить за вашу вывеску, как говорил этот милейший сэр Джон Фальстаф, величайший человек во всей Англии!
III
Мистрис Бэтси Четснаут, хозяйка гостиницы «Королевский дуб», извинилась, что обед еще не подан. Вина в этом была не ее, а мужа, Вилли Четснаута, превосходного отца семейства, уважаемого во всем приходе, но имевшего досадную привычку напиваться каждый раз, когда в «Королевском дубе» останавливался мало-мальски важный посетитель.
Случай представлялся ему довольно часто, так как пребывание в этих краях графа де Прованс привлекало многих важных иностранцев, а также неизменно любезных и разговорчивых французов; последние обычно справлялись о здоровье графа, о его привычках, о посещавших его гостях, об отправляемых им письмах. При этом они всегда щедро тратили деньги, отличаясь нетребовательностью и веселостью нрава. Единственно, что им, казалось, было нужно, это получить самые точные сведения о происшествиях, касающихся графа де Прованс. Они не брезговали подолгу разговаривать с горничными, чтобы быть в курсе всех мелочей существования принца.
— Без сомнения, все это были французы, искренне привязанные к своему впавшему в несчастье государю! — заключила говорливая Бэтси.
«Без сомнения — шпионы Наполеона!» — подумал Мобрейль и прибавил вслух:
— Разве сегодня тоже приехал какой-нибудь любопытствующий француз, что ваш муж напился и обед запаздывает?
— В том-то и дело, что да, сэр; там приехал какой-то джентльмен, который кажется мне французом. Он прибыл в сопровождении слуги.
— Ах, так! — сказал Мобрейль, неприятно пораженный услышанным, и подумал: «Неужели полиция уже следует за мной по пятам и Ровиго уже послал мне вслед одного из своих агентов? Ну что же, надо посмотреть на эту ищейку!»
— А можно повидать этого француза? — спросил он трактирщицу.
— Он в соседней комнате греется в ожидании обеда. Его лакей спит в конюшне. Не хотите ли, я позову его?
— Нет, я лучше поговорю с ним сам. Я уж сумею представиться ему! — ответил Мобрейль и решительно толкнул дверь в соседнюю комнату, где около камина сидел путешественник с бумагой в руках.
При виде незнакомца Мобрейль подумал: «Или я имею дело с агентом Ровиго, посланным следовать за мной по пятам, и в этом случае он знает, кто я такой; или же этот иностранец является каким-нибудь роялистом-дворянчиком, явившимся из усердия или расчета засвидетельствовать свое почтение графу де Прованс; значит, он меня не знает. В обоих случаях прятаться бесполезно».
Поэтому он развязно подошел к незнакомцу, человеку изящного вида, с правильными, красивыми чертами лица, и сказал ему:
— Вы француз, как мне сказала трактирщица, я тоже! Случай свел нас далеко от нашей родины, так не сделаете ли вы мне честь отобедать вместе со мной, благо и обед запоздал, так что нам веселее будет скоротать время. В мирном разговоре мы терпеливее справимся с нашим голодом. Я — граф Мобрейль.
Незнакомец слегка привстал со стула, поклонился легким движением головы и, поспешно собрав свои письма, которые, казалось, ему было необходимо скрыть от глаз завязывавшего знакомство графа, вежливо ответил:
— Я с удовольствием принимаю ваше любезное предложение, граф. Но прежде всего вы должны знать, что я не имею чести быть вашим соотечественником: я — граф Нейпперг, полномочный министр его величества императора австрийского; в данный момент я нахожусь в отпуске и путешествую для собственного удовольствия.
— А я — для здоровья, — поспешил ответить Мобрейль, который ни на мгновение не поверил, чтобы завзятый дипломат стал для одного только удовольствия путешествовать по соседству с резиденцией принца-изгнанника.
А Нейпперг между тем произнес:
— Ну что же, граф, я очень рад случаю, который свел нас, и обращаюсь к вашему содействию, чтобы поторопить хозяйку с обедом, так как путешествие сильно разожгло мой аппетит.
— Сейчас пойду посмотрю, что делается на плите и в печи, распеку Бэтси и разбужу, если только это вообще возможно, ее пьяницу-мужа.
— Отлично, граф Мобрейль, а в ожидании вас я покончу с этими письмами… письмами от родных, полученными мной третьего дня в Лондоне, — небрежно прибавил Нейпперг.
Мобрейль, отправившийся поторопить хозяйку, пробормотал:
— Гм… Эти письма на бумаге с орлом и короной, на императорской бумаге, что-то кажутся мне подозрительными. Уж не принадлежит ли этот выдающий себя за графа Нейпперга субъект к семейству Наполеона? — Вдруг Мобрейль хлопнул себя по лбу и, остановившись на ходу, пробормотал про себя: — Что я за идиот! Я, кажется, начинаю терять память! Ведь граф Нейпперг — черт возьми! — это тот самый австрийский дипломат, о котором в свое время кричали так много газеты Лондона и Гааги. Он был влюблен в Марию Луизу, и, как говорят, Наполеон однажды застал его ночью в ее комнате. О, это отличная встреча, и если эль и виски нашей хозяйки развяжут язык этому поклоннику императрицы и он вздумает рассказать за обедом о своих любовных приключениях, то он встретит пару внимательных ушей, жадных до деталей его похождений. Но какого черта ему нужно здесь? Э, что там — либо он сам расскажет мне это, либо я догадаюсь, что его привело сюда!
И Мобрейль отправился распоряжаться, как обещал.
Сначала он спустился в погреб, растолкал заснувшего трактирщика, вытащил его, сильно удивленного встряской, на свет и втолкнул в кухню сильным ударом ноги пониже талии. Затем он взялся за Бэтси, растормошил ее, заставил поторопиться и в конце концов вернулся обратно в зал, где его дожидался Нейпперг; перед ним торжественно несли гигантский ростбиф, окруженный белым венцом аппетитного картофеля.
Оба путешественника занялись обедом, обильно поливая его великолепным элем, поданным в громадных пинтах честным Вилли Четснаутом, теперь окончательно протрезвевшим и готовым снова достойно встретить нового посетителя, которого пошлет ему Провидение.
Во время обеда собеседники тщательно взвешивали свои слова, осторожно приглядываясь друг к другу; разговор все время вертелся вокруг совершенно нейтральных вещей — жизни во Франции и в Англии, трудностей объяснений с почтальонами и чиновниками. Затем стали обсуждать условия мира и возможность новой войны. Россия вооружилась; со своей стороны, и Наполеон тоже, казалось, выжидал только случая, чтобы выступить в поход.
При этом впервые было упомянуто имя Наполеона.
Мобрейль заметил, как при этом имени в глазах Нейпперга сверкнула злоба.
— Вы как будто не принадлежите к особенно восторженным поклонником Бонапарта? — спросил он спокойно, принимаясь за горячий плум-пудинг, только что поставленный мистрис Бэтси на стол.
— Я ненавижу его, — энергично ответил Нейпперг. — Не знаю, друг или враг вы ему, но я в Англии, в стране свободы, и не нахожу нужным таить в душе те чувства, которые испытываю каждый раз, когда при мне упоминают имя, особу или дела этого чудовища!
— Можете спокойно дать выход вашим справедливым чувствам — я тоже не из друзей Наполеона. Но разве вы имеете основание лично жаловаться на тирана?
— Да, — с усилием выговорил Нейпперг, — он отнял у меня то, что мне дороже жизни.
— Вашу родину? — спросил Мобрейль с отлично разыгранной наивностью. — Я думал, что вы австриец! Кто же вы? Итальянец, испанец, саксонец, вюртембержец, голландец или француз? Только Австрия и Англия еще держатся и не удовлетворяют завоевательных аппетитов отвратительного ястреба, который представляется орлом.
— Моя родина пока еще устояла против его покушений, но Наполеон унизил меня самого, — ответил Нейпперг. — Он нанес мне одно из тех оскорблений, которые никогда не забываются. Он ударил меня по лицу, сорвал с мундира аксельбанты и бил меня ими, в то время как мамелюки держали меня.
— Бить дворянина, офицера, посланника! Это уже чересчур!
— Наполеон ни перед чем не останавливается. Но он нанес мне еще более неизгладимое оскорбление. Я мог защищаться, обнажить шпагу, но меня предварительно обезоружили!
— И вам удалось ускользнуть от его мамелюков, от его мщения?
— Да, он пощадил меня! — мрачным тоном ответил Нейпперг. — Я обязан ему жизнью. Меня хотели расстрелять, когда внезапно явилась помощь. Мне позволили уйти, но я должен был обещать особе, которая принимала во мне участие, не пытаться мстить, не искать случая омыть в крови Наполеона свою опозоренную честь!
— Вы сдержите вашу клятву?
— Да! Я должен сдержать ее! — с усилием ответил Нейпперг. — Я обещал… и при свидетелях!
— Черт возьми! И этот свидетель…
— Это бесподобный друг, который уже два раза спасал мне жизнь, лучшая и храбрейшая женщина на свете в полном смысле этого слова, жена маршала Лефевра.
— Мадам Сан-Жень? Это ей вы дали слово не предпринимать ничего против Наполеона?
— Да, это она вырвала меня из рук мамелюков Наполеона и полицейских Ровиго, у взвода гренадеров, которых должен был привести ее муж. Я обещал ей это и сдержу свое слово! — с усилием сказал Нейпперг. — Если вы когда-нибудь увидите госпожу Лефевр…
— Я немного знаком с ней. По прибытии в Париж я рассчитываю зайти к ней, чтобы засвидетельствовать свое почтение.
— Тогда скажите ей, что я не забыл своей клятвы.
— Я с удовольствием возьму на себя исполнение этого поручения. Но может ли та особа, от имени которой у вас взяли это обещание, вернуть вам ваше слово?
— Нет! Она никогда не примирится с актом насилия, предпринятым мной против Наполеона. Увы! Для меня в особенности священна жизнь этого человека! — уныло ответил Нейпперг.
Мобрейль подумал: «Этот парень мне не подходит! Правда, он ненавидит Наполеона больше, чем я, и имеет для этого более мощные причины, но он связан. Черт возьми! Здесь замешана Мария Луиза! Он не хочет воздвигнуть между собой и красавицей императрицей непреодолимое препятствие в виде трупа этого корсиканского злодея. Ну да! — улыбнулся он про себя. — Нейпперг, без сомнения, тоже мечтает стать наследником Наполеона. Хотя и не в том смысле, как милейший граф де Прованс. Его привлекает не императорский трон, а императорская супруга! Нечего и думать столковаться с Нейппергом; это просто влюбленный, а с влюбленными людьми немыслимо предпринимать сообща важные политические шаги: в решительный момент они либо исчезают, либо стреляются. Буду действовать один».
И энергично напирая на дымящийся плум-пудинг, Мобрейль сказал по-прежнему мрачному Нейппергу:
— Налейте-ка мне, граф, еще стаканчик этого прелестного виски. Спрыснем им пудинг Бэтси и чокнемся за смерть тирана!
— Смерть зависит от Божьего усмотрения, но падение Наполеона в руках человеческих. В самом скором времени мы будем свидетелями этого падения!
— В самом деле? Так вы думаете, что Бонапарт недолго продержится? — небрежным тоном спросил Мобрейль.
— Я уверен в этом! Разве вы не видите, какие тучи собираются со всех сторон? Испания клокочет, как непотухший вулкан, который не замедлит разразиться новым извержением, залив своей лавой лучших солдат империи. Англия на примере Португалии научилась, как сражаться и побеждать легионы, прослывшие непобедимыми. Германия дрожит от страстного желания прогнать иностранцев, ее поэты нашептывают молодежи любовь к отечеству и жажду мести. Вскоре Наполеону придется встретить лицом к лицу не солдат, старающихся вновь обрести утерянный секрет тактики Фридриха Великого, а весь народ, который восстанет и возьмется за оружие, как Франция в тысяча семьсот девяносто втором году. Но одного этого будет, пожалуй, еще недостаточно, чтобы свалить гиганта.
— А что же вы предвидите еще?
— Западню, которую Наполеон сам себе готовит и в которую неминуемо попадет…
— А где эта западня?
— На севере!
— В России? Неужели же Наполеон решится на такое безумие?
— Он уже почти совершенно опьянен славой, как пьянеют люди у чана, в котором бродит вино, в уверенности, что ему все сойдет с рук, готов вызвать на противоборство императора Александра. Наполеон, рассерженный за несчастного принца Ольденбургского, несправедливо арестованного, высказался во время большого приема в Тюильри очень резко об императоре Александре. Перед князем Куракиным, русским посланником, он хвастался своей силой, гением, могуществом. Он хотел издалека напугать северного медведя. Но медведь заманит его, отступая вплоть до берлоги, где и растерзает!
— Значит, вы считаете, что война неизбежна и должна будет кончиться разгромом Наполеона? Значит, вы будете отомщены ранее, чем надеялись? — спросил Мобрейль. — Поздравляю!
— О, у меня уже нет больше сил терпеть! — нервно воскликнул Нейпперг. — Этот человек уж слишком торжествует. Ну, подумайте только, сколько раз мне приходилось встречать его на своем пути и каждый раз я должен был терпеть от него поражения! Так было при переговорах о мире в Кампоформио, где я присутствовал в качестве помощника Кобенцля, затем — в Вене, наконец — в весьма для меня неприятный момент…
— В Париже?
— Да, В Париже и в Компьене тоже, — с волнением ответил Нейпперг. — О, я уже начал отчаиваться, что мне никогда не придется рассчитаться с ним! Я не мог предвидеть ни в какое время, ни каким образом я смогу познать сладость мести. А знаете ли, кстати, — прибавил он и весь даже изменился, став почти веселым, — как я обманываю свою ненависть и жажду мести? О, это очень забавно, и вы от чистого сердца посмеетесь вместе со мной. Вы даже не подозреваете, что это за способ; мое изобретение комично, а величественного в нем, должен сознаться, очень мало. Да вот сейчас увидите! — И Нейпперг, окончательно развеселившийся, встал, открыл дверь и крикнул: — Наполеон! Наполеон!
«С ума он сошел, что ли? — подумал Мобрейль. — Или виски мистрис Бэтси бросилось ему в голову?»
— Сейчас увидите, это очень забавно! — сказал Нейпперг, поворачиваясь к своему собеседнику. — Посмотрите! Прислушайтесь!
В двери показался медленно двигавшийся к ним человек, немного сгорбившийся, с полуопущенной головой, с руками, скрещенными за спиной; он был одет в серый редингот и маленькую шляпу при белом жилете, в кашемировые брюки и высокие сапоги.
— Черт возьми! — пробормотал удивленный Мобрейль. — Можно подумать, что это император Наполеон собственной персоной! — Затем он произнес про себя: — Этот галантный австриец сошел с ума от любви. На кой черт ему понадобился этот маскарад?
Явившийся снял шляпу и театрально раскланялся.
Когда же этот загадочный человек поднял голову и Мобрейль увидел черты его лица при ярком освещении, то он даже вскрикнул от изумления.
— Какое странное сходство! — пробормотал он. — Право же, не знай я, что все это комедия и что вы просто хотите позабавить меня курьезным зрелищем, то я готов был бы поклясться, что это сам Наполеон!
— Разве не правда, что этот негодяй, этот прохвост, которого я подобрал в грязи Лондона среди отчаянных воров и проституток Уайтчепеля, крайне похож на достославного императора? Ну, подойди поближе! — сказал Нейпперг, возвышая голос. — Раз природа одарила тебя точным образом коронованного злодея, с которым мне еще не пришлось рассчитаться как следует, то подойди и да потерпит он заочно, на твоей мерзкой особе, начало того наказания, которое уже уготовано для него. Ну! Повернись задом, Наполеон! — И Нейпперг, пьяный от бешенства, охваченный злобой, в приступе безумия, возникавшего у него каждый раз, когда он видел своего соперника, бросился на двойника императора, комически нагнувшегося к нему спиной, а затем изо всей силы несколько раз ударил его ногой, со злорадством повторяя: — Вот, получай по заслугам, Наполеон! Негодяй, Наполеон! Подлец, Наполеон! Вот тебе, вот! — И затем усталый, успокоенный откинулся в кресло.
Наблюдая эту сцену, Мобрейль глубоко задумался. В его изобретательном уме зарождалась странная идея, смутный, но привлекательный проект.
Тем временем человек, служивший объектом утоления ревности возлюбленного Марии Луизы, выпрямился; словно актер, который, окончив свою роль, фамильярно возвращается к товарищам и пьет с ними, небрежно бросая на стол царскую корону или кинжал злодея, он подошел к столу, взял стакан, налил виски и, жадно выпив, сказал Нейппергу:
— Ваша честь изволили драться сегодня слишком сильно. Ваша честь были в ударе. С позволения вашей чести я налью себе еще стакан виски. А потом сегодня необходимо, чтобы ваша честь дала мне авансом послезавтрашнюю гинею. Вчерашнюю я положил в карман жилета, который не отличается прочностью, и монета, вероятно, упала на дорогу. Сегодняшнюю гинею я положил в карман штанов, которые находятся далеко не в лучшем состоянии, и вторая гинея, вероятно, отправилась разыскивать первую.
Нейпперг сделал какой-то неясный жест, так как не слушал, что болтал этот субъект. Когда же взрыв бешенства у него прошел, он снова стал мрачным, немного пристыженный необычной формой своей мести. Он думал: «Этот граф Мобрейль будет иметь странное мнение обо мне! Ба! Мне нужен был свидетель этой заочной экзекуции. Если он разболтает об этом, то везде — и в Париже, и в Лондоне — надо мной посмеются, может быть, назовут сумасшедшим, но над Наполеоном будут смеяться гораздо больше!»
Подобная перспектива ободрила Нейпперга и заставила его не пожалеть, что третье лицо было свидетелем этой странной сцены.
Тем временем авантюрист не переставал рассматривать поразительного двойника императора; когда Нейпперг отпустил это чучело, дав ему выклянченную гинею, Мобрейль вдруг сказал:
— Я хочу сделать вам одно предложение, граф!
— А именно? — спросил тот, точно просыпаясь от сна.
— Вы должны уступить мне Наполеона… Разумеется, вашего Наполеона!
— А что вы хотите сделать с ним? Может быть, вы тоже хотите в его лице наказать Наполеона, что, по крайней мере, утешает и позволяет легче дожидаться момента, когда можно будет фактически наказать оригинал, а не копию?
— Нет, я придумал кое-что получше. Доверьте мне его на несколько недель. Если вы уступите мне Наполеона — о, я согласен вернуть вам расходы на одежду! — то даю вам слово дворянина, что ваша месть свершится скорее и будет полнее, и больнее, чем вы предполагаете!
— Что вы задумали?
— Сейчас я ничего не могу объяснить вам, но скоро вы, равно как и весь мир, узнаете результат задуманного мной дела, на которое я рискну при помощи этого восхитительного субъекта.
— Ну, так берите его, — ответил Нейпперг, — если он может помочь в нашей мести этому корсиканскому бандиту. Все равно мне пришлось бы расстаться с ним. Этого негодяя, который по смешной игре природы до невозможности похож на Бонапарта, я встретил в мерзком кабаке Уайтчепеля, где пытался нанять нескольких бравых молодцов, не отличающихся особенной щепетильностью, ради досмотра больших дорог Франции, по которым ходит почта.
— Ах, понимаю! Эти молодцы останавливают почтовые кареты и опустошают мешки с письмами, не брезгуя также и деньгами, посылаемыми на довольствие солдат? Это очень ценные люди, хотя зачастую они и забывают отдавать роялистским комитетам вместе с письмами и звонкую монету. Этот парень из числа таких героев?
— Нет! Это простой гаер, актер низшего сорта, бегавший по кабакам и за несколько шиллингов развлекавший посетителей злачных мест. По мере того как он кривлялся на подмостках и распевал свои песенки, ему пришло в голову подражать манерам и осанке Наполеона. И хотя его лицо было запачкано сажей, но я был поражен его странным, таинственным сходством с моим врагом. И тогда мне пришла странная фантазия нанять его к себе на службу. Я купил ему точно такой же костюм, какой обычно носит тот, чьим живым портретом он является, и меня забавляло держать его возле себя во время пребывания в Англии. Но на днях я уезжаю; не могу же я в предпринимаемом путешествии и особенно в той стране, в которой мне придется действовать, таскать за собой столь компрометирующий портрет! Поэтому я с большим удовольствием уступаю вам, дорогой граф, малопочтенного Самуила Баркера. Однако уже поздно, и наши постели готовы принять нас в свои объятия!
С этими словами Нейпперг встал и протянул руку Мобрейлю.
— Благодарю вас, граф, — сказал тот, — за ваш подарок! О, вы скоро услышите кое-что о Самуиле Бар-кере; этот своеобразный актер, руководимый мною, кажется мне предназначенным к истинному драматическому успеху.
— Но что же вы собираетесь заставить его разыграть?
— Трагическую роль.
— Черт возьми, вы меня интригуете! Ну, а негодяй Наполеон, другой, то есть настоящий, самый худший?
— Я не забываю его. Да о нем думают и многие другие, кроме меня. В данный момент в Париже, в тюрьмах, в провинции, в различных полках, — важно ответил Мобрейль, — находится много экзальтированных молодых людей и заслуженных заговорщиков, которые тоже ждут освобождения Франции. Они рассчитывают на исполнение проекта, который мне лично кажется и непрактичным, и неисполнимым.
— Вы не верите в успех военного заговора?
— Я лично — нет, — холодно ответил Мобрейль. — Я больше верю в ту войну, которую вы предсказываете. Россия — это грозная страна, неизвестная; ее деятельные силы, защитная способность, средства — вез составляет для нас тайну. С этой стороны вы можете рассчитывать на успех.
— Если не ошибаюсь, то надежды графа де Прованс покоятся именно на этом, — заметил Нейпперг.
— У нашего принца имеются еще и другие надежды.
— Какого рода?
— В настоящий момент я не могу вам даже намекнуть на его идею. Знайте только, что для осуществления ее — о, пока я еще не успел составить свой план во всех деталях, — вашему Самуилу Баркеру придетется сыграть очень ответственную роль, которую, надеюсь, он исполнит вполне добросовестно, тем более что не будет знать о цели. Покойной ночи, граф Нейпперг, и еще раз благодарю вас за орудие, которое вы доверили мне в лице достопочтенного Самуила Баркера! Еще раз спасибо, и покойной ночи!
«Этот граф Мобрейль, право же, еще более эксцентричен, еще более безумен, чем я! Впрочем, он безукоризненный джентльмен и искренне ненавидит Наполеона, — пробормотал Нейпперг, глядя, как авантюрист важно шел по коридору, предшествуемый порядочно-таки пьяным Вилли Четснаутом, который, изрядно пошатываясь, нес канделябр. — Но какого черта он собирается делать с этим лже-Наполеоном?»
IV
Римский король родился среди приветственных кликов армии и добрых пожеланий народа, которым глухо вторили проклятия и призывы к смерти в рядах роялистов и агентов Англии. Но громадное большинство французской нации радовалось и проникалось уверенностью при виде сияющего Наполеона, державшего на руках как новый трофей славы и надежды своего сына, который должен был называться для него Наполеоном Желанным.
Отцовское блаженство не ошеломило Наполеона до такой степени, чтобы он совершенно пренебрег специальным воспитанием своего наследника. Царственного ребенка еще с младенчества следовало готовить к роли императора, которую он должен был принять на себя, когда его отца не будет в живых и когда ему придется сдерживать двадцать наций, объединенных под французскими орлами, управлять Европой от устьев Шельды до границ Далматских степей и не дать заглохнуть среди мирного времени победам и славе в наследии новейшего Карла Великого.
К малолетнему принцу приставили воспитательницу. Она оказалась женщиной редких достоинств. То была госпожа де Монтескью — мама Кью, как называл ее маленький Римский король на своем детском языке.
Де Монтескью не имела счастья понравиться Марии Луизе. Последняя покровительствовала герцогине Монтебелло, любезностью которой воспользовалась во время приключения с Нейппергом, и эта вдова маршала Ланна завидовала гувернантке.
Добрая, внимательная, преданная де Монтескью заменила Марию Луизу при сыне Наполеона, потому что императрица никогда не питала особенной привязанности к своему ребенку. Она проводила с ним каких-нибудь минут десять в день, да и то ухитрялась еще пугать и доводить малютку до крика, являясь в детскую в шляпе с огромными страусовыми перьями на большой голове, чтобы поцеловать его после прогулки верхом.
Настоящей матерью Римского короля была мама Кью. Она старалась подавлять пылкий и раздражительный нрав своего воспитанника, унаследованный от отца. Был отдан строгий приказ, чтобы малолетний принц никуда не выходил без гувернантки.
Однажды утром крошка Наполеон — белокурый ребенок — подбежав один к кабинету императора, нашел дверь запертой.
— Отворите мне! Я хочу видеть папу! — сказал он по-детски повелительным тоном камер-лакею.
Но тот ответил:
— Ваше величество, я не могу отворить вам.
— Почему так? Ведь я — маленький король!
— Но вы, ваше величество, один, я не могу вам отворить!
Малолетний Наполеон замолк. Его глаза наполнились слезами. Он неподвижно дожидался прихода де Монтескью, от которой убежал вперед. Когда она пришла, он схватил ее за руку и сказал камер-лакею:
— Теперь отворите! Маленький король хочет этого!
Тогда лакей, поклонившись, распахнул настежь дверь и доложил:
— Его величество король Римский!
Мальчик вошел, сильно заинтересованный, в императорский кабинет и подбежал к отцу, чтобы кинуться к нему в объятия.
В это время у императора как раз заканчивалось заседание совета министров. Наполеон, хотя и обрадованный приходом сына, сдержался и, приняв строгий вид, сказал:
— Вы позабыли раскланяться, ваше величество. Извольте поздороваться с этими господами! Французы ни за что не захотят иметь вас императором, если вы будете невежливы!
Ребенок покраснел, остановился и послал министрам грациозный поцелуй крохотной ручонкой.
Император, заменив улыбкой притворную строгость, взял тогда маленького короля на руки и сказал сановникам:
— Надеюсь, господа, никто из вас не скажет, что я пренебрегаю воспитанием сына. Он, несмотря на свой возраст, отлично понимает долг вежливости.
Тут маленький король объяснил причину поспешного прихода.
Он прогуливался в Тюильрийском саду с гувернанткой во время совещания министров, как вдруг несмотря на караульных к нему поспешно приблизилась какая-то женщина в трауре в сопровождении маленького мальчика, почти ровесника ему, и велела подать своему ребенку просьбу, которая и была принята наследником престола.
— Передайте это императору, — сказала женщина, — это от вдовы одного из его солдат!
Наследник был растроган видом матери и ее ребенка в трауре и очень торопился передать просьбу своему отцу.
— Вот, папа, — с важностью сказал малютка, поздоровавшись с министрами, — это дал мне для тебя маленький мальчик в саду. Он одет во все черное. Его папа был убит на войне, а мама просит пенсию. И обещал ему!
— Ах, плутишка, ты уже назначаешь пенсии! иго, раненько ты начал! Но изволь, будь по-твоему! Ну, доволен ли ты? — И Наполеон, прижав сына к груди, долго целовал его.
В то время, с которого снова начинается наш рассказ, Римский король был еще слишком мал для того, чтобы испрашивать и добиваться пенсии для покровительствуемых им лиц. Он был еще только красивым белокурым мальчиком с курчавой головкой и часто, к великой радости гуляющих в Тюильри, катался в колясочке, запряженной баранами, ловко выдрессированными Франкони.
После возвращения с прогулки гувернантка, зная, что император, урвав свободную минутку, всегда звал их к себе, чтобы приласкать сына, нарочно мешкала под окнами императорского кабинета.
Так же она сделала и в описываемый нами день. Наполеон, диктуя секретарю Меневалю, по привычке прохаживался взад и вперед по комнате, от камина к окну и обратно. Он увидал гувернантку и, прервав занятие, тотчас подал ей знак войти.
Когда мальчик вошел с гувернанткой, император нежно обнял его и сделал знак, что отпускает де Монтескыо с ее воспитанником, после чего обратился к Меневалю, чтобы продолжать диктовку.
Однако гувернантка, отлично поняв намерение императора, не двинулась с места. Передав Римского короля одной из дежурных дам, находившейся поблизости императорского кабинета, она осталась там, молчаливая, неподвижная, стоя навытяжку. Удивленный Наполеон сначала нахмурился, а потом поспешно спросил:
— Ну, в чем дело, мама Кью? Не провинился ли ваш воспитанник? Нет, не то? Значит, вы хотите попросить у меня чего-нибудь? В таком случае говорите!
Слегка смущенная гувернантка сделала низкий реверанс, после чего, несколько запинаясь, сказала:
— Ваше величество, сегодня поутру у меня была герцогиня Данцигская, которая просила, чтобы я исходатайствовала ей большую милость от вас!
— Супруга маршала Лефевра желает от меня милости? Черт возьми! Неужели она недостаточно важная персона сама по себе, чтобы просить о ней лично? Разве ей понадобились теперь посланницы, или же я внушаю ей страх? Ого! Чтобы чего-нибудь испугалась эта мать-командирша? Ну, мудрено поверить!
— Ваше величество, супруга маршала боялась обеспокоить вас! Она уверяет вдобавок, что, получив уже от вас большую милость, опасается показаться слишком назойливой.
— Вот как? Герцогиня Данцигская — превосходная особа, и я очень люблю ее. Это доблестная дочь народа, которую я знавал когда-то в молодости и которая храбро несла службу на полях сражений. Правда, она коверкает французский язык; ее живописные выражения отзываются больше пригородом и казармой, чем сен-жерменским предместьем и академией; это опять-таки совершенно верно. Она не совсем корректно держится в гостиной, а ее ноги путаются в придворном шлейфе. Но это не беда! Я уважаю ее и хочу, чтобы все при моем дворе, как и повсюду, относились к ней как нельзя более внимательно и с безусловным уважением. Пусть кто-нибудь только посмеет теперь оказаться более требовательным, чем я, относительно манер и светской выдержки у жен моих первейших слуг! Лефевр, как я уже говорил ему, пожалуй, напрасно женился сержантом. Но я простил ему этот промах, а ей, этой добрейшей Сан-Жень, я обещал забыть, что она была прачкой. Итак, мама Кью, сообщите нам скорее, в чем состоит ваше поручение. Чего желает герцогиня Данцигская?
— Ваше величество, ее приемыш, гусарский офицер Анрио, женится на дочери одного офицера республиканских войск, под начальством которого служил маршал Лефевр, бывший в то время сержантом.
— Имя этого офицера?
— Борепэр.
— Он был одним из моих друзей! — с живостью воскликнул император. — При геройской защите Вердена Борепэр предпочел, как говорят, смерть постыдной сдаче города, вверенного его охране. Клянусь, я очень рад этому брачному союзу! Ну, а когда же свадьба?
— Послезавтра, ваше величество. Я буду посаженой матерью Алисы де Борепэр, которая сирота, а герцогиня Данцигская надеется, что вы, ваше величество, соблаговолите подписаться под брачным контрактом.
— Согласен! Мы будем присутствовать на церемонии. Однако, я полагаю, герцогиня Данцигская должна быть где-нибудь недалеко отсюда… и вместе с юной невестой. Они обе, вероятно, дожидаются поблизости ответа?
— Ваше величество, вы не ошиблись.
— Герцогиня не только энергичная и добрая женщина, достойная храброго солдата, с которым она разделяла труды боевой жизни и славу, но вдобавок умная особа, которая понимает все с полуслова и знает, как надо вести себя в затруднительных обстоятельствах… Нет, она не дура, честное слово! Я уже высказал ей это в глаза, — продолжал император, вспоминая ловкое вмешательство находчивой Сан-Жень той ночью в Компьене, которая чуть не сделалась трагической, когда Нейпперг был захвачен им врасплох и послан на расстрел. — Супруга маршала Лефевра, — с улыбкой прибавил Наполеон, — побоялась оказаться не на своем месте при моем дворе. Она поняла, пожалуй, слишком буквально некоторые замечания, сделанные мной ее мужу по поводу ее обращения в обществе и манер, и поэтому добровольно удалилась в свой замок Комбо, не желая подвергаться насмешкам придворных и выносить презрение их надменных супруг, которые сами не стоят ее. Я весьма благодарен герцогине за ее внимание к моему желанию, которое даже не было выражено мной, и хочу высказать ей личное мое полнейшее удовольствие по этому поводу. Пригласите, пожалуйста, сюда герцогиню Данцигскую вместе с невестой храбреца Анрио. Я отлично помню, как он взял для меня Штеттин, и обязательно подпишу его брачный контракт. А вы, Меневаль, докончите эту ноту Лористону: надо положить предел оттяжкам и проискам моего любезного кузена императора Александра!
И Наполеон, голос которого повысился и приобрел раздраженный тон, продолжал диктовать депешу своему посланнику при императоре Александре Первом. Монтескью между тем побежала за герцогиней Данцигской и Алисой де Борепэр.
— Ах, это вы, мадам Сан-Жень! — воскликнул император, идя навстречу супруге маршала, немного встревоженной, несмотря на уверения де Монтескью относительно ожидавшего ее приема. — Ну что, вы не сердитесь на меня?
— Нет, ваше величество, — ответила Екатерина. — Вы знаете, что Лефевр и я готовы ради вас дать изрезать себя на куски. Но видите ли, нам предписано пользоваться деревенским воздухом. Мне было совсем, ну совсем-таки не по себе в ваших салонах! В Комбо я нахожусь в своей стихии: там есть крестьяне, которые любят нас, старые солдаты, которые восхищаются моим Лефевром как человеком, находившимся везде, под картечью, рядом с вами; а потом, я живу среди коров, баранов, лугов, деревьев, которые хотя и не чета нашим соснам в родимом Эльзасе, но все-таки мне и мужу милее ваших раззолоченных прихожих и колидоров.
— Коридоров! — тихонько поправила Екатерину де Монтескью.
— Ну да, ваших колидоров! — как ни в чем не бывало продолжала Сан-Жень, не поняв хорошенько замечания. — Мне уж порядком надоело дожидаться у дверей вашего салона. Но это не мешало мне любить вас, ваше величество. Вблизи, как и вдали, вы наш император; кроме того, будьте покойны: в тот день, когда вы дадите знак моему мужу, он скорехонько смажет салом парадные сапоги и примчится к вам. Но пока не дерутся, ведь он вам не нужен, не так ли? Что стали бы делать с таким старым ворчуном в Париже? Вы можете преспокойно оставить его мне, не правду ли я говорю? Теперь он разводит капусту вместе со мной. Но стоит вам сказать: «Сюда, Лефевр! Опять затевается драка на Висле, на Дунае, у черта на…» Простите, пожалуйста! Одним словом, вы, ваше величество, понимаете, что я хочу сказать. Так вот, Лефевр не мешкая распрощается со мной, забудет свое огородничество и ответит вам: «Здесь!», когда вы крикнете: «Вперед!»
— Да, — сказал, по-прежнему улыбаясь, император, — берегите его, заботьтесь о нем, любите и хольте моего храброго Лефевра! Пользуйтесь благоприятным настоящим временем, дорогая герцогиня! Может быть, действительно в скором времени мне понадобится еще раз отнять у вас вашего мужа.
— Значит, снова будет война, ваше величество? — с живостью спросила Екатерина.
— Ничего не знаю, и это еще никому не известно, — ответил император. — Я желаю мира. Но разделяют ли мое желание в Европе? Англия по-прежнему интригует, а император России следует пагубным советам. Не заикайтесь об этом, герцогиня, до нового приказа. Зачем беспокоить понапрасну вашего мужа! Вот это письмо, которое пишет Меневаль, — продолжал Наполеон, указывая взглядом на секретаря, — содержит запрос. Посмотрим, какой последует на него ответ. В этой депеше таится мир или война!
— Ах, неужели? — промолвила огорченно Екатерина и бросила взгляд на Меневаля, который сидел, склонившись над столиком и переписывая письмо, продиктованное в виде отрывистых фраз Наполеона.
Сан-Жень не могла понять, каким образом этот листок бумаги, который, казалось, был испещрен следами лапок мух, мог содержать в себе столь важное решение. Она была почти готова броситься к секретарю и воскликнуть: «Послушай, брось! Неужели ты станешь писать чепуху и поссоришь нас с русским императором?»
Между тем Наполеон пристально всматривался в Алису де Борепэр, испуганную, робкую голубку, потупившуюся под его проницательным орлиным взором.
— Так эта красивая особа, — продолжал он с некоторым колебанием, — выходит замуж за моего офицера Анрио? Право, ему везет! — И подойдя к молодой девушке, он со свойственной ему стремительностью и решимостью взял ее обеими руками за голову, приблизил свои пылающие губы к зардевшему челу Алисы, запечатлел на нем поцелуй и сказал: — Это вполне отеческое лобзание принесет вам счастье, мадемуазель. Вы, насколько мне известно, принадлежите к старинному роду. Изящная, прекрасная и кроткая, вы сделаетесь очаровательной женой. Вам нужно бывать при моем дворе. Я устрою, чтобы вас пригласили на приемы императрицы. Мы увидимся с вами послезавтра, мадемуазель, при подписании вашего брачного контракта! А теперь, любезная герцогиня, и вы, мама Кью, потрудитесь удалиться. Меневаль еще не кончил письмо, а славный Мусташ изнывает от нетерпения во дворе, совершенно готовый к отъезду.
Обе дамы церемонно раскланялись, причем Алисе, поклонившейся менее величественно, показалось, будто император продолжал ей улыбаться, не спуская с нее взгляда.
Де Монтескью, проводив Екатерину Лефевр с Алисой до конца лестницы, спускавшейся к террасе Тюильрийского дворца, возле набережной, собиралась вернуться в свои комнаты.
Императорская аудиенция привела ее в несколько лихорадочное состояние (Наполеон смущал всех приближавшихся к нему), и ей вздумалось пройтись еще немного по саду, чтобы рассеяться.
В ту минуту, когда она целовала Екатерину Лефевр, собиравшуюся сесть в карету, ей показалось, что какой-то высокий мужчина важного вида, в шляпе, надвинутой на глаза, в пальто с пелериной отошел от выездного лакея герцогини, с которым, по-видимому, только что разговаривал. Чего мог добиваться этот хорошо одетый незнакомец? Он как будто устроил засаду невдалеке от особой двери, откуда выходил император по своим частным делам, чтобы пройтись по городу инкогнито. Не было ли у него дурных намерений? Одну минуту гувернантка была готова указать караульному на этого подозрительного наблюдателя.
Вдруг Монтескью показалось, что он подает ей чуть заметный знак. Она вздрогнула, не смея податься вперед, стараясь рассмотреть издали этого субъекта.
Незнакомец быстро приблизился к ней. Он приподнял край фетровой шляпы и сказал с легкой иронией:
— Вы не узнаете меня? Неужели опала так меняет людей?
— Граф де Мобрейль! — воскликнула гувернантка, крайне удивленная этой встречей.
В былые времена она знала графа. Он довольно настойчиво ухаживал за нею, просто так, от нечего делать, а пожалуй, и с корыстными целями, потому что в то время де Монтескью должна была получить богатое наследство от дяди, потомка Артаньянов и ярого роялиста, но лишилась этого богатства из-за своей преданности новой империи. Однако, отвергнув ухаживания неразборчивого поклонника, она сохранила некоторое расположение к нему. Какой женщине не льстит мужская любовь, хотя бы сама она не имела никакой склонности к любовным похождениям?
Итак, Монтескью отнеслась к Мобрейлю довольно благосклонно и стала расспрашивать о его жизни с той поры, как он попал в немилость из-за интриг, затеянных им при дворе вестфальского короля. Этот искатель приключений более или менее правдиво описал ей свое пребывание за границей, тщательно опасаясь, однако, обнаружить ненависть, которую внушал ему Наполеон. Он спросил только о герцогине Данцигской, которую узнал, и высказал сильное желание повидаться с нею наедине; по словам графа, один друг, весьма близкий герцогине, с которым он беседовал в Англии, дал ему поручение к ней, и Мобрейлю хотелось как можно скорее выполнить его просьбу.
Совершенно успокоившись относительно намерений того, кого она приняла за притаившегося заговорщика, Монтескью тотчас перешла от тревожной сдержанности к чрезвычайному доверию. Она предложила своему бывшему обожателю представить его герцогине Данцигской, но не сейчас, а при случае, так как та покидала Париж, чтобы возвратиться в свое поместье Комбо.
Мобрейль поблагодарил и ответил, что подождет возвращения герцогини в Париж.
— Но дело в том, что супруга маршала Лефевра, пожалуй, пробудет долго в своем имении, — возразила Монтескью. — А почему не поехать бы вам в Комбо? Там как раз празднуют свадьбу. На церемонии этого рода представления весьма удобны. Кроме того, я буду там сама.
— Мне нет никакой надобности отправляться за город, — ответил Мобрейль, с улыбкой отклоняя предложение, не сулившее ему выгоды.
Он хотел познакомиться с женой маршала Лефевра лишь с той целью, чтобы, воспользовавшись именем и дружбой Нейпперга, завязать отношения с Марией Луизой. Ему пришло в голову, что в данном случае может пригодиться и Монтескью. Гувернантка сына императора, оказавшаяся у него под рукой, согласившаяся быть ему полезной, могла не хуже супруги маршала устроить ему свидание с императрицей. Получив доступ к Марии Луизе, он постарается приобрести ее доверие, назовет себя другом, посланником графа Нейпперга, станет говорить ей о неизменной любви отсутствующего, и если она не разгневается, если не прогонит его прочь с первых же намеков, но заинтересуется его речами, то остальное будет уже зависеть от него… Проникнув во дворец, он сумеет действовать. В данную минуту Мобрейлю совсем не казалось нужным пускаться вдогонку за супругой маршала Лефевра за двадцать лье от Парижа; он рассчитывал, что Монтескью доведет его до комнаты императрицы, а оттуда уже рукой подать до груди Наполеона, — стоит только отворить дверь, откинуть занавес…
— Напрасно вы так говорите, — возразила графу де Монтескью, — супруги Лефевр — превосходные люди; они примут нас с полным радушием. Да и брачное празднество обещает быть интересным: император дал слово присутствовать на нем.
Мобрейль невольно вскрикнул от изумления:
— Как, Наполеон будет на этой свадьбе? Он побеспокоится? Поедет в Комбо? Но какой интерес может представлять эта утомительная поездка для такого величайшего эгоиста, бесчувственного к радостям и печалям народов, как и отдельных личностей?
— О, не отзывайтесь дурно об императоре! — с живостью воскликнула Монтескью.
Мобрейль слегка пожал плечами.
— Я просто удивляюсь тому, — сказал он, принимая равнодушный вид, — что Наполеон покидает дворец, дела, даже удовольствия с единственной целью подписать в деревне брачный контракт заурядного эскадронного командира и девушки-сироты без положения, без предков; ведь генеалогия и родство этой особы не могут придать его новому двору тот блеск старого режима, которым он дорожит!
— Мадемуазель де Борепэр — племянница доблестного защитника Вердена.
— Гм! Неважное дворянство, самое незначительное. Красива ли, по крайней мере, эта невеста?
— Она очаровательна! Его величество, только что принимавший Алису у себя в кабинете, не спускал с нее взора. Мне кажется, что прекрасные глаза невесты сыграли некоторую, пожалуй, даже главную роль в решении императора.
Мобрейль недолго раздумывал.
— Я поеду на эту свадьбу, — сказал он вдруг, — и рассчитываю, что вы представите меня там супруге маршала.
— Поезжайте; я очень рада, что уговорила вас. В дни торжеств душа монархов смягчается: может быть, вы снова попадете в милость к императору. Итак, отправляйтесь в Комбо. И если вам не стыдно подать руку такой скромной вдове, как я, то мы осмотрим с вами все достопримечательности этого поместья.
— Я поеду непременно, даю вам слово, и мы будем совершать там сентиментальные прогулки, как в былое время.
— Значит, до свидания в Комбо! Я рассчитываю на вас. Прощайте! Мне пора к маленькому королю! — И мама Кью, помолодевшая при воспоминании о скромных любезностях минувших лет, восхищенная своей встречей с Мобрейлем, к которому она сохранила почти материнскую привязанность, весело поднялась по тюильрийской лестнице.
Мобрейль, планы которого изменила предстоящая поездка, уходил, соображая про себя: «Бонапарту должна приглянуться эта хорошенькая невеста! По настоянию врачей он оставляет теперь в покое свою супругу, хотя, вероятно, влюблен в нее до сих пор. Сама же императрица не любит мужа и уклоняется от супружеских обязанностей, опираясь на врачебное предписание. Между тем Наполеон не смеет взять к себе снова какую-нибудь чтицу, боясь вступить в рискованную связь с одной из придворных дам, а во избежание газетных разоблачений не решается, как бывало прежде, с помощью своего камердинера Констана заманить в маленькую квартирку-антресоль в Тюильрийском дворце одну из театральных звезд: великолепную Жорж, красавицу Бургоэн, пышную Грассини или другую царицу сцены. Подобная вольность с его стороны тотчас получила бы огласку через газеты, которые внимательно читаются в Вене. При таких условиях Бонапарту вполне естественно увлечься юной красоткой, неопытной и наивной. Ее положение новобрачной не остановит его, — напротив, подвенечное платье придаст ей еще большую соблазнительность в глазах этого пресыщенного сластолюбца! Место благоприятствует любовной интриге, в загородном замке, в сутолоке веселой свадьбы монарх чувствует себя свободнее и легче ускользает от наблюдения. — Мобрейль остановился. Его лицо просияло, и он продолжал про себя: — В этом обширном поместье, плохо охраняемом, пробирающийся на любовное свидание в ночную пору Бонапарт легко может найти вместо наслаждения внезапную смерть. О да! Я поеду в Комбо и захвачу с собой Самуила Баркера. Его наружность двойника императора может пригодиться мне».
V
Брачный контракт Анрио и Алисы был подписан в большой гостиной замка Комбо. Император, согласно своему обещанию, присутствовал на этой церемонии, прибыв к Лефеврам в сопровождении Дюрока и еще нескольких офицеров свиты.
Алиса, восхитительная в белом туалете, сияла счастьем. Анрио, счастливый не меньше ее, отрывал взоры от своей юной подруги лишь с тем, чтобы бросить взгляд, полный глубокой благодарности, на маршала Лефевра и герцогиню Данцигскую; свежие и добрые лица этой почтенной четы выражали удовольствие при виде состоявшегося наконец союза двоих детей, которые выросли вместе и сон которых баюкала пушечная пальба. Радость жениха усиливалась еще более производством в полковники стрелкового полка. Этот приказ был свадебным подарком императора.
После церемонии хозяева замка повели молодых обрученных и некоторых избранных гостей в парк; там начались увеселения и народные праздники, которым предстояло продолжаться несколько дней.
За одним из столов, накрытых перед замком на лужайке, где уже сидели и угощались крестьяне, ораторствовал сухопарый, долговязый мужчина, на голову выше всех остальных пирующих, окруженный множеством любопытных голов, склоненных ушей, разинутых ртов. На нем было длинное синее пальто с металлическими пуговицами, аккуратно застегнутое, а на голове треуголка, надетая набекрень. В петлице у него алела красная ленточка. К пуговице пальто была прицеплена большая и толстая трость на кожаном ремешке. Порой он поднимался из-за стола, отцеплял трость и ловко вертел ею вокруг себя, сопровождая это упражнение тремя или четырьмя возгласами: «Да здравствует император! Да здравствует маршал! Да здравствует герцогиня!» Затем, довольный, успокоившийся, великан опять вешал трость на пуговицу, снова садился на свое место за столом и принимался пить, есть и разглагольствовать, служа предметом восхищения для всего люда, составлявшего как бы его двор.
Один из гостей осмелился обратиться к нему с вопросом.
— Итак, значит, господин ла Виолетт, — сказал крестьянин, с изумлением разглядывая одного из героев великой армии, — вы разговаривали там с императором?
— Вот как сейчас с тобой, простофиля! — ответил ла Виолетт, ставший теперь управляющим имением Лефевра.
— А что сказал вам государь, господин ла Виолетт?
— А вот… однажды… он нашел меня в одном месте, где было страх как жарко, несмотря на зимнюю пору. Это было пятнадцатого ноября тысяча семьсот девяносто шестого года; в то время я был моложе пятнадцатью годами, ребята!
— А вы были тогда таким же высоким, господин ла Виолетт?
— Немного повыше, новичок! В то время мы застряли в болотах около Вероны, в Италии. Австрийцы окружали нас; им хотелось, чтобы мы угостили своей кровью болотных пиявок. Альвинзи, австриец, ожидал только подкрепления в сорок тысяч человек, чтобы напасть на нас. Ну и что же сделал тогда генерал?
— Наполеон? Не так ли?
— Да, генерал Бонапарт, сделавшийся нашим императором. Генерал сказал нам тогда: «Ребята, численность не на нашей стороне, надо прибегнуть к хитрости. Все эти болота перерезаны шоссейными дорогами, где колонна энергичных людей может оказать сопротивление и пройти. Неприятель, гораздо более сильный, чем мы, теряет преимущество в численности и будет вынужден сжаться вместо того, чтобы развернуть свои батальоны. Вступим на эти скверные дороги. Видите вон ту деревню? Она называется Арколе, Я хочу там позавтракать. Вперед, ребята!» И мы двинулись…
— Арколе? Никак, там был мост? — спросил один из соседей ла Виолетта.
— Да, знаменитый! Его защищали сорок орудий, не считая стрелков, кавалерии, резерва. Одним словом, сунувшись туда, мы были встречены адским огнем. Самые стойкие начали колебаться, ружейная пальба и картечь осыпали мост градом пуль. Не было никакой возможности двинуться вперед! Ужасное и странное зрелище представлял этот пустой, окруженный рвами мост, по которому никто не решался пройти. Ожеро не знал, что делать, чтобы увлечь за собой войска. Вдруг в начале моста послышался громкий гул голосов. Туда приближался генерал Бонапарт. Он тотчас спросил, в чем дело, увидел собственными глазами опасность, колебание солдат, потерю инициативы. Тогда он слез с коня и крикнул: «Знамя! Подать мне знамя!» Ему принесли знамя тридцать второй полубригады. Он поднес к губам священную ткань, потом, схватив штандарт за древко, бросился к мосту, крича: «Вперед!» За ним мы повалили гурьбой, кое-как. Без строя, опьяненные, яростные, слепые и безумные, мы шли! Люди бежали по мосту, осыпаемые дождем пуль. Знамя, развевавшееся над головой Наполеона, казалось парусом корабля, который треплет буря. Ланн, Бон, Мюирон опередили генерала, пытаясь прикрыть его своим телом. Мюирон, его адъютант, упал, сраженный предназначенной для него пулей. Тут я кинулся вперед… — Ла Виолетт сделал передышку. Он точно припоминал подробности и подыскивал ускользавшее от него слово. Наконец он продолжал: — Ах, вот как было дело! Когда Мюирон упал, Ланн кинулся к Бонапарту справа, чтобы прикрыть его своей грудью от ружейного огня, направленного с левой стороны моста. Оттуда генерал не был защищен. Я с моими барабанщиками, бешеными ребятами, мальчишками восемнадцати лет, находился все время в первом ряду… Иногда еще ближе к неприятелю… и — честное слово! — чтобы поддержать генерала, я приказывал барабанить во всю мочь. Увидев, что Мюирон упал, я бросился к генералу и выпрямился. За моей спиной он был под прикрытием… преимущество роста… вы понимаете?… Вот тут генерал и обратился ко мне…
Подобно актеру, который замедляет свою речь для вящего эффекта, ла Виолетт остановился, обводя слушателей властным взором.
Все напряженно ждали продолжения.
— Итак, — продолжал бравый тамбурмажор, — великий человек сказал мне среди грохота: «Дуралей!» Да, помнится, что он назвал меня дуралеем, хотя трудно было расслышать хорошенько из-за проклятой пальбы. — «Наклонись же, ведь тебя убьют!» Тут я ответил ему, отдавая честь, как полагается перед начальством: «Ваше превосходительство, я для этого и стою здесь. Если меня убьют, атаку будут бить по-прежнему; но если падете вы, кто же без вас поколотит австрийцев?»
— Это было отлично сказано! А что же ответил генерал?
— Ничего. Некогда было. Жестокий артиллерийский залп сбросил нас всех в болото, разрушив часть моста. Вот-то мы побарахтались в иле, ребятушки! Но не беда! Я по-прежнему заставлял моих малышей-барабанщиков бить атаку, а генерал как ни в чем не бывало держал развернутое знамя над головой. Кончилось тем, что мы все-таки перешли этот дьявольский мост и опрокинули Альвинзи в болото, где он собирался отдать нас на съедение пиявкам! Вот, друзья мои, когда я впервые разговаривал с Наполеоном. Потом мы толковали с ним во время сражения под Иеной, под Данцигом, под Фридландом… Да еще это не кончено, надеюсь вполне, что не кончено! — заключил ла Виолетт, ища сочувствия со стороны крестьян своим воинственным предсказаниям.
После его последних слов наступило некоторое молчание. Наконец один из крестьян, по имени Жан Соваж, фермер маршала Лефевра, здоровенный хлебопашец под сорок лет, поднимая в знак дружбы свой стакан, сказал ла Виолетту:
— За ваше здоровье, господин управляющий! Пью за храброго, истинного француза, а все мы, крестьяне провинции Бри, — люди бесхитростные. Мы выслушали ваш прекрасный рассказ, и, поверьте, наши сердца бьются при воспоминании о всех этих великих сражениях, в которых вы были одним из действующих лиц. Бонапарт выказал беззаветное мужество на Аркольском мосту. Он увлек за собой армию, он, чье место было не в первом ряду при сражении, так как ему следовало руководить войсками вместо того, чтобы рисковать своей жизнью наравне с простым солдатом; он показал в тот славный день, что умеет при случае рискнуть собой и пренебречь глупой смертью… И потому мы восхищаемся им как полководцем и любим его как императора. Но нам кажется что он достаточно приобрел славы своим оружием и что ему пора отдохнуть на лаврах. Вот что чувствуем мы, бриарские земледельцы, господин ла Виолетт!
— И вы правы, друзья мои, желая сохранения мира! — произнес могучий голос позади них. — Надеюсь, ничто не оторвет вас больше от ваших полей и домашних очагов.
То был Лефевр, который под руку с Алисой водил гостей по лугу, где накрытые столы и откупоренные бочки с вином придавали живописной местности вид веселой ярмарки во фламандских краях.
Ла Виолетт поднялся, узнав голос маршала. Он взял на караул своей тростью и проворчал:
— Значит, полно драться? Значит, заржавели?
— Что такое бормочешь ты себе под нос? — спросил Лефевр. — Франция, старина ла Виолетт, стяжала достаточно славы, чтобы не гоняться за новыми победами. Император, после того как все его желания удовлетворены, когда он испытал великую радость сделаться отцом, и рождение наследника оградило отныне его династию от роковых случайностей и перемен судьбы, поймет, я полагаю, что пора дать своему народу отдых, спокойствие, блага мирной и трудолюбивой жизни. Впрочем, так чувствуют все боевые товарищи его величества. Пусть император спросит мнение своих маршалов, тогда он убедится, что никто не желает больше войны!
— Черт возьми! — проворчал ла Виолетт, плохо убежденный доводами своего хозяина. — Все маршалы разжирели наподобие попов. Обзавелись замками, фермами, капитальцами и хотят только наслаждаться без помехи своим богатством. Одним словом… дан приказ разоружаться. Ну что ж, да здравствует мир! Да здравствуют радость и картошка! — воскликнул отставной тамбурмажор, завертев своей тростью со стремительностью, проникнутой досадой и горькой иронией.
Тут снова повел речь Жан Соваж:
— Господин маршал прав, когда он, борец и герой, заявляет, что было бы благоразумно дать Франции передышку и что пора перестать воевать. Если бы спросили страну, то она еще более маршалов пожелала бы мира. Дай Бог, чтобы рождение наследника даровало его нам!
В эту минуту супруга маршала Лефевра, которую вел Анрио, подошла к пирующим и сказала, протягивая руку Жану Соважу:
— Хорошо сказано, молодчик! Ты 'крестьянин, я также дочь земли и знаю, как больно для тех, кто ее возделывал, видеть хлебное поле, затоптанное конницей, смятое пехотой, взрытое артиллерией. Я знаю, что после войны монархи сходятся и задают множество блестящих празднеств, тогда как по деревням стоит стон, а женщины в трауре преклоняют колена перед крестами, представляющими далекие братские усыпальницы, безвестные одинокие могилы, рассеянные в Испании, в Моравии, в Польше. Да, вы правы, друзья мои, что желаете мира. Но будьте уверены, что народ, который изнеживается, вскоре будет вынужден вести самую худшую из войн — ту, которую ему навяжут против воли, которую он поведет нехотя, без увлечения и горячности… — Екатерина Лефевр остановилась на минуту, после чего продолжала: — Европа в данный момент перерезана угрожающими подземными течениями. Каждую секунду может произойти внезапный взрыв… Европейские правители по-прежнему страшатся Наполеона, однако вместе с тем и ненавидят его. В их глазах он смелый солдат, основавший свой трон не только на победах, но также и на французской революции. Он защитник равенства. Лишь во Франции можно встретить маршала и герцога из крестьян, как Лефевр, а супругу маршала и герцогиню из крестьянок, как я, которую называли когда-то Сан-Жень! Друзья мои, станем радоваться тому, что мы наслаждаемся миром; воспользуемся его благами, но не будем страшиться того дня, когда понадобится снова взять в руки оружие. Пожалуй, вам всем предстоит в скором времени зарядить его, но уже не ради умножения славы и вящего возвеличения имени Наполеона, а ради защиты своих полей и спасения отечества!
Жан Соваж встал и, обнажив голову, торжественно произнес сильным голосом:
— Ваша светлость, и все вы, собравшиеся сюда праздновать свадьбу приемного сына нашего возлюбленного хозяина, водившего к победе многих из нас, мы громогласно заявляем, что желаем здравствовать и благоденствовать императору с Римским королем; мы надеемся, что он сумеет удержать за Францией ее теперешнее место в мире и сохранить нерушимые границы республики. Но мы, смиренные, малые труженики полей, составляющие громадную массу нации, мы желаем также слышать отныне пушечную пальбу лишь по поводу празднования радостных событий. Мы хотим, чтобы Франция смогла, наконец, перестать быть лагерем, который вечно оглашается грохотом и звоном оружия. Кровь нашей молодежи оросила в достаточном количестве сто полей сражения. Не так ли, ребята? — прибавил фермер, обращаясь к крестьянам и ища их одобрения.
И все воскликнули единодушно:
— Да! Да! Вот именно! Жан Соваж, ты говоришь правду!
— Но если мы хотим мира, то пусть император знает, что мы не плохие граждане, — с уверенностью продолжал фермер. — В тот день, когда, к несчастью, победа изменила бы нам, когда неприятель в отместку добрался бы даже до наших жилищ, чтобы надругаться над нашей бесполезной храбростью, — в тот день, когда мы в свою очередь познали бы скорбь поражения и ужасы вражеского нашествия, мы поднялись бы всей массой, покинули бы лошадей, пашни, жен и детей, и каждый из нас исполнил бы свой долг. Мы показали бы изумленным завоевателям, на что способны французские крестьяне, когда они вооружатся вилами.
— Я передам императору ваши пожелания и ваши патриотические слова, мой друг, — растроганно сказал Лефевр, — но надеюсь, что никогда не понадобится напомнить вам их. У нас есть наши сабли и ружья для отпора неприятелю, если бы он когда-нибудь осмелился явиться сюда; берегите свои вилы для того, чтобы ворошить сено, а ваши цепы, чтобы молотить хлеб! До свидания, Жан Соваж! Друзья мои, желаю вам всем веселиться и доброго здоровья!
И маршал удалился с гостями, сопровождаемый приветственными возгласами крестьян.
Между тем Екатерина Лефевр, под сильным впечатлением от тона и слов Жана Соважа, сознавая, что этот бриарский крестьянин выражал опасения, предчувствия и тревоги всех французов, захотела рассеять беспокойство гостей.
— Пройдемтесь по галереям замка! — весело предложила она. — Вам еще не все показали здесь, а у нас, как и у всех важных господ, имеется своя галерея предков! Ну-ка, Анрио, подай руку своей невесте; а я пойду под руку с Лефевром, как в былые годы.
— Как всегда, моя добрая Катрин! — подхватил Лефевр, спеша подать руку жене.
И почтенные хозяева, ведя за собой гостей, точно на деревенской свадьбе, чинно поднялись на лестницу замка.
Тут, миновав сени, парадные гостиные, залы и столовые для больших приемов, супруга маршала привела кортеж к галерее, на дверях которой были написаны масляными красками шпага с простой рукояткой старинного образца, одна из тех, какие носили рядовые гвардейцы или сержанты, и скрещенный с нею маршальский жезл с герцогской короной и шляпой маркитантки над ними, — странный и наивный герб.
Гости вошли. Комната была пуста: только по стенам тянулся ряд запертых шкафов.
Хозяйка дома открыла первый из них.
В нем висело холщовое платье с узором из мелких полинявших букетиков рядом с короткой юбкой и чепцом с кружевными завязками.
— Это мой костюм прачки, бывший на мне, когда я познакомилась с Лефевром, — простодушно объяснила супруга маршалa. — Ах, то была эпоха, когда брали приступом Тюильри.
— И когда ты заставила меня спасти жизнь убийцы из-за угла! — вполголоса прибавил Лефевр.
— Шш! — остановила его жена, указывая глазами на Анрио. — Ведь ты отлично знаешь, что ни здесь, ни у императора нельзя заикаться о том, кто стал для нас теперь не более как давно умершим другом. Ах, — продолжала она вслух, отворяя второй шкаф, — вот мой мундир маркитантки, тот самый, что был на мне в Вердене и Флерю. Вот прореха, сделанная штыком австрийца.
Все присутствующие приблизились и стали рассматривать с почтительным любопытством костюм, напоминавший былые сражения, рану Екатерины и славу ее мужа.
— Вот в этом третьем шкафу, — продолжала она, по-прежнему блуждая в своем прошлом, — хранится мое роскошное платье супруги маршала; я щеголяла в нем, когда Лефевр получил из рук императора в Булонском лагере звезду Большого Орла Почетного легиона. — Перейдем к другим костюмам, с которыми связаны важные воспоминания, — сказала хозяйка дома. — Вот мое платье, в котором я присутствовала на коронации…, мой придворный шлейф, заказанный для представления императрице… дорожная шуба, сшитая для моей поездки к Лефевру в Данциг.
Она перечисляла таким образом поочередно все туалеты, благоговейно сберегаемые здесь, последовательно открывая хранилища, куда были тщательно убраны эти свидетели богатой приключениями жизни.
Дойдя наконец до последнего шкафа, Екатерина, усмехаясь, сказала:
— Сейчас мы осмотрим вот этот. Теперь дошла очередь до старых обносков Лефевра.
И как она продемонстрировала свой гардероб, так и тут она стала последовательно показывать посетителям: мундир французского гвардейца, который носил Лефевр до революции, его саблю лейтенанта национальной гвардии, которой он действовал 10 августа 1792 года. Затем она показала форму стрелка 13-го пехотного полка, потом генеральский мундир, который он носил, заменив в Мозельской армии Гоша, его фрак сенатора, его парадный мундир маршала Франции.
Все присутствующие были растроганы, и никто из них не подумал усмехнуться про себя, когда, распахнув еще один шкаф, оставленный ею напоследок, Екатерина вынула оттуда два костюма эльзасских крестьян, мужской и женский.
— Мы с мужем хотим, чтобы нас похоронили в этих скромных платьях, — проговорила Екатерина. — Эту юбку я носила, будучи крестьянкой; а в этой блузе щеголял Лефевр, когда работал на мельнице в своей деревне. В этих старых одеяниях мы сойдем вместе в могилу и успокоимся навсегда.
— Да, это мое самое задушевное желание, — подтвердил Лефевр. — Вот здесь, друзья мои, вся наша геральдика и галерея предков. Император возвел нас в сан герцога и герцогини, но мы остались теми же, кем были и раньше. Когда похоронят солдата Лефевра и маркитантку Екатерину, снимут с них их дорогие, пышные придворные платья, я хотел бы, чтобы о нас просто сказали следующие слова: «Лефевр и его жена Сан-Жень не обладали портретами предков. Их геральдику составляли старые рабочие и военные одеяния. Они не были потомками, но будут славными предками своих потомков».
VI
Пока гости любовались семейными реликвиями, которые показывали им Лефевр и Екатерина, Наполеон прошел в отдельный домик, предоставленный ему любезными хозяевами. Император объявил маршалу и его жене, что намеревается провести ночь под их гостеприимным кровом и думает вернуться в Париж на другой день утром, после венчания, которое должно было совершиться в часовне замка.
В распоряжении Наполеона были курьеры, и он, взяв с собой секретаря Меневаля, продолжал заниматься текущими делами. Наполеон работал непрерывно и везде чувствовал себя как дома.
В этот день император казался необычно рассеянным. Он несколько раз справлялся о том, который час, нетерпеливо ходил взад и вперед по комнате, служившей ему кабинетом, внезапно открывал дверь в соседнюю гостиную, как бы надеясь увидеть в ней кого-то. Затем он с досадой закрывал ее и с видом разочарования снова начинал ходить из одного конца кабинета в другой. Меневаль заметил странное поведение Наполеона, но не мог объяснить себе его причину и решил, что беспокойство императора, вероятно, вызвано какими-нибудь неприятными известиями из России.
— Ну, довольно на сегодня, Меневаль, — воскликнул наконец Наполеон, не владея больше собой, — можете уходить и принять участие в увеселениях, которые устраивает герцог Данцигский по случаю свадьбы своего питомца, полковника Анрио. Вы молоды, Меневаль, для вас теперь как раз время повеселиться. Я думаю, что бал будет очень оживленный; все так рады ему. Мне кажется, что сегодня здесь много хорошеньких женщин. А вы обратили внимание на невесту, Меневаль? Я нахожу ее очень пикантной.
— Да, ваше величество, это одна из самых прелестных женщин, каких мне приходилось до сих пор встречать при вашем дворе, — ответил секретарь. — Полковнику Анрио многие позавидуют.
— Ах, и вы находите ее хорошенькой? — живо воскликнул император и затем прибавил деланно равнодушным тоном: — Прежде чем уйти, приготовьте мне приказ для офицера, которого я могу в любую минуту послать в Париж к военному министру. Мне нужно взять из министерства портфель, в котором находятся планы расположения войск, размещенных в прибалтийском районе.
— Вот здесь, ваше величество, совершенно готовый приказ, — заметил Меневаль, — нужно только вписать фамилию офицера, которого вы желаете послать.
— Пока оставьте так, я потом напишу сам. А теперь можете идти. Только пошлите мне, пожалуйста, Констана! — попросил Наполеон.
Секретарь удалился, а вместо него в кабинет вошел камердинер императора с услужливым и хитрым видом. Наполеон приказал подать одеваться.
Констан, служивший у своего господина еще с того времени, когда тот был первым консулом, прекрасно знал все привычки императора. Он отправился в уборную, принес оттуда мыло, бритву и маленькое ручное зеркальце, затем зажег спиртовую горелку и стал подогревать над ней воду для бритья. Все приготовления камердинер совершал в глубоком молчании. Подойдя к Наполеону, он начал раздевать его. Император был в этом отношении беспомощен: его нужно было причесывать и одевать с ног до головы, как ребенка.
Когда вода начала бурлить в кастрюльке, Констан, осторожно ступая на кончиках пальцев, открыл дверь кабинета и сделал какой-то безмолвный знак.
На пороге показалась высокая тень в тюрбане и широких шароварах. Короткий круглый кафтан был опоясан шелковым расшитым золотом поясом, з одной стороны которого была прикреплена сабля, а с другой — два пистолета. Это был Рустан, верный телохранитель Наполеона, который позднее, в дни падения императора, изменил ему вместе со многими маршалами. Восточный человек, осыпанный милостями Наполеона, пользовавшийся его неограниченным доверием, не пожелал сопровождать своего благодетеля на остров Эльба и предпочел перейти на сторону Бурбонов. Через некоторое время он переселился в Англию и там выступал за деньги перед любителями экзотики. Веллингтон, купивший уже раньше бывшую фаворитку Наполеона итальянку Грассини, не мог отказать себе в удовольствии представить английским аристократам телохранителя Наполеона, и Рустан являлся на все пиры, которые устраивались Веллингтоном по случаю победы при Ватерлоо.
Но все это было позднее, а теперь, когда он находился вместе с императором в гостях у маршала Лефевра, Рустану даже не приходила мысль в голову, что он может когда-нибудь изменить Наполеону. Каждый, кто высказал бы тогда подобное предположение, подвергся бы великому гневу со стороны Рустана. Он служил верой и правдой своему императору, не отходил от него и ночью ложился перед его дверью. Убийцам пришлось бы перешагнуть через труп телохранителя для того, чтобы пробраться в спальню Наполеона.
Мобрейль не упустил из виду, что ему придется иметь дело с этим могучим стражем императора, и принял соответствующие меры. С какой-то таинственной целью он заручился помощью Самуила Баркера, двойника Наполеона, который мог обмануть Рустана сходством с императором и усыпить телохранителя.
Подойдя к Констану, мамелюк взял из его рук зеркало и стал перед Наполеоном, который потребовал у слуги бритву и начал бриться. Это император всегда делал сам и с чрезвычайной быстротой. Окончив бритье, он прошел в уборную, вымылся там, отполировал ногти и затем всецело отдался в руки камердинера. Констан обтер все тело господина одеколоном и только собирался надеть на него белье, как император оттолкнул его, бросился к камину и собственноручно положил в него несколько больших кусков угля.
— Ах, Констан, ты хочешь заморозить меня! — весело воскликнул он и ущипнул лакея за ухо, что всегда служило признаком хорошего расположения духа Наполеона.
Император был необыкновенно чувствителен к холоду. Во всех комнатах его дворца топились печи даже летом. Круглый год он укрывался ночью теплыми одеялами. Во время кампании в России Наполеон так сильно страдал от морозов, что отчасти из-за них не сумел проявить полностью обычную энергию.
Согретый ярким пламенем камина, император пришел в еще лучшее настроение и снова ущипнул камердинера за ухо.
— Одень меня сегодня к лицу, — улыбаясь, проговорил он, — я хочу быть интересным, так как желаю понравиться.
Констан продолжал одевать своего господина. Он надел на него легкие туфли и тонкие белые шелковые чулки. На туфлях красовались маленькие, еле заметные серебряные шпоры. Затем он обвязал вокруг шеи Наполеона черный шелковый галстук, прикрепил тюлевую манишку к белому жилету из пике и подал мундир стрелка, в котором император обычно ходил. Но Наполеон на этот раз оттолкнул его и потребовал сюртук полковника гренадерского полка, изредка допускаемый им.
— Полковник Анрио будет в форме стрелка, а я явлюсь в мундире гренадера; нужно, чтобы между нами была разница, — пробормотал он, и загадочная улыбка промелькнула на его губах. — Эта невеста полковника очень хорошенькая, не правда ли, Констан? — прибавил он, не будучи в состоянии удержаться больше от разговора об интересовавшем его предмете.
Камердинер привык понимать своего господина с полуслова. Он знал, что если император хвалил красоту какой-нибудь придворной дамы, то это означало, что он желает почтить ее своим вниманием. На этот раз он сделал удивленное лицо, и слабый оттенок неодобрения промелькнул в его глазах.
— У вас, ваше величество, очень хороший вкус, — ответил он. — Невеста полковника действительно достойна обратить ваше внимание. При всех других обстоятельствах, я уверен, она тотчас же оценила бы вашу огромную милость, но сегодня, здесь, во дворце, накануне своей свадьбы, я боюсь, она не отнесется должным образом к вниманию вашего величества. Мне кажется, что было бы лучше, если бы вы, ваше величество, осчастливили своей милостью кого-нибудь другого.
— Так что, ты считаешь бесполезными мои ухаживания? — наивно спросил император, немного сконфуженный видимым неодобрением своего лакея.
— Да, ваше величество, я думаю, что вы напрасно потеряете время, по крайней мере в данную минуту, — откровенно ответил камердинер. — Если вам угодно развлечься, то здесь есть много прекрасных дам, которые вполне вознаградят своего императора за маленькую неудачу. Во дворце теперь находятся госпожа Ремюза, госпожа Люсей…
— Пусть эти дамы кокетничают с моим адъютантом, — прервал его Наполеон, делая нетерпеливый жест рукой. — Ну что, все готово? В таком случае возьми свечи и проводи меня. Обед уже, верно, подан и меня давно ждут.
Констан был поражен тоном императора. Он украдкой покачал головой и, взяв в руки канделябр, провел Наполеона в соседнюю комнату, где его ждал адъютант.
За долгим, тщательно сервированным обедом все обратили внимание на то, что император оставался очень долго за столом. У него была привычка вставать после первого блюда, и потому все были удивлены, что на этот раз он изменил ей. Наоборот, казалось, что он умышленно затягивает обед, задавая бесконечные вопросы обер-гофмаршалу, сидевшему рядом с Алисой. Вопросы адресовались Дюкору, а взгляды императора — его прелестной соседке. Обер-гофмаршал сейчас же понял тактику Наполеона и по мере сил старался помочь ему в этом деле.
Все генералы, все приближенные императора были в известной степени его поставщиками. Стоило только Наполеону бросить взгляд желания на какую-нибудь даму, высказать комплимент по ее адресу, как услужливые придворные торопились удовлетворить желание своего властелина. Мужья поощряли своих жен не отказывать императору в его любовных требованиях; влюбленные толкали своих подруг в объятия Наполеона и гордились их изменой; отцы сами приводили дочерей в кабинет императора. Все эти особы высшего общества с аристократическими фамилиями, с громкими именами, приобретенными во время блестящих побед, не стесняясь играли роль сводников и гордились бесчестьем своих жен, сестер, дочерей.
Многие обвиняют Наполеона в чрезмерной гордости, в его презрении к людям, которое выражалось во всех его словах и поступках; но разве его люди не заставили его сделаться таким? Видя перед собой коленопреклоненную толпу, трудно не почувствовать себя великим! В течение пятнадцатилетнего действительного могущества Наполеону приходилось встречаться лишь с низко склоненными головами.
Видимое удовольствие, которое испытывал император в обществе невесты Анрио, не могло ускользнуть от внимания сидевших за столом. Присутствующие подмигивали друг другу, переглядывались, подталкивали локтями своих соседей, шептались. Только Лефевр, весь поглощенный обязанностями хозяина дома, да счастливый жених не замечали ничего.
Зато волнение Наполеона, ясно выражавшееся на его лице, когда Дюрок наклонялся к Алисе, как бы сообщая ей о любви императора, молниеносные пылкие взгляды, которые он бросал Алисе, его смущение, когда он обращался непосредственно к невесте Анрио, уже давно обратили на себя внимание Екатерины Лефевр. Почтенная дама дрожала от нетерпения. Ее ноги выбивали мелкую дробь под столом. Она чувствовала, как кровь приливает к ее лицу и заливает темным румянцем щеки. Ей хотелось встать, бросить своих гостей и с той бесцеремонностью, которую она проявила уже несколько раз, отчитать Наполеона, высказать ему всю неблаговидность его намерений, защитить честь Алисы и сохранить для Анрио сердце его будущей жены. Екатерина Лефевр знала, что следует сказать. Она умела задеть слабую струнку Наполеона, но для этого она должна была подойти к нему, поговорить с ним лицом к лицу, а этикет заставлял ее сидеть на месте, напротив императора. Екатерина Лефевр сердито крошила хлеб и не прикасалась ни к одному из блюд, которые подносили ей.
Чтобы дать некоторый выход своему негодованию, герцогиня Данцигская бросала свирепые взгляды на мужа, который, не понимая волнения жены, смотрел недоумевающими глазами.
«Что такое я сделал? — думал он с беспокойством. — Неужели я совершил какую-нибудь глупость, сам того не замечая? Но император, по-видимому, не сердится. Наоборот, я его еще никогда не видел в таком веселом настроении. Отчего Катрин смотрит на меня так строго? Верно, что-нибудь да есть; а что — никак не пойму!»
Довольный вид императора несколько успокаивал Лефевра, но он все-таки не мог понять, что именно возмущало его жену. Не могло быть сомнения в том, что она взволнована. Маршал хорошо знал свою Катрин. В минуты неудовольствия жены он старался быть как можно тише, как можно незаметнее и покорно ждал, пока разразится гроза и воздух снова очистится.
«Что же произошло? — думал маршал. — Обед удался на славу; гости довольны и хвалят все; император весело улыбается! Какой черт испортил Катрин настроение в этот чудный день?»
Это беспокойное состояние лишило Лефевра возможности вполне насладиться той радостью, которую он испытывал, принимая у себя императора и читая удовольствие на лице своего высокого гостя.
Обед окончился, а бедный маршал так и не догадался, чем вызвана гроза, собравшаяся разразиться над ним.
Желая избежать объяснения с женой в присутствии всего общества, Лефевр смешался с толпой придворных, окружавших императора. Наполеон стоял у камина с чашкой горячего кофе, которое ему поднесла Алиса; щеки императора горели, а глаза блестели от удовольствия.
Юная невеста прекрасно поняла, какое впечатление она произвела на Наполеона. Обер-гофмаршал Дюрок, в свою очередь, пояснил молодой девушке во время обеда, что означали пламенные взгляды, подавленные вздохи и любезные улыбки императора.
Выпив кофе, Наполеон прошел в маленькую гостиную, которая предназначалась исключительно для высокого гостя и в которую никто не имел права входить без его приглашения. Все общество отступило, только обер-гофмаршал последовал за императором по его знаку, призывавшему Дюрока. Через несколько минут после конфиденциального разговора с Наполеоном Дюрок вернулся в салон и начал искать глазами кого-то среди декольтированных дам и мужчин в блестящих мундирах.
Екатерина внезапно оставила госпожу де Монтескью, которая только что представила ей графа Мобрейля. Разговаривая с гостями, герцогиня Данцигская не теряла из вида Дюрока и видела, как он уединился с Наполеоном.
«О чем они совещаются вдвоем? — думала Екатерина. — Вероятно, дело идет об Алисе. Но их затея не выгорит! Им придется считаться со мной!»
— Простите, пожалуйста, — обратилась она вдруг к Монтескью, увидев Дюрока, направлявшегося к тому месту, где сидела Алиса, — мне необходимо сказать несколько слов обер-гофмаршалу.
Она пошла к Дюроку, но тот уже отошел от кресла Алисы и, взяв под руку Анрио, повел его в гостиную императора.
Обеспокоенная Екатерина сразу приняла твердое решение. Она прошла через столовую в широкий коридор, в который выходили двери многих комнат, в том числе и гостиной, предназначенной для Наполеона, на цыпочках подошла к двери и приложила ухо к замочной скважине.
«Мой поступок не очень-то красив, — думала Екатерина, приподнимая шлейф своего платья, чтобы шуршание материи не выдало ее присутствия, — если бы меня застали здесь, то приняли бы за горничную, подслушивающую у дверей; но что делать? Ведь тут идет речь о спасении Алисы, не говоря уже о бедном Анрио, который даже не подозревает, что Дюрок старается наставить ему рога. Тем хуже для них! А я по крайней мере узнаю, как вести себя дальше».
Не отрывая уха от двери, Екатерина ясно услышала весь разговор, который велся в гостиной Наполеона.
— Вы поедете сегодня же ночью, — сказал своим срывающимся голосом император, — а пока можете продолжать ухаживать за своей очаровательной невестой. Не нужно, чтобы кто-нибудь знал о моем поручении, а потому вам лучше уехать незаметно. Через час окончится вечер, гости разойдутся, и вы можете пуститься в дорогу, не возбудив ничьего внимания. Вы поняли меня?
— Очень хорошо, ваше величество, — ответил звучный голос, в котором Екатерина узнала голос Анрио.
— Одна из моих колясок стоит совершенно запряженная в каретном сарае, — продолжал император, — вы возьмете ее. Герцог Фриуль будет сопровождать вас. Сколько времени нужно ехать до Парижа, Дюрок?
— На лошадях, принадлежащих вашему величеству, можно доехать в четыре часа! — ответил обер-гофмаршал.
— Прекрасно! Вы отправитесь, полковник Анрио, прямо в военное министерство, — сказал император, — и попросите дежурного офицера провести вас в комнату, где хранятся портфели; там вы возьмете портфель с номером двадцать шестым, в котором заключаются разные государственные бумаги и серия карт. Этот портфель из сафьяна, на нем помечены слова: «Варшава — Вильно — Витебск». Вы легко отличите его от других. Я рассчитываю на вас, полковник.
— Постараюсь угодить, ваше величество! — ответил Анрио.
— Вы привезете мне портфель как можно скорее, — продолжал император, — я думаю, что вы сможете вернуться обратно рано утром. Мне очень жаль, — прибавил Наполеон ласковым тоном, — отсылать вас накануне вашего счастливого брака, но такое короткое отсутствие не причинит вам больших неудобств. Вы вернетесь завтра настолько рано, что у вас будет достаточно времени для того, чтобы повести к алтарю свою прекрасную невесту. К вашему счастью присоединится еще чувство удовлетворения, что вы оказали услугу императору и вполне заслужили то повышение, которое я собираюсь вам дать.
— Ваше величество, ради вас я готов пойти на край света! — воскликнул Анрио.
— Я очень благодарен вам, но сегодня прошу поехать только в Париж, который находится в десяти милях отсюда, — с улыбкой проговорил император. — Возьмите этот приказ, с ним вам легко будет проникнуть в министерство. Итак, до свидания! До завтра, полковник!
Император вручил молодому человеку приказ, заранее заготовленный Меневалем, и отпустил его. Анрио ушел в полном восторге от милостивых слов Наполеона и гордясь важным поручением, которое доверили ему. Бедный жених не подозревал, для чего понадобилось его отсутствие.
Екатерина прослушала весь разговор. Ее лицо пылало от негодования; сердце усиленно билось. Она находилась в состоянии необузданного гнева, вспышки которого проявлялись раньше, когда она жила на улице Сен-Рок и сопровождала мужа в лагерь; благодаря этим вспышкам она и получила свое прозвище «Сан-Жень».
По уходе Анрио Наполеон пошептался о чем-то с Дюроком; тот тоже вскоре вышел, уступив свое место Нарбонну, одному из адъютантов императора. Нарбонн сообщил своему властелину о настроении в парижских салонах, о том, что говорилось русским посланником на обеде, на котором присутствовал и Талейран.
Дальше было неинтересно слушать. Екатерина знала много, даже слишком много!
— Черт возьми, — пробормотала она, отходя от двери, — этого нельзя допустить. Можно ли было подумать, что этого дурака Анрио так проведут накануне его свадьбы? Ведь это невинное дитя поверило в правдивость истории с портфелем. К счастью, я не так проста, как он. Но что предпринять? Предупредить Анрио — это значит вызвать скандал и расстроить в конце концов его свадьбу. Затем бедный мальчик так доволен, что было бы жестокостью открыть ему глаза и причинить страдание. Пусть лучше он ничего не знает, а я расскажу все Алисе. Нет, и это не годится, — после некоторого раздумья продолжала Екатерина, — молодые женщины легкомысленны, кокетливы, непостоянны; они замечают свои ошибки обычно уже только тогда, когда поздно поправить дело. Алиса, конечно, любит Анрио, но император так могуществен, что молодая девушка может почувствовать себя польщенной его вниманием. У Алисы не хватит сил сопротивляться Наполеону; как только она попадет в его руки, все будет окончено. Открыть ей глаза — это все равно что толкнуть ее в западню. Нет, нужно действовать мне одной, но что предпринять — вот вопрос? Анрио не должен ехать сейчас же. Император посоветовал ему подождать, пока все разойдутся. Таким образом у меня есть по крайней мере час; этого вполне достаточно. Нужно прежде всего поговорить с Лефевром.
Екатерина быстро прошла через коридор в столовую, оттуда в гостиные, расспрашивая всех, не видел ли кто-нибудь маршала.
Наконец она заметила его в нише окна, где он разговаривал с бывшим шталмейстером вестфальского короля графом Мобрейлем. Екатерина быстро подошла к ним, скрывая под любезной улыбкой свое беспокойство.
— Право, граф, мне не везет с вами, — обратилась она к Мобрейлю, — несколько минут тому назад я была вынуждена оставить вас по домашнему делу, очень важному для меня. Вы, конечно, понимаете, как трудно принимать столько гостей в присутствии его величества, и простили меня, не правда ли? Теперь я нахожу вас со своим мужем и должна прервать вашу беседу и увести его. Надеюсь, вы простите меня и на этот раз. В такой день, как сегодня, хозяева дома совершенно не принадлежат себе.
Герцогиня сделала глубокий реверанс Мобрейлю, чтобы подчеркнуть, что разговор окончен, и в то же время подала знак Лефевру, чтобы он отошел и ждал ее в стороне.
Граф Мобрейль вежливо ответил, что, наоборот, он обязан просить извинения за то, что позволяет себе надоедать хозяевам дома в то время, когда у них и без того много хлопот. Во всяком случае его беседа с маршалом была настолько незначительна, что ее легко можно отложить на другое время и продолжить разговор в любой момент.
— Да, дорогой граф, мы еще поговорим о вашем странном сообщении, — заметил Лефевр своим обычным добродушным тоном. — Представь себе, моя милая, граф, недавно вернувшийся из Лондона, убежден, что нам предстоит война с Россией. Возможно ли это? Ведь император Александр — друг и горячий поклонник нашего императора. Я сам видел, как они целовались в Эрфурте.
— Ах, вот как? Граф предсказывает войну с Россией? — воскликнула Екатерина. — Что ж, возможно, что он окажется лучшим пророком, чем ты думаешь, мой друг, — прибавила она, вспомнив слова Наполеона, которые она слышала во время аудиенции в Тюильри.
— Простите, графиня, но я не желаю омрачать ваш праздник дурными предсказаниями, — с любезной улыбкой возразил Мобрейль, — надеюсь, что я ошибся, и извиняюсь перед маршалом, что отнял у него время, передавая такие недостоверные сведения! — Поклонившись Лефевру, граф ближе подошел к Екатерине и тихо прошептал: — Мне главным образом необходимо поговорить с вами, герцогиня. Меня послал к вам граф Нейпперг, который находится теперь в Лондоне. Где и когда я могу говорить с вами подальше от нескромных ушей? То, что я вам скажу, чрезвычайно важно и не должно быть никем услышано. Здесь мы слишком близко стоим от…
Мобрейль не окончил и только глазами указал на гостиную, предоставленную Наполеону. При имени Нейпперга Екатерина задрожала. Она подозревала новую интригу, главным действующим лицом которой должна была быть Мария Луиза.
— Но Нейпперга нет в Париже? — с тревогой спросила она.
— Нет, герцогиня, я оставил его в Лондоне. Он собирался ехать в Петербург по поручению своего правительства, — ответил Мобрейль.
— Слава Богу, вы успокоили меня! — облегченно вздохнула Екатерина. — Подождите меня, граф, на моей половине и там мы сможем свободно поговорить с вами о вашем друге. Я приду туда, как только император отправится в свои апартаменты.
— Хорошо, я пройду на вашу половину, герцогиня; но скажите, в какой части замка она находится? — спросил Мобрейль. — Неловко расспрашивать об этом у посторонних, так как мое присутствие в ваших комнатах в такой поздний час может показаться подозрительным.
— Вам легко будет ориентироваться, — ответила Екатерина. — Мой будуар, в котором я прошу вас терпеливо подождать моего прихода, выходит одной дверью в зал, где выставлены все подарки и свадебная корзина невесты. Вы пройдете этот зал: только смотрите, не попадите в комнату невесты, — смеясь, прибавила герцогиня. — Впрочем, я лучше дам вам провожатого.
Екатерина подозвала лакея и отдала ему короткое приказание проводить графа. Мобрейль отвесил глубокий поклон и последовал за лакеем. На его губах промелькнула хитрая, недобрая улыбка.
Герцогиня взяла под руку мужа и, подведя к окну, сказала:
— Послушай, я сообщу тебе новость. Императору нравится Алиса, он влюблен в нее.
— Черт возьми, какая глупость пришла в голову императору! — воскликнул Лефевр.
— Ты видишь в этом только глупость! — воскликнула Екатерина, пронизывая мужа гневным взглядом, от которого он попятился назад в сильном смущении.
— Что же мне прикажешь делать? — робко спросил он, пожимая плечами. — Разве император спрашивает моего совета в сердечных делах? Не могу же я ему запретить влюбляться в Алису!
— Нет, можешь, можешь и даже должен стать между Наполеоном и Алисой, — возразила Екатерина. — Ведь она невеста Анрио. Они оба наши дети. Разве мы не обязаны защитить их от несчастья, которое угрожает им?
— То есть защитить их от императора? — воскликнул Лефевр. — Это мы не можем сделать! Я боюсь Наполеона. Он единственный человек во всей Европе, внушающий мне страх. Когда я вижу его, я не чувствую себя свободным, несмотря на то, что люблю его. Его глаза пронизывают меня насквозь, вселяют ужас. Я не могу помешать ему взять женщину, точно так же, как занять город. Нет, Катрин, я скорее заберусь в жерло пушки, чем решусь сказать императору: «Не делайте, ваше величество, того или другого!» Да и помимо всего он прогнал бы меня.
— Ну, в таком случае я скажу ему все, — решительно заявила Екатерина, — меня он не прогонит. Я уже несколько раз говорила с ним, и он никогда не запрещал мне выкладывать все, что я думаю.
Лефевр смотрел на свою жену с восхищенным изумлением, как смотрел бы на смелого укротителя, входящего в клетку со львом.
— Берегись, не поссорь меня по крайней мере с императором, — предупредил он, очень обеспокоенные выходкой жены.
Екатерина подняла левое плечо и пренебрежительно пробормотала:
— Ты просто глуп!
— Наполеон говорит то же самое! — заметил Лефевр, выслушав комплимент жены.
Но Екатерина уже не слышала этого замечания, так как ее внимание было отвлечено движением толпы гостей, устремившихся к маленькой гостиной. По-видимому, император собирался уходить. Нужно было воспользоваться моментом, чтобы храбро поговорить с ним с глазу на глаз. Льва следовало захватить в его логове.
VII
Император очень милостиво принял Екатерину. Он поздравил ее с отлично удавшимся праздником и наговорил любезностей по поводу предупредительности и умения, с которыми она приняла гостей.
Все эти приятные вещи Наполеон говорил таким тоном, в котором чувствовалось недвусмысленное желание поскорее закончить разговор, кроме того, он уже неоднократно давал Дюроку знаком приказание распорядиться, чтобы все было приготовлено в императорских апартаментах. Но, не смущаясь этим, Екатерина заговорила слегка дрожащим голосом:
— Вы слишком добры, ваше величество, высказывая нам свое удовольствие. Мы с Лефевром сделали все что могли, чтобы оказать вам такое гостеприимство, которое было бы не слишком недостойно вас.
— И это вам вполне удалось, герцогиня!
— Благодарю вас! О, я так вам благодарна! Но теперь, ваше величество, выслушайте меня, я собираюсь попросить у вас большой милости!
— Милости? Но какой именно? Говорите, в чем дело?
— Дело касается полковника Анрио, ваше величество!
При произнесении этого имени голос Екатерины дрожал. Она со страхом глядела, как сдвинулись при этом брови императора.
— Ну, что нужно полковнику Анрио? Вы видели, быть может, как он пускался в путь? Он вам нужен? Но ведь, насколько я знаю, это не вы собираетесь выходить за него замуж!
— Нет, ваше величество, не я, а Алиса де Борепэр, моя Алиса, которую я люблю как родную дочь. Я защищаю в данном случае счастье Анрио; быть может, то, чего я прошу вас на коленях, составляет жизнь Алисы. Пощадите, ваше величество! Сжальтесь! Будьте великодушны!
— Что вы хотите сказать этим? Уж не потеряли ли вы в суматохе этого празднества тот здравый смысл, которым вы всегда так отличались в моих глазах, герцогиня? — сказал император, слегка смущенный и старавшийся скрыть это смущение под маской грубоватой иронии.
— Я-то в полном рассудке, а вы, ваше величество, отлично знаете, что если кто-либо собирается сделать глупость, так уж во всяком случае никак не я!
— Вы слишком смелы, если решаетесь говорить со мной таким образом! Кто вам дал право на это?
— Вы сами, ваше величество! О, выслушайте меня! Вы велики, вы могущественны! Весь мир восхищается вами, весь свет преклоняется перед вами, и никто не решится идти наперекор малейшему вашему желанию. Одна только я рискую навлечь на себя ваш гнев, говоря вам то, что никто не осмелится высказать в вашем присутствии.
— Вы правы, никто не позволит себе такой дерзости, такой наглости! Однако продолжайте! Очевидно, вы считаете, что вам все можно?
— Ваше величество, я черпаю храбрость в том обожании, которое я питаю к вам, к вашей славе. Я догадалась о ваших намерениях, я знаю, что вами овладела страсть. Только страсть ли это? Это просто каприз минуты, мимолетное любопытство, я уверена. О, не давайте этой фантазии овладеть вами! Раз вы можете все, то не теряйте власти над собой; не позволяйте дурным чувствам руководить вами, раз вы достаточно сильны, чтобы не попадать в то, с чем бессильны бороться обыкновенные, рядовые люди! Пусть, ваше величество, день радости не превратится из-за вас в длинные годы скорби. Алиса — нежная и невинная девушка. Анрио — бравый солдат, один из преданнейших ваших слуг. Не причиняйте им обоим несчастья и, после того как вы почтили их своею милостью, не раздавливайте их бременем вашего желания. Отнеситесь с уважением к счастью этих молодых людей, ваше величество; вы должны и можете сделать это!
— Но эта женщина в самом деле сошла с ума! — буркнул Наполеон, окончательно смущенный. Чтобы дать себе оправиться, он вытащил табакерку и нервно сделал две большие понюшки, причем мелкая табачная пыль забралась даже в ноздри Екатерине и заставила ее чихнуть. — Будьте здоровы! — машинально сказал он, продолжая нюхать.
— Спасибо! И вам того же желаю, ваше величество! — ответила Екатерина.
Затем, снова ухватившись за прерванную нить, она взволнованно принялась описывать императору рождение обоих детей, их детство, протекшее бок о бок в одной колыбели, которой часто приходилось висеть на пушечном лафете. Они засыпали, убаюкиваемые треском орудийного огня армии Самбрэ-Мёз, и Анрио держал в руках ружье еще до того, как у него выпали молочные зубы. Алиса, разлученная с ним, снова встретила его во время славной немецкой кампании. Их детская любовь снова воскресла, и после победы свадьба была решена. Разве сам император не обещал, что будет свидетелем на свадьбе молодого офицера, взявшего ему Штеттин с эскадроном кавалеристов? Казалось бы, что столько преданности, храбрости, отваги должно было внушить императору желание покровительствовать счастью этой пары, да и молодые люди так достойны милости и покровительства императора! Наконец, явившись в этот замок, который они имеют по его доброте, посетив двух преданных слуг, какими являются солдат с первых дней его славы — Лефевр и подруга его юности — жена Лефевра, Наполеон не мог отплатить за гостеприимство бесчестием и горем.
— Ваше величество, вы не огорчите вашей старой Сан-Жень, вы не разобьете жизни этих двух молодых людей, на которых она смотрит, как на родных детей! — закончила Екатерина, бросаясь к ногам императора.
— Встаньте, герцогиня! Вас могут застать в этой позе, потому что я жду герцога де Фриуля и подобное положение могло бы вызвать нежелательные пересуды. Стали бы рассуждать о том, в какой милости я мог бы отказать жене моего старого боевого товарища Лефевра.
Взор Наполеона прояснился, морщины на лбу разгладились; он помог Екатерине встать с колен.
Надежда придала Екатерине еще храбрости. Она почувствовала, что ей удалось найти средство растрогать императора и что ее защита наполовину уже достигла цели. Поэтому она решила продолжать свою атаку:
— Отказываясь от этого любовного приключения, которое уничтожит счастье двух достойных вашего покровительства людей, вы, ваше величество, докажете не только свою гуманность и доброту, но и дальновидность. Теперь вы на вершине могущества, и потому вокруг вас раздаются одни только выражения восторга и восхищения. Но как ни кажется непоколебимым ваш трон, а под него уже подкапывается измена. В этой блещущей золотом толпе, которая падает ниц перед вами и теснится около вас с видом подобострастной преданности, я угадываю массу лживых речей, массу недоброжелательных взглядов, массу ехидн, которые только ждут случая, чтобы поднять голову. Теперь вы придавили пятой головы этих гадов, и ни один из них не посмеет впустить в вас жало. Но избави Бог, если случится что-нибудь…
— Вы имеете в виду мою смерть? — спокойно спросил Наполеон. — О, я готов к этому! Конечно, когда меня больше не будет, все те, кого я сдерживал, подавлял, раздавил, быть может, подымут свои жала, и моему сыну придется защищаться от них. Ну и что же из этого? Что вы хотите сказать этим и куда клонится эта слишком непочтительная речь, которую я хоть и прощаю из особой милости, но не собираюсь дальше выслушивать?
— Во имя вашего ребенка, не обезнадеживайте, не оскорбляйте, ваше величество, своих лучших слуг. Неужели вы думаете, что если вы оттолкнете меня и не откажетесь от своего намерения, то слух об этом приключении не обежит с быстротой молнии всех и вся? А ведь в результате многие из тех, кто уже поглядывает на ту сторону границы, выискивая только предлог, оправдательный мотив для измены, перейдут к решительным действиям, направленным против вас. Вы, ваше величество, даже не догадываетесь, как много таких людей, но мы-то с Лефевром знаем их всех, потому что любим вас!
— Черт возьми! Я отлично вижу, куда вы клоните… Фушэ, Талейран — все те же и те же. Я уже давно отказался выслушивать какие-либо беспочвенные обвинения против них.
— Очень желаю, чтобы будущее не доказало правоту смелых обвинителей, — твердо ответила Екатерина. — Но примите во внимание, ваше величество, что существуют еще и генералы, ваши старые товарищи по оружию. Большинство из них уже устало следовать за вами с одного поля сражения на другое; другим надоело, что каждый раз со дня на день все откладывается тот момент, когда они будут иметь возможность спокойно пользоваться тем, что приобрели, когда они смогут отдохнуть в своих замках, где до сих пор они бывали только проездом, только в короткие минуты от похода до похода. Наконец, существуют и такие, которые не боятся распространять относительно вас массу самых ложных слухов; бессовестные газетчики подхватывают эти сплетни и печатают их в своих листках, расхватываемых потом наперебой вашими недругами в Вене, Лондоне, Берлине, Петербурге. О, не давайте же нового яда для их отравленных перьев!
— Да, я знаю, — ответил император, — что за границей распространяют и печатают самые подлые пасквили, в которых меня описывают в виде чудовища, обладающего всеми пороками, злодея, ежеминутно нагромождающего преступление на преступление, и развратника, сопровождающего свои любовные похождения безумствами, достойными того сумасшедшего, который написал «Жюстину». Может быть, вы и правы! Я должен считаться с изменниками, которые таятся около меня, с памфлетистами, которые покрывают меня грязью к радости всех европейских дворов. Да и следует поберечь для сына дружбу и верность моих героев, тех, кто ради меня не останавливались ни перед усталостью, ни перед страданиями, ни даже перед смертью. Так как я не хочу, чтобы вы, герцогиня, ваш муж и другие старинные столпы моей короны имели хоть малейшее подозрение насчет моих намерений, я прикажу полковнику Анрио не ездить сегодня ночью в Париж, что он должен был сделать во имя порученного ему мною важного дела. Он останется здесь, раз отмена приказа доставляет вам такое удовольствие, останется под одной крышей со своей невестой в ночь, предшествующую их полному союзу. Таким образом этой женщины не коснется ни малейшее подозрение, и в душе храброго офицера не возникнет ни малейшее сомнение. Вы именно этого и хотите, герцогиня?
— Ах, ваше величество, как вы велики, как вы добры!
— Постойте, это еще не все! Мое присутствие при завтрашней церемонии совершенно не нужно. Оно могло бы быть только тягостным… для меня, потому что невеста очень соблазнительна и опасна для моего сердца.
— Ваше величество, разве она виновата в этом?
— Разумеется, нет, — ответил с улыбкой император, — но опасность от этого не делается меньше. Бывают такие опасности, при виде которых истинная храбрость может сказаться в бегстве или по крайней мере в отказе от сражения. Вы поняли? Поручение, Данное мной полковнику Анрио, было страшно важно Для государственных интересов. Теперь вы знаете мое решение и, надеюсь, сохраните его в тайне.
— Хорошо, ваше величество! Мне тем легче сделать это, что я совершенно не знаю, какую именно, тайну приказываете вы мне хранить, ваше величество.
— В самом деле? Полковник Анрио должен был привезти из военного министерства портфель, содержание которого нужно мне для ознакомления прежде, чем я пошлю курьера к Прадту в Варшаву. Ну так вот, оставаясь здесь, Анрио не может доставить этот портфель. Вот подобно Магомету, который сам подошел к горе, раз она не захотела подойти к нему, я лично отправлюсь за портфелем. Поняли вы на этот раз? Я уезжаю, я не увижу более этой опасной и очаровательной особы, в присутствии которой, быть может, не буду в силах осуществить те добрые намерения, которые я принял по вашему настоянию. Значит, решено! Мой отъезд, оправдываемый важными новостями, пришедшими ночью, не удивит никого. Он не навлечет никаких толков относительно вашего гостеприимства, герцогиня, или сомнений в моем благоволении к вашему мужу. Мое присутствие в течение целого дня на вашем празднестве искупит мое завтрашнее отсутствие; к тому же, после появления на минуту в часовне мне все равно пришлось бы сейчас же пуститься в путь. Ваши молодые люди, быть может, веселее поженятся без меня. Так идите к себе спокойная и довольная. Не бойтесь за счастье ваших приемных детей. Ну а для того, чтобы в эту ночь вы не могли уже ровно ничего бояться, чтобы вам не пришло в голову никакой дурной мысли, пошлите ко мне полковника Анрио. Я хочу лично отменить данный приказ, и для того, чтобы он не принял этой отмены за немилость, еще раз пожелать ему всяческого счастья!
Екатерина с нескрываемым изумлением смотрела на императора, никак не будучи в состоянии освоиться с мыслью, что ей удалось одержать такую полную победу над его сердцем.
Наполеон наслаждался видом этого удивления и радости.
— Ну что же, милая мадам Сан-Жень, — сказал он потом, — довольны ли вы мной?
— Ах, ваше величество! Ах, дорогой мой император! Если бы я не сдерживала себя изо всей силы…
— Что же сделали бы вы тогда?
— Я бросилась бы вам на шею и расцеловала бы вас, ваше величество!
— Ну что же, мы одни, никто нас не накроет, и Лефевр не приревнует вас. Раз сердце подсказывает вам сделать это, так не стесняйтесь, герцогиня! — И в порыве особенно хорошего расположения духа Наполеон раскрыл объятия, в которые Екатерина и бросилась. — Ну а теперь, герцогиня, — сказал он, освобождаясь от нее и стискивая ей мочку уха, — ступайте, поскорее разыщите Анрио и пошлите мне Дюрока.
Екатерина ушла, но почти сейчас же вернулась с недовольным лицом.
За ней следовал обер-гофмаршал.
— Ну, в чем дело? — спросил Наполеон.
— Ваше величество, вы приказали позвать полковника Анрио, но он уже уехал. Согласно приказанию вашего величества он уже двадцать пять минут как мчится по дороге в Париж. Теперь уже половина двенадцатого, — прибавил Дюрок.
— В самом деле? Мы заболтались здесь с герцогиней, и время прошло совершенно незаметно. Дюрок, прикажите кому-нибудь из моих ординарцев немедленно понестись вскачь, догнать карету и приказать полковнику Анрио вернуться. Его поручение отменяется. Что же касается нас обоих, то мы с вами, дорогой герцог, выскользнем под покровом ночи, оставим без шума замок и дойдем пешком до деревушки, сохраняя полное инкогнито подобно калифу Гаруну-аль-Рашиду, который в обществе своего верного визиря Джиаффара обходил улицы заснувшего Багдада. Герцогиня, прикажите Рустану, чтобы он доставил нам одну из ваших карет на шоссе Кэан-Бри. Мы спокойно сядем в экипаж с Рустаном на козлах рядом с кучером, и в то время, как все будут думать, будто мы мирно почиваем здесь в наших постелях, мы помчимся к парижской заставе. Рано утром я буду у императрицы в Тюильри — она придет в восторг! До свидания, герцогиня! Еще раз благодарю вас за гостеприимство! В дорогу, Дюрок, герцогиня прикроет наше отсутствие!
И в сопровождении Дюрока он быстро вышел в маленькую дверь, через которую Екатерина подслушала разговор с Анрио.
VIII
Когда согласно принятому решению Наполеон покинул Алису, не будучи в силах подавить в себе некоторое недовольство, которое он, однако, постарался не выдать Дюроку, молодая девушка, избавленная от опасности, о которой почти и не подозревала, могла теперь вполне отдаться радостной мысли, что завтра она наконец-то будет принадлежать любимому супругу.
Наконец-то совершится событие, которого они оба ждали так долго. Еще несколько оборотов стрелки на циферблате больших часов замка Комбо, и она станет женой своего друга детства, превратившегося в храброго молодого человека, одного из самых блестящих офицеров императора, в полковника, которому, быть может, суждена в будущем слава Лассаля, Нансуити, Мюрата. Да и почему бы ему, подобно Лассалю, не стать генералом? А разве так уже невозможно, что в один прекрасный день он станет даже королем, как стал им Мюрат, как скоро станет Сульт, как не преминет стать в будущем Бернадотт? Так она будет королевой? А почему бы и нет? Разве тем, кто служит у Наполеона, нельзя было надеяться на что угодно?
Стараясь внушить себе, что она слишком высоко заносится в мечтах, Алиса в то же время вспоминала, что молодым девушкам, собирающимся выходить замуж за таких офицеров, как Анрио, свободно можно было строить самые невероятные планы. Словно в волшебной сказке император, этот сверхъестественный чародей, мановением руки превращал зипуны в придворные мантии, крестьянские картузы — в короны и убогие хижины — в дворцы. Ему стоило только коснуться скипетром такого мельника, как Лефевр, и такой овчарни, которой был родной дом Екатерины, как мельник превратился в герцога, а овчарня — в замок. А ведь это превосходило все чудеса волшебных сказок Перро!
И совсем как Екатерина, Алиса мысленно прибавила: «Как велик, как добр наш император! Какая радость служить ему! Какое счастье любить его!»
Когда Екатерина отвела ее в ту комнату, где Алисе предстояло провести последнюю девическую ночь, молодая девушка, оставшись одна, не могла не задуматься с некоторым тщеславным удовлетворением об императоре. Ведь в продолжение всего празднества он был так внимателен, так любезен к ней! Уверяли, что с женщинами он обычно бывает резок, груб, нетерпелив. А для нее у него нашлись только нежные слова и лестные комплименты!
Алиса задумалась об этом у открытого окна, дожидаясь прихода Анрио, который каждый вечер перед отходом ко сну заходил к ней, чтобы прошептать ей несколько нежных слов. И, рассеянно посматривая, как теряется и сливается в глубине парка темная купа деревьев, она не без гордости думала о том, что император завел свою любезность, пожалуй, даже слишком далеко…
То, что молчаливо говорили ей его взгляды, нашло ясное, хотя и довольно грубое выражение в словах обер-гофмаршала. Герцог де Фриуль без всяких обиняков заявил ей, что его величеству надо многое сказать ей, так что он просит Алису этой же ночью явиться в отведенную императору комнату.
Алиса только рассмеялась над странностью такого предложения; она не приняла всерьез слов Дюрока да и, пожалуй, не поняла даже их скрытого значения. Она была слишком чиста, слишком невинна, чтобы догадаться о том впечатлении, которое произвела на чувственность императора. И невинная голубка радовалась милостивому взору орла, не догадываясь о его прожорливости.
Считая все это просто шуткой, Алиса и отвечала в том же тоне, что считает честь видеться ночью с императором слишком большой для себя, чтобы принять ее.
Тогда — это было во время обеда — Дюрок, наклонившись к ее уху, пробормотал довольно странную фразу:
— Берегитесь, барышня! Раз император чего-нибудь хочет, то он умеет добиться этого. Если вы не явитесь к нему, как он приглашает через меня, так его величество способен сам явиться в вашу комнату, чтобы переговорить с вами наедине. А это может вызвать большой скандал и доставит его величеству большие неприятности. Лучше подумайте, барышня, хорошенько, будьте такой доброй, насколько вы красивы… А вдобавок еще достаточно рассудительной и умеющей беречь секреты.
Но Алису только еще сильнее рассмешила картина, нарисованная ей обер-гофмаршалом. Перспектива ночного визита нисколько не испугала ее, и ее ответ, данный в шутливой форме, гласил:
— Ну так что же, герцог, меня это нисколько не пугает. Скажите его величеству, что я буду ждать его посещения, которое непременно должно быть сделано в двенадцать часов ночи, как это свойственно героям романов!
В ответ на это Дюрок только поклонился ей, совершенно удовлетворенный ее словами, которые он принял за формальное согласие.
В вихре празднества Алиса больше и не думала о том, что император среди глубокой ночи может постучаться к ней в дверь. Но теперь ей снова вспомнился этот разговор с Дюроком, и он предстал ей в совершенно новом освещении. Она сопоставляла отдельные факты, вспоминала многозначительные взгляды Наполеона. Было совершенно ясно, что на нее он глядел во время обеда совсем иначе, чем на других гостей. Когда его взгляд падал на нее, то его глаза блестели совсем иначе, чем когда он смотрел на Екатерину Лефевр или на Монтескью. И Алиса начинала отчасти догадываться об истине… Ее лицо залила краска целомудренного стыда.
Неужели возможно, что император влюбился в нее? Неужели он мог подумать, что она изменит Анрио, что она откажется от любви жениха?
Это открытие смутило и взволновало Алису. В то же время в ней зашевелилось какое-то новое чувство недоверия и почти презрения к этому императору, который до того времени казался ей великим, недоступным для низменных страстишек заурядных людей. Наполеон, влюбленный в нее! О, это не возвеличивало ее, но зато сильно унижало его.
Вся душа Алисы возмущалась и протестовала. Император предстал перед ее духовным взглядом в необычном виде. И ею овладела совсем другого рода боязнь, чем та, которую обычно внушал всем император.
А что, если Дюрок говорил совершенно серьезно, если эта шутка о ночном посещении, которую она приняла с веселым смехом, превратится в серьезное покушение на ее честь? Что ей делать? Что ей ответить? Позвать ли ей на помощь? А если император пойдет на все? Если захочет силой вломиться к ней? Что же будет тогда? Все, что она знала о его характере, о его привычке не считаться ни с какими препятствиями, делало возможным самые дикие предположения, оправдывало всякие опасения.
Ночь все сгущалась; одна за другой полоски света, бросаемого освещенными окнами на темный ряд деревьев парка, тускнели и гасли. Справа, слева, прямо — повсюду перед Алисой вздымалась завеса непроницаемой тьмы. Наконец погасло последнее окно. Лишь Алиса бодрствовала этой безлунной ночью.
Она снова бросила беспокойный взгляд на парк и в то же время прислушалась — ей показалось, будто послышался шум шагов. Тогда со все возраставшим страхом она пробормотала:
— Можно подумать, что кто-то идет сюда. Господи Боже! Что если это император?
С крыльца, вскочив на барьер, можно было взобраться на подоконник и проникнуть таким образом в ее комнату.
Алиса хотела закрыть окно, но не сделала этого, подумав: «Я совсем сошла с ума! Никто не может прийти сюда! Никто, кроме Анрио. Да и как это его еще нет до сих пор? Каждый вечер, перед тем как уйти в свою комнату, он заходит ко мне, чтобы сказать несколько нежных слов, от которых мне снятся потом очаровательные сны и ночь переполняется радостными мечтами. Он должен был бы уже быть здесь. Впрочем, герцогиня сообщила мне, что император дал ему какое-то поручение, в этом-то, вероятно, и заключается причина его опоздания. Я должна обождать его. Что он может подумать, если, возвратившись в замок, найдет мое окно закрытым и лампу погашенной? Он не может опоздать, так как отправился в ближайший город. Как он опечалится, если подумает, что я не смогла обождать какой-нибудь час до его возвращения! — И она снова подошла к окошку, облокотилась на подоконник и стала всматриваться в ночную тьму. Затем, смеясь, почти разуверившись в своих страхах, она подумала: — Я с ума сошла! Чего мне бояться? Никто не придет, кроме Анрио, ну а потом если император и придет, так что же! Его примет Анрио. А я не думаю, чтобы его величеству доставило такое удовольствие отказываться от сна, чтобы поговорить под окном с гусарским полковником!»
При мысли о такой картине она окончательно развеселилась, и это придало ей храбрости.
Вдруг улыбка застыла на лице Алисы, превратившись в гримасу испуга, и пальцы судорожно вцепились в подоконник; она хотела броситься прочь, спрятаться в глубине комнаты, но ноги не слушались. Она хотела крикнуть — крик замер в груди. Она откинулась назад, не будучи в силах оторвать пальцы от подоконника.
Какой-то человек, узнав которого, она еще больше испугалась — разве на голове его не было маленькой шляпы, и разве не был он одет в мундир полковника стрелкового полка, обычный костюм императора? — пытался вскарабкаться в окошко, не говоря ни слова.
Алиса чувствовала, что сейчас упадет в обморок. С ее уст сорвались только два слова, которые прозвучали словно жалоба, словно упрек:
— Ваше величество…
Но в тот же момент ей стало легче дышать. Ее глаза засверкали, и лицо, искаженное ужасом, озарилось радостью. Она восторженно закричала:
— Анрио! Анрио!
За этим возгласом последовали глухой крик и странное гортанное восклицание.
Алиса увидела, что маленькая шляпа и мундир стрелкового полка исчезают за окном и в ночной темноте скрывается какая-то неясная тень.
Перед ней был Анрио с обнаженной саблей в руках. Он стоял совершенно вне себя и сумасшедшими глазами смотрел на открытое окно и то место, где скрылись маленькая шляпа и мундир стрелкового полка.
Алиса, все еще не оправившаяся, смотрела на жениха, ничего не понимая.
— Анрио, мой Анрио! — нежно сказала она ему.
Услышав этот голос, Анрио словно проснулся от сна. Он с бешенством засунул саблю в ножны и, погрозив кулаком в окно, у которого ждала его Алиса, крикнул:
— Распутница!
Затем, излив в этом незаслуженном оскорблении все свое отчаяние, бешенство и страдание оскорбленной любви, испуганный своим поступком, так как он воображал, что поразил своим ударом императора, Анрио бросился в густую тьму парка. Вскоре его силуэт потерялся в ночной тьме, а Алиса без чувств рухнула на пол у широко распахнутого окна.
IX
В двадцати метрах от освещенного круга, бросаемого на песок лампой из комнаты Алисы, какой-то субъект дергал себя за руки и ноги и щупал грудь. Тщательно закончив этот осмотр, он облегченно вздохнул.
— На этот раз я хорошо отделался! — пробормотал он по-английски. — У меня ровно ничего не испорчено! Я уже думал, что этот проклятый гусар проткнет меня насквозь, когда увидал, как засверкала его сабля над моей головой. Нет, я в самом деле очень хорошо отделался! Этот гусар был взбешен, как дьявол! Да, разыгрывать из себя императора Наполеона не всегда безопасно! Насколько спокойнее было ломаться в веселых кабачках предместий Лондона!
И странный субъект, одетый в мундир полковника стрелкового полка, собиравшийся пробраться в комнату Алисы (это был Самуил Баркер, двойник Наполеона, взятый взаймы Мобрейлем у Нейпперга), принялся насвистывать какую-то песенку. Затем, осмотревшись по сторонам и стараясь сориентироваться, он сказал себе:
— Сабельные удары должны быть оплачены отдельно — хозяин не говорил мне, что придется получать шрамы. Ну да я их поставлю ему в счет. А пока что надо как-нибудь выбраться отсюда. Черт возьми! Как-никак, а это происшествие здорово распалило мою жажду. Я готов был бы отдать из обещанных хозяином двадцати фунтов целый фунт за грог, за простой грог из виски! Даже больше — как ни трудно, а порой даже и опасно заработать гинею, а я все-таки отдал бы целую гинею за несчастную пинту эля. Но в этой проклятой стране не найдется ни одной таверны, а ночь беспросветнее моего кармана!
Самуил Баркер сделал несколько шагов наудачу, но потом снова остановился с легкой дрожью в коленях: ему показалось, будто послышался шум шагов.
«Неужели гусар снова возвращается? — подумал он. — Гусар с саблей — это вовсе не входит в наше условие! Самое лучшее будет удрать отсюда как можно скорее!»
И он снова попытался сориентироваться в ночном мраке. Он продвигался вперед, ощупывая древесные стволы.
— Ага, вот то дерево, где я спрятал свои пожитки, — сказал он, нащупав громадный вяз, у корней которого белел сверток.
Он торопливо снял стрелковый мундир и белые брюки и оделся в широкий дорожный плащ с капюшоном.
«Ну вот я неузнаваем теперь, надеюсь! — с чувством глубокого удовлетворения продолжал он. — И если бы было возможно разглядеть меня в этом мраке, то никто не признал бы во мне того императора, который только что позорно спасался от гусарской сабли. Ох уж эти мне сабельные удары! После них кажутся такими приятными те безобидные пинки, которыми награждал меня прежний хозяин, достойнейший австрийский джентльмен, мистер Нейпперг. Но теперь я снова превратился в Самуила Баркера, в добродушного Сама, веселого Сама, товарища Сама… С презрением заранее называю лжецом каждого, кто вздумал бы уверять, будто я имею или когда-либо имел хоть что-нибудь общее с субъектом, именуемым Наполеоном. Вот все, что остается от Наполеона, которым я был!»
С этими словами Сам презрительно ткнул ногой мундир, брюки и маленькую шляпу, с помощью которых сыграл предписанную ему Мобрейлем роль в сочиненной последним комедии с мрачной развязкой.
После этого Сам вздумал было спокойно удалиться, но вдруг остановился в раздумье.
— Хозяин настойчиво приказывал мне, — сказал он, — оставить в комнате барышни эту шляпу. Я не успел сделать это, так как сабля гусара помешала мне в этом. Что же делать?
Сообщник Мобрейля на мгновение задумался.
— К чему нужно было оставлять шляпу в комнате барышни? Не знаю, — сказал он себе, — без сомнения, это просто барская причуда… Кроме того, он приказал мне бросить в воду, которая должна Сыть здесь где-то неподалеку, мундир и белые брюки моей роли. Ну что же, черт возьми! Я возьму да и отправлю на дно все вместе! Черт с ней, со шляпой! Теперь весь вопрос в том, чтобы найти, где здесь вода.
Подобрав с земли одежду, дополнявшую его сходство с Наполеоном, Самуил Баркер отправился искать воду, медленно двигаясь под большими деревьями. После блужданий во все стороны он услыхал журчание ручейка, сбегавшего с плотины пруда. Ориентируясь по шуму воды, падавшей в сток, Самуил Баркер пошел вниз по течению ручейка и, взойдя на перекинутый через него мост, бросил в воду пакет, предварительно сунув в него камень, и затем ушел со спокойной совестью слуги, исправно выполнившего данное ему поручение и вполне заслужившего свое жалованье.
— Хозяин приказал мне направиться в Бри-Конт-Робер, куда я попаду, идя прямо по дороге; там в гостинице «Золотое солнце» я найду деньги и паспорт. Отлично! Но сначала надо выбраться из этого проклятого парка. Ага! Там я вижу стену, которая довольно низка, словно она нарочно сделана для того, чтобы через нее можно было перебраться. Теперь настал момент, когда я должен припомнить уроки гимнастики, данные мне достопочтенным мошенником Ньюгета, ветераном всех английских тюрем.
И все более и более довольный Самуил, не переставая насвистывать свою песенку, начал весело взбираться на стену.
Он уже ухватился рукой за выступ и собирался поставить левую ногу так, чтобы правой с одного взмаха можно было стать прямо на верхушку стены, когда на его плечо вдруг опустился тяжелый кулак. Самуил почувствовал, что его прямо-таки отдирают от стены, причем чей-то громкий голос крикнул:
— Черт возьми! Что тебе нужно здесь в этот час?
Самуил откатился метра на три от стены. Он вскочил на ноги и разразился громким английским ругательством.
— А, годдэм! — продолжал тот же голос. — Наверное, английский шпион? Ну-ка покажи свою морду, морской рак!
Самуил Баркер быстро оправился. Он питал непреодолимую антипатию к саблям, шпагам, пикам, штыкам, — словом, ко всякому колющему и режущему оружию. Но бой на природном оружии нисколько не пугал его. Он умел боксировать с лондонскими жуликами и отличался особым умением в благородном искусстве измочалить противнику физиономию, взяв его на захват шеи, то есть, иначе говоря, охватив левой рукой за шею и нагнув противнику голову, а правой — нанося быстрые и меткие удары по лицу.
Несмотря на темноту, он успел рассмотреть, что у его противника не было в руках сабли; кроме того, он заметил, что тот отличался очень высоким ростом, а это в боксе является большим недостатком. Таким образом ему совершенно нечего было бояться вступить в бой. Самуил сказал себе, что принять бой было вопросом его чести, хотя, в сущности, он никак не мог бы отказаться от него. Человек, который так грубо схватил его и оттащил от стены, перегородил дорогу и шел прямо на него, желая снова схватить его.
Самуил начал насвистывать песенку — он вновь обрел утерянный было апломб. Он решительно утвердился на несколько согнутых ногах, округлил локти, сжал кулаки, и в тот момент, когда неизвестный подошел к нему с явной целью взять за шиворот, его руки внезапно вытянулись, словно пружина, которую сразу отпустили, и кулаки градом ловких и метких ударов обрушились на грудь противника, покачнувшегося при этом.
Тот разразился проклятием.
— Чтобы тебя черт побрал! Ты здорово бьешь, милейший годдэм! Но подожди только, я научу тебя сейчас, что значит национальный французский бокс! Внимание! Береги морду! Ну-ка, отпарируй-ка вот это!
Говоря это, противник Баркера ловко перевернулся спиной и, вскинув ногой, изо всей силы шлепнул каблуком и подошвой сапога прямо в нос «годдэму».
Кровь так и брызнула, и Самуил Баркер рухнул, оглушенный, на землю.
— Вот что мы называем метким ударом, понял теперь? — продолжал гигант, который снова встал в оборонительную позицию. — Возможно, что я ударил немножко слишком сильно, но я предупреждал, чтобы ты берег морду, следовало защититься. А потом — ты-то ведь не щадил кулаков, и хорошо, что у меня грудь как здоровый сундук, а то бы несдобровать и мне! Да ну же, что с тобой… ты не поднимаешься? Уж не притворяешься ли ты? Но ты не движешься? Тысяча бомб! Так это серьезно? — Гигант подошел к Самуилу, который глухо стонал, корчась на земле, потряс его, но без всякой грубости, причем его голос даже смягчился, и продолжал: — Да что с тобой? Ну же, оправься!
— Пощады! Пощады! — сквозь стоны взмолился Самуил.
— Тебе совсем не к чему просить у меня пощады, можешь быть совершенно спокоен: ла Виолетт, тамбурмажор, гренадер гвардии в отставке, никогда не позволял себе бить лежачего врага, слышишь ли ты? Да ну же, годдэм, вставай! — И ла Виолетт — так как это был действительно сам управляющий замком Лефевра, из осторожности обходивший дозором парк, — снова склонился к англичанину, которому в благодарность за урок английского бокса он преподал такой блестящий пример французского, и заворчал: — Да ну же! Ну вот, ты не можешь встать! Ведь не переломал же я тебе лапы? Ну, что же, раз я так отделал тебя, попробую как-нибудь помочь тебе оправиться. Ты не бойся, это ничего! Удары по морде в счет не идут! Я их получил штук восемь или девять; при Эйлау мне попало копьем, в Ваграме меня хлопнуло осколком снаряда, а в Таррагоне влетел удар кинжала… и даже следов почти не осталось! Ну же, пошевелись, я тебя как-нибудь перетащу. Ты не бойся, мне приходилось таскать товарищей, которым бывало гораздо хуже, чем тебе! Ты только уцепись как можно крепче за шею!
С этими словами ла Виолетт обхватил бесчувственного Самуила Баркера и дотащил до своего помещения. Там швейцар и его жена, вызванные громкими криками ла Виолетта, принялись ухаживать за англичанином; они вымыли ему лицо, обильно залитое кровью благодаря сильному кровотечению из носа, и наложили компресс на распухшие щеки.
Ла Виолетт наблюдал за наложением перевязок. Он подробно осмотрел повреждение и с удовольствием констатировал, что оно не серьезно. Вся авария, которую потерпел Самуил Баркер, заключалась в распухшем носе и отекшем глазе.
— Ну, знаешь ли, не скоро узнает тебя та красавица, на свидание с которой ты, без сомнения, направлялся, — смеясь, сказал ла Виолетт, когда Самуил стал приходить в себя и попытался открыть глаза.
Самуил очень плохо говорил по-французски, но достаточно хорошо понимал этот язык. Придя в себя, успокоенный сердечным обхождением, он принялся раздумывать над тем, как объяснить свое пребывание в парке в такой поздний час, если ла Виолетт спросит его. Сейчас с ним обходятся как с больным, но раз он выздоровеет, то в их глазах будет уже пленником. Для того, чтобы выйти из этого дома, чтобы спокойно и беззаботно добраться до гостиницы «Золотое солнце» в Бри-Конт-Робер, где его ждали двадцать пять фунтов стерлингов, предназначенные для него, следовало дать правдоподобное объяснение ночной прогулке в парке Комбо. Фраза, сказанная в шутку ла Вио-леттом, запала ему в ум. Ведь объяснить все это любовным приключением было самым мирным, самым правдоподобным исходом. Раз люди поверят, что он спасается от преследований проснувшегося мужа, то он будет вне всяких подозрений и ему дадут возможность скрыться. Ведь французы охотно верят в романтические приключения и с большим снисхождением относятся к попавшим в беду любовникам!
Поэтому он попытался улыбнуться под повязками, вдоль и поперек покрывавшими его лицо, и залепетал, прикладывая палец к вздувшимся губам:
— Не говорить! Молчать! Муж! Там!
Ла Виолетт чистосердечно расхохотался.
— Ну, уж и говоришь ты, словно арап, прости Господи! Будь спокоен, милейший годдэм, я не выдам тебя! Так вот как, парень, ты явился в замок, чтобы наставлять честным французам рога? Так ты покорил сердце одной из горничных герцогини? Кто же эта твоя дама сердца? Толстая Огюстина или крошка Мелания?
В ответ Сам только участил свои предостерегающие жесты, повторяя:
— Не говорить! Молчать! Муж!
— Да спи себе, отдохни, набирайся сил! — добродушно успокаивал его ла Виолетт. — Я уже сказал тебе, что тебе нечего бояться. Оставь при себе свою тайну и постарайся вылечить поскорее нос, так как в таком виде тебе нечего рассчитывать на победы, милейший годдэм! Ты ранен, ты сложил оружие, значит, для меня ты теперь все равно что родной брат! Можешь оставаться здесь сколько тебе будет угодно. Пока твой нос будет напоминать спелую грушу, за тобой будут ухаживать как следует. Хоть про вас, англичан, и говорят, что вы не очень-то щадите нашего брата, попавшего к вам в лапы.
Самуил Баркер сделал жест полнейшего отчаяния, как бы желая показать, что он совершенно ни при чем в жестокостях своих соотечественников.
Ла Виолетт еще раз обнадежил его и, застегнув свой редингот, вышел, чтобы продолжать прерванный обход.
В то время как Самуил Баркер, обращенный в бегство взбешенным Анрио, искал спрятанный костюм, потом бросал в воду маскарадное одеяние и в конце концов попал в переделку с ла Виолеттом, нанесшим ему такой удар, от которого его лицо должно было надолго потерять сходство с Наполеоном, вот что происходило на перекрестке дороги в Кэ-ан-Бри и шоссе из Эмеранвиля в Комбо.
Какой-то человек с обнаженной головой, запыхавшийся, словно он пробежал громадное расстояние, в растрепанной одежде, сильно жестикулировавший и извергавший какие-то непонятные слова, прерываемые рыданиями, похожий на сумасшедшего, сбежавшего из дома умалишенных, остановился у столба, указывавшего расстояния и направление дорог. Там, казалось, была цель его беспорядочного ночного бега.
С бешенством расстегнув военный мундир, в который он был одет, он судорожно разорвал на груди рубашку, затем вытащил саблю, болтавшуюся в ножнах. После этого, взяв ее за клинок, он воткнул эфес в землю и, откинувшись телом назад, словно собираясь броситься с разбега, не выпуская из рук клинка, за который он придерживал саблю, он собрался всей тяжестью опуститься грудью на острие оружия… Вдруг сабля выпала из его рук. В то же время чья-то рука заставила отскочить человека, собравшегося таким образом покончить с собой.
— Кто вы такой, что позволяете себе хватать меня за руку? — в бешенстве спросил Анрио.
— Кто я? Друг! — ответил звучный голос.
— Вы этого ничем не доказываете. Кто бы вы ни были, ступайте своей дорогой. Не мешайте мне исполнить мое намерение!
— Полковник Анрио, не делайте этой глупости!
— Вы меня знаете?!! — воскликнул несчастный.
Это действительно был жених Алисы, который, увидев, как из комнаты его невесты выскочил человек, принятый им за императора, как безумный бросился бежать по полям.
— Да, я вас знаю и хочу помешать вам умереть.
— Зачем? По какому праву хотите вы помешать несчастному прекратить существование, отныне ставшее жалким и совершенно бесцельным? Вы не знаете, какое ужасное несчастье, какое отчаяние заставляет меня желать смерти!
— Может быть, мне более, чем вы думаете, известны причины, побуждающие вас сделать непоправимую глупость, — продолжал тот же голос. — Полковник Анрио, я ваш друг, но вы меня не знаете. Мое имя граф де Мобрейль. Я имею честь быть несколько знакомым с герцогиней Данцигской, которая и навела меня на ваш след. Мы с ней расстались не больше часа назад.
— В этом вопросе герцогиня не может быть судьей. Меня низко обманули. Жизнь стала для меня невыносимой. Час моего освобождения и забвения пробил — из простого человеколюбия не отдаляйте его! Благодарю вас за великодушное вмешательство, граф де Мобрейль, но вы ничем не можете помочь мне. Повторяю, идите своей дорогой и предоставьте мне освободиться от моих страданий!
— Но сперва выслушайте меня! Ведь вы всегда успеете покончить с собой, — убедительным тоном возразил Мобрейль. — Я также знаю, что значит измена, что значит горе; поверьте, люди никогда не раскаиваются, если отсрочили на несколько минут исполнение рокового решения. Если, выслушав меня, вы все-таки останетесь при своем намерении, я не буду больше останавливать вас, даю вам слово. Я тотчас же удалюсь; но надеюсь, что после того как вы меня выслушаете, мы будем продолжать наш путь вместе.
— Так говорите же! Только не отговаривайте меня! Вы также должны меня выслушать; тогда вы будете в состоянии судить, не будет ли для меня смерть благодеянием, единственным выходом из ужасного положения, в которое меня поставила непреодолимая судьба.
— Присядем вон на тот камень и побеседуем как старые друзья, даже как два брата, потому что я чувствую к вам огромную симпатию и хочу сперва спасти вам жизнь, а потом помочь вам отомстить за себя.
— Отомстить? — воскликнул Анрио совсем другим тоном, цепляясь за неожиданную надежду. — Да, вы правы, — уныло продолжал он, — месть велит жить. Она дает силы переносить оскорбления, заставляет смертельно раненного подняться, под влиянием минутного подъема энергии схватить пистолет и, зажимая рану, прицелиться, убить врага и пасть рядом с ним. Но для меня мщение невозможно, и… я должен умереть.
— Как знать? — с ударением произнес Мобрейль. — Садитесь же сюда и откройте мне свое сердце!
Анрио сел на камень и начал свою исповедь: для него было страшным ударом встретить Наполеона под окнами Алисы. Мобрейль высказал предположение, что, может быть, это был вовсе не император, что в темноте Анрио легко мог ошибиться; но молодой человек не допускал никаких сомнений: он совершенно ясно видел Наполеона. Зачем пришел он к открытому окну Алисы, если не затем, чтобы овладеть ею? Может быть, она уже давно была его любовницей! Недаром она закричала при неожиданном появлении Анрио, так радовавшегося отмене данного ему поручения. О, как он был слеп! И как она была коварна! Вероломство, порочность — под маской невинности! Трудно было ему поверить в измену, но ведь он видел собственными глазами!
Сначала он пришел в ярость и, обнажив саблю, бросился на нежданного соперника; он не думал, что перед ним император: он видел только человека, укравшего у него его Алису, разбившего его счастье. Он нанес удар, по-видимому, неудачный! Сабля только задела платье, его соперник, кажется, бежал. Все представления перемешались в его мозгу; он помнил только, что не убил. В смятении, не отдавая себе отчета, он бросился бежать по полям, пока не достиг перекрестка и этого камня, которые почему-то наметил себе целью.
Среди хаоса мыслей, вихрем проносившихся в его голове, ярко выделялась только одна — умереть!
По временам он останавливался, стараясь спокойно обдумать то, что произошло; но все казалось так ясно, его несчастье так несомненно! Алиса обманула его! Значит, она не любила его? Значит, и их детская дружба, и волнение Алисы при их встрече в Берлине, и счастливое время после ее возвращения в семью Лефевр, и ее ласковые слова, и улыбки, и их общие мечты о будущем — все, все было лишь иллюзии, дым, ложь, обман! Она любила другого, и кто же был этот другой?! Тот, кто не мог иметь соперников, — император! Значит, Алиса увлеклась славой и могуществом властелина, покорявшего все сердца? Это невозможно! Сколько женщин до нее так же не могли устоять против искушения и сколько их будет еще!
Императором руководило только мимолетное желание, каприз: сорвав мимоходом росший на его пути цветок, он бросит его, даже не дожидаясь, чтобы он увял. Положим, бывали примеры, что женщина не покорялась Наполеону: достаточно было, чтобы в ее сердце жила любовь, делавшая ее сильной, непобедимой.
— Нет Алиса не любила меня! — с гневом и с болью в сердце повторял Анрио. — Она не должна была уступить!
И он снова продолжал путь, строя удивительные планы, придумывая неосуществимые выходы из сложившегося положения и припоминая мельчайшие подробности последнего вечера. Алиса не сводила взора с императора; это было понятно: он так велик, так прекрасен, так приковывает к себе общее внимание! Но и сам император также почти все время смотрел на Алису. Тогда Анрио был далек от ревнивых подозрений, теперь же он отлично понимал, что Наполеон не мог бы так смотреть на Алису, если бы между ними не было тайного согласия. Теперь ему стали понятны насмешливые взгляды некоторых гостей и усиленные восхваления его красавицы невесты. «Император, конечно, пригласит ее на приемы в Тюильри, — говорили эти дерзкие льстецы, — там ее красота произведет сенсацию». И Анрио еще более страдал от мысли, что другие предвидели его несчастье и теперь, может быть, уже рассказывали о нем.
Так вот почему император неожиданно дал ему поручение — явно ненужное, так как его вскоре отменили: просто надо было удалить его, чтобы свидание могло состояться; только он слишком рано вернулся! Анрио готов был проклинать свою поспешность, благодаря которой император, предупрежденный криком Алисы, успел покинуть комнату. У Анрио сердце разрывалось на части, когда воображение рисовало ему все подробности свидания. Если бы он вернулся позже, дав своему могущественному сопернику время удалиться, он и теперь ничего не подозревал бы, он мог бы еще быть счастлив.
Нет! Лучше было все узнать теперь же: рано или поздно истина открылась бы. Захваченная на месте преступления, Алиса не могла отрицать свою вину; да она и не пыталась. Конечно, его несчастье безгранично, но для него было бы еще ужаснее, если бы он позднее узнал, что женился на любовнице Наполеона! Может быть, его даже заподозрили бы в низком расчете! Нет, судьба оказала ему услугу, дав возможность вовремя оказаться у окна Алисы. Эта прихоть влюбленного не имела даже никакого основания, так как он был уверен, что Алиса уже спит.
Да, хорошо, что он вернулся: теперь он знал, он сам видел, у него были доказательства! Сомнений не могло быть. И ничего нельзя было исправить; Алиса потеряна для него, потеряна навсегда!
И в глубине сердца Анрио все настойчивее звучало: «Надо умереть!»
Мобрейль молча, с циничной усмешкой слушал признания, прерываемые рыданиями и жалобами. Его интрига удалась. Первый приступ возбуждения миновал; рассказав о своих страданиях, Анрио почувствовал облегчение, и не было причины опасаться нового порыва. Теперь несчастный был во власти Мобрейля, который мог по своему желанию направить его безграничное отчаяние. Обманутая любовь, раздраженное самолюбие, оскорбленное доверие — все это делало Анрио похожим на человека, который потерпел кораблекрушение и которому в темноте неожиданно бросили канат. Этот-то канат и собирался бросить ему Мобрейль. Но схватится ли за него утопающий? Не предпочтет ли он утонуть, презирая дальнейшую борьбу и не имея сил продолжать свое жалкое существование?
Осторожно, но очень определенно нарисовал Мобрейль картину будущего, ожидающего отныне Анрио как человека, посягнувшего на жизнь императора и этим поставившего себя вне закона. Наполеон не сможет простить это офицеру своей армии. Ввиду обстоятельств, сопровождающих покушение, дело не предадут огласке, но в одну прекрасную ночь Анрио будет схвачен и под надежной охраной водворен в какую-нибудь мрачную крепость на острове Св. Маргариты или на Эксе. И никто никогда не услышит о нем; он будет вычеркнут из числа живых. Его жалобы заглушат толстые стены; всякая попытка к бегству кончится его смертью. Неужели он доставит Наполеону удовольствие опозорить невесту своего офицера, обмануть доверие одного из своих вернейших слуг и в конце концов жестоко наказать этого им же самим оскорбленного честного солдата, которому он разбил жизнь? Да разве не унизительно добровольно исчезнуть таким образом, предаться отчаянию и даже не отомстить человеку, покрывшему его голову позором?
— Человек сильный, мужественный никогда не поступил бы так, как вы хотите поступить, полковник Анрио, — тоном сурового порицания сказал в заключение соблазнитель.
— Что же вы сделали бы на моем месте? — тихо спросил Анрио.
— Я уже сказал вам: я отомстил бы.
— Мстить? Да разве я могу? Наполеону мстить невозможно!
— Возможно, если сильно захотеть.
— Предположим, что я захотел бы…
— Надо хотеть энергично!!
— Я буду энергичен! — твердо сказал Анрио.
Человеческая душа подобна подвижной призме: все фазы страсти поочередно отражаются в ней, как краски солнечного спектра. Кроваво-красная месть заменила черное пятно самоубийства. Мало-помалу Анрио начал чувствовать, что возвращается к жизни: у него снова явилась цель, он не умрет в придорожном рву. Когда впереди ждет месть, существование, хотя бы и безрадостное, все-таки выносимо. Слова Мобрейля осветили Анрио его судьбу с новой стороны. Да, Наполеон обманул его, забывая его заслуги, не стесняясь грубо загрязнить чистую душу Алисы. Злоупотребив своей властью, хитростью добившись цели, он соблазнил ту, которую Анрио любил, которая готовилась быть его женой. Бедная девочка, вероятно, не так виновата, как казалось! Кто знает, сколько обещаний, лжи, лести, даже угроз было пущено в ход, прежде чем она уступила?
И мало-помалу гнев против Алисы уступил у Анрио место ненависти против Наполеона.
Мобрейль наблюдал за этой переменой чувств, которую он предвидел, на которую рассчитывал подобно механику, уверенному в правильности своих рычагов и спокойно следящему за движениями машины. Он больше не сомневался в успехе: душа Анрио уже вступила на предназначенный ей путь: молодой человек был в его руках, безропотный, почти уже покорившийся и готовый беспрекословно слушаться его предначертаний.
«Пусть только в его руке окажется кинжал, пистолет, флакон с ядом; пусть этому орудию чужой воли предоставят идти по намеченному пути, — и пистолет, яд и кинжал достигнут цели, и, может быть, если все будет благоприятствовать, — с тобой будет наконец покончено, Наполеон! — злобно усмехаясь, думал Мобрейль. — Самуил Баркер, как видно, хорошо выполнил свою роль, и Нейппергу не придется раскаиваться, что он одолжил мне этого полезного негодяя».
И с твердой уверенностью в скорой победе он ухватился за слова, сорвавшиеся с дрожащих губ Анрио.
— Энергии недостаточно, — медленно сказал он. — Кроме сильной души тому, кто собирается идти мстить, необходима еще твердая воля, которая не сломится в последний, решительный момент, подобно плохой стали. Наконец необходимо иметь определенный план, организацию, систему. Что вы собираетесь делать, мой юный друг?
— Я буду слушаться вас! Советуйте! Я сделаю все, что вы скажете. Я хочу отомстить Наполеону!
— Вполне одобряю вас. Но с моей стороны было бы нечестно поощрять вас, не указав на ожидающие вас трудности, которые под влиянием вполне законного негодования вы не предвидите. Я хладнокровнее вас, притом у меня нет причин так спешить, и я угадываю предстоящие вам опасности: я вижу стены, которые при первых же шагах преградят вам дорогу и, может быть, скроют от ваших глаз цель.
— Кто, как я, ненавидит и жаждет мщения, для того не существует неодолимых препятствий; никакая опасность не помешает мне достичь намеченной цели. Граф! Если бы не вы, если бы не та надежда, которую вы зажгли в моем сердце как путеводный огонек и которая поможет мне спастись от полного крушения, я теперь лежал бы там, на дороге, с пронзенным сердцем. Кто решился заплатить жизнью за жизнь, тот уже держит в руках своего врага: успех обеспечен человеку, собирающемуся нанести удар, если он не оглядывается, а смотрит прямо вперед; если он пренебрег бегством, возможностью спастись, надеждами, заранее решив за жизнь взять жизнь.
— Наполеона хорошо охраняют; вам нелегко будет добраться до него. Ваше имя станет известно полиции Ровиго, ваши приметы будут сообщены всем офицерам, жандармам, всем агентам империи, и борьба один на один, которой вы так желаете, сделается для вас невозможной. Верьте мне, мой молодой друг: тираны, подобные Наполеону, нападают не с фронта и не днем, а с тыла и в темноте. Откажитесь от благородного намерения пожертвовать своей жизнью и не стремитесь открыто напасть на врага; лучше избегать этого, выжидая случая!
— Не могу ждать! Вся кровь во мне кипит, и горячая ненависть жаждет удовлетворения: Что надо делать? Есть у вас план, как поразить этого человека — все равно, с фронта или с тыла? На меня он напал в темноте и похитил мою Алису не с поднятым забралом. Он, как вор, подкрался ночью, и я попал в его подлую западню. Говорите же, граф! Я в вашей власти, я ваш!
— Ну, так знайте же, что есть уже сотни людей, подобно вам, стремящихся уничтожить Наполеона. Наша ненависть не имеет такого пылкого характера как ваша, но она глубока и упорна. Между нами есть старые республиканцы, якобинцы, верные своим идеалам; есть и люди, которых обошли баронским титулом, местом в сенате или деньгами; есть и философы, мечтающие о такой же федерации государств, какая существует в Америке, и убежденные роялисты, как ваш покорный слуга; не стану скрывать от вас причину, заставившую меня ненавидеть Наполеона и желать конца его гибельной диктатуры. Я хочу возвести его величество короля французского на престол его предков. В настоящую минуту только трое из нас еще лелеют эту мечту и верят в ее скорое осуществление: я, де Витроль и Нейпперг.
— Я не занимаюсь политикой, — с живостью возразил Анрио. — До сих пор я верно служил Наполеону и на поле битвы мне некогда было исследовать, законна или незаконна его власть, употребляет ли он ее на пользу или во вред стране. Не говорите мне об идеях врагов Наполеона и об их политических планах; у меня со всем этим нет ничего общего. Перед вами человек, который хочет отомстить другому человеку, вот и все!
— Я так и понял вас, — ответил Мобрейль. — О наших тайных обществах, не раз уже доказавших сбирам Наполеона свою силу и смелость, я сообщил лишь для того, чтобы указать вам товарищей и друзей, которые в случае нужды смогут дать вам убежище и добрый совет и помогут исполнить ваше смелое намерение — совершенно самостоятельно, если вы этого захотите. И только!
— Если так, я принимаю эту поддержку.
— Имея дело с филадельфами, так называют себя враги Наполеона, вы сохраните полную свободу. Повторяю, они принимают в свое общество людей разных убеждений, и всех их связывает одно общее чувство — ненависть к Наполеону, одна общая цель — уничтожение тирана.
— Где я могу встретиться с ними?
— Смерть, тюрьма и изгнание порядком опустошили их ряды. Одним из их руководителей был полковник Удэ.
— Я знал его; это был красивый, живой, блестящий кавалерист. Говорили, что он всегда был занят исключительно женщинами.
— Это была его манера скрывать свою деятельность. Он убит в засаде под Ваграмом. После него вождем филадельфов сделался генерал Мале; он — центр всего того, что ведет борьбу с Наполеоном, очаг ненависти и мести, предмет которых — трон в Тюильри.
— Я пойду к генералу Мале, — решительно сказал Анрио. — Где я могу увидеть его?
— Вам надо отправиться в Сент-Антуанское предместье, в лечебницу Дюбюиссона; она находится около самой Тронной заставы.
— Хорошо, но как проникнуть в нее?
— Доктор Дюбюиссон не тюремщик; генерал Мале, хотя и узник, пользуется некоторыми льготами: ему разрешено принимать визиты, но Ровиго сторожит у дверей. Старайтесь не привлечь внимания агентов, следящих за всеми, посещающими генерала.
— Но как отнесется ко мне сам генерал? Он уже организовывал заговоры, был жертвой измены, попал в заключение. Как может он довериться мне?
— Войдя к нему, вы скажете: «Я приехал из Рима и собираюсь в Спарту».
— С этого пароля начнется мое мщение, не правда ли? Я не забуду его. Но вы сами, граф, разве не принадлежите к филадельфам?
— Душой я сочувствую им, но заговорщики отбили у меня охоту от заговоров: в этих обществах говорят ужасно много, а делают мало, и болтовня прекращается лишь тогда, когда отголоски ее успеют достичь чьих-нибудь нескромных ушей. Тут на сцену является полиция и отправляет всех в тюрьму. Не спорю, филадельфы имеют свои заслуги, но генерал Мале склонен к чересчур диким умозаключениям: на какое-нибудь военное событие он смотрит как на сигнал к готовящемуся им восстанию и возлагает надежды на австрийские или русские ядра, чтобы покончить с императором. А между тем есть средства лучше и вернее: для свержения тирана один человек гораздо пригоднее, чем пушка. Пока Мале надеялся только на артиллерию, я не предсказывал ему удачи; теперь же я почти уверен в его успехе.
— Почему же, граф?
— Потому что он оказался счастливее Диогена и — частью благодаря мне — без фонаря нашел подходящего человека. И этот человек вы!
Анрио с жаром пожал ему руку.
— Вы можете рассчитывать на меня! Во мне филадельфы найдут необходимое им оружие! Граф, что могу я сделать теперь? Сейчас? Завтра? Когда начать действовать? Ведите меня, как ребенка!
— Так идемте! Ночь на исходе, а с рассветом дороги делаются опасны для заговорщиков. Мы пойдем вместе до соседнего города, где вы добудете себе штатское платье, и мы расстанемся.
— И я отправлюсь в лечебницу доктора Дюбюиссона. Но когда мы опять увидимся?
— Когда будет нужно… В день вашего мщения!
— Он скоро наступит. Ах, граф, как я несчастен! — И Анрио, совершенно ослабевший после нервного возбуждения, не имея уже сил бороться с душевным волнением, заплакал молчаливыми слезами, идя по дороге вслед за своим искусителем.
X
И Россия, и Франция деятельно готовились к войне, скрывая друг от друга эти приготовления и объясняя их обычными пополнениями рядов армии, якобы поредевших от естественной убыли. Но уже в самом характере этих приготовлений, в настроении обоих монархов, в национальном самосознании и в духе армий — во всем и везде сказывалась такая громадная разница, что наблюдавшие со стороны за прологом великой исторической трагедии двенадцатого года недруги Наполеона с радостью улавливали в этой разнице несомненные признаки близкого падения великого воина-императора.
Звезда Наполеона закатывалась — он с быстротой метеора несся к пропасти, увлекая за собой и Францию. Захваченный честолюбивой мечтой раздавить северного колосса — Россию, охваченный страстным желанием свести личные счеты с императором Александром, «осмелившимся» даже не ответить на ясно выраженное желание Наполеона сочетаться браком с великой княжной Александрой Павловной, Бонапарт, казалось, потерял обычную дальновидность, расчетливость, прозорливость, способность ориентироваться в создавшемся положении, забыл о своем долге государя и весь ушел в осуществление безумного предприятия. Ничто его не останавливало, ничто не пугало. Но что могло его пугать? Вся Западная Европа склонилась перед ним, государи и правители спешили наперебой засвидетельствовать ему свою покорность и уважение, ему достаточно было только приказать, чтобы ненавидящие его Пруссия и Австрия выставили пятидесятитысячную армию против той самой России, на которую была обращена их последняя робкая надежда. Да и разве вся Франция не с прежним обожанием взирала на него, разве армия не готова была кинуться хоть в ад по первому его приказанию, разве не ловили его взгляд ближайшие сотрудники и помощники?
Но все это только казалось, все это было одной только обманчивой, эфемерной внешностью! Уже колебалась та гора, которая вознесла его на необычайную высоту, и только он один, опьяневший от славы, обезумевший от величия, не чувствовал и не сознавал этого. До сих пор, пока он имел дело с армиями, он оставался победителем. Но впервые в Испании ему пришлось натолкнуться на народ, восставший и решивший лучше умереть, чем сознательно подчиниться самодурству французского льва. И привыкшие побеждать герои — обученная, дисциплинированная армия — должны были терпеть поражения от нестройных, плохо вооруженных партизанских банд — гверильясов. Чего же в таком случае, должен был ждать Наполеон от далекой, таинственной, полной неисчерпаемой мощи России?
Иностранные государи заискивали перед ним. Но, выставляя потребованные армии, и прусский король, и австрийский император поспешили заверить письменно русского царя, что делают это только ввиду необходимости, что они постараются по мере возможности не наносить вреда России, и при первом же удобном случае обратить оружие против Наполеона.
Франция рассыпалась в словах обожания, армия повиновалась первому взгляду. Но в этом уже не было убеждения, это делали теперь только по инерции, по привычке, выработавшейся в течение нескольких лет. Общественное мнение уже начинало пассивно противиться замыслам императора; так, для того чтобы произвести ополченский набор, Наполеону пришлось пойти на сознательный обман: несмотря на торжественное обещание императора и сенатский указ, которыми ополчение предназначалось для внутренней службы и никоим образом не должно было быть выведено за пределы Франции, первые же сто тысяч ополченцев были немедленно двинуты за Рейн. А ведь армия и без того начинала роптать, солдаты и без того жаждали отдыха и покоя.
И на ближайших своих сотрудников Наполеон тоже уже не мог рассчитывать. Он вознес их на высшие ступени власти, и им больше нечего было ждать от него. Им хотелось в покое наслаждаться достигнутым, а он посылал их воевать! Уже один пример Бернадотта должен был бы заставить императора задуматься: будучи его креатурой, обязанный всем императору, Бернадотт, добившись избрания его наследником и регентом шведского престола, недвусмысленно перешел на сторону России и интриговал против Франции и Наполеона.
Между тем император Александр мог рассчитывать и на всеевропейские симпатии, и на воодушевление народа, и на преданность армии. Две войны — со Швецией и с Турцией кончились для России торжеством русского оружия, обеспечив ей мир с севера и юга. Войско обожало царя, народ боготворил его. Для французов император Александр был просто государем той страны, с которой приходится воевать, для русских Наполеон был антихристом, злым супостатом, губительным врагом. Французы шли воевать — русские готовились бороться против «нехристей» во имя Божие. Для французов война была веселым праздником, для русских — крестом, который надлежало приять в посте и молитве ради веры и родины.
И эта разница в самосознании наций и армий отчетливо проявлялась в поведении их государей. Наполеон весь был преисполнен наивной уверенности. «Я иду на Москву, — говорил Наполеон архиепископу Прадту, — и в одно-два сражения все кончу. Я заставлю Александра на коленях просить у меня мира». Русский же царь серьезно и вдумчиво смотрел на поставленную ему задачу. «Прошу вас, — писал он Барклаю де Толли, — не робейте перед затруднениями, полагайтесь на Провидение Божие и Его правосудие. Не унывайте, но укрепите свою душу великой целью, к которой мы стремимся: избавить человечество от ига, под коим оно стонет, и освободить Европу от цепей».
В последних словах проявился весь император Александр. Всегда склонный к мистицизму, полный теплой веры, убежденный в святости своего предназначения, он смотрел на войну с Наполеоном как на дело совести. В Наполеоне он видел узурпатора, «выскочившего в люди солдата», насильника над миропомазанниками; Наполеон был исчадием и детищем революции, олицетворением демократического самодержавия, осмелившегося предписать свою волю самодержавию божественному, наследственному. И Александр видел себя мстителем и восстановителем попранного божественного права.
Несмотря на это, Александр до последней возможности держался хотя и твердо, но вполне лояльно. Уверенный в себе и в России, он тем не менее не хотел вызывать Францию на враждебные действия. Видя ежеминутное попрание Наполеоном прежних обещаний, он через Чернышева и Куракина делал ему представления, протестовал, как того требовало его достоинство, но во всем этом был далек от вызова. Наполеон же прямо провоцировал войну, с необъяснимым безумием стремясь всеми силами сделать иной исход невозможным. Но, с другой стороны, он старался представить все дело так, словно на военные действия его вызывал русский император. Наполеон постоянно твердил, что действия царя отличаются недружелюбием, что сам он, дескать, очень не хочет воевать, «так как не может ничего выиграть в войне с Россией», но если Александр толкнет его на враждебные действия, то будет «вести войну как рыцарь, без ненависти и озлобления, и предложит русскому императору позавтракать с ним на передовой цепи».
Между прочим, до какой степени дошло ослепление Наполеона, можно видеть хотя бы из того, что он воображал, будто Россия совершенно неподготовлена к войне и ее императору ничего не известно о диспозициях и движениях французских войск. Позднее эту басню повторяли даже серьезные историки. Между тем из донесений Чернышева видно, что император Александр был вполне в курсе замыслов Наполеона. «Наполеон только ищет возможность выиграть время — его тревожат дела в Испании», — доносил Чернышев еще в начале 1811 года. «Минута великой борьбы приближается», «Война решена в уме Наполеона, он считает ее необходимой для достижения власти», — гласили его донесения. Кроме того, приказ императора Александра по армии от 12 июня 1812 года начинался словами: «Все силы Наполеона сосредоточены между Ковно и Меречем, и сего числа ожидается переправа неприятеля через Неман».
Если сопоставить этот приказ с диспозицией русских войск перед вторжением Наполеона в Россию, диспозицией, из которой ясно, насколько в России прекрасно представляли себе маршрут французской армии, то нелепость басни о «неподготовленности» России делается ясной сама собой. Но как же могла сложиться эта басня? Она сложилась из-за того, что Франция, увлекаемая несчастной звездой Наполеона, шумела, бурлила и хвасталась, тогда как Россия молчаливо и в тишине готовилась к грозному нашествию неприятеля.
Последние минуты жизни обоих государей перед началом открытых военных действий наглядно иллюстрируют их отношение к предстоящему великому делу. Наполеон жил в это время в Дрездене, куда на поклон ему съехались другие правители и государи. Представители Рейнского союза поспешили явиться к нему для официального представления своему «благодетелю и покровителю», австрийский император и прусский король, только что подписавшие вынужденный и ненавистный союзный договор, прибыли туда же с семействами. Наполеон жил в предоставленном ему дворце, где каждый день задавались блестящие пиры и празднества, где вино лилось наперебой с громкими, хвастливыми фразами. Продолжая надменным тоном вести переговоры с Россией, Наполеон втихомолку уже двигал свою армию к ее пределам. Французские войска подступали к Висле; Даву стоял в Эльбинге и Мариенбурге, Удино — в Мариенвердере, Ней и гвардия — в Торне, вице-король — в Полоцке, Вандам, Ренье, Сен-Сир, Понятовский и четыре резервных кавалерийских корпуса — между Варшавой и Модлином, Макдональд — близ Кенигсберга, австрийцы — близ Лемберга. В общей сложности для вторжения в Россию первоначально было поставлено 500 000 человек под ружье. Осужденные на неподвижность, раздраженные этим мешканием в чужих краях, вдали от родины, французские солдаты волновались и рвались в бой, а пока в ожидании сражений бражничали. Во французской армии никогда не было недостатка в вине, так как Наполеон считал его мощным помощником полководца. Он неоднократно говаривал, что вино и водка — это тот же порох, который бросает солдат на неприятеля. И опьяняемые хвастливыми речами, оглушаемые потоками вина, полные непонятного безрассудства, Наполеон и армия нетерпеливо ждали момента, когда им нужно будет понестись с головокружительной быстротой навстречу ожидавшей их пропасти.
Хотя Наполеон и обольщался надеждой, что Россия не считается с серьезной возможностью войны, но на самом деле в Петербурге с начала 1812 года войну считали неизбежной, а в марте этого года император Александр написал шведскому наследному принцу (Бернадотту), что война не только неизбежна, но и должна разразиться с минуты на минуту. Ввиду этого 9 апреля государь отправился к армии в Вильну.
14 (26) апреля Вильна огласилась колокольным звоном. Улицы были переполнены народом, из всех нарядно разукрашенных флагами домов выглядывали головы любопытных. Но вот забухали пушки и послышалась частая сухая дробь барабанов. Уличные толпы пришли в движение — все заволновалось, засуетилось, принялось махать шапками и платками; это древняя столица Литвы встречала своего государя, императора всея России Александра Первого.
Государь ехал в коляске с обер-гофмаршалом графом Толстым. Его свиту, кроме адъютантов, составляли: принц Георгий Ольденбургский, канцлер граф Румянцев, государственный секретарь Шишков, статс-секретарь Нессельроде, министр полиции Балашов, генералы: Беннигсен, граф Аракчеев, из иностранцев: шведский агент граф Армфельд, находившийся в постоянном общении с французскими заговорщиками и роялистами и личный друг великого интригана Нейпперга; затем барон Штейн и генерал-майор Пфуль, считавшийся тогда великим тактиком и стратегом. Около коляски императора ехал верхом встретивший его военный министр и главнокомандующий первой западной армией Михаил Богданович Барклай де Толли, прозванный не любившими его солдатами «Болтай, да и только». Несмотря на то, что ему перевалило уже за пятьдесят лет, Барклай молодцевато держался в седле, нагибаясь в сторону государя и посматривая на него с выжиданием своими холодными, умными глазами: государь начал было говорить ему что-то, но вдруг остановился и задумался. Вот в ожидании продолжения государевых слов военный министр и наклонялся с седла, чтобы — Боже упаси! — не проронить слова, буде государю угодно будет вновь заговорить.
Но государь, казалось, совсем забыл о начатой фразе. Откинувшись с усталой, мягкой грацией на спинку экипажа, он задумчиво смотрел на оживленные, радостные толпы народа. Вдруг какая-то тень мелькнула в его мечтательных, добрых глазах, и на высоком, строгом, благородных линий лбу залегла резкая морщина, так не вязавшаяся с его тридцатью четырьмя годами.
— Радуются! — с грустной улыбкой сказал он Толстому, легким движением головы показывая на народ. — А приведет Бог, чтобы нам пришлось отступить отсюда, так они и Бонапарту не хуже встречу устроят. Что и говорить — верно-под-данны-е! — протянул государь.
У Толстого от негодования даже седые усы затопорщились.
— Хотя вы, ваше величество, насчет искренности верноподданнических чувств местного населения и бесконечно правы быть изволите, но только не может того быть, чтобы наше преславное воинство оному корсиканскому злодею не отбило охоты в наши пределы пожаловать. Небось не обрадуется, как наши молодцы ему трепку зададут! — сердито проговорил Толстой.
Государь, улыбаясь, обернулся к Барклаю и посмотрел на него. Тот еле заметно повел плечом в ответ.
— Ну что, Михаил Богданович, — сказал ему госу-дарь, — как ты думаешь, зададут ему трепку наши молодцы? — В это время коляска повернула в боковую улицу, и перед ними показался величественный Николаевский собор, на паперти которого уже стоял соборный причт во главе с архиереем, готовые к встрече императора. Улыбка сбежала с лица императора Александра и какой-то теплый мистический огонек сверкнул в глазах. — Вот кого надлежит нам вопрошать об этом, только Он один и может дать нам ответ! — как бы раскаиваясь, проговорил государь. — Так помолимся же Ему, да благословит Он труды и начинания наши! — И государь снова погрузился в прежнее тревожное раздумье.
Отслушав молебен, государь отправился в замок, на котором немедленно же взвился императорский штандарт. Приняв рапорт коменданта и депутацию именитых горожан, государь, позавтракав на скорую руку и даже не отдыхая с пятидневной дороги, немедленно принялся за дела. Он категорически отказался от всяких торжественных обедов и балов, с присущей ему простотой заявив, что не время помышлять об удовольствиях, когда Россия поставлена лицом к лицу с важным делом.
Выслушав доклад Барклая де Толли о положении пел в армии, государь приказал созвать первое военное совещание, чтобы рассмотреть диспозиции, составленные в петербургском главном штабе. Но ввиду того, что в этих диспозициях оказался ряд погрешностей против истины, так как в иных не все оказалось согласованным с топографией местности и действительными силами, выдвинутыми к Неману, то государь решил со следующего же дня лично начать осмотр расположения войск, проверить их состояние и затем уже решить дальнейшее.
Весь апрель и часть мая государь посвятил детальному осмотру первой армии. Он тщательно инспектировал все дивизии по очереди, производил им смотры и учения, изучал окружающие условия местности. Состоянием армии государь остался очень доволен, что видно из следующих строк его письма к фельдмаршалу графу Салтыкову:
«Армия в самом лучшем духе. Артиллерия, которую я успел осмотреть, в наипрекраснейшем состоянии. Возлагая все упование мое на Всевышнего, спокойно ожидаю дальнейших событий».
А эти события были уже не за горами! В мае месяце в Вильну прибыл адъютант Наполеона граф Нарбонн. Предложения, которые привез Нарбонн, как будто были направлены к миру, и впоследствии Наполеон говорил, что император Александр сам вызывал войну, так как, дескать, он не отнесся к этим предложениям с той внимательностью, которую должно было диктовать истинное миролюбие. А между тем одновременно с этим он приказал своей армии перейти через Одер и приблизиться к Висле!
Переговоры с Нарбонном не привели ни к чему. Император Александр твердо стоял на своем требовании, чтобы Наполеон эвакуировал войска из Пруссии и Померании, что должен был сделать еще давно, согласно условиям Тильзитского мира. Поведение Нар-бонна достаточно ясно доказывало, что вся цель его приезда была разузнать, что происходит в Вильне, каков дух в русских армиях и как смотрит государь на положение вещей. Император не показывал вида, что догадывается об этом, и два раза удостаивал Нарбонна продолжительными аудиенциями, но после отъезда чрезвычайного посла еще лихорадочнее принялся за работу по усилению состава и передвижениям армий, предназначенных к военным действиям у западной границы. Вскоре пришло покаянное письмо от австрийского императора, который, объявляя о заключенном им с Наполеоном союзе, рассыпался в извинениях и уверениях, что это произошло в силу печальной необходимости. Прочитав это письмо, император Александр ничего не сказал; только мрачная складка еще глубже залегла на его лбу.
Последствием всего была быстрая переработка диспозиции армий. В окончательном своем виде армии были расположены следующим образом:
Первая армия, состоявшая из 6 корпусов и 3 кавалерийских резервных, под командованием главнокомандующего Барклая де Толли прикрывала дорогу на Петербург и была растянута от Кейдан (Ковенская губерния) до Свенцян. Вторая армия, состоявшая из трех корпусов, под командованием князя Багратиона (про которого досужие языки говорили, что он именно «Багратион», но уж никак не «Бог рати он»), была сосредоточена у Волковиска и прикрывала дорогу на Смоленск и Москву. Третья армия, возглавляемая Тормасовым, стояла у Луцка; отдельный казачий корпус под командой атамана Платова стоял в Гродно.
Кроме того, государь вырабатывал совместно со своим близким другом, графом Аракчеевым, ряд военно-административных мер. Так, например, гражданское управление губерний, близких к предполагаемому театру военных действий (Курляндской, Виленской, Минской и т. п.), было подчинено военным, и весь край был разделен на военные округа. Кроме того, шли деятельные работы по укреплению Киева, Риги, Борисова и заканчивались укрепления заложенных в 1810 году Бобруйска и Динабурга. В этих заботах прошли май и начало июня. 10 июня государь написал графу Салтыкову:
«Ежечасно ожидаем быть атакованы. С полной надеждой на Всевышнего и на храбрость российских войск готовимся отразить неприятеля».
Но, как это ни покажется странным, твердого, вполне определенного плана защиты у государя все еще не было. Будучи, с одной стороны, ежеминутно готовым к решительным действиям неприятеля, он, с другой стороны, невольно представлял себе это чем-то далеким, неверным. На заседаниях военного совета много спорили, много обсуждали, но, расплываясь в отдельных стратегических деталях, участники совета как-то не задумывались над общим планом. Да и зачастую в этих обсуждениях первое место отводилось сухой теории, причем за исходную точку брали не действительное положение вещей, а какой-нибудь придуманный факт. Так, например, однажды принц Ольденбургский жестоко сцепился с генерал-майором Пфулем по вопросу, идти ли после отражения Наполеона фланговым маршем на Варшаву, или же разумнее будет обходное движение с тыла. Барклай, обычно молчавший на этих советах, не выдержал и обратился к спорящим с холодным вопросом, почему они ни разу не заикнулись о том, каким маршем и куда идти, если отразить Наполеона не удастся. Когда же, несколько растерявшись, Пфуль ответил ему, что слишком верит в непобедимость русской армии и военный гений ее державного вождя, чтобы разрешать тактические задачи отступления, Барклай холодно буркнул:
— Жалко! А по нынешним обстоятельствам это было бы, пожалуй, разумнее всего!
Император удивленно взглянул на Барклая; он уже давно чувствовал, что тот таит в душе какой-то стройный и ясный план, но в этих словах государю послышались нотки трусости, и в его душе мелькнула мысль: подходящий ли Барклай человек, чтобы быть главнокомандующим самой ответственной армии, если уже заранее он склоняется к мысли об отступлении? Взор государя требовал ответа, пояснения сказанных слов, но Барклай хмуро потупился и принялся чиркать что-то на клочке бумаги.
Отпустив членов совета, государь, несмотря на позднее время, задержал Барклая.
— Михаил Богданович, — обратился он к нему, — сегодня ты сказал такую фразу, которая в устах всякого другого человека показалась бы мне малодушием. Но я душой чувствую, что ты что-то надумал. Насколько я понимаю, ты не хотел высказываться перед всеми этими… (балаболками, — хотел сказать государь, но поправился) господами теоретиками. В чем же дело и как, по-твоему, величие и достоинство России могут совместиться с позорным отступлением?
— Ваше величество, — ответил Барклай, — отступление только тогда может быть позорным, когда оно является следствием трусости или малодушия. Но в воинском деле надлежит считаться только с конечным результатом. И если стратег видит, что осторожное отступление ведет к победе, а отважное наступление — к поражению, то…
Государь взволнованно прошелся несколько раз по комнате. Он сознавал, что Барклай прав и что до сих пор на их совещаниях не выяснен важный вопрос о тактике отпора. Но с присущей ему нерешительностью он каждый раз уклонялся от принятия решительного образа действий. Иной раз ему казалось, что русской армии надлежит орлом перелететь через Неман и задать хорошую трепку французам, в другой — что следовало заманить неприятеля к Смоленску, чтобы, отрезав там его от заграницы и затем со вспомогательными отрядами окружить, смять, уничтожить. Но слова Барклая указывали на возможность правильного, регулярного отступления — такой тактики русская армия еще не знавала!
Но нельзя же было в такую трудную минуту взять и пренебречь словами опытного генерала? Сколько раз уже Барклай доказывал и в Финляндии, и в Крыму, что он умеет быть и безумно храбрым, и холодно осторожным. Нельзя же было махнуть рукой на его соображения, даже не выслушав их?
А, с другой стороны, раз сейчас выслушать его, то придется остановиться на чем-нибудь, может быть, уже с завтрашнего дня перейти к решительным действиям. Но как же решиться, раз от малейшей ошибки, от малейшего недомыслия может произойти великая беда для России и всей Европы, с надеждой взирающих на него, Александра?
Государь остановился около Барклая и ласково положил ему руку на плечо.
— У меня голова идет кругом, Михаил Богданович, — полупросительным тоном сказал он. — Сейчас не будем говорить об этом, я заработался, плохо соображаю. Но мы с тобой поговорим, и ты мне все подробно расскажешь и разовьешь свой план. Только вот когда? У нас сегодня что? Одиннадцатое… Завтра у меня днем смотр тамбовцам, которые пришли сегодня. Ну, а вечером?
— Вечером, ваше величество, бал в Закрете.
— Ах да, у Бенингсена! Вот тоже словно малые дети! — улыбнулся государь. — Тут голова кругом идет от работы, а господа адъютанты о празднествах помышляют! Упросили! Ну да уж буду, раз обещал. Значит, и завтра поговорить не удастся. Ну, тогда послезавтра, тринадцатого. Поговорим с тобой, а потом и решим сообща, как быть. Ну, покойной ночи, Михаил Богданович. Значит, послезавтра утром!
Но события не ждали — подобно грозе, которая вдруг разражается после долгого, томительного затишья, на следующий день суждено было загреметь первым военным раскатам, предвестникам налетающего вихря.
Во время смотра тамбовцам государю доложили, что прибыл курьер с особо важными вестями. Император немедленно уехал в замок и принял курьера.
Курьером оказался Давыдов, один из секретарей русского посольства в Париже. По поручению посланника Куракина, Давыдов крадучись и тайком примчался в Россию, чтобы доложить государю об одном в высшей степени неприятном происшествии.
Пользуясь своими связями, русский агент в Париже Чернышев сумел раздобыть за большие деньги у чиновника военного министерства важные документы и планы к предполагаемой русской кампании. Однако по случайности или неосторожности Чернышева полиция Фушэ не только узнала об этом, но и арестовала одного из чиновников русского посольства, через которого велись переговоры с предателем-французом. Куракин настаивал на освобождении чиновника, основываясь на правах экстерриториальности посольств. Но его требование не только не было уважено, а наоборот, ему в вызывающей и оскорбительной форме было заявлено, что такое поведение русских агентов указывает на желание России начать войну и принимается Наполеоном за начало военных действий. Поэтому Наполеон приказал немедленно двинуть войска к русской границе.
Доложив об этом, Давыдов прибавил:
— Со своей стороны, ваше величество, осмелюсь доложить, что первый корпус под командой маршала Даву уже находится в пути!
— Вы видели его? — поспешно спросил государь.
— Собственными глазами у прусской границы.
— Значит, они уже у русских пределов?
— Да, ваше величество, их можно ждать со дня на день.
— Сколько человек?
— Их около ста тысяч. Но за спиной их двигаются еще около четырехсот.
— Значит, Наполеон предполагает двинуть на нас пятьсот тысяч?
— Нет, ваше величество, гораздо больше. По выработанному плану французский император предназначил к походу на Россию семьсот тысяч, но благодаря последней конскрипции общая численность его армии может быть доведена до двух миллионов. Правда и то, что в настоящий момент Испания отвлекает часть военных сил, да и в самой Франции наблюдается глубокое брожение, что не позволит Наполеону вывести за пределы Франции больше, чем он наметил.
Государь встал с места и с глубокой верой во взоре посмотрел на икону, висевшую в углу.
— Значит, война! — прошептал он. — Я надеялся, что эта чаша минует меня, но я готов и Россия тоже. И если ты, Господи, захочешь, то с Твоей помощью мы отразим жестокий удар, готовый обрушиться на нас! Спасибо вам, — обернулся он к Давыдову, — за доставленные сведения. Вы принесли их как нельзя более вовремя! Но чтобы ни один человек на свете не знал о движении неприятеля. Ступайте и сумейте сохранить этот секрет, раскрытие которого было бы несвоевременным!
По уходе курьера государь опустился на колени перед иконой и долго и страстно молился о ниспослании ему совета и разумения. И когда он встал, то в его просветленных глазах не было видно ни малейшей тревоги или смущения. И в его душе все было ясно и светло — Господь посылает испытания, Он и научит, и наставит!
До вечера государь занимался текущими делами и отдавал разные распоряжения, а затем отправился на бал в Закрет.
Но около двенадцати часов к государю на балу подошел министр полиции Балашов и что-то почтительно прошептал. Государь спокойно кивнул головой ответ на сообщение, пробыл на балу еще минут десять и затем, отговорившись крайней усталостью и ласково упрашивая остальных не нарушать веселья, отбыл к себе, увозя с собой Аркачеева и приказав послать к нему Барклая де Толли. В кабинете государь долго ходил взад и вперед, видимо, волнуясь и стараясь подавить это волнение. Аракчеев с обожанием смотрел огненными глазами на царя и друга. Вся его сухая, нескладная фигура напоминала преданного пса, любовно ждущего хозяйского оклика.
— Алексей! — заговорил вдруг император. — Война началась! Неприятель наводит мосты на Немане — завтра его силы будут переброшены через нашу границу. Что же делать, на что решиться?
— Государь! — ответил Аракчеев. — Повели — и преданное тебе воинство…
— Ах, Алексей, — поморщился государь, — не сомневаюсь я в преданности, да не в ней одной дело. Что делать сейчас, вот о чем я спрашиваю?
— Броситься на неприятеля, смять, растоптать, прогнать!
— Да под силу ли будет это нашей армии?
— Да как же не под силу? Ваше величество, да их, окаянных, сквозь строй прогнать, шпицрутенами до смерти задрать, ежели они от неприятеля отступят! Виданное ли дело, чтобы русский солдат да осмелился неприятеля на святую Русь пустить! Не дай Бог до такого позора дожить!
При последних словах в комнату вошел Барклай. Он остановился посреди кабинета и, слегка наклонив лысую голову с седыми клочьями на висках, с чуть заметной иронией смотрел на волновавшегося Аракчеева.
— Вот, Михаил Богданович, дождались! — обратился к нему государь. — Неприятель переходит через Неман!
— Что же, пусть идет на свою гибель! — ответил Барклай.
— Вот и я то же говорю! — обрадовался поддержке Аракчеев, — Конечно, на гибель!
— Простите, ваше сиятельство, — с еле заметной усмешкой ответил Барклай, — насколько я понимать могу, не одинаково мы эту гибель видим! Вы вот позор видите в том, что наш солдат перед Наполеоном отступит, а я иного способа победы, как этот позор, не вижу!
— Но какая же победа мыслима, если отступить без боя? Ведь это значит признаться в собственной слабости? — недовольно спросил государь.
— Ваше величество! Раз тактические соображения…
— Ах, да что ваши тактические соображения! — ~ перебил его, не вытерпев, Аракчеев. — Хоть Бонапарт узурпатор и злодей, а должно признаться, что он тактик и стратег великий. Ну и берите с него пример! Что ему обеспечивает победу? Быстрота и натиск! Неприятель только еще совещается, как быть и куда по тактическим соображениям передвинуть войска, а Бонапарт тут как тут, да и всю их тактику расстреливает! Вот и нам надлежит его же оружием его самого бить! Двинуть войска, смять, растоптать — и нет Бонапарта!
— Вот что, Алексей, — сказал государь, — у меня сегодня был курьер из Парижа, который привез мне точные сведения о количестве войск неприятеля. Сейчас на нас двигается стотысячный авангард, за спиной которого стоит четырехсоттысячный корпус, а в арьергарде еще двести тысяч. В случае же крайней надобности Наполеон может выдвинуть из Франции чуть не больше этого еще! Таким образом, если принять бой здесь, у границы, то мы должны будем выдерживать непрерывный натиск неприятеля, у которого за спиной будут и резервы, и непрерывный подвоз провианта. А мы не можем сосредоточить войска у переправы, так как Бонапарт всегда может обходным маршем отрезать нас и двинуться прямо на Петербург. Так вот ты и подумай — как это мы развернутой цепью отбросим неприятеля? Я не сомневаюсь ни в преданности, ни в храбрости войск, но надо же считаться с положением. Нет, о том, чтобы принять здесь бой, не может быть и речи. Вопрос в том, куда нам отодвинуться и где удобнее дать генеральное сражение. Ты говорил мне, Михаил Богданович, что у тебя в Уме Уже составился план защиты. Так скажи что ты считаешь нужным сделать на первых порах?
— Отступить, ваше величество!
— А дальше?
— И дальше отступить!
— Но до каких же пор?
— До Смоленска, до Москвы, до Казани — словом, отступать до тех пор, пока это будет нужно и полезно!
— Михаил Богданович! — даже вскрикнул государь, и его глаза загорелись презрительным гневом. — Опомнись! Кому ты это говоришь! Мне, Божьему помазаннику, императору всероссийскому, венценосцу, на которого Сам Бог возложил священную обязанность восстановить попранные права народов и их законных государей, ты предлагаешь бежать, словно подлому трусу, спасаясь от наглого врага, дерзнувшего вторгнуться в русские пределы! Я должен позволить ему огнем и мечом пройти по русской земле, вытоптать пажити и нивы, разорить дома крестьян и помещиков! Я должен отказаться от священной мести, должен презреть свой долг государя! Нет, я, должно быть, ослышался! Не русскому боевому генералу предлагать русскому царю такой план! Говори, объяснись!
Государь нервно теребил платок; Аракчеев был красен, и только его огненные глаза метали свирепые молнии.
— Бога ради, не гневайтесь, ваше величество! — спокойно ответил Барклай. — Выслушайте меня до конца, и тогда вы, ваше величество, сами согласитесь, поскольку мой план обоснован на действительной разумности и выгоде. Вы неоднократно говорили мне, что если дойдет дело до войны с Наполеоном, то вы, ваше величество, не можете удовольствоваться одним отражением врага, что в этом случае на долю русского царя и народа падет священный долг освободить Европу от тирана. Но что же произойдет, если мы дадим ему сражение? Я уже не говорю о поражении — оно возможно, оно вероятно, потому что, как вы, ваше величество, изволили сами заметить, мы не можем сконцентрировать наши силы из опасения обходных и внезапных маршей. Но даже в случае нашей победы Наполеон не будет уничтожен, он вновь соберется с силами, он засыплет нас в конце концов лавиной своих войск. Утомленная Россия даже в случае победы должна будет пойти на переговоры с тем, кого она считает насильником и узурпатором! Совсем другое получится, если русская армия будет последовательно и осторожно отступать вглубь, не принимая решительного сражения, и давая только частичный отпор неприятелю, постепенно изнуряя его и заманивая вглубь. В отступлении русские войска будут уничтожать мосты, воздвигать препятствия, устраивать засады, увозить с собой съестные припасы. У неприятеля не будет ни минуты покоя — чем дальше будет он подвигаться, тем более незнакомой местностью придется ему идти; ежечасно опасаясь атаки, ежеминутно тревожимый летучими отрядами, неприятель должен будет постоянно окапываться, возводить укрепления. Он будет рваться в бой с нами, а мы… мы будем отступать перед самым его носом! И, когда изнуренный, обессиленный, лишенный съестных и боевых припасов, полный уныния, неприятель заберется в самую глубь России, тогда наши свежие, бодрые войска окружат его и уничтожат! Ни один француз не выйдет из пределов России, а Бонапарт растает с такой же стремительностью, с какой создалось его эфемерное могущество! Победным маршем пройдут русские войска по всей Европе! И везде победоносный император Александр будет простирать народам оливковую ветвь мира. Это ли позор, это ли нарушение долга государя и венценосца?
Барклай замолчал; государь глубоко задумался.
— Да, — сказал он наконец, — может быть, ты и прав. Но… как это тяжело, как прискорбно ждать, выискивать момент, подстерегать! Тактика… я согласен, может быть, тактика оправдывает все это. Но насколько славнее было бы сразу проучить дерзкого. Но что же делать? А вот Европа что скажет?
— Государь! — решительно ответил Барклай. — Если вопрос идет о том, как больнее проучить дерзкого, то разрешите заметить, что нападение тем больнее, чем выше вознесен падающий. И чем более опьянится Наполеон славой мнимых побед над русским воинством, тем грознее покажется ему карающая десница рока, когда ему придется во прахе молить о пощаде! А о Европе, государь, не русскому императору заботиться! Да и осмелюсь заметить, что план, предложенный на рассмотрение вашему величеству, только созрел в моей душе, но зерно его занесено из самой Европы.
— Как так? — удивленно вскинул глаза Александр.
— Существует, ваше величество, австрийский министр по имени Нейпперг. Это искусный дипломат и талантливый стратег.
— Я знаю его, — быстро перебил государь, — он оказывал мне неоднократно большие услуги своими донесениями. Но я видел в нем только дипломата. Оказывается, он и стратег тоже?
— В данном случае ненависть явилась ему хорошей учительницей, ваше величество! Нейпперг убежденный монархист, он ненавидит Наполеона как узурпатора. А тут примешались и другие еще, личные доводы. Наполеон однажды глубоко оскорбил Нейпперга, чуть ли не избил. Словом, Нейпперг ненавидит французского императора так, как только может ненавидеть человек. Эта ненависть сделала его прозорливым — он уже давно предсказывал поход на Россию, и до сих пор все его предсказания сбывались с поразительной точностью. Но Нейпперг всегда выражал уверенность, что Россия будет могилой Наполеону. Его любимой фразой было: «Наполеон вздумает охотиться за шкурой русского медведя, но медведь подманит его к своей берлоге и там растерзает его!» И вот уже около двух лет Нейпперг занимается разработкой подробного плана, как лучше всего будет «русскому медведю» подманить и растерзать «французского коршуна, притворяющегося орлом». Общую идею этого плана Нейпперг сообщил мне: она изложена в моих предшествующих словах. Но в основном плане Нейпперга много интересных подробностей.
— У тебя имеется этот план? — живо спросил государь. — Это интересно.
— Все, что я знаю о плане Нейпперга, сообщено мне его личным другом, графом Армфельдом. Граф мог бы предоставить вам, ваше величество, более подробное изложение его соображений — я лично касался только чисто стратегических подробностей.
— А где сейчас граф? Мне было бы очень интересно поговорить с ним.
— Я попросил графа обождать в приемных комнатах, ваше величество; я знал, что так или иначе, а вы, ваше величество, пожелаете лично расспросить его!
Государь приказал немедленно позвать Армфельда, и не прошло и двух минут, как граф уже вошел в кабинет государя.
Графу Армфельду было в то время пятьдесят пять лет, но на вид он казался гораздо моложе. Это был ловкий и статный кавалер. Вся его внешность производила крайне благоприятное впечатление. Умный, хитрый, тактичный, он пользовался большим доверием государя.
В общих чертах Армфельд повторил то, что было сказано перед тем Барклаем. Но он указал государю, что у него будет еще несколько важных союзников. Когда в дело вмешается его величество Холод, то французам придется иметь дело также и с его величеством Голодом. Наполеон рассчитывает окончить всю кампанию в два-три месяца. Но в силу методического отступления русских войск кампания затянется до наступления холодов, а французская армия не снабжена теплым платьем, и дело русских будет при отступлении позаботиться, чтобы французы нигде не нашли достаточных запасов такового. А с холодом придет и голод Наполеон не в силах будет выдержать долее наступления первых зимних месяцев; ему придется уже не отступать, а бежать, чтобы не пропасть окончательно. Вот тут-то русским и придется развернуть свои силы. Первоначально, отступая, им надо будет во что бы то ни стало завлечь Наполеона в Москву, а самим податься южнее, чтобы сейчас же сделать диверсию и податься ниже. Когда Наполеон будет спасаться обратно во Францию, ему придется натолкнуться на русские войска, которые окружат его со всех сторон тесным кольцом и беспощадно истребят. И тогда Наполеон сам станет жертвой той ловушки, которую готовит себе с поразительным безумием! Наполеон сам бросается в пропасть; если русские неразумным образом действий не помешают ему, то он неминуемо упадет туда!
Император Александр глубоко задумался.
— Спасибо вам, господа, — сказал он после долгой паузы, — теперь я и сам вижу, что этот план больше всего отвечает необходимости минуты. Пусть так и будет! Ты сам хотел войны, Наполеон, так да свершится над тобой Божья воля! Оставьте нас, господа! — обратился он к Армфельду и Аракчееву. — Мы займемся с военным министром делами. Теперь некогда раздумывать!
Армфельд и Аракчеев ушли с глубоким поклоном, а государь еще долго занимался с Барклаем. Выйдя от императора, Барклай немедленно разослал всем корпусным командирам следующий приказ:
«Неприятель переправился близ Ковно, и армия сосредоточивается за Вильной, почему предписывается вам тотчас же начать отступление».
Главнокомандующим прочих двух армий Барклай де Толли от имени государя передал следующие распоряжения, касающиеся ближайшего образа действий: на первых порах войну вести исключительно оборонительную и сообразовываться с движениями неприятеля. Неприятеля отнюдь не задирать и стараться избежать сражений. Слабого неприятеля бить и уничтожать, от сильнейшего отступать. Отходя назад, на каждом шагу ставить препятствия, портить дороги, уничтожать гати и мосты, делать засеки. Кроме того, при отступлении уводить с собою всех местных людей, которые могли бы дать неприятелю хоть какое-либо понятие о состоянии края и способствовать получению продовольствия.
Отпустив Барклая де Толли, государь послал за государственным секретарем Шишковым, и тот написал по указаниям государя приказ по армии и рескрипт на имя ген. — фельдмаршала графа Салтыкова, Приказ по армии кончался следующими словами: «Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу! Я с вами! На зачинающего Бог!» А в рескрипте Салтыкову государь объявлял: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем».
На следующий день государь сделал еще попытку к предотвращению войны, хотя сам заявил Балашову:
«Я не ожидаю от этого прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем войну не мы».
Эта попытка заключалась в посылке Балашова с письмом к Наполеону. 13 июня, в два часа ночи, государь позвал Балашова и передал ему письмо к Наполеону, приказав сейчас же собираться и ехать. Прочитав министру свое письмо, государь на словах приказал передать Наполеону, что он согласен вступить в переговоры, но при условии, чтобы французская армия немедленно отступила за границу.
— В противном случае, — заявил Александр, — даю Наполеону обещание: пока хоть один вооруженный француз будет в России, не говорить и не принимать ни одного слова о мире!
Если бы Наполеон хотел мира, то это было бы для него очень удобным предлогом для прекращения военных действий. Но несчастная звезда влекла его к пропасти, а он не внял голосу разума!
* * *
В то время как в кабинете русского царя решался план оборонительной кампании, а вместе с ней и судьба Наполеона, последний, не предчувствуя своей гибели, радостно и весело руководил переправой войск. Наскоро наведенные мосты трещали и гнулись под тяжестью проходивших колонн. Гордым взглядом Наполеон провожал свои войска, наконец-то вступившие в давно манившие его пределы северного медведя…
Переночевав в лесной сторожке, Наполеон на следующий день, 13 (25) июня, подъехал с генералом Аксо к берегу Немана около Понемука. Он уже был не в своем традиционном сером рединготе — опасаясь, что русские летучие отряды узнают и подстрелят его, он взял у польского полковника Поговского его мундир.
Эскортируемый отрядом сапер, Наполеон переехал в лодке на русский берег. Там он принялся осматривать в бинокль окрестности. Но кругом все было тихо — ничто не выдавало близкого присутствия русских войск.
Вдруг послышался отдаленный топот копыт, и на ближайшем холмике показался русский казачий отряд. Командовавший ими офицер спросил по-немецки:
— Кто вы?
— Саперы генерала Эльбэ! — ответили ему.
— Что вам нужно на русском берегу? — спросил тогда по-французски казачий офицер.
— Воевать с вами!
— Так будьте вы прокляты! — произнес офицер и разрядил пистолет в барку с саперами.
Те ответили ему выстрелами. Офицер с казаками скрылся в лесу. Вскоре замолк топот их копыт, и кругом воцарилась прежняя тишина.
На следующий день через Неман перешли последние остатки авангарда. Наполеон торжествовал — теперь перед ним вся Русская империя…
Перейдя Неман, словно подталкиваемый невидимой, таинственной силой, Наполеон и Франция уже безудержно и безоглядно стремились с роковой быстротой к ожидавшей их пропасти.
XI
Лечебница доктора Дюбюиссона была одновременно терапевтическим учреждением для больных разнообразными хроническими болезнями и отделением государственных тюрем, куда принимались особого рода узники. Многие из осужденных политических преступников, жалуясь на разные страдания и болезни, которые оказывались еще более серьезными благодаря свидетельству, выданному доктором и переполненному самыми страшными научными терминами, добивались привилегии быть переведенными в лечебницу доктора Дюбюиссона и отбывали срок наказания в ее комнатах, гораздо более удобных и гигиеничных, чем камеры государственных тюрем. Эта смешанная система была введена Наполеоном, полным терпимости и гуманности по отношению к политическим противникам, которые редко бывают опасны и лишь благодаря случайному повороту судьбы могут получить власть.
Лечебница была расположена в самом высоком месте Сент-Антуанского предместья, среди почти деревенского ландшафта, среди массы деревьев и веселых домиков, совсем близко от Венсенского леса; здесь-то, пользуясь прекрасным воздухом и прекрасной местностью, несли свое довольно легкое заключение страшные личные враги императора.
Здесь были заключены по различным поводам кроме генерала Мале два брата, князья Арман и Жюль Полиньяки, арестованные за заговор Жоржа Кадудаля, такой же роялист маркиз де Пюивер, наконец аббат Лафон, советник генерала Мале, пользовавшийся его доверием, но наивно веривший, что генерал трудится на пользу Бурбонов и папы.
Аббат Лафон — его мы уже видели в день рождения Римского короля с нетерпением ожидающим в маленьком кабачке новости, которая могла ускорить или замедлить осуществление надежд роялиста-заговорщика, — много перенес с тех пор. Благодаря поддержке графа Дюбуа, бывшего префектом полиции, он получил возможность отбывать свое наказание в лечебнице Дюбюиссона.
Мале сразу почувствовал расположение к аббату и не проявил к нему полное доверие.
Генералу Клоду Франсуа Мале было в это время пятьдесят восемь лет. Он родился в Доле, в департаменте Юра, в хорошей семье; в шестнадцать лет он поступил на службу, и первые дни революции застали его уже кавалерийским капитаном. Явившись представителем от своего департамента на праздник федерации в 1790 году, он был избран командиром батальона Франш-Контэ и был комендантом Безансона. В 1799 году он был отправлен бригадным генералом в итальянскую армию и служил под начальством Шампионне и Массены. Одним из первых он стал кавалером Почетного легиона.
В этом служаке, полном протеста и вместе с тем фантастических мечтаний, бывшим довольно плохим солдатом, вечно недовольным и неохотно подчинявшимся, жили душа заговорщика и изменнические планы. Все его существование было наполнено мрачными планами переворотов, солдатских восстаний и лагерных мятежей с самыми романтическими комбинациями и похищениями. Он рано примкнул к военным организациям, целью которых было свержение всякого вождя, который пожелал бы завладеть властью и изменить республиканскую форму правления. Эти общества носили разные названия, но слились все в обществе «филадельфов». Мале носил в этом обществе имя Леонида и после смерти полковника Удэ, убитого при Ваграме, стал во главе его.
Командуя войсками в Дижоне в 1799 году, Мале вместе с филадельфами составил план нападения на первого консула Наполеона, который должен был проехать через Дижон, направляясь в Маренго, чтобы дать битву, спасшую Францию. Сотня смельчаков, увлеченных Мале, могла окружить Бонапарта в ущельях Юры и взять его в плен. План Мале состоял в том, чтобы, воспользовавшись смятением, которое должно было бы последовать за смертью первого консула, двинуться на Париж во главе юрских отрядов. Однако заговор был раскрыт. Наполеон избежал засады в ущельях и достиг поля битвы при Маренго.
Мале был заподозрен, но не уличен в измене. Из Ангулема, где он находился, он перешел в Рим, где вскоре, после ряда проявлений неповиновения, которыми он выражал свое несогласие с генералом Миолли, получил отставку.
Эта мера не могла успокоить мятежное настроение генерала. Мале дышал непримиримой ненавистью к императору. Терпеливо и упорно он старался воспользоваться каждым обстоятельством, если было нужно, для того, чтобы завладеть армией, возмутить народ и уничтожить своего врага.
Он пытался, как мы видели, в 1807 году свергнуть Наполеона при участии комитета, вдохновителем которого был якобинец Демайлю. План Мале состоял в том, чтобы воспользоваться отсутствием императора и распустить слух о его смерти. Заговор был раскрыт, и Мале заключили в тюрьму.
Мы приводили письмо, полное покорности, в котором он умолял императора о помиловании, обещая покинуть Францию и отправиться возделывать землю в одной из французских колоний. В результате стараний Ренэ, которая вместе с ла Виолеттом ходатайствовала в Сент-Клу о помиловании Мале и лекаря Марселя, замешанного в его заговоре, император простил Марселя и разрешил Мале поселиться в лечебнице Дюбюиссона.
Здесь-то мы и встречаем его в четверг, 22 октября 1812 года, в тот вечно памятный и мрачный день, в который Наполеон очистил Москву и начал печальное отступление среди снежных сугробов со своей великой армией, одетой в лохмотья.
Мале и в тюрьме не переставал составлять заговоры. В 1809 году он хотел возобновить свою попытку — распространить слух о том, что император убит при Ваграме, и затем, пользуясь общим смятением, двинуться на собор Богоматери; для этого он выбрал 29 июня, когда там совершалось торжественное богослужение; он рассчитывал сразу овладеть всеми представителями гражданской и военной власти, собравшимися на церемонию. Однако итальянец Сорби, сидевший вместе с ним в тюрьме, узнал частично его замысел, у Мале явились сомнения в верности этого человека, и он отменил отданные им своим соумышленникам распоряжения. Таким образом ваграмская церемония прошла без всяких осложнений.
У этого упорного заговорщика крепко засела в голове одна мысль: воспользоваться замешательством, которое должно наступить при неожиданном известии о смерти императора, и благодаря ему завладеть разными постами и высшей военной властью.
Был ли он одинок в 1812 году, составляя свои планы и окруженный только немногими товарищами, фигурировавшими в его процессе? Или его поддерживали сильные союзники, сами оставаясь скрытыми и неизвестными? Рассчитывал ли он опереться на остаток филадельфов и на непосредственную помощь уволенных офицеров, разделявших его недовольство и только ожидавших случая, чтобы начать восстание? По-видимому, это было именно так, но это двойное волнение и движение неисследованы, и невозможно приписать Мале еще других сообщников, кроме тех, с которыми мы познакомимся ниже.
Режим лечебницы разрешал ее обитателям принимать посетителей целый день. Мале тоже принимал ежедневно известное число гостей. Так было и в четверг, 22 октября. В его комнате находились аббат Лафон, монах Каманьо, семинарист Бутре, бывший полковой лекарь Марсель и капрал Рато, парижский гвардеец.
Когда все пять заговорщиков остались одни вместе со своим вождем, задержавшим их под разными предлогами, Мале заговорил коротко и сухо:
— Пора кончать, друзья мои! Империя просуществовала слишком долго, а император слишком долго прожил! Теперь пора нанести последний удар. Готовы ли вы следовать за мной?
Он окинул их быстрым взглядом; все ответили утвердительно. Аббат Лафон сделал оговорку:
— Решено, мой дорогой генерал, что дело идет только о свержении империи, но не о восстановлении республики?
Мале, сделав нетерпеливый жест, сказал:
— Мы сохраним форму правления; французы, став снова свободными, сами выберут себе тот режим, который им понравится.
— Ладно, — сказал монах Каманьо, — мы пойдем с вами, генерал, хотя бы на казнь, но вы гарантируете мне — чтобы я мог засвидетельствовать это перед моими друзьями, — что все ваши усилия, если вы чего-нибудь достигнете, будут направлены на восстановление на испанском троне короля Фердинанда Седьмого?
— Мы займемся испанскими делами, когда покончим у себя с тираном, — с неудовольствием ответил Мале. — Нет ли еще каких-нибудь возражений?
— Мы не должны вооружаться только для того, чтобы разрушить какой-нибудь престол, — сказал своим спокойным голосом Марсель, — а для того, чтобы основать всемирную республику, мирный союз всех государств Европы. Поэтому я прошу вас, генерал, воспользоваться тем громадным, великодушным порывом, который будет вызван в народе вашим поступком, и освободить томящихся в неволе. Польша, Ирландия, Греция ждут от нас избавления. Надо провозгласить революцию во имя свободы национальностей; Франция должна дать отечество тем, кто не имеет его, и освободить тех, кто до сих пор томится в рабстве.
— Мы постараемся укрепиться, создав себе союзников из освобожденных нами народов; это само собой разумеется, — сказал Мале. — Но, прежде чем думать об освобождении поляков, ирландцев и греков, надо освободить французов. Не выскажет ли еще кто-нибудь своего мнения?
— Простите, генерал, — скромно заметил семинарист Бутре, — не следует забывать нашего святейшего отца, который находится в заключении.
— Это решено, я уже говорил об этом! Но сначала Наполеон, потом папа! — сказал Мале с возрастающим гневом. — А что скажешь ты? — прибавил он, обращаясь к капралу. — Нет ли у тебя какого-нибудь короля или папы, чтобы поручить его моим заботам? Ты один не раскрывал рта.
— Генерал, — краснея ответил Рато, — мне очень хотелось бы стать лейтенантом.
Лицо Мале прояснилось.
— В добрый час! Ты просишь по крайней мере для себя, это наиболее разумно. Будь счастлив, мой мальчик, ты получишь эполеты. А теперь, друзья мои, слушайте меня внимательно: время быстро летит, и мы сделаем попытку сегодня же ночью.
И Мале холодно и ясно изложил им свой план, скорее более безрассудный, чем смелый. Он начал с указания на удобство выбранного момента. С тех пор как он увидел, что Наполеон со всей своей армией вступил на опасную дорогу среди северных равнин, у него возродилась надежда на успешное повторение попыток 1807 и 1809 годов. На этот раз он казался уверенным в успехе. Его любимая идея — распространение слуха о смерти императора — была готова осуществиться.
Уже с неделю в Париже не получали известий о Наполеоне и Великой армии. Самые мрачные слухи встречали доверие. Торговля замерла, работы остановились, урожай был плох; Мария Луиза была непопулярна, так как народ жалел Жозефину и не мог привыкнуть к австриячке, вспоминая Марию Антуанетту. Все эти невзгоды и эта тревога создавали обстановку, благоприятную для дерзких планов Мале».
Конечно, его предприятие было смело и безрассудно, но оно показывало, что его создатель обладал большой проницательностью относительно того, что происходило в народном сознании, и ясно представлял себе состояние умов, близкие неудачи, измены и несчастия.
Аббат Лафон в качестве роялиста и клерикала предвидел неудачу и хотел бы, чтобы Мале открыто действовал в пользу Бурбонов, присвоив себе белую кокарду и провозглашая законного государя, Людовика XVIII; поэтому, выслушав быстрое изложение плана, он спросил:
— Рассчитываете ли вы на поддержку сената? Привлекли ли вы кого-нибудь из его членов?
Мале откровенно ответил:
— Никого! Никто, кроме вас, не знает о моем плане. Но большинство сенаторов устало служить империи. В обеих палатах слышится ропот, предвещающий взрыв. Сенат поколебался бы взять на себя инициативу восстания, но он мог бы подтвердить совершившийся факт. Как только сенаторы убедятся, что Наполеон умер, они поспешно станут стараться уничтожить его режим. Повторится то же самое, что было при прежнем строе, когда Людовики Четырнадцатый и Пятнадцатый сошли в могилу. Тогда разрывали их завещания, отказывались исполнять их последнюю волю или же преследовали немногих придворных, оставшихся им верными и после смерти. Человечество подло, друзья мои; оно терпит силу, откуда бы она ни исходила, но только до тех пор, пока это действительно сила. Когда возникает новая власть, худшие из лакеев прежней власти выпрямляются, бросаются навстречу новому проявляющемуся могуществу и стараются добиться прощения своему прежнему лакейству, обещая еще более полное рабство. Всякое новое явление прекрасно. Толпа приветствует новых актеров, которые появляются на мировой сцене и забывает тех, которым пришлось уйти за кулисы. Как только император умрет или по крайней мере будут думать, что он умер, империя разрушится. Завтра не будет ни одного бонапартиста. О, я знаю народ и его руководителей! Сенат будет за нас, я в этом уверен! Я уже заранее рассчитываю на его содействие! Вот посмотрите!
И Мале, развернув какую-то бумагу, прочел следующий текст, очень искусно составленный им, который своим видом подлинности мог ввести в заблуждение человека непосвященного.
Это было постановление сената, которое должно было быть всюду развешено, прочтено войскам, разослано префектам и комендантам крепостей и в случае надобности показано генералам, министрам, разным правительственным служащим.
Это подложное постановление носило следующее заглавие:
«Сенат-охранитель. Заседание 22 октября 1812 года.
Заседание открылось в 8 часов вечера под председательством сенатора Сиейеса.
Сенат, созванный чрезвычайно, прослушал прочтенное ему сообщение о смерти императора Наполеона под стенами Москвы, 7 числа сего месяца.
Сенат после зрелого обсуждения этого столь неожиданного события назначил комиссию для немедленной выработки средств спасения отечества от грозящих ему опасностей и, выслушав доклад комиссии, обсудил и предписывает нам следующее…»
Дальше следовало постановление в девятнадцати статьях.
Первая статья гласила, что императорское правительство, не оправдавшее надежд тех, кто ожидал от него мира и счастья французов, уничтожается вместе со всеми своими учреждениями. Почетный легион сохранялся.
Временное правительство из пятнадцати членов составилось следующим образом: председателем был назначен генерал Моро. Этот знаменитый изменник находился еще в Соединенных Штатах; но его близость к филадельфам, его старинные сношения с роялистами, предложения им своих услуг России и Пруссии, в рядах войска которой ему предстояло в следующем году найти смерть в борьбе против Франции, под Дрезденом, — все это достаточно показывает, что Мале, если он и действовал один, всегда мог бы иметь поддержку и связи близ Бурбонов и при европейских дворах.
Вице-президентом был Карно. Другими членами были: генерал Ожеро, Бигонне, сенатор Бестютде Траси, бывший член конвента Флоран-Гюйо, бывший префект Сены Фрошо, сенатор Ламбрехт, Матье, герцог Монморанси, роялист, генерал Мале, герцог Алексис де Ноай, роялист, вице-адмирал Трюге, сенаторы Вольней и Гара.
Таким образом ясно, что это правительство было смешанное: Карно, Мале, Ожеро вместе с Флоран-Гюйо и Жакмоном представляли в нем элемент республиканский, префект Фрошо, вице-адмирал Трюге, Вольней, Ламбрехт, Гара, Бестют де Траси изображали старых республиканцев, соединившихся с империей, а герцоги Монморанси и Ноай представляли сторонников королевской власти. Имперские сенаторы могли в случае необходимости примкнуть к роялистам, если бы зашел разговор о предложении короны. Кроме того, руководство, порученное Моро, уже ведшему переговоры с будущими главарями коалиции, представляло гарантии для реставрации Людовика XVIII, если бы переворот, придуманный Мале, удался. Имея Моро во главе, комиссия несомненно обделывала бы дела Бурбонов и европейских государей, которые больше боялись республики, чем Наполеона.
Далее вышеуказанным сенатским постановлением министры смещались; чиновники оставлялись на своих местах; дезертирам и эмигрантам была объявлена амнистия; среди эмигрантов в это время были только принцы со своими свитами да последние из оплачиваемых Англией ее сторонников.
Статья седьмая гласила, что будет отправлена депутация «к его святейшеству папе Пию VII, чтобы умолять его во имя нации забыть претерпленные им невзгоды и чтобы пригласить его посетить Париж, прежде чем он вернется в Рим».
Мале, как это видно, не пренебрег религией. Он рассчитывал на поддержку папы и духовенства. Эта статья должна была угодить его сообщникам: аббату Лафону, монаху Каманьо и семинаристу Бутре.
Национальная гвардия, призванная в ряды действующей армии путем чрезвычайных наборов, получала разрешение разойтись по домам, и если этой мерой ослаблялись силы войска, зато новым правительством приобреталась популярность. Наконец, генерал Лекурб назначался главнокомандующим парижского гарнизона, а генерал Мале должен был заменить генерала д'Юллена в должности коменданта Парижа.
Постановление было подписано председателем Сиейесом, секретарями Ланжюинэ и Грегуаром и скреплено Мале, «дивизионным генералом, главнокомандующим парижского гарнизона и войсками первого военного отдела».
Прокламация, составленная в это же время Мале, должна была быть прочитана в казармах и расклеена на стенах в Париже.
В этом энергичном призыве читались следующие фразы, объявлявшие о победе казаков, под ударами пик которых пал Наполеон, спаситель Франции и всего мира:
«Граждане и солдаты! Бонапарта нет больше! Тиран пал под ударами мстителей за человечество. Будем им благодарны! Они оказали большую услугу нашему отечеству и всему роду человеческому».
После этой благодарности врагам-победителям заговорщик набрасывался с оскорблениями на сына императора:
«Если нам приходится краснеть за то, что мы так долго терпели власть иностранца, корсиканца, то мы слишком горды для того, чтобы подчиняться его незаконному сыну».
Если нападки на Корсику, бывшую французским островом, были бесполезны и неловки, то оскорбление бедного маленького Римского короля было безумием. Но Мале не умел сохранять должную меру. В конце своей прокламации, вероятно, для того, чтобы угодить прежним лакеям Термидора, ставшим сенаторами Бонапарта, он оскорбил великого гражданина, воплощавшего собой всю революцию и республику, вплоть до реакции Кабаррюс и ее любовника, презренного Тальена.
«Докажите Франции, — восклицал Мале, — что вы не больше были солдатами Бонапарта, чем Робеспьера!»
По окончании чтения этих бумаг Мале распределил роли между своими сообщниками, затем приготовил, подписал и запечатал несколько приказов, назначавших на разные должности тех, кого он предполагал увлечь за собой. После этих распоряжений он пожал всем руки и сказал повелительным тоном:
— Итак, сегодня вечером в одиннадцать часов! Будьте готовы! Но так как ночью в лечебницу добрейшего доктора Дюбюиссона нельзя проникнуть, то нам надо собраться у кого-нибудь из вас. У меня, если хотите, — сказал монах Каманьо, — я живу в очень тихом доме на улице Сен-Жиль, в Марэ.
— Отлично, — решил Мале. — Вы слышали, господа? В одиннадцать часов на улице Сен-Жиль!
— Мы будем там! — ответили заговорщики.
— Подождите, — сказал монах, — для того, чтобы я мог вас узнать — ведь за вами могут следить, — вы должны бросить в ящик у дверей клочок бумаги; я узнаю вас по этому знаку.
С этими словами он вынул из кармана какое-то смятое письмо, по-видимому, черновик, разорвал его на пять частей и раздал их Мале, аббату Лафону, Бутре, Марселю и капралу Рато. Они бережно спрятали эти клочки. Генерал проводил их до дверей, и три посетителя удалились, не привлекши к себе внимания ни обитателей лечебницы, ни агентов министра полиции герцога Ровиго, блуждавших вокруг нее.
XII
Оставшись один, генерал Мале после нескольких минут глубокого размышления над бумагами, лежавшими на столе, собрал их и запер в портфель.
В последнем был заперт весь заговор. При помощи этих листов плотной бумаги, поддельных печатей и подписей этому человеку, слабому, одинокому, заключенному в тюрьму, без денег и авторитета, ничего не знавшему в Париже, забытому солдатами и неизвестному народу, удалось завладеть общественной жизнью, остановить могучий механизм императорского управления и, воспользовавшись в своих интересах средствами администрации, на несколько часов, кратких, но полных необыкновенных событий, подчинить своей воле все, заменив ею все существующие власти и своей личностью — самого великого императора, который был далеко.
Во всей этой фантасмагории господствовала одна неотвязная идея, к которой направлялись все его чувства, желания и силы — мысль об уничтожении империи фактом внезапной смерти императора.
Шансов за то, чтобы к этому известию отнеслись с доверием, было мало; достаточно было зародиться сомнению в уме каждого более или менее рассудительного человека, который сообразил бы, что такое внезапное распространение известия о смерти императора было маловероятно, и спросил бы себя, откуда взялся этот генерал Мале, вдруг получивший от сената власть над Парижем, — и это вызвало бы подозрение в обмане и помешало бы сфабрикованному сенатскому постановлению и другим бумагам иметь хоть какое-нибудь действие. Если бы хоть один из чиновников, помощь которых была необходима для Мале, отказался участвовать в его предприятии, все оно должно было разрушиться. Так и случилось.
Тем не менее удивительно то, что мозг человека, находящегося в заключении, лишенного всяких средств, мог породить такой безумный план и придать ему такой вид, что большинство историков отнеслось к нему как к предприятию реальному, которое не осуществилось только благодаря целому ряду случайных обстоятельств, оставшихся, однако, невыясненными. В противном случае почему же Фрошо, префект Сены, в преданности которого императору не может быть сомнений, сразу поверил Мале, поддержал его, отдал его распоряжение городскую думу, между тем как генерал д'Юллен отказался уступить свое место Мале, хотя его привычка к пассивному повиновению и уверенность в истинности приказания свыше могли объяснить его повиновение переданным ему распоряжениям? Никогда история больше не походила на роман, как в данном случае. Но все же этот заговор, нелепый во всех своих подробностях и в самом замысле, был огромной победой воли.
Правда, он окончился неудачей, но тем не менее привел к важным результатам, превзошедшим ожидания его создателя. Контраст между слабым врагом и колоссальной империей, очутившейся внезапно в опасности, обнаружил непрочность императорского трона и возможность его падения в случае исчезновения Наполеона. В то же время он приучил не видеть в Римском короле непременного наследника власти Наполеона. Можно сказать, что именно заговор Мале подготовил Францию к замене в 1814 году Наполеона и его сына другой династией. Русский император Александр, прусский король, Веллингтон, Блюхер поняли с того момента, что Франция уязвима. Непобедимую нацию надо было поразить не в сердце, а в голову. Наполеон был только блестящим победителем; Фушэ и Талейран находили, что нужно обеспечить себе государя, престол которого был бы более устойчив. Император австрийский начал сомневаться в своем зяте. Мале помешал вступлению на престол Наполеона II.
Мале закрыл дверь, чтобы заняться своими драгоценными бумагами, но услышал стук и открыл дверь, приняв равнодушный вид. Вошел молодой человек с энергичным, открытым лицом, в длинном, застегнутом на все пуговицы сюртуке, в шляпе с загнутыми полями, в сапогах и с толстой тростью, имевший вид офицера в гражданском платье.
Лицо Мале оживилось. По-видимому, новый посетитель интересовал его, но вместе с тем немного беспокоил.
— Ах, это вы, полковник Анрио? — живо сказал он. — Добро пожаловать! Какие новости? Я спешу узнать, не пришла ли какая-нибудь депеша?
— Из России не было курьеров.
— А императрица?
— Крайне беспокоится за мужа. Теперь она во дворце Сен-Клу с сыном и тоже ждет курьера.
— Значит, боги на нашей стороне! — весело сказал Мале. — Может быть, дорогой полковник, Наполеон уже умер там, в московских стенах?
— Нет, я уверен, что он жив, — с горечью ответил Анрио, — демон охраняет его.
— Вы человек твердый, полковник, и ваша ненависть к Наполеону предохраняет вас от всякой слабости. Вы поделились со мной частью ваших страданий; утешьтесь же хоть наполовину: скоро вы будете отомщены!
— Возможно ли это? — сказал Анрио, качая головой. — Я начинаю отчаиваться, и уже теперь вы видите перед собой того человека, который открылся вам. Послушайте меня, генерал! Я хотел отправиться вместе с армией, последовать за Наполеоном в далекую Россию и там, выждав момент, напасть на него и поразить в сердце, как он поразил меня. Но граф Мобрейль отговорил меня от этой попытки, указав, что вы вернее можете помочь мне отомстить. Он посоветовал мне повидаться с вами и сообщить вам некоторые сведения; они будут вам полезны для цели, которую я подозреваю, но которую вы от меня скрыли. Я послушался Мобрейля и пришел к вам, чтобы отдаться в ваше распоряжение и сообщить вам сведения, которых вы у меня просили.
— И вы были драгоценнейшим помощником, мой дорогой Анрио! Скоро мы будем в состоянии отблагодарить вас за ваши услуги.
— Я не знаю, чего вы хотите, и не могу отгадать, к какой таинственной цели вы стремитесь, — продолжал Анрио в волнении, — я последовал за вами как человек, у которого завязаны глаза и которого заставляют ощупью пробираться по мрачному месту. Для вас и вашего дела, так как мне казалось, что оно связано с моим мщением, я согласился остаться во Франции; под предлогом внутренней болезни и чисто физической слабости, между тем как больна только моя душа, мне удалось благодаря покровительству маршала Лефевра остаться в Париже. В то время как мои товарищи дерутся с русскими, берут города, выигрывают сражения, приобретают чины и покрывают себя бессмертной славой в этой гигантской войне, я сижу здесь вложив саблю в ножны, за письменным столом в канцелярии генерала д'Юллена, губернатора Парижа.
Анрио опустил голову. Видно было, что в душе он переживал жестокую борьбу с совестью. С возрастающим смятением он продолжал:
— Мое положение при командующем парижским гарнизоном дало мне возможность в точности узнать военные силы, которыми располагает охрана города, состав патрулей, имена начальников и расположение войск. Вы просили меня дать вам все эти сведения, я так и сделал. Но… это — измена, генерал!
— Ну, к чему употреблять такие сильные выражения? — добродушно заметил Мале. — Будьте уверены, что, сообщая мне все это, вы не изменяете ни своим обязанностям, ни стране. Я не потребовал от вас ничего такого, что было бы несогласно с вашей воинской честью. Генерал Мале не способен внушать кому бы то ни было бесчестный поступок!
— Я верю вам, генерал! Но если, послушавшись Мобрейля, я в первый момент острого горя и страдания был готов пойти на все, решиться на что угодно против императора, то только для того, чтобы отомстить ему.
— Ну а теперь? Теперь вы уже успокоились? Ваш гнев растаял, и горе смягчилось? Может быть, вы уже считаете себя отомщенным?
— Мое страдание так же глубоко, как и прежде, а гнев не уменьшился ни на йоту, и я по-прежнему жажду мести.
— Ну так откуда же все эти сомнения, раскаяние, колебания, мой юный товарищ?
— Генерал, выслушайте меня! Я признался вам в бешеной и ненасытной ненависти к Наполеону. Но я ищу только одного Наполеона, только в него и целюсь я, только человека и хочу я поразить в нем. Но император по-прежнему остается для меня священной особой. В ней я уважаю вождя нашей армии, опору Франции, меч нашей великой нации, несущейся навстречу славе.
— Дитя! — пробормотал Мале, покачивая головой. — Император и Наполеон — один и тот же человек.
— Может быть, но не для меня! Пораздумав обо всем, что говорят теперь в Париже, о распространившихся слухах, об отсутствии известий из России, что заставляет предполагать, что наша армия потерпела поражение, я задался вопросом, имею ли я право продолжать таить свою ненависть словно орудие, направленное на грудь того, кто несет на крупе лошади всю Францию.
— Наполеон не Франция! — энергично запротестовал Мале. — Он изменил делу свободы. Это деспот, который всем пожертвовал ради своего честолюбия. Сотнями ручьев он заставил литься на всех полях Европы чистейшую кровь нашей молодежи. Он ведет за собой в данный момент почти всю нацию к зияющим, словно могила, равнинам России, и эти равнины и похоронят его, как могила! Он идет своей мрачной дорогой посреди скелетов и трупов. Франция с жадностью жаждет свежего воздуха свободы, а ей приходится задыхаться под гнетом насилия; она ищет мира, а он гонит ее в бесконечные сражения. Нет, Наполеон это еще не Франция, и вы не должны смешивать раба и тирана, жертву и палача!
Анрио, не знавший ничего о проектах заговорщика, замолчал, потупившись.
Выдержав небольшую паузу, Мале продолжал твердым голосом:
— Ведь это вы пришли ко мне, полковник, я же не искал и не звал вас к себе. Как арестант, не имеющий оснований восхищаться императором, как республиканец, ненавидящий империю, как военный, лишенный возможности командовать своим полком, а потому охотно расположенный сходиться с другими недовольными, я принял вас с радостью, с доверием, даже с надеждой, когда вас направил ко мне граф д'Орво-де-Мобрейль, с которым я познакомился еще при вестфальском дворе. Я ни о чем не спрашивал вас, вы сами открыли мне то, что угнетало ваше сердце. Я ни о чем не просил вас — вы сами предложили мне свою помощь на тот случай, если я затею что-нибудь против Наполеона. Я не завлекал вас, даже намеком не посвятил в те проекты, которые мог иметь; я просто сказал вам, что был бы очень доволен, если бы мог узнать некоторые подробности относительно внутренней охраны Парижа — подробности, которые, к слову сказать, я легко мог узнать от других.
— Я дал вам все желаемые сведения.
— И раскаиваетесь в этом?
— Очевидно, нет, раз я принес вам еще и другие сведения сегодня.
— Какие другие сведения?
— Те самые, о которых вы меня просили в этом письме, полученном мной вчера.
Луч радости сверкнул в серых, выцветших глазах Мале.
— Постойте! — сказал он. — Я не желаю насиловать вашу совесть! Я только что напомнил вам, как вы явились ко мне с предложением услуг, в сущности говоря, абсолютно не компрометирующих вас и никоим образом не могущих быть признанными за. измену. Говоря все это, я не имел в виду требовать от вас новых сообщений или вообще завлекать вас вместе со мной в такое дело, конечная цель которого пугает вас.
— Конечной цели которого я не знаю, генерал!
— Вы сейчас узнаете ее! О, не бойтесь, вы будете вполне в курсе моих замыслов, не будучи в то же время нисколько замешанным в них!
— Генерал, я не боюсь!
— Нет, боитесь! Вы боитесь повредить Наполеону!
Анрио поднял голову, которую все время держал опущенной, и произнес:
— Ну да, вы правы, генерал! Я боюсь нанести удар родине, поражая Наполеона! Я боюсь ранить Францию вместе с ее императором. Я боюсь довершить в Париже поражение моих братьев, пронизываемых на чужбине копьями казаков. Но эти опасения не могут мне помешать сдержать по отношению к вам те обещания, которые я дал, и, оказывая вам услугу, я уверен, что не помогаю этим врагам, не усугубляю поражения, которое терпят войска на русских равнинах в тот самый момент, быть может, когда мы разговариваем с вами!
— Да откуда у вас сегодня такие опасения? — спросил Мале, впиваясь взором в молодого полковника. — Неужели вас так встревожила просьба, содержавшаяся в переданном вам вчера письме? А ведь передавший это письмо человек более чем надежен; это моя жена!
— Да, генерал, эта просьба именно и волнует, смущает меня и заставляет остановиться на краю той пропасти, которой я еще не вижу, но уже угадываю! Вы просили меня сообщить вам сегодня пароль, который будет дан начальникам патрулей и постов.
— Да я мог узнать этот пароль от друзей, служащих в парижском гарнизоне. Я обратился к вам только потому, что вам в силу вашего положения при генерале д'Юллене это легче всего. Вы боитесь скомпрометировать себя, сообщив мне этот пароль; ну что же, я обращусь к другим!
— Генерал, я принес вам его и готов сообщить.
— Как вам будет угодно, — ответил Мале с выражением глубокого безразличия. — Я нисколько не настаиваю, товарищ!
— Сообщая вам пароль, я жду от вас только одного: вы должны дать мне слово, что не воспользуетесь знанием пароля для такого предприятия, которое послужит на пользу врагам. Я даже не хочу знать, какую цель именно преследуете вы, стараясь узнать это слово.
— Черт возьми! — воскликнул Мале с хорошо разыгранным добродушием. — Уж не воображаете ли вы, что я собираюсь сообщить это слово казачьим аванпостам? Россия слишком далеко, и прежде чем в Москве узнают парижский пароль на двадцать третье октября, тридцать новых паролей будет дано и отменено. Ну, так вот, полковник, я раскрою вам свои карты. Мне нечего скрывать от вас. Так знайте же, что я собираюсь этой ночью бежать из-под ареста. Правда, жизнь в лечебнице, в сущности, довольно сносна, а за столом милейшего доктора Дюбюиссона встречаешь прелестное общество, но мне надоело, что каждый вечер меня сажают на запор. И вот этой ночью я собираюсь отправиться подышать чистым воздухом.
— А куда именно вы отправляетесь, генерал?
— В Америку. Это страна свободы. В Соединенных Штатах у меня имеются добрые друзья.
— От души желаю вам успеха!
— Я надеюсь, что завтра в это время мне удастся быть уже в Булони и сесть на английское судно. Из Англии я уже сумею перебраться в Нью-Йорк или Филадельфию. Но для того, чтобы добраться до Булони, надо сначала выбраться за парижские заставы, у которых стоят патрули национальной гвардии. Милейшие гвардейцы могут полюбопытствовать, что написано в моем паспорте, а паспорта-то у меня и нет! Мне придется путешествовать налегке и в полной форме, вот посмотрите — все уже приготовлено! — И Мале приподнял крышку дивана, показывая на сундук, где был спрятан генеральский мундир. — Раз я появлюсь в таком виде перед гвардейцами и сообщу им пароль, то мне удастся избежать всяких недоразумений и нежелательных осложнений. Они пропустят меня, отдавая мне честь! Вот почему, дорогой Анрио, я попросил вас сообщить мне пароль сегодняшней ночи!
Мале все это сказал с такой искренностью, что Анрио не мог усомниться в действительном желании генерала убежать из-под ареста. Все беспокойство и смущение полковника проистекали из боязни способствовать удаче такого проекта, который имел бы целью нанести вред особе императора, сражавшегося в данный момент в далекой России; но помочь бежать на свободу политическому преступнику — в этом не было ничего предосудительного. Поэтому Анрио не стал колебаться.
— Раз дело идет только о вашей свободе, генерал, — сказал он, — то я не вижу ничего бесчестного помочь вам снова обрести ее. Паролем на сегодняшнюю ночь будет: «Компьень-заговор».
— Спасибо! — горячо сказал Мале, пожимая руку Анрио.
Его глаза загорелись торжеством — знание пароля давало ему, заговорщику, возможность пробраться через посты и сменить их. Теперь у него в руках был ключ от крепости — Париж будет в его власти!
Повторяя два сообщенных ему слова, он пробормотал про себя:
— Компьень! Это как раз то место, откуда должен прийти драгунский полк, который за нас. Что за отличное предзнаменование! Заговор… ей-Богу, слово выбрано очень хорошо и доказывает, что и в самых высших сферах у нашего дела имеются друзья! — Овладев собой, Мале снова протянул руку Анрио, еще раз поблагодарил его и прибавил, услыхав звонок: — Теперь позвольте расстаться с вами, дорогой полковник; звонок извещает меня, что моя жена только что пришла. Я не могу заставить ее ждать. Да и надо позаботиться о приготовлениях. Извините меня и позвольте мне поцеловать вас!
Анрио, который ни на минуту не засомневался в правдивости сообщенного ему плана бегства, обнял генерала и еще раз пожелал ему успеха.
В тот самый момент, когда они целовались, в комнату вошла госпожа Мале.
Благодаря открывшейся двери на мгновение образовался сквозняк, которым подхватило и снесло на пол обрывок бумаги. Это был кусок письма, вынутого Каманьо из кармана рясы. Клочки этого письма, розданные сообщникам, должны были дать им возможность узнать друг друга у ворот дома на улице Сен-Жиль.
Увидав, что у мужа находится какой-то посетитель, госпожа Мале хотела уйти; она повернула назад, а при этом ее юбка смела обрывок письма и вымела его в коридор.
Однако Анри, извинившись, ушел, в последний раз пожав руку генералу. Поэтому госпожа Мале тотчас же вошла в комнату мужа, и дверь была тщательно заперта вслед за ней.
Анрио толкнул ногой в коридоре бумажный клочок и совершенно машинально нагнулся, чтобы поднять его. Он хотел было снова бросить его, но ему пришло в голову, что на этом клочке могли оказаться какие-нибудь указания по поводу предполагаемого бегства генерала. Поэтому он повернулся, чтобы постучать у дверей Мале и вернуть ему клочок письма, быть может, важного для него и способного выдать его в случае, если попадает во враждебные руки.
Но в этот момент лакей, приставленный к генералу, вышел в коридор, чтобы посветить посетителю и проводить его.
Не желая возбуждать подозрение, которое неминуемо возникло в случае, если бы он стал настаивать на возвращении к генералу, чтобы отдать тому какой-то ничтожный клочок бумаги, Анрио спокойно сунул найденный обрывочек в карман и последовал за лакеем.
XIII
В то время как Мале собирался пробраться сквозь стены своей больничной темницы и броситься из своей комнаты в предместье Сент-Антуан на городскую ратушу, неотступную цель его мыслей, и в здание военного управления Парижа, объект его смелого проекта, вот что происходило с Наполеоном и Великой армией в равнинах России.
Переправив войска при Ковно с 13 (25) на 14 (26) июня, Наполеон выступил на Жижморы. Первым делом он поспешил овладеть Вильной как одним из самых значительных городов в русских губерниях Царства Польского и как центром расположения русской армии, которую император рассчитывал разрезать быстрым движением. Для достижения этой цели армия Наполеона была двинута из Ковно следующим образом: впереди, по шоссе из Ковно в Вильну, шли под начальством Мюрата кавалерийские корпуса Нансути и Мобрена, за ними следовал корпус Даву и сам Наполеон с гвардией; Удино шел правым берегом Вилии на Яново и Девельтово, Ней — левым берегом на Кормелов и Скорули, имея приказание свернуть оттуда на Вильну и в случае надобности поддержать Удино.
В общей сложности Великая армия насчитывала около семисот тысяч человек и состояла из десяти корпусов, резервной кавалерии и императорской гвардии.
Резервная кавалерия шла впереди под начальством самого Мюрата. Старую гвардию вел Лефевр, молодую — маршал Мортье, конную гвардию — Бесьер, герцог Истрийский. Среди бригадных, корпусных и полковых командиров можно было встретить весь цвет наполеоновских героев, львов Египта, Италии, Фридлау, Иены и Аустерлица.
Но, кроме французов, в Великой армии было очень много иностранцев, и это обстоятельство значительно Ухудшало положение дел в походе. Так, кроме 30 000 австрийцев, выставленных на основании союзного договора императором Францем и находившихся под начальством того самого князя Шварценберга, который впоследствии командовал союзной армией против Французов; кроме 20 000 пруссаков, снаряженных прусским королем, было еще 50 000 поляков, 20 000 итальянцев, 10 000 швейцарцев и около 130 000 баварцев, саксонцев, вюртембержцев, вестфальцев, кроатов, голландцев, испанцев и португальцев.
За исключением поляков, которые видели в успехе Наполеона надежду на восстановление былого Царства Польского и потому сражались очень храбро, и швейцарцев, верность которых раз данному слову считалась непоколебимой, остальные иностранные полки были очень ненадежны. Они не только постоянно готовы были пуститься наутек, стреляя в тыл французам, как это впоследствии сделали саксонцы, но и вносили в лагеря дух мятежа, беспорядки, дезорганизации и нарушения дисциплины. В особенности же много вреда наделали их постоянные попытки мародерствовать, что страшно восстанавливало мирных жителей против французов.
Еще в то время, когда армия двигалась от Одера к Висле, вюртембержцы корпуса Нея отчаянно грабили Пруссию, по владениям которой шли войска. Они жгли, убивали, разрушали все на своем пути, наводя страх и отчаяние на мирное население страны, с которой армия вовсе не воевала. Ответственность за их возмутительное поведение всецело падала на французов, которым и неслись вдогонку проклятия, и это обстоятельство в значительной степени содействовало пробуждению в 1813 году немецкого патриотизма, ставшего мощным пособником действиям коалиционной армии.
Впоследствии, когда Наполеон въезжал в Ковно, то к нему с воплями кинулись местные жители, бросаясь в ноги и моля защитить от неистовства солдат. Да и вся окрестность своим видом свидетельствовала о пронесшихся над нею ужасах: поля были вытоптаны, деревни разгромлены целиком, повсюду валялись трупы непощаженных детей, женщин и стариков. К тому же солдаты-чужеземцы категорически отказывались повиноваться приказаниям французских офицеров и слушались только своих генералов. А те в свою очередь постоянно вступали в пререкания с командовавшими французскими корпусными командирами, так что очень часто из-за этого срывались тонко задуманные Наполеоном обходные движения и марши.
Если принять во внимание, что в Великой армий на 370 тысяч французов приходилось почти 250 тысяч иностранных войск, то значение описываемых неудобств станет ясным само собой.
Помимо обычных трудностей по диспозиции войск в малознакомой местности, Наполеону еще приходилось считаться с особенностями различных корпусов, составлявших армию. Одних иностранцев нельзя было пускать, так как они были ненадежны. Пускать их в атаку впереди французских войск было невозможно, так как иностранные солдаты, сражаясь за чужое им дело, не отличались храбростью. Пускать позади было рискованно, так как от них ежеминутно можно было ждать предательства.
По мере движения в глубь страны к дезорганизации и деморализации армии прибавились еще существенные затруднения от громоздкости обоза. За армией следовало бесконечное количество всяких телег и тележек, предназначенных для подвоза съестных припасов, так как заранее знали, что при такой грандиозной армии, раскинувшейся по сравнительно небольшому пространству в бедной стране, нечего рассчитывать получать все необходимое тут же, на месте. Тут же брели целые стада скота, предназначенного на убой для нужд армии. Понтонеры со своим громоздким обозом загромождали дороги. Кареты чинов главного штаба, желавших путешествовать со всеми удобствами, еще усиливали смятение и неурядицы в движении. Кроме штабов императора, неаполитанского короля Мюрата, вестфальского короля Иеронима, принца Евгения Богарнэ, маршалы Даву, Ней и Удино тащили за собой фургоны и телеги, нагруженные столовой посудой, одеждой, даже мебелью. Не только тщеславный Мюрат, но и почти все корпусные командиры, за исключением разве одного только умеренного и скромного Лефевра, имели при себе каждый по свите адъютантов, офицеров, секретарей, лакеев, личный багаж которых еще удлинял бесконечную нить обоза, извивавшегося по узким дорогам среди топей болотистой страны. О, какими далекими, какими вышедшими из моды казались теперь нравы итальянских и зарейнских походов! Все офицеры империи, от генералов до простого капитана, страдали непреодолимым влечением к чрезмерной роскоши. На каждой остановке первым делом устраивались роскошные обеденные столы, уставленные серебром и вазами. Ковры, элегантные кровати, диваны, сундуки с гардеробом и бельем следовали за чинами главного штаба. Это была уже не армия, бросающаяся в бой на Россию, а скорее караван гигантских размеров, составленный из представителей всех наций, различные наречия которого сливались в нестройный гул, где мелькали всевозможные мундиры, где можно было встретить все продукты промышленности и искусства двадцати наций. Лагерь принимал вид какой-то мировой ярмарки. Когда звучал сигнал, приказывающий двигаться с места, то вся эта толпа людей поднималась медленно, тяжело, неохотно, причем со стороны это должно было казаться каким-то странным переселением народов, эмиграцией целого племени, покидающего родную страну, без надежды когда-либо вернуться обратно, потому увозящего с собой оружие, сокровища и богов. Да и для большинства из солдат это движение вперед было и на самом деле переселением, но только — увы! — переселением в иной мир!
А позади обоза главного штаба двигалась целая орда, состоявшая из маркитантов, торговцев старьем, женщин, детей и скота. И вся эта волнующая толпа, которую вскоре должна была поглотить во время обратного бегства Березина, двигалась частью на полуразвалившихся тележках, запряженных быками, а иногда и влекомых впряженными людьми, напоминая собой дикие толпы вандалов и гуннов.
Наполеон всеми силами старался избавить армию от этого мертвого груза. Он издал строжайший указ, ограничивающий число экипажей, которые могли следовать за каждым офицером сообразно с его рангом и чином; он определил количество багажа, которое было дозволено брать с собой офицерам; он отправил назад иностранных дипломатов и секретарей, примазавшихся к штабам под видом желания лично присутствовать при торжестве французского оружия, а на самом деле — просто шпионивших в интересах своих правительств. Он разделил свой личный главный штаб на две части: штаб главной квартиры должен был следовать за ним на расстоянии и догонять его только в тех городах, где император останавливался на более или менее продолжительное время; а личный штаб, следовавший за ним, состоял только из самых необходимых ему адъютантов. Сам Наполеон оставался наиболее скромным и воздержанным из числа всех военных; он спал на узкой и жесткой походной кровати и вез за собой в качестве личного багажа только четыре громадных сундука, где находились его карты и топографический материал. Впрочем, позади, за штабом главной квартиры, слуги императора из излишнего усердия везли несколько ящиков со столовым серебром. Впоследствии, во время отступления, эти ящики были утоплены в Днепре, лишь бы они не достались в руки преследовавших армию казачьих разъездов.
С самого вступления в пределы России Наполеону пришлось натолкнуться на пассивное сопротивление, составлявшее главную основу того плана, который был разработан императором Александром и Барклаем де Толли по совету Нейпперга, переданному через графа Армфельда. По мере того как французы наступали, русские осторожно подавались назад. Каждый раз французам казалось, что вот-вот должно разразиться сражение, но после небольших стычек русские хладнокровно и спокойно отступали в глубь страны. Иногда французам удавалось почти настигнуть русских, но в таком случае на сцену выступали казаки, бесшабашная отвага которых заставляла французов на минуту дрогнуть и остановиться. А тем временем прикрытые ими главные силы спокойно отступали, да и сами казаки, врезавшись во вражеские войска, быстрым аллюром уносились обратно, бесследно скрываясь в лесах.
Составляя план русской кампании, Наполеон совершенно упустил из вида возможность этого. Ему и в голову не приходило, чтобы русские допустили его забраться в самую глубь страны. Правда, он говорил и писал своим приближенным и корреспондентам, что «идет на Москву», но это было скорее поэтическим оборотом, чем реальной надеждой. Наполеон думал, что в первом же сражении, которое неминуемо должно произойти где-нибудь около русской границы, войска императора Александра будут разбиты и русский царь будет униженно просить его о мире.
Поэтому он был очень удивлен, когда русские войска очистили Вильну.
Но вскоре ему сообщили шпионы, что русские нашли позицию у границы неудобной для того, чтобы развернуть все свои силы, и решили дать сражение у Дриссы, где немцу Пфулю было поручено окопаться и выстроить укрепленный лагерь. Правда, такой план существовал, и Пфулю действительно было поручено начать работы, но вскоре они были прекращены, так как удалось воочию убедиться, насколько плохо было выбрано место. Но последнего Наполеон не знал. Он был очень рад, что русские решились дать сражение именно у Дриссы, так как из карт и планов знал, что этот укрепленный лагерь в силу извилистого течения реки и близлежащих болот будет для русских войск самой настоящей мышеловкой. Поэтому он быстро создал новый план.
Он знал, что главные силы русских разбиты на две армии: первая, северная, под командой Барклая, держалась около Двины между Витебском и Динабургом; вторая, под командой князя Багратиона, южная — около Днепра. Он знал также, что дунайская армия, освободившаяся вследствие подписания хотя и не ратифицированного до сих пор турецкого мира, идет под командой адмирала Чичагова и что третья, самая небольшая армия, под командой Тормасова, поджидает дунайскую. Поэтому надо было, во-первых, разбить русских, не давая дунайской армии возможности поспеть на подмогу, а во-вторых — не допустить Багратиона соединиться с Барклаем. Значит, он должен был быстрым маршем перейти Двину слева от Барклая и развернуть все свои силы у Дрисского лагеря. А раз он овладеет этим лагерем и разобьет первую армию, то дороги на Петербург и Москву будут в его распоряжении; он займет их, пока маршал Даву и король Жером разобьют Багратиона на Днепре.
Все это было задумано очень тонко и остроумно, но для выполнения плана необходимо было, чтобы русские приняли бой. А русские все продолжали отступать, не принимая ни одного из предложенных им сражений!
В то же время во французской армии разыгрался конфликт, имевший самое скверное влияние на успех задуманного плана. Король Жером слишком медлил выполнять предписанные ему движения и достаточно поздно соединился с корпусом Даву. Рассерженный Наполеон лишил за это брата самостоятельного командования и подчинил его маршалу Даву. Но вестфальский король не пожелал подчиниться постигшей его немилости и отказался от командования вообще. Этот конфликт между Жеромом и Даву затянулся настолько долго, что позволил князю Багратиону выиграть целую неделю на марше в спуске к Днепру. Таким образом первой половине плана, то есть разгрому южной армии и недопущению соединения обеих армий, уже не суждено было сбыться. Но оставалась еще вторая половина его — разгром русских в западне Дрисского лагеря.
Однако и этой второй половине плана не суждено было исполниться: инженерный полковник русской службы Мишо добился возможности переговорить с русским императором и доказать ему, насколько слаб и ненадежен Дрисский лагерь. Мишо был известен как выдающийся знаток своего дела; кроме того, император Александр лично осмотрел укрепления и вполне согласился с мнением Мишо. Таким образом план Барклая де Толли еще раз восторжествовал над желанием Аракчеева грудью встретить французов.
Волей-неволей, но Наполеону приходилось двигаться вслед за отступающим врагом в глубь страны. Между тем наступил июль месяц и стояла тягостная жара. Французские войска изнемогали, страдали от палящих лучей солнца и от жажды, утомлялись длинными маршами по пыльным дорогам. И ночью русские тоже не давали им отдохнуть как следует: русские войска отдыхали днем, а двигались ночью и то и дело тревожили французов внезапными атаками. Когда французские войска подошли к Березине, то они благословляли эту реку, которая дала им возможность выкупаться и освежиться. Увы! Они не знали тогда, что менее чем через шесть месяцев эта река станет холодной могилой для большинства этих бравых молодцов! Теперь последние шли вперед с пением песен и с надеждой отдохнуть после славной победы и славного мира.
Каждый день гренадеры и стрелки с нетерпением спрашивали себя, когда же настанет день генерального сражения, после которого можно будет отдохнуть. Они вспоминали свои прежние походы, вспоминали Италию, Голландию, Австрию, Пруссию и не сомневались, что день, подобный Маренго, Аустерлицу или Фридланду, отдаст всю Россию во власть их императору.
Но день шел за днем, а желанного сражения все еще не было. Правда, у Фатовской мельницы, у Могилева, у Островно были стычки, но они не могли идти в счет, так как это были просто авангардные схватки, не дававшие особенных результатов.
Наконец в половине июля можно было подумать, что русская армия решила принять сражение; это было под Витебском.
Подвигаясь усиленным маршем, французская армия увидела наконец сиявшие золотом кресты и купола витебских церквей, монастырей и костелов. В прозрачности летнего воздуха ясно было видно, как вдали сплошной массой развернулось русское войско. Наконец-то дело дойдет до сражения! Более ста тысяч человек двигалось в долину Витебска — значит, было с чем вступить в дело! А там подоспеют и другие корпуса! И армия разразилась громовыми криками радости. Казалось, что победа уже почти одержана ею!
Наполеон сел на лошадь и лично руководил делом, которое должно было стать почти решающим для исхода кампании.
В то время как саперы занимались исправлением поврежденного русскими моста, через который должна была пройти кавалерия Нансути, триста солдат выдвинулись слева вперед. На них сейчас же вихрем налетели казаки и принялись сечь и рубить их напропалую. Но французы сдвинули ряды и, не отступая ни на шаг, принялись метким и частым ружейным огнем поражать неизвестно откуда взявшегося неприятеля.
Наполеон увидал в бинокль опасность, которой подвергались храбрецы, и сейчас же двинул на них 16-й стрелковый полк; последний оттеснил казаков, выручив отважных разведчиков.
— Кто вы, храбрецы? — спросил у них император, радостный и довольный, что большинство их вышло целыми и невредимыми из этого леса копий и сабель.
— Стрелки девятого линейного, ваше величество, все — дети Парижа! — ответил сержант.
— Ну, так вот что, милые мои парижане! — сказал император, сияя от удовольствия. — Вы все заслужили по кресту! Ну, а теперь — за мной! Дорога на Москву открыта. Вперед!
Но русская армия, прикрываемая кружившимися по всем тропинкам, словно рои пчел, казаками, все отодвигалась и отодвигалась, скрываясь в далекой полумгле.
И на этот раз тоже пришлось отложить надежду на генеральное сражение.
Наполеон нахмурился, и его въезд в Витебск был омрачен дурными предчувствиями, мучившими его с некоторого времени.
При вступлении войск в столицу Белоруссии авангарду прежде всего пришлось броситься тушить пожар, вспыхнувший в предместье оставленного населением Витебска. Но с этим делом справились быстро, и занятие города произошло беспрепятственно. Наполеон провел в Витебске несколько дней и затем снова двинулся в путь. И снова зашагала Великая армия по пыльным дорогам. Стояло около 30 градусов жары по Реомюру, воды было мало, хлеба не хватало. Солдаты страдали от ходьбы, от жары, от недостаточного отдыха и видимой бесцельности похода: русскую армию так и не удавалось настигнуть. Мрачное отступление по занесенным снегом полям изгладило воспоминание о страданиях наступления, но и в этот период французской армии приходилось терпеть большие лишения. И без того тяжелая, то песчаная, то болотистая дорога казалась еще тяжелее из-за жажды, голода, усталости. Лошади падали прямо на ходу, и количество отставших все увеличивалось и увеличивалось. Солдаты ворчали и говорили, что им никогда не заставить Барклая де Толли принять сражение.
Вся русская кампания представляла собой сплошной синодик страданий и несчастий. У этой Голгофы было два склона, и если спуск был особенно трагичен, то и восхождение было не сладко. И если в людской памяти уцелела только трагическая одиссея отступления, то и ужасы наступления заслуживают того, чтобы воскресить их в глазах потомства. Правда и то, что отступление было сплошь безрадостно и безнадежно, тогда как при наступлении все-таки попадались редкие оазисы в виде коротких схваток и сражений, внушавших надежду на скорое прекращение кампании и на почетный мир в Москве.
Не только солдаты, но и офицеры и даже маршалы были немало угнетены всем происходящим.
Бертье, князь Ваграмский и начальник главного штаба, был одним из самых недовольных во всем офицерском составе.
Этот начальник главного штаба, которому некоторые историки приписывают даже стратегические таланты, хотя он не имел ни случая, ни возможности развернуть таковые, на самом деле был просто военным секретарем Наполеона. Он ни разу не отдавал ни одного приказа по личной инициативе, не написал ни одной депеши, не продиктованной ему императором. Он не только не касался общих планов и решений по важным вопросам, но не принимал участия даже в разработке отдельных деталей маршей и передвижений войск. Император все делал сам, все знал, все видел, всем распоряжался. Разумеется, большинство из намерений Наполеона Бертье узнавал первым, но никогда император не советовался с ним — во-первых, Бертье никогда не позволил бы себе критиковать или проверять военные операции, признанные Наполеоном полезными, во-вторых как доказало дальнейшее, особенной находчивостью и сообразительностью Бертье не отличался: когда 27 ноября Мюрат, растерявшийся при известии о бегстве Наполеона, обратился в Виль-не к Бертье с просьбой посоветовать ему, что делать и на что решиться, то Бертье ответил ему, что не его дело давать советы — он, дескать, привык только рассылать приказы, а не давать их!
Через несколько дней после того, как французская армия заняла Витебск, где Наполеон дал ей немного отдохнуть, чтобы перевести духи подобрать отставших, маршал Лефевр вошел в дом, в котором помещался князь Ваграмский.
Лефевр только что вышел от императора. Он получил от него последние распоряжения, касавшиеся движения гвардии.
— Подымайтесь, князь! Да, ну же, старый солдат! — весело заговорил Лефевр с порога комнаты. — Принимайтесь за укладку ваших пожитков, да и марш-марш в дорогу!
— Опять в дорогу? — с отчаянием в голосе спросил Бертье, вставая навстречу герцогу Данцигскому, — А куда именно ведет нас теперь император?
— В Смоленск!
Начальник главного штаба с подавленным стоном опустился в кресло перед столом, на котором лежала раскрытая карта России.
— Ну на что, — пробормотал он, — на что было давать мне полторы тысячи ливров ренты, на что дарить дивный дом в Париже, великолепную землю? Неужели только для того, чтобы заставлять меня испытывать муки Тантала? Я умру здесь от всех трудностей похода. Простой солдат счастливее меня!
И в то время как Лефевр ответил ему жестом, в котором ясно читалась фанатичная решимость солдата следовать с закрытыми глазами за своим командиром всюду — на север, на юг, куда только ему заблагорассудится нести свое знамя, Бертье ответил со вздохом, в котором явно сквозила глубокая меланхолия:
— Ах, как бы мне хотелось быть теперь в Гросбуа!
Гросбуа было дивным поместьем в окрестностях Парижа, подаренным императором другу Бертье.
Таким образом случилось так, что даже щедрость императора и блестящие награды, которыми он осыпал своих сотрудников, обратились против него же и у тех, на энергию которых ему приходилось особенно рассчитывать, отнимали стойкость и выдержку, более чем когда-либо необходимые в этом безрассудном марше сквозь всю Европу, закончившемся в беспредельных степях России.
Бертье, «этот гусенок, из которого я старался вырастить орла», как сказал Наполеон, позвал своих секретарей, Саломона и Ледрю, приказал написать им приказ о выступлении армии, а затем пошел с Лефевром к ожидавшему их императору.
Они застали Наполеона мрачным и задумчивым.
Казалось, что перед его духовным взором уже носились картины плачевного отступления. Мрачное предчувствие грядущего разгрома светилось в его возбужденном взоре. Он начинал понимать, что счастье устало летать за ним из одного конца вселенной в другой, что оно готово изменить ему, перейти в лагерь врагов. В его душе звучал голос, говоривший: «Остановись, пока не поздно! Так нужно!» Но другой голос, звучавший еще громче, к которому он более склонялся душой, голос, ласкавший его слух от Эча до Нила, от Таго до Вислы, бормотал с трагической льстивостью: «Вперед! Вперед! Все вперед, навстречу мечте, навстречу любимой грезе! Откажись от благ мира сего ради того, чтобы выполнить свое предначертание! Вперед! Вперед!» И, слушая этот голос, Наполеон терял последние остатки благоразумия и рассудительности.
Обоих маршалов он принял без той грубости, которая была свойственна ему, но зато с грустью, которая ему обыкновенно свойственна не была.
— Ну, так что же, друзья мои? — заговорил Наполеон, вопросительно впиваясь взглядом в Бертье и Лефевра. — Вот мы и опять идем вперед! Но что говорят в армии? Довольны ли мои орлы, что им приходится двигаться все вперед и что есть надежда вскоре покончить с этой ужасной войной?
Бертье, как всегда находчивый в придворной лести, ответил с глубоким поклоном:
— Армия счастлива, что вы, ваше величество, изволите быть в вожделенном здравии, и рассчитывает на грядущую вскоре победу, благодаря которой можно будет заключить славный мир и вернуться во Францию.
— Мир! Как бы я хотел мира! — пробормотал император. — Я всегда хотел его, что бы ни говорили про меня. Но разве я мог без боя вернуть своих орлов обратно, позорно покинув Пруссию, как того требовал от меня император Александр? Я могу говорить с ним о мире только тогда, когда займу одну из его столиц. Мы находимся сейчас на московской дороге — ну, мы и пойдем в Москву! Ты как глядишь на это, Лефевр?
— Ну, я-то всегда гляжу на дело глазами вашего величества, — ответил Лефевр после необычного для него колебания, — но тем не менее…
— Тем не менее что? Да ну же, говори, что у тебя на сердце! Ты ведь знаешь, старый товарищ, что я всегда охотно слушаю твою откровенную речь… как это было утром восемнадцатого брюмера на улице Шантерэн.
— Где вы, ваше величество, дали мне свою саблю.
— Да… После Иены, перед Данцигом.
— Где вы, ваше величество, пожаловали меня титулом. О, я не забыл ни одного из ваших благодеяний, ни одного из знаков расположения вашего величества! — с воодушевлением воскликнул герцог Данцигский. — Поэтому то, что я знаю, и держу при себе, а если чего боюсь, так прикусываю язык из боязни, чтобы не вырвалось лишнего слова.
Наполеон подошел к Лефевру и, положив ему руку на плечо, сказал ласковым голосом:
— Ты не прав, мой славный Лефевр, если прикусываешь язык и сдерживаешь порыв души передо мной! Говори, я сумею все выслушать! С тех пор как я вступил на землю этой проклятой России, я перестал быть прежним человеком. Прежде я сомневался в других, теперь сомневаюсь в самом себе. Я уже не чувствую в себе прежнего господина над роком. Что-то ускользает от меня, я похож на внезапно разбуженно человека, старающегося прогнать тяжелый кошмар и не сознающего с достаточной ясностью, где начинается действительность, где кончается сон. Надо помочь мне, поддержать, и кому же, как не вам, товарищи двадцати боевых лет, помочь мне разобраться среди призрачных фигур, навеянных болотными туманами? Ну, скажите, князь, в каком состоянии армия? Я хочу знать это!
— Ваше величество, нравственное состояние армии все еще великолепно, — ответил Бертье, — но только число дезертиров все увеличивается и отставшие подают солдатам дурной пример в мародерстве и отсутствии субординации.
— Так прикажите для острастки расстрелять несколько человек, вот и все! Ну, а мои орлы, мои герои, мои старые боевые товарищи — они-то не собираются ни мародерствовать, ни покидать свое знамя?
— Нет, ваше величество, этого нет. Но они ворчат…
— Черт возьми! Узнаю моих ворчунов, моих дорогих ворчунов! — улыбаясь сказал Наполеон. — Ну и пусть жалуются как умеют, пусть даже ругают меня! Они ворчат, но следуют за мной! Они называют меня сумасшедшим, честолюбивым безумцем… о, я отлично сознаю это! Они ворчат, но выигрывают мне сражения! Герцог, вы командуете моей гвардией, так скажите, что она? Чего она хочет?
— Ей-Богу же, ваше величество, раз вы знаете, что и гвардия тоже ворчит, как и вся армия, так я вам скажу, что гвардейцы устали бегать за русскими, которые отступают при нашем приближении, — ответил Лефевр.
— О, мы их догоним!
— Как знать! Ежедневно ожидают сражения, и ежедневно надежда на это не оправдывается. Сегодня говорят: это будет завтра… Но когда наступит оно, это завтра?
— Мы постараемся ускорить наступление этого дня! В Смоленске, вероятно, или в Москве, наверное, мы встретимся лицом к лицу с русскими и разобьем их! — с убеждением ответил Наполеон.
Лефевр покачал головой, услыхав, с какой уверенностью император говорил о сражении под стенами Москвы.
— Ну, а пока что, — сказал он, — эти проклятые дикари все отступают и отступают перед нами! Однако это отступление не предвещает мне ничего хорошего. Вся страна вооружается, и к русской армии примыкают ополченцы. Чем больше времени проходит, тем глубже отступает русская армия, тем она становится все больше и даже страшнее, быть может! А мы только таем и слабеем с каждым шагом! Мы не можем нанести решительный удар русским и вечно натыкаемся только на казаков, которые вьются около нас, как комары, не дают покоя ни днем, ни ночью и жалят, жалят без конца. Поднимаешь руку, чтобы прогнать их, — они разлетаются во все стороны. Заснешь спокойным сном — они слетаются к вашему изголовью и во время сна жалят вас, высасывают кровь. Мы истощаем силы в бездействии, ваше величество; когда же они увидят, что мы достаточно ослабели и пали духом, то эти москиты налетят на нас еще более смелым и жадным роем! Вот где опасность, ваше величество!
— И вы дадите себя побить каким-то москитам, вы, герои, орлы?
— Ваше величество, нужно очень немногое — чрезмерный жар или холод, недостаточность питания или сна, — чтобы превратить армию храбрецов в нестройную орду! Ведь Россия, видите ли, слишком велика. Мы только подошвы истреплем в погоне за русскими. Теперь-то их расчет весь как на ладони: чувствуя себя слишком слабыми, чтобы сопротивляться, не имея достаточного количества солдат, чтобы выставить их против нас, они сражаются с нами отступлением. Но они-то ведь у себя, они имеют постоянный подвоз пищевого довольствия и по мере отступления находят подкрепления. Мы же очень далеки от родины, мы можем только раскрошиться, уменьшиться числом, как уменьшается булка, которую треплют неделями в походном ранце. Ваше величество, время — великий чародей; нас оно ослабляет, а врагов усиливает. Наша и русская армии напоминают два снежных кома: только наш-то тает, а их — нарастает.
— В твоих словах много правды, Лефевр. Но можешь ли ты что-нибудь предложить? Есть у тебя план, идея?
Честный Лефевр ответил полным комического отчаяния жестом.
— Идея? План? У меня? — сказал он. — Ну уж нет! Это ваше дело, потому что вы — наш император. Вы только скажите, что нам делать, а мы уж сделаем!
— Ну, а вы, Бертье, что скажете? В качестве начальника главного штаба вы, быть может, составили какое-нибудь особое мнение, как надо вести и как можно скорее кончить эту проклятую войну, воспользовавшись добытыми преимуществами? — спросил Наполеон.
— Я вполне согласен с Лефевром, — ответил Бертье, — и, как и он, вижу большую опасность в этом неуклонном движении вперед. Наш наличный состав растаял почти наполовину, а мы еще не дали ни одного сражения. Жара нанесла нам больше вреда, чем казацкие пики и ядра русской артиллерии!
— А говорили еще, будто в России холодно! — буркнул Лефевр. — Ах, черт возьми, да когда же ветер подует с севера?
— Раньше, пожалуй, чем мы с тобой пожелаем этого! — ответил Наполеон. — Но все-таки, князь, я спрашиваю ваше мнение, что вы мне посоветуете?
— Мне кажется, что самым разумным будет остановиться, пока еще есть время! — ответил Бертье, решаясь высказать мнение, которое разделяла вся армия.
— А ты тоже думаешь так, Лефевр?
— Да, ваше величество. Остановиться не значит бежать! Мы теперь находимся на границе Польши и Московии, теперь мы дошли до порога настоящей России. Так укрепимся здесь. Здесь у нас найдется пищевое довольствие, фураж; армия оправится, отдохнет. Мы будем в состоянии встретить русских как следует, если они вздумают напасть на нас. А чтобы занять чем-нибудь наших солдат, можно было бы двинуть их на север и взять Ригу, которая защищена гораздо слабее Данцига; мы могли бы двинуться на Волынь и, остановившись на зимних квартирах, организовать Царство Польское…
— Царство Польское! Вот как легко говорятся великие слова! — воскликнул Наполеон. — Черт возьми, неужели вы воображаете, что так просто взять да и восстановить Польшу? Не правда ли, вы хотите, чтобы я восстановил ее в прежних ее границах?
— Ваше величество, — еще более энергично ответил ему Лефевр, — поляки храбро сражались в наших рядах, вы им кое-чем обязаны! Раздел их родины тремя монархами был актом незаконным. Мы должны исправить его! Вы должны вернуть несчастным изгнанникам землю, где погребены кости их отцов! В данном случае это является делом не только гуманности, справедливости, признательности, но это важно в интересах чисто политических! Восстановив Польшу, мы создадим непреодолимый барьер перед Францией к вечной славе вашего величества!
У Наполеона вырвалось недовольное движение, когда он услыхал энергичный голос старого республиканца, только и мечтавшего о помощи угнетенным народам.
— Восстановить Царство Польское, — сказал он, — разве я могу сделать это? Конечно, я отлично понимаю, каким барьером ляжет Польша перед Францией, если когда-нибудь нам изменит счастье и император Александр, подняв меч, захочет броситься на ослабевшую Францию. Да и кто может предвидеть, что случится с громаднейшей империей, которую я оставляю в наследство ребенка, если умру вскоре? Конечно, Польша будет охраной моего трона и твердыней империи; но поляки не ладят между собой, их раздирают внутренние междоусобицы. Их аристократы мечтают о восстановлении королевства ради личных выгод, а народу все равно, кто его будет грабить — свой или чужой. Да и Россия защищает крестьян от самовольства панов. Поэтому верхи и военные за нас, а буржуазия, крестьянство и вообще низы смотрят на нас с недоверием. А главное: австрийский император — мой родственник и союзник, и теперь я более чем когда-либо должен быть в ладу с ним. Я гарантировал императору Францу, что ни одна крупица из принадлежавших ему польских земель не будет отнята у него. Так как же восстановить прежнее Царство Польское? Нет, нет, пусть поляки подождут сначала победы. Только в Москве и может решиться участь этого Царства Польского! Что же касается остальных ваших возражений, в особенности пищевого довольствия, то я не вижу почему, став здесь на зимние квартиры, мы будем больше обеспечены, чем находясь ближе к Москве. Здесь сравнительно бедная страна — но народ гораздо богаче. Да и я не считаю данное место удобным для зимних квартир. Правда, теперь Двина и Днепр прикрывают нас. Но это летом, а с наступлением зимы реки станут и явятся отличными дорогами для русских. Французы же неспособны оставаться в бездействии. Они будут разбегаться по сторонам, чтобы помародерствовать для забавы, а их будут подстерегать русские сторожевые отряды и избивать поодиночке. Таким образом наш наличный состав в течение зимы может сильно уменьшиться. А ведь у нас теперь август, кампания только еще началась. Что же подумают во Франции, когда узнают, что мы остановились в самом начале? Разве там не привыкли к быстроте наших маршей? Европа усомнится в моем успехе, а ведь многое только и держится на моем престиже. Неужели же возможно, чтобы монарх оставался целый год вдали от родной страны и не дал туда знать за все это время ни об одной победе? Нет, друзья мои, мне одинаково невозможно как остановиться здесь, так и отступить. Наша слава, наше спасение впереди! Бертье, приготовьте на завтра приказ о выступлении! Лефевр, пусть моя старая гвардия встряхнется! Через две недели она победительницей войдет в Смоленск, и через месяц я назначаю моим героям свидание в московском кремле!
Жребий был брошен, и Франция проиграла…
Наполеон провел в Витебске почти две недели. Вся армия была уже брошена вперед, а гвардия все еще оставалась в Витебске, так как Наполеон производил ежедневные учения. Ввиду того, что перед генерал-губернаторским домом, в котором он жил, не было достаточно места, то Наполеон приказал снести несколько домов и церковь, утрамбовать на их месте площадь для плац-парада. Ему приходилось теперь обращать особое внимание на старые, испытанные войска, не раз уже прежде приносившие ему победу, так как в Витебске он получил два известия, очень неприятно поразившие его.
Первое из них было известие о ратификации Портой Бухарестского мира. До сих пор Наполеон, знавший о заключении мира, был глубоко уверен, что Порта только даст русским войскам отойти немного, а потом откажется ратифицировать мирный договор. Так по крайней мере советовали сделать султану посланные им в Турцию агенты. Но теперь надежды Наполеона не оправдались, и вся дунайская армия была свободна. А ведь она состояла из отборных солдат, да еще победоносных, что, как признавал великий знаток солдатской психологии Наполеон, страшно влияет на их геройский дух.
Вторым неприятным известием было сообщение о воззваниях императора Александра к населению, призывавших к общему вооружению, а ведь еще раньше Наполеон знал, до какого фанатизма доходит у русских любовь к родине. Так, когда он приказывал Коленкуру узнать очень важную для него государственную тайну, то Коленкур (бывший до войны послом в Петербурге) ответил ему, что подкупить русских невозможно, так как «даже тот, кто возьмет 500 рублей за несправедливое решение в суде, не примет от меня миллиона за измену отечеству». Таким образом Наполеон отлично понимал, что вскоре против него должна разразиться всенародная война, и потому необходимо было предупредить ее, крупным поражением заставив русских склониться к миру. Но это поражение должно было быть действительно ужасным и потрясающим. Вот почему Наполеон до последней минуты занимался своей гвардией, которая была его главной надеждой и опорой.
Тем временем авангард французской армии подходил к Смоленску, встречая на пути передовые русские отряды, оказывавшие французам храброе, но недолгое сопротивление и отходившие затем назад. Дело в том, что хотя обе русские армии и соединились к этому времени, но они были еще далеко, и предварительный отпор неприятелю, который должен был сдержать его, надлежало выдержать корпусу Неверовского. Солдаты этого корпуса сражались, как львы, но, разумеется, не могли надолго сдержать непрекращавшуюся лавину французских войск. Мало-помалу к Неверовскому подходили подкрепления, которые могли помочь ему медленнее отступать и затруднить марш французской армии. К пятому августа все главные силы французов были уже под стенами Смоленска, куда благодаря храбрости передовых русских отрядов успели прибыть и обе армии — Барклая и Багратиона.
Смоленск расположен на левом берегу Днепра и был огражден высокой, но ветхой стеной с тридцатью башнями, окруженной неглубоким рвом. Завидев купол собора, возвышавшегося над всеми остальными постройками, Наполеон радостно вздохнул: он был перед тем городом, который русские не могли сдать ему без боя. Он в особенности укрепился в надежде на генеральное сражение, когда в подзорную трубу разглядел серые змеи войск, спешивших к Смоленску.
— Ведь не для того же спешат они в город, — заметил он Лефевру, — чтобы через день выйти из него без решительного сражения.
Но герцог Данцигский только пожал плечами.
— Русские на все способны; кто их знает! — буркнул он.
Действительно, Наполеону и в голову не могло прийти, что, продолжая последовательно развивать свой план, Барклай де Толли хотел только симулировать защиту Смоленска, но совсем не собирался ставить из-за него на карту всю судьбу будущего.
Правда, русские оказали геройское сопротивление, и, несмотря на то, что сильная канонада из французских орудий вызвала в городе ряд пожаров и русским солдатам пришлось сражаться среди моря пламени, Наполеону не удалось в двухдневной битве добиться никаких решительных успехов; все-таки ночью с пятого на шестое августа (с 24 на 25 июля) 1812 года русские войска оставили Смоленск. Как донес Барклай де Толли своему императору, цель защиты Смоленска была только в том, чтобы дать возможность армии князя Багратиона добраться до Дорогобужа. «Дальнейшее удержание Смоленска не могло иметь никакой пользы, наоборот — оно могло бы повлечь за собой только напрасное истребление храбрых солдат. Поэтому решился я после удачного отражения приступа неприятельского оставить город и со всей армией взять позицию на высотах против Смоленска, делая вид, будто ожидаю его атаки».
На заре 6 августа французские пушки снова забухали, закидывая ядрами Смоленск. Но Наполеон был поражен, что из города ему не отвечают. Присмотревшись, он заметил, что на стенах не видно солдат. Были посланы разведчики — они донесли, что в городе не видно ни малейшего присутствия защитников. Тогда французская армия заняла Смоленск — русские снова отступили, не понеся значительного урона, не допустив генерального сражения!
Въезжая в объятый пожаром город, Наполеон задумался о словах Лефевра, что «русские на все способны». Эта тактика окончательно сбивала его с толку — он не знал, что ему делать. Идти вперед? Но до каких пор? Ведь таким образом его армия очень скоро растает — под одним Смоленском полегло около десяти тысяч! Но, с другой стороны, ни повернуть назад, ни остановиться не представлялось возможным. Наполеон уже приказал послать в Париж и дружественным державам реляции о взятии Смоленска, в которых описывал страшный разгром русских и геройскую победу французской армии. Это было необходимо, так как о действиях французского оружия уже давно не было ничего слышно. Но если теперь остановиться, то у всех за границей невольно встанет вопрос: «Почему же армия остановилась, раз она осталась победительницей?»
Значит, ничего не осталось, как продолжать идти вперед, вперед! В Москву! Там император Александр подпишет мир, с войной будет кончено! Да и какой эффект произведут декреты, рассылаемые по всей Европе, с пометкой: «даны в Кремле такого-то числа»! Нет, нельзя было остановиться в Смоленске, в этих развалинах, когда их ждала Москва, столица царей!
Но была еще и другая причина, заставлявшая Наполеона быстрым маршем двинуть войска по московской дороге.
Он получил извещение, что русское дворянство, не посвященное в планы Барклая де Толли, формируя на свой счет батальоны, громко выражало неудовольствие отступлением русской армии. В такую эпоху, которую переживала Россия, особенно важно было прислушиваться к голосу общественного мнения. А ведь не только дворянство, формировавшее ополчение, но и купечество, щедро сыпавшее денежные пожертвования, и солдаты, рвавшиеся в бой, — все негодовали на Барклая и упрекали его в измене.
Поэтому императору Александру пришлось прислушаться к общему голосу и назначить главнокомандующим всех русских армий престарелого Кутузова, ученика и сподвижника великого Суворова. Это назначение казалось Наполеону очень счастливым: Кутузов, следуя примеру своего учителя, не знавшего отступлений, непременно даст французам генеральное сражение. Но нельзя было дать ему время укрепиться и собрать все силы, которыми располагала Россия. Надо было налететь на него, поразить быстротой натиска, смять, растоптать! А что в случае генерального сражения так именно и будет — в этом Наполеон ни минуты не сомневался.
Но все генералы, во главе с Неем, пытались отговорить императора от продолжения похода в глубь России и делали ему вполне резонные представления. Вот уже несколько дней, как лил беспрестанный дождь, и болотистая местность окончательно размокла. Орудия вязли в грязи, лошади падали, издыхая в упряжи, но не будучи в силах стащить с места тяжелые осадные пушки. Лихорадка свирепствовала в рядах солдат и уносила больше жертв, чем вражеские пули и ядра. Так почему бы не обождать в Смоленске?
Наполеон задумался и как будто поколебался. Наконец он сказал:
— Да, погода нам не благоприятствует. Эта страна совершенно непроходима из-за болотистой почвы. Если погода не изменится, то завтра я дам приказ повернуть к Смоленску!
Но, к несчастью для французов, погода переменилась. На следующий день, 23 августа, яркое солнце заиграло на безоблачном небе, позлащая палатки Великой армии и весело отражаясь в полированных частях оружия. Свежий ветерок подсушивал дороги. Надежда и радость возвращались вместе с солнцем.
— Да разве можно повернуть назад в такую погоду! — весело сказал Наполеон, хватаясь за этот предлог, чтобы отказаться от исполнения данного обещания, счастливый возможностью снова двинуться вперед. — Да ну же! Даву, Мюрат, встряхнитесь, черт возьми! Вперед на русских! Мы скоро нагоним их и славно отдохнем в Москве!
Солнце, как позднее снег и холод, оказалось союзником России!
Если бы дождь не перестал, то, сознавая невозможность двигаться вперед с артиллерией по болотам, Наполеон был бы вынужден вернуться в Смоленск и стать там на зимние квартиры. Таким образом война затянулась бы до весны 1813 года, и неизвестно тогда, какой оборот приняла бы она для русских.
Но этого не хотела судьба. Солнце Аустерлица светило теперь врагам.
И Наполеон двигался все вперед, вперед навстречу ожидавшей его пропасти.
XIV
После ухода Анрио генерал Мале остался наедине с женой.
Она была в курсе замыслов мужа, хотя и не знала подробностей проекта. Единственно, что она знала, — это конечную цель, заключавшуюся в уничтожении империи. Но она не понимала, каким образом можно было рассчитывать на подобный переворот.
После недолгого молчания Мале резко сказал ей:
— Решено! Сегодня вечером, дорогая жена, я попытаюсь освободить этот угнетенный народ!
Госпожа Мале вскрикнула и, беспокоясь и боясь неуспеха, спросила:
— А ты рассчитываешь на успех? У тебя, вероятно, имеются какие-нибудь новости?
— Да, и очень важные. Император умер, я получил это известие из России от верного друга, — ответил Мале. — Правительство еще ничего не знает о смерти Наполеона. Только ночью, а может быть, даже завтра утром Парижу станет известно великое событие. Заблаговременное сообщение о счастливой катастрофе и эта ночь не пройдут для меня даром. Я намерен воспользоваться изумлением одних и растерянностью других. Я соберу всех желающих блага народу, постараюсь возбудить энергию патриотов; благоразумные старые партии предоставят мне свободу действовать в надежде извлечь свою выгоду во время общего замешательства. Да, я вырву власть из рук неспособных и преступных бонапартистов; впрочем, они и сами по первому сигналу поспешат засвидетельствовать свою покорность. Я рассчитываю сегодня же ночью или — самое позднее — утром, на рассвете провозгласить новое правительство. Я — истый республиканец и не желаю власти лично для себя. Правительственная комиссия обсудит, какую форму правления лучше всего предложить французскому народу. Если партийные и частные интересы заставят комиссию отказаться от Республики, я уйду совсем. Я не воспользуюсь предоставленной мне властью. Убедившись, что препятствия слишком велики, чтобы победить их, и установив изустный порядок в стране, я покину Францию и уеду вместе с тобой, моя дорогая, куда-нибудь подальше, в колонии, может быть. Во всяком случае я буду чувствовать себя удовлетворенным, сознавая, что все-таки сделал много для своего отечества, освободив его от военного деспота, который угнетал народ и купал его в крови. Я почти уверен, что все последуют за мной, хотя нынешние французы с великой радостью идут под иго. Приходится силой и хитростью срывать с них цепи, — прибавил Мале с загадочной улыбкой.
Предупредив жену, чтобы она ничего не рассказывала о смерти Наполеона до тех пор, пока это известие не станет общим достоянием, он поручил ей отнести его генеральский мундир к монаху Каманьо, жившему на улице Сен-Жиль.
Пробил час, когда посторонние посетители должны были удалиться из лечебницы. Мале поцеловал несколько раз жену, которая медленно ушла, стараясь скрыть слезы от швейцара. Мале проводил ее до решетчатых ворот сада; здесь была граница, за которую выход строго воспрещался всем пансионерам-узникам.
В шесть часов раздался звонок, призывающий пансионеров к обеду. Мале прошел в столовую и спокойно сел за стол со своими обычными компаньонами. Ничто в его поведении не выдавало того важного решения, которое он принял. Мале обладал такой силой воли, таким умением владеть собой, что прошел после обеда в салон и засел играть в партию виста, как это делал ежедневно. В десять часов он поднялся, с довольным видом сосчитал свой выигрыш и, пожелав своим партнерам большого успеха в дальнейшей игре, простился с ними и отправился в свою комнату. В одиннадцать часов вся лечебница погрузилась в сон; в окнах не видно было ни одного огонька; всюду царила полнейшая тишина.
Мале осторожно вышел из своей комнаты и спустился по черной лестнице, от которой раньше достал ключ. Пройдя сад, он подошел к стене, где его уже ожидал аббат Лафон с лестницей, взятой у садовника. Оба заговорщика благополучно перелезли через каменную стену забора и, спрятав лестницу, чтобы она не бросилась в глаза проходившему мимо патрулю, быстро направились в соседнюю улицу.
Аббат нес толстый портфель, который был наполнен бумагами, составленными Мале, а последний держал под плащом два заряженных пистолета, чтобы выстрелить в каждого, кто осмелился бы вдруг помещать исполнению его плана. Оба шли молча, погруженные в свои думы. Мале мысленно видел Наполеона низверженным, заключенным в крепость, даже казненным. Аббату представлялся Людовик Восемнадцатый, коронующийся в Реймсе и вручающий ему шапку кардинала. Наконец оба дошли, не возбудив ничьего подозрения, до улицы Сен-Жиль, где находилась квартира Каманьо.
Мале и Лафар опустили в отверстие деревянного ящика, прикрепленного к дверям, два обрывка письма, которые должны были служить для них пропуском. Дверь тотчас же открылась. Монах ожидал их. У его пояса висел пистолет, а на плече лежало ружье. Рато и Бутре находились уже в соседней комнате. Монах подвел Мале к окну и указал ему на приготовленных лошадей во дворе. На столе той комнаты, где ждали Рато и Бутре, были разложены пистолеты, шпага, сабля и полный мундир дивизионного генерала; кроме того, тут же лежал трехцветный шарф.
— Я вижу, что мои распоряжения прекрасно поняты и выполнены, — весело заметил Мале, — это хорошее предзнаменование.
Улыбаясь, он начал натягивать парадный мундир, точно собираясь на бал.
— Возьмите этот трехцветный шарф и наденьте его, — обратился Мале к Бутре, окончив свой туалет, — вы назначаетесь комиссаром полиции при временном правительстве.
Бутре возложил на себя шарф и, сдвинув шапку набекрень, принял воинственный, строгий вид начальника полиции, готового схватить каждого, кто отважится оказать сопротивление властям.
Рато не успел одеться в казарме подобающим образом и пришел в ночной сорочке. Мале указал ему на узел, доставленный Марселем, и велел облачиться в мундир генерального штаба.
— Я обещал тебе повышение, мой милый, — сказал генерал солдату, — и держу свое слово. Теперь на тебе мундир капитана, кроме того, ты назначаешься моим адъютантом.
— Благодарю вас, ваше превосходительство! — воскликнул Рато. — Клянусь вам, что вам не придется увидеть в моем лице ни труса, ни изменника.
— Однако почему же нет доктора Марселя? Неужели он вдруг испугался? — спросил Мале. — Известна ли кому-нибудь причина его отсутствия?
— Я получил от него записку, — ответил Каманьо, — она состоит всего из двух строк: «Не ждите меня. Я возвращаю себе свободу действий. Встретил полковника Анрио. Сожгите бумажку».
— Только всего? Странно! — озабоченно заметил Мале. — Что означает эта встреча с полковником Анрио? Неужели он отговорил Марселя принимать участие в нашем деле? Ну, достаточно будет и нас пяти. Лучше даже пуститься в наше смелое предприятие в обществе людей вполне верных и решительных, таких, как вы, мои друзья. Однако довольно разговоров, пора действовать! Садитесь на лошадей и двинемся немедленно к францисканским казармам.
— Теперь невозможно выйти, — возразил Лафон, — слышите, дождь льет как из ведра. Я только что был на дворе, чтобы поставить лошадей в конюшню.
— Ах, дождь! — иронически засмеялся Мале. — Впрочем, вы правы. В ливень не делают революции, по словам Петиона, а этот бывший мэр Парижа понимал кое-что в этом деле. Ну, подождем, пока дождь перестанет, а тем временем поужинаем, чтобы убить время.
У монаха оказались хороший погреб и вместительный буфет. Заговорщики ели и пили с удовольствием и в конце ужина чокались бокалами пунша и произносили своеобразные тосты. Пили за смерть Наполеона, Камбасереса, министра полиции Ровиго, за смерть верных маршалов Нея и Лефевра; за всех тех, от которых толпа должна была избавить Францию. Решено было, что Мария Луиза отправится в Австрию, а маленький Римский король будет поручен вольным морякам, которые сделают мальчика сначала юнгой на корабле, а затем матросом, и сын Наполеона никогда не узнает о своем настоящем происхождении.
Дождь прекратился только в половине четвертого, и Мале, Рато и Бутре покинули улицу Сен-Жиль.
Аббат Лафон вместе с Каманьо должны были остаться в квартире последнего в ожидании событий и быть готовыми исполнять те распоряжения, которые им будут отданы Мале.
Мале прежде всего отправился в казарму французской гвардии, находившуюся вблизи квартиры Каманьо. Там помещалась десятая когорта.
Рато и Бутре, такие же смелые и решительные, как их начальник, сильно постучали в запертые ворота казармы. Часовой забил тревогу. Вскоре прибежал запыхавшийся начальник караула. Увидев генерала, он подумал, что назначен внезапный ночной осмотр, впустил Мале и его спутников и почтительно дожидался дальнейших распоряжений.
Мале приказал ему сообщить полковнику когорты, что генерал Ламотт желает видеть его.
Это имя принадлежало офицеру, который даже не подозревал о заговоре Мале. Впоследствии настоящему Ламотту было очень трудно доказать свою невиновность; подозревали, что он состоял в заговоре или по крайней мере знал о том, что Мале думает назваться его именем. Между тем Мале, просматривая список генералов, совершенно случайно остановился на фамилии Ламотт.
Мале последовал за начальником караула и вошел вместе с ним в комнату полковника. Полковник Сулье, участвовавший в итальянской кампании, помнил подвиги Наполеона, когда он был еще первым консулом, и обожал его как императора. Со временем ему пришлось жестоко поплатиться за свое легковерие.
Внезапно разбуженный полковник был поражен, увидев в своей комнате генерала, его адъютанта и комиссара полиции. Сулье протер глаза и тревожно спросил, что случилось.
— Я вижу, что вас еще не известили о важной новости, — спокойно проговорил Мале. — Итак, знайте: император умер, сенат, собравшись ночью, провозгласил временное правительство. Я — генерал Ламотт. Вот приказ, который я должен вручить вам от имени генерала Мале, назначенного военным губернатором Парило. Мне поручили следить за тем, чтобы этот приказ был выполнен в точности.
Сулье был не совсем здоров, и ошеломляющая новость лишила его всякого присутствия духа, всякой способности рассуждать. Он сделался жертвой обмана и поплатился за это своей жизнью.
Сулье чувствовал себя совершенно разбитым и начал торопливо одеваться; его руки дрожали, он не мог надеть сапог, всовывая в него не ту ногу, которую следовало. Импровизированный комиссар полиции подал ему копию сенатского решения и письмо за подписью Мале. В последнем сообщалось, что генерал Ламотт передаст полковнику Сулье распоряжение сената, которое полковник Сулье должен немедленно выполнить.
Приказ гласил следующее:
«Вооружите возможно скорее всю когорту, соблюдая величайшую тайну. Ввиду этого не позволяйте извещать офицеров, находящихся в данную минуту вне стен казармы. В тех отрядах, где отсутствуют офицеры, команду на себя возьмут фельдфебели».
Этот приказ, если допустить, что император действительно умер, не представлял собой ничего невероятного. Для большей убедительности в конце приказа находилась приписка:
«Генерал Ламотт передаст вам чек на сто тысяч франков, которые предназначаются на повышение жалованья солдатам и на двойные оклады офицерам». В постскриптуме значилось, что полковник Сулье с частью своих солдат должен отправиться в городскую ратушу и передать прилагаемое запечатанное письмо префекту Сены, который должен был приготовить к восьми часам большой зал для принятия генерала Мале со штабом.
Легковерный Сулье ни на одну минуту не усомнился в правдивости сообщенной новости и в законности отданных распоряжений. Его даже не поразило странное требование не извещать офицеров, находившихся вне казармы.
Полковник позвал своего адъютанта, Антуана Пиккереля, и поручил ему немедленно вооружить солдат и собрать их во дворе казармы; туда же отправился он сам в сопровождении Мале, Бутре и Рато. Бутре торжественно прочел вслух решение сената. Впоследствии было доказано, что во время этого чтения Мале многозначительно переглянулся с капитаном Пиккерелем и поручиком Лефевром. Они действительно принадлежали к партии филадельфов и знали о проекте Мале. Но оба офицера совершенно отрицали свое участие в заговоре, когда им пришлось отвечать перед военным судом.
Чтение Бутре было выслушано безмолвно. Ни звука протеста, ни малейшего восклицания не слышалось вокруг. Слепое повиновение, без рассуждения, строго предписывалось солдатам, и они были послушны этому предписанию. Начальник сказал, что император умер — нужно было верить; другой начальник — полковник когорты — приказал идти к ратуше, и солдаты, не колеблясь, ни в чем не сомневаясь, покорно пошли. Такая дисциплина могла вызвать похвалу со стороны Наполеона, а никак не обвинение в преступлении.
Энергия Мале возрастала от видимого успеха. В полном восторге от оборота дела, Мале отделил часть армии для себя — приблизительно около тысячи человек — и решил повести их под собственной командой к тюрьме Ла-Форс; другая часть, под командой Сулье, должна была отправиться к городской ратуше. Таким образом Мале, бывший всего несколько часов тому назад узником, стал во главе довольно значительного отряда и повел его к тюрьме, где должен был совершиться необыкновенно смелый и вместе с тем безрассудный, почти невероятный поступок, не принесший никакой пользы затее генерала Мале.
Солдаты вышли из казармы, не отдавая себе отчета в том, куда они идут и что должны делать. Никто из них не думал оспаривать законность приказания. Военная машина точно и слепо исполняла свое дело. Ею управлял генерал в той же форме, в какой ежедневно отдавал приказания солдатам их начальник, а следовательно, не о чем было и рассуждать.
Шагая по пустынным улицам Парижа, солдаты, поневоле превращенные в инсургентов, вспоминали Наполеона; многие из них искренне восхищались императором и любили его.
«Император умер, — думали они, — какое несчастье! Кто же теперь будет побеждать врагов?»
И они шли дальше, угрюмые и мрачные, стараясь шагать в такт и размахивать руками так, как полагалось по форме.
Офицеры не сомневались в том, что переданная новость совершенно верна. Разве Наполеон не был обыкновенным смертным? Его отъезд на чужбину и редкие известия из России заставляли верить в его кончину.
— Может быть, император уже давно убит, высказывали предположение офицеры, — и от нас нарочно скрывали его смерть, чтобы подготовить новое правительство.
Было около шести часов утра, когда Мале в сопровождении своего войска подошел к тюрьме Ла-Форс.
XV
Двадцать третьего июля 1812 года в приемной императрицы, среди многих лиц, ждавших аудиенции у Марии Луизы, находился и высокой чиновник в парадной форме, с резкими чертами лица и насмешливой улыбкой на губах.
— Господин Бейль! — позвал его дежурный камергер.
Чиновник поднялся. Это был тот самый Бейль, который под псевдонимом Стендаля прославился как автор высокоталантливых романов.
Бейль должен был видеть Римского короля для того, чтобы передать Наполеону личное впечатление, произведенное на него наследником престола как в физическом, так и в умственном отношениях. Помимо этого Бейль имел поручение и от императрицы: она уполномочила его сопровождать камергера Боссе, который должен был вручить Наполеону портрет сына, посылаемый Марией Луизой в далекую Россию.
Когда оба посланные явились в императорские покои, было уже шестое сентября. На другой день бледное солнце, отуманенное пороховым дымом, осветило восемнадцать тысяч убитых на равнине Бородино, вблизи Москвы.
Наполеон ждал с большим нетерпением страшной и решительной битвы с Кутузовым. Расчеты французского императора не оправдались, и все, казалось, приняло дурной оборот с самого начала кампании. Он не мог догнать Багратиона и напрасно старался захватить Барклая де Толли. Осада Смоленска задержала Наполеона, но взятие этого пылающего города не дало большой выгоды французам. Наполеон проник в планы русских, он понял, что должно было означать их постоянное отступление; поэтому известие о том, что Кутузов идет к нему навстречу, желая преградить путь в Москву, наполнило сердце французского императора живейшей радостью.
Наполеон ошибался в расчетах, задумав наступление, но, с другой стороны, и русские впали в заблуждение, перестав отступать и желая сопротивляться вторжению французов в Москву. Русская армия не была настолько сильна, чтобы остановить Наполеона, а проигранное сражение заставило бы их отдать Москву, то есть сделать именно то, чего они хотели избежать. С другой стороны, ожидаемая кровавая бойня должна была, конечно, сильно ослабить французскую армию и сделать ее дальнейшее пребывание в пределах России почти невозможным. Таким образом с обеих сторон можно было ждать разочарований, но тем не менее в обоих враждебных лагерях желали решительного сражения.
Однажды, проходя вдоль берега реки, протекавшей через Бородино, эскорт Наполеона захватил молодого казака. Император велел дать пленнику лошадь и, гарцуя рядом с ним, стал выспрашивать его о том, что делается в русском лагере. Переводчик переводил ответы казака, который никак не подозревал, кто именно едет с ним и задает вопросы. Простота костюма Наполеона ввела в заблуждение простодушного обитателя степей.
Словоохотливый казак не скупился на слова. Он откровенно заявил, что русские ожидают скоро большой битвы и заранее уверены в поражении, так как французами командует генерал Бонапарт, который всегда разбивает врагов и одерживает победу. От него можно было только бежать.
— Со временем, когда к нам придет подкрепление, а у французов с наступлением зимы не хватит провианта, мы, может быть, будем счастливее, — сказал казак, — а пока наше дело плохо. Если Бог захочет, он отнимет у Наполеона Бонапарта счастье в войне, но пока, очевидно, Бог не хочет этого, — прибавил донской казак с чисто восточным фатализмом.
Император улыбнулся наивному сообщению молодого воина и поручил переводчику объявить казаку, с кем он едет рядом и так фамильярно разговаривает.
Когда солдат узнал, что видит перед собой самого Наполеона, его изумлению не было границ; он соскочил со своей лошади и, упав на землю, поцеловал стремя императора. В глазах казака ясно выражались такое восхищение, такой беспредельный восторг, что он имеет счастье говорить со сказочным богатырем, что Наполеон был тронут. Он приказал дать пленнику лошадь, провиант, немного денег и отпустить на все четыре стороны.
— Поезжай к своим товарищам, — проговорил император, — и скажи им, что послезавтра Наполеон вступит в Москву вместе со своим храбрым войском. Ты свободен.
День шестого сентября прошел очень весело во французском стане. Загорелись костры, над которыми задымился суп; солдаты чистили оружие, и даже постоянно угрюмые ворчуны в этот день ощущали радость бытия. В окрестных селах и деревнях была набрана кое-какая провизия, и солдаты получили увеличенные порции. Это обстоятельство, а также присутствие императора, объезжавшего лагерь, уверенность в победе и надежда отдохнуть в Москве приводили французскую армию в довольное, веселое настроение. Но для какого количества из них этот день был последним, сколько солдат стояло уже на пороге вечности!
В русском лагере было темно и мрачно. Кутузов не рассчитывал на победу, и русские солдаты молились, не надеясь прожить следующий день.
Кутузов приказал отслужить молебен с крестным ходом. Перед фронтом армии пронесли Смоленскую Божью Матерь, уцелевшую при пожаре в Смоленске.
— Бог не допустил, чтобы святая Заступница попала в руки врагов, — говорили солдатам. — Она не погибла в огне, и, пока Пресвятая с нами, француз не победит нас.
Крестный ход — громадное, величественное, внушительное шествие — двигается по всей линии русских войск. Кутузов и все начальствующие лица следовали с обнаженными головами и сосредоточенным видом за вереницей духовенства, сопровождавшего архиерея, перед которым офицеры несли чудотворную икону Божьей Матери. Шествие долго двигалось между палатками и бивуаками. Из французского лагеря можно было различить в наступавших потемках огни больших и малых свеч в руках причта. Набожный народ черпал много энергии и твердости в своем уповании на помощь свыше. Вид чудотворной иконы, оживляя в сердцах надежду побороть судьбу и восторжествовать над Наполеоном, служил залогом победы. Духовенство, вдохновив пламенной верой войска, исправляло оплошность Кутузова, который, чересчур растянув линию фронта, рисковал быть обойденным с левого фланга и не догадывался, что взятие Шевардинского редута подвергало его величайшей опасности. Все историки единодушно признают плохими диспозиции Кутузова под Бородином. План маршала Даву, отвергнутый Наполеоном по причине его крайней рискованности и состоявший в том, чтобы обойти русских слева, незаметно пробравшись в ту сторону ночью через Утицкие леса, мог прижать русскую армию тылом к Москве-реке, загнав ее в тупик, замкнутый Шевардинским редутом. Поэтому если Кутузов, обреченный на поражение уже в силу занятых позиций, не дал уничтожить вконец свою армию и даже мог оспаривать победу, то единственно благодаря храбрости своих войск и неожиданной осторожности Наполеона. Таким образом нравственная сила, почерпнутая русскими во время крестного хода, намного уменьшила неизбежное поражение. Вера способна до крайности воодушевлять людей. Когда солдат убежден, что Небесные Силы сражаются вместе с ним и за него, эта уверенность может склонить победу на сторону его оружия. Старик Кутузов умел искусно управлять этой дружиной русской души. Если бы его солдаты дрались менее храбро, если бы они не защищали так упорно свои позиции и не заставили купить победу дорогой Ценой, Наполеон, наверное, пустился бы за ними в погоню и уничтожил бы их.
Сделав все свои распоряжения, император возвращался к себе в палатку, когда двое лиц в штатском платье бросились ему в глаза посреди множества военных мундиров. Он с любопытством приблизился к ним. Тогда де Боссе и Анри Бейль, поклонившись государю, исполнили поручение, данное им Марией Луизой.
Наполеон встрепенулся в приливе наивной радости Он проворно соскочил с лошади, кинулся к ящику, который подали ему посланные императрицы, и хотел собственноручно распаковать его, но не мог сделать это. Зато он с нетерпением следил глазами, как за это принялись Рустан и его лакей. Он торопил их, находя, что они копаются, и нагибался, чтобы видеть, далеко ли подвинулась их работа и скоро ли драгоценный подарок императрицы освободится от своих оболочек.
Наконец портрет его сына появился перед ним, и сухие, холодные глаза великого деспота подернулись влагой. Он сдержался, чтобы не заплакать в присутствии своих офицеров, и поспешил понюхать табаку из табакерки, лихорадочно дрожавшей у него в руке.
На несколько секунд Наполеон замер в каком-то экстазе, с простертыми вперед руками, точно хотел привлечь к себе образ своего сына и прижать его к сердцу.
На портрете, прекрасном образчике живописи кисти барона Жерара, ребенок был представлен сидящим в своей колыбели и забавляющимся с бильбоке.
Один из посланных заметил вполголоса, что шарик, пожалуй, изображает здесь державу, а палочка — скипетр.
Эта лесть, услышанная Наполеоном, заставила его улыбнуться и на минуту отвлекла его от восторженного созерцания. Он приказал отнести портрет к себе в палатку, тотчас бросился туда, отпустил всех своих приближенных и остался один с изображением сына. Увидев вновь белокурую кудрявую головку, которую ему суждено было увидеть еще всего два раза в жизни да и то урывками, Наполеон перестал быть императором и сделался опять просто человеком. Пожалуй, в эту минуту умиления великий полководец постиг тщету всякого земного жребия, силу материальных преград, обманчивость величия и говорил себе, что он неосторожно упустил счастье ради призрака могущества и что ему жилось бы гораздо лучше вдали от трона и погони за военной славой, в спокойной безвестности, когда он мог безмятежно совершать свой жизненный путь счастливым отцом, ведя за руку малютку сына.
В своей радости при виде невинного и кроткого личика своего ребенка Наполеон, отогнав печаль, овладевшую им при мысли о громадном расстоянии и грозных событиях, разлучивших его с сыном, захотел, чтобы армия разделила его отеческое удовольствие. С этой целью он приказал выставить портрет на стуле возле своей палатки.
Тогда маршалы, генералы, офицеры, преимущественно из лести, а затем солдаты, дравшиеся под Фридландом, под Риволи, более искренние в своем грубом энтузиазме, настроенные достаточно фанатично, потянулись вереницей мимо портрета Римского короля радостно приветствуя изображение сына своего кумира.
Целый день портрет оставался на виду у солдат.
Обрадованный подарком Марии Луизы Наполеон до самого вечера был весел и оживлен. Он добродушно выслушал рассказ полковника Сабвье, только что прибывшего из Испании, о неудачном южном походе. Привезенные им известия были далеко не радостные. Несогласие между командирами, ошибки Мармона, успехи англичан могли не на шутку расстроить императора. Между тем он не обнаружил ни малейшего недовольства и с серьезным спокойствием выслушал донесение Сабвье о битве при Саламанке. Отпуская полковника, Наполеон сказал, что он исправит на берегах Москвы-реки оплошности, совершенные его полководцами при Арпилахе. Римский король своим изображением умиротворял и смягчал все, делал сносными для отца такие вести, которые при иных обстоятельствах он принял бы со взрывами гнева и с резкими словами по адресу недоброго вестника.
На закате солнца император бросил последний взгляд на позиции русских и, убедившись, что они твердо стоят на своих линиях и не думают на этот раз скрываться от неприятеля, заранее уверенный в победе, потому что сражение не ускользало от него, вошел в палатку для отдыха.
Глубокая тишина воцарилась над необъятной равниной с небольшими возвышенностями, где тени в виде громадных волн перекатывались, двигались, колыхались и исчезали. Бивуачные огни там и сям пронизывали мрак красными точками, словно барки, плывшие в море тумана. Церковное пение русских смолкло. Вакхические песни, гривуазные речи французов не нарушали больше безмолвия отдыхающего лагеря. Моросил мелкий холодный дождик. Часовые на аванпостах, закутавшись в шинели, прижимались спиной к чахлым стволам деревьев. Дыхание трехсот тысяч спящих воинов тихо поднималось от земли. Это затишье, это спокойствие служили прелюдией к дикой сумятице и зловещему грохоту, которые должны были начаться с рассветом. Ничто не намекало здесь пока на кровавую бойню, на мрачное кладбище, в какое предстояло превратиться от одного солнечного восхода до другого этой безмолвной и тихой равнине, где, подобно усталым пахарям, восстанавливающим силы для мирного труда с наступлением утренней зари, беспечно спали вповалку пехотинцы, кавалеристы, понтонеры, артиллеристы, отдаваясь блаженной неге у громадных костров, бредя во сне красивыми женщинами и обильным провиантом, которые достанутся им в Москве после победы над русскими.
Желая убедиться, что неприятель не двинулся с места, Наполеон предпринял ночью последний обход своего лагеря и тут, застигнутый ледяным, пронизывающим дождем, схватил жестокий насморк, который вызвал у него на другой день лихорадку и затруднил его мозговую деятельность.
В три часа утра, согласно его приказу, войска тихо взялись за оружие. Утренний туман был густ и холоден. Под прикрытием этой завесы принц Евгений двинулся к деревне Бородино, расположенной против большого редута; реку Колошу перешли вброд; Ней и Даву заняли свои позиции; тогда как Фриан с маршалом Лефевром и гвардией располагались в центре, Понятовский пошел вправо, через леса, а канониры, выстроившись с орудиями трех громадных батарей, ожидали только сигнала.
Император поместился у Шевардинского редута. Мюрат прошел мимо него с театральным салютом. Он щеголял в мундире зеленого бархата, расшитом золотыми позументами, в польской конфедератке с перьями и в желтых сафьяновых сапогах с большущими шпорами. Кинув саблю, он размахивал хлыстиком, говоря:
— Довольно и этого, чтобы прогнать казаков!
Этот Мюрат, вульгарный, грубый, чересчур пестрый, смахивавший скорее на паяца, чем на воина, сделался, однако, героем настоящей битвы гигантов, которая зовется у русских Бородинским сражением, а у французов — боем на Москве-реке.
Мюрат четыре раза кидал грозные массы кавалерии, вместе с кирасирами Латура-Мобура, карабинерами генерала Дефранка, на каре русской пехоты. Он был всем, он поспевал везде. Мюрат заменил Даву, первого из полководцев Наполеона, заболевшего в начале опасной битвы. Он находился возле Нея, храбреца из храбрецов, в самом разгаре сражения. Он перешел через лощину, защищаемую русской гвардией, взял легендарный Шевардинский редут, занял позицию у села Семеновского.
Мюрат находился во главе первых солдат в мире, дивизии Фриана, когда этот знаменитый полководец был унесен на перевязочный пункт, где его раненый сын был уже в руках хирургов. Великолепная рать осталась без предводителя. Великий комендант тотчас подоспел туда: начальник главного штаба Солидэ только что принял на себя командование, но поспешил уступить его зятю императора. Пуля пролетела между ними как раз в ту минуту, когда они пожимали друг другу руки в знак передачи командования.
— Однако тут скверно! — с улыбкой заметил Мюрат. — Мне чуть-чуть не рассекли хлыст! Ну, ладно, мы недолго останемся в этом гадком месте; русские скоро очистят нам дорогу! — И он крикнул своим звучным голосом, обернувшись к солдатам, которые отбивали в ту минуту атаку русских кирасир: — Стройтесь в два каре! Солдаты Фриана, вспомните, что вы — герои!
— Да здравствует король Мюрат! — подхватили солдаты Фриана и, маневрируя, как на учебном плацу, выстроились в два каре, сосредоточенный огонь которых смел и обратил в кровавые, беспорядочные груды великолепных русских кирасир, благодаря чему перед французами стало просторно, и скверное место сделалось сносным.
Это сражение было ужасно. Ней и Мюрат, подобно героям древности, оказывались непобедимыми и неуязвимыми. Кровопролитная резня превзошла все виденное раньше на полях битв. Ни в древние века, ни при новейших войнах, несмотря на свирепость индивидуального боя, когда сражались холодным оружием, и на разрушительную силу артиллерии и скорострельных ружей в современных битвах, напряженность кровопролития не достигала такого ужаса. Французов было убито тридцать тысяч, русских легло на поле брани шестьдесят тысяч. Сорок семь генералов и тридцать восемь полковников выбыло из строя во французской армии. Возле этих 90 тысяч трупов бродило со зловещим ржанием двадцать тысяч раненых лошадей посреди пустых зарядных ящиков.
Уже один перечень начальников, сраженных и пострадавших в этом ужасающем столкновении, доказывает ожесточение славной Бородинской битвы: командующий русской армии князь Багратион был убит во время атаки большого редута. В рядах французов были тяжело ранены: маршал Даву, генералы Фриан, Моран, Раппе, Компанс, Бельяр, Нансути, Груши, Сен-Жермен, Брюейер, Пажоль, Дефранк, Бонами, Тест, Гилерминэ. Генералы Коленкур, Монбрен, Ремеф, Шастель, Ланшер, Компер, Дюна, Дессэ, Канонвиль были убиты. Полудивизиями командовали среди дня бригадные генералы.
К концу сражения храбрый Серюзье, артиллерийский генерал, производил рекогносцировку расположения одной батареи, по его мнению, слишком выдвинутой вперед и подвергавшейся опасности со стороны казаков Платова, как вдруг до его слуха донесся барабанный бой. Барабаны били поход.
Это император проезжал по полю битвы, чтобы поддержать своим присутствием раненых и воодушевить уцелевших.
Серюзье приблизился к Наполеону, и тот приказал ему немедленно собрать все свои эскадроны, желая произвести им смотр.
— Ваше величество, теперь не время производить смотры, — ответил Серюзье, — нас сию минуту атакуют!
И действительно, тотчас же казаки и башкиры с дикими криками бросились на императора и артиллеристов. В этой грозной атаке неприятельской кавалерии участвовало более двадцати тысяч человек. Император оказался в опасности при таком неожиданном возврате к наступлению, а Мюрат куда-то исчез.
Серюзье кинулся к орудиям. Он велел открыть пальбу ядрами из четных пушек, тогда как нечетные палили картечью. Все выстрелы этого убийственного огня попадали в тесные ряды казаков. Пальба производилась так же правильно, как на учении. Павших казацких лошадей перед батареями набралась такая груда, что они образовали целый холм. Император улыбнулся.
— Ну, — сказал он, обращаясь к Серюзье, — если они хотят еще, так угостите их!
Четыреста огненных пастей принялись тогда изрыгать целый дождь снарядов на русскую кавалерию, которая отступила в беспорядке и добралась до гвардии, расположенной позади. В плен больше не брали. Происходило массовое избиение.
Миновало то время, когда искусные маневры генерала Бонапарта и первого консула охватывали армии Альвинзи, миланскую и эрцгерцога Карла, вынуждая их слагать оружие.
Затерявшись в необъятной русской империи, извлекши из Франции все, чтобы кинуться на север, не рассчитывая больше ни на подкрепления, ни на поддержку, Наполеон вел войну свирепого уничтожения. Пуская в дело кавалеристов Мюрата, пехотинцев Нея, артиллеристов Сервюзье, он вел себя как исследователь, окруженный дикарями, нападающими в африканских лесах: он мог проложить себе дорогу только уничтожая все, что преграждало ему путь.
Когда пушки Сервюзье отбросили неприятеля, император все-таки захотел произвести смотр, затеянный им раньше, когда ему показалось, что сражение кончено.
Он раздал награды всем храбрецам, указанным ему. Он вызвал Нея, в то время уже маршала и герцога Эльхингенского, и при рукоплескании войск дал ему титул принца Московского. Что касается Сервюзье, который защитил его от натиска казаков и окончательно обратил в бегство неприятеля, то Наполеон задал ему такой вопрос:
— Кто храбрейший из всех твоих подчиненных?
— Право, не знаю, ваше величество! — простодушно ответил тот. — Могу только сказать, что я — первый трус!
Этот ответ рассмешил императора. Наградив крестами и чинами солдат Сервюзье, он сказал ему:
— Я должен кончить тобой, потому что, по твоим словам, ты — первый трус. Жалую тебе четыре тысячи франков годового дохода и титул барона.
Наполеон умел награждать храбрых.
Наконец на поле битвы спустилась ночь. Бородин екая равнина представляла собой не что иное, как необъятный перевязочный пункт, а местами — морг, где валялись тысячи окровавленных, истерзанных, обезображенных трупов ужасного вида. Ложбина у села Семеновского казалась колоссальным гробом, куда свалили кое-как мертвецов. Там укрылись от канонады русские солдаты, и Мюрат искрошил все, что попало из живого мяса под его хлыст, более смертоносный, чем молот Атиллы. Все осталось бездыханным, где пронесся этот всадник смерти.
Русские оспаривали у Наполеона Бородинскую победу. Кутузов имел неосторожность написать императору Александру, что разбил французов, и если отступали перед Наполеоном, то лишь для того, чтобы спасти Москву, священный град. Ростопчин, предав огню первопрестольную столицу, очищенную жителями без отпора неприятелю, опроверг этим поступком смелое заявление полководца.
Французская армия ночевала на захваченных бородинских позициях. Она заняла редуты, воздвигнутые русскими. Кутузов отступил со своей армией назад. Сражение было принято русскими для того, чтобы прикрыть и спасти Москву, и если Наполеон вступил несколько дней спустя в московский кремль, то ясно, что русские были им побеждены 7 сентября. Однако эта победа не была решительной и куплена дорогой ценой, а вследствие беспорядочного отступления французов в зимнюю пору ее результаты были незначительны. Бородинская бойня не отдала Россию во власть французской армии, не заставила императора Александра предложить французам мир и вместе с тем жестоко ослабила Наполеона.
И здесь надо лишний раз воздать честь великому полководцу (искренне оплакивая в то же время, во имя человеколюбия, эти массовые избиения, признанные бесплодными как историками, так и философами, и государственными людьми) и сознаться, что никогда гений Наполеона не был более могучим, универсальным и всесильным, как под Бородином.
Отделенный от Франции громадными расстояниями, чувствуя, как позади него шевелится Германия, готовая схватиться за оружие и ударить ему в тыл, если он будет разбит, стремясь дать решительное сражение, чтобы устрашить русского императора и его советников, веря, что ему предложат мир после этого кровопролития, Наполеон принял битву, но в первый раз почувствовал важность внезапных потерь.
Он руководил всем боем издали, предоставляя действовать Нею и Мюрату. Тем не менее его распоряжения обеспечивали за французами финальное обладание полем битвы. Однако, склонившись над равниной, Наполеон с невыразимой тревогой следил, как таяли и исчезали один за другим его полки. Чем их заменить? Вот какая мысль точила его во время сражения. Он походил на смелого игрока, удвоившего ставку и спрашивающего себя, хватит ли ему золота, чтобы до конца попытать счастья и преодолеть судьбу.
В десять часов утра императору доложили, что большой редут взят штыковой атакой 30-м линейным полком, которым командовал генерал Бонами, из дивизии Моарна. Ней и Мюрат послали тогда Бельяра просить у Наполеона его гвардии, чтобы довершить поражение. Император отказал, благоразумно находя, что было слишком рано пускать в дело гвардию еще с утра. Однако он дал вместо нее дивизию Фриана.
После взятия ложбины Ней и вице-король потребовали опять на помощь гвардию.
Наполеон согласился двинуть на русских только Дивизию Клапареда из молодой гвардии.
Когда Понятовский, покончив с занятием лесов, овладел справа Утицей, на старом Московском тракте, и русская армия, обойденная с правого фланга, начала отступать, император ответил маршалу Лефевру, который умолял о позволении окончательно раздавить русских, загнав их в Москву-реку штыками его гренадер:
— Нет, старый товарищ, я не дам тебе сегодня покрыть себя славой. Твои гренадеры выиграли достаточно битв! Русские в беспорядке, но они — хорошие солдаты. Гляди, лучшие царские войска отступают перед нами. После сегодняшнего сражения из них уцелело лишь около восемнадцати тысяч; однако восемнадцать тысяч стойких и отчаянных воинов, припертых к реке, способны оказать молодецкое сопротивление.
— Ваше величество, мы одолеем их! — настаивал Лефевр, нетерпеливо рвавшийся в бой.
— Отлично знаю, что одолеем, — ответил Наполеон, — но сколько моих храбрецов поляжет в этой последней схватке? Я не дам уничтожить свою гвардию. В восьмистах лье от Франции нельзя рисковать своим последним резервом! Герцог Данцигский, пожалуй, в скором времени я обращусь с призывом к моей гвардии! Но в данную минуту пускай она удовольствуется тем, что восхищается армией, одержавшей победу, и говорит себе, что после триумфального вступления в Москву я не могу вернуться в Париж одиноким, точно побежденный полководец.
Наполеон не догадывался, что он пророчит себе в тот момент свою горькую участь. Надо отдать ему справедливость в том, что его мудрость и осторожность были тогда достойны его гения. То не был больше отважный завоеватель Египта, смелый победитель Италии, доверчиво захватывающий неприятельские столицы; на него нашел дух осмотрительности. Он оглядывался назад. Пускаясь к неведомым берегам, он заботился о возвращении обратно. Если ему придется дать второе сражение на следующий день, с чем он вступит в бой? Ведь убитых людей не так легко заменить, как расстрелянные патроны. Наполеон поступал разумно, щадя оставшуюся у него горсть храбрецов, потому что, если верить Кутузову и русским историкам, Бородинская победа более способствовала его гибели, чем неуспех. Если бы русские остановили наступление Наполеона, то он вернул бы свои войска к Смоленску или Витебску. Он расположился бы на зимние квартиры и, подкрепив здесь солдат обильным питанием и отдыхом, приучив их к холоду, довершил бы в 1813 году занятие России и подписал бы мир в Петербурге.
Вечером после битвы Наполеон сначала распорядился перевязать раненых и объехал поле сражения, где неутомимый Ларрей три дня перевязывал раны, производил первоначальные ампутации, раздавал лекарства и корпию несчастным, хрипевшим на грязной земле. После этого объезда император вернулся к себе в палатку печальный и задумчивый.
Портрет Римского короля поразил его взор.
— Уберите прочь, спрячьте эту картину! — с живостью сказал он генералу Гурго. — Бедному ребенку слишком рано видеть поле битвы… и какой битвы! Наполеон упал на складной стул, усталый, приунывший, в лихорадочном жару от насморка; в этот момент он был победитель, недовольный своей победой. Он был испуган свирепостью резни и удивлен, не слыша в лагере веселых победных кликов и шумных приветствий, которыми солдаты прославляли его военные успехи вечером после каждого сражения. Бросив взор на развернутую карту и положив указательный палец на Францию, Наполеон, встревоженный, томимый, пожалуй, мрачными предчувствиями, спрашивал себя:
«Что говорят теперь в Париже? Что там делается? Может быть, уже распространился слух о моей смерти!»…
XVI
Заговор Мале был волшебной сказкой с трагическим финалом. В это памятное утро Париж послужил театром чудесной и драматической феерии.
В то время как Наполеон не без тревог вникал в сложившееся положение дел и даже вечером после Бородинской битвы беспокоился о том, что думают и делают без него в Париже, все-таки продолжал отважное наступление на Москву, куда он вскоре и вошел, столица Франции проснулась, озадаченная смелой выходкой Мале.
Мы оставили этого странного заговорщика, когда он отправлялся после приказаний, данных Сулье, в тюрьму Ла-Форс.
Эта старинная парижская тюрьма, знаменитая событиями, совершившимися в ней во время революции, помещалась на углу улицы Павэ-о-Марэ и улицы Сицилийского короля. Раньше то был особняк семейства Ла-Форс. Она просуществовала до царствования Карла X, когда была заменена Сен-Лазаром. При второй империи зловещее здание было разрушено.
Какая причина могла заставить Мале остановиться у входа в тюрьму и велеть отворить ее ворота вместо того, чтобы идти прямым путем в министерство, в главный штаб, и как можно скорее овладеть двумя или тремя важнейшими правительственными учреждениями: военным управлением, министерством внутренних дел с полицейским ведомством, почтамтом и городской ратушей, где должно было собраться временное правительство?
Как бы то ни было, но Мале остановился в своем шествии очертя голову и свернул в улицу Сицилийского короля, чтобы освободить двоих заключенных, двоих генералов по имени Лагори и Гидаль.
Эти двое военных были давно известны Мале, однако не имели с ним никаких сношений и никакой близости. Подобно ему, они были людьми неповиновения, недовольными, беспокойными, без особенных партийных мнений, но готовыми перейти на ту сторону, где повеет политической смутой. Оба они ненавидели Наполеона, как завидовали раньше ему, когда он был лишь генералом Бонапартом, и, разумеется, были готовы содействовать планам всякого, кто вооружился бы для ниспровержения императорской власти.
Лагори, совсем молодым человеком, достиг больших чинов. Бригадный генерал в тридцать лет, он сделался начальником главного штаба Моро. Последний, вероятно, оценил в нем полезное орудие для своих будущих заговоров. Замешанный в дело своего генерала, с которым он рассчитывал сойтись потом в Соединенных Штатах, Лагори попал в тюрьму Ла-Форс. Он, конечно, не знал планов Мале и не был посвящен в выдумку его бывшего товарища. Он также поверил вместе со всеми прочими известию о смерти Наполеона и думал содействовать государственному перевороту.
Мале было довольно легко воспользоваться легковерием Сулье, командира 10-й когорты, и солдаты этой военной части последовали за ним без колебания; но ему требовались смелые начальники, военные по профессии, способные поддержать, увлечь войска, люди надежные, на которых можно было бы положиться в минуту действия. Надо, действительно, заметить, что солдаты из казармы Миним, составившие Мале его первую вооруженную силу, были простыми национальными гвардейцами. Наполеон увел с собой в Россию всех солдат, находившихся у него в распоряжении. Франция оставалась таким образом без охраны. Чтобы обеспечить внутреннюю службу защиты и безопасности, император организовал три ополчения национальной гвардии. Первое, состоявшее из холостых людей от двадцати до двадцати шести лет, не призывавшихся в последние рекрутские наборы, было разделено на сто когорт. Каждая когорта состояла из тысячи ста человек, включая роту артиллерии. Когорты не должны были покидать пределы Франции.
Однако ополченцы, вошедшие в состав этой территориальной армии, не скрывали от себя, что Наполеон, этот истребитель людей, не задумается послать их для подкрепления своих полков в Испанию, Германию, Россию, когда ему понадобится пополнить убыль в войске. Эти национальные гвардейцы, оторванные от своих гражданских профессий, поплатившиеся своими привязанностями и интересами, составляли армию недовольных. Они были не прочь содействовать ниспровержению режима, который обратил их в солдат и подвергал кровавым столкновениям на далекой чужбине. Под командой начальников с военной репутацией и вооруженные против империи, эти когорты могли послужить достаточным рычагом для того, чтобы приподнять и повалить наполеоновский колосс. Лагори и Гидаль, на энергию и ненависть которых мог рассчитывать Мале, были бы рукоятками этого грозного человеческого рычага.
Гидаль, сорокавосьмилетний мужчина, уроженец Грасса, был замешан в беспорядках, происходивших в Варе в 1811 году. Его обвинили — правда, без явных улик, в том, будто бы он хотел выдать французские флот и арсеналы на Средиземном море англичанам. Впоследствии его вдова хлопотала перед Людовиком XVIII о назначении ей пенсии. Она выставляла на вид недавние услуги, якобы оказанные ее покойным мужем дому Бурбонов, сначала совместно с де Фроттэ, в 1794 году, когда они поднимали восстания в Орне и поддерживали шуанство в этом департаменте, где Гидаль был в должности командира. Затем госпожа Гидаль представила свидетельство, вероятно, выманенное ловким манером у английского адмирала, лорда Эймауса, и удостоверявшее, что его предшественник, адмирал Коттон, имел сношения с французским агентом по имени Гидаль, хлопотавшим о восстановлении королевства. В этих туманных доводах, имевших, однако, серьезный вид, если вдова Ги-даля опиралась на них, домогаясь пенсии от Бурбонов, полиция которых могла легко проверить, точно ли генерал тайно служил им, составляя заговоры в эпоху консульства и империи, единственная вещь представляется доказанной, именно то, что сын Гидаля служил на английских кораблях. Лорд Эймаус, списывая свое заявление с судовых журналов, не мог ошибиться. Впрочем, это не важно; вступив в заговор Мале, генерал Гидаль меньше повредил императору и принес больше пользы Бурбонам, чем в том случае, если бы он наводил английские пушки.
Генерал Гидаль не знал ничего о планах Мале. Он был удивлен и обрадован внезапному освобождению, которое он так же, как Лагори, приписывал перевороту, произведенному военной силой с поддержкой сената.
Бутре, продолжая с достоинством и энергией исполнять свои обязанности полицейского комиссара, приказал отворить камеры обоих заключенных. Он с важностью предъявил им акт об освобождении. Оба арестанта были поражены и подумали сначала, что это — замаскированный приказ о переводе в другое место с целью спровадить их в ссылку, за море. Лагори сильно мешкал при одевании. Гидаль спустился вниз с чемоданом в руке, что совсем не годилось для того, чтобы шествовать во главе войск, восставших против существующего правительства.
Велико было изумление обоих генералов, когда они увидели на тюремном дворе Мале, которого они считали узником. Свободный, в парадной форме, окруженный офицерами, он отдавал приказания. Для них стало очевидным, что совершился переворот, которым спешат воспользоваться жертвы императорской системы.
Мале обнял их, наскоро сообщил, что они свободны и призваны к командованию и что император скончался. Ничто в этих известиях не показалось им невероятным.
В тюрьме Гидаль сошелся с одним корсиканцем по имени Боккьямпи, попавшим в заключение за участие в заговоре против империи. Он попросил Мале освободить и его. Бутре получил приказ немедленно приступить к освобождению этого человека. Гидаль, совершенно оторопевший, был вовлечен таким образом в заговор, о котором не имел ни малейшего понятия и результат которого для него был тот, что, думая получить свободу, он нашел смерть. В этом приключении все фантастично.
— Ты — министр полиции, — сказал Мале, обращаясь к Лагори. — Отправляйся на свой пост, овладей зданием министерства и арестуй Савари, живого или мертвого.
Лагори согласился и, можно сказать, очертя голову поспешил в дом Савари. Бутре и Боккьямпи было поручено отправиться в полицейскую префектуру, начальником которой состоял барон Пакье.
Между заговорщиками было условлено, что они сойдутся все вместе в девять часов утра в городской ратуше, где Мале должен был находиться еще с восьми часов для учреждения временного правительства.
— Ступайте, — сказал им Мале, вручая бумаги с их назначениями и приказами начальникам службы, — нельзя терять ни минуты.
Затем он послал вестового в казарму улицы Бабилон, где помещалась муниципальная гвардия.
Полковник Раппе, старый служака, преданный императору и заседавший в военном суде при разборе дела герцога Энгиенского, был разбужен в половине восьмого утра приходом запыхавшегося адъютанта.
— Полковник, — сказал вошедший, еле переводя дух, — у нас сегодня важные новости…
Преодолев волнение, молодой офицер сообщил полковнику о смерти императора в Москве, где, по слухам, тот был убит на укреплении, и прочел начальнику полученные им приказы.
Сильно смущенный Раппе мог только пробормотать:
— Мы пропали! Что будет с нами?
Он ни на секунду не усомнился в верности рокового известия, не подумал оспаривать переданные ему приказания, но велел своему полку тотчас стать под ружье, а сам, наскоро одевшись, отправился с одним батальоном в то место, куда его требовали.
В то время как храбрый и наивный Раппе спешил таким образом навстречу собственной гибели, его полк занял указанные ему посты. Никто не догадывался о мошеннической проделке. Ни малейшего подозрения не мелькнуло ни у солдат, ни у офицеров.
Лагори и Гидаль явились в министерство общей полиции. Караульные пропустили их. Могли ли они остановить двоих генералов в мундирах и в сопровождении батальона?
Министром полиции состоял Савари, герцог де Ровиго; он был беззаветно предан империи и императору.
Савари писал до рассвета в эту ночь, 23 октября, и только что успел лечь в постель, как услыхал странный шум во дворе своего дома. До его слуха донеслись конский топот, человеческие голоса, лязг оружия. Он не знал, чему приписать эту суматоху, как вдруг к нему вбежал перепуганный камердинер и крикнул:
— Монсеньор, монсеньор! Вас хотят арестовать. Весь дом занят солдатами. Внизу стоит генерал, который требует вас к себе. Он говорит, что явился арестовать вас. Слышите, эти люди уже поднимаются по парадной лестнице. — И лакей бросился к дверям, чтобы запереть их на ключ. — Я поспешил предупредить вас, пожалуй, вам надо спрятать какие-нибудь бумаги.
Савари сбросил одеяло, простыню и неподвижно сидел на краю постели, в нерешительности и глубоком раздумье, спустив с кровати босые ноги. В руках у него 'было нижнее белье, поданное ему дрожащим слугой, но он и не думал надеть его. Растерянный, удрученный, как человек, который ищет объяснения неожиданной и незаслуженной немилости, он бормотал про себя:
— Чем провинился я перед его величеством? За что приказал он арестовать меня? — И бедняга прибавил сквозь зубы: — Бьюсь об заклад, что это опять какие-нибудь плутни Фушэ! Значит, император по-прежнему слушает этого негодяя, этого мошенника!
Итак, первой мыслью министра полиции было, что его арестуют именем императора. В своем волнении он старался угадать причину столь внезапной суровости и не находил никакого вероятного повода для такой строгой меры, принятой относительно его.
— Отворите, именем закона! — раздался голос за дверью, и она тотчас подалась под ударами ружейных прикладов.
Нижняя планка отскочила, и сквозь это отверстие в комнату полез солдат с привинченным к ружью штыком. За ним последовали второй и третий. Все они прицелились в герцога.
Наконец дверь распахнулась настежь, и пораженный Савари увидел входившего к нему генерала Лагори, которого он же сам приказал посадить в тюрьму! Вместо того чтобы сидеть под строгим караулом в стенах Ла-Форс, арестант стоял перед ним в генеральской форме, при шпаге и командовал солдатами, которые, по-видимому, беспрекословно повиновались этому государственному преступнику. Что же такое творилось? Савари был готов подумать, что сделался Жертвой кошмара, а между тем сознавал, что не спит. Но если это не было сном, то, значит, свет перевернулся вверх дном. Заключенные разгуливали на свободе, арестовывая добрых людей. Прямо не верилось глазам.
— Черт возьми, — фамильярно, почти весело воскликнул Лагори, — твоя спальня — словно неприступная крепость! Я вижу, старина Савари, что ты удивлен моим приходом, не так ли?
Герцог Ровиго мог только пробормотать:
— Так это вы, Лагори? Что вы тут Делаете? Как вас выпустили из тюрьмы?
— Правительство освободило меня и вручило мне командование вот этими храбрецами! — по-прежнему весело ответил Лагори с довольно добродушным видом.
— Какое правительство? Я не понимаю…
— Так вот узнайте! Император скончался! Народ назначает свою администрацию.
— Ах! Боже мой! Бедный император! — воскликнул Савари и, удрученный горем, потому что он искренне любил Наполеона, упал на постель.
Придя в себя, Савари тотчас заподозрил обман, хотя в смерти императора он не сомневался: к сожалению, это ужасное несчастье было вполне возможно. Уже сколько раз в течение продолжительной и тяжелой войны с Россией друзьям Наполеона при отсутствии известий от него приходило на ум страшное предположение, что он убит в сражении или умер от какой-нибудь внезапной болезни. Молчание Наполеона в последние дни делало вероятным предположение о катастрофе под стенами Москвы. Однако Савари понимал, что о таком важном событии ему должен был сообщить кто-нибудь другой, а не Лагори, еще накануне сидевший в тюрьме. Как министр полиции Савари должен был узнать о событиях раньше всех. Освобождение арестованного заговорщика могло быть только результатом какого-нибудь преступления. Неужели императрица и великий канцлер Камбасерес, узнав о смерти императора, вздумали арестовать его, друга и верного слугу Наполеона, который именно ему поручил охранять Римского короля? И кто мог посоветовать им отпустить на свободу такого противника императорской власти, как Лагори? Во всем этом происшествии было что-то таинственное и невероятное, заставившее Савари усомниться и в миссии человека, пришедшего арестовать его, и в законности власти, от имени которой действовал Лагори.
Гидаль, сопровождавший Лагори, украдкой наблюдал за внутренней работой в душе Савари, к которому теперь вернулось его обычное хладнокровие. Он нагнулся к уху товарища, советуя ему, вероятно, убить Ровиго, и, обернувшись к солдатам, вызвал сержанта, но никто не отозвался.
— Где же маленький Нуаро? — спросил он, мрачными глазами отыскивая вызванного им человека, вероятно, более горячего и преданного, который согласился бы нанести министру первый удар.
Один из офицеров по имени Фэссар, имевший, вероятно, повод быть недовольным Савари, указал на него концом шпаги и громко сказал:
— Таких протыкают, как лягушек!
Савари одним прыжком очутился за стулом. Ему показалось, что на мужественном лице Лагори выразилось негодование.
— Лагори, — растроганным голосом начал он, — мы с тобой старые товарищи: мы вместе ели солдатский хлеб, вместе стояли в лагере, вместе дрались с австрияками. Сколько раз мы рядом шли на верную смерть! Ведь ты этого не забыл? Такие минуты не забываются! Ты не дашь меня убить? Я такой же солдат, как и ты; ты не можешь сделаться убийцей, и я сегодня не паду от твоей руки?
— Кто говорит об убийстве? — энергично запротестовал Лагори. — Я не убийца, Савари! Где ты видишь здесь убийц?
— Твои люди похожи на разбойников. Я не знаю, какие у них замыслы. Но ты-то, Лагори, ведь не можешь забыть, что я сделал для тебя во время процесса Моро. Ведь я тогда спас тебе жизнь!
— Это правда! — прошептал тронутый Лагори, невольно поддаваясь чувству товарищества, которое пробудили в нем слова старого сослуживца. И он крепко пожал руку Савари со словами: — Не бойся ничего, старина! Ты в руках великодушных людей! Кончай же одеваться; тебя отвезут в безопасное место!
Савари оделся дрожа, Лагори приказал генералу Гидалю отвезти министра в тюрьму Ла-Форс, так же как и начальника высшей полиции Дэмарэ, которого только что арестовал Бутре. Это распоряжение было большой ошибкой со стороны Лагори: если не решались убить министра полиции, то следовало по крайней мере оставить его в его собственном доме под охраной в качестве заложника и не лишаться Гидаля и его солдат.
Савари посадили в кабриолет и повезли в тюрьму Ла-Форс. На набережной Орлож он хотел выскочить из экипажа, но упал на мостовую. Уличные зеваки, с любопытством глазевшие на кортеж, узнали непопулярного министра, схватили его и не только не помогли ему скрыться, но возвратили сопровождавшей его страже.
Тюремный привратник был поражен, узнав, что надо посадить в тюрьму самого министра, но повиновался приказу, исходившему, как он думал, от законного правительства.
— Друг мой, — сказал ему Савари, — я не знаю, что происходит вокруг нас. Все странно, все непонятно! Кто знает, чем это кончится! Отведи меня в какую-нибудь отдаленную камеру, дай мне съестных припасов и брось ключ в колодец!
Пока происходил арест Савари, Бутре овладел полицейским управлением и арестовал Дэмарэ и префекта, барона Паскье. Преемником его был назначен корсиканец Боккьямпи, освобожденный арестант, которого заговорщики с самого утра таскали за собой; хотя он ничего не понимал в том, что происходит вокруг, но с увлечением шел за Гидалем и Мале к таинственной цели, которой впоследствии оказалась для этого несчастного роковая Гренельская равнина.
Паскье, трусливый и недалекий человек, покорно отдался в руки заговорщиков. Он также не понимал, что случилось; но ему и в голову не пришло сопротивляться, позвать на помощь своих агентов и вывести на свежую воду обманщика, который, конечно, должен был возбудить в нем сомнение.
Казалось, все благоприятствовало замыслу Мале. Полиция с министерством общественной безопасности, парижская гвардия, национальные гвардейцы 10-й когорты, наконец весь состав служащих городской ратуши и Сенекой префектуры, — все повиновалось заговорщикам.
По приказу Мале полковник Сулье занял префектуру; префекта налицо не оказалось: граф Фрошо имел привычку каждый вечер отправляться на дачу в Ножан-Марне, и оттуда он еще не возвратился. Собрав служащих, Сулье прочел им постановление сената; никто не протестовал. Все нашли известие вполне вероятным; о судьбе Марии Луизы и ее сына не спрашивали. С падением императора рушилось все, что его окружало.
Один из начальников бюро префектуры, очевидно, человек весьма ученый, желая объясниться с начальством на языке, недоступном простым смертным, поспешил отправить к префекту нарочного с лаконической запиской, в которой стояли всего два латинских слова: «Император жил». В таких выражениях в Риме объявляли, что один из цезарей сделался богом. В Сент-Антуанском предместье нарочный встретил самого Фрошо, возвращавшегося верхом из Ножана; он рассеянно прочел записку, но не понял ее слов. Он поспешил в префектуру, где Сулье принял его с почетом; солдаты, выстроенные на Грэвской площади, отдали графу воинскую честь.
Тут неожиданно произошла комическая сцена.
Слепо исполняя наставления Мале, Сулье сообщил Фрошо о кончине императора, решении сената, низвержении императорской династии, назначении генерала Мале парижским главнокомандующим и об образовании временного правительства, которому предстояло в девять часов собраться в ратуше; при этом он передал префекту приказ приготовить один из залов ратуши для заседания правительственной комиссии, членов которой он тут же назвал.
В прежние времена Фрошо был членом учредительного собрания, душой и исполнителем заветов Мирабо. Узнав о кончине императора и о возникшей от этого неурядице, он мысленно перенесся, по-видимому, к дням зарождения свободы: в нем, вероятно, заговорил тот дух предательства и жажды сохранить хорошие отношения с новой властью, которым впоследствии так постыдно, так низко увлеклись все окружавшие Наполеона, начиная с самых раболепных чиновников и кончая его боевыми товарищами, более всех осыпанными его милостями.
Не в меру доверчивый префект не только без возражений принял переданные ему приказания, но даже немедленно приступил к их исполнению. Он поспешил послать за обойщиками и декораторами и всех торопил с убранством одного из залов ратуши, чтобы временное правительство могло уже в девять часов открыть в нем заседание.
Но временное правительство в ратушу не явилось; главный инициатор был арестован. «Разве такой великий человек мог умереть!» — воскликнул Фрошо, узнав наконец, что был обманут и что император не думал умирать. Впоследствии он подвергся опале, которую, конечно, вполне заслужил.
Гидаль, в свою очередь, напрасно потерял много времени на водворение Савари в тюрьму, так как это дело можно было поручить простому сержанту. После этого он должен был отправиться в военное министерство и арестовать Кларка, герцога Фельтрского; но Кларк, узнав об аресте Ровиго, покинул министерство, чтобы в более безопасном месте переждать события. Прежде всего он отправился к великому канцлеру Камбасересу, но перед отъездом из министерства догадался подписать приказ воспитанникам Сен-Сирской школы о немедленном выступлении в Сен-Клу для охраны императрицы и Римского короля.
Полагая, что Камбасерес, не имевший в своем распоряжении военных сил, не может оказать ни помощи, ни сопротивления, Мале оставил без внимания этого важного человека, являвшегося в отсутствие Наполеона почти регентом. При непостоянном характере канцлера можно было даже ожидать, что в случае успеха заговорщиков он не станет протестовать против совершившегося факта и перейдет на сторону нового правительства.
О действиях заговорщиков Камбасерес узнал от графа Реаля, который при первых известиях о волнениях в Париже отправился за сведениями к своему другу, генералу д'Юллену, к которому только что явились солдаты Мале. Они преградили пришедшему дорогу.
— Я граф Реаль! — надменно сказал он.
— Графов больше нет! — ответил ему Лефевр, младший лейтенант 10-й когорты.
Пораженный Реаль без дальнейших расспросов быстро спустился с лестницы и поспешил к Камбасересу сообщить, что началась новая революция, отменяющая титулы, пожалованные императором.
Канцлер был человек изворотливый, хитрый, очень умный и большой скептик, но совершенно лишенный даже гражданского мужества. Услыхав принесенные Реалем новости, он сильно побледнел и не мог удержать судорожную дрожь. Слова лейтенанта Лефевра о титулах навели его на мысль, что страна во власти якобинцев.
— Опять террор! — прошептал он.
Прибежали испуганные чиновники. Вооружившись всей возможной для него энергией, Камбасерес постарался успокоить этих трусов.
— Сходи за моим брадобреем! — приказал он камердинеру, — пусть живо выбреет меня! Если к вечеру моя голова слетит с плеч, что делать! По крайней мере она окажется в приличном виде.
И пока ему помогали одеваться, он собирал приходившие со всех сторон вести, стараясь в этой массе противоречивых сведений отделить истину от преувеличений.
Гидаль нисколько не интересовался судьбой герцога Фельтрского и, с удовольствием заняв освободившееся кресло военного министра, тотчас принялся отдавать незначительные приказания, теряя время на приемы дежурных начальников и обмениваясь с ними пустыми любезностями, очень опасными в такой момент. Он чувствовал себя настоящим министром, с полным правом занявшим место Кларка.
Ту же ошибку сделал и Лагори: он также разыгрывал роль настоящего министра полиции. Посвятив Добрый час приему подчиненных, он спокойно, как будто уже давно занимал этот пост, прочел донесения и роздал несколько маловажных приказаний, после чего послал за портным и велел снять с себя мерку для парадного костюма. Кроме того, он заказал приглашения на парадный обед, который собрался дать в скором времени. Затем, не находя более никаких срочных дел, он велел заложить карету, находившуюся в распоряжении министра, и поехал с официальным визитом к префекту Сены. По возвращении в министерство он занялся редактированием циркуляров, извещавших подчиненные ему учреждения о назначении его министром полиции.
Такое ребяческое отношение к делу окончательно испортило успех заговора. Сам Мале не нашел необходимой поддержки, а его приверженцы только ускорили неизбежное падение его кратковременной власти.
Пока Сулье занимал ратушу, а Лагори и Гидаль были поглощены арестом Савари, Мале повел свой маленький отряд на Вандомскую площадь, к дому, где жил генерал д'Юллен, комендант Парижа. Остановив свой отряд на улице Сент-Онорэ, он обратился к виноторговцу, стоявшему у дверей своей лавки:
— Не здесь ли живет башмачник по имени Ладрэ?
— Да, Ладрэ действительно живет здесь. Только его нет дома. Он, должно быть, скоро вернется. А на что он вам? — спросил виноторговец, немного удивленный тем, что генерал в полной форме, во главе военного отряда, остановился у его лавки, чтобы осведомиться о каком-то сапожнике.
Мале приказал солдатам двигаться дальше и резко крикнул виноторговцу:
— Скажите Ладрэ, чтобы он пришел ко мне на Вандомскую площадь! Пусть спросит адъютанта генерала Мале!
Личность Ладрэ весьма загадочна. О нем известно только, что он шил сапоги Мале и, доставляя их в лечебницу Дюбюиссона, очень охотно пускался в разговоры. При этом Мале, вероятно, выведал у него интересовавшие его новости, так как Ладрэ был связан с обитателями квартала — роялистами и республиканцами, одинаково недовольными правлением императора и жаждавшими прочного мира. Возможно, что Мале хотел назначить Ладрэ мэром своего округа, в котором должна находиться главная квартира нового правительства.
На углу улицы Сент-Оноре Мале снова остановился и послал через Рато приказ вместе с гренадерским мундиром своему другу, генералу Денуайе, которого намеревался сделать начальником главного штаба; но Денуайе не тронулся с места и этим спас свою жизнь.
На Вандомской площади Мале разделил свой отряд на два взвода: один, под командой лейтенанта Прово, должен был занять главный штаб и передать его начальнику, полковнику Дусэ, письменный приказ о назначении его бригадным генералом и об аресте его помощника, Лаборда, которого Мале считал опасным за его преданность Наполеону; сам Мале во главе второго взвода направился к дому генерала д'Юл-лена, который, в отсутствие Жюно, парижского губернатора, участвовавшего в русском походе, командовал первой дивизией и считался комендантом города Парижа.
Граф д'Юллен был тот самый знаменитый волонтер, который 14 июля 1789 года побудил народные массы взять Бастилию. Этот популярный победитель старого режима пользовался полным доверием Наполеона, который возвел его в графское достоинство, назначил председателем военного суда над герцогом Энгенским и вверил ему всю парижскую гвардию. Выбор императора оказался удачным.
Д'Юллен с женой еще спали, когда явился Мале. Подождав несколько минут, пока генерал одевался, Мале вошел в гостиную в сопровождении капитана и четырех национальных гвардейцев. Вслед за ними пришел д'Юллен в наскоро накинутом халате. Мале был совершенно незнаком ему.
Повторив свою выдумку о смерти императора, об указе сената, о своем назначении и об образовании временного правительства, Мале сказал:
— Мне дано очень тягостное для меня поручение. Вы уволены, генерал, и на ваше место назначен я. Прошу отдать мне вашу шпагу! Мне приказано арестовать вас.
Д'Юллен страшно побледнел; но это был человек огромной энергии, которого нелегко было запугать.
— Вы арестуете меня? Почему? — пробормотал он, все же озадаченный этим потоком неожиданных известий, но, тотчас же оправившись, прибавил с хладнокровием, смутившим Мале: — Генерал, я прошу показать мне ваши полномочия.
— Охотно исполню вашу просьбу; пройдемте в кабинет! — ответил Мале, стараясь казаться равнодушным и вежливым.
К д'Юллену вернулось его самообладание; он спокойно и строго посмотрел на Мале, чем привел последнего в большое смущение. В душу коменданта закралось подозрение, ему показалось невероятным, чтобы его приказано было арестовать. За какую вину? И неужели это поручили бы Мале? У него все росла уверенность в заговоре. Мале, конечно, был только смелым обманщиком, но как схватить его? Ведь он пришел не один, а он, д'Юллен, в халате, не имея под рукой никакого подкрепления, был совершенно одинок в своей квартире, в полной зависимости от этого обманщика, будто бы имевшего законный приказ. О полномочиях д'Юллен спросил только, чтобы выиграть время.
В сопровождении Мале он вошел в кабинет и направился к бюро. Он мог бы воспользоваться своей геркулесовой силой, так как был шести футов ростом, а Мале невысок и тщедушен, но он хотел сперва вооружиться, чтобы до прибытия помощи держать самозванца на почтительном расстоянии. Он приоткрыл ящик бюро, в котором хранилась пара заряженных пистолетов; это не укрылось от внимания Мале.
— Итак, ваши полномочия? — резко сказал д'Юллен, взяв пистолет.
— Вот они! — ответил Мале, стреляя в него в упор. Д'Юллен упал с раздробленной челюстью. Он остался в живых, но его левая щека была навсегда обезображена, чем он заслужил от насмешливых парижан прозвище «вздутая пуля».
Думая, что генерал убит, Мале оставил его лежать на ковре в луже крови. Теперь у него стало одним опасным противником меньше. Ведь д'Юллен был смелым, достойным сыном геройского народа, недаром он чуть не один взял Бастилию.
До сих пор Мале имел полный успех. Чтобы довершить победу, захватить все общественные должности, ему оставалось только занять главный штаб. Это было нетрудно: стоило только перейти площадь. Мале рассчитывал, что полковник Дусэ, получив звание генерала, уже исполнил все его приказания и арестовал Лаборда; после этого овладеть главным штабом было пустой формальностью. Поэтому Мале, не взяв никого с собой, один направился к штабу через Вандомскую площадь, на которой выстраивались отряды парижской гвардии, посланные полковником Раппе.
При входе в здание штаба Мале заметил человека очень высокого роста, в длинном, наглухо застегнутом сюртуке, в гусарских шароварах, с полицейской фуражкой на голове; на его руке висела на ремне огромная палка, на сюртуке красовался орден Почетного легиона.
«Мне знаком этот человек! — подумал Мале. — Кажется, это — бывший тамбурмажор, по имени Ла Виолетт… За нас он или нет?»
Он подумал было остановиться и поговорить со старым солдатом, но каждая минута была дорога; он уже и без того потерял много времени из-за Ладрэ и генерала Денуайте и теперь спешил довести до конца дерзкое предприятие и закрепить за собой законную власть. Из главного штаба он будет управлять соответственно своим планам оставшимися во Франции войсками и национальной гвардией; это была значительная вооруженная сила, недовольная положением вещей и готовая с помощью штыков поддержать мятежное правительство. Главный штаб был для Мале своего рода Тюильрийским дворцом: только там он будет хозяином положения и правителем, только там он сосредоточит в своих руках все нити управления. Воображение рисовало ему ошеломляющий успех. До сих пор волшебная феерия проходила без малейшей помехи; еще одно маленькое усилие — и в здании главного штаба эта феерия обратится в действительность! Волшебная сказка сделается достопамятным событием, и за ночью фантасмагорий взойдет великий исторический день.
Никаких опасностей больше не предвиделось, и Мале с высоко поднятой головой, гордый, надменный, решительный, уверенно вошел в главный штаб, говоря себе:
«Наполеон не имеет больше никакого значения; его волшебный жезл теперь в моих руках!»
Он и не подозревал, что в руках старого солдата-великана находился настоящий волшебный жезл, которому предстояло разрушить всю феерию, обратить в простые тыквы чудесные экипажи и заменить тюрьмами импровизированные дворцы…
XVII
Расставшись с генералом Мале, Анрио медленно шел пешком по Сент-Антуанскому предместью, не обращая внимания на то, что встречалось ему по пути, и чувствуя себя совершенно разбитым.
Перед ним проносились тени прошлого. На душе у него было так же темно, как было темно вокруг него в этот грустный октябрьский вечер. Он шел тихо, тревожный, печальный, погруженный в свои думы, недовольный другими и самим собой. Он невольно спрашивал себя, честно ли он поступил, сообщив Мале пароль на нынешнюю ночь. Конечно, Мале не мог использовать его сообщение во вред государству: ведь дело происходило не на аванпостах, да и генерал, хотя и непримиримый враг императора, был, по его собственным словам, не способен совершить бесчестный поступок. Пароль был нужен ему лишь для того, чтобы вернуть себе свободу; в этом нет никакого вероломства, никакой измены, Анрио не поручали охрану заключенных. Никто не сочтет низким или преступным помочь политическому узнику, каким являлся Мале, обмануть бдительность тюремщиков и скрыться за границей.
Тем не менее Анрио не мог успокоиться; совесть громко упрекала его, так как пароль был дан ему для исполнения обязанностей службы, а вовсе не для того, чтобы помогать бегству государственных преступников. Хотя генерал никогда не посвящал его в свои планы, но можно было предполагать, что у него были связи со всеми врагами Наполеона. Может быть, замышлялся заговор и генерал после бегства из лечебницы теснее сблизился со своими друзьями. Он сказал, что едет в Англию, а оттуда в Соединенные Штаты; но, может быть, он останется на английской территории, дававшей приют самым ожесточенным противникам Наполеона: эмигрантам, бывшим предводителям шуанов? Анрио упрекал себя в том, что облегчил Мале возможность тревожить безопасность государства, вызывать смуту во Франции, проповедовать возмущение, да еще в такое опасное, грозное время.
Его собственная ненависть к Наполеону нисколько не уменьшилась; он по-прежнему ненавидел всесильного монарха, не задумавшегося похитить его счастье, отняв у него Алису; но, как он сказал Мале, он был прежде всего солдатом и французом и не хотел ничего предпринимать против императора, пока о его армии не было известий и сам он оставался в далекой России, как борец за Францию, воплощая в себе ее славу и, может быть, спасение всей армии. Пока Наполеон сражался, его личность была священна в глазах Анрио. Он подавил свою ненависть и отложил мщение. Когда же во главе победоносных войск Наполеон с торжеством вступит в свою празднично разубранную столицу — тогда Анрио решит, что ему делать; но до тех пор особа императора для него неприкосновенна: разве его жизнь не была тесно связана с самим существованием Франции?
Под влиянием этих угрызений совести Анрио пришла мысль поспешить в крепость и предложить изменить пароль из-за того, что по неосторожности он стал известен посторонним лицам. Но таким заявлением он обратит на себя внимание, его станут подозревать, учредят за ним продолжительный надзор, в этом случае ему нельзя будет по возвращении Наполеона исполнить свое намерение и отомстить любовнику Алисы. Кроме того, первым последствием его заявления будет арест генерала Мале при выезде из Парижа; сравнительно легкое заключение будет заменено самым строгим; может быть, его отправят на Сейшельские острова. Анрио не мог выдать доверившегося ему узника. Ему оставалось только молчать и терпеливо ждать окончания этой ночи, благоприятной для бегства Мале. Если генералу по той или другой причине не удастся сегодня бежать, Анрио не даст ему больше никаких сведений. Впрочем, Мале мог и не выбрать нынешнюю ночь для своего побега, и Анрио совершенно напрасно тревожился. Приходилось предоставить все судьбе.
Но его совесть не была спокойна; он не мог отделаться от предчувствия громадной ответственности и косвенного бессознательного участия в каком-то деле, еще неизвестном, но очень серьезном, может быть — Даже ужасном.
Раздумывая и проверяя себя таким образом, молодой полковник дошел до Пале-Рояля; решив развлечься и прогнать обуревавшие его тревожные мысли, он вошел в знаменитые деревянные галереи.
В то время Пале-Рояль представлял собой город в городе. Здесь можно было найти все, чего только могла пожелать фантазия: каприз, роскошь, разврат, корыстолюбие. Теперь это кладбище с пустыми и гулкими аркадами, напоминающими Венецию и, подобно Венеции, представляющими призрак прошедшего; тогда здесь кипела шумная, страстная, лихорадочная жизнь; слышались звон золота, хлопанье пробок шампанского, звук поцелуев, песни, ругательства. Все это составляло странную и могучую симфонию, прерываемую иногда пистолетным выстрелом, которым какой-нибудь неудачный игрок кончал свою жизнь под одним из роскошных каштанов.
Прежний Пале-Кардинал, где регент вместе со своими приспешниками устраивал оргии, где Камилл Дэмулен, сорвав с дерева кокарду цвета надежды, увлекал народ к Бастилии, — Пале-Рояль сделался местом встречи иностранцев, праздношатающихся, военных, охотников до всяких новостей, спекулянтов всякого рода и публичных женщин. Весь легкомысленный и расточительный Париж, все прожигатели жизни сходились в этом привлекательном саду. В целом тогдашний Пале-Рояль был гораздо обширнее теперешнего. Деревянные галереи, замененные стеклянной вымощенной плитами галереей, известной под именем Орлеанской, походили на теперешние бульвары в первую неделю нового года. Ларьки и деревянные бараки представляли собой вечную ярмарку. Разрытые песчаные дорожки в дождливые дни превращались в болото, и толпа с ожесточением топталась в этой грязи.
Хозяевами этих примитивных лавок являлись книгопродавцы, торговцы модными товарами и парикмахеры. Галереи носили название «Татарский лагерь».
Различные любители новостей, зеваки, охотно ведущие политические разговоры на открытом воздухе, и мелкие биржевики всегда находили себе приют под гостеприимными каштанами Пале-Рояля. Попадались жалкие и смешные группы, встречающиеся теперь под деревьями у биржи, против улицы Банка. Сад был приблизительно такой же, как и теперь; посреди центрального бассейна возвышался деревянный цирк, впоследствии уничтоженный пожаром.
Главную приманку Пале-Рояля составляли игра и женщины, привлекавшие шулеров, опустившихся людей и кавалеров де Грие, ищущих своих Манон.
Игорных домов было очень много; из них № 113-й сделался легендарным; но это был притон низшего разряда, и в нем допускалась ставка в сорок су. Во «Фраскати» и в «Иностранном клубе» шла азартная игра; любимыми играми были: рулетка, тридцать и сорок, бириби, фараон и двадцать один. Здесь не существовало максимума ставки: иногда разыгрывалось сразу пятьдесят тысяч франков.
Одним словом, в Пале-Рояле собирались все классы общества, привлекаемые и объединяемые игрой.
Огромная толпа женщин каждый вечер шуршала своими более или менее обтрепанными юбками в «Татарском лагере» и по аллеям. Большинство из этих «нимф» Пале-Рояля, как их называли, гуляло в бальных платьях с большим вырезом и массой ожерелий и браслетов, усеянных грубыми имитациями бриллиантов и жемчуга.
Во времена империи в Пале-Рояле насчитывалось восемнадцать игорных домов, одиннадцать ломбардов, не считая массы тайных ссудных касс, и около тридцати ресторанов. В подвалах ютилась куча всякого сброда и помещались разные неприхотливые театрики и музеи редкостей. Мансарды были битком набиты женщинами. Кофе, кондитерские, мороженщики, торговцы съестными припасами, пирожники попадались на каждом шагу. Кроме того, там был вафельщик, который особенно славился, кабинет для чтения и лавочка ассоциации чистильщиков сапог с громкой вывеской: «Собрание искусств».
От массы всяких театров и развлечений разбегались глаза. Там были «Французский театр», «Театр Монтазье», «Китайские тени», «Театр фантош», в котором «Пирам и Тизба» постоянно привлекали массу народа, «Каво», «Консер де Соваж» и т. п.
Кафе Пале-Рояля посещались особенно охотно и многие из них стали историческими, как, например, кафе «Де Фуа», место свидания аристократов; кафе «Лемблен», где во времена реставрации обыкновенно собирались отставные бонапартистские офицеры и где происходила масса дуэлей; кафе «Де Валуа», посещавшееся роялистами; кафе «Борель», куда ходили слушать чревовещателя; кафе «Тысяча колонн», где двенадцать искусно расставленных зеркал давали иллюзию бесконечного ряда хрустальных колонн; наконец, кафе «Мон Сен-Бернар», куда случай привел Анрио, подавленного нравственно и усталого физически от длинной прогулки пешком из лечебницы доктора Дюбюиссона.
Это кафе было устроено наподобие современных аристократических кабачков или загородных шантанов. Оно было декорировано гротами, ущельями скал, хижинками, горными тропинками и пропастями. Прислуживающие гостям лакеи были одеты в костюм итальянских или швейцарских горцев. Отдельные кабинеты, устроенные в виде горных ущелий, позволяли желающим скрыться от любопытных глаз, не теряя из вида ни общего зала, ни маленькой сцены, на которой под аккомпанемент оркестра, состоявшего из четырех музыкантов, гримасничало и ломалось несколько гаеров.
Разыскивая свободный столик, Анрио проходил по одному из ущелий этого альпийского кафе, когда вдруг в одном из гротов сидевшие там мужчина и женщина сделали движение и радостно воскликнули:
— Это полковник Анрио!
— Ба, да это доктор Марсель!
Мужчины поздоровались, и доктор пригласил Анрио присесть к нему за стол и познакомил его со своей женой Ренэ.
Анрио пришел в Пале-Рояль только от безделья Ему хотелось в движении и шуме пестрой толпы уйти от упреков совести и опасений. Он уже давно знал Марселя, а о приключениях Ренэ ему очень много рассказывали и Сан-Жень, и добряк ла Виолетт. Поэтому он не видел никаких оснований отказаться от сердечного приглашения и присел за их стол.
Они обменялись несколькими равнодушными фразами, рассеянно глядя на сцену, где два клоуна разыгрывали комическую сцену. Но видно было, что это зрелище очень мало интересовало их; все трое были погружены в свои думы. Во взгляде Ренэ сквозила грусть; глаза Марселя и Анрио выражали задумчивое беспокойство, и если они физически и находились в кафе «Мон Сен-Бернар», то душой уже давно улетели далеко далеко…
Вдруг Марсель достал часы и посмотрел на них.
— О, не уходи еще! — умоляюще сказала Ренэ, удерживая за рукав мужа. — Ведь еще рано; ты сказал, что уйдешь позднее!
— В моем распоряжении еще четверть часа, дорогая! А затем мне, как ты знаешь, необходимо уйти.
В глазах Ренэ мелькнуло выражение страха, и полный беспокойной мольбы жест показал, что она с трепетом считает оставшиеся минуты.
— Сегодняшний день показался мне и слишком коротким, и слишком длинным, — сказала Ренэ, — слишком длинным потому, что ты оставляешь меня так надолго одну, слишком коротким потому, что, как ты мне сказал, нам, быть может, не придется увидеться много дней.
— Да-да! — с нетерпением ответил Марсель, стараясь предотвратить какое-нибудь легкомысленное слово, которое могло бы выдать Анрио больше, чем было нужно.
— Крайне печально, что ты не можешь указать мне ни цель, ни продолжительность поездки, которую ты предпринимаешь, — настойчиво продолжала Ренэ. — Знаешь ли, я могла бы начать ревновать!
— Что ты за сумасшедшая! — ответил Марсель и взял ее за руку, чтобы приласкать и, быть может, заставить замолчать в присутствии Анрио.
Но Ренэ оживленно воскликнула:
— Да что ему нужно от тебя? К чему генералу Мале требовать тебя ночью, когда ты и без того провел с ним целый день?
— Молчи! Молчи! Умоляю тебя, молчи! — поспешно шепнул ей Марсель, энергично сжав ее руку.
Анрио услыхал последнюю фразу:
— Вы знаете генерала Мале? — спросил он Марселя.
— Да, немножко… — ответил тот, видимо недовольный вопросом.
— Я тоже знаю его, — продолжал Анрио без всякой аффектации. — Я даже был у него сегодня в лечебнице, где он содержится под арестом.
— Вы? Впрочем, — вдруг понизив голос до шепота, сказал Марсель, — генерал под большим секретом рассказал мне о некоем офицере из комендантского управления, с которым он находился в тайных сношениях. Может быть, это вы?
— Должно быть, я, — спокойно ответил Анрио.
— Значит, вы из наших?
— И да, и нет, — уклончиво ответил полковник.
Подобный ответ не мог удовлетворить Марселя. Он не знал, кто именно из видных военных участвовал в заговоре Мале, так как все члены заговора были неизвестны друг другу, кроме пяти-шести человек, собравшихся сегодня у генерала. Мале уверял их, будто он располагает громадными средствами и опирается на очень большое количество соучастников, рассеянных во всех слоях общества, но главным образом в армии. Марсель не сомневался, что офицер, имевший с Мале совещание в такой день, как сегодня, должен быть участником заговора. Осторожное поведение и сдержанная речь Анрио еще более увеличивали это подозрение. Поэтому он решился во что бы то ни стало узнать, чего ему держаться.
Вытащив из кармана обрывок письма, разорванного Каманьо и предназначенного служить заговорщикам знаком, по которому они могли бы узнать друг друга, он подал его Анрио и сказал:
— Вам знакомо это?
Анрио спокойно посмотрел на клочок бумаги и сперва отнесся к этому знаку без всякого волнения и удивления. Но вдруг он вскрикнул:
— Постойте-ка! Может быть, этот кусок, оторванный от какого-то письма, подойдет… — И, не закончив начатую фразу, он, в свою очередь, вытащил письмо Каманьо, найденное у Мале, и сказал, протягивая его удивленному Марселю: — Мне кажется, что находящийся у вас клочок подойдет к этому письму. Поглядите-ка!
— В самом деле! — пробормотал Марсель. — Но откуда у вас это?
— Я нашел бумажонку на полу коридора у генерала Мале. Я был уверен, что она не представляет собой никакой важности, но все-таки продержал ее у себя весь день, чтобы она не попалась на глаза тем, кому ничего не следует знать. Ведь на другой стороне что-то написано.
И машинально, словно желая проверить, действительно ли оба обрывка относятся к одному и тому же письму, Анрио приставил их друг к другу и рассеянно пробежал исписанную страницу.
Но не успел он прочитать несколько слов, как вздрогнул и, сделав движение, словно собираясь скомкать письмо, пробормотал, впиваясь взглядом в пораженного Марселя:
— Это очень важно! Очевидно, это черновик. Вместо подписи — буква.
— Да что там написано? Вы пугаете меня! Могу я взглянуть?
— Прочтите! — ответил Анрио. — Раз вы знакомы с генералом Мале, то вам, быть может, удастся отгадать то, на что в письме только намекается. Может быть, вы уже знаете тайну, которую открывает письмо.
Марсель взял письмо и прочитал следующее:
«Дорогой мой Химинес!
Решительно все складывается для нас очень удачно. Если Мале решится воспользоваться благоприятным случаем, то наш Юпитер-Скапэн, как его удачно окрестил наш милейший Прадт, будет окончательно похоронен в болотах Польши и в обширных равнинах Московии. Императрица сбежит под крылышко папаши. Римский король не представит для нас никакого препятствия, так как некто Мобрейль, очень преданный и умный дворянин, предлагает свои услуги по воспитанию юного короля. Ну, а, побыв в его руках, Римский король вскоре избавит нас от всякого беспокойства.
Ваш генерал Мале просто болван. Продолжайте по-прежнему обещать ему все, что впоследствии каждый получит по заслугам. Все, требующие гарантий, будут повешены. Других мы выгоним вон. Что же касается нас самих, то не бойтесь ничего: я буду назначен гофмаршалом, Фушэ будет первым министром, так как король уже обещал ему это место ввиду его выдающегося ума и способностей. Вам же будет предоставлена епархия по вашему выбору с сотней тысяч франков на погашение долгов. Король Фердинанд VII, восстановленный на троне предков, тоже, без сомнения, наградит вас за преданность и услуги династии. Но Фердинанд небогат, и я советовал бы вам остаться во Франции, где епископства очень доходны.
Что касается этого Мале, то в случае его благоразумия ему будут пожалованы чин фельдмаршала и пенсия в тысячу луидоров, причем после его смерти жена будет получать половину. Но в случае, если он будет предъявлять чрезмерные требования и настаивать на своих республиканских глупостях, которыми любит почваниться и которые годны только для того, чтобы привлечь на его сторону симпатии черни, то его сгноят в Пьер-Ансизе или в замке д'Иф. Но пока что обещайте все, принимайте все, не отказывайте ни в чем, чего потребуют от вас генерал Мале и его пособники; уверяйте их, что мы работаем ради восстановления республики; святой отец находит, что побивать якобинцев их же собственным оружием не составляет греха.
Итак, действуйте и торопите Мале! Другого такого удобного момента долго придется ждать. Т.».
— Подписано «Т.». Кто же это может быть? — спросил Анрио.
— Т.? Да Талейран, черт возьми! Вот двойной изменник! Вот что, полковник, не позволите ли предложить вам прогуляться со мной по саду? В этом письме такие важные вещи, что нам необходимо обменяться мыслями по этому поводу. Ренэ подождет нас минутку и полюбуется пока на представление.
— Идемте! — согласился Анрио, на которого все происшедшее произвело сильное впечатление.
Когда они очутились наедине под каштанами, Марсель заговорил с выражением глубокого отчаяния:
— Значит, Мале принимает участие в заговоре роялистов! Знали вы об этом, полковник?
— Я не имел никакого понятия о проектах генерала Мале. Я знал, что он раздражен на министров, которые засадили его в тюрьму, что он ненавидит императора, которому не может простить восемнадцатое брюмера, коронацию, самодержавие. Но, клянусь вам, я не знал, что он стоит во главе заговора, готового разразиться с минуты на минуту.
— И заговор с участием Талейрана, Фушэ — всех приверженцев нетерпимости, фанатизма, которые желают вернуть нам вместе с королем времена феодализма. О, негодяй! А я-то думал, что, приняв участие в заговоре Мале, буду способствовать священному делу народной свободы и подготовлю грядущую федерацию Соединенных Штатов Европы!
— Быть может, генерал Мале не подозревает, что является орудием в руках роялистов?
— Должен был заподозрить! Кто окружает его? Лафон — аббат; Бутре — недоучка-семинарист; его друзья — Полиньяки. А кого он наметил главой будущего правительства? Алексиса де Ноай и Монморанси, двух герцогов, двух неисправимых, фанатичных приверженцев старого строя. Это письмо, выпавшее из кармана кого-нибудь из гостей, рассеяло все мои иллюзии. Я спал, но теперь сразу проснулся! Я предоставляю вам, полковник, продолжать действовать совместно с Мале, я же лично отказываюсь от всякого участия.
— Но я и не собирался принимать участие в заговоре! Я заявил это генералу не далее как сегодня!
— Ах, так? Значит, сегодня вечером… сегодня ночью. Словом, вы ничего не знаете?
— Ровно ничего! Генерал не посвятил меня в положение вещей. Единственно, что он мне сказал, — это о своем намерении сегодня ночью бежать из лечебницы, где его держат под арестом.
— А он не говорил вам, что собирается делать, когда очутится на свободе?
— Нет. Я даже не представляю себе, что вы хотите сказать этим. А вы, кажется, посвящены во все детали плана генерала Мале?
— Да, я посвящен. Но для вас, полковник, будет лучше остаться в неведении. Значит, вы не хотите больше служить роялистам и содействовать возрождению во Франции прежней абсолютной монархии?
— Нет! Кроме того, в настоящий момент, когда Наполеону приходится сражаться за Францию под стенами Москвы, я не хотел бы предпринимать что-либо против него!
— Это вполне ваше дело. Но послушайте меня: не мешайтесь в предприятие Мале. А теперь пойдем к Ренэ, которая, должно быть, уже заждалась нас. Выкинем Мале из головы — пусть он составляет свой заговор вместе со своим попом, пусть на свою голову призывает Бурбонов! Пойдемте, полковник! Ни вы, ни я не должны стать игрушкой в руках таких негодяев, которые сделали из Мале паяца, не сознающего, что его дергают за веревочку подлецы роялисты!
И возмущенный, рассерженный, стараясь подавить раздражение, Марсель потащил Анрио в кафе.
Когда они вошли туда, то заметили какое-то волнение. Слышались крики, шум, ссоры. Посетители, частью повскакав со своих мест, заслоняли маленькую сцену, с которой доносились крики и проклятия.
Марсель сказал несколько слов Ренэ, и она сейчас же встала.
— Простите нас, — сказал Марсель, протягивая руку Анрио, — нам нужно уходить. То, что я только что узнал, заставляет меня немедленно сообщить генералу Мале, что он ни в коем случае не может рассчитывать на меня.
— Можете передать то же и от моего имени, хоть я и не связывал себя никакими обещаниями, — произнес Анрио.
— Я просто скажу, что видел вас, он уже сам догадается. Да сожгите эту бумажонку, которая может бесполезно скомпрометировать вас, если потеряется еще раз.
— Как вы осторожны!
— Это потому, что я уже давно участвую в заговорах, — улыбаясь ответил Марсель. — Но теперь с этим надолго покончено. Ренэ недавно узнала, что ее приемный отец умер, оставив ей в наследство хорошенькое имение в департаменте Майени. Она собиралась отправиться туда одна, чтобы получить наследство. Но теперь мы едем вместе. И в ожидании, пока пробьет час освобождения народов и сгладятся все искусственные разделения и границы, мы будем сажать капусту и собирать яблоки. Правда, Ренэ?
— О, как я буду счастлива! — воскликнула Ренэ, та самая, которая в войсках республики получила прозвище Красавчика Сержанта, в, воскликнув это, расцеловала Марселя, уверенная, что это пройдет незамеченным среди все возраставшего вокруг них шума.
Ссора перешла в драку. Через зал полетели табуретки и стаканы. Крики усилились, и Марсель услыхал, как буфетчица приказала подручному:
— Позови поскорее полицию!
— Скорей, скорей отсюда! — поспешно сказал Марсель жене. — Тут может произойти здоровая свалка, а в моем положении нельзя дать задержать себя из-за кабацкой ссоры. Еще потащут свидетелем, а мне необходимо предупредить генерала об отказе от соучастия. До свидания, полковник!
С этими словами Марсель вышел под руку с Ренэ из кафе «Мон Сен-Бернар», где тем временем шум все увеличивался, стянув всех посетителей к сцене.
Желая узнать, в чем дело, Анрио тоже подошел и вдруг вскрикнул:
— Господи, да это ла Виолетт!
Он заметил бывшего тамбурмажора среди большой толпы, которая старалась вырвать из его рук почти задушенного им человека. Да, это был он, тамбурмажор гренадер, его наставник в армии Рейна и Мозеля, его спаситель в Данциге, преданный управляющий герцогини Лефевр. Но что произошло с ним здесь?
Узнав голос Анрио, ла Виолетт отпустил человека, которого душил за горло, и сделал шаг вперед, чтобы подойти к своему ученику. Ведь он не видел его с того дня, когда в замке Комбо внезапно не состоялась свадьба.
Атакованный им человек, почувствовав себя на свободе, хотел удрать. Но ла Виолетт немедленно придержал его, схватив край его балахона.
Это был один из артистов фарса, который был разыгран на сцене кафе. Вид его был самый несчастный. Одна из бакенбард съехала на сторону, другая отклеилась совершенно. Шляпа была сброшена на пол, красный жилет расстегнут. Во время борьбы с ла Виолеттом его парик съехал набок. Он весь дрожал, и даже под гримом его лицо поражало бледностью.
Теперь, без парика, без бакенбард, он являлся в своем естественном виде, и всем присутствующим, равно как и Анрио, невольно бросилось в глаза поразительное сходство этого гаера с Наполеоном.
— Но ведь это император! — закричали все вокруг них.
— Да, этот негодяй позволил себе украсть у нашего императора его августейшее лицо! — воскликнул ла Виолетт с комическим негодованием. — Ну, если бы он украл только это!
— Я не красть! Я артист! Я, Самуил Баркер, английский подданный! — прорычал лже-Наполеон, стараясь избавиться от слишком тесных объятий ла Виолетта и пытаясь обрести поддержку среди зрителей.
— Ты вор! — с силой продолжал тамбурмажор. — Представьте себе, полковник, — обратился он к Анрио, как будто это был единственный человек среди всех посетителей, кому стоило давать какие бы то ни было объяснения, — представьте себе, я подобрал эту обезьяну однажды ночью в замке Комбо!
— Сядьте! Сядьте! — кричали отдаленные зрители, недовольные тем, что повскакивавшие со своих мест закрывали от них эту неожиданную сцену.
Не обращая внимания на поднявшийся крик, ла Виолетт продолжал:
— Обходя дозором парк, я набрел на этого рябчика, который сновал по парку. Он собрался напасть на меня, но я лягнул его ногой так, что он отлетел от меня к черту. Подхожу — он лежит в траве и стонет! Я поднял его — ведь я нисколько не сердился на него, — взял к себе, ухаживал за ним, словом, поставил его на ноги. Знаете ли, чем этот негодяй отплатил мне за мою заботу и гостеприимство? В один прекрасный день он скрылся и унес мое платье, немного денег и крест Почетного легиона, пожалованный мне самим императором! Он скрылся, не оставив мне своего адреса. Но, по счастью, один из кучеров герцогини сообщил мне, что видел его в этих краях, в Пале-Рояле. Я сейчас же отправился сюда, осмотрел все балаганы и нашел негодяя здесь; ну, я уж не мог удержаться, чтобы не всыпать ему как следует! Вот и все, полковник!
Аудитория хохотала от чистого сердца. Вдруг около двери послышались мерный стук шагов и бряцанье оружия. Появились четыре солдата под предводительством капрала, позванные с ближайшего полицейского поста. Капрал сказал Самуилу Баркеру:
— Следуйте за нами, да поскорей!
Баркер, дрожа от страха, отправился под эскортом четырех стражей.
— Вы обвиняете его в воровстве, так пожалуйте за нами в участок! — обратился капрал к ла Виолетту.
Солдаты ушли, уводя с собой арестованного. Ла Виолетт шел сзади, объясняя капралу, в чем дело.
Когда процессия вышла в сад, Анрио, издали следивший за маленьким отрядом, подошел к капралу и назвал себя.
— Отдайте мне этого субъекта, мне необходимо допросить его, — сказал он. — Если он нужен вам, то мы с ла Виолеттом доставим вам его по назначению!
Капрал задумался на мгновение, но чин полковника заставил его повиноваться. Поэтому он удовольствовался тем, что спросил у ла Виолетта:
— Вы берете жалобу назад?
— Беру! — величественно ответил тот по знаку Анрио.
— В таком случае пол-оборота налево! — скомандовал капрал.
Стража освободила дрожавшего Самуила Баркера, который очутился между ла Виолеттом и Анрио, пытливо всматривавшимся в него.
— Значит, этот субъект обокрал тебя? — спросил Анрио ла Виолетта. — А ты принял его у себя, в замке?
— Да уж сделал эту глупость, полковник! — ответил ла Виолетт. — Что поделаешь — слабость может одолеть всякого. Ведь я серьезно повредил ему физиономию, а потом сжалился. Да и в сущности я против него ничего не имел; я сам был виноват, поскольку ударил его так сильно. А он в благодарность за гостеприимство обокрал меня! Смотри, разбойник, лучше отдай крест добром, а то тебе придется дорого заплатить!
И ла Виолетт заключил фразу таким ударом по плечу, что несчастный Сам очутился на коленях.
— За добро часто платят злом, милый ла Виолетт! — ответил Анрио. — Но ты не сказал мне, каким образом этот субъект очутился ночью в парке Комбо? Что ему там было нужно?
— Уж этого не знаю, полковник. Я подумал, что он вздумал поухаживать за одной из горничных герцогини. По крайней мере он мне так сказал. Но потом мне пришло в голову, что он врал. Видите ли, через несколько дней после того, как этот китаец нашел приют в моем доме, Томас, младший садовник, очищая граблями дно ручейка, вытащил оттуда довольно-таки странную вещь — узелок, в котором были завязаны серый стрелковый мундир и маленькая шапочка. Можно было подумать, что император купался там и затем бросил платье в ручей.
— Это странно! А как ты объяснил эту находку?
— Да никак не объяснил! Я спросил этого рябчика, не было ли у него с собой какого-нибудь узелка, но при первом же известии о находке он удрал, ограбив меня.
— Значит, между императорской одеждой и появлением этого субъекта в парке Комбо должна быть какая-то связь… Но какая?
— Уж и не знаю, полковник. Но, между прочим, еще в Комбо, несмотря на то что повязка закрывала половину лица этого субъекта, я обратил внимание, насколько он имеет нахальство походить на его величество!
— В самом деле, он поразительно похож!
— Узнав его в этом шутовском наряде, я вскочил на сцену. О, это было выше моих сил! Я не мог удержаться. Я упал, словно бомба, среди всех этих шутов гороховых, схватил англичанина за голову, но в моих руках остался парик, и я даже отскочил от удивления. Ну, чего полиция смотрит? Как она позволяет, чтобы кто-нибудь мог так походить на императора!
Анрио погрузился в глубокую задумчивость. Смутное предчувствие истины зароилось в его мозгу, освещая многое непонятное из предыдущих событий, случившихся в Комбо.
— Ты вор? — спросил он, строго глядя на Баркера.
— Нет, я английский подданный! — ответил тот.
— Это все равно. Наши законы карают за воровство без различия национальности и подданства, — возразил ему Анрио. — Я на время избавил тебя от полиции, которая хотела отправить тебя под арест, но достаточно, чтобы мы с ла Виолеттом захотели, и ты очутишься там. А оттуда тебя сведут в тюрьму. Хочешь избавиться от неизбежного наказания?
— А что для этого надо сделать? — спросил агент Мобрейля. — Я в ваших руках, джентльмены, и вы можете требовать от меня все, чего хотите. Если то, чего вы от меня потребуете, не слишком неисполнимо, то обещаю исполнить ваши приказания.
— Хорошо, — ответил Анрио, — увидим. В таком случае скажи, зачем ты пробрался в Комбо?
— Вам только это и нужно? — радостно сказал Сам.
Он ждал, что от него потребуют чего-нибудь несравненно худшего.
— Смотри, не вздумай обмануть меня!
— А к чему мне лгать вашей милости? Я не боюсь сказать правду, потому что все дело так просто, так неважно, что вы просто не поверите! Надо сказать вашей милости, что прежде, еще в Англии, я был на службе у некоего генерала, который являлся чем-то вроде дипломата…
— Ara! A как звали его?
— Графом Нейппергом.
У Анрио вырвался страдальческий крик; он схватился за сердце.
Нейпперг! Его отец! Словно привидение, перед ним встала физиономия австрийского генерального консула, который в Данциге открыл ему тайну его рождения и уговаривал изменить французскому знамени. Разумеется, он чувствовал себя свободным от каких-либо обязанностей по отношению к господину Нейппергу, который его не воспитывал, не любил, с которым у него не было ничего общего. Его истинным отцом был маршал Лефевр, который взял его к себе еще ребенком, который сделал из него человека, солдата, француза; а его родней были милая Екатерина Лефевр, ла Виолетт, наконец, Алиса… Он ни в чем не мог упрекнуть Нейпперга, но, услыхав его имя, вдруг представил себе прусский город, где его собирались расстрелять, и дипломата, раскрывающего ему свои объятия. И все это мучительно взволновало Анрио.
Но он постарался справиться со своим волнением и спросил у Сама, какое отношение могла иметь его служба у Нейпперга к появлению его, Сама, в замке маршала Лефевра.
Тогда с очевидной искренностью Баркер объяснил, какого рода услуги требовались от него Нейппергу, как последний, пользуясь его, Сама, сходством с Наполеоном, удовлетворял свою дикую, ненасытную ненависть с помощью эксцентричной мести. Он рассказал, как Нейпперг заказал ему для полноты сходства костюм и как награждал его пинками и ударами.
— Черт возьми, эго здорово! — вполголоса сказал ла Виолетт.
— К делу, к делу! — нетерпеливо перебил его Ан-рио. — Я не вижу, какое отношение может иметь твое появление в замке Комбо к ударам, наносимым тебе Нейппергом.
— Сейчас увидите, ваша милость. Граф Нейпперг познакомился с французским дворянином по фамилии Мобрейль…
— Да? — удивленно воскликнул Анрио. — Так ты знаешь Мобрейля?
— Я имел честь состоять на службе у графа Мобрейля. Он-то и послал меня в замок.
— В самом деле, он был там. Так, быть может, он и приказал тебе нарядиться в твой маскарадный костюм? Уж не занимался ли Мобрейль такой же местью Наполеону, как и твой прежний хозяин?
— Нет, он этим не забавлялся. Он заставил меня одеться, но с другой целью. Я должен был под видом Наполеона пробраться ночью в парк, подойти к открытому окну, и…
— К окну нижнего этажа? Договаривай, подлец! — задыхаясь, крикнул Анрио, с силой тряся за плечо Сама, снова испуганного и не понимавшего, что, собственно, в его рассказе могло вызвать такой гнев полковника. — Что ты должен был сделать, добравшись до этого окна? О, лучше не лги, а то…
— Да какой интерес мне врать, раз я ровно ничего не сделал? Как раз в тот момент, когда, согласно инструкциям, данным мне Мобрейлем, я должен был пробраться в комнату девушки и оставить там шляпу, подоспел какой-то офицер. Я не успел выполнить приказание, бросился бежать и по дороге отделался от опасного маскарада, бросив костюм в воду. Вот и вся правда.
Анрио бросился в объятия ла Виолетта, плача, задыхаясь, смеясь. В радости он бормотал:
— Боже мой, так вот в чем дело! Ла Виолетт, Алиса невинна, а я-то осмелился заподозрить ее и клеветать на императора! О, скорее едем! Поедем к Алисе, я хочу броситься к ее ногам, вымолить у нее прощение. Как ты думаешь, простит она меня?
— Я думаю, что этому чудаку было воздано по заслугам, когда я избил его в парке. Ну, да что об этом говорить теперь! Все это еще можно исправить, полковник, потому что мадмуазель Алиса по-прежнему любит вас! Она все глаза выплакала с того дня, когда мы остались без всяких вестей о вас.
— Ты думаешь, она простит меня?
— Уверен в этом! Она частенько говаривала мне: «Ла Виолетт, что он делает? Я знаю, что он не отправился вместе с армией, а остался во Франции. Я уверена, что он вернется ко мне!».
— Она говорила это? О, теперь я все понимаю, за исключением того, к чему Мобрейль подстроил всю эту махинацию. К чему ему это все? Ну, да я узнаю это! А пока самое важное — это сейчас же отправиться к ней и вымолить прощение. Ла Виолетт, можешь ты найти лошадей? Мы сейчас же отправимся в Комбо к Алисе.
— Вы хотите ехать сейчас же, ночью? Но нас не пропустят за заставу. Надо знать пароль.
— Я знаю его, — поспешно сказал Анрио.
В тот же момент его мозг пронизала мысль, что он сообщил этот пароль генералу Мале. Он и без того чувствовал угрызения совести, а тут еще это письмо, негодование Марселя, что роялисты возлагают на Мале какие-то надежды. Может быть, Мале собирался совершить переворот при помощи англичан и эмигрантов? Анрио решил исправить свою ошибку. Теперь он не имел оснований мстить Наполеону, раз невиновность Алисы и императора были доказаны ему с очевидной ясностью.
— Я хочу вернуться завтра в Париж, — сказал он. — Здесь могут произойти важные события, и я должен быть на своем посту завтра.
— В таком случае в дорогу, полковник! Я знаю, где найти лошадей. Это на улице Булуа, в двух шагах отсюда. Но все равно я не рассчитывал, когда отправлялся в Пале-Рояль, что мне придется проводить ночь на лошадях в дороге, — ответил ла Виолетт, покачивая головой.
— Ты еще приедешь сюда. Ведь Пале-Рояль не пропадет; будет еще время и завтра и послезавтра.
— Возможно! Но, поймав жулика, я рассчитывал посетить своих друзей, старых товарищей. Кое-кого я заметил мимоходом. Можно было бы кутнуть. Ну, а это не так-то часто удается, потому что герцогиня не любит этого.
— Ла Виолетт, я обещаю тебе выхлопотать неделю отпуска, которую ты сможешь провести где хочешь, хоть в Пале-Рояль, но сначала я должен увидаться с Алисой. Она должна простить меня. Поэтому необходимо, чтобы и ты тоже приехал со мной в Комбо, так как ты подтвердишь все, что мы сейчас узнали.
— Да уж что делать, полковник. Пойдемте за лошадьми. Ну, а с этим мошенником что мы будем делать?
— Сейчас увидишь. Получай! — сказал Анрио, доставая из кармана два наполеондора. — Выпей за мое здоровье!
— Да здравствует ваша милость! — воскликнул Самуил.
— Постой! Ты получишь еще два наполеондора, если вернешь этому честному солдату крест Почетного легиона, украденный тобой у него.
— Я знаю, где он. Старьевщик, купивший его у меня, еще не успел продать его. Куда следует доставить крест?
— Дай нам свой адрес, — сказал ла Виолетт, — ты можешь понадобиться нам.
Сам некоторое время оставался в нерешительности, но потом, обнадеженный двумя наполеондорами, заманчиво позвякивавшими в кармане его жилета, сказал:
— Я живу на улице д'Аржантей, номер четырнадцатый. Но полагаюсь на вас, что вы меня не выдадите.
— Будь спокоен. Послезавтра я принесу тебе обещанные два наполеондора, а до тех пор не попадайся полиции.
— О, постараюсь не попасться! Да здравствуют ваши милости! — весело ответил Самуил Баркер.
— Лучше кричи: «Да здравствует император!» — ответил ему ла Виолетт, — в этом по крайней мере есть известный смысл!
Самуил Баркер отдуваясь, бросился по улице и, скрываясь во тьме ночи, заорал во всю глотку:
— Да здравствует император!
— Удивительно приятно услыхать такой возглас, что вы скажете, полковник? — сказал ла Виолетт, делая под козырек.
— О, да, да, — взволнованно ответил Анрио, — это так отрадно! Мне уже давно хотелось закричать это, но я не смел! — И, повернув в узенький переулочек, который вел к фонтанам, Анрио повторил вполголоса, словно священное заклинание, словно магическую формулу: — Да, да! Да здравствует император! Да здравствует Наполеон!
XVIII
Мале проник в главный штаб один. Весело поднимался он по лестнице. Все шло как по маслу; ему оставалось только пожать руку начальнику главного штаба Дусэ, подтвердить ему свой генеральский чин и заняться с преемником его помощника Лаборда отправкой новых инструкций к начальникам воинских частей. Таким образом, дело сводилось к простой формальности, к проворному захвату, которому не предвиделось препятствий.
Встречу на площади со старым служакой, бывшим тамбурмажором гвардии, Мале счел превосходным предзнаменованием. Прежние республиканские солдаты, не жаловавшие Наполеона, сами шли к нему. Франция решительно тяготилась деспотом, и крик: «Долой тирана»! как в Риме, в день смерти цезаря, должен был вырваться из груди каждого.
Немудрено, что Мале вступил в кабинет начальника главного штаба с развязной улыбкой на губах. Он протянул руку Дусэ и сказал:
— Генерал, я пришел договориться с вами насчет необходимых мероприятий.
Дусэ, не вставший с места, обнаруживал явное колебание. Он чувствовал обман.
Тут внезапно появился на пороге его помощник Лаборда, весьма подозрительный в глазах Мале.
— Что вы тут делаете? — воскликнул заговорщик. — Ведь я послал вас с поручениями.
— Генерал, я не мог выйти из здания — войска преградили мне путь, — возразил Лаборда, втихомолку подавая знак Дусэ.
Мале заметил их переглядывание, понял, что его подозревают, и увидал свою гибель. Ему вздумалось прибегнуть к силе, которая так удачно выручила его у д'Юллена; поэтому он выхватил из кармана пистолет.
Но зеркало выдало его. Дусэ вскочил. Лаборда кинулся вперед, и оба они закричали: «На помощь, к оружию!». Мале хотел стрелять, но гигантская тень заслонила противников, и тотчас же на его руку обрушился сильнейший удар палки. Схваченный железными пальцами, Мале не смог выстрелить. Его одолел какой-то исполин, в котором Мале узнал бывшего тамбурмажора, замеченного им в толпе, перед зданием главного штаба. Это бравый ла Виолетт держал его, обезоруженного, бессильного.
Тем временем Лаборда крикнул опять на площадке лестницы:
— К оружию!
Жандармы сбежались. Они овладели комнатой и кинулись на Мале, который моментально был связан.
— Берегитесь, господа, — воскликнул он, стараясь еще запугать тех, кто разоблачал в нем заговорщика, плута, — вам будет плохо, если вы станете удерживать меня… берегитесь!
— Заткните ему рот! — скомандовал Лаборда, обнаруживший в данном случае большую распорядительность и чрезвычайное присутствие духа.
Приказ был исполнен. Прибежал верный Рато, привлеченный шумом. Он хотел защитить своего генерала и обнажил шпагу, но в одну минуту был схвачен и связан, и его рог, по примеру его патрона, был заткнут.
Было десять часов утра. Заговор Мале завершился. Он продолжался с момента побега из лечебницы ровно полсуток. Это был роман одной ночи.
После краткого совещания Дусэ, Лаборда и ла Виолетт решили вывести на балкон Мале и Рато, связанных, окруженных жандармами.
— Эти люди обманщики! Император жив. Отец ваш здравствует! — крикнул Лаборда.
В то же время ла Виолетт, подняв свою полицейскую шапку на трость, подал ею сигнал бить в барабан.
Солдаты, собравшиеся на Вандомской площади, пришли в некоторое недоумение, однако они крикнули весьма дружно: «Да здравствует император!».
После этого в Париже началась странная и почти комическая суета. Войска были отосланы обратно в казармы, а в тюрьмах происходили перемены. Настоящие министры: Савари, Наскье были освобождены из тюрьмы Ла-Форс, а на их место водворили Мале, Гидаля и Лагори.
Солдаты парижской гвардии и люди 10-й когорты послушно вернулись в свои казармы, обсуждая между собой эти хождения взад и вперед, эти противоречивые приказы, и спрашивали себя, не морочили ли их на этот раз. В производившихся арестах они чуяли заговор, государственный переворот.
Полковник Раппе был застигнут врасплох этой переменой течения, как перед тем вестью о кончине императора. Он еще не успел одеться и присоединиться к своим солдатам.
— Что вы наделали, полковник Раппе? — спросил его Дусэ. — Как вы могли, не получив приказа высшего начальства, послать свои роты болтаться без толку по городу?
Несчастный мог оправдываться только тем, что потерял голову, узнав о смерти императора.
Гидаль и Лагори не оказали ни малейшего сопротивления при аресте. Оба они были уверены в могуществе Мале, облеченного властью по решению сената. С Лагори снимали мерку для парадного фрака, а Гидаль безмятежно завтракал в ресторане, когда их схватили. Они вполне искренне возомнили себя настоящими министрами. Эти люди впутались в заговор, сами того не подозревая, а потому не приняли никаких предосторожностей, не сделали никакой попытки действовать. У солдат Лагори не было кремней в ружьях, кусочки дерева, как на учениях, заменяли у них капсюль.
Арест Бутре и корсиканца Боккьямпи не представлял ни малейшего труда.
В полдень все было кончено. Занавес упал над этим жутким фарсом. Словно в конце феерии, актеры и зрители спрашивали себя, как могли они поддаться подобной иллюзии.
Камбасерес тотчас поспешил во дворец Сен-Клу с докладом императрице о заговоре и его быстрой развязке.
Мария Луиза отнеслась к этой новости довольно хладнокровно. Она собиралась кататься верхом, и приезд государственного канцлера, видимо, раздосадовал ее лишь как непрошеная помеха любимому удовольствию. Она вполне спокойно спросила:
— Что же могли бы сделать со мной ваши заговорщики? Со мной, дочерью австрийского императора?
Сказав это, она отпустила Камбасереса, очевидно не придавая никакой важности событиям, о которых он докладывал ей.
Апатия Марии Луизы могла быть в данном случае притворством. Пожалуй, она была если не посвящена в тайну заговора, то все-таки осведомлена о том, что против ее супруга затеваются какие-то козни.
Равнодушие, обнаруженное ею, усиливалось известным пренебрежением к этому императорскому трону, который могли на минуту подвергнуть опасности неведомые люди, бежавшие из тюрьмы.
Граф Фрошо поплатился впоследствии заслуженным отстранением от должности за то легковерие, с каким он отнесся к известию о смерти императора, и за усердие, которое он обнаружил, приготовив зал в городской ратуше для заседания нового правительства. Хотя, узнав про обман Мале и неверность слуха о кончине Наполеона, Фрошо воскликнул: «Я так и думал, что столь великий человек не мог умереть!», однако же он не избежал отставки.
Заговорщики, их сообщники, а так же военные, виновные прежде всего в слишком пассивном повиновении апокрифическим приказам, которые они сочли правильными, предстали 27 октября в числе 24 человек перед военным судом.
Мале держался очень твердо, принимая всю вину на себя, выгораживая других, стараясь опровергнуть все обвинения, предъявленные прочим подсудимым, снять с них всякую ответственность.
Во время разбирательства дела у прокурора вырвалась следующая фраза, ярко рисующая хладнокровие Мале перед его судьями: «Покорнейше прошу вас, господин председатель, заставить молчать Мале, который диктует ответы всем обвиняемым».
Во время допроса Сулье Мале вмешался в дело и воскликнул:
— Я пустил в ход все средства, чтобы доказать, что я действую по распоряжению высшего начальства; по-моему, Сулье был обязан повиноваться, что он и сделал. Это я ^ввел его в заблуждение и для этого употребил все старания, как видно из моих показаний.
На собственном допросе Мале дал достопамятный ответ.
— Эти офицеры невиновны, — сказал он, — в их глазах я повиновался распоряжениям высшей власти, и они были обязаны исполнять мои приказания.
— Кто же были ваши сообщники, в этом деле? — необдуманно спросил председатель.
— Вся Франция, вы сами, все вы — если бы мне удалось!
За посягательство на безопасность государства и попытку уничтожить правительство и порядок престолонаследия, а также за подстрекательство граждан к вооруженному восстанию были приговорены к смертной казни и конфискации имущества генералы: Мале, Лагори, батальонный командир Сулье; капитаны: Стенговер, Пикерель, Бордерье; поручики: Лепарс, Фессар, Рень; подпоручик Лефевр, капрал Рато; полковник Раппе и Боккьямпи. Десятеро лиц было оправдано.
Приговор был приведен в исполнение 29 октября, в четыре часа вечера, на Гренельской равнине.
Полковник Раппе и капрал Рато получили отсрочку, а затем смягчение наказания.
Около трех часов пополудни на площади Аббатства, где выстроились в боевом порядке пешие и конные жандармы, а также полуэскадрон драгун, появились семь офицеров, которых поставили в ряд.
Ворота тюрьмы распахнулись, и осужденных повели попарно к экипажам. Вскоре мрачный поезд двинулся в путь.
По дороге Мале, посаженный в одну повозку с Лагори, прямо сказал ему:
— Генерал, мы попали сюда благодаря вашей нерешительности!
Кордон войск сдерживал любопытных. Когда повозки выехали из-за Гренельской заставы, в толпе закричали: «Долой шляпы!» — и все обнажили головы; таков обычай: люди воздают честь смерти, которая проносится мимо и господствует здесь. Едва повозки остановились в каре, как барабаны забили поход. Осужденные в большинстве твердым шагом направились к месту, назначенному для казни.
Мале шел впереди; несчастный корсиканец Боккьямпи, замешанный в заговор без малейшего желания с его стороны, тащился последним; он требовал священника.
Некоторые из несчастных говорили в эту ужасную минуту:
— Моя бедная семья! Мои бедные дети! — рыдал Сулье.
— Не будет ли кто-нибудь из вас так добр, чтобы объяснить мне, за что меня расстреливают? — спокойно спросил Пикерель, обращаясь к солдатам взвода.
— Мерзавец, — крикнул Гидаль капитану-прокурору Делону, который приблизился для прочтения приговора, — три четверти из тех, которых ты заставил осудить, невиновны, ты сам отлично знаешь это!
— Господин жандарм, — сказал державшему его за руку стражу Боккьямпи, — я просил духовника.
— Я родился под знаменами, был всегда предан императору. За что меня ведут на расстрел? Да здравствует император! — воскликнул Бордерье.
— Смирно в рядах! — громко произнес тогда Мале. — Теперь моя очередь говорить! — И, сделав шаг к жандармскому офицеру, он прибавил: — Как генерал и начальник тех, которым предстоит сейчас умереть на этом месте, я прошу позволения командовать стрельбой.
Офицер наклонил голову в знак согласия.
Мале окинул взором войско. Каре было составлено из ста двадцати человек. Экзекуционный взвод состоял из тридцати старых солдат. В каре напротив поместили очень молодых.
Осужденные были поставлены в ряд, спиной к каменной ограде. В углу ограды стояли четыре телеги и одна лошадь, предназначенные для отвоза трупов. При этом зловещем обозе находились служители больницы, на которых было возложено погребение.
Жандармский офицер приказал ударить повестку.
После того Мале, глядя прямо в лицо неподвижным солдатам, скомандовал звучным голосом:
— Взвод, слуша-а-ай! Ружье на руку, все!
Солдаты дрогнули, но потом поправили ружья.
Тогда Мале продолжал:
— Слушай! На пле-чо! Готовь! В добрый час! Хорошо! Целься! Пли!
Грянуло тридцать выстрелов. Несчастные осужденные упали все, кроме Мале. Он был только ранен. Многие солдаты не решились стрелять в него.
Генерал остался на ногах. Он поднес руку к груди, откуда текла кровь, и крикнул:
— Друзья мои, а что же вы забыли меня?
— И меня также! — приподнимаясь произнес Бордерье, весь залитый кровью, после чего пробормотал: — Да здравствует император!
— Бедный солдат, — сказал Мале, — твой император, подобно тебе, получил смертельный удар! Ко мне, запасной взвод! — продолжал он вслед за тем.
— Вперед резерв! — скомандовал жандармский офицер.
При втором залпе Мале упал ничком.
Казнь совершилась. Было половина пятого. Тела казненных отвезли в Кламар.
Из заговорщиков уцелели только аббат Лафон и монах Каманьо. Избегнув общей участи, они попали в милость при реставрации. Тогда же Людовик XVIII назначил пенсию вдове Мале и пожаловал эполеты подпоручика стрелкового полка его сыну, Аристиду Мале, в благодарность за то зло, которое покойный генерал причинил Наполеону, и за ту услугу, которую он оказал Бурбонам, доказав на деле, что если бы Наполеон умер или исчез, то власти, армия, граждане и не вспомнили бы о существовании Римского короля.
* * *
— Заговорщики умерли храбрецами! — сказал вечером после казни ла Виолетт жителям Комбо. — Я не сожалею о том, что способствовал аресту Мале, который злоумышлял против нашего императора и держал здесь сторону казаков. Но эти несчастные офицеры, эти солдаты, думавшие, что они повинуются правильным приказаниям и настоящему начальству! Я готов пожертвовать половиной своих членов, только бы увидеть их тут живыми и помилованными!
И добряк ла Виолетт смахнул обшлагом рукава нескромную слезу.
Потом, чтобы разогнать мрачные мысли, он поднялся и с нежностью стал смотреть на Анрио, веселого, счастливого, который шел по аллее под руку с Алисой. Молодая девушка разговаривала с ним, склоняясь к нему с влюбленным видом.
За ними следовала Екатерина Лефевр, сиявшая материнской радостью, и любовалась юной четой, соединившейся наконец для прочного и безоблачного счастья.
Недоразумение между женихом и невестой быстро рассеялось.
Анрио по приезде в Комбо с ла Виолеттом откровенно признался во всем добрейшей Сан-Жень. Он рассказал ей о своей ошибке, когда ему померещилось ночью, будто он видит императора возле Алисы, затем о своем бегстве, жажде мщения и, наконец, о том, как перед ним открылась истина при встрече ла Виолетта с Самуилом, двойником Наполеона.
Екатерина расхохоталась над этой ошибкой и над тем, как она была раскрыта. После того она сказала Анрио, указывая ему на Алису:
— Пойди, обними свою жену!
Однако Анрио испытывал беспокойство. Планы Мале, указанные отчасти в письме Каманьо, смущали его радость. Что происходило в Париже? Удалось ли Мале бежать? По какой причине Марсель, внезапно исчезнувший из Пале-Рояля, казался таким удрученным, так спешил уведомить кого-то о своем убежище и отменить какое-то распоряжение. При всем желании остаться возле Алисы Анрио хотел поехать в Париж.
Тогда ла Виолетт предложил своему любимцу заменить его, обещая побывать в главном штабе и отправить ему из Парижа письмо с нарочным в случае надобности.
Подходя к городской ратуше, тамбурмажор был удивлен происходившим здесь движением войск. Он вздумал навести справки, причем заметил в толпе агента полиции по имени Пак, своего бывшего однополчанина. Тот сообщил ему известие о смерти императора и учреждении нового правительства с генералом Мале в качестве коменданта.
При имени Мале ла Виолетт, узнавший через Анрио о плане побега этого генерала, тотчас почуял обман. Решившись выгородить Анрио, отлучка которого из главного штаба в подобный момент могла быть истолкована позднее в весьма неблагоприятном смысле для него, отставной тамбурмажор попросил бывшего товарища одолжить его билет полицейского агента, обещая возвратить этот билет в тот же день после того, как он воспользуется им как пропуском.
Не будучи дежурным, Пак согласился. Снабженный билетом и под именем Пака ла Виолетт свободно проник в помещение главного штаба и там, как мы видели, помог аресту Мале.
Когда, узнав о его участии в этой защите императорских учреждений, государственный канцлер Камбасерес вздумал наградить ла Виолетта, тот попросил только о повышении и награде Паку, билетом и званием которого он воспользовался.
Бракосочетание Анрио и Алисы совершилось без всякой пышности в часовне замка Комбо несколько дней спустя. Ла Виолетт был шафером жениха и в день свадьбы, получив обратно украденный у него крест Почетного легиона, отдал Самуилу Баркеру два наполеондора, обещанные Анрио, да прибавил еще в придачу другие два от себя. Восхищенный Сам объявил тогда, что между ним и ла Виолеттом будет существовать с этих пор неразрывная дружба до гробовой доски и что он надеется доказать со временем почтенному тамбурмажору свою благодарность. Затем, с четырьмя червонцами в кармане, мнимый император побежал добросовестно напиться в одном из грязных притонов Пале-Рояля.
* * *
Между тем на Великую армию обрушивалось одно бедствие за другим.
14 сентября 1812 года, в два часа пополудни, Наполеон достиг со своим войском Москвы.
Остановившись верхом на Воробьевых горах, он разглядывал златоглавую первопрестольную столицу. Ее колокольни, купола, дома, пестревшие розовой, желтой, зеленой красками, ее Кремль, базары, дворцы сияли в солнечных лучах. То были Венеция и Византия, окутанные золотистой дымкой. Мечта великого завоевателя осуществилась. Он достиг своей цели, поймал свою грезу; перед ним открывалась Азия. Ослепление гордости овладело Наполеоном перед великолепием зрелища «сердца России», панорама которого развернулась перед ним, тогда как армия, разделяя волнение своего вождя при виде несравненной картины, поднимала кверху оружие, размахивала знаменами, вздевала на острия штыков меховые шапки, потрясала гривами блестящих касок и вопила в один голос, подобно коленопреклоненным паломникам, приветствующим Иерусалим: «Москва! Москва!»
Но какой зловещий закат в кровавом зареве небес над чудным сияющим городом последовал за этим ясным осенним днем!
В Москве не было ничего подобного торжественному въезду в другие столицы, захваченные Наполеоном раньше или добровольно сдавшиеся ему! Император сначала не хотел верить донесениям своих офицеров, утверждавших, что Москва безлюдна. Однако ни один караульный не являлся к нему, чтобы приветствовать его и проводить в завоеванный город. Тогда Наполеон с гневом потребовал к себе бояр.
— Где же бояре? Разыщите мне бояр!
Никакого ответа не последовало: приказ не мог быть исполнен. «Бояре» бежали с Ростопчиным, а люди зловещего вида с факелами в руках уже сновали из улицы в улицу, из дома в дом, распространяя пожар вместо иллюминации.
Наполеон облегченно вздохнул, увидав у своих ног столицу царей.
— Вот наконец-то этот знаменитый город! — воскликнул император, обращаясь к Бельяку. — Давно пора!
Между тем пожар Москвы нарушил чудесный эффект волшебного видения. Москва угрожала рухнуть, раскрошиться под его напором и великому завоевателю суждено было удержать в руках только обгорелую головню, и по пеплу пустил он вперед своего коня.
План Ростопчина осуществился. В скором времени пламя поднялось со всех сторон, оспаривая у французов священную землю.
Впоследствии Ростопчин отклонил честь этого акта дикого геройства, который принес пользу России и погубил Наполеона. Однако история изобилует доказательствами того, что пожар Москвы не был случайным, а еще того менее произошел от поджога французов, он был умышленным и даже играл роль стратегического маневра. В ряду первых улик укажем на скопление легковоспламеняющихся веществ, петард, зарытых в доме Ростопчина. Его объяснение, что это были запасы для фейерверков на предстоящих торжествах, не выдерживает критики. Данная историческая эпоха вовсе не подходила к пиротехническим удовольствиям. Второй уликой служит дворец графа Ростопчина, который уцелел почти один при всеобщем пожаре, из-за чего впоследствии, чтобы избавиться от обидных упреков, граф собственноручно поджег свой загородный дом; затем его приказ москвичам уйти из столицы.
Увоз пожарных машин, числом сто тринадцать, — совершенно не нужных для отступающей армии; наконец, пожары, возникавшие по приказу не только в Смоленске в момент взятия его приступом, но и по всем деревням, занятым французами, — все эти факты красноречиво свидетельствуют о свирепости и славе Ростопчина. Наводненная неприятелем Россия защищалась огнем в ожидании мороза.
По свидетельству дочери графа, издавшей сочинения своего отца, перед которым она благоговела, когда московский генерал-губернатор выезжал верхом из Рязанских ворот, тогда как Мюрат вступал в Москву со своими кавалеристами с другого конца, он обнажил голову и. сказал бывшему при нем сыну Сергею:
— Поклонись Москве в последний раз, через полчаса она будет объята пламенем.
Почему Ростопчин отклонил от себя славу патриота, который решается ради спасения отечества совершить варварское и великое дело? Зачем смыл он со своего имени, точно какое-нибудь пятно, репутацию, которая могла принести ему только уважение и удивление даже со стороны побежденных французов? Его дочь, графиня Лидия, дает этому такое объяснение. Сначала москвичи рукоплескали уничтожению своих жилищ, но, вернувшись в столицу, стали жаловаться на виновника этого бедствия. Раздраженный, разочарованный Ростопчин опроверг тогда факт, который должен был снискать ему благодарность и любовь спасенных соотечественников. Тогда он написал: «Если москвичи жалуются на ореол, которым я увенчал их головы, то я сниму его с них!» Однако история возвратила его им.
В продолжение тридцати пяти дней жил Наполеон в Кремле, окруженный дымящимися развалинами города и остатками все еще тлевшего пожарища. Его укоряют в бездействии; между тем ему было необходимо дать отдохнуть голодной, изнуренной армии и запастись съестными припасами. Сначала он предполагал раскинуть обширный укрепленный лагерь для зимовки, насолить конского мяса, набрать фуража для лошадей, дождаться весны и вместе с ней подкреплений, которые дали бы ему возможность довершить завоевание. Однако забота об общественном мнении во Франции заставила его отказаться от этого плана.
— Что скажет Париж? — озабоченно воскликнул он. — Там не сумеют обойтись без меня, там нужно мое присутствие.
18 октября Наполеон решил отступить. 23 октября в половине второго утра, в тот час, когда генерал Мале, выйдя из лечебницы, давал свои первые приказания и собирался увлечь за собой людей 10-й когорты, грозный взрыв потряс Москву в момент выступления французского авангарда из юго-западных ворот. То маршал Мортье по приказу Наполеона взрывал покинутый Кремль.
Плачевное отступление началось. Два пути были открыты французам. Юго-западный, или Калужский, тракт был им еще незнаком и мог дать жизненно важные ресурсы. Вступив на него, Наполеон убедился, что здесь он окружен с трех сторон русской армией, грозившей ему и с фронта, и с обоих флангов, а потому приказал свернуть оттуда на Смоленский тракт, уже пройденный им раньше. Насколько он жаждал при наступлении услыхать русскую пушку и встретить неприятеля, настолько избегал их теперь, при отступлении и отыскивал бесплодные равнины.
Старый путь, выбранный французами, мог сверх того ввести в заблуждение Францию, заставив ее поверить в совершенно добровольное и правильно организованное отступление.
Час был трагический и скорбный. К воеводе Пожару присоединился воевода Мороз. Термометр упал 6 ноября до восемнадцати градусов ниже нуля. Снег подобно савану накрыл заснувшие наполеоновские полки. Многие из его рати не проснулись больше. Тридцать тысяч лошадей погибло в одну ночь. Пришлось бросить на дороге пятьсот орудий.
Воевода Голод довершил поражение. Гордые солдаты Наполеона, дрожавшие впервые, оспаривали у хищных птиц остатки конских трупов, уже растерзанных, которые находили на пройденном раньше пути.
Казаки, носившиеся вихрем вокруг этих дрожавших от холода осколков славной рати, едва не захватили в плен Наполеона. Ему пришлось обороняться от них.
Березинская катастрофа окончательно превратила в кучку изнуренных беглецов то, что некогда было Великой армией.
Наполеон шел пешком, опираясь на палку, — сумрачный, однако не падавший духом.
В Дорогобуже его застала эстафета с поразительным известием о заговоре Мале. С той же почтой сообщалось о казни двенадцати осужденных.
Наполеон был подавлен этими новостями, которые показали ему непрочность его власти и неустойчивость основанной им династии. Он не мог поверить той легкости, с какой люди, состоявшие на государственной службе, забыли о его царственном сыне и своей присяге.
— Как, — сказал император Ларибуазьеру, расспросив его о Лагори, служившем под его начальством, — неужели никто не вспомнил о моем сыне, о моей жене, об императорских учреждениях! — И, прохаживаясь большими шагами по крестьянской избе, где до него дошли эти горестные вести, он пробормотал про себя: — Это печальный остаток наших революций! При первом слове о моей смерти офицеры по приказу неизвестного ведут своих солдат разбивать тюрьмы, хватать представителей высшей власти! Сторож сажает под замок министров! Префект столицы, послушавшись каких-то солдат, приказывает приготовить большой парадный зал для неведомо какого сборища бунтовщиков. Между тем императрица налицо, а с ней и Римский король, принцы, министры, все высшие власти государства! — Затем, порицая поспешность казни, Наполеон ворчливо прибавил: — Ах, какие дураки мои министры! Попав впросак, они стараются оправдаться передо мной, приказывая расстрелять людей дюжинами!
Император по возвращении сделал строгий выговор канцлеру Камбасересу за то, что тот распорядился так быстро привести в исполнение приговор, который он хотел предварительно рассмотреть.
Заговор Мале, хотя и закончившийся на Гренельской равнине, вынудил Наполеона поспешно вернуться во Францию. Он не хотел подвергать свой трон новому неожиданному нападению. 5 декабря, ночью, император собрал Мюрата, вице-короля Евгения, Бертье, Лефевра, Даву и несколько других боевых товарищей, чтобы сообщить им о своем решении вернуться во Францию.
Никто не выразил ему порицания. Тогда он обнял поочередно всех собравшихся, как будто ему было не суждено увидеться с ними больше (разве казацкая пика не могла остановить его на первой же версте?), а затем сел в сани в сопровождении Дюрока, с мамелюком в виде единственной охраны. Граф Возорвич, поместившийся на передке саней, служил Наполеону переводчиком.
В других санях следовали за ним Коленкур, граф Лобо и генерал Лефевр-Денуэтт.
Термометр показывал тридцать градусов по Реомюру ниже нуля.
Благополучно ускользнув от мороза, казаков, от всех опасностей, какие представляло это путешествие через Европу, Наполеон прибыл 18 декабря, ночью, в Тюильри.
Императрица спала; ее не предупредили о приезде супруга. Услышав шум, она встала, сильно встревоженная… Пожалуй, она была не одна?
Император не без труда заставил ее отворить дверь.
Он сжал супругу в объятиях, а она довольно холодно отвечала на его ласки.
Вдруг, оставив императрицу, Наполеон порывисто бросился в комнату, где спал Римский король. Ребенок проснулся от шума. Узнав отца, он протянул к нему ручонки, весело крича:
— Папа! Папа!
Наполеон вынул сына из кроватки, обнял и прижал к груди.
Маленький король залепетал на своем детском языке:
— Папа! Папа! Поколотил ли ты гадких казаков?
Император не ответил ни слова. Он с тихой и суровой радостью целовал малютку. Потом, как бы предчувствуя трагическое будущее, предвидя, пожалуй, непрерывное поражение после неизменных побед, ссылку, оскорбления, ненависть и мщение монархов, которые определили ему могилой остров Святой Елены, его сыну — Шенбруннский дворец, а Марии Луизе, вышедшей замуж за Нейпперга, альков в пармском дворце, — Наполеон заплакал.
— 6 — Коварство Марии-Луизы
Как изменчива судьба! Всемогущий император, влюбленный в молодую жену, рождение желанного наследника — казалось бы, что еще нужно для счастья? Оказалось, нужно завоевать Россию— и с этого момента фортуна изменяет Наполеону. Он терпит поражение в войне, Мария Луиза оставляет мужа, сенат лишает его трона… По дороге в изгнание на остров Эльба враги Наполеона хотели убить его, но любовь и преданность фаворитки спасли жизнь императора. Во время 100-дневного возвращения Наполеона была сделана неудачная попытка выкрасть Марию Луизу, чтобы доставить ее к мужу. Но… судьба неумолима.
I
На расстоянии около ста метров от заставы Клиши, налево от дороги, прорезавшей сады, поля, широкие равнины, ставшие позже городом Батиньолем, а еще позже — многолюдным семнадцатым округом Парижа, в 1814 году находился ресторанчик, хорошо известный парижанам своим легким аржантейльским вином и вкусно приготовленными яйцами. Летом этот ресторанчик посещали веселые парочки и добродетельные семейства, приходившие сюда поиграть в шары, попивая вино и пиво с нантеррскими пирожками и печеньем. Зимой он служил приютом влюбленным, искавшим где-нибудь вблизи от города места для своих свиданий, скрытого от любопытных взоров. Вывеска этого ресторанчика сохранилась до наших дней; крупными синими буквами на серебряном фоне было написано: «Дядюшка Лятюй; кабинеты, залы для свадеб и обедов».
В ясное и солнечное, но немного ветреное мартовское утро 1814 года хозяин ресторанчика с крайне озабоченным и возбужденным видом переходил от кухни к погребу и обратно, подбодряя рабочих, торопя служанок и внимательно следя за стряпней на кухне. Иногда он приотворял дверь и, просунув туда голову, озабоченно спрашивал:
— Позаботилась ли ты о белье для большого салона? Везде ли есть масло? Эти господа, кажется, очень требовательны.
— Да, да, не беспокойся! — отвечала госпожа Лятюй, маленькая худенькая молодая брюнетка, живая и энергичная, командовавшая всем домом.
Она сидела за своей конторкой, окруженная фруктами и пирожными, аккуратно разложенными по блюдам, с лихорадочной поспешностью записывала заказы в толстую тетрадь и подводила счета. Все ее существо выражало нетерпение: ей хотелось бы одновременно быть в кухне, в ресторане за кассой и следовать по пятам за мужем и служанками.
Получив такой ответ, хозяин покорно возвращался к своей стряпне, заглядывал в кастрюли, переворачивал жаркое, но, по-видимому, не в силах был отделаться от занимавших его мыслей и снова приотворял дверь к жене, приходившей в бешенство от этих помех в ее хлопотах.
— Не надо забывать о парочке, господине и даме, во втором номере, — сказал он шепотом, — они кажутся вполне порядочными людьми. Красивая женщина, насколько я мог разглядеть, так как она тщательно закрывала лицо.
— Присматривай-ка лучше за жарким! Это будет лучше, чем заниматься красивыми дамами, которые сюда приходят, — раздраженно ответила госпожа Лятюй и прибавила с возрастающим гневом: — Она вовсе не так интересна, как ты находишь. Тяжелая, с квадратной талией, ноги большие. Можно подумать, что она — немка! Господин гораздо лучше.
— Ах, ты разглядела господина? Ну, а я даму, это совершенно естественно! Жаль, что у этого прекрасного господина повязка на глазу.
— Молчи, кто-то идет! — сказала госпожа Лятюй, зоркий взгляд которой заметил пару, медленно приближавшуюся к входу в ресторанчик, где она восседала среди своих ваз с фруктами и бисквитами.
Мужчина был высок и худ, с потемневшим лицом и большими усами, и напоминал Дон-Кихота. Он был одет в длинный, застегнутый на все пуговицы сюртук, с ленточкой Почетного легиона. Шляпа, сдвинутая набок, и толстая трость, которой он размахивал на ходу, выдавали отставного военного.
Дама, к которой он относился с видимым почтением, полная, пышущая здоровьем, с открытым лицом и взглядом, была одета как богатая купчиха; за таковую и принял ее хозяин ресторанчика.
«Это какая-нибудь богатая торговка с улицы Сен-Дени, — подумал он, — наверное, обманывающая мужа с солдатом. Держу пари, что по счету будет платить она! — Он сделал гримасу, рассуждая сам с собой: — Женщины слишком наблюдательны и любопытны… я не дам им голубой кабинет; восьмой номер будет для них достаточно хорош!»
— Жюли, — громко позвал он одну из прислуг, — проводи господ в восьмой номер! Вам будет там прекрасно, — прибавил он, обращаясь к новым посетителям. — Что прикажете подать вам?
Они переглянулись с некоторым затруднением.
Хозяин иронически сказал про себя: «Они пришли сюда, видимо, вовсе не для того, чтобы обедать! Только пусть не воображают, что я отдаю мои салоны птичкам, живущим любовью и свежей водой! Они имеют оба такой глупый вид, что, кажется, я должен помочь им. А ведь они далеко не дети!»
И, приняв изящную и почтительную позу, с легким оттенком иронии, Лятюй обратился к своим посетителям:
— Не угодно ли вам для начала дюжину устриц? В виде закуски — колбасу и масло… у нас есть прекрасная розовая редиска. Затем, может быть, яичницу с почками? Не зажарить ли для вас кролика? У нас есть бифштексы, холодные цыплята.
— Дайте нам что хотите, черт возьми, но только не на улице! Ведите же нас куда-нибудь, тысяча бомб! — крикнул переодетый военный, размахивая своей тростью, что могло легко перейти в более энергичное воздействие на спину болтливого трактирщика.
Спутница дотронулась до его руки, чтобы успокоить его.
— Потерпи! — сказала она, а затем обратилась к хозяину: — А ты, дядюшка, покажи нам дорогу; дай нам что хочешь, а потом чем скорей ты уйдешь, тем больше доставишь нам удовольствия.
С этими словами толстая и добродушная дама очень фамильярно ударила слегка по животу дядюшку Лятюй.
Он с негодованием попятился назад и сказал с достоинством, меряя взглядом бесцеремонную посетительницу:
— Служанка Жюли подаст вам.
Сделав знак Жюли, он удалился к себе в кухню, бормоча:
— Это совсем простые люди, восьмой номер еще слишком хорош для них. Жюли! — крикнул он служанке. — Подавай в четырнадцатый номер!
Четырнадцатый номер представлял собой совсем маленькую комнатку, освещенную узким окном, выходившим в темный двор. Он помещался в самом конце коридора, в который выходили более нарядные кабинеты, предназначенные для тонких обедов. Рядом с ним находился большой салон, где обедали пять человек, к которым Лятюй относился особенно внимательно.
Жюли ввела гостей в четырнадцатый номер, поставила на стол две тарелки и два стаканчика и скрылась со словами:
— Сейчас подам закуску!
Переодетый военный прислушался к удаляющемуся стуку ее башмаков, а затем почтительно обратился к своей спутнице:
— Я воспользуюсь отсутствием девушки и произведу разведку.
— Осторожнее, ла Виолетт! — ответила толстая дама, которую Лятюй принял за купчиху с улицы Сен-Дени, пришедшую сюда ради любовного приключения.
Это была не кто иная, как герцогиня Данцигская, добрая, отважная супруга маршала Лефевра, которую парижане, солдаты и сам император называли фамильярным именем «мадам Сан-Жень», ставшим достоянием истории.
Бывший тамбурмажор гвардии ла Виолетт, старый товарищ Лефевра еще по республиканской армии, оставшийся другом и исполнителем поручений прачки, ставшей женой маршала и герцогиней, выпрямился и с жестом, говорившим: «Вы можете быть уверены во мне!» — осторожно выскользнул в коридор. Герцогиня осталась одна, видимо, сильно обеспокоенная и взволнованная. В этот ресторанчик, как правильно подумал хозяин последнего, ее привело не только желание поесть жареного кролика и выпить стакан аржантейльского вина.
ІІ
Ла Виолетт вернулся скоро, бледный, и с лицом, исказившимся от тщетно сдерживаемого волнения.
— Что случилось, скажи, ради Бога? — спросила герцогиня.
Ла Виолетт приложил палец к губам и взглядом указал на дверь.
— Они здесь? — спросила Екатерина Лефевр, понизив голос.
Ла Виолетт опустил голову.
— Может быть, это ложный слух. Алису оклеветали.
— Я доверяю человеку, который сообщил мне то, что я говорил вам, — грустно ответил он. — Старый солдат, как я, не станет охотно повторять пустые слухи. Я утверждаю и повторяю, что полицейский агент Пак, мой старый полковой товарищ, обязанный, по его словам, мне своим повышением после дела генерала Мале, в котором я, сам этого не зная, исполнил его обязанности, сообщил мне, что дама, которая живет в вашем доме и которую он слишком определенно описал мне, находится в связи с одним из самых страшных врагов императора, графом Мобрейлем.
— Лефевр говорил мне, что этот Мобрейль, которого я видела как-то раз в Комбо и которого императрица Мария Луиза напрасно так хорошо принимает, действительно был замешан в заговоре. Он имел сношения с теми, кто замышлял убить императора?
— Только обстоятельства помешали ему в этом.
— Неужели Алиса обманывает своего мужа, нашего славного Анрио, с этим разбойником?
— Женщины не занимаются политикой, — философски заметил ла Виолетт. — Замышлять убийство императора значит действовать заодно с казаками. Теперь самые честные люди думают об адских машинах. Среди лучшего общества с нетерпением ожидается взрыв, так как русские и пруссаки долго не являются в Париж. Можно подумать, что они нарочно хотят потерпеть поражение от императора.
— Значит, по словам этого полицейского агента, Мобрейль действительно любовник жены Анрио! Бедный мальчик! Что он сделал? За что Алиса разлюбила его?
— Граф Мобрейль понравился ей. Это увлекательный кавалер, умеющий говорить комплименты. А к тому же полковник Анрио уехал, чтобы быть рядом с императором и защищать наводненную врагами Шампань. Он теперь далеко отсюда… где-то у Труа или Эпирнэ; это чуть ли не на границе России! Мадам Алисе было скучно, она и приняла то развлечение, которое представилось ей. Гм… женщины! Это дети, играя, причиняющие зло! — проворчал добрый тамбурмажор.
— А все-таки я готова до полной очевидности сомневаться в этой измене. Она поражает меня, разбивает мое сердце, — с трудом сказала Екатерина. — Я люблю Алису, которую спасла от пожара и смерти во время осады Вердена. Анрио, сын моей благодетельницы Бланш де Лавелин, воспитанный мною и Лефевром, — почти наш сын. Узнать, что он не нашел счастья в этом браке, который так долго задерживался из-за разных препятствий, опасностей и наконец состоялся, — для меня было страшным ударом! Ты уверял меня, что здесь мы найдем доказательство неверности Алисы. Я последовала за тобой в этот кабак. Ты обещал показать мне виновных — я жду!
— Я думаю, что Алиса и ее соблазнитель еще не пришли в тот кабинет, который приготовлен для них, если только указания моего друга Пака правильны.
— Дай Бог, чтобы они оказались ложными! Кто знает, что может выдумать слишком усердствующий полицейский агент? Этот Пак знает, как маршал любит тебя, ла Виолетт, и, выдумывая историю относительно Алисы, хотел угодить тебе, а через тебя — зарекомендовать себя Лефевру и императору.
— Пак — человек, преданный императору, и большой патриот. Мне казалось, что во всей этой истории он подозревал нечто другое, чем любовную интрижку.
— А что же? Твой Пак большой выдумщик и может ошибаться. Ведь вот Алисы здесь нет, как он говорил. А граф Мобрейль, может быть, никогда не имел свидания с женой Анрио ни в Комбо, ни здесь. Да и знает ли еще он этот ресторанчик? Я держу пари.
— Не держите, вы проиграете! Я слышал.
— Кого? Графа Мобрейля?
— Да, и еще других. Они здесь, в отдельном кабинете, составляют заговор против Франции! Эти негодяи, — продолжал ла Виолетт сквозь зубы, — стараются помешать движениям императора, расстроить его планы, помочь Блюхеру поскорее достигнуть Парижа. Но это не все! Я расслышал сквозь дверь несколько слов, обнаруживающих более подлый заговор, чем все бывшие до сих пор.
— В чем же дело?
— Тсс! Подождите!
Служанка вернулась с посудой и кушаньями; поставив все на стол, она удалилась. Екатерина принялась за еду, чтобы не возбудить подозрений у хозяина ресторанчика, и в то же время расспрашивала ла Виолетта. Последний коротко рассказал ей, что пять или шесть человек, среди которых он узнал графа Мобрейля, обсуждали отчаянное положение, в котором находился Наполеон. Дело в том, что после великой катастрофы, постигшей Наполеона в России, его недавние союзники тотчас же подняли головы. Первой была Пруссия. Она заключила союз с Россией и объявила вместе с императором Александром войну Франции. Во главе прусской армии встал Блюхер, во главе русской — Витгенштейн. Однако Наполеон не дал союзникам застать себя врасплох и быстро собрал армию, значительно превосходившую силы союзников. Военные действия начались 24 марта 1813 года (всего через три месяца после переправы через Березину). В мае произошли две большие битвы: при Лютцене (1 мая) и при Баутцене (8 мая). Наполеон благодаря значительному превосходству сил вышел победителем, но это была такая победа, что он же первый повел переговоры о перемирии. 23 мая оно было подписано. Австрия приняла на себя посредничество в мирных переговорах. Однако они не привели ни к каким результатам, и по истечении срока перемирия военные действия возобновились (15 августа). К союзникам тем временем примкнули Австрия и Швеция, и их войска увеличились до 225 000 человек (в главной армии). Англия также не прекращала военных действий на море. В августе союзники проиграли большую битву под Дрезденом, но зато победили при Кульме. Затем французы потерпели ряд неудач, закончившихся трехдневной Лейпцигской битвой, в которой Наполеон потерпел полное поражение. Союзники вступили во Францию. Наполеон с лихорадочными усилиями собрал новую армию и двинул ее на войска союзников, а вместе с тем, не прекращая военных действий, повел мирные переговоры, для ведения которых в Шатийон-сюр-Сен собрались представители Австрии, Пруссии, Англии, России и Франции. Шатийонский конгресс потерпел неудачу; предложения мира были только средством дать возможность соединиться армиям Блюхера и князя Шварценберга. Император Александр хотел непременно торжественно вступить в Париж — это должно было вознаградить его за позор Москвы. Герцог Виченцский тщетно предлагал всевозможные уступки. Союзники только старались выиграть время. Их целью было полное поражение Франции, низложение Наполеона, захват Римского короля, который должен был стать заложником, и учреждение регентства; наследный принц шведский, изменник Бернадотт, казался вполне подходящим регентом.
— Император никогда не согласится на такое регентство, — живо сказала Екатерина. — При своей жизни он не допустит, чтобы кто-нибудь так распоряжался его престолом и его сыном. Или они рассчитывают, что император умрет, что так распоряжаются его наследством?
— Вопрос о наследовании монарху возникает и в том случае, который есть ни жизнь, ни смерть.
— Что ты хочешь сказать этим? Я не понимаю.
— Безумие!
— Но ведь император вовсе не сумасшедший!
— Для вас, для меня, для солдат и крестьян, которые рвутся к оружию, — для всех нас император, разумеется, в здравом уме, и никогда еще его гений не был так удивителен и могуч, как теперь. Но для этих изменников, иностранных агентов, он безумец, или по крайней мере они стараются представить его таковым!
— Это подло! Но кто же эти люди, говорящие таким образом о свободе Римского короля и рассудке Наполеона?
— Это все влиятельные особы, — с горечью ответил ла Виолетт. — Там находятся коварный хромой Талейран, Фушэ, который бывает причастен ко всякой измене, герцог Дальберг, оставшийся, несмотря на благодеяния Наполеона, доверенным лицом и шпионом Нессельроде и Стадиона; архиепископ Прадт, интриган, всецело преданный коалиции; кроме того, там же есть тайный эмиссар Бурбонов, которого я не знаю, переодетый курьером; они называли его, кажется, Витроллем. Прекрасная компания иуд-предателей!
— Новая победа императора уничтожит их заговор. Да и императрица не согласится на их замыслы. Кто осмелится сказать ей о регентстве, достигнутом посредством преступного объявления ее мужа сумасшедшим?
— Не рассчитывайте на императрицу! — живо сказал ла Виолетт. — Голос — единственное, что почти невозможно изменить. Послушайте! Только что открылась дверь в конце коридора, где в таком же кабинете, как этот, сидят мужчина и дама. Мужчина переходит из этой комнаты в большую, где сидят заговорщики. Я заметил его переходы туда и обратно, и узнал этого человека. Его голос, конечно, напомнит вам его имя и прошлое, его желания и стремления. Может быть, вы узнаете и женщину, несмотря на принятые ею предосторожности. Пойдемте!
Екатерина поднялась в волнении, но с минуту колебалась.
— Подслушивать у дверей, — сказала она, — это не совсем прилично для герцогини. А впрочем, дело идет об императоре и спасении государства. Пойдем, — обратилась она к ла Виолетту, — и беда изменникам, если они попадут к нам в руки!
Они осторожно вышли в коридор и подошли к двери кабинета, указанного ла Виолеттом. Екатерина наклонилась к двери и услышала серьезный и мелодичный мужской голос, нежно говоривший слова любви.
— Да, моя прекрасная возлюбленная, — говорил невидимый влюбленный, — пройдет несколько тяжелых дней, а затем наступят для нас недели, месяцы, годы, сияющие счастьем. Вдвоем, вдали от злых, ревнивых, скучных людей в каком-нибудь приятном уединенном уголке — я знаю очаровательные места в Тироле, — среди сельской природы, мы будем жить друг для друга. Пожалеете ли вы тогда о том, что всем пожертвовали для меня?
— Я ни о чем не пожалею! — ответил женский голос, полный страсти, и до слуха Екатерины донесся звук горячего поцелуя.
— Я узнала голос, — сказала она ла Виолетту, — это Нейпперг! Несчастный, что он здесь делает? Если его еще раз узнают и схватят, он погибнет!
— Его славный соперник окружен врагами, может быть, уже в плену или убит, а покровители графа Нейпперга находятся в двух шагах отсюда, в салоне, где обсуждается вопрос, объявлять ли безумие Наполеона или регентство Бернадотта. О, Нейппергу нечего бояться!
— Но женщина? Это не Алиса! Кто же это? Боже мой! Неужели…
Ла Виолетт сделал жест негодования и угрозы по направлению к кабинету, где происходила нежная сцена.
— Ее величество императрица! Да, это она, Мария Луиза, обманывающая одновременно мужа и Францию! Нейпперг передает ее распоряжения изменникам, сидящим в салоне, а ей сообщает об их надеждах. Она председательствует в этом кабаке на совещании предателей, лишающих Наполеона короны, а разоренную страну защиты.
— Это подло, ла Виолетт! И мы ничего не можем сделать?
— Через неделю, а может быть, и скорее, казаки будут у заставы Клиши; в этом ресторане будут сидеть русские, прусские, английские генералы. Если Париж не будет защищаться, то погибнет вся слава, приобретенная Францией двадцатилетними победами. Нам будут диктовать законы люди, питающиеся капустой и сальными свечами. Ах! Вся моя преданность вам нужна для того, чтобы оставаться здесь, когда там дерутся! Маршал возложил на меня тяжелое обязательство, приказав мне сидеть здесь сложа руки.
— Ла Виолетт, будучи рядом со мной, ты жалеешь о своем доверенном посте, который может стать более опасным, чем ты думаешь?!
— Я не жалею, я повинуюсь маршалу! Все равно мне хотелось бы поломать несколько казацких пик, черт возьми! Скорее пойдемте! Служанка возвращается; ожидая успеха наших замыслов, нам необходимо закончить наш завтрак, не обнаруживая подозрений по отношению к нашим соседям!
Ла Виолетт увлек Екатерину обратно в кабинет, в то время как она в негодовании бормотала:
— О, эта Мария Луиза! Решительно, австриячки приносят несчастье Франции.
III
Вечером, накануне того дня, когда герцогиня Данцигская и ла Виолетт завтракали в ресторане дядюшки Лятюйя, Алиса, жена полковника Анрио, была погружена в глубокую меланхолию. Сидя на диване в маленькой, изящно меблированной комнате, принадлежавшей к частным помещениям Тюильрийского дворца, она комкала в руках какое-то письмо.
Император исполнил свое обещание, данное молодой чете, покровительствуемой Лефевром и его женой, и тотчас же после свадьбы Анрио и Алиса заняли видное положение при дворе.
Первый год после свадьбы пролетел для Алисы быстро и показался сплошным праздником. Затем наступила разлука. В Германии шла война, колебавшая трон императора. Анрио последовал за императором в печально окончившийся поход 1813 года.
После короткого свидания с молодой женой полковник снова должен был сесть на коня, чтобы следовать за Наполеоном во всех его битвах в Шампани, наводненной врагами. Бриенн, Шампобер, Монмирай, Шато-Тьерри, Вошан, Монтеро были местами блестящих, но мимолетных побед, за которыми следовали непоправимые поражения.
Алиса, разлученная с мужем, окруженная всеми соблазнами пустого и бездеятельного двора, скоро стала предметом ухаживаний некоторых офицеров. Это льстило ее кокетству, но ее сердце оставалось холодно, и она без труда отвергала искания своих поклонников.
Из всех блестящих придворных Марии Луизы, окруживших вниманием и поклонением молодую женщину, только одному удалось обратить на себя ее внимание и благосклонность; это был граф Мобрейль, которому Талейран сумел вернуть милость императора. Наполеон был в отсутствии и слишком занят для того, чтобы вспоминать о подвигах бывшего шталмейстера королевы вестфальской и той немилости, в которой он находился.
Мобрейль, изящный и обаятельный кавалер, был в большой милости у Марии Луизы. Злые языки говорили, что этому способствовало рекомендательное письмо ее старого поклонника, когда-то застигнутого Наполеоном ночью в ее комнатах, а именно графа Нейпперга. Мобрейлю приписывали много любовных интриг и успехов. Его репутация привлекла, смутила и покорила Алису. К тому же он сохранял тон старого двора, который всем кружил головы.
В легкомысленной атмосфере императорского двора, утратившего в отсутствие Наполеона строгость и суровость, сменившуюся фамильярностью, хотя и прикрытой торжественностью и строгим этикетом, Алиса, лишенная поддержки мужа, не могла долго устоять. Неизбежное падение совершилось быстро и почти неожиданно. Алиса, мягкая и пассивная, скорее позволила взять себя, чем отдалась.
На следующий день она проснулась точно после долгого сна, и с ужасом, недовольная и обеспокоенная, спрашивала себя, действительно ли она стала любовницей Мобрейля. Это случилось так внезапно, почти бессознательно, Мобрейль, как большинство счастливых соблазнителей, явился кстати и с таким расчетом сумел использовать психологический момент, который никогда не наступает для менее ловких людей, что Алиса почти сомневалась в действительности своей вины. Однако измена была совершена, и ничто не могло превратить все происшедшее между нею и Мобрейлем в тяжелый сон, рассеявшийся при наступлении утра.
Любовники — это сообщники, заключившие договор, который не может быть нарушен по произволу. Алисе приходилось терпеть Мобрейля. Его ласки и нежные слова были для нее мукой, которой она не могла избежать. Она не могла заставить себя забыть и не думать об Анрио. Его черты, жесты, звуки голоса, взгляд постоянно представлялись ей с необыкновенной ясностью; она вспоминала, как они по утрам, проснувшись, болтали, хохотали и дурачились в своей уютной комнате. В объятиях любовника она снова переживала счастливые минуты, проведенные с мужем. Отдаваясь Мобрейлю, она бывала вяла и пассивна, печаль, угрызения совести, стыд обессиливали ее, но потом вдруг точно пьяная женщина, отбрасывающая от себя всякий стыд, она отвечала на его ласки так горячо, точно беззаветно разделяла его страсть. Но если бы в одну из этих минут опьянения Мобрейль мог, приложив ухо к груди Алисы, услышать то, что говорило ее сердце, бившееся рядом с его сердцем, но не для него, он с удивлением услышал бы имя мужа.
— О, мой Анрио! Как я люблю тебя! Как я хочу любить тебя! — шептало сердце бедной Алисы.
Она насиловала свое воображение, отгоняя действительность и стараясь сохранить мечту. Она в объятиях Мобрейля мысленно обнимала Анрио и искала его поцелуев, обманывая таким образом мужа делом, а любовника — мыслью. Анрио владел ее душой, Мобрейль — только телом.
После таких двойственных ласк Алиса забиралась в какой-нибудь темный угол своей комнаты или зарывалась в подушку и после ухода Мобрейля плакала долго и с наслаждением, призывая отсутствующего мужа, которого она только и любила, и любовь и уважение которого готова была купить ценой жизни. Казалось, что в эти часы жгучего раскаяния слезы смывали позор измены. Но когда жизнь принимала обычное течение, к Алисе возвращалось сознание своей преступной слабости, а вместе с ним горькие сожаления, отчаяние и гнев. Она вполне сознавала свою измену: Мобрейлю она принадлежала, и те мысленные ласки, которые она посылала далекому мужу, не могли уничтожить действительных поцелуев любовника.
Эта борьба и эта пытка продолжались до начала февраля 1814 года.
Вдруг Мобрейль перестал приглашать свою возлюбленную на свидания маленькими таинственными записочками, производившими на нее впечатление вызова в суд. Он исчез, не сказав ни слова и даже не попрощавшись. Алиса говорила себе: «Он вернется». Но время шло, не принося никаких сведений ни о месте, где он жил, ни о его стремлении возобновить прерванные сношения. Это внезапное и упорное молчание удивляло Алису.
Между ними не произошло никакой ссоры: последнее свидание было таким же, как и все предыдущие; не было ни упреков, ни каких-либо недоразумений. Покидая ее, Мобрейль при последнем поцелуе сказал: «Мы увидимся, вероятно, послезавтра; наш посланный известит тебя!» Но пришел этот день и посланный, один из слуг обер-гофмаршала, не сунул Алисе в руку обычного письма. Будучи скромным, этот человек ответил, что ему нечего передать, так как он ничего не получал от камердинера.
Ясно, что это был разрыв.
Алиса обрадовалась и вздохнула с облегчением, чувствуя себя освобожденной. Кошмар этой тягостной любви рассеивался. Она была свободна от этого человека, которому так неразумно, необдуманно отдалась во власть, и теперь могла спокойно любить своего Анрио. Он не должен был ничего знать или подозревать и таким образом мог продолжать быть счастливым. Она так любила его и готова была искупить свою вину удвоенной нежностью! Счастье возвращалось к ней вместе со свободой.
Но вдруг Алиса испугалась мысли, что это было только временное освобождение. Мобрейль опять вернется, снова подчинит ее себе, и теперь уже надолго, навсегда должна захлопнуться ее клетка.
У Алисы явилось подозрение, что, быть может, отсутствие ее любовника не было добровольным. Она смутно угадывала темные замыслы, в которых участвовал Мобрейль. Он был членом заговора и, может быть, теперь был изобличен и арестован. Однажды после свиданья кто-то следил за ними; Мобрейль заметил настойчивое внимание какого-то человека, довольно плохо одетого. Он указал Алисе на этого любопытного, по-видимому полицейского агента. Через несколько дней, посетив жену маршала Лефевра, Алиса заметила того же человека, дружески беседовавшего с ла Виолеттом. Она прекрасно узнала его. На ее вопрос ла Виолетт просто ответил: «Это полицейский агент Пак, мой старый полковой товарищ». Очевидно, ла Виолетт не замечал, что его друг Пак занимался шпионством. Алиса решила, что ошиблась, и скоро забыла об этих встречах. Долгое и непонятное отсутствие Мобрейля заставило ее вспомнить об этом, и ее уму тотчас же представилась возможность ареста. Значит, это был только мимолетный отдых; освободившись, Мобрейль снова вернется к ней, и ее страданья возобновятся вместе с горестным рабством.
Но неделя протекала за неделей, а Мобрейль не подавал признаков жизни и ничто не заставляло предполагать возобновления их отношений. Тогда Алиса снова начала надеяться, и радость с утра до вечера наполняла ее душу.
Среди массы новостей, приводивших Париж то в восторг, то в отчаяние, смотря по тому, приближались ли или удалялись союзники, Алиса особенно стремилась найти известие о громадной, блестящей победе, оканчивающей войну, или о заключении мира, чем обеспечивалось возвращение Анрио.
Надежды и радости наполняли ее весельем, когда вдруг забытый уже ею посланец, о котором она перестала и думать, появился перед ней с письмом в руках.
Мобрейль возвращался и писал Алисе. Значит, она не освободилась, нравственный плен должен был продолжаться. Счастье, которое она испытывала, теперь уходило от нее навсегда, и она возвращалась в рабство, которое считала уже окончившимся.
Письмо, которое она вертела в руках, указывало ей ее судьбу: она должна была повиноваться, — ведь она сама выбрала себе господина.
Мобрейль, не объясняя ни одним словом своего отсутствия и возвращения, назначал ей на следующий день свидание в ресторане дядюшки Лятюйя, где они виделись и раньше.
— Я не пойду! — с энергией воскликнула Алиса. — Скорее я убью себя! — При этом она вскочила со своего места, лихорадочно прошлась по комнате и, остановившись, задумалась. Через несколько минут она промолвила: — Нет, я слишком молода, чтобы умереть… Ведь мне придется отказаться от Анрио, которого я люблю и который, ничего не зная, может по-прежнему любить меня. Нет, это невозможно! Умереть? Нет! Мобрейль является препятствием, злом, врагом, его и надо уничтожить, и я его убью!
С этой мыслью Алиса подошла к красивому столику, отделанному позолотой, открыла его, вынула короткий кинжал с изогнутой ручкой, привезенный Анрио из Испании, и спрятала его за корсаж. После этого, зная, что в ее власти освободиться от нового порабощения Мобрейлем, она снова стала весела и даже с нетерпением считала часы, отделявшие ее от свидания. Эта ненавистная встреча в ресторане дядюшки Лятюйя, на которую несколько минут назад она смотрела как на новую муку, теперь казалась Алисе милостью судьбы, неожиданным счастьем, а загородный кабачок представлялся ей местом наслаждений и торжества. Ей хотелось бы уже быть там, где ей предстояло на другой день одним ловким ударом освободиться от своего мучителя и снова вернуть себе право и возможность любить своего Анрио.
Нетерпение волновало кровь Алисы, и она дрожала, как в лихорадке; все ее мысли были направлены к одному — к кабинету в ресторане Лятюйя, где она убьет Мобрейля и, смыв кровью свой позор, снова станет безупречной женщиной, достойной своего мужа.
Алиса ни на минуту не задумывалась над вопросом о том, как она объяснит свое присутствие в этом кабинете и что сделает для того, чтобы укрыться от полиции, когда будет найден труп Мобрейля. Женщины, доведенные любовью до убийства изменника, соперницы или врага, никогда не оглядываются назад.
Среди этих лихорадочных мечтаний и мрачных планов Алиса неожиданно получила приказание явиться к Марии Луизе, переданное ей секретарем императрицы Меневалем. Она немедленно отправилась к императрице. Как только она вошла, Мария Луиза поднялась и сделала ей знак следовать за собой в маленькую комнатку, примыкавшую к салону. Здесь императрица вполголоса сообщила Алисе странную вещь.
Она только что получила от императора письмо, которое приказывало ей для облегчения мирных переговоров, прерванных в Шатийоне, отправиться на тайное свидание с уполномоченным австрийского императора. Быть может, последний хотел повлиять в пользу зятя на русского императора, стремившегося уничтожить Наполеона, которого он считал постоянной угрозой для всех государей и которого называл мечом революции, поднятым против всех законных государей. Такому заступничеству много могла содействовать Мария Луиза. Поэтому она должна была осторожно, не вмешивая в это дело никого из государственных людей, войти в непосредственные сношения с назначенным ее отцом агентом и постараться устроить все как можно лучше для Франции и мужа. Тайна была необходима для того, чтобы дать Наполеону возможность продолжать свои действия под Труа и чтобы, в случае неудачи попытки, отчаяние не овладело армией и народом при известии, что для заключения мира обращались к семейным чувствам и такая просьба была отвергнута.
Наполеон добавлял, что вполне полагается на ум, осторожность и любовь своей супруги, надеясь, что она выполнит в строгой тайне это трудное дело, представлявшее последнюю надежду на спасение в случае неудачи последнего маневра, который он предпринимал против коалиции.
Ему неизвестно было имя человека, которого его тесть посылал к Марии Луизе, и он даже не знал точно, какие ему даются инструкции. Поэтому он обращался к ее проницательности и искусству, прося ее не пренебречь ничем, что могло бы отвлечь австрийского императора от коалиции и помочь сближению его с зятем и дочерью.
Наконец Наполеон просил Марию Луизу сообщить ему возможно скорее и точнее о результате свидания, назначенного на восемнадцатое марта в ресторане дядюшки Лятюйя у заставы Клиши.
Офицер, пользующийся его доверием, полковник Анрио, должен был тоже явиться в этот день туда, чтобы получить из рук императрицы ответ уполномоченного императора австрийского.
Алиса почувствовала глубокое волнение, услышав о скором приезде мужа. Анрио будет с нею и защитит ее, придаст ей силы, мужество, уверенность; она больше не будет одинока и беззащитна, находясь во власти нравственных страданий и притязаний Мобрейля… Она чувствовала, что спасена, и только это она поняла из всех слов императрицы. Ее не интересовали ни австрийский император, ни его таинственный посланец, ни война, ни мир. Анрио возвращался, Мобрейль утрачивал всякую власть над нею и она наконец становилась свободной…
Мария Луиза, по-видимому, тоже находилась в сильном волнении, которое она старалась побороть. Время от времени императрица поворачивала голову в сторону зала, где дамы щипали корпию для раненых. С беспокойством всматривалась Мария Луиза в их физиономии, чтобы уловить по выражению их глаз, заметили ли они, догадываются ли, о чем она говорит со своей статс-дамой.
Алиса слегка наклонила голову в ответ на слова императрицы, всем своим видом показывая полнейшую готовность повиноваться; но в сущности она почти не слышала того, что говорила Мария Луиза; ее мысли были очень далеко. Но одно слово, произнесенное императрицей, вывело молодую женщину из области мечтаний и вернуло к действительности: это слово было «Анрио».
— Итак, — продолжала Мария Луиза, — вы запретесь в своей комнате, никому не откроете дверь, постараетесь избежать малейшего шума, чтобы никто не мог догадаться о вашем присутствии во дворце Тюильри; все должны думать, что вы отправились в ресторан «Лятюй» на свидание с мужем, который будто бы тайком ушел из лагеря, чтобы повидаться с вами.
— Я исполню приказание вашего величества! — пробормотала Алиса, вся дрожа.
— Мы приблизительно одного роста, — продолжала развивать свой план Мария Луиза. — Я надену густую вуаль, меня никто не узнает, все подумают, что это вы. Я, конечно, надеюсь на вашу скромность и рассчитываю на присутствие в ресторане вашего мужа, а он, я думаю, сумеет ввести в заблуждение тех, кто выказал бы попытку шпионить за мной.
— Вы можете положиться на меня, ваше величество, — ответила Алиса, — а за своего мужа я вполне ручаюсь.
В то же время молодая женщина никак не могла побороть тревожные мысли.
«Если я запрусь тайно в своей комнате, — думала она, — я не приду на свидание с Мобрейлем, назначенное там же. Он будет ждать меня. Видя, что меня нет, он начнет расспрашивать прислугу, не приходила ли в ресторан какая-нибудь дама, и таким образом вместо меня найдет императрицу. Может произойти ужасно неприятная история».
Мария Луиза, ничего не зная о беспокойстве своей собеседницы, дружески простилась с ней, нежно пожимая ее руку.
— Отдайте, пожалуйста, женщине, которую я пошлю к вам, — прошептала она на ухо Алисе, — свое пальто, в котором чаще всего выходите, чтобы не возбудить подозрений в ресторане; кроме того, в вашем костюме мне будет легче выйти инкогнито из дворца. Но особенно убедительно прошу вас сохранить полнейшую тайну, Я передам полковнику Анрио ваш поклон.
Алиса была ошеломлена доверием Марии Луизы и страшно испугана возможностью встречи Анрио с Мобрейлем. Ее тревожила также мысль, что секретный посланец австрийского императора может увидеть в ресторане французскую императрицу.
Войдя в свою комнату, молодая женщина села в изнеможении на диван и с лихорадочным волнением обдумывала сложный вопрос, идти или не идти на свидание с Мобрейлем. Если она отправится в ресторан, она нарушит слово, данное императрице, обманет ее доверие и даже скомпрометирует ее; если же она разоблачит то, что посоветовал Наполеон и что должно было остаться для всех тайной, она может подвергнуть императора большим неприятностям. Если план Наполеона не удастся, то, согласно разговору, бывшему при свидании обоих императоров, французский народ и армия узнают, что их император не может рассчитывать ни на какую помощь со стороны Австрии. Враги Наполеона утверждали, что брак солдата Бонапарта с австрийской эрцгерцогиней может быть расторгнут в тот момент, когда счастье повернется к нему спиной. Принцесса могла снизойти до простого смертного, когда он играл первенствующую роль в Европе, но как только он лишится силы и власти, ничто не заставит Марию Луизу оставаться при муже. Так рассуждали в Австрии, но во Франции не должны были знать об этом.
«Как верноподданная и как приближенная императрицы, я должна оказывать ее величеству повиновение и глубочайшую преданность, — думала Алиса, — а потому мне следует сидеть безвыходно в своей комнате. Но что произойдет в ресторане в мое отсутствие? Мобрейль вместо меня встретит императрицу и узнает тайну, которая должна быть тщательно скрыта от всех врагов Франции. Я чувствую, что Мобрейль — человек вероломный, он несомненно участвует в заговоре, в центре которого находится Мария Луиза. Его долгое отсутствие и молчание не предвещают ничего хорошего. Наверно, он обделывает какие-нибудь темные дела для тех лиц, которые покровительствуют союзникам. Я должна по мере сил воспрепятствовать этой новой измене. Ввиду того, что я не могу предупредить императрицу, — так как мне пришлось бы при этом очернить себя и рассказать о недостойной слабости, отдавшей меня в руки ненавистного Мобрейля, — я вынуждена тоже отправиться в ресторан, чтобы следить за этим человеком и помешать ему привести в исполнение его злостные намерения. Да, мой долг, долг француженки и патриотки, заставляет меня нарушить слово, данное императрице. Да, я пойду, тем более что, раз я знаю, что Анрио там, я не могу оставаться во дворце. Я должна поцеловать своего мужа и сказать ему, как сильно я люблю его».
Вдруг страшная мысль пришла в голову молодой женщине и заглушила радость, охватившую было ее при сознании, что она на другой день увидит любимого человека, с которым рассталась несколько месяцев тому назад.
«А что если Мобрейль в присутствии Анрио или где-нибудь невдалеке от него, так что можно будет видеть и слышать, вздумает предъявлять права на меня, которые я предоставила ему в минуту слабости? — подумала Алиса, вся содрогаясь. — Впрочем, здесь у меня хранится испанский кинжал, — мысленно прибавила она, прижимая руку к груди, — и мне нечего бояться Мобрейля!»
Как бы желая рассеять мрачные предчувствия, Алиса быстро поднялась с дивана и прошла в соседнюю комнату, где в колыбели спал хорошенький, с розовыми щечками, грудной ребенок. Молодая женщина наклонилась над колыбелью и тихонько, так, как бабочка касается крылышком цветка, прижала свои губы к спокойному лобику ребенка.
— Этот поцелуй, мой дорогой ангел, — прошептала она, — я передам завтра твоему отцу.
IV
17 марта 1814 года возле деревни Торси у ворот маленькой мызы собралась толпа крестьян. Мыза помещалась на небольшом холме; она была обнесена забором, а возле дома находились конюшня, овин и сарай. Этим скромным имуществом пользовался хлебопашец, бывший раньше на службе у маршала Лефевра, в его имении Комбо. После женитьбы Жан Соваж — так звали обладателя фермы — переехал сюда ради своей жены, так как она была родом из Торси и эта мыза принадлежала раньше ее старой матери.
Жан Соваж отличался большим умом и развитием, чем значительная часть обитателей этой местности. Он вступал в разговор с учителем школы и спорил со священником в церковной ограде, где резвились крестьянские дети.
Находясь на службе в Комбо, Жан Соваж влюбился в молодую девушку, Огюстину, помощницу прачки. Но она отдавала предпочтение Сигэ, солдату-ординарцу маршала. Блестящий мундир гусара играл не последнюю роль в этом.
У Жана Соважа была репутация отчаянной головы. Он не стесняясь высказывал смелые взгляды; во время свадьбы полковника Анрио, когда крестьяне пировали в саду, он громко осуждал императора и доказывал крестьянам нелепость войны. Екатерина Лефевр, проходя по аллее, слышала этот разговор; она возмутилась, но не отказала от места Жану Соважу, так как он был очень честен и трудолюбив. Несмотря на свою резкую откровенность, Жан ни с кем не ссорился и на него не поступало никаких жалоб.
Маршал Лефевр не особенно дружелюбно относился к независимому и рассуждающему крестьянину; все его симпатии были на стороне гусара и потому он охотно согласился на его брак с прачкой Огюстиной, а также сделал невесте хороший подарок и полное приданое. В глубине души Лефевр гордился тем, что мундир солдата одержал верх над блузой крестьянина.
— Этот урод Жан Соваж, — улыбаясь, сказал герцог Данцигский, — со своими миролюбивыми идеями наградил бы нас потомством с куриной кровью; а Сигэ, как храбрый солдат, подарит императору целый отряд маленьких гусаров, которыми будет командовать Римский король.
Брак Огюстины и Сигэ состоялся; прачка покинула Комбо и переехала с мужем в Торси, на ферму своих родителей. Когда возобновилась кампания в 1813 году, Лефевр потребовал к себе своего ординарца накануне боя при Дрездене. Сигэ попал в засаду и погиб. Его тело не могли отыскать, но на опушке леса нашли его сумку; она была вся вывернута и разорвана. По-видимому, несчастный курьер был схвачен на этом месте прусскими аванпостами и затем расстрелян. Перед отъездом в армию Сигэ встретился с Жаном Соважем. Указывая на молодую, расстроенную жену, солдат сказал крестьянину:
— Если неприятельская пуля сразит меня, дружище Жан, если мне не суждено будет увидеть мою жену и ребенка, то…
— Брось эти глупые мысли! — прервал его Соваж. — Ты вернешься целым и невредимым, как и всегда.
— Возможно, но послушай, Жан, что я тебе скажу. Ты хороший, честный работник. Правда, ты немного упрям, но сердце у тебя прекрасное. Ты любил Огюстину. По-настоящему она должна была бы выбрать тебя, а не меня.
— Огюстина поступила так, как нашла нужным, — возразил Жан, — я не осуждаю ее. Она умная женщина, такая подруга жизни, какую можно пожелать каждому.
— Она не могла выйти за нас обоих, — философски заметил Сигэ, — и теперь, обдумав многое, я решил, дружище, что было бы лучше, если бы она вышла за тебя.
— Ты думаешь? — с горечью переспросил Соваж. — Но скажи, пожалуйста, почему ты находишь, что Огюстине следовало предпочесть меня?
— Потому что я солдат, который по первому требованию должен вскинуть на плечо ружье и отправиться Бог знает куда, а ты, дружище, воюешь только с травой и деревьями. Ну, оставайся на своей земле и заготавливай для нас хлеб. Мы, солдаты, постараемся, чтобы русские казаки и уланы не утащили его у нас из-под носа. Но я затеял разговор совсем не для того, чтобы рассуждать о наших почтенных профессиях. У меня есть к тебе большая-большая просьба: ты можешь оказать мне огромную услугу, Жан.
— Говори, в чем дело? — нетерпеливо спросил Соваж.
— Видишь ли, если я не вернусь назад, — а у меня есть предчувствие, что не вернусь, — я хотел бы, чтобы ты женился на Огюстине и заменил моему ребенку отца. Скажи, ты согласен исполнить мою просьбу? Огюстина полюбит тебя — у женщин это делается скоро, — а мой мальчик даже не будет знать о моем существовании, он еще так мал. Ты станешь для него родным отцом. Итак, я надеюсь на тебя, дружище Жан. А теперь прощай!
Подавив вздох и вытерев слезу, Сигэ быстро пожал руку своему бывшему сопернику, а теперь другу, вскочил на лошадь и поскакал по направлению к германским владениям, откуда больше не вернулся.
Жан Соваж сделался мужем Огюстины и отцом маленького Сигэ. Через некоторое время у Жана родился собственный сын, и оба мальчика росли вместе, довольные и счастливые.
Все вышло так, как предсказывал гусар Сигэ.
17 марта 1814 года Жан Соваж, непримиримый враг войны и слишком воинственного императора, держал в руках ружье. Его окружали крестьяне, вооруженные чем попало. Не у всех были ружья, но отвага и решимость светидись на всех лицах, несмотря на то, были ли у них заступы, вилы, железные ломы или огнестрельное оружие.
— Вы знаете меня, товарищи, — сказал Жан Соваж, обращаясь к крестьянам, — мне не нравилось то, что происходило в нашей стране. Я находил налоги слишком большими, а плату за наш труд слишком незначительной. Я не принадлежал к числу людей, ослепленных светом нашей славы. Разделяя удовольствие всех по поводу одерживаемых побед, я в то же время желал меньше трофеев для инвалидов и побольше хлеба для наших амбаров. Да, я все время выступал против тех, кто вовлекал нас в бесконечные войны, кто разбросал по Испании и русским степям французские кладбища. Сегодня же вы видите меня с ружьем в руках, с патронташем у пояса. Теперь я говорю всем вам, страдавшим от того же, от чего страдал и я: «Вооружимся чем можем и пойдем на врага! Возьмем ружья, если они у нас есть: возьмем вилы, а если они окажутся негодными, — так как ими приходится мало работать в течение уже многих лет, — возьмем палки, будем драться кулаками; защищать даже зубами нашего императора!» Вас, может быть, удивляют мои слова, товарищи?
Конфузливый, но вместе с тем одобрительный шепот пронесся среди крестьян.
— Я хочу объяснить вам, мои друзья, почему я заговорил сегодня на незнакомом вам языке, — продолжал Жан Соваж. — Не я изменился, а изменился Наполеон. Сначала он сражался из-за личных интересов. Он жаждал трона лично для себя, для своего наследника, для братьев, для маршалов. Он защищал до сих пор лишь свою славу, теперь же он защищает Францию. Наша родина находится в смертельной опасности. Пожелаем, чтобы император здравствовал для того, чтобы разбить Блюхера и Шварценберга и прогнать нападающих на ту сторону Рейна. Мы должны все собраться вокруг Наполеона, который чудесным образом не склоняется перед ужасными богемской и силезской армиями, имея в своем распоряжении лишь горсточку солдат, преимущественно рекрутов. Среди них есть мальчики шестнадцати лет, не умеющие даже заряжать ружье. Да, друзья мои, это очень тяжелая война. Мы должны показать русским казакам, что мы, французские крестьяне, можем быть храбрыми солдатами, когда нам приходится защищать нашу землю, наши жилища. Пойдемте, товарищи, к ферме «Божья слава». Вы увидите там, что такое война, и поймете, почему я позабыл о том, что Наполеон был деспотом и слишком сильно любил битвы. Я помню теперь лишь одно: он любит Францию и защищает ее. Вперед, жители Торси! Жан Соваж поднял ружье и во главе покорных деревенских героев направился к ферме «Божья слава».
V
Бессмертная французская кампания 1813 и начала 1814 года близилась к развязке во второй половине марта. Союзники с большими препятствиями продвигались вперед к незащищенной Франции, которая держалась только благодаря гениальности Наполеона. Но он не мог быть вездесущ, и там, где он отсутствовал, отсутствовала и победа. Наполеон разбил пруссаков в Сен-Дизье, русских в Бриенне, разгромил силезскую армию и отодвинул назад войско Блюхера при Монтеро. Враги начинали беспокоиться. Император Александр беспрестанно поглядывал в сторону Рейна и тревожно спрашивал, возможно ли отступление. Никогда еще Наполеон не выказывал таких блестящих способностей, как в эту памятную войну, которая была верхом военного искусства. Хорошо организованным европейским массам Наполеон мог противопоставить лишь остатки своей старой и новой гвардии да горсть молодых безусых добровольцев. Но в своих бюллетенях он тщательно скрывал недостаток войск.
«Вероятно, вы потеряли голову в Париже, — писал он герцогу Ровиго после победы при Вошане, — что сообщаете, что мы дрались по одному против трех. Я всюду распространяю слух, что в моих рядах находится триста тысяч войска, а вы одним взмахом пера уничтожаете хорошие результаты победы. Вы должны знать, что тщеславие здесь неуместно, и первое военное правило заключается в том, чтобы скрыть от неприятеля количество войск, заставить его думать, что это количество очень велико».
Подобная ложь и сверхчеловеческие усилия помогали Наполеону сдерживать вторжение неприятеля. Коленкур, герцог Виченцский, боролся в свою очередь в качестве полномочного посланника с представителями союзных войск, которые были более склонны подписать мир, чем продолжать войну. Он надеялся, что проигранное сражение настолько ослабит силу Наполеона, что уже больше не придется бояться каких-нибудь непредвиденных выходок с его стороны.
14 марта Наполеон снова выиграл сражение в Реймсе. Генерал Сен-При, командовавший тремя русскими дивизиями и одной прусской, был отодвинут назад. Двадцать пушек и пять тысяч пленников были результатом этой победы. Сен-При, такой же изменник, как и Моро, был сражен пулей того же стрелка, который попал в битве при Дрездене в бывшего республиканского генерала, перешедшего затем к роялистам и сражавшегося в рядах пруссаков.
— Ловкий стрелок! — воскликнул Наполеон, очень довольный тем, что избавился от двух значительных врагов.
Пока производили ампутацию Сен-При, его войска покинули Реймс и в него вошел Наполеон со своей старой гвардией. В городе зажгли иллюминацию, и восторженные возгласы: «Да здравствует император!» оглашали ночной воздух и достигали кабинета Наполеона, где он сидел за работой.
Около семи часов император позвал одного из своих адъютантов и приказал ему:
— Попросите сейчас же ко мне герцога Данцигского! Старая гвардия, священный батальон, никогда не покидала в это тревожное время своего императора.
Маршал Лефевр сейчас же прибежал, сильно взволнованный.
— Все идет прекрасно, мой старый товарищ, не беспокойся ни о чем, — весело приветствовал его Наполеон, — неприятель отступает. Мы останемся здесь еще дня два, чтобы восстановить связь с Эпернэ, Суассоном. Я приказал, чтобы сюда пришла дивизия, находящаяся в Меце. Эти двенадцать тысяч человек будут большим козырем в наших руках. Кроме того, Денуэтт пришлет мне четыре тысячи солдат из Парижа.
— Вы получили письмо от императрицы, ваше величество? — спросил Лефевр.
— Нет, оно от брата Жозефа, — ответил Наполеон, и облако грусти промелькнуло на его лице.
Мария Луиза, совершенно равнодушная к делам Наполеона, мало заботилась о своих обязанностях регентши и очень редко писала мужу. Ее молчание удручало Наполеона. Он постоянно думал о молодой австриячке, которая уже забыла о нем, между тем как он горячо любил ее. Стараясь побороть свою грусть, император продолжал рассказывать Лефевру новости, сообщенные ему братом.
— Сведения о настроении парижан превосходные, — сказал он, — народ лишь жалуется на мэров, которые мешают ему защищаться. Еще одна победа — и я наведу должный порядок. Обитатели Парижа знают, что такое честь.
Не забудь распорядиться, чтобы на Монмартре были приготовлены пушки для защиты стен Парижа.
— Будет исполнено, — ответил Лефевр. — Разве вы думаете, что возможна осада Парижа, ваше величество?
— Да, все возможно! Но Париж станет защищаться. Парижане не признают авторитетов, не терпят полиции, но питают священный ужас перед нашествием иностранцев. Они не доверяли мне, когда я был могуществен и когда вся Европа склонялась к моим ногам, но теперь они поддержат меня, увидев, что Россия, Пруссия и Австрия двигают свои войска к берегам Сены. Я рассчитываю на патриотизм и силу национальной гвардии в Париже.
— Возбужденные несчастьем, которое грозит стране, они будут драться, как герои, — воскликнул Лефевр. — Я их знаю, я видел их. Ведь я был когда-то лейтенантом национальной гвардии. Правда, это было очень давно! — со вздохом прибавил герцог Данцигский.
— Может быть, ты кончишь тем, чем начал, — заметил император. — Может быть, тебе придется быть сержантом небольшого отряда солдат, отданного под твою команду! А мне, может быть, придется самому прицеливаться из последней пушки в неприятеля, — пошутил Наполеон. — Право, это будет недурной конец для императора и французского маршала. Однако нам еще далеко до этого. У меня есть проект, прекрасный проект, ты потом увидишь. Я уверен, что парижане останутся довольны мной.
— Вы собираетесь, ваше величество, пойти на помощь Парижу? — спросил Лефевр.
— Не совсем так, — ответил Наполеон. — Я хочу спасти Париж, отвернувшись от него.
— Я не понимаю…
— Тебе и нечего понимать, — прервал маршала император, — твоя жена тебе все объяснит, когда мы вернемся победителями. Она умней тебя. Надеюсь, что твоя милая герцогиня Сан-Жень здорова? Вы все еще счастливы в своем супружестве?
— О да, очень! Катрин клялась мне, что разлюбит меня в тот час, когда изменит императору. Это значит никогда! — уверенно ответил Лефевр.
— О, вы оба хорошие, верные солдаты! К сожалению, вокруг вас царит вероломство. Ты знаешь, что этот безумный негодяй Бернадотт приехал в Льеж. Он вступил в сношения с Бенжаменом Констаном — любовником тяжеловесной старухи де Сталь, которая угощает его кнутом между двумя поцелуями. Император Александр уверяет этого Бернадотта, сделавшегося шведским наследным принцем, что при его помощи он может овладеть французским троном. И тот верит; я тебе говорю, что он совершенно сошел с ума. у него в голове безумие, а в душе — измена. Но не один он выказал себя изменником. Все те, кого я вытащил из ничтожества, поставил на самые высокие ступени общественной лестницы, отвернулись от меня; они теперь дают мне коварные советы. Они хотят, чтобы я заключил мир; но разве это возможно? Коленкур сказал им, что я приму то, что будет согласно с моей честью и достоинством Франции. О, Боже, какая двуличность! И мои маршалы заодно с изменниками.
— Не все, ваше величество! — возразил Лефевр.
— Я знаю, что есть исключения. Но кто бы мог подумать, что Ней, который сражается, как демон, Макдональд и Ожеро, которых я произвел в маршалы, начнут повсюду говорить, что я — единственная причина европейской смуты, что я являюсь препятствием для спокойствия народов? Они хотят заставить меня отказаться от престола; они, может быть, даже надеются довести меня до самоубийства. Но я никогда не сделаю этой глупости. У меня достаточно энергии и силы воли; я им еще покажу себя!
— Ваше величество, вы не должны придавать значение словам, вырвавшимся в минуту неудовольствия. Несомненно, что среди великих полководцев империи существует некоторая неуверенность, колебания, но об измене не может быть и речи.
— Ты ошибаешься. Заговор уже на полном ходу. Изменники хотят захватить императрицу в виде заложницы и провозгласить императором моего сына вместо меня! Глупцы, я больше всего желаю восшествия на престол Наполеона Второго. Это — моя надежда, моя цель, моя мечта! Для царствования моего сына, который будет либеральным и миролюбивым правителем, я в течение трех лет дал двадцать пять сражений; для Наполеона Второго я веду настоящую неравную борьбу, отстаиваю каждый клочок земли, принадлежащей Франции. Но мои недруги слишком торопятся; они нетерпеливее меня. Пусть они предоставят мне свободу действовать. Я должен сначала соорудить трон для моего дорогого маленького Римского короля. Наполеон Второй будет управлять свободными и мирными французами, при нем границы Франции должны простираться до самого Рейна. Я нуждаюсь в твоей помощи, мой старый товарищ, — прибавил император, нервно пожимая руку Лефевра. — Твои гренадеры охраняют меня от враждебных покушений, в их присутствии я совершенно спокоен за свою жизнь; по мне хотелось бы, чтобы в эту минуту ты был в Париже, возле моей жены и сына, которые подвергаются большой опасности.
— Вы желаете, ваше величество, чтобы я передал команду Удино, а сам отправился сейчас же в Париж? — живо спросил Лефевр.
— Нет, твое присутствие возле меня теперь более необходимо, чем когда бы то ни было. Я задумал великий шаг. Может быть, мои враги будут сконфужены, тем, что я собираюсь сделать. Но прежде всего я должен предупредить о своем проекте императрицу и брата Жозефа. Найди мне, Лефевр, человека, очень ловкого и преданного, он должен передать это письмо моему брату. Прочти его, тогда ты поймешь, в чем дело, — прибавил Наполеон, доставая из кармана листок бумаги.
Маршал познакомился с содержанием письма, которое оказало сильное влияние на судьбу Европы и послужило извинением для пагубного бегства императрицы. Письмо гласило следующее:
«Реймс, 10~го марта 1814 г.
Дорогой брат! Согласно инструкциям, данным Вам устно и во всех моих письмах, Вы ни в каком случае не должны допустить, чтобы императрица и Римский король попали в руки неприятеля.
В моих дальнейших действиях может случиться так, что Вы в течение нескольких дней не получите от меня никаких известий.
Если неприятель приблизится к Парижу с такой силой, что всякое сопротивление окажется невозможным, отправьте в округ Луары императрицу, моего сына, придворных лиц, министров, барона Бульери и все богатства. Не покидайте моего сына: помните, что я предпочел бы видеть его в Сене, чем в руках врагов Франции. Судьба Астианакса, пленника Греции, казалась мне всегда самой печальной из всех исторических рассказов.
Любящий Вас брат Наполеон».
Лефевр был растроган этим письмом, больше похожим на завещание.
— Раз императрица и король Римский должны оставить Париж, значит, дело нешуточное, — пробормотал маршал. — Если Париж возьмут, это будет ужасно!
— Все — дело чувства! — возразил император. — Париж совершенно не укреплен. Его могут защитить лишь мужество обывателей и штыки национальной гвардии. Было бы жестоко и бесполезно подвергать нашу прекрасную столицу всем ужасам бомбардировки. Для того чтобы сохранить за собой такую большую площадь, врагу придется рассеять часть своей армии. В это время я начну действовать с тыла. Если Париж будет взят, это еще не значит, что Франция побеждена. Прусский и испанский короли, а также и русский император, не считали себя окончательно покоренными, когда мы были в Берлине, Москве и Мадриде. О, если бы я был уверен, что Париж может сопротивляться! Если он продержится только две недели — Франция будет спасена! Как я сказал, мне придется действовать вдали от Парижа.
— Значит, столица потеряна! — в отчаянии воскликнул Лефевр.
— Одна или две победы отделяют от Парижа неприятеля. У меня есть план, я надеюсь на его успех, но для этого меня не должно мучить беспокойство за участь императрицы и моего сына. Укажи человека верного, на которого я могу вполне положиться, я пошлю его в Париж.
— Я могу назвать вам, ваше величество, полковника Анрио.
— Мужа прелестной Алисы, статс-дамы моей обожаемой жены? Да, этот выбор прекрасен. Позови ко мне полковника Анрио, а сам, мой храбрый товарищ, готовься к смелому выступлению самому трудному из всех тех, которые мы проделали с тобой до этих пор.
— В этом выступлении мы отдалимся от Парижа; вы, кажется, так сказали, ваше величество?
— Да, мы отвернемся от Парижа и неприятеля; это лучшее средство покорить врага.
— Я ничего не понимаю! — пробормотал Лефевр, широко открывая глаза.
— А разве ты раньше что-нибудь понимал? Но это не мешало тебе одерживать победы! Вернись к своим старым привычкам. А пока пришли скорее полковника Анрио — время не терпит.
Лефевр вышел, а Наполеон приказал своему лакею приготовить ванну. В течение тридцати часов император не отдохнул ни минуты. Вошедший адъютант доложил, что курьер просит дать пакеты, отсылаемые в Париж. Ежедневно в столицу Франции посылался человек с распоряжениями Наполеона, но не всегда ему удавалось благополучно добраться до Парижа. Часто неприятельские аванпосты схватывали курьера, опустошали его сумку и убивали. Наполеон не хотел доверить обычному курьеру письмо, прочитанное маршалу, и ограничился лишь тем, что прибавил к обычным депешам несколько строк, адресованных Марии Луизе.
Нужно было принять меры, чтобы обмануть неприятеля и предупредить возможность ареста Анрио.
Наполеон придумал для этого написать письмо жене, в котором поручал ей просить австрийского императора отнестись благожелательно к переговорам и посодействовать заключению почетного мира. Однако он прекрасно знал, что просьба Марии Луизы не приведет ни к чему; он не сомневался в настоящих чувствах тестя к своему зятю. Австрийский император не раз говорил ему, что опыт столетий показывает, что семейные отношения должны уступать государственным интересам. А интересы Австрии были далеки от Наполеона и его супруги в эти дни несчастья!
Поручение, даваемое императрице Наполеоном, должно было ввести в заблуждение неприятеля, если бы его курьер был схвачен и письмо прочитано. В этом письме сообщалось между прочим, что полковник Анрио приедет в Париж за ответом. Содержание именно этого послания Мария Луиза и прочла Алисе.
Заклеив конверт и отправив курьера, Наполеон написал Марии Луизе секретное письмо, в котором извещал о своем решении и о поручении, данном Жозефу, произвести смелый и неожиданный маневр. Ей он сообщил свой план во всех его деталях. Дело касалось похода на Восток. Пусть неприятель подвигается к Парижу, но сам он бросится к Мецу, к Вердену, снимет гарнизоны Майнца, Люксембурга, Тьонвиля, Страсбурга и составит из них тридцатитысячный корпус, к которому присоединит 15 000 человек из нидерландского резерва. Наконец Сюшэ, заменив крайне двусмысленно ведущего себя Ожеро, сможет довольно быстро подвести ему свой корпус в 40 000 человек. Встав во главе всех этих соединенных сил, Наполеон энергично поведет защиту отечества, отрежет союзникам отступление и уничтожит их между Эльзасом и Шампанью. Таким образом полем его действий станет Лотарингия. Там, подобно битве на Каталонских равнинах, северные завоеватели будут разбиты, и Франция спасена.
Этот великолепный, отважный план был вполне осуществим, и если бы не измена, дал бы свои результаты.
Покончив с диспозициями и успокоившись за судьбу жены и сына на время проектируемого им восточного похода, Наполеон приказал ввести полковника Анрио.
Вручив ему эти важные и конфиденциальные послания, Наполеон посоветовал ему пробираться в Париж с крайней осторожностью. Лучше было затратить больше времени на выполнение поручения, чем попасть в руки неприятеля.
Анрио поклялся, что во что бы то ни стало доберется до императрицы или умрет.
— Дело не в том, чтобы умереть, а чтобы вручить эти письма моему брату и регентше, пробившись через неприятельские линии, и вернуться обратно в главную квартиру, где вы можете еще понадобиться мне!
Анрио безмолвно поклонился в ответ. Император недолюбливал болтливости в таких делах, где требовалась только преданность.
Затем Наполеон продолжал:
— Бесполезно, а, может быть, даже и опасно пробираться в сам Париж, так как измена кишит в моем дворце и окружает императрицу и Римского короля. Я предупредил императрицу, что вы будете ждать ее в таком месте, где никто ничего не заподозрит, у парижской заставы, около ресторанчика, который содержится неким Лятюйем.
— А, дядюшкой Лятюйем, у заставы Клиши? Знаю, ваше величество.
— Там вы встретите императрицу. Она тайно проберется в этот ресторанчик, где вы сможете на свободе выполнить ваше поручение. Ступайте, полковник, и да хранит вас Бог!
С этими словами Наполеон протянул руку молодому офицеру, и тот с радостью и почтением пожал ее.
Затем Наполеон позвонил лакею и с удовольствием погрузился в приготовленную для него ванну, пробормотав:
— В Эльзасе и Лотарингии я освобожу Францию. А разбив врагов, я явлюсь в Реймс, чтобы короновать там сына!
VI
Совещание, обнаруженное ла Виолеттом в большом кабинете ресторанчика дядюшки Лятюйя, подходило к концу.
Собравшиеся там люди не сходились, быть может, во взглядах и намерениях; но их объединяла общая цель: воспользоваться несчастьем родины, вражеским нашествием, удалением Наполеона, слабостью его брата Жозефа, безразличием Марии Луизы, всеобщим равнодушием, усталостью парижан, желанием отдыха, выраженным маршалами, чтобы свергнуть императора и противопоставить ему новый образ правления.
О Бурбонах в то время не было еще и речи, и реставрация их казалась немыслимой; вопрос о возвращении лилии на французское государственное знамя официально возник гораздо позднее, а пока что таился в умах заговорщиков-роялистов.
На этом сборище иуд председательствовал Талейран, который с непоколебимым хладнокровием руководил прениями присутствующих.
Среди последних, как совершенно точно ла Виолетт перечислил Екатерине Лефевр, находились: архиепископ Прадт, бывший эмигрант, осыпанный милостями Наполеона и сделанный им императорским духовником; Луи, бывший член парижского парламента, пожалованный Наполеоном баронским титулом и назначенный им государственным казначеем; герцог Дальберг, немецкий барон, осыпанный Наполеоном золотом; Фушэ, плутовством пробившийся в люди и старавшийся в данном случае не прогадать от измены и извлечь как можно больше личной выгоды от перехода на сторону той или другой партии; и наконец — барон де Витролль, побывавший у русского императора и пробравшийся сквозь цепь наполеоновских войск, а потому привезший самые свежие новости о намерениях последнего.
К нему-то и обратился Талейран, спрашивая его мнение.
— Вы настаиваете на том, что Наполеон пропадет, если в столице окажется серьезно организованная партия, готовая лишить его власти?
— Я уверен в этом. Я объехал весь восток, Шампань, Франш-Контэ, Лотарингию. Крестьяне воодушевлены до последних пределов — они повсеместно хватаются за оружие. Если Бонапарту удастся объединить, организовать и направить всю эту массу патриотов в тыл союзной армии, то последним не выбраться из Франции. В Лотарингии или Франш-Контэ их ожидает могила!
— Значит, согласно вашему мнению, следует помешать Наполеону стать во главе партизан этих областей? Но как сделать это?
— Лишить его Парижа!
— Парижане, — сказал архиепископ Прадт, — только и желают, чтобы их избавили от Наполеона, но им надо помочь в исполнении этого желания. Ах, если бы союзники пробрались в долину Сен-Дени!
— Они могут появиться там через несколько дней, — заметил герцог Дальберг, — для этого достаточно, чтобы Наполеону пришлось принять сражение, которое не допустило бы его появления в столице.
— Главное, нужно чтобы столица не защищалась, — заметил Фушэ, — а этого нетрудно добиться!
— Можете ли вы сообщить нам, на чем зиждется ваше предложение о возможности лишить Париж желания защищаться? — осведомился Талейран.
— О, в данном случае я пользуюсь простыми сопоставлениями, — уклончиво ответил улыбавшийся Фушэ. — Во всяком случае нетрудно будет найти такое лицо… например, одного из маршалов, который согласится подписать капитуляцию.
— Но его надо сначала найти! — сказал Талейран.
— Мне кажется, что я уже нашел его. Но главное вот что: допустим, что капитуляция подписана. Что же потом? И какую судьбу готовите вы Наполеону? Заставите ли вы его отречься от короны? Но в таком случае кого вы предполагаете сделать его наследником? Будет ли продолжено регентство?
— Я предполагаю, что Наполеон должен отречься в пользу Римского короля. В течение детства нового императора можно будет использовать мирное время и сделать много хорошего для страны.
— Восстановить принцев! — сказал барон Луи.
— И религию тоже! — прибавил архиепископ Прадт.
— Регентство не годится для этой страны, господа, — воскликнул герцог Дальберг. — Империя, достигшая вершины могущества, не может удержаться на ней, если попадет в женские руки. Ребенок не может с достоинством нести корону и меч, брошенные Наполеоном. На этот военный трон, который, благодаря союзникам и нам, скоро станет вакантным, можно посадить только солдата.
— Можете ли вы предложить нам такого военного, кандидатура которого на вакантный престол оказалась бы приемлемой? — кисло-сладким тоном спросил Талейран.
Втайне Талейран был приверженцем регентства, которое должно было быть провозглашено после отречения Наполеона. Вице-президент совета, первый сановник империи, он рассчитывал стать настоящим правителем государства, действуя от имени малолетнего Римского короля. Поэтому он враждебно относился к мысли, в данном случае выраженной герцогом Дальбергом, и хотел заставить герцога высказаться подробнее, чтобы поймать его на деталях и доказать неисполнимость такого плана.
Герцог Дальберг продолжал:
— Я стою на той точке зрения, что только военный может наследовать трон Наполеона, и притом такой военный, который пользуется симпатиями наших освободителей и имеет доступ к монархам-союзникам. В то же время необходимо, чтобы он пользовался славой хорошего воина, чтобы его прошлое не отпугивало старых республиканцев, людей, бредящих равенством, подозрительно относящихся к древней родовой аристократии и способных пойти на вооруженное восстание, только чтобы не допустить реставрации прежней монархии. Господа, в ком же вы встретите такое счастливое сочетание заслуг и качеств, как не в славном князе Понтекорво, ныне наследнике шведского трона, великом воине современности, маршале Бернадотте?
— Не произносите так громко этого имени, дорогой герцог, — поспешно сказал Талейран. — Нас могут услышать!
И он указал пальцем на перегородку, напоминая заговорщикам, что Мария Луиза находится поблизости. Фушэ, до сих пор пользовавшийся услугами тайных агентов, узнал о появлении императрицы в этом ресторанчике и сообщил об этом заговорщикам, которых несколько обеспокоила близость регентши, так как они не знали истинных чувств императрицы к Наполеону и предполагали, что она привязана к своему супругу.
Тогда заговорил де Витролль:
— То, что вы говорите о шведском принце, господа, в отношении его воинской славы, — вполне правильно. Но прочить его на французский престол равносильно признанию в полном непонимании момента. Ведь и Наполеон стал невыносим для народа только потому, что последний устал от войн и требует покоя. Ему абсолютно не нужен государь-воин. Маршал, подобный Бернадотту, поставленный во главе французской нации, будет постоянной угрозой миру. Он не преминет пожелать отделаться от европейской опеки. Мирные принцы из рода Бурбонов гораздо более соответствуют идеалу правителя, необходимого для настоящего, далеко не воинственного настроения страны. Кроме того, хотя шведский принц и дал ценные доказательства своей верности и преданности союзникам, за что последние и вознаградили его шведским троном, но князь Понтекорво, несмотря ни на что, все-таки останется Бернадоттом. Он олицетворяет собой по происхождению ту армейскую демократию, которой так боятся все государи. Ведь он тоже является детищем революции. Он только усилит спутанность нравственных понятий, воцарившуюся в народных умах благодаря устранению от трона законных государей; его воцарение будет новым ударом по догме престолонаследия, соблюдать которую всецело в интересах союзных монархов. Бернадотт не дает нам никаких гарантий, не обеспечивает ни малейшей безопасности. Точно так же, как он изменил Наполеону, он изменит и монархам, даровавшим ему трон. Пусть он лучше останется в Швеции, где он никому не опасен. Я имел счастье докладывать все эти соображения его величеству императору Александру, который вполне согласился с моим взглядом на вещи. Из разговора с его величеством я вывел заключение, что союзные монархи, с которыми нам необходимо считаться, так как без них мы ничего не можем сделать, будут косо глядеть на избрание Бернадотта. Господа, нам не остается ничего другого, как обратиться к Бурбонам.
— Белое знамя слишком непопулярно; ведь это было штандартом Вандеи и знаменем эмиграции! — заметил Фушэ, вспоминая о своем былом якобинстве.
Совещание грозило перейти в спор. Талейран поспешил вернуть спорящих к действительности.
— Да оставим, господа, в покое кандидатов и цвета знамени, — сказал он, — в настоящий момент нам необходимо заняться регентшей и ее сыном. Что нам с ними делать?
— Присутствие Марии Луизы и ее сына вблизи войск и среди солдат национальной гвардии, из которых многие сильно экзальтированы, представляет собой большую опасность, — заметил архиепископ Прадт.
— Пребывание сына Наполеона в Париже является препятствием к принятию решения совместно с союзниками, — прибавил Дальберг.
— Надо во что бы то ни стало избавиться от наследника империи и его матери! Но мирно, без насилия… — сказал Витролль.
Смущенный ропот присутствующих последовал за этим замечанием.
— Раз мы все согласны в необходимости будущего отъезда императрицы и ее сына, — продолжал Талейран, — отъезда, который даст возможность народу свободно высказать свои истинные чувства и пожелания, а нам предоставит свободу действий и переговоров с союзниками в целях наилучшего обеспечения мира и спокойствия в стране, то мне кажется, что мы должны посоветовать ее величеству удалиться из Парижа. Для передачи ей этого совета у нас, к счастью, имеется преданный помощник, пользующийся громадным влиянием на ее величество.
— А кто это? — осведомился Витролль.
— Граф Нейпперг. Я попросил его содействовать нам, и он обещал мне сделать все, что в его власти, чтобы помочь нам в том предприятии, которому сочувствует, между прочим, также и его августейший повелитель, император австрийский.
— А когда можно будет повидать этого Нейпперга? — осведомился архиепископ Прадт.
— Он может сию же минуту очутиться среди нас, если вы желаете этого.
Заговорщики поспешили заверить Талейрана, что они о радостью увидят в своей среде этого неожиданного соучастника.
Через несколько минут появился Нейпперг.
Его посвятили на скорую руку в курс тех совещаний, которые происходили до него, высказали обоснования необходимости удаления Марии Луизы под тем предлогом, будто она с сыном подвергается слишком большой опасности, оставаясь в столице во время ужасов осады и, быть может, даже и гражданской войны. Потому его просили использовать все свое влияние на Марию Луизу, чтобы убедить ее как можно скорее оставить с сыном Париж.
Нейпперг улыбнулся и заявил собравшимся, что более приятной для него миссии не могло бы быть. Он уже говорил с императрицей об этом. Достаточно будет, по всей вероятности, еще раз обратиться к ней с уговорами уехать из Парижа, чтобы она уступила.
Заговорщики рассыпались в комплиментах и любезностях по адресу возлюбленного Марии Луизы; ему обещали признательность Франции, которая будет обязана ему своим миром и спокойствием.
Нейпперг поклонился и сказал с выражением жестокой ненависти:
— Не благодарите и не хвалите меня, господа! Не для вас и не для Франции работал я. Я борюсь против человека, я хочу свалить Наполеона. Я уже вижу, что он готов упасть, и хочу всеми своими силами ускорить его падение. Я глубоко ненавижу его и уже двадцать лет подготавливаю его гибель. Я не перестану преследовать его до тех пор, пока не увижу его мертвым или пока его не сошлют и не заключат узником на каком-либо острове, с которого он не будет в силах убежать.
— На остров! — воскликнул Талейран. — Ей Богу, это такая мысль, о которой мы даже и не подумали. А ведь Наполеону было бы очень недурно окончить таким образом свою карьеру. Он родился островитянином — так почему бы ему и не кончить островитянином, поделившись на каком-нибудь острове вроде Корсики, Капри или Эльбы?
— Все это слишком близко, — мрачным голосом заявил Нейпперг. — Я хотел бы, чтобы он попал в мои руки; тогда я отправил бы его на какой-нибудь необитаемый остров необъятной Атлантики или на остров Святой Елены…
— Ну, а пока что он находится в Шампани, — заметил Фушэ, — и может обрушиться на вас в какую-нибудь неделю. С горсточкой гренадеров, оставшихся ему верными, этот человек способен наделать больших и страшных дел. Подумайте об этом и подумайте о себе, господа! Если Наполеон вернется победителем, то что станет с нами!
— Союзные государи, — мягко заметил Прадт, — заверили меня, что в случае, если грядущие события изменят нашим надеждам, нам, которые действуют согласно с ними, бояться нечего. Для каждого из нас найдется теплое местечко, мне это твердо обещали!
Такая гарантия заставила разгладиться лбы заговорщиков, сильно смутившихся при словах Фушэ.
Прадт вооружился бутылкой шампанского, откупорил ее, налил бокал, подал его Нейппергу, налил себе и, передавая бутылку своему соседу, герцогу Дальбергу, сказал:
— Пустите по кругу! Светлые надежды, поданные нам господином Нейппергом, заслуживают того, чтобы мы выпили за выполнение наших проектов!
Все сдвинули бокалы, наполненные пенящимся вином, и звонко чокнулись.
— За здоровье наших законных государей! — сказал Витролль.
— А также и за наших державных союзников! — добавил сейчас же Дальберг.
— Господа, не забудем императрицу-регентшу! Разве же благодаря господину Нейппергу она не является в данный момент нашей самой мощной союзницей? — сказал архиепископ Прадт с жестом священника, простирающего ковчег с мощами над головами молящихся.
— За мир и благоденствие народов! — пробормотал еле слышно Талейран.
— Господа, прежде всего следует выпить за наше собственное здоровье, — насмешливо сказал Фушэ, — потому что не следует забывать, что эта игра может стоить нам головы. А вы, господин Нейпперг, не выражаете никаких пожеланий, не пьете ни за чье здоровье? Неужели вам нуж— но подсказывать? Ну, ладно! Я пью за будущую отсылку Наполеона на один из тех осторовов, где вы так милостиво собираетесь выстроить ему последний дворец! Нейпперг чокнулся с Фушэ и холодно сказал:
— Я пью за смерть Наполеона на самом далеком острове, на самой мрачной голой скале, какая только может отыскаться в мире!
Архиепископ Прадт налил себе еще бокал вина и пробормотал с удовлетворением в голосе:
— Пути Господни непостижимы, и уже неоднократно Его десница пользовалась любовью женщины, чтобы поразить пороки и раздавить гордость!
Вдруг во дворе послышался стук копыт быстро скачущей лошади, заставивший вздрогнуть всех собравшихся.
VII
— Офицер от Наполеона! — воскликнул Фушэ, бросившийся к окну.
— Уж не авангард ли это его? — пробормотал архиепископ Прадт.
Все заговорщики, за исключением Талейрана, не терявшего обычного спокойствия и хладнокровия, в ужасе вскочили с перекошенными от страха лицами; им показалось, что это скачет целая кавалерийская дивизия, и они ждали, что с минуты на минуту раздастся ненавистный крик «да здравствует император!».
Некоторые из них уже взялись за шапки и направились к двери.
Но Нейпперг, сохранивший полное спокойствие, остановил их движением руки и очень быстро успокоил.
— Это курьер из императорской квартиры, — сказал он, — без сомнения, несет нам великолепные новости. Успокойтесь, господа, и благоволите дать ему время вручить письма той, которой они адресованы.
— Значит, этого курьера ждали? — осведомился Талей-ран.
— Да, только два человека и знали о данном ему поручении и месте, где таковое должно было быть выполнено. Это я и… еще одна дама, имя которой разрешите мне не называть.
Все кивнули головой в знак сочувствия, уважая скромность Нейпперга и стараясь не показать, что они понимают, кто эта дама.
Нейпперг продолжал авторитетным тоном:
— Это я, господа, просил князя Беневенто собрать вас здесь, в этом ресторанчике, так как никому не придет в голову, что подобное место избрано для важного совещания. Я знал, что этот офицер, везший депеши Наполеона, находится в пути, и подумал, что нам было бы важно познакомиться с их содержанием. Не так ли, князь?
Талейран, к которому была обращена эта фраза, ответил:
— Действительно, после ценных сообщений господина Нейпперга я взял на себя миссию созвать всех вас на импровизированный завтрак в ресторанчике, чтобы можно было, не боясь нескромных ушей, заняться государственными делами и обсудить события, которыми чревато будущее. Вы советовали не объявлять о приезде курьера, так как его могло что-нибудь задержать в дороге или же он мог получить в пути приказание вернуться. Я поступил сообразно вашим желаниям. Но теперь, граф Нейпперг, я сделал все, и вы возьмитесь за дальнейшее. Курьер, везомые им депеши, ответ, который он должен будет передать тому, кто его послал, — все это уже ваше дело.
И князь Беневенто снова замкнулся в своей маске безразличия и равнодушия.
— Было бы страшно интересно узнать содержимое этих депеш! — заметил вполголоса Фушэ.
— А еще интереснее, быть может, прочесть ответ, который последует на них! — в тон ему прибавил барон Витролль.
— Я уже подумал об этом, господа! — ответил Нейпперг. — Существует некий дворянин, с которым я познакомился в Англии и сошелся на почве общей ненависти. Возможно, что его имя известно кое-кому из присутствующих: это граф Мобрейль. Он предложил мне свои услуги, чтобы работать против Наполеона. Я воспользовался его помощью. Это отважный человек, который ни перед чем не отступит, чтобы дойти до цели.
— Я знаю этого графа Мобрейля, — перебил его Фушэ. — В моих воспоминаниях о деятельности по министерству полиции ему уделено несколько очень интересных заметок. Это такой человек, который действительно пойдет на все. Но вы заявляете нам, что он обещал представить письма, написанные Наполеоном императрице, а это чертовски трудно! Кроме того, как я предполагаю, он обещал доставить вам также и ответ?
— Да, и ответ также!
— Тем не менее, насколько я знаю — это тоже из моих! воспоминаний старого полицейского, — сказал Фушэ, — императрица никому, даже тем, кто связан с нею узами самой Тесной интимности, — при этих словах Фушэ насмешливо посмотрел на Нейпперга, — не доверяет тайны писем, получаемых от императора или отправляемых к нему. Если граф Мобрейль действительно принесет нам эти депеши, которые должны заключать в себе безусловно важные секреты, судя по месту, избранному для приема курьера, то он покажет себя таким ловким, что я могу только поздравить вас с приобретением столь дельного помощника!
В этот момент раздался тихий стук в дверь.
Нейпперг пошел открыть.
На пороге показался Мобрейль. Он был очень бледен. Его правая рука была засунута, словно в перевязь, в отверстие расстегнутого жилета. Галстук, жабо и кружево были забрызганы свежей кровью. Он подошел и, поздоровавшись кивком головы, достал левой рукой из-под редингота бумаги.
— Читайте! — сказал он слабым голосом, бросив бумаги на стол. — Поскорее читайте! — Затем он бросился на стул и пробормотал: — Я задыхаюсь… Пожалуйста, стакан воды!
Вот каким образом Мобрейлю удалось овладеть письмами Наполеона, доставку которых императрице последний поручил Анрио.
Анрио выехал из Реймса после первого курьера, посланного императором с извещением о скором прибытии второго. Он ехал с таким расчетом, чтобы избежать цепи неприятельских войск, для чего ему пришлось сделать большой крюк. Ему удалось проехать сквозь занятые неприятелем деревни, не подвергаясь ни допросу, ни досмотру. Он добрался до последнего перегона и уже видел перед собой высоты Монмартра, когда на дороге вдруг вырос человек, одетый в широкий извозчичий кафтан. Этот человек крикнул ему:
— Вы полковник Анрио?
— А вам какое дело? — ответил тот, давая лошади шпоры и держа наготове пистолет.
— Я от госпожи Алисы.
Имя жены, произнесенное этим человеком подозрительного вида, успокоило Анрио насчет враждебных намерений незнакомца, но вселило в него тревогу за жену. Какая беда грозила Алисе? Что такое могло случиться с нею, если ее имя упоминает какой-то придорожный бродяга?
Анрио остановил лошадь и со стесненным сердцем повернулся к человеку, который сказал ему:
__ Меня послала к вам госпожа Алиса. Дама, с которой вы должны были встретиться в ресторанчике дядюшки Лятюйя, по важным, но не известным мне основаниям, не имеет возможности прибыть на условленное для свидания место.
__ И что же? — спросил Анрио, по-прежнему оставаясь настороже.
Незнакомец продолжал:
— Не имея возможности по некоторым соображениям, о которых вы можете догадываться, принять вас у себя на дому, эта дама предлагает вам отправиться не в ресторан дядюшки Лятюйя, а в гостиницу «Золотое солнце», расположенную в Лафурше, на перекрестке дорог Клиши и Сен-Дени.
— Я могу остановиться в этой гостинице; но для чего это? — спросил Анрио, недоверие которого уменьшалось. — Если ваше сообщение верно, что я найду там?
— Вы встретите там свою супругу, и она сообщит вам то, что поручила ей передать дама, к которой вы имеете письмо. Больше я ничего не знаю. Я исполнил данное мне поручение, больше с меня нечего и спрашивать. Счастливого пути, полковник Анрио. Не забудьте: гостиница «Золотое солнце» в Лафурше.
Не успел Анрио прийти в себя от удивления, как незнакомец, отскочив в сторону, скрылся в узком проходе между стенами, куда всадник не мог бы последовать за ним. Пустив медленным шагом лошадь, Анрио задумался. Появление такого странного вестника могло удивить, но было вполне объяснимым. Очевидно, ему было известно о прибытии Анрио. В таком случае он мог быть послан только самой императрицей.
Ведь незнакомец знал, что он проедет по этой дороге, что он является курьером к императрице; очевидно, во избежание измены, о которой возникли подозрения, необходимо было принять эти меры предосторожности.
Ведь во дворце Тюильри императрица не только не была свободна в своих действиях, но и не могла быть спокойной от шпионов. На окружавших ее лиц положиться было нельзя. Император знал все это и потому-то избрал местом передачи депеш ресторан Лятюйя. Но мало ли что могло помешать Марии Луизе прибыть туда!
И мало-помалу все сомнения Анрио рассеялись. Мысль об Алисе окончательно уничтожила последние опасения. Ведь ее должен был встретить он в названной незнакомцем! гостинице «Золотое солнце». Дорогая Алиса! Как любил он ее! Как он страдал от необходимости быть с нею в разлуке! \ Но с какой безумной радостью прижмет он теперь ее к своему сердцу! О, как добра императрица: ведь она могла выбрать для сообщения своей воли другую придворную даму, а она послала Алису! Какой счастливой случайностью являлась невозможность для императрицы прибыть в ресторан Лятюйя. Он сможет теперь на свободе увидеться со своей славной женушкой, он сможет выказать себя любящим супругом, не нанося ущерба службе.
Окончательно успокоившись и не сомневаясь более в правдивости слов человека, остановившего его по дороге, Анрио дал поводья своему Фебу. Погладив лошадь по шее, он сказал ей, словно бы животное могло понять его:
— Живее к «Золотому солнцу», Феб! Мы едем к твоей доброй хозяюшке, Алисе!
VIII
В тот час, когда Анрио скакал по дороге Сен-Дени и когда мадам Сан-Жень в сопровождении ла Виолетта, войдя в ресторан Лятюйя, застала совещание предателей и свидание Марии Луизы с Нейппергом, в гостиницу «Золотое солнце» явилась парочка, потребовавшая комнату.
Это были Алиса и Мобрейль.
В тот момент, когда молодая женщина, вопреки приказаниям императрицы и повинуясь повелительной записке Мобрейля, решила войти в кабачок Лятюйя, вдруг появился Мобрейль, сказавший ей на ухо:
— Вы очень аккуратны, это мило с вашей стороны. Но пойдемте дальше, в гостиницу «Золотое солнце».
— А почему бы не остаться здесь? — сказала Алиса. — Ведь то, что вы хотите сказать мне, я могу выслушать здесь с таким же успехом, как и в гостинице.
— Сегодня в этом ресторанчике собралось слишком много народа, — весело ответил Мобрейль. — Нас могут увидеть, побеспокоить. Поэтому умнее будет перейти туда, куда я вам сказал. «Золотое солнце» — это уже деревня, и нахалы, равно как и ревнивцы, не явятся туда.
Причиной перемены места свидания было то, что Мобрейль заметил присутствие в ресторане Лятюйя герцогини Лефевр и ла Виолетта. Они, как он подумал, без сомнения зашли гуда случайно, но их соседство делало небезопасным затеянное им предприятие. В герцогине Алиса могла найти такую поддержку, о которой разобьются все его усилия, а в гостинице «Золотое солнце» он не подвергается никакому риску.
Извещенный Нейппергом — а последний в свою очередь узнал об этом от самой Марии Луизы — о прибытии Анрио, Мобрейль признал гостиницу «Золотое солнце» удаленную от заставы и массы всяких торговцев и извозчиков, кишащих там, за более надежное место для исполнения своего плана. Здесь их примут за влюбленных, и никому не придет в голову подслушивать или стеречь их.
Алиса быстро шла рядом с Мобрейлем, отказавшись взять предложенную им руку. Вся кровь прилила к щекам, ее сердце сильно билось. Она думала об Анрио, который, быть может, уже прибыл в ресторан Лятюйя и которого она вскоре увидит. Задумавшись о муже и мечтая о его поцелуях, Алиса беззаботно шагала по пыльной дороге Клиши.
Мобрейль шел рядом с ней, не говоря ни слова, видимо озабоченный.
Вдруг радость Алисы от ожидания встречи с Анрио омрачилась мыслью о присутствии Мобрейля.
«Но допустит ли он, чтобы я отправилась в ресторан и встретилась там с мужем?» — мелькнула у нее мысль.
И она вдруг подумала, что он ведет ее в эту удаленную гостиницу только для того, чтобы задержать ее, чтобы помешать встретиться с Анрио.
Она мрачно посмотрела на своего спутника, по-прежнему задумчивого и озабоченного, затем инстинктивно сунула руку за корсаж. Да, ее верный защитник — испанский кинжал — все еще был там! Она сразу успокоилась. Улыбка сверкнула на ее лице, она с выражением недоверия и превосходства поглядела на Мобрейля и, подойдя к гостинице, развязно сказала:
— Ну что же, зайдем в «Золотое солнце»!
Пораженный внезапной переменой в манерах Алисы, Мобрейль подумал: «Она не очень-то заставляет просить себя! Эге! Да если дело пойдет так и дальше, то все обойдется гораздо легче, чем я думал!» И тоже повеселев, он повторил за ней:
— Ну что же, прекрасная дама, зайдемте в «Золотое солнце».
В тот момент, когда они входили во двор, человек, закутанный в простой извозчичий кафтан и очевидно поджидавший его, подошел к нему и быстро шепнул ему на ухо несколько слов.
Мобрейль с видимым удовольствием выслушал его и сказал вполголоса:
— Хорошо, Дасси, вы мне больше не нужны. Ступайте! Вам не следует оставаться здесь долее!
Алиса и Мобрейль в сопровождении служанки поднялись на первый этаж, где была приготовлена комната. Впустив их туда, служанка спросила:
— Вам понадобится еще что-нибудь?
Мобрейль в ответ на это предупредил ее, что в скором времени сюда должен прибыть всадник, который осведомится, не поджидает ли его здесь дама, и ему нужно ответить, что да.
Служанка вышла, и Мобрейль с Алисой остались наедине.
Между обоими любовниками, из которых один никогда не любил, а другая уже не любила больше, хотя и должна была выносить все тяжелые последствия совершенной ошибки, произошла короткая, но решительная сцена.
Теперь Алиса уже не чувствовала ничего, кроме отвращения и страха к человеку, которому когда-то отдалась. Но, несмотря на это, она не могла выйти из-под власти своего бывшего любовника, по-прежнему пользовавшегося громадным влиянием на нее. Она чувствовала себя попавшей в западню, была во власти Мобрейля. Она ненавидела его со всей силой любви к мужу, вновь воскресшей в ее сердце, но в то же время чувствовала себя бессильной сопротивляться тому, кто держал ее в своих объятиях; вместе с телом она отдала ему свою волю. Этот любовник, прогнанный ею с ложа, но не из мыслей, сохранил над ней весь авторитет обладания. Она уже не была больше его любовницей, не хотела быть больше ею, но по-прежнему сознавала себя его безвольной рабыней и говорила себе, что он может добиться от нее всего, чего захочет. Как ни старалась она облечься панцирем сопротивления, презрения, даже ненависти, ей все-таки приходилось сознаться в душе, что все эти попытки к протесту растают в немом бессилии, если Мобрейль заговорит с нею тоном повелителя. Соглашаясь на это свидание, Алиса была готова к тому, что должно было унизить ее, запачкать, преисполнить отчаянием и угрызениями совести, но в то же время сознавала, что должна будет уступить, что она не в силах будет упорствовать в отказе, сопротивляться желаниям Мобрейля. «Я убью его потом!» — думала она, но мысль о возможности защиты своей чести до, а не потом, даже не приходила ей в голову. В его присутствии она чувствовала себя словно птичка, парализуемая взглядом змеи.
Заперев дверь, Мобрейль остался на почтительном расстоянии от Алисы и не делал ни малейших попыток взяться за свою прежнюю роль соблазнителя. Это немного удивило молодую женщину, и слабая надежда несколько оживила ее сердце: может быть, это свидание будет просто их последним «прости», последним, заключительным аккордом былой страсти?
Она с боязливым любопытством ждала, чтобы Мобрейль заговорил.
Наконец нежным, звучным голосом он изложил ей цель их свидания в гостинице «Золотое солнце». Полковник Анрио был в дороге и скоро он прибудет сюда. Он везет в Париж письма; они довольно незначительны, но тем не менее в этих депешах имеются такие сведения, которые страшно необходимы ему, Мобрейлю, и он во что бы то ни стало должен прочитать их. Значит, дело заключается в том, чтобы получить их от полковника Анрио. Ей будет достаточно сказать мужу, что императрица послала ее принять курьера Наполеона. Анрио не придет в голову ни малейшего подозрения, так как он отлично поймет, что у Марии Луизы могут возникнуть затруднения, мешающие ей лично принять адресованные ей письма. Поэтому он без всяких колебаний отдаст своей жене, статс-даме императрицы, доверенное ему послание.
В первый момент, узнав, что в данном случае дело не касается ее самой и что Мобрейль заставил ее явиться в этот номер гостиницы не для предъявления своих прав на любовь, а с чисто политической целью, Алиса испытала чувство огромного облегчения. Она сделала презрительный жест, выражавший: «Ах, так дело только в этом?» Но тут же ей пришло в голову, что находящиеся у Анрио бумаги могли содержать важную государственную тайну и обмануть Анрио, злоупотребить его супружеским доверием, изменнически нарушить тайну императорской корреспонденции было бы очень тяжким и отвратительным преступлением. Ее первым движением было желание немедленно ответить согласием, так как она была счастлива, что отделывалась так легко. Но затем она подумала, что Анрио категорически откажется вручить письма даже ей, Алисе, если будет иметь основание усомниться, попадут ли они прямо в руки и в полной неприкосновенности к императрице.
— Но вы требуете от меня подлости, воровства! — резко ответила она Мобрейлю.
— Это самая обыкновенная политическая операция, то, что мы называем на административном языке «выемкой». Я не хотел являться сюда в сопровождении полицейского комиссара, я рассчитывал, что вы добровольно отдадите мне, вашему другу, эти бумаги, которые, кстати сказать, будут потом самым добросовестным образом переданы по назначению.
— Ну, так вы ошиблись! Я не отдам вам этих писем! Впрочем, я просто предупрежу обо всем Анрио, так что их у меня даже и не будет.
Мобрейль побледнел; он не ожидал такого энергичного сопротивления.
— У нас обоих слишком мало времени и терять его понапрасну мы не можем, — сухо и отрывисто ответил он. — Если хотите, можете предупредить полковника Анрио; но если он потребует от меня объяснений, то я дам их ему! Я скажу ему, что вы — моя любовница, и что я захотел узнать, нет ли в письмах, которые он везет, какой-нибудь нежной записочки, адресованной лично к вам, из которой я мог убедиться, что вы не соблюдаете данных мне обещаний и продолжаете поддерживать с мужем нежные супружеские отношения.
— Вы решитесь сделать это?
— Да, я сделаю это. О, я отлично знаю, что произойдет затем: дуэль здесь же, на дворе этой гостиницы. Это будет очень забавно. Я буду в отчаянии, что мне придется изрешетить этого несчастного полковника Анрио, против которого лично я ничего не имею, но ведь вы знаете, что еще недавно я убил двух человек подряд в биллиардной комнате одного кафе в Пале-Рояле. Значит, я легко получу письма. Подумайте только: раз ваш муж будет убит или в лучшем случае будет ранен, то сейчас же сюда прибежит полиция, жандармерия; мне придется предупредить их о депешах убитого курьера, и бумаги, найденные у него, не будут ни в коем случае отданы вам, а их арестуют и возьмут с собой. Настоящая адресатка получит их очень не скоро, только после того, как с их содержанием познакомятся комендантское управление, министерство полиции. Вы сами можете понять, что если в этих письмах будут обнаружены какие-нибудь тайные планы императора, то высшие сановники, которые все спекулируют на государственных бумагах, постараются сохранить их втайне, так кaк сначала им надо будет распорядиться покупкой или продажей ценностей сообразно полученным сведениям, а что касается регентши, то она узнает обо всем только тогда, когда все уже свершится! Вот и взвесьте все «за» и «против»! Довериться мне — это наилучший при данных обстоятельствах способ сослужить действительную службу императрице и избавить милейшего Анрио от доброго удара шпаги!
Развязность, с которой Мобрейль говорил все это, сбивала с толку и смущала Алису.
— Но для чего вы хотите получить эти письма? Какой вам интерес в них? — спросила она.
— Да уж есть интерес, милочка! — ответил он, переходя в шутливый тон и начиная подчеркнуто называть Алису на «ты». — Я вот только что говорил тебе о финансистах. Ну так вот, у меня имеются среди них друзья. Они согласились заинтересовать меня в своих спекуляциях при условии, что я извещу их заранее о готовящихся событиях. Я подозреваю, что в письмах, которые везет твой муж, должны быть такие новости, которые вызовут известную сенсацию на бирже; поэтому-то мне и интересно познакомиться с ними прежде всех. Да ну же! Дело решенное! Твой муж сейчас прибудет. Оставляю тебя. Ты потом спустишься ко мне в сад; там имеется маленькая беседочка, где я могу спрятаться. Но не вздумай изменить мне!
— Если вы рассчитываете, что я изменю Анрио, то вы ошибаетесь!
— Что? Ты отказываешься? Ты не отдашь мне этих писем?
— Я? Наоборот, я потороплю мужа отнести эти письма к императрице, которая одна только имеет право вскрыть их.
— Ты шутишь? Ведь я объяснил тебе, почему мне важно познакомиться с их содержанием! Надо же быть рассудительной! — сказал Мобрейль, стараясь шутливым тоном замаскировать охвативший его гнев. Затем, делая вид, будто он вспомнил о большом упущении, он с улыбкой подошел к Алисе, простирая к ней объятия, и сказал: — Ах, я понимаю, почему ты упрямишься! Действительно, я совершил непростительную оплошность… Ты, очевидно, думаешь: «Господи, как он изменился, каким грубияном он стал! Как, мы находимся наедине в запертой комнате после того, как долго не виделись, и он даже не поцелует меня!» Я форменный идиот, что все время говорил с тобой об одних только делах! Но сейчас я исправлю свою ошибку и вымолю у тебя прощение!
И, по-прежнему шутя и улыбаясь, он обнял Алису и хотел поцеловать ее.
Однако молодая женщина быстро вывернулась из его объятий, а затем быстро вытащила из-за корсажа испанский кинжал и ударила им два раза Мобрейля.
Он инстинктивно отскочил и подставил лезвию согнутую правую руку.
Брызнула кровь.
Мобрейль хладнокровно схватил Алису за руку, сжал ее и заставил выпустить оружие. Кинжал упал на землю, и Мобрейль наступил на него ногой.
Он получил две раны. Рана, нанесенная в правую руку, которой он хотел отпарировать удар, была очень глубока, но не опасна. Первая же пришлась прямо в грудь; хотя кинжал и не проник глубоко, но Мобрейль уже чувствовал приближение обморока.
Прислонившись к двери и сохраняя все свое хладнокровие, он сказал Алисе, которая застыла неподвижно, словно сама пораженная тем, что она сделала.
— А теперь я вполне уверен, что вы отдадите мне потребованные мною письма. Вы сами можете понять, что в случае, если вы откажетесь слепо повиноваться мне, мне уже не понадобится изобретать предлог для вызова на дуэль полковника Анрио: мне достаточно будет показать ему обе раны, которыми вы наградили меня. Он — если я ненароком не убью его еще раньше — согласится со мной, что необходимо будет спросить у вас, почему вы сочли нужным пустить против меня в дело кинжал. Он не поверит ни слову в истории с письмами, если вам придет в голову рассказать ее ему. Гораздо вероятнее, что он просто заподозрит сцену ревности, зашедшую слишком далеко. Подумайте об этом на досуге, я же буду ждать вас в беседке, находящейся в глубине сада, но только с письмами, И Мобрейль вышел из комнаты, шатаясь и хватаясь здоровой рукой за стену; раненую руку он прижал к ране на груди, чтобы приостановить кровотечение.
Вскоре Анрио соскочил с лошади во дворе гостиницы «Золотое солнце», приказал слуге указать ему комнату, где ждала его Алиса, а затем, вбежав туда, бросился в ее объятия и покрыл ее поцелуями.
Только когда прошел первый порыв страсти, он заметил, что Алиса была бледна и, видимо, сильно взволнована. Он испуганно спросил ее, в чем дело. Она постаралась справиться со своим волнением, поспешив объяснить его радостью свидания.
Анрио вполне удовлетворился этим объяснением. Молодой влюбленный полковник, проскакавший сорок лье и встречающий жену, с которой был разлучен долгие месяцы, дрожащей, более очаровательной, чем когда-либо, поджидающей его в уединенной комнате гостиницы, не станет очень долго раздумывать над вопросом, что именно взволновало жену при его появлении…
Алиса же с гибкостью, свойственной всем женщинам, очень быстро овладела собой и страстно отвечала на пламенные ласки мужа. Тем не менее она не забыла про Мобрейля, и Анрио пришлось вспомнить о своей миссии.
На вопрос Алисы он, отдавая ей письма, ответил:
— Значит, действительно императрица послала тебя, чтобы более верным и секретным образом получить депеши императора? О, эти письма страшно важны. Смотри, не потеряй их и никому не показывай! Но, — прибавил он с полным доверием к этому посреднику и понимая, что и в дальнейшем императрица должна соблюдать те же предосторожности, — где я могу получить ответ? Должен ли я обождать здесь?
— Нет! Нет! — быстро ответила Алиса, испуганная возможностью встречи Анрио с Мобрейлем. — Отправляйся в ресторанчик Лятюйя.
Она случайно назвала этот ресторан, подумав, что там Мобрейль не посмеет напасть на Анрио.
— Хорошо! — ответил последний. — Но разве императрица находится там? Так почему она послала тебя сюда? Почему я не мог отправиться прямо туда? Какое основание было устраивать нашу встречу в этой придорожной гостинице?
Не смущаясь, Алиса ответила:
— Императрица там не одна. За ней увязались, когда она отправилась туда. Но она не хотела, чтобы видели, как к ней явится курьер от державного супруга. Сам понимаешь, это государственная тайна.
— Ну разумеется! Тебя никто не заподозрит. Но что подумают обо мне, когда увидят, что я вхожу в ресторан Лятюйя?
— К тому времени императрица познакомится с содержанием привезенных тобою писем и я передам тебе ее ответ. Никто ничего не заметит, и все эти шпионы и предатели, которые так и кишат вокруг Марии Луизы, не будут в силах узнать, что написал император или что ответила ему супруга.
— У тебя такой изворотливый, тонкий ум, что ты могла бы поставить в тупик самого Талейрана! — воскликнул ничего не подозревавший и очень далекий от каких-либо сомнений Анрио, целуя жену. Затем он прибавил со вздохом: — Ну, а теперь ступай и сделай то, что тебе доверила императрица. Мое поручение наполовину исполнено. До скорого свидания в ресторане Лятюйя! Ей-Богу, я изнурен до последней степени! Чтобы убить время, я сосну четверть часика, пока ты будешь у императрицы. От этой скачки у меня трещат все кости, а ведь мне придется сейчас же скакать обратно, как только ты передашь мне письмо Марии Луизы.
В то время как Анрио бросился на кровать, Алиса в полном отчаянии подчинилась желанию Мобрейля. Она вручила ему депеши Наполеона, и вскоре Мобрейль явился в большой кабинет ресторана Лятюйя, где собирались заговорщики, и передал последним эти письма, чувствуя себя близким к обмороку, ослабевшим от потери крови, но возбужденным лихорадочной радостью удачи.
Заговорщики с изумлением узнали из письма грандиозный проект Наполеона, его намерение оставить Париж и двинуться на восток, а также о подкреплениях, которые он рассчитывал найти в северных гарнизонах. Они поняли, что все усилия коалиционных сил пойдут прахом, если императору удастся выполнить такой чудный план, если Париж сможет продержаться еще три недели. Следовательно, необходимо было во что бы то ни стало остановить Напо-. леона, заставить его принять сражение и разбить его в местности между Сеной и Марной, где он очутится в западне. Там его можно будет окончательно раздавить, заставить податься на Париж. В то же время, благодаря письму Наполеона к брату с советом бросить Париж и добраться до Луары, легко можно будет добиться сдачи Парижа. Благодаря панике заговорщики получили возможность стать хозяевами столицы, а следовательно, и трона.
Оставался сам Наполеон. Следовало помешать ему выполнить свой отважный проект марша на восток.
Заставить его повернуть к столице, которую он застанет в состоянии полной деморализации, готовой капитулировать, было очень легко. Достаточно было, чтобы Мария Луиза написала своему супругу письмо, в котором умолила бы его не покидать ее на произвол судьбы и поскорее явиться на защиту Парижа.
Нейпперг взялся добыть от Марии Луизы лживое тревожное письмо, которое смутит Наполеона, помешает ему выполнить свой грандиозный проект отступления на север и заставит вернуться в Париж. А когда письмо сделает свое дело, надо будет принять меры, чтобы Париж сдался союзникам. Лишенный своей столицы, Наполеон будет уже не императором, а атаманом банды, искателем приключений. Он будет свержен с трона, и империя закончит свои дни. Таким образом, все произойдет так, как того желают заговорщики, и Наполеон будет погублен!
Послушная предательским советам Нейпперга, Мария Луиза без малейшего колебания написала роковое письмо, которое остановило Наполеона в его великом стратегическом движении на Лотарингию и заставило его наспех, хотя и слишком поздно, вернуться к Парижу.
IX
Ферма «Божья слава» прежде была монастырем, национализированным во времена революции, а потом превращенным в большую ферму. Там жил в уединении военный врач с женой — Марсель с Ренэ.
Получив наследство от отца Ренэ, Марсель с женой поселились здесь помещиками и неустанно работали, подымая доходность фермы, составлявшей когда-то собственность графа де Сюржэр.
Окруженная высокой стеной, составленная из прямоугольных построек, возведенных из прочных массивных камней, огражденная глубоким ручейком, через который был перекинут дощатый мост, «Божья слава» могла в случае надобности превратиться из мирной фермы в грозный редут.
Со времени приближения врагов Марсель занялся приведением своей фермы в защитное состояние.
Философ-гуманист, космополит по взглядам, Марсель всегда был противником Наполеона и ненавидел империю. Он мечтал о всемирной республике, об уничтожении границ, общности интересов и мирном служении общественному благу. Он объявил войну войне. В его глазах Наполеон был главным препятствием, мешавшим народам Европы наслаждаться счастьем социальной международной федерации. И когда в Испании и России вспыхнула народная война, наносившая урон за уроном Наполеону и его завоевательным тенденциям, то Марсель был вне себя от радости.
Когда впоследствии вспыхнул патриотический жар в германском юношестве, Марсель с восхищением внимал известиям об их героизме и, перечитывая вместе со своим соседом, Жаном Соважем, эти известия, принимался вместе с ним мечтать о всеобщем мире и союзе цивилизованных наций. Следовало только окончательно победить Наполеона, и тотчас с войнами будет покончено навсегда.
Однако появление во Франции солдат князя Шварценберга сопровождалось таким насилием, разбоем, грабежом, поджогами, что сам герцог Йоркский выразился следующим образом: «Я думал, что имею честь командовать корпусом прусской армии, а на самом деле мне приходится командовать разбойничьей шайкой!»
Это быстро изменило взгляд на вещи и образ мыслей Марселя. Решив вначале оставаться нейтральным наблюдателем грядущих событий, ожидая от неприятельского нашествия освобождения Франции, он без страха и гнева встретил появление в стране союзных войск. Не будучи поклонником Бурбонов, он верил в искренность их лживой программы, которую всюду разглашали и рассовывали роялистские агенты. Он с удовольствием прочел прокламацию Людовика XVIII, где довольно смело было сказано:
«Французы! Не ждите никаких упреков от вашего короля, не ждите от него жалоб и воспоминаний о прошлом! Я хочу говорить с вами только о мире и всепрощении. Примите дружелюбно великодушных союзников, откройте пред ними врата ваших городов, отклоните от себя удар, который неминуемо обрушится на ваши головы в случае преступного и бесполезного сопротивления, и пусть появление союзников ознаменуется криками радости! Их победоносные армии несут вам мир и прощение. Неприкосновенность имущества будет строго соблюдена, налоги будут уменьшены, ваши сыны будут возвращены к родным полям и вашим объятиям. Свод законов, оскверненный именем Наполеона, останется в полной силе. Сенат будет сохранен. Король еще раз торжественно обещает уничтожить рекрутский набор, который разрушает счастье семей и надежды родины. Французы, долой тирана, долой войну! Долой рекрутчину и усиленные налоги!»
В этой прокламации Марсель нашел зародыш осуществления своих грез, хотя будущее показало, что, утвердившись на троне, Людовик XVIII первым делом постарался закрепить рекрутчину и усиленные налоги…»
Марсель торжествовал. Но вскоре крики радости сменились у него возгласами ярости; это случилось тогда, когда он увидал, что делают в стране эти мнимые миссионеры мира и общественного блага.
Грабежи, насилия, пожары, убийства — вот что явилось первыми знамениями покровительства и дружбы, данными войсками Блюхера, который должен был «освободить» Францию. И со стороны офицеров-немцев, жаждавших свести свои счеты с французами, все эти возмутительные явления не встречали особенного протеста. «Если бы я вздумал подвергать расстрелу всех грабителей, — сказал однажды князь Шварценберг, — то мне не с кем было бы воевать с французами: пришлось бы пристрелить всю армию!»
Но грабили не только солдаты — грабили и немецкие генералы. Так, например, князь Гогенлоэ заставил город Труа заплатить ему контрибуцию в следующем размере: 150 000 франков деньгами, 18 000 центнеров муки, 12 000 бочек вина, 3000 бочек водки, 1000 быков, 18 000 центнеров сена и 344 000 рационов овса.
Однако это было хотя и тяжелым, но все же культурным грабежом. А что делалось неприятельскими солдатами в деревнях — трудно даже описать! На месте целых деревень сплошь да рядом оставались только пылающие развалины; солдаты вооружались топорами и, забрав все, что могло быть унесено с собой и имело ценность, забавлялись тем, что разбивали мебель и утварь в мелкие щепы. В погребах опоражнивались целые бочки с вином, а что солдаты не в состоянии были выпить, то, опять-таки на потеху, разбивалось и выливалось вон. Если в оставленной бежавшим со страха населением деревушке солдатам попадалась женщина, то от мерзкого насилия над нею не гарантировали ни старость, ни детство: озверевшие солдаты насиловали шестидесятилетних старух с такой же яростью, как и семилетних девочек. Случалось, что всему контингенту повстречавшегося на пути женского монастыря приходилось перебывать в солдатских объятиях. И обыкновенно программа «развлечений» была таковой: сначала грабеж, потом насилие, потом пьянство, а потом пожар.
Следствием всех этих зверств была страшная вспышка патриотизма в наводненных неприятелем местностях.
За исключением боязливых буржуа, которые из опасения лишиться имущества спешили дрожащими руками нацепить белую кокарду, народ проклинал иностранцев и звал Наполеона.
Тогда забывались все строгости, вся суровость режима империи, и, подобно Жану Соважу и Марселю, очень многие из тех, кто раньше проклинали воинственного императора и желали его низложения, теперь видели в нем единственную опору против неистовства «освободителей» и спешили взяться за оружие, чтобы сражаться вместе с Наполеоном и за Наполеона. Какая радость, какой восторг опьянил всех, когда император совершил свой победоносный въезд в Труа!
В первый раз со времени республики во Франции вспыхнула народная война.
Вооружаясь, Жан Соваж сдержал обещание, данное маршалу Лефевру и его жене во время обхода крестьян, собравшихся в парке Комбо в день свадьбы Анрио. Но кроме того он вооружился, чтобы защищать свое поле, свой. дом, свою жену, наконец, свое существование, которое не могло быть в полной безопасности со времени вторжения союзных сил.
Неминуемость опасности заставила его взяться за оружие раньше, чем он это предполагал вначале.
Однажды вечером со стороны фермы «Божья слава» послышались выстрелы. Враг был там. Четвертый союзный корпус попытался наступать на Арси. Разведчики-пруссаки атаковали ферму, где заперся Марсель.
Необходимо было поспешить к нему на помощь. Наполеон должен был быть где-нибудь поблизости. Оказав сопротивление, отбросив эту авангардную атаку, можно было дать ему время подоспеть, а там, где был Наполеон, были и победа, и спасение! Тут нечего было колебаться да раздумывать, надо было пускаться в путь. И Жан Соваж увлек за собой товарищей.
Перед фермой находился поселок, состоявший из нескольких домиков, где жили служащие фермы.
Жан Соваж приказал своему маленькому отряду остановиться и хранить самую строгую тишину.
Необходимо было сначала убедиться, свободен ли доступ к ферме. С некоторого времени ружейная перестрелка, загремевшая снова с первыми лучами зари со стороны фермы «Божья слава», смолкла, и эта тишина беспокоила Жана Соважа.
Может быть, неприятель отступил? Может быть, он ожидает подкреплений? Или, быть может, подавленный численным перевесом, Марсель вынужден был сдаться?
Необходимо было двигаться с большой осторожностью. В поселке можно будет найти кого-нибудь, переговорить, узнать, бродит ли в окрестностях враг или же, отброшенный Марселем, авангард пошел на соединение с главным корпусом?
В сопровождении молодого крестьянина, которого звали Матье, Жан Соваж осторожно пустился в обход по маленькому леску, окружавшему поселок. Вдруг он услыхал какой-то подозрительный шум, а по мере того, как он подходил ближе, ему показалось, будто он слышит лошадиное ржание. Из-за деревьев поднималась струйка дыма.
Подойдя еще ближе, Жан Соваж не мог уже сомневаться: неприятель был все еще здесь. Но каковы были его силы? Держится ли еще «Божья слава»? Может быть, ферма не выдержала атаки и ее храбрые защитники погибли под развалинами стен?
Жан скользил между деревьями с сердцем, стесненным боязнью за судьбу друга Марселя и объятым жаждой мести. Пригнувшись к самой траве и сделав знак Матье, чтобы тот последовал его примеру, он бесшумно подкрался к куче сухого валежника и воспользовался им как пунктом для наблюдения.
Перед ними была маленькая лужайка, по краям которой ютилось пять-шесть бедных домиков, составлявших поселок.
Страшное зрелище представилось взорам Соважа и Матье. Лошади, привязанные к деревьям, глодали кору, а в середине лужайки несколько пьяных солдат окружили какого-то несчастного крестьянина, связанного по рукам и ногам и брошенного на землю.
Рот несчастного солдаты набили сеном, которое собирались поджечь.
Направо от лужайки горели два дома: налево какая-то старуха отбивалась от трех солдат. Она хотела вырвать из их рук девчурку лет двенадцати, которую злодеи тащили в лесную чащу.
Вдруг старуха пошатнулась и упала. Один солдат бросился на нее и тут же, на глазах у всех, подверг ее той самой участи, которую его товарищи готовили девочке.
— О, негодяи! — пробормотал Жан Соваж. — А нас только двое! Ну, да это ничего не значит. Мы положим на месте по крайней мере двоих из этих подлых негодяев. Матье, — обратился он к крестьянину, — ты не боишься?
— С вами-то? О, нет!
— Ну так вот! Целься в голову тому негодяю, который навалился на старуху. О, негодяй душит ее! Смотри, не промахнись! Я же подстрелю того, который собирается поджечь сено во рту этого несчастного. Это Леклерк, я узнал его. Надо попытаться спасти его. Готов, Матье?
— Мой негодяй у меня уже на прицеле!
— Так хорошо же! Пли!
Два выстрела прогремели почти одновременно.
Солдат с громким смехом подходивший к поваленному на землю крестьянину и собиравшийся поджечь своим факелом набитое в рот сено, упал; в то же время склонившийся к старухе вдруг вздрогнул и после короткой конвульсии застыл — пуля пронзила ему затылок и вышла через рот.
Остальных солдат объял невыразимый ужас: им показалось, что на них напал целый неприятельский отряд Они выпустили девчурку, которую тащили в лес, а затем, торопливо отвязав лошадей, кинулись без оглядки прочь. Других тоже охватила паника — через несколько секунд на лужайке не осталось ни одного солдата.
Жан Соваж сказал Матье:.
— Ты отлично выстрелил! Ну, а теперь поспешим освободить несчастного Леклерка. Как бы он не задохнулся!
Выйдя из засады, они бросились к потерявшему сознание крестьянину. Жан Соваж вытащил сено, которым был забит рот крестьянина, а затем принялся растирать его, стараясь привести в чувство. Но несмотря на все его старания, Леклерк не приходил в себя.
Матье смотрел с раскрытым ртом на открывшуюся перед ним картину разрушения. Затем, словно желая отогнать ужас, охвативший его при виде горящих домов, истерзанных трупов и леса, куда скрылись «освободители Франции», молодой крестьянин принялся заряжать ружье.
Продолжая приводить несчастного Леклерка в чувство, Жан Соваж попытался оживить его искусственным дыханием. Но тот оставался все таким же холодным и неподвижным. Тогда Жан Соваж поднял голову и сказал Матье:
— Сходи-ка в один из этих домов и постарайся раздобыть немного водки.
Матье побежал к одному из домов, пощаженных пожаром, а Жан Соваж продолжал приводить в чувство неподвижного Леклерка.
Вдруг раздался громкий крик. Соваж вскочил и увидел, как Матье выскочил из дома, в который вошел.
Не успел Соваж понять, что произошло, как Матье, словно одумавшись, снова бросился в дом, держа ружье на прицеле, готовый спустить курок.
Раздался выстрел.
Забыв, что он безоружен, Жан Соваж бросился вслед за Матье.
С порою дома ему представилась ужасающая картина. На постели лежала мертвая, окровавленная женщина, на которой вся одежда была изорвана в клочья, а в животе зияла громадная рана.
Это негодяй «освободитель» изнасиловал женщину и, пресытившись ею, изрубил ее саблей.
К спинке кровати был привязан какой-то мужчина, рот которого был заткнут платком. Это был хозяин дома, которого заставили присутствовать при сцене насилия над его женой.
На кресле сидела мертвая от ужаса и побоев старуха — мать убитой женщины. Один из пальцев ее правой руки был отрублен саблей — очевидно для того, чтобы «освободители» могли завладеть золотым обручальным кольцом, снимать которое с пальца показалось им слишком скучным.
На земле с грудью, пробитой пулей Матье, лежал солдат, не выпустивший даже и после смерти бутылку с водкой, из которой он вознаграждал себя изрядными глотками за труды, понесенные при насилии и грабеже.
— Боже мой, что за война! — пробормотал Жан Соваж и поспешил с помощью Матье освободить бедного мужа от веревок и кляпа.
Освободившись, несчастный поспешил к кровати, кинулся на окровавленный труп жены и зарыдал:
— Бедная Марианна! Бедная Марианна! Приди в себя! Скажи хоть слово! Ведь ты не умерла! О, Марианна, Марианна!
— Товарищ! — сказал ему взволнованный Жан Соваж. — О мертвых надо плакать, но и мстить за них тоже нужно! Пойдем с нами, твоей жене мы устроим похороны, подобающие патриотам! Вот уже лежит один из врагов, который не совершит более в сей жизни ни одного преступления. Пойдем с нами. Если в твоих жилах течет не вода, а кровь! Плакать ты будешь завтра, а сегодня… сегодня еще найдутся враги, которых надо убить!
Несчастный провел рукой по лбу, словно просыпаясь от тяжелого сна, и скорбным голосом сказал:
— Я следую за вами, друзья мои. Куда надо идти?
Так как он не мог стоять на ногах, то Жан Соваж и Матье взяли под руки и повлекли за собой несчастного мужа, который не переставал всхлипывать:
— Бедная Марианна! Бедная Марианна!
Когда они вышли на поляну, то увидели, что Леклерк стал понемногу приходить в себя.
Девчурка, вырвавшаяся из рук насильников, убежала, словно испуганная козочка, в лес, а затем снова показалась у опушки и стала издали наблюдать за происходящим.
Жан Соваж знаком подозвал ее поближе.
— В настоящий момент нечего и думать добраться до «Божьей славы», — сказал он Матье, — неприятель может налететь с минуты на минуту. Попробуем увести этих несчастных к нам. Там за ними будут ухаживать, поставят их на ноги; если же оставить их здесь, то они погибнут, так как неприятель неминуемо вернется. Срежь две больших ветви, Матье, мы сделаем носилки, чтобы нести вот этого, — он показал на Леклерка, который все еще неподвижно лежал на траве. — Что же касается его, — он кивнул в сторону мужа Марианны, — то он может дойти и один. Но поторапливайся, здесь пахнет неприятельским духом!
В то время как Матье торопливо срезал подходящие ветки, Жан Соваж еще раз приказал девчурке подойти поближе.
Бедняжка подошла; она была очень испугана, и ее черные глаза недоверчиво поглядывали сквозь крупные набегавшие слезы.
— Как тебя зовут? — спросил Жан Соваж.
— Агата.
— Ты здешняя?
— Нет, я из Мери. Я пришла к бабушке, так как у нас появились солдаты, вот отец меня и отослал сюда. Скажите, они не придут больше сюда? Могу ли я теперь уйти домой с бабушкой?
— Дитя мое, все дороги переполнены теми самыми людьми, которые хотели сделать тебе больно, а что касается твоей бабушки, то ты ее больше не увидишь, они задушили ее. Но ты видишь — убийца наказан, он мертв. Ну, полно, не плачь! Постарайся ответить на мои вопросы. Сколько тебе лет?
— Скоро тринадцать, — рыдая, ответила девчурка.
— В этом возрасте можно быть рассудительной. Успокойся же! Ну, а теперь скажи: не знаешь ли ты, где находится ферма «Божья слава»? Дошли ли туда неприятельские солдаты?
— Да, они туда дошли, но в них стали стрелять из ружей, и они отошли прочь. Вот тогда-то они и забрались сюда.
. — Ты уверена в этом? В таком случае, значит, Марсель все еще держится. Ну да, разумеется! Этот храбрец не так-то скоро сдаст свои позиции! У нас есть время дойти до наших и привести в безопасное место весь этот народ! — сказал Жан Соваж, быстро приняв решение.
Вернулся Матье с четырьмя большими ветками, переплетенными между собой.
— Вот вам и кресло! — весело сказал он.
Они положили Леклерка на эти импровизированные носилки, подняли его и пустились в путь, сопровождаемые мужем Марианны, который все еще оплакивал свою жену, и маленькой Агатой, которая плелась сзади, время от времени вытирая глаза уголком своего передника.
Поддерживая несчастного крестьянина, который все еще не мог окончательно оправиться от удушения, Жан Соваж еще раз буркнул голосом, в котором дрожали и угроза, и скорбь:
— Боже! Что за война!
X
Догнав свой маленький отряд, Жан Соваж сдал Леклерка и Агату под охрану мужа Марианны, который был вооружен пистолетом и саблей, а затем отдал распоряжение поспешно направиться к ферме «Божья слава».
Краткий рассказ Матье о жестокостях в поселке возбудил крестьян. Всем стало ясно, что остается только одно — истребить «освободителей» или же безмолвно покориться их преступному способу ведения войны. Все поклялись отомстить за мертвых и защищать живых.
Вскоре отряд прибыл на ферму, не встретив неприятеля.
Она была хорошо защищена. Марсель нарубил деревьев и забаррикадировал обе дороги, ведшие ко входам. Деревянный мост через маленький ручей был разрушен. Все окна были заложены тюфяками и подушками. Посреди двора стояли огромные телеги, наполненные сеном и соломой, которые служили траншеями для часовых-крестьян, вооруженных ружьями. Человек тридцать служащих фермы, возчики, пастухи, прислуга, к которым присоединились еще крестьяне из окрестных деревень, составили небольшой гарнизон, которым командовал Марсель при деятельном участии своей жены.
Ренэ, одетая в полумужской охотничий костюм, прохаживалась взад и вперед с ружьем, наблюдая за укреплением и поддерживая мужество защитников. Когда один из импровизированных ратников вежливо ответил на ее вопрос: «Да, мадам Марсель!», она поспешно заметила ему:
— Называйте меня Красавчик Сержант! Так звали меня в республиканской армии, когда вся Франция, как теперь, была взбудоражена. Я снова принимаю это прозвище и, будь уверен, голубчик, буду нести его с такой же честью, хотя с тех пор я стала старше на двадцать лет!
Марсель, как бывший лекарь, подумал и о том, чтобы устроить амбулаторию: для этой цели в зале нижнего этажа было поставлено несколько кроватей и принесена солома. На столе были приготовлены медицинские инструменты, белье, вода, корпия и несколько склянок, — словом, все необходимое для оказания скорой помощи.
Марсель с радостью встретил подкрепление, доставленное ему Жаном Соважем, так как ^теперь ферма «Божья слава», вооруженная и защищенная такими силами, могла противостоять любому, даже солидному отряду врагов. Ее оружия и силы сопротивления было достаточно, чтобы привести в смятение и задержать движение союзников, а тем временем подоспеет Наполеон и освободит страну.
Марсель объяснил Жану Соважу расположение войск. Он сообщил ему, что 17 марта Наполеон покинул Реймс со своей гвардией и направился к Арси и Фер-Шампенуазу.
— Неприятель не посмеет двинуться к столице, — прибавил он. — Император, вероятно, не хочет вступать в бой в настоящее время и стремится соединиться со своим северным отрядом. Тогда он окажется ближе к воротам Берлина, чем Блюхер и Александр к заставам Парижа. Мы обязаны помочь ему достичь северных позиций, задерживая неприятельские обозы, захватывая разведчиков и различными тревогами.
— Я понимаю, это должна быть партизанская война, — энергично заметил Жан Соваж. — Ах, я желал бы видеть врагов уже здесь, на расстоянии ружейного выстрела!
— Тебе не придется долго ждать, товарищ! Слышишь этот пронзительный крик, которым обыкновенно пастухи созывают овец, когда замечают волка за соседним лесом? Это наш караул бьет тревогу, значит, враг недалеко. Итак, к оружию, мой друг! Ты будешь защищать главную часть здания фермы, выходящую на дорогу, я же расположусь в овчарнях, откуда в моем распоряжении будет вся равнина. Ты знаешь приказ: стрелять не ранее как неприятель приблизится на расстояние ружейного выстрела. Мы — осажденные и должны беречь боевые запасы.
Дав Жану инструкции, Марсель направился к низкой тяжелой двери, находившейся в глубине, отодвинул засов и открыл ее. Эта дверь вела в какой-то погреб с несколькими ходами, терявшимися в темноте: оттуда подымался тяжелый, едкий запах.
— Что это за подвал? — спросил Жан.
— Старинная монастырская пещера. Там, наверное, лежат останки древних монахов, распространяя запах. Этот мрачный, молчаливый склеп скоро, быть может, озарится пламенем и загрохочет.
Жан Соваж заметил, как Марсель размотал длинный фитиль и один конец его прикрепил к темному предмету, находившемуся на одной из ступенек лестницы, ведущей в глубину склепа. Подойдя ближе, он различил бочку.
— Тут порох? — спросил он.
— Да, — ответил Марсель спокойным тоном, заканчивая прикреплять фитиль и пропуская другой конец его под дверь, которую тотчас же закрыл. — Добрые монахи, которые покоятся гам уже несколько столетий, дождутся, пожалуй, воскрешения из мертвых, какого они никак не предвидели в своих молитвах!
— Ты, значит, предполагаешь превратить убежище «Божья слава» в долину Иосафата?
— Тише! — сказал Марсель. — Не нужно пугать наших мальчиков. Но если враги проникнут сюда, они найдут верную смерть среди обломков. Все узнают, что Марсель скорее готов был взлететь на воздух, чем сдаться, и это послужит хорошим примером, товарищ! Видишь ли, случается, что страной завладевают, несмотря на храбрость ее защитников. Сдают крепости, открывают ворота городов, сдают арсеналы; однако защищаются до последней крайности, сражается не только войско, но и весь народ. И когда каждый куст представляет собой редут, когда каждый дом является крепостью, неприятельская армия начинает колебаться, а генералы приходят в смущение. Побежденный народ, который приложил все старания для обороны, более славен, чем завоеватели и грабители трофеев! Так пусть же наша Шампань превратится в вулкан, грозное извержение и кровавая лава которого затопят жилища, поля и Даже ее сыновей! Займем свои посты, товарищ! Если нашему примеру последуют все шампанцы, а шампанцам все французы, то Франция будет спасена!
Жан Соваж бегом направился к главному корпусу здания, уже окруженному защитниками, готовыми стрелять при первой надобности.
Марсель отправился в овчарни, где его жена, превратившаяся в Красавчика Сержанта 1792 года, оживленная предстоящим сражением и в мужском костюме казавшаяся помолодевшей, готова была открыть огонь по большому отряду врагов, скакавших по равнине.
— Не стреляйте! — остановил Марсель. — Нужно обождать. Их по крайней мере восемьсот человек, это слишком много для нас, — произнес он унылым тоном, указывая на огромное облако пыли, подымаемое приближающейся конницей.
Через несколько минут все пространство вокруг равнины, пашни, луга, огороды, дороги, все было занято кавалеристами-«освободителями». Они надвигались как бы огромной цепью, которая то смыкалась, то раскидывалась, приближаясь к неподвижной, молчаливой ферме «Божья слава».
Жан Соваж так же, как и Марсель, приказал не стрелять. Нужно было дать неприятелю возможность — подойти ближе, не обнаруживая напрасной пальбой количество защитников фермы.
Вдруг один из офицеров наступавшего отряда задержал коня против дороги, ведущей к ручью, позади которого находился главный вход в ферму.
По данному знаку вся кавалькада остановилась. Два солдата приблизились к офицеру, и он указал им на дорогу к ферме.
Тогда оба солдата подъехали к ручью, привязали коней к сваям, служившим раньше опорами моста; затем после некоторого колебания медленно спустились по откосу, перешли ручей вброд и, снова взобравшись на откос и направившись к воротам фермы, стали стучать в них прикладами ружей.
Марсель и Жан Соваж сошлись для совещания, как лучше поступить. Если встретить назойливых гостей ружейным залпом, то сражение неизбежно и ферма будет взята приступом. Не лучше ли открыть вход на ферму и вступить в переговоры?
Тем временем равнина все более и более наводнялась кавалеристами.
— Серьезно сражаться против целой армии мы не можем, — сказал Марсель, — наша задача задержать здесь неприятеля как можно дольше, а не давать себя перерезать без всякого толка. Попытаемся отделаться от этих негодяев, которые идут к нам, и постараемся не привлечь сюда весь эскадрон, который носится по лесам и полям.
— Ты хочешь принять их, вступить в переговоры?
— Да, ты увидишь… у меня возникла мысль!
Марсель высунулся в слуховое окно и крикнул кавалеристам по-немецки, чтобы они подождали, что им сейчас откроют.
Солдаты сделали знак, что поняли и, открывая свои рты, показывали пальцами, что голодны и хотели бы поесть.
Марсель тотчас же отдал приказание, чтобы вынесли на двор все столы, выкатили бочки с вином и принесли хлеба, ветчины, водки. Когда все приготовления были сделаны, он приказал, чтобы все люди спрятались в верхних этажах, оставив пустыми все нижние помещения. Оружие и все следы организованной защиты были также скрыты. Затем он позвал всех женщин, бывших на ферме, убедил их не бояться и прислуживать, раздавая вино солдатам, которые будут тотчас впущены.
Сделав все эти распоряжения, Марсель принялся разбирать заграждение у ворот и впустил стучавших.
Оба кавалериста вошли с предосторожностью, беспокойно оглядываясь по сторонам. Увидев накрытые столы во дворе, полные бочки и жбаны, а также женщин, снующих взад и вперед, вообще всю эту мирную обстановку, они состроили довольную гримасу.
— Хорошо, хорошо, друзья! — закричали они и, обернувшись назад, стали делать знаки своим товарищам, собравшимся на равнине вокруг офицера и, по-видимому, ожидавшим результата разведки двух товарищей.
Вскоре часть отряда двинулась, направляясь к ферме с осторожностью, медленным шагом.
Марсель, с беспокойством наблюдавший за этим движением, обращаясь к Жану Соважу, радостно воскликнул:
— Судьба благоприятствует нам; посмотри, только эти решаются направиться сюда, а остальные, не рассчитывая найти на ферме достаточно корма для всех, предоставляют первым утолить здесь свою прожорливость, а сами пойдут дальше на поиски добычи. Мы, значит, будем иметь дело приблизительно с пятьюдесятью всадниками, ну, а это нам по силам; все идет великолепно!
При этих словах Марсель радостно указал на огромный отряд неприятеля, который после некоторых колебаний и Переговоров повернул обратно и скрылся на горизонте.
Его предположения были верны. «Освободители» держались определенного метода в своих нашествиях: они избегали появляться на фермах и в деревнях в слишком большом количестве, не надеясь найти там достаточно припасов и прочей добычи. Они знали, что Франция богата и что, идя далее, они удовлетворят свои аппетиты.
Офицер несколько отделился от своего отряда, переправился через ручей и вежливо обратился к Марселю, стоявшему на пороге фермы. Марсель был очень бледен и старался сохранить хладнокровие.
— Вы владелец этого дома? — спросил офицер на великолепном французском языке, прикладывая руку к своей шапке.
Марсель молча поклонился.
— Я явился просить у вас гостеприимства для моих людей. Надеюсь, что вы окажете его нам с готовностью, как делали то все ваши соотечественники, которые не принадлежат к мятежникам и знают, какого приема заслуживает войско союзников их императорских величеств, явившееся освободить вас от тирана Бонапарта и, водворив здесь мир и порядок, восстановить законное правительство.
Марсель ответил весьма кратко:
— Вы находитесь здесь по праву войны, поступайте как вам заблагорассудится!
При этих словах он указал на двор, где стояли столы, уставленные яствами.
Офицера этот вид привел в веселое настроение и он сказал:
— Я вижу, что вы очень рассудительный француз. Впрочем, таковых, к счастью, много в этой стране. Так, например, господин Турпэн, мэр Шалона, принял нас очень радушно, со слезами на глазах, и просил нас, чтобы мы сами роздали населению города белые кокарды.
— И что же, шалонцы повиновались этому мэру? Они приняли кокарды, переданные им через вас?
— Конечно, Боже мой! — ответил офицер, сбивая грязь с сапог. — Впрочем, раздача значков производилась в здании мэрии. Взвод моих солдат присутствовал при этом… на случай появления какого-нибудь упрямца.
— Ах, значит, были и упрямцы! — произнес Марсель, весь дрожа от внутреннего волнения.
— Да, были и такие, главным образом среди черни. Лучшие люди, почтенные граждане, владельцы поместий по соседству, все охотно кричали: «Да здравствует король! Да здравствуют союзники!» — и с видимым удовольствием нацепляли на себя белую кокарду. Мы пожимали друг другу руки и пили вместе ваше прекрасное игристое вино. Это было прелестно!
— А как поступали с упрямцами?
— Смотря по тому, кто они были. Женщин, принимая внимание их пол, щадили, ну а с мужчинами поступали иначе. Многие с негодованием срывали королевский знак отличия и топтали его ногами; были и такие, что осмеливались провозглашать узурпатора. Их расстреливали. Что же делать! Мятеж, вы понимаете! К этому вынуждает война… Но здесь, — поспешил прибавить офицер, — я вижу, не придется прибегать к таким крайним мерам. Я счастлив, что встречаю здесь такой любезный прием. Пожалуйста, скажите, как называется эта ферма.
— «Божья слава».
Офицер продолжал:
— Я вижу, на этой ферме «Божья слава» вы хорошо умеете принимать друзей — ваших неприятелей. Столы уставлены яствами, выкачены бочки. Мой привет вам, господин фермер! — при этом он протянул руку Марселю.
Но тот сделал быстрое движение, указывая на ручей и говоря:
— А ваши лошади? Разве вы не боитесь, что они убегут или утонут?
Офицер оглянулся назад.
— Не беспокойтесь! — сказал он. — Они сами сумеют найти себе пищу и уберечься от всякой опасности.
Благодаря такому обороту разговора Марсель избежал необходимости подать офицеру руку. Во избежание новых проявлений любезности, он предложил врагу последовать за ним на кухню, где ему дадут поесть.
Встретив такое гостеприимство на ферме, что было далеко не везде на их пути, офицер, весело улыбаясь, сел за стол, приглашая Марселя последовать его примеру.
— Быть может, вы окажете честь составить мне компанию? — спросил он.
— Благодарю вас! Я уже ел и к тому же мне необходимо позаботиться, чтобы ваши солдаты не имели ни в чем недостатка, — сказал Марсель с незаметной иронией в голосе. — Впрочем, будьте покойны, — добавил он с более подчеркнутой иронией, — это не помешает мне оказать и вам мое внимание!
— Сделайте одолжение! Право, я искренне благодарен вам, — сказал офицер, с жадностью уплетая поданную ему холодную дичь.
Марсель удалился. Тихо, крадучись, чтобы не привлечь внимания «освободителей», с жадностью накинувшихся на еду и вино, он пробирался в амбары, в конюшни, в комнаты, где были спрятаны крестьяне, подбадривал их и велел быть начеку, чтобы не быть застигнутыми врасплох и по первому сигналу быть готовыми броситься на неприятеля. Затем он спустился во двор, где оргия была уже в полном разгаре.
XI
С дикой радостью «освободители» набросились на початые бочки вина. Вооружившись деревянными ведрами, лоханками, кувшинами, мисками они ринулись к розовым и белым струям вина, бившим из бочек, и с жадностью утоляли жажду. Алчное стадо, никем не руководимое, теснилось, толкалось вокруг бочек, пожирая их глазами и обхватывая руками, как бы желая тем ускорить течение живительной влаги. К более счастливым, завладевшим бочками, проталкивались другие и, за неимением чашек и кубков, подставляли под краны свои засаленные шапки или кожаные сумки. Некоторые из запоздавших, не запасшиеся сосудами, прямо расталкивали товарищей, находившихся в более благоприятных условиях, сбивали насосы и, ложась на живот, ловко направляли струю вина из бочки прямо к себе в рот.
Этот способ питья вызвал ссоры, жалобы, угрозы и драку.
Пившие ничком поднялись, опрокинули жбаны, разбили миски у более счастливых сотоварищей и заставили всю толпу пить из пригоршней, шапок, патронташей.
Слышалась глухая брань, предвестница кровавой бури, оргии и боя.
Один из солдат крикнул:
— Вышибем дно у бочки!
Долгие громкие крики, поднявшиеся вслед за этими словами, показали, что совет пришелся по вкусу и вызвал сочувствие.
Через минуту уцелевшие еще бочки были выкачены на середину двора, и скоро лиловатые потоки побежали на землю, на которую падали солдаты, шатавшиеся между опрокинутыми бочками.
Марсель, стоя на пороге кухни, холодно и спокойно смотрел на все более и более разгоравшуюся оргию, подобно моряку, который, стоя у борта своего корабля, осматривает горизонт, определяет силу ветра, напор волн и затем говорит: «Через два часа будет ураган». Ему хотелось ускорить наступление урагана.
Один из солдат, заметив Марселя, принял его за хозяина, спотыкаясь и улыбаясь подошел к нему и сказал:
— Хорошая водка. Где водка?
У Марселя вырвался жест отвращения. Он мог бы прогнать одним толчком это животное, упившееся вином, разлившее его по земле и все еще не удовлетворенное. Однако он только отодвинулся, вынужденный сдержать свой гнев, и ответил:
— Тебе сейчас дадут водки. Хорошей!
Он подал знак, и тотчас же были выкачены и откупорены две бочки очень крепкой, неочищенной водки.
Солдаты, учуяв запах водки, покинули середину двора, отказавшись приканчивать остатки вина в откупоренных раньше бочках, и столпились у новых бочек, из которых шел опьяняющий запах, щекотавший их ноздри. Эти животные с глотками, прожженными во время похода до Труа самыми разнообразными спиртными напитками, с наслаждением пили неочищенную водку, которой угостил их Марсель, и хмелели от ее одуряющих испарений. Внезапное веселье отразилось на их лицах, овладело их руками и ногами.
Марсель думал: «Одного восхищения моими бочками совершенно недостаточно. Надо, чтобы они опорожнили их, не проливая слишком много на землю. Эти драгоценные запасы мне нечем заменить… Но как сделать, чтобы каждый из них выпил столько, сколько ему нужно, чтобы свалиться с ног и очутиться в нашей власти».
Вдруг его осенила мысль вылить содержимое бочек в две каменные колоды, из которых поили лошадей.
Приказание, отданное тихим голосом, было выполнено в одну минуту.
Солдаты подняли радостный вой, поняв, что этот способ облегчает им возможность отведать напитка, восхитительным запахом которого они наслаждались.
Когда обе колоды были наполнены, Марсель сделал знак, как бы говоря «освободителям»: «Идите… пейте вволю!» Они не замедлили доказать, что поняли его, и через несколько секунд колоды были окружены жадными ртами.
Ночь медленно наступала. Один за другим солдаты отходили от колод. Они не чувствовали особенной жажды и хмель еще не овладел ими. Они плохо держались на ногах, но были настороже; их руки дрожали, но все же еще были в состоянии поражать холодным оружием и нажимать собачку пистолета.
Озабоченный Марсель подумал: «Если водка не свалит их с ног, придется вступить с ними в бой. Тут женщины, дети… Предстоит ужасная схватка с возбужденными разбойниками во дворе шириной и длиной всего в тридцать шагов. Это будет ужасная бойня, ведь они будут защищаться. Что делать?… Придется прибегнуть еще к помощи спирта, ведь это — могущественный союзник».
Марсель приказал достать еще две новых бочки, и в то время как два крестьянина катили это подкрепление к колодам, он обдумывал способ заставить врагов пить снова.
На пороге кухни показался офицер, вздремнувший немного. Он казался ловким и осторожным человеком.
«Черт возьми! — подумал Марсель. — Для него надо придумать другое успокоительное».
Офицер подошел, и Марсель сказал ему:
— Я угощаю ваших людей водкой. Не позволите ли подать и вам графинчик этого напитка; он недурен, несмотря на то, что еще не выдержан.
— Вы — очаровательный хозяин, — ответил офицер, — знайте же, что о вашем отличном приеме будет доведено до сведения моего начальства. Если для вас не составит труда, то я предпочел бы жженку. Я не пью чистой водки.
— Пунш! — воскликнул Марсель. — Сию минуту, будет приготовлено сейчас. Я пойду предложить то же самое вашим людям. О, какая блестящая мысль! — пробормотал он, убегая в кухню, чтобы сделать необходимые распоряжения.
Несколько минут спустя офицер уже находился в приятном обществе горящей чаши сладкого и ароматного пунша. Довольный этим, он захотел чокнуться с Марселем.
На этот раз последний не решился отказаться, чокнулся с врагом и выпил, говоря самому себе: «Обреченным на смерть ни в чем не отказывают».
Потом под предлогом присмотра за угощением, требовавшего его присутствия, он оставил офицера в приятной компании с пуншевой чашей и поспешил вернуться во двор.
Около двери он увидел Жана Соважа, который тихо спросил его:
— Ты приказал снести с сеновала вязанки сена?
— Да. Исполнено ли это? Оно нам сослужит службу.
— Что, это будут постели для этих мерзавцев?
— Горячие постели. Ты увидишь!
— Марсель, ты задумал нечто ужасное! Ты хочешь сжечь живьем этих людей, которые сейчас здесь пьют?
— Теперь война. Я имею полное право поступить таким образом!
— И это говоришь ты, философ, друг мира! Проповедник всеобщего братства, мировой республики!
— Я основываю ее!
— На крови! При помощи огня!
— Все полезное, справедливое, великое достигалось всегда огнем и мечом.
— Конечно, эти негодяи — наши враги, но ведь они только орудие. Виноваты их начальники, их правительство, но не они сами. В данную минуту они ничего не требуют, кроме веселья, выпивки и сна.
— Проснувшись, они станут жестокими и безжалостными. Подумай, Жан, какая судьба постигла бы нас, если бы у меня на ферме не оказалось достаточного количества вина и водки, которые отвлекли их от убийства и грабежа. То, что я делаю, ужасно, но оно необходимо. Я мечтаю о европейской республике и прежде всего должен стараться укрепить ее во Франции.
— Для Наполеона не существует ни республики, ни Франции!
— Наполеон защищает Францию и ведет нас к республике, с меня этого достаточно. Наполеон — выдающаяся, исключительная личность; где найдется» другое такое существо, другая такая воля? Дела приняли теперь неблагоприятный оборот; ему придется измениться, преобразиться. О, он достаточно ловок и умен, чтобы сделать это, и еще раз удивит нас! Так как он не может ослепить нас больше своей славой, он должен дать нам свободу. Он не может отказать нам в тех правах и преимуществах, которые нам, как обетованную землю Моисею, показала революция. Однако нужно очистить Францию от этих чужеземных паразитов, которые губят ее. Эти негодяи, напивающиеся сейчас тут, как ты видишь сам, преграждают нам путь к миру, братству и труду в союзе с прочими европейскими народами. Они не только враги народа, они в то же время враги великой идеи. Они явились во Францию не только для того, чтобы свергнуть Наполеона, но с целью вернуть старый строй, убить свободу и восстановить тиранию.
— Ты прав. Да, мы должны защищаться. Но этот способ защиты ужасен.
— Так нужно! — энергично произнес Марсель. — Я понимаю тебя. Хорошо было бы любить все человечество, но, как ты видишь, для того, чтобы быть гуманным, нужно прежде всего жить, а жизнь основывается и зиждется на смерти. Для того, чтобы жить, приходится убивать. Не правда ли, ведь мы не хотим, чтобы Франция умерла вместе со своей свободой, правдой, знанием, прогрессом, опередившим на целое столетие всех этих пруссаков, русских, австрийцев, суеверных, гнущих спину перед священниками и дворянами. Слушай, Жан Соваж, ты можешь еще уйти. Я знаю одну дорожку за погребом, куда, как ты видел, я поставил бочонок с порохом; она выведет тебя в чистое поле, а оттуда лесом ты можешь добраться до своей деревни. Решайся же! Я начну действовать. Час настал. Уходишь ли ты?
— Я остаюсь! — ответил Жан Соваж.
— Хорошо! — просто сказал Марсель. — Тогда поди отдай приказание нашим людям. Пусть все бросятся во двор, как только я подам сигнал свистком.
Жан Соваж угрюмо удалился; он понимал, что Марсель прав, но в глубине его души таился протест против избиения людей, захваченных беззащитными.
Марсель вышел во двор. Зрелище было ужасным и в то же время смешным. Царила глубокая, темная ночь. Двор и постройки фермы были озарены бледным фантастическим светом. Колеблющееся пламя, вырывавшееся как будто из кратера вулкана, отбрасывало то синевато-бледные, то красные тени. Это был спирт, налитый по приказанию Марселя в колоды и затем подожженный.
Два полуголых солдата, сбросив на землю шинели и шапки, помешивали пылающую жидкость большими лопатами, взятыми из навозной кучи. В это же время другие, озаренные фантастическим светом горящего спирта, бегали, прыгали, танцевали, испуская дикие крики.
Вдруг пламя с треском погасло и воцарился мрак. У колод началась толкотня, послышались восклицания боли; это слишком поторопившиеся пьяницы обожглись горячей жидкостью.
Марсель наблюдал конец разгула и считал минуты, ожидая удобного момента, чтобы закончить праздник так, как он сказал Жану Соважу.
Мало-помалу вокруг колод стало свободнее, бормотанье сделалось более глухим. Пьяные «освободители», потерявшие сознание, лежали в беспорядке кучами, как груды мертвых тел.
Фонарь, привешенный Марселем у дверей кухни, освещал печальным светом это бескровное побоище. Марсель поднес к губам свисток, два пронзительных звука прорезали воздух, нарушая тишину ночи.
Тотчас же из амбаров, чердаков, хлевов, сеновалов и комнат появились прятавшиеся там крестьяне; они приближались медленно, осторожно, с беспокойством, как бы опасаясь внезапного воскрешения лежавших на земле еще теплых тел.
Марсель снял фонарь. Он ходил с пистолетом в руках, освещая это живое кладбище, шагал между телами и указывал каждому крестьянину того солдата, которого он должен был схватить и связать.
Окончив свой зловещий смотр, он поднял фонарь и направил его колеблющийся свет в один из углов двора.
— К колодцу! — крикнул он.
Дрожь пробежала по рядам крестьян, присевших у распростертых перед ними тел и подобно могильщикам приготовившихся укладывать трупы в гробы.
Марсель собирался подать сигнал уносить мертвецки пьяных «освободителей», когда страшный крик заставил его направить свет фонаря на порог кухни.
Внезапно проснувшийся офицер, находившийся еще во власти дремоты и хмеля, неверными шагами вышел на порог кухни, пробужденный от тяжелого сна или кошмара. Он смутно сознавал ужасную действительность и держал в руках пистолеты.
В этот момент возле него появился крестьянин с вилами в руках. Офицер машинально выстрелил в него из обоих пистолетов, но в ту же минуту сам как-то нелепо подскочил, взмахнул руками, выпустил пистолеты и упал на землю. Вилы крестьянина пронзили ему грудь, пробили сердце, и смерть наступила мгновенно.
Марсель поспешно обернулся к мрачной опочивальне «свободителей». Ни один из них даже не шевельнулся; два выстрела не могли нарушить их тяжелый сон.
— К колодцу! — снова крикнул он. — Живо все к колодцу!
Он собирался снова приступить со своими людьми к ужасной работе, как вдруг глухой стон поблизости заставил его остановиться. Крестьянин, только что так храбро действовавший своими вилами, лежал на земле весь в крови.
— Это ты, бедный Матье? — сказал Марсель, узнавший раненого. — Куда ты ранен?
— Ничего. Он метил слишком низко, — ответил Матье. — Я думаю, однако, что мне больше не износить ни одной пары сапог. Но голова еще крепка. Все равно, я блестяще сделал свое дело. Он даже охнуть не успел.
— Не хочешь ли ты пить? Не нужно ли тебе чего-нибудь?
— Нет, спасибо, я только хочу спать.
— Тебя перенесут на постель.
Марсель подозвал двух крестьян, те подбежали и подняли раненого.
Матье сказал жалобным голосом:
— Ах, я получил свое, оставьте меня там… у стены. Идите к колодцу. Негодяи могут прийти в себя.
Его перенесли в комнату нижнего этажа возле кухни.
— Я сейчас вернусь, мой добрый Матье, — сказал Марсель, — я могу понадобиться там.
— Идите, идите. Я жалею, что не могу пожать руки моих товарищей. Я с удовольствием бросил бы в колодец моего солдата.
Марсель ушел.
Крестьяне приступили к своей печальной работе. Одного за другим, осторожно, они переносили сонных, беспомощных, одурманенных солдат к краю колодца. Затем четыре дюжих руки поднимали их, как куль соломы, раскачивали одно мгновение и сбрасывали в колодец.
В течение всего путешествия к колодцу и от него, во время перенесения этих полутрупов, никто из мертвецки пьяных солдат не проснулся, не оказал сопротивления, не пришел в сознание; чувство страшной опасности из-за опьянения совершенно отсутствовало. Хмель не только отнял рассудок, но и убил всякую чувствительность. Не слышно было ни криков, ни жалоб. Лишь то там, то здесь слышались глухое ворчание или хриплый голос, произносивший почти неразборчиво: «Водки», иногда замечалось движение рук, как бы в кошмарном сне. Затем безмолвие сковало эти рты и пьяная икота сменилась хрипом предсмертной агонии.
Колодец мало-помалу наполнялся. Первые тела падали в воду с громким плеском, а затем звук падения стал глухим, — тела, нагроможденные грудой, скрадывали его.
Двор быстро опустел; стало тихо, никто не кричал, не шевелился, не двигался.
Марсель ходил с фонарем по всему пространству, где еще так недавно спали «освободители», и осматривал опустевший вдруг фантастический лагерь, где мог оказаться еще уцелевший пьяница. Однако кроме шапок, доломанов, сабель, перевязей и патронташей там ничего не оказалось. Марсель приказал бросить в колодец, наполовину наполненный, эти остатки, так как они могли бы послужить уликой в случае неожиданного прибытия других солдат коалиции.
Затем он наклонился над отверстием странного гроба.
Он увидел темную, бесформенную груду, в которой там и сям блестели галуны, шнуры, медные бляхи, пуговицы.
Зловонные испарения, напоминающие зараженное дыхание пьяниц, поднимались из этой могилы.
Из глубины колодца стали доноситься стоны, оханье, вздохи, зевота, жалобы. В колодце ощущалось совершенно явственное движение, похожее на возню крыс под полом или на шорох потревоженного муравейника. Вода в колодце от тяжести тел начала понемногу подниматься, смачивая одежду, головы, руки, ноги, постепенно заливая груду человеческих тел. В то же время чувство холода привело в себя, заставило очнуться сброшенных бесчувственных пьяниц.
Марсель с ужасом отпрянул от колодца. Он не решался отдать безжалостное приказание.
Между тем нужно было действовать. Если бы он стал медлить, некоторые из этих несчастных, оцепеневшие от ужаса при пробуждении, могли прийти в себя, выбраться из колодца и с саблями и пистолетами в руках отомстить за своих товарищей, обреченных на гибель. Шум схватки мог бы привлечь внимание многочисленных отрядов русских и пруссаков, разъезжавших по равнине и стоявших лагерем на опушке леса. В эту трагическую минуту чувства самосохранения, высшего патриотизма, необходимость спасти всех людей, находившихся на ферме, требовали от Марселя неумолимости и свирепости. Чувство жалости исчезает, и совесть молчит в такие минуты.
Твердым голосом, указывая на стоявший неподалеку стог, он крикнул крестьянам.
— Солому, бросайте солому и землю.
Он удалился удрученный, как бы пристыженный этим жестоким мщением, разыскал Жана Соважа, стоявшего задумчиво, опершись на ружье, и сказал ему, указывая на Ужасных фуражиров, бросавших охапки в колодец:
— Как это ужасно, не правда ли?
Я предпочел бы пристрелить из ружья этих негодяев, — ответил крестьянин.
Оба отвернулись, подавленные, ожидая конца зловещих похорон.
Вдруг крестьяне отступили назад, опустив вилы, лопаты и грабли.
Высокий сноп яркого пламени вырвался из колодца.
Пламя то вспыхивало, то угасало, как огненный фонтан, и туча густого дыма заволокла двор. Из пылающей соломы понеслись глухие, жалобные, раздирающие душу вопли, какие-то нечленораздельные звуки.
— Земли, побольше земли! — приказал Марсель.
Земля посыпалась в эту могилу, где вода и огонь соединились, чтобы погубить заживо погребенных. Она покрывала все саваном молчания, вечной ночи, мира и забвения.
Ночной мрак между тем начал рассеиваться: на востоке протянулись большие серые полосы, звезды стали меркнуть; в ближайших к ферме строениях запели петухи, зазвучали веселые рожки, возвещая наступление утренней зари.
Марсель вошел в свою комнату и, вооружившись зрительной трубой, стал осматривать горизонт.
На краю равнины, у реки Обь, он заметил неприятельский лагерь, снимавшийся с места стоянки. Войска, ночевавшие там, пришли в движение. Они собирались, вероятно, направиться к ферме «Божья слава». Двигался уже не авангард, а вся силезская армия. Нечего было и думать о сопротивлении.
Марсель скомандовал отступление. Условились направиться к Торси.
В последнюю минуту, когда все защитники фермы, женщины и дети двинулись по тропинке, которая вела в лес, Марсель разыскал Матье, неподвижно лежавшего и стонавшего на постели, куда его перенесли.
— Мы хотели и тебя увезти с собой, бедный Матье, но ты вряд ли перенесешь трудности дороги. Будем надеяться, что те, которые тебя найдут, будут сострадательны, позаботятся о тебе, поместят тебя в госпиталь.
Матье поднял голову.
— Они не пощадят меня. Идите, — сказал он и, указывая на колодец, добавил: — Они заставят меня расплатиться за других. Ба! Я могу также принять участие в празднике. Оставьте меня. Но прежде я попрошу вас о большом одолжении. Сведите меня в погреб, туда, где стоит бочонок с порохом.
— Что ты хочешь сделать?
— Вы увидите или, правильнее говоря, услышите. У меня в голове родилась мысль. Но для этого оставьте мне зажженную свечу.
— Ты сошел с ума? Ты хочешь взорваться? Будь благоразумен. Я должен спасаться, и если бы меня взяли в плен вместе с тобой, то это не спасло бы тебе жизни, а скорее они пощадят, без сомнения, раненого, в то время как я здоровый и находящийся под подозрением, не мог бы ожидать того же. Матье, я надеюсь снова увидеть тебя вылеченным, хорошо чувствующим себя. Наполеон неподалеку, быть может, дня через два здесь загремят пушки, и все мы будем освобождены.
Марсель пожал руку смелого крестьянина, торопливо вышел из фермы и присоединился к беглецам, направлявшимся к Торси.
Когда маленький отряд миновал деревеньку и добрался до большой дороги, оглушительный взрыв потряс воздух.
Все остановились в испуге.
— Это взлетела на воздух моя ферма, — сказал Марсель Жану Соважу, которого он посвятил в замысел Матье.
Упрямый, решивший похоронить себя под развалинами фермы крестьянин дотащился до погреба, где стоял бочонок с порохом, и в то время, когда пруссаки шумно наводнили покинутые строения фермы и, удивляясь ее пустынности, стали разыскивать живых людей, Матье собрал все свои силы, сполз в склеп и, пожертвовав своей жизнью, поджег приготовленный фитиль.
Взобравшись на небольшой холмик близ дороги, откуда сквозь деревья можно было видеть ферму, оба предводителя крестьянского отряда увидели с него лишь равнину, чернеющую солдатами, и среди развалин фермы сероватую струйку дыма, поднимавшуюся от колодца.
XII
На ферме в Торси мать Жана Соважа хлопотала по хозяйству. Трудолюбивая, очень проворная, несмотря на свои почти шестьдесят лет, она с уже давно избороздившими лицо морщинами, с кожей, сожженной солнцем, покрасневшей от восточных ветров, казалась все-таки старше своего возраста.
Раздавая корм домашней птице, она все время обращалась к своей снохе Огюстине, которая готовила полдник для двух юнцов, ожидавших его с аппетитом. Это были сын Сигэ и сын Жана Соважа.
— Я ничего не слышу, — ворчала старуха, качая головой, — а ты, Огюстина? Да послушай же хоть немножко!
Тогда Огюстина дергала почернелый крюк для котла, отодвигала чугун, кипевший на просторном очаге, раскаленном топившимися дровами, и выходила со двора. Дойдя до изгороди, отделявшей большую дорогу, она с неподвижным лицом беспокойно прислушивалась в направлении к Арси. Оба юнца, не двигаясь, с разинутыми ртами следили за ней, явно заинтересованные. Прождав несколько минут, Огюстина возвращалась к своей кухне.
— Пушек не слышно, — говорила она, — верно, это будет не сегодня… — И она покорно принималась за свое дело, резала ломти хлеба для супа, приговаривая со вздохом: — Что-то делает теперь мой муж? А что если с ним случится несчастье? О, мой бедный Жан! Он такой храбрый! Такой неосторожный!
Старуха продолжала молча наделять пищей население птичника, повторяя каждый раз, как ей приходилось останавливаться, чтобы набрать из ящика новую пригоршню овса:
— Ах, если бы Наполеон был здесь! Это было бы спасением!
Утро прошло без тревоги. Около двух часов обе женщины были испуганы криками, донесшимися из деревни, смутным говором многих голосов и раздавшимся вдали топотом конских копыт. Послышались неясные восклицания:
— Вот они! Это они!
— Казаки! Спасайтесь! — закричала Огюстина.
Она поспешно схватила обоих детей и обняла их, словно хотела защитить от пик всадников, вторгшихся в деревню.
— Это не казаки. Прислушайся-ка, дочка! — сказала старуха, и ее лицо озарилось мстительной радостью. — Разве не слышишь! Кричат: «Да здравствует император!» Это он! Это Наполеон! Он идет к нам на помощь! О, теперь-то уймут наших врагов.
Земля гудела от лошадиного топота. Всадники приближались. Изумленная Огюстина стояла на пороге; старуха неподвижно остановилась посреди двора, окруженная птицами, отнимавшими друг у друга зерна, и словно в экстазе прислушивалась к все приближавшимся ритмическим звукам скачущей конницы, гордясь верностью своего слуха.
«Только бы мне удалось увидеть Наполеона», — думала она.
Мальчики, уже не испытывавшие страха, бросились на двор и повисли на перекладинах плетня. Вдруг они закричали:
— Это он! Это он! Он идет сюда!
И, соскочив со своего наблюдательного пункта, они быстро вынули доску из подворотни, открыли ворота и вытянулись рядом с ними, как на карауле, приложив руки к шапкам, как делали это на их глазах солдаты при встрече с начальством на большой Трауской дороге, на этом пути стольких армий — дружеских и вражеских.
Среди бряцанья оружия, топота скакавших и быстро осаживаемых лошадей появился Наполеон и сказал, указывая на ферму:
— Войдем сюда!
Мамелюк Рустан выехал вперед и взял поводья серой лошади, на которой ехал император. На Наполеоне был его традиционный костюм дней славы — форма полковника стрелкового полка, а именно: серый редингот и маленькая шляпа. За ним следовало несколько офицеров, небольшой эскорт из стрелков и один генерал — Себастьяни, а на некотором расстоянии, отдавая приказания полуэскадрону польских улан, которым поручалась охрана фермы, намеченной Наполеоном для своей главной квартиры и, вероятно, для ночлега, остановился славный маршал Франции Лефевр, герцог Данцигский, командовавший старой гвардией.
Эскорт и офицеры остались на улице и занялись поиском квартир у жителей деревни. Наполеон, маршал Лефевр, генерал Себастьяни и адъютанты сошли с коней и остались на дворе фермы. С обеих сторон изгороди были расставлены часовые.
Наполеон вошел в кухню в своей обычной резкой манере: он везде чувствовал себя, как дома.
— Я сегодня ночую у вас, матушка, — сказал он старухе. — О, не беспокойтесь! Я не взыскателен! — Он толкнул дверь и, заглянув в комнату Жана Соважа с безукоризненно чистой постелью, прибавил: — Здесь я буду спать! Есть у вас лишний тюфяк? Бросьте его вот там на полу, поперек двери, это для Рустана.
И он указал на своего мамелюка, тюрбан которого, украшенный султаном, пышные шаровары, кривая сабля и пистолеты с резными ручками привели в совершенное недоумение обоих мальчиков.
Выбрав таким образом себе помещение, Наполеон обернулся к Огюстине, которая, дрожа, ожидала его приказаний.
— Вы дочь этой храброй старушки? Замужем? Это ваши дети? Где ваш муж? — быстро спросил он.
Огюстина ответила:
— Мой муж, Жан Соваж, ушел сегодня… с другими здешними… в сторону Торси, они там, на ферме «Божья слава». Утром говорили, что там неприятель.
— Папа взял с собой ружье, — сказал старший из мальчиков, храбро выступая вперед, — чтобы убивать врагов.
— Он сказал, что принесет нам пики и меховые шапки и повесит их над камином, — прибавил второй мальчик, вовсе не желавший позволить брату одному завладеть рассказом об отцовских подвигах.
— Вижу, что все вы храбрые люди и добрые французы, — сказал император, — и что случай благоприятствовал мне, приведя меня к вам. А теперь скорее поставьте мне стол тут, на кухне!
— Ваше величество, вы желаете кушать? — робко спросила Огюстина. — У нас ведь почти ничего нет.
И она смущенно указала на котелок, кипевший на огне.
— Стол! Сперва стол! — возразил император. — Мы поедим позднее. Теперь же главное — поколотить казаков Шварценберга и помешать пруссакам Блюхера съесть вашу похлебку, которая, судя по запаху, должна быть великолепна. Я очень скоро окажу ей должную честь, но в данный момент есть вещи поважнее.
Адъютант и Рустан поставили посреди кухни стол, на котором тотчас же была развернута карта. Наполеон нагнулся над нею и, водя пальцем по Обской дороге, казалось, намечал маршрут.
— Еще не все потеряно! — прошептал он и, обернувшись к Лефевру, молчаливому и неподвижному, так же, как и Себастьяни, прибавил: — Какие новости, герцог?
— Дурные, ваше величество! Наполеон пожал плечами.
— Черт возьми! И ты туда же, мой старый солдат! И ты как другие! И тебе надоела война? Ты хотел бы погреть пятки у своего камелька, приласкать свою добрую жену, эту превосходную Сан-Жень?
— Правду сказать, ваше величество, я предпочел бы в эту минуту предложить вам гостеприимство в моем замке Комбо и видеть, как вы будете сердить мою старую Катрин, которая вас любит по-прежнему, даже, может быть, больше, с тех пор…
— Что же ты остановился? Почему? — спросил Наполеон, забавляясь смущением своего старого боевого товарища, который внезапно прикусил язык.
— Я, кажется, собирался сказать глупость.
— Ба! Для тебя это не новость. Да и для меня также Ты хотел сказать, что ты и твоя жена — вы оба больше привязались ко мне с тех пор, как судьба стала меньше баловать вашего императора? Я понимаю тебя! Но успокойся: судьба снова переменится. Я заставлю ее перемениться! W вот где! — И сильно нажав пальцем карту, Наполеон указал на ней точку, которую Лефевр с Себастьяни, стоявшие на некотором расстоянии от стола, не могли различить, но которая показалась им отдаленной от места сосредоточения войск и гораздо севернее.
Оба генерала промолчали. Они по-прежнему любили своего государя, но уже не верили в его звезду.
— Слушайте, — сказал Наполеон. — Вы знаете, что па Щатийонском конгрессе все мои попытки потерпели неудачу; все мои предложения с целью добиться мира были отвергнуты. Герцог Виченцский от моего имени соглашался на все, даже на унижения, на которые я был готов, чтобы избавить мою страну от дальнейших страданий; но союзники держались своего плана — выиграть время и дождаться моего поражения. Себастьяни, вы знаете, что из этого вышло?
— Ваше величество, поражение генерала Сен-При, взятие Реймса и ваше вступление в Эпернэ при криках освобожденного населения смутили императора Александра и его советников, как я уже вам докладывал; союзники в беспорядке отступили к Труа. После этого можно было надеяться, что переговоры будут наконец доведены до конца.
— Александр, — сказал Наполеон, иронически поджимая тонкие губы, — всякий раз, как мои солдаты переходили в наступление, начинал снова чувствовать ко мне свою дружбу, но тотчас становился опять надменен и неумолим, стремясь наказать Францию за то, что веду ее я, сын революции, — как только поток моих побед приостанавливался, подавая ему надежду… Так что известие о его поспешном бегстве, которое ты сообщил мне, Лефевр, могло показаться вполне точным. Ах, я ошибся! Я думал, что наконец наступит мир!
— Ваше величество, мои сведения были вполне точны, — печально возразил маршал, понимавший важность минуты. — Среди ночи третьего дня император Александр послал к князю Шварценбергу нарочного с приказанием немедленно отправить в Шатийон курьера: мир должен был быть подписан на условиях, предложенных французским Уполномоченным. Император австрийский при известии о вашем приближении тотчас приказал уложить багаж и бежал к Дижону с одним лишь офицером и с камердинером.
— Какое, однако, впечатление производит мое появление на моего тестя! — с улыбкой сказал Наполеон. — Я всегда подозревал, что у Франца не развиты семейные чувства. Но эти известия, такие точные еще вчера утром, сегодня уже не таковы. Скажите, Себастьяни, все, что вы знаете!
— Император Александр, отдав приказ подписать перемирие и предварительные условия мира, вполне приемлемые для герцога Вичеицского, действовавшего от вашего имени, наутро переменил свое решение. Созвав военный совет, он объявил, что, стоя во главе двух могущественных армий, он устал постоянно отступать перед горстью людей… перед детьми, поставленными в строй, как он назвал наше войско.
— Ах да! Он подразумевал тех шестнадцатилетних волонтеров, тех маленьких героев, которые носят имя моей дорогой жены. История, конечно, назовет настоящим именем этих юношей. Продолжайте, Себастьяни!
— Итак, император Александр послал нового курьера вдогонку тому, который был отправлен в Шатийон ночью, приказал отклонить все предложения герцога Виченцского и решил закрыть Шатийонский конгресс. Вот каково положение дел, ваше величество!
— Имеете вы какое-нибудь понятие о мотиве, о тайной причине, так резко повлиявшей на императора Александра и заставившей его переменить решение, и вместо мира, на который он уже соглашался, снова ухватиться за войну?
Оба генерала переглянулись, но промолчали. Наполеон, украдкой наблюдавший за ними, быстро подошел к Лефевру, взял его за пуговицу мундира и сказал:
— Ты что-то знаешь, а?
— Я?! — воскликнул смущенный Лефевр. — Я… думал было сначала… но ведь это только мнение старого солдата. Это не имеет оснований. Я полагал или, если хотите, вообразил, что император Александр после отправки первого курьера в Шатийон получил известие из Парижа, что в его руках оказался посланец с важными депешами на имя вашего величества от императрицы, короля Жозефа, министров.
— Это возможно! Да, это так! Это верно! — раз за разом произнес Наполеон, меряя быстрыми шагами кухню Соважа; казалось, он с решимостью отчаяния взвешивал случайности, могущие произойти от соглашения союзников, на которое указывал Лефевр. Остановившись после беготни по комнате, он отрывистым голосом уронил слова, доказывавшие, насколько он был подавлен этим предположением: — Да, вы правы: несчастный курьер был схвачен, может быть, убит. Наверное ограблен… и в настоящую минуту враги владеют моими планами.
— В таком случае, — сказал Лефевр, — вы, ваше величество, отказываетесь от движения на восток и от намерения, предоставив Шварценбергу соединиться с Блюхером и идти на Париж, двигаться самим на север и уже там присоединиться к парижанам? Мы, значит, вернемся в Париж?
— Ни от чего я не отказываюсь! — гневно воскликнул император. — Что мне Париж! Мне нужно, чтобы он продержался десять дней. Ну, двенадцать дней — самое большее. И он продержится! В этом я убежден! Я верю в моих буйных парижан: у них беспокойные головы, но великодушные сердца. Все, кто меня любит, отдадут за меня свою жизнь; те, кто осуждают меня за войны, за рекрутские наборы, за налоги, за… мое самовластие, все-таки предпочтут меня англичанину Веллингтону, пруссаку Блюхеру, русскому Беннигсену, австрийцу Шварценбергу. Те, которые меня ненавидят, не осмелятся интриговать заодно с иноземцами против своего собственного отечества и предать свой город англичанам. Я больше чем когда-нибудь настаиваю на своем намерении идти на восток, и там-то я поймаю, раздавлю обе армии — силезскую и богемскую!
И он указал на карте обширную Шалонскую равнину, куда, разумеется, бросятся союзники, изумленные и испуганные его отступлением на восток, возможностью преграждения им пути к отступлению на родину.
Снова принявшись задумчиво ходить вокруг стола, Наполеон вдруг обратился к Лефевру:
— Как ты думаешь, не убили ли они храброго полковника Анрио, моего посланца к императрице?
Маршал сделал жест, как бы говоривший: «Они на это способны, эти злодеи казаки!» — и с волнением ответил:
— Ваше величество, я люблю Анрио как родного сына. Моя жена вырастила его. Я сам рекомендовал его вам для таких поручений как человека, достойного доверия. Меня страшно пугает мысль, что не только он сам погиб в какой-нибудь засаде, но что неприятель захватил также секретные бумаги вашего величества.
— Важные секретные бумаги! Мое движение на восток, о котором я сообщал императрице, теперь, конечно, уже известно неприятелю, и вот чем объясняется передвижение неприятельских войск, замеченное нами сегодня утром, в направлении Арси. О, это ужасная неосторожность!
— Государь, Анрио, наверное, сделал все возможное, чтобы уйти от них.
— Я обвиняю не его, а судьбу и самого себя. С некоторых пор все против меня. Да я и сам во многом виноват. Ах, зачем мы обращаем внимание на мнение женщин, на то, что они думают, на то, о чем они хнычут! Очень мне нужно было уведомлять императрицу о… моих намерениях!
И в порыве гнева Наполеон схватил с поставца тарелку и, швырнув ее об пол, разбил.
Оба генерала, подавленные этой вспышкой гнева, молчали.
Наполеон казался столь же угнетенным, сколь взбешенным от одной мысли, что секрет его смелого маневра — движения к северным крепостям — известен теперь Шварценбергу и Блюхеру.
Разбив тарелку, он несколько успокоился и, сев верхом на стул, в своей обычной позе, то есть прислонившись спиной к столу, сложив на спинке стула руки и опустив на них подбородок, впал в глубокую задумчивость. Его неподвижные зрачки, казалось, были устремлены на что-то яркое, видимое лишь ему одному. Может быть, в окружающем его» мраке он искал свою звезду, уже померкшую, уже почти обратившуюся в туманное пятно?
В этом состоянии экстаза мыслей и чувств Наполеон видел самого себя, читал в своей душе, как в раскрытой книге: факты, гипотезы, события, случайности, удачи и неудачи — рисовались перед ним непрерывной чередой. Он все предвидел, и ничто не могло поразить его, захватить врасплох: но как врач, изучающий свой собственный организм и видящий следы болезни, определяет воспаления, засорения и т. д., но избегает логических выводов, чтобы не выйти из границ успокоительного оптимизма, так и Наполеон обходил опасности и препятствия, которые открывал ему его гений. Он не хотел считаться с точными данными, которыми снабжали его замечательное знание людей и изумительное, бессознательное понимание вещей. Поэтому он отгонял от себя призрак измены, который упорно рисовала ему мысль; поэтому же, взвешивая досадный факт захвата неприятелем его тайного плана, он старался в своих соображениях обойти все те препятствия, которые вносили в его расчеты эти два фактора. Он мечтал еще раз овладеть счастьем, еще раз сделать его своим послушным слугой.
Он не отказался ни от одного из своих проектов и как отчаянный игрок стремился поставить последнюю карту вопреки полосе упорного несчастья, тогда как его противники подбирали козыри.
Он резким движением поднял голову и сказал генералам, внимательно следившим за немой работой его мысли и спрашивавшим себя, к какому внезапному, гениальному, неотразимому решению она приведет его:
— Если неприятелю известен мой план, как все заставляет меня предполагать; если он захватил моего курьера и завладел письмами императрицы, заключавшими, конечно, важные известия. Ну, что ж, господа! Тогда нас завтра атакуют между Сеной и Об. Придется дать сражение. Может быть, оно и лучше! Этот враг, без конца отступающий и уклоняющийся от битвы, может быть, перейдет к решительным действиям. Воспрепятствовать этому я не могу! Такова судьба! Я хотел бы задержать решительный удар, но как избежать его? Господа, приготовимся к битве! Завтра здесь, без сомнения, загрохочут пушки. Себастьяни, вы прикажете войскам отходить к Труа; ты, Лефевр, займешься переправой через Об. Завтрашний день будет, может быть, великим для Франции!
И Наполеон сделал знак генералам удалиться. Он хотел поесть и отдохнуть несколько часов. Он снова стал спокоен, он улыбался и на прояснившемся лице опять засияла его всегдашняя самоуверенность.
XIII
С помощью Рустана Огюстина с матерью подала Наполеону скромный обед, состоявший из яичницы, поджаренной ветчины, цыпленка, салата, сухих орехов с вареньем и легкого местного вина.
Наполеон, как всегда, ел быстро, не произнося ни слова.
Каждый раз как женщины выходили за кушаньем или за чистыми тарелками, оба мальчика из своей засады с любопытством наблюдали, как ест великий человек. К концу обеда Наполеон позвал их к себе, расспросил, сколько им лет, умеют ли они читать, любят ли играть в солдаты, очень ли сильно ненавидят казаков, потом дал им по золотой монете и отпустил, ущипнув предварительно каждого за ухо, что доказывало удовольствие, с которым он выслушал их ответы.
Когда обед был кончен, старушка взяла стакан, из которого пил император, спрятала его в буфет не вытирая и с чувством сказала:
— Я навсегда сохраню его. После моей смерти он перейдет к моим детям, и на посиделках все будут говорить: «Император пил у нее вино, и она сберегла его стакан».
Тронутый император встал и крепко пожал ее руку.
— В добрый час!
Потом усевшись перед огнем, в который подбросили связку хвороста, он заснул спокойным, глубоким сном. Ему спилось столкновение с неприятельской армией; он слышал топот кавалерии и пушечные выстрелы. Небо еще раз увенчало его победой. Он изгонял неприятеля из Франции и с торжеством вступал в ликующий Париж. Но среди этих причудливых сновидений он все время ясно различал два обожаемых существа: белокурую, привлекательную женщину с розовым лицом, улыбавшуюся ему от колыбели, в которой покоилось дитя с кудрявыми волосами.
Легкий шум разбудил его. Он встрепенулся.
— Что там такое? — крикнул он. — Не беспокойте меня! На пороге показался Рустан, спавший поперек двери.
— Ваше величество, курьер из Парижа непременно хочет говорить с вами.
— Скорей, скорее позовите его!
Вслед за мамелюком вошел, с трудом передвигая затекшие ноги, штабной офицер, весь покрытый пылью и, видимо, крайне утомленный. У императора вырвался радостный крик.
— Анрио! Это мой молодец Анрио! Значит, на вас дорогой не напали?
— Нет, ваше величество, мне удалось счастливо исполнить поручение, которое вы доверили мне.
— А Себастьяни и Лефевр думали, что на вас напали, убили, ограбили! Они уверяли, что содержание ваших депеш стало известно неприятелю. Давайте скорее письма) ведь письма, конечно, есть? Видели вы императрицу? Здорова она? И сын мой здоров?
Анрио покраснел. Зная, что император не любил, чтобы женщины вмешивались в его дела, он не смел признаться, что сносился с императрицей через посредство Алисы; поэтому он ограничился уклончивым ответом:
— Их величества в добром здравии. Вот ответ ее величества императрицы.
И он подал письмо, написанное в ресторанчике Латюиля под диктовку Нейпперга. В нем Мария Луиза, преувеличивая действительное настроение парижан, не скрывала, что следовало ожидать революции, если император не поспешит вернуться с победой; народ устал от войны, У союзников в Париже большая партия сторонников, которые примут неприятеля с радостью и беспрепятственно, впустят его в город.
— Милая Луиза! Как она тревожится! Но она преувеличивает серьезность положения! Черт возьми! Она хочет заставить меня поскорее вернуться к ней! Как она любит меня! — прошептал растроганный Наполеон, быстро поднося письмо к губам, а потом, устыдившись своей слабости, стал расспрашивать Анрио о его путешествии и об отрядах, которые встречались ему по дороге.
— Итак, вас никто не тревожил на обратном пути из Парижа?
— Никто, ваше величество! Мне посчастливилось: дороги оказались свободны.
«Значит, неприятелю совершенно неизвестны наши планы! — с удовольствием подумал Наполеон. — И я могу начать свое большое движение на север и на восток. Не подозревая истинных моих намерений, неприятель бросится за мной. Столица будет в безопасности… Если какие-нибудь отдельные корпусы и совершат диверсию на Париж, мои храбрые национальные гвардейцы сумеют оказать им должное сопротивление. С ними императрица и мой сын будут в безопасности. Мой приказ об отступлении к Луаре в случае серьезной опасности теперь не нужен. Выражения, в каких мне отвечает моя дорогая Луиза, не допускают в этом смысле никакого сомнения. Она останется в Париже в ожидании моих побед и… моего возвращения! Еще несколько дней, даже почти несколько часов, и я нанесу коалиции страшный удар, от которого ей не оправиться!»
— Я доволен вами, полковник! — обратился Наполеон к Анрио, потирая руки. — Ступайте, отдохните, вы, вероятно, очень устали. Я непременно передам маршалу Лефевру, как я доволен и привезенными известиями, и тем, как было исполнено мое поручение.
Анрио удалился, искренне радуясь, что оказал императору такую услугу, а Наполеон, отдохнувший, бодрый, свежий, с прояснившимся лицом, склонился над картой и занялся составлением окончательного плана кампании.
Тщательно обдумав положение дел, император вскоре приказал Рустану позвать к нему Себастьяни и Лефевра. Разбуженные среди ночи генералы не без удивления выслушали приказания, продиктованные им Наполеоном.
Маршалы Удино и Макдональд должны были спешить к нему по правому берегу реки Оба и соединиться с ним в Арси; Ней должен был двигаться к Арси по правому берегу, а Фриан — по левому. Маршалы Мортье и Мармон, стоявшие в Реймсе, должны были через Шалон идти на соединение с ним. Сам же Наполеон с гвардейской кавалерией и с ожидавшимися из Парижа подкреплениями под начальством Лефевра-Депуэтт, направлялся на Арси, который должен был сделаться центром большого движения; оттуда он перебросит свои силы на Витри, Сен-Дизье, Бар-ле-Дюк.
Отдав эти распоряжения, Наполеон опять сел за работу, изучая карту, справляясь о положении каждого корпуса, отдавая себе ясный отчет во всех мельчайших деталях, касавшихся маленькой армии, с которой о. ч предполагал выполнить грандиозный план увлечения за собой вторгшегося в страну неприятеля, его поражения в Лотарингии, затем перенесения войны в Германию; отступление союзникам будет отрезано, и он будет грозить одновременно и Берлину, и Вене! Не будь измены, план осуществился бы, Франция была бы освобождена, а коалиция распалась бы, и императору Александру пришлось бы возвращаться в Петербург с большими затруднениями, окольными путями, через Голландию и Северное море.
На рассвете Наполеон, напутствуемый пожеланиями Огюстины и ее матери, покинул Торсийскую равнину. Прежде чем сесть на коня, он подозвал старуху.
— Подойдите, добрая хозяйка! — сказал император и, запечатлев на морщинистой щеке крепкий сыновний поцелуй, повторил одобрительные слова, сказанные им накануне: — В добрый час!
Потом он уехал, направляясь на восток, показав, как он говорил, спину неприятелю и Парижу. Столица Франции отныне сделалась западней для императора.
Союзники узнали о письме Марии Луизы одновременно с Наполеоном. Барон де Витролль, выехавший по следам Анрио, почти одновременно с его прибытием в Торси достиг главной квартиры в Арси, и копия с письма Наполеона, содержавшего проект движения на восток, там была получена в одно время с письмом императрицы. Лицо Александра при известии об этом озарилось выражением торжества. Наконец-то! Теперь он сразит великого воина, всегда производившего на него впечатление якобинца, рубившего головы дворянам, низвергавшего королей с их тронов и организовавшего восстания народных масс против их законных правителей. Его пугали звуки набата по деревням, массами восстающие крестьяне — в Барруа, Лотарингии, Шампани. Он торопился покончить с этим страшным человеком, которому прежде льстил; он надеялся окончательно раздавить его как опаснейшего врага монархов и их верховных прав. На этот раз судьба предавала Наполеона в его руки: не подозревая, что его план открыт, император французов будет продолжать свое смелое движение на восток; ему предоставят удаляться от Парижа и воображать, что его преследуют; в результате в распоряжении коалиционных войск окажутся два-три свободных дня, они двинутся на Париж и добьются сдачи последнего.
Решение императора Александра было принято. Он вызвал Шварценберга, сообщил ему только что полученные важные известия и спросил, намерен ли он по-прежнему отступать или уже пришло время идти на Париж. Шварценберг дал императору понять, что прикажет идти на столицу, но с большим пониманием дела и с решимостью — у него весьма редкой — принял все меры, чтобы на следующий же день атаковать Наполеона, желая, чтобы сражение еще более удалило его от Парижа. После победы, на которую он надеялся, путь к столице будет открыт.
Шварценберг откланялся, не сообщив императору Александру своего проекта завтрашней битвы, и утром император, услышав пушечную пальбу, был недоволен и встревожен начавшимся наступлением, которого не предвидел и которое являлось крайне выгодным для его союзников. Честь этого движения всецело принадлежит Шварценбергу, великолепно оценившему всю важность нападения на Наполеона еще до использования захваченных секретных сведений: парижане еще более потеряют веру в прибытие Наполеона на помощь им, и битва на берегах реки Оба, каков бы ни был ее исход, послужит интересам союзников на берегах Сены. Шварценберг имел тем более причину завязать бой, что располагал 90 000 войска, тогда как у Наполеона было не более 40 000.
Битва при Арси-сюр-Об началась около двух часов дня 20 марта, дня, вещего в истории Наполеона, и явилась последней битвой Наполеона перед его отречением и заключением на остров Эльба.
Сражение началось совершенно неожиданно. Молодой офицер Наполеона, посланный на рекогносцировку по Труаской дороге, принес неточное донесение, открыв лишь несколько эскадронов казаков. Генерал Себастьяни, двинувшись к этим малочисленным эскадронам, был внезапно окружен всей австрийской кавалерией. Несмотря на крайнюю опасность, Наполеон, не смущаясь, скомандовал садиться на коней, и дивизии Кольберга и Эксельмана поспешно заняли Арси, оставленный накануне императором Александром. Плохо вооруженные, эти дивизии выдержали натиск генерала Кайсарова, но, уступая в численности неприятелю, должны были отступить в Арси. Наполеон из Торси слышал отголоски битвы. Поручив Нею с пехотой и молодой гвардией защиту Торси, он выступил к Арси.
Справа Нея атаковали австрийцы, слева баварцы маршала фон Вреде старались отрезать его от Арси-сюр-Об. Между Арси и Торси оставались всего несколько рот и один батальон поляков, так называемый привислинский батальон, под командой Скшивецкого, одного из будущих героев польского восстания 1830 года.
Неприятельская кавалерия в огромном числе покрыла всю равнину, грозя все поглотить, даже захватить Наполеона, двигавшегося к Арси. Редко приходилось императору подвергаться такой опасности. Он едва успел укрыться в центре привислинского батальона. Храбрые поляки, гордые вверенным им сокровищем, хранителями и защитниками которого сделало их нежданное нападение неприятеля, встретили Наполеона громовым «ура».
Спокойный, бесстрашный, он крикнул им:
— Поляки! Мы вместе или победим, или погибнем!
Горсть людей, готовых на геройский поступок, разразилась бурными восклицаниями: «Да здравствует император!» — и казаки, приближавшиеся, подобно бурной туче, сдержали своих коней и приостановились, почти испуганные этим криком. Так император был здесь! Ими овладел суеверный страх. Их командирам пришлось возбуждать их, указывая на малочисленность пехоты, которую они должны были опрокинуть своими лошадьми, пронзить своими пиками.
Наполеон вынул из ножен шпагу. Ему было тяжело обнажить славный клинок: разукрашенный знак отличия, скорее символ, чем боевое оружие, эта шпага с замшевой перевязью, с золотым орлом на рукоятке, носила на лезвии выигравированную надпись: «Шпага, бывшая на его величестве в битве при Аустерлице».
Когда шпага из-за ржавчины слегка приставшая к ножнам блеснула наконец на солнце, у поляков закружились головы: ведь в блеске этого клинка им сияла вся слава императора! Это Аустерлиц! Это Йена! Это вступление в Берлин, поход на Кремль!
— Стройся в каре! — приказал император пехоте.
Быстро образовалось каре, во главе которого встал Скшивецкий; Наполеон и знамя поместились в центре.
— Первый ряд, нагнись! — скомандовал Наполеон.
Первые ряды встали на одно колено.
— Второй ряд! — снова крикнул император.
Люди во втором ряду посторонились, чтобы дать третьему ряду возможность направить между их плечами свои ружья.
— Готовьсь! Цельсь! Пли! — скомандовал император в момент, когда первые австрийские и русские всадники появились перед самым каре.
Грозная пальба трех рядов каре произвела страшное действие: лошади опрокидывались, всадники падали, запутываясь в стременах и поводьях, среди сабель и пик, раня друг друга в смятении отступления. Некоторых испуганные кони занесли в первые ряды каре прямо на штыки солдат, поднявшихся, чтобы дать задним рядам время зарядить ружья.
Три или четыре таких натиска были мужественно отбиты. Убитые кони образовали вал кровавых, трепещущих, стонущих тел, из-за которого польские батальоны продолжали стрелять, отражая нападение.
К концу последней отраженной атаки Наполеон мог выйти из каре и, не обращая внимания на снаряды, беспрерывно падавшие на дорогу, достиг Арси-сюр-Об, где среди войск уже распространилась паника. Он погонял своего коня, хорошо зная, какое огромное влияние оказывает на людей его присутствие.
Наполеон подоспел в Арси в самую последнюю минуту. Уланы Кольберга и драгуны Эксельмана бежали в полном беспорядке к Обскому мосту. Город был объят пламенем, и везде царило полнейшее смятение.
Словно ураган, император бросился вместе со своей свитой в толпу беглецов, опередил их, въехал на мост, остановился там и, обернувшись, громко крикнул:
— Солдаты, кто из вас решится пройти через мост на моих глазах?
Первые ряды беглецов, узнав императора, остановились, образуя живую баррикаду, удерживавшую и тех, которые бежали сзади них.
Наполеон продолжал, кидая им прямо в лицо горькие слова:
— Вы бросили своего генерала! Ну что же, пусть подлые трусы спасают свою жизнь, но герои — те пусть умрут за императора! — И, съехав с моста, он показал им на освобожденный путь, говоря: — Дорога свободна! Пожалуйста, проходите!
Никто не сдвинулся с места. Живой барьер, сплотившийся благодаря присутствию и энергии Наполеона, сдержал отброшенную кавалерию, давая ей возможность сплотиться и набраться храбрости.
Наполеон с радостью видел, как эти полки, обычно столь стойкие, но на этот раз уступившие громадному численному перевесу, мало-помалу оправлялись.
Во второй раз обнажив шпагу и собрав улан и драгун, он повел их на неприятельскую кавалерию.
— Вперед! Вперед! — кричал он громовым голосом.
В этом деле, где он лично руководил сражением, у него было только две тысячи шестьсот кавалеристов, а у неприятеля их было более шести тысяч. Кроме того, у неприятеля была сильная артиллерия, поддерживавшая его кавалерию. Сзади двигалась большая богемская армия. Но французы были вместе со своим Наполеоном, а этого было достаточно, чтобы заставить отступить этот лес сабель и вызволить Арси…
Численное преимущество неприятеля было таково, что император каждую минуту подвергался риску быть взятым в плен, убитым, увлеченным паникой и сброшенным в Об.
Ней, выдерживая в Торси натиск корпуса Вреде, не мог прийти на помощь. Положение становилось критическим. Грозная неприятельская артиллерия вырывала из французских рядов солдата за солдатом, которых некем было заменить. Наполеон видел, как на его глазах таяли французские полки, и уже не мог бросать смелым натиском своих людей в самый огонь…
Вдруг в неприятельских рядах стало заметно какое-то движение.
С другого берега Оба появились меховые шапки.
С ружьями наперевес гренадеры старой гвардии стали переходить через мост и показались на Арсисском шоссе. Вот эти никогда не отступали, и в последний раз им суждено было испытать иллюзию победы. Через какой-нибудь год им всем пришлось погибнуть у Ватерлоо, так как они предпочли смерть позору отступления.
И перед старой гвардией вся неприятельская масса вдруг заколебалась и потом бросилась в отступление.
Наполеон увлек своих «ворчунов» на равнину, которую баварцы и русские сплошь закидывали снарядами. Он пропустил их мимо себя церемониальным маршем. В то же время он подвинул несколько батальонов линейных полков и указал их позиции с таким же спокойствием, словно руководил инспекторским смотром на площади Карусель в Париже.
Вдруг у самых войск упала граната. Солдаты отскочили назад, и в их рядах возникло смятение.
Тогда Наполеон дал шпоры лошади и заставил ее подъехать к снаряду, фитиль которого дымился, грозя неминуемым взрывом. Император заставил дрожащую лошадь замереть в неподвижности перед дымящимся снарядом.
Раздался гром взрыва, все озарилось светом… Столб дыма и пыли поднялся кверху, скрывая лошадь и всадника…
Солдаты бросились туда; у лошади были вырваны все внутренности, император свалился вместе с ней, но сейчас же вскочил на ноги, у него не было ни малейшей царапины. Он потребовал другую лошадь и продолжал своп смотр пораженным солдатам, преисполненным восхищения от этого урока, данного им Наполеоном, как не следует бояться снарядов.
Этот характерный эпизод из жизни Наполеона подвергся всевозможным комментариям. Многие видели в этом внезапно охватившее Наполеона желание умереть. Но факты опровергают подобное предположение. В утро у Ар-си-сюр-Об Наполеон был слишком далек от отчаяния Наоборот, победа казалась ему хотя и спорной, но возможной тогда. Приказ, отданный им накануне, не позволяет ни минуты заподозрить в нем желание покончить с собой. Разве он стал бы двигать войска таким грандиозным маршем на Лотарингию и Ардены, если бы решил покончить свою жизнь на поле сражения? А потом он нисколько не сомневался в чувствах Марии Луизы. Он жаждал увидеться с ней. Решительно все — его нежность мужа и отца, гордость, вера в себя — словом, все не допускает даже и мысли о самоубийстве. Да и его поведение в Арси накануне атаки союзных сил совершенно опровергает гипотезу желания покончить с собой.
Самым простым, самым естественным объяснением этого геройского поступка может быть желание Наполеона дать урок храбрости солдатам и поднять дух молодых новобранцев, составлявших большую часть его армии. С ним не было уже старых легионов Испании или Польши, и он хотел поразить воображение солдат. Крики «спасайся, кто может» донеслись до его слуха из Арси. Он вовремя остановил панику улан Кольберга и драгун Эксельмана и должен был два раза сам вести в дело войска и обнажить шпагу. Он понимал, что должен был явить крестьянам и национальным гвардейцам, созванным на защиту страны, образец той храбрости, которую французы так уважают, боготворят.
К тому же во все время этого двухдневного боя Наполеон сохранял полнейшее хладнокровие, и едва ли можно приписывать мысли о самоубийстве человеку, который мог совершенно спокойно вести подобный разговор с генералом Себастьяни посреди тучи ядер, бороздивших поле битвы.
— Ну-ка, генерал, что вы скажете об этой картине? — спросил у него император, показывая на поле битвы, куда только что прибыла толпа крестьян, вооруженная охотничьими ружьями, вилами, косами, топорами и пиками, взятыми у убитых казаков.
Это был маленький отряд с фермы «Божья слава» во главе с Марселем и Жаном Соважем.
Этот отряд увеличился патриотами, подобранными по дороге. По мере того как отряд подвигался вперед, в каждой деревне он пополнялся парой ружей. Зверства неприятеля заставили взяться за оружие даже самых мирных крестьян. Каждый готов был сделаться солдатом, чтобы прогнать иностранцев, и набат, раздававшийся с деревенских колоколов, призывал к оружию всех от мала до велика.
— Скажу одно, — ответил на вопрос Себастьяни, — что у вас, ваше величество, без сомнения, имеются такие ресурсы, которых мы не знаем.
— Только то, что вы видите, больше никаких.
— Но в таком случае почему же вы, ваше величество, не изволите позаботиться, чтобы вся нация поднялась?
— Все это пустые бредни! — резко ответил Наполеон. — Бредни, почерпнутые из воспоминаний об испанских патриотах и о временах революции! Как можно поднять народ в той стране, где революция сокрушила дворянство и священников и где я сам сокрушил революцию? Об этом нечего и мечтать! Эти крестьяне Шампани, которых вы видите вооружившимися, чтобы сражаться вместе с нами, представляют собой героическое исключение. Их примеру не последуют.
И, вооружившись зрительной трубой, император стал спокойно рассматривать неприятельские позиции.
Появление на сцене старой гвардии, прибытие подкрепления в шесть тысяч человек, приведенных из Парижа Лефевром, помогло окончательно освободить Арси и вернуть врага на его позиции.
Это сражение под Арси-сюр-Об продолжалось два дня. В людской памяти оно не оставило большого следа и обычно его не приводят с гордостью в пример другим славным для французов боям. Но между тем это было очень большое сражение, где французам приходилось сражаться вначале в количестве четырнадцати тысяч против сорока, потом — двадцати против шестидесяти тысяч и наконец двадцати двух тысяч против девяти-десяти. Решительно все вели себя настоящими героями.
Победа, обеспеченная в первый день, так как неприятель, несмотря на свое подавляющее численное превосходство, отступил, оставив французов на занятых ими позициях, стала проблематичной на следующий день, так как Наполеон из осторожности приказал своей армии перейти Об. В первый день Наполеон думал, что он имеет дело только с частью коалиционной армии. Он не знал, что князь Шварценберг был отлично посвящен в его проект движения на восток, и предполагал, что атака на Арси была просто средством, которым князь надеялся определить количество сил, находившихся в распоряжении Наполеона, и разузнать о его намерениях. Когда же на следующий день он увидел перед собою всю союзную армию, то ему, гордому успехами, достигнутыми накануне, и геройской стойкостью своих войск, пришла в голову смелая мысль попытаться остановить неприятеля, вызвав новое столкновение в долине Арси. Но все его маршалы единодушно; указали ему, что он и без того одержал достаточную победу, что будет крайне неразумно противопоставлять какие-нибудь тридцать тысяч человек целой армии в сто тысяч и что самым лучшим в данном положении будет перейти Об.
Согласившись с ними, Наполеон приказал соорудить два моста, и его армия, перейдя Об, была теперь отделена рекой от богемской армии.
Князь Шварценберг хотел преследовать Наполеона. Но было уже слишком поздно; мосты были разрушены, и корпус Удино, поддерживаемый артиллерией, утвердился на правом берегу. Повсюду, где неприятель пытался переправиться через реку, он был отброшен. Потери союзных войск были очень значительными.
Наполеон, ставший теперь во главе своей армии на правом берегу Оба, решил осуществить свой грандиозный проект похода на восток. Он сделал привал в окрестностях Арси, на следующий день отправился из Витри и 23 марта прибыл в Сен-Дизье, откуда рассчитывал повернуть на север, снять по пути гарнизоны и отрезать пруссакам и русским возврат назад. Таким образом, Париж был бы освобожден, и коалиционная армия, застигнутая врасплох, была бы поймана словно в мышеловку.
XIV
Но Мармон и Мортье, оставленные в Реймсе и на Эне и обязанные соединиться с Наполеоном, ошиблись в движении и были отрезаны от армии императора. Блюхер отбросил их к Эне и блокировал там. Таким образом их движение на восток стало невозможным, так как неприятельская армия двинулась на Реймс. Тогда после долгих колебаний и ряда робких проб оба маршала решили оставить Наполеона и вернуться к столице. Это было потерей драгоценного времени.
А позади всех этих передвижений войск страну заливали потоки крови и ужас от убийств, пожаров и крайних зверств.
Вернувшись в поселок при ферме «Божья слава», Жан Соваж нашел свой дом разрушенным. Он залился слезами на развалинах фермы. Его товарищи, храбрецы, сражавшиеся с ним в Арси-сюр-Об, поклялись мстить при виде этих мрачных, дымящихся развалин. Жена Соважа с детьми убежала; старуха-мать была убита за отказ дать неприятельским солдатам вина.
Партизаны вышли на дорогу к Парижу, единственную, которая была еще открыта им. Но где было найти корпуса Мармона и Мортье? Где можно было записаться в полк? К какому командиру?
— Нам вовсе не нужен полк, друзья мои, — сказал Жан Соваж. — Поведем партизанскую войну! Где кого из врагов застанем — сейчас вилы в бок, да и ладно! Да и этого, пожалуй, не надо! Пуля или картечь бьет слишком верно — попала, да и конец, а нам надо заставить этих разбойников» помучиться как следует!
— Разумеется, раз они сами безжалостны, как звери, так и их надо бить, как волков! — сказал молодой крестьянин. — Черт возьми! Да их не прямо убивать, а сначала помучить надо как следует!
Маленький отряд был воодушевлен самыми безжалостными намерениями; крестьяне решили применить к неприятельским войскам самые тяжелые репрессии и поэтому решили догнать войска, направлявшиеся на Париж. Поэтому они отправились по дороге в Реймс.
— Дети мои, — сказал Жан Соваж, — мы будем в Фер-Шампенуазе через сутки, но следует поторапливаться. Жена, как мне сказала соседка, ждет меня там на дороге с двумя детьми, если только с ней не приключилось какое-нибудь несчастье. Теперь никогда не можешь быть уверен, кто жив, а кто умер. Если же мы найдем их у родственников, фермеров в Фер-Шампенуазе, то сможем отдохнуть там и набраться сил. А ведь это нам очень нелишне, не так ли? Ну, так смелее! Надо разделить тяготы друг друга. С нами двигаются дети и женщины. Мы должны помочь им в пути. Пускай все по очереди помогают нести ребят. Это будет довольно-таки тяжелая работа для всех нас, но мы таким образом можем выиграть время и явимся туда гораздо раньше.
— Правильно, товарищи! — послышались голоса в ответ. — Надо быть единодушными, помогать друг другу! Это ты верно сказал!
Сражение при Фер-Шампенуазе было одной из самых кровавых схваток, предшествовавших осаде Парижа. Генералы Делор и Кампан покрыли себя славой, командуя национальными гвардейцами. Но французам пришлось сложить оружие и таким образом это сражение открыло коалиционной армии путь на Париж.
Между тем все это сражение явилось плодом случайности да и сопровождалось случайностями, чуть не кончившимися трагически для русского императора.
Дело в том, что 23 марта русский разъезд из полка Чернышева перехватил курьера, везшего собственноручное письмо Наполеона к Марии Луизе. В этом письме было написано:
«Мой друг! Несколько дней я не сходил с лошади. 20-го числа я взял Арси-сюр-Об, где в тот же вечер неприятели атаковали меня; я разбил их; они потеряли четыре тысячи человек убитыми. На следующий день неприятели потянулись к Бриенну и Бар-сюр-Об, а я, имея намерение удалить их от Парижа, пошел к Марне и хочу приблизиться к северным крепостям. Сегодня вечером буду в Сен-Дизье. Прощай, мой друг, поцелуй сына».
Прочитав это письмо, император Александр решил соединиться с армией Блюхера и идти прямо на Париж, отрядив за Наполеоном корпус Винцингероде, чтобы французский император не догадался об истинных намерениях союзников и считал этот корпус авангардом всей коалиционной армии. Главной же армии было назначено выступить 13 (25) марта на Mo через Фер-Шампенуаз. В Мо главная армия предполагала соединиться с силезской и вместе двинуться на Париж. Таким образом, не попадись русским солдатам наполеоновский курьер — и сражения при Фер-Шампенуазе не было бы.
Авангард союзников настиг корпусы Мармона и Мортье около Крпатре и стремительной атакой заставил их отступить к Фер-Шампенуазу. Но, не имея времени утвердиться там, французские войска отступили к Сезану.
Русский император вместе со свитой отправился к авангарду, чтобы присутствовать при деле, все значение которого было совершенно ясно. По дороге императору Александру сообщили, что на Фер-Шампенуаз идут два корпуса неприятеля. Он разослал своих адъютантов к начальникам главной союзной армии, требуя их скорейшего приближения к Феру, а сам двинулся дальше. И вот тут-то произошло недоразумение, чуть-чуть не стоившее жизни русскому царю.
Подходившие французские войска под командой генералов Пакто и Амэ никак не могли себе представить, чтобы перед ними могли оказаться союзные войска, так как сзади них двигался корпус князя Васильчикова. Увидав императора Александра, стоявшего со свитой на небольшом холме, французы вообразили, что это кто-нибудь из маршалов, присланных Наполеоном к ним на подкрепление, и радостно закричали: «Да здравствует император!» Этот крик, услышанный Васильчиковым, заставил его подумать, будто французы узнали на холме самого Наполеона; он приказал выдвинуть орудия и стал обстреливать возвышение, на котором стоял русский император; четыре ядра упали в двух шагах от него! Разумеется, недоразумение скоро разъяснилось и пальба по своим была прекращена.
Но случись что-нибудь с русским императором, французам это могло бы дорого стоить. Окруженные со всех сторон подавляющим по численности неприятелем, французские войска, державшиеся стойко и храбро, таяли, как воск на огне. Русская артиллерия вырвала из их рядов целые полосы людей, однако французы смыкались и продолжали держаться. Но особенно восхитительный героизм проявила небольшая кучка плохо одетых и плохо вооруженных людей — крестьянский отряд Жана Соважа. Они дрались и умирали, как истые наполеоновские орлы старой гвардии; так патриотизм делает героя даже из самого мирного землепашца!
Восхищенный таким отчаянным сопротивлением, такой геройской стойкостью, император Александр бросился верхом к передовой цепи, не обращая внимания на жужжавшие кругом него пули, и приказал прекратить огонь.
— Я хочу спасти этих героев! — сказал он.
Французам было предложено сложить оружие и отступить, на что регулярная армия, видя невозможность дальнейшего сопротивления, согласилась. Но крестьянский отряд Соважа продолжал держаться, и в ответ на требование сложить оружие и отступить сам Соваж крикнул русским:
— Убирайтесь сами с наших полей! А не хотите — так будьте безжалостны до конца! Перебейте нас всех, но пока из наших хоть один человек будет в состоянии держать ружье, он не сдастся!
И маленький отряд с фермы «Божья слава» снова взял ружья на прицел; если бы барабаны не забили отступления, люди Соважа исполнили бы свое обещание и полегли бы все до одного.
Сражение было кончено; надо было подумать об убитых и раненых. А их было очень много: французы потеряли больше половины людей.
Только поздно вечером Жану Соважу удалось свидеться со своей Огюстиной. Она нашла приют у тетки, которая радушно приняла Соважа и его товарищей и сейчас же принялась хлопотать об их ужине и ночлеге.
На следующий день остатки войск продолжали свой путь на Париж. Они шли защищать былую славу, свободу, родину!
А вслед за ними союзники Блюхера с 90 000 пруссаков двигались на Туржэ, Сен-Дени и Монмартр. Князь Шварценберг вел 50 000 австрийцев на Mo и Бонди. Принц Вюртембергский с тридцатью тысячами двигался на Монтрей, Шаронну и Бельвиль.
Все три колонны должны были подступить к Парижу 29 марта, атака же была назначена на тридцатое.
Хотя Париж и не был укреплен как следует, но с восточной стороны, откуда именно и подошли союзные армии, местоположение было очень выгодно для защиты. Пользуясь каменными домами, церквами, стенами, садами, оврагами, каналами, представлявшими на каждом шагу естественные преграды, даже малочисленное войско могло бы держаться против больших неприятельских сил.
Кроме того холмы Роменвиль и Бельвиль, господствовавшие над окрестностями, представляли очень удобные стратегические пункты для артиллерийской защиты. Но главнокомандующий войсками парижской обороны брат императора Жозеф располагал всего только 45-ю тысячами человек при 150-ти орудиях, а в союзных армиях было более ста тысяч человек.
Таким образом судьба Парижа была предрешена. Конечно, и с сорока пятью тысячами Жозеф мог бы продержаться до прихода Наполеона, который, узнав о появлении союзников под Парижем, немедленно повернул назад и понесся на выручку столицы, жены и сына. Но это стоило бы парижанам многих домов, общественных зданий, бедствий продолжительной осады, и роялисты, пользуясь удобным предлогом такой мрачной перспективы, везде и всюду старались разжигать недовольство парижан против Наполеона, навлекшего такие бедствия на французов и столицу. Они доказывали, что сопротивление все равно ни к чему не приведет, что Наполеон бросил город на произвол судьбы и поторопился только спасти самого себя.
Между тем русский император был далек от желания причинить хоть какой-либо ущерб Парижу. Сколько раз Блюхер порывался каким-нибудь варварским актом отомстить французам за былые поражения, но каждый раз император Александр употреблял всю свою энергию, чтобы предупредить это.
На рассвете перед генеральным парижским сражением к императору Александру привели капитана национальной гвардии Пера, который путался в показаниях и не смог с достаточной ясностью объяснить, как он попал в русскую передовую цепь. Наконец он объяснил, что нечаянно заблудился и по неосторожности наехал на русские позиции. Как ни маловероятно было такое объяснение, но император принял его и хотел воспользоваться Пером, чтобы объявить главнокомандующему оборонительной армией нижеследующее:
— Скажите ему, — сказал государь, — что я требую сдачи Парижа; я стою перед стенами его с многочисленной армией, но воюю не с Францией, а с Наполеоном.
Вместе с Пером император приказал ехать флигель-адъютанту Орлову.
Последнему он дал следующее устное повеление:
— Я хочу предупредить кровопролитие. Уполномочиваю тебя прекратить огонь везде, где надобно, остановить самые решительные атаки. Париж, лишенный своего великого императора, не может устоять. Но, даровав мне силу и победу, Богу угодно, чтобы я употребил их для мира и спокойствия вселенной. Если можем достичь этой цели без боя, тем лучше; если нет, то уступим необходимости и будем сражаться. Доброю ли волей или силой, на штыках или церемониальным маршем, на развалинах или в чертогах, но сегодня же Европа должна ночевать в Париже!
Однако Орлову не удалось вступить в переговоры с маршалами о сдаче города, так как его повсюду встречали выстрелами, несмотря на то, что он являлся парламентером в сопровождении трубача. Позднее переговоры были начаты самими французами, так как маршалы получили от брата Наполеона, Жозефа, записку, в которой он уполномочивал их на это. Жозеф долго не соглашался отдать такое распоряжение, он упорствовал даже тогда, когда к нему явился капитан Пер, передал слова императора Александра и рассказал о блестящем виде союзных войск. Но у коалиционной армии был могущественный союзник — императрица Мария Луиза…
28 марта вечером был назначен совет регентства. В тот самый момент, когда императрица собиралась отправиться туда, так как она председательствовала на собрании, она вдруг получила записку без подписи, врученную ей секретарем Талейрана при выходе из дворца. В ней было написано:
«Я должен во что бы то ни стало переговорить с Вами. Примите меня сейчас же, без свидетелей».
Это Нейпперг требовал таким образом секретного приема у императрицы.
Мария Луиза не видала его со времени совещания заговорщиков в ресторане Лятюйя. Вручив Анрио ответ императору, она сумела незаметно скрыться и вернуться в Тюильри, не обратив на себя внимание Екатерины Лефевр и ла Виолетта.
Последние, сбитые с толку прибытием Анрио, решили, будто Алиса явилась в ресторан только для свидания с мужем; поэтому, не заботясь больше о ней, они поторопились известить Наполеона об измене, замышлявшейся в Париже.
Не предупреждая Анрио об этом решении, Екатерина Лефевр решительно кинулась в почтовую карету и в сопровождении верного ла Виолетта и горничной отправилась по дороге в Реймс.
Мария Луиза узнала об отъезде Екатерины и почувствовала сильный страх. Что увидала она в ресторане? Что удалось ей подслушать из беседы заговорщиков? А потом, что было ей известно о Нейпперге? Не отправилась ли она к императору, чтобы известить его о прибытии в Париж его личного врага?
Без сомнений, Мария Луиза сумела бы правдоподобно объяснить свои свидания с Нейппергом: разве Наполеон не просил ее войти в переговоры с каким-нибудь лицом, уполномоченным австрийским императором, чтобы склонить Австрию к прекращению военных действий? Кто же в данном случае мог быть полезнее, чем известный своей ловкостью дипломат?
Но присутствие и само имя такого посредника могли бы вселить в душу Наполеона новые подозрения; ведь история, когда Нейпперг был застигнут в комнате, находившейся поблизости от спальни императрицы, была еще слишком свежа.
Испугавшись всего этого, Мария Луиза начала желать, чтобы война затянулась как можно дольше и чтобы ее супруг не мог в ближайшем будущем свидеться с нею.
Нейпперг уже подготовил ее к бегству из Парижа.
Императрица смутно сознавала, что бросить столицу равносильно отказу от трона; кроме того, это значило бы также лишить сына возможности наследовать трон в случае отречения Наполеона, о чем уже возникал разговор. Но она не любила Наполеона и никогда не любила Римского короля. Она не дорожила троном, императорской короной, властью над той грандиозной массой народов, которая была покорена воинскими доблестями ее супруга.
Мария Луиза не была честолюбивой. Это была ограниченная по природе и влюбчивая, вдобавок, женщина. Круг ее стремлений и желаний не выходил за пределы спальни. Но в этой комнате истинным императором являлся только Нейпперг. Его владычества и его завоеваний было достаточно этой чувственной немке.
Когда она думала о капитуляции, которая непременно должна была последовать за ее бегством из столицы, то она видела в этом одно только преимущество — возможность быть неразлучно с Нейппергом, обнимать его без всяких опасений и препятствий. Поэтому во время краткого свидания с Нейппергом он не встретил с ее стороны никаких возражений против поспешного ее отъезда из столицы. Мария Луиза отлично понимала, что оставить в настоящем положении вещей Париж значит изменить мужу и отказаться от империи, но она ничего не возразила на доводы Нейпперга; она даже пошла дальше и постаралась приготовиться отразить препятствия, которые могли бы возникнуть со стороны совета регентства. Хотя Талей-ран и другие предатели настаивали на сдаче Парижа союзникам, что должно было лишить Наполеона всех его владений и превратить его в лишенного покровительства законов авантюриста, но в свете существовало довольно серьезное большинство, которое враждебно относилось к мысли об оставлении столицы и смотрело на присутствие в ней Марии Луизы и Римского короля как на известную гарантию для самого Парижа, для сохранения империи и спасения страны.
Поэтому Мария Луиза заявила Нейппергу, что тем, кто захочет удержать ее в Париже, она покажет письмо, написанное императором из Реймса. В этом письме Наполеон предписывал императрице немедленно покинуть Париж, как только какая-нибудь опасность будет грозить ей и Римскому королю.
Это письмо, доставленное полковником Анрио и, как мы видели раньше, прочтенное организаторами капитуляции в ресторанчике дядюшки Лятюйя, было написано давно и при таких обстоятельствах, которые делали данный случай совершенно неприложимым. Да и с того времени Наполеон больше не подтверждал своего приказания, так что данное письмо далеко не имело такого повелительного характера, какой ему хотели придать Нейпперг и Мария Луиза. Но оно слишком отвечало намерениям обоих любовников, чтобы тот или другая усомнились в его действительности на данный случай. Поэтому Нейпперг настаивал, чтобы Мария Луиза предъявила совету регентства это роковое письмо, объявив, что она подчиняется священной воле императора, покидая Париж вместе с сыном.
Мария Луиза обещала учесть желания своего возлюбленного, причем обнимая его, воскликнула:
— Я уеду завтра, даже сегодня вечером, если так надо. Милый мой, я буду тогда вся твоя.
Нейпперг перебил ее:
— Но отдаете ли вы себе отчет в важности того акта, который вы собираетесь представить на совет регентства? — спросил он. — Ведь бросить Париж — это почти равносильно отказу от короны.
Мария Луиза страстно обняла Нейпперга и прошептала:
— Какое мне дело до Парижа? Что мне до короны? Разве ты не знаешь, что мне нужен только ты, что я хочу только одного тебя?
И с трудом отрываясь от объятий того, кто всецело владел ею, она отравилась довершать свое предательство в совет регентства.
Но там ее ждала неожиданная поддержка: оказалось, что и Жозеф тоже получил письмо, в котором Наполеон указывал ему на необходимость отправить Марию Луизу и Римского короля из Парижа в случае, если им будет грозить какая-нибудь опасность. Больше того: безгранично доверяя жене, Наполеон приказал брату в решительном случае считаться со взглядом на вещи императрицы.
Жозеф, который применил это к случаю, не предусмотренному Наполеоном, то есть к капитуляции Парижа, спросил мнение императрицы на этот счет. Ведь он хотел только сложить с себя на всякий случай ответственность. И вдохновленная Нейппергом Мария Луиза оказалась лучшим другом обложивших Париж союзников.
XV
При известии о приближении союзных армий к Парижу жителями окрестных селений овладела страшная паника. Со всех концов к Парижу стекались крестьяне с женами, детьми, скотом и пожитками. Главные улицы столицы были загромождены длинными вереницами деревенских телег, нагруженных имуществом спасавшихся фермеров.
Внешний вид Парижа резко изменился с того момента, когда князь Шварценберг перешел Марну у Mo и Трильпора и направился на Сен-Денинское шоссе, оставляя позади себя корпусы Остен-Сакена и Вреде для защиты этого пути.
У застав наблюдалось оживленное движение экипажей взад и вперед.
Каждый день национальная гвардия вербовала новых солдат и активно вооружалась. Это зрелище было настолько же внушительным, насколько и грустным. Все эти храбрецы собирались в полном смятении, наспех, в то время как на высотах Даммартена и Бонди уже загорались костры бивуаков союзников. Уже раздавались пушечные выстрелы, но французские войска все-таки удержали Роменвильские высоты, несмотря на подавляющее превосходство сил неприятеля.
Богемская армия основала свою главную квартиру на Клайе, а Блюхер, действуя с правой стороны, расположился в Онэе.
Корпусы маршала Мармона и маршала Мортье, сражавшиеся при Буаси-Л'Эстре, теперь спешили окольными путями пробраться к Парижу. Им пришлось бросить в добычу неприятелю фургоны и артиллерийские обозы. Неприятель слишком настойчиво теснил их, они понесли жестокие потери. Остаткам этих корпусов пришлось занять позицию у Шарантонской заставы.
Беспрерывно один за другим прибывали отставшие и отбившиеся в сторону отряды. Они заявлялись в комендантское управление. Их направляли к заставам Пуассоньер ла Вилетт и Шарантон.
Отряды, защищавшие заставу Клиши, представляли собой регулярные войска, сформированные еще давно и пополнявшиеся за счет прибывавших через эту заставу крестьян.
Главный контингент их составляло мирное и трудолюбивое население предместий Клиши и Сент-Уэн. Вся местность от Батиньоля до Монмартра и канала Лурк была очень богатой, нарядной, негусто застроенной, содержавшейся в отличном порядке. Там было очень много маленьких домиков и легких строений. На живописных склонах холмов возделывался виноград, и парижане во время воскресных прогулок являлись к заставе Клиши, чтобы пить местное вино среди цветущих долин, тогда как мельницы весело махали крыльями на фоне безоблачного неба, перемалывая рожь, пшеницу и ячмень местных полей.
Но армия союзников быстро изменила приветливый и нарядный вид этой местности. Тяжелые дроги и лошадиные копыта впервые налегли на плодородные поля, омрачив их веселые горизонты.
Теперь на высоты Парижа уже не было никакого доступа. И много тревожных взглядов устремлялось в туманную даль, которая оставалась бесстрастно-спокойной при приближении неприятеля и не давала никаких вестей об императоре…
Ла Виолетт, волонтер и капитан национальной гвардии, командовавший самыми выдвинутыми на дороге Сент-Уэна аванпостами, был в страшном нетерпении — когда же император явится сюда и прогонит всех этих обложивших Париж разбойников!
— Да чтобы ему ни дна, ни покрышки! — ворчал он в свои поседевшие усы. — О чем же он думает, в конце концов? Разве все эти буржуа, которые мечутся туда и сюда, сумеют драться как следует? Война… ну, уж нет, извините, это не война! Раз, два, три — пли! Вот и все! Только, видите ли, ваше величество, если вы соблаговолите промешкать еще долее, то это, по-моему, может кончиться для вас очень плохо! В воздухе носится особенный запах, который кажется мне довольно-таки подозрительным, и мне известны кое-какие штатские, солдаты и генералы, самые возвеличенные, наиболее осыпанные вашими милостями, обязанные вам решительно всем, которые только и ждут удобного момента, чтобы бросить сабли и ружья, а может быть — даже и направить их на вашу особу! А! Если бы были теперь здесь все участники Маренго, Аустерлица, Фридланда! Но даже если я останусь здесь один-одинешенек, я все-таки буду защищать Париж и нашу славную мадам Сан-Жень, чего бы это ни стоило! Ведь маршал Лефевр поручил свою жену моей защите и заботе! Я же взял на себя охрану заставы Клиши. Ну что же, будь что будет…
Бормоча про себя это и сопровождая свои умозаключения решительными жестами, ла Виолетт поднимался к предместью Пуассоньер. Он отправлялся на свой пост, но раньше хотел ознакомиться с настроением и силами войск, охранявших заставу.
Подойдя к заставе Клиши, он встретил маршала Монсея.
— Будете ли вы в состоянии долго сопротивляться со всеми этими штафирками? — грубо спросил у него маршал.
— Отвечаю за своих людей, господин маршал! Но неужели вы думаете, что мы вступим в бой, не получив никаких приказаний от императора? Разве предвидится опасность? Я осмотрел все — внутренние части Парижа около улицы д'Артуа, улицы де Прован, Итальянского бульвара, Пуассоньер да и другие кварталы тоже. Замечается большое воодушевление. Но говорят, будто завтра ждут неприятельские войска в Роменвиле, будто они одержали победу на Mo. Однако я не верю этому, этого не может быть!
— К сожалению, все это верно, милый мой ла Виолетт, и застава Клиши является последним оплотом Парижа. Без сомнения, с этой стороны и разыграется решительное сражение в ожидании того, пока к нам прибудут на помощь войска императора!
— О, если только дело дойдет до сражения, так это надолго не затянется! Тем лучше! Тогда, по крайней мере, мы будем иметь точные сведения.
— Я в особенности рассчитываю на вас, на национальную гвардию! Солдаты, имеющиеся в нашем распоряжении, слишком утомлены. Они храбры по-прежнему, но их стало слишком мало. Войска, расположенные у застав, должны выдержать натиск неприятеля. Император уже недалеко от нас. После Краона он приказал мне соединиться с Мортье для защиты столицы. Мы должны стойко держаться, чтобы дать ему время подойти.
— Я сейчас скажу моим гвардейцам, что нам выпала честь быть избранными императором и вами на защиту входа в Париж…
Вытянувшись во весь свой гигантский рост, с глазами, так и сверкавшими отвагой, ла Виолетт горделиво отдал честь маршалу Моисею и легкой походкой направился к долине Сен-Дени.
Пройдя через заставу и вглядевшись в расстилавшуюся перед ним долину, ла Виолетт заметил какой-то отряд, расположившийся лагерем на дороге. Костюмы, оружие, возраст этих людей поражали своим разнообразием и даже контрастами.
Не будучи в силах преодолеть свое любопытство, ла Виолетт перешагнул за границы своего поста и вдруг услыхал чей-то знакомый голос, говоривший:
— Эй, ла Виолетт! Куда же ты идешь? Ведь ты уже пришел!
Ла Виолетт остановился, приложил руку козырьком к глазам и, с изумлением всмотревшись в того, кто окликнул его, узнал в нем своего друга.
— Неужели же это ты, Жан Соваж?
— Я самый и есть, со всей семьей! Посмотри-ка, — ответил крестьянин, показывая на Огюстину и ребят.
— Да ведь это настоящий праздник, друзья! Бог войны, пославший вас сюда, оказался очень милостивым! — сказал ла Виолетт, целуя ребят и пожимая руку своего приятеля и его жены.
Жан Соваж отправился по дороге на Париж. Он прошел через Mo, опережая союзников. Как мы уже видели, после сражения при Арси он бросил разрушенную ферму и увлек за собой свой отряд, принимавший участие также и в Фер-Шампенуазском сражении. Оттуда пришлось отступить, но это не огорчило их: ведь под стенами Парижа дело пойдет лучше! И когда шампанцы сказали ему: «Ступай вперед, Соваж; мы пойдем за тобой!», то он и пошел вперед!
Не только товарищи, но даже и жена Соважа не теряла бодрости. Она решила, что пока что будет варить похлебку отряду, ухаживать за детьми и обшивать ратников, а дойдет до дела, так она не откажется и сделать пару-другую добрых выстрелов, сражаясь бок о бок с мужем!
— Вот это настоящие патриоты! О, друзья мои, какое удовольствие доставили вы мне! — сказал ла Виолетт взволнованным голосом. — Я вспоминаю все мои славные походы, и мне начинает казаться, будто снова вернулись дни моей юности, моей прекрасной юности. Как будто мы вернулись к тем временам, когда наши войска задавали такую трепку пруссакам, когда мы с Катрин… ах, простите! С герцогиней Данцигской!.. Проделывали такие знатные штуки над австрияками! И я сам словно молодею от этого! Мне становится веселее на сердце.
— Да, но все это тем не менее далеко не весело, — ответил Жан Соваж, — и надо признаться, что война способна значительно изменить нашу точку зрения, потому что еще недавно я держался совсем иного взгляда на вещи. Мне, как и большинству крестьян, было довольно вечных войн нашего императора.
— Вы поговорите обо всем этом после ужина, — мягко перебила его Огюстина. — Ну а я пока оставлю вас, мне нужно посмотреть, что делается с похлебкой. Я надеюсь, что господин ла Виолетт не откажется разделить с нами наш хлеб-соль.
— Да, я с восторгом! У нас так много общих воспоминаний!
— Кто знает, что ожидает нас завтра? Ты прав, ла Виолетт, поболтаем о прошлом. Если хочешь, пройдемся немного, взглянем на аванпосты. Я мало знаком с окрестностями Парижа, а между тем они очень хороши и заслуживают, чтобы их осмотрели хорошенько. Везде горят огни — можно подумать, что мы готовимся к празднику.
— Это верно. Ну, до свидания, мадам Соваж! — сказал ла Виолетт, уводя крестьянина.
Они направились к Парижу, обмениваясь такими же простыми и наивными фразами, как были просты и наивны их души.
XVI
Ла Виолетт дал Жану Соважу благоразумный совет. Пользуясь своим опытом, приобретенным в двадцати сражениях, он указал неопытному крестьянину всю опасность йх позиции.
Добровольцы, присоединенные к регулярным войскам, расположились как им заблагорассудится, без всякого военного контроля. Количество крестьян, последовавших за Жаном Соважем, было невелико, и его жене с детьми было рискованно оставаться среди них, под неприятельским огнем. Имея это в виду, ла Виолетт посоветовал Жану поместить Огюстину с двумя мальчиками где-нибудь в центре Парижа.
На другой день они с утра начали искать подходящую квартиру для семьи крестьянина. Наконец они остановились на маленьком помещении, состоявшем из двух комнат и кухни, куда немедленно переселилась жена Соважа с детьми. В часы отдыха, если бы военная служба это допустила, Жан и ла Виолетт должны были навещать молодую женщину.
— Очень прошу тебя, Жан, берегись, чтобы тебя не ранили, — просила Огюстина, расставаясь с мужем, — я так огорчена тем, что не могу быть с тобой.
— Не беспокойтесь за него, — авторитетным голосом заметил ла Виолетт, — я знаю Соважа: он — ловкий, храбрый человек. С ним не случится никакого несчастья.
— О, пожалуйста, поберегите его, — обратилась Огюстина к ла Виолетту, — вы испытанный воин, вам я вполне доверяю. Подумайте только, что я буду делать одна с. детьми в этом большом Париже, если Жана убьют? Мне уже пришлось видеть так много горя! Я потеряла своего первого мужа Сигэ, который был храбр и любил войну и императора точно так же, как и вы. Если русские казаки сделают меня еще раз вдовой, я не перенесу этого. Уж слишком тяжело оставаться одинокой и вспоминать об умерших.
— Не нужно думать и грустить о прошлом, — заметил Жан, — смотри лучше на крепкого, здорового мальчика, которого тебе оставил твой покойный муж. Он, слава Богу, жив и находится с тобой.
— Чувства в военном деле не ведут ни к чему, они приносят лишь страдания, — растроганным тоном проговорил ла Виолетт. — Но ведь мы не навсегда прощаемся, дети мои, Бог даст, еще увидимся. Ну а теперь пойдем, уже время отправляться к заставе Клиши. До скорого свидания!
— До свидания, дорогой Жан, до свидания, господин ла Виолетт, — ответила молодая женщина, обнимая их обоих.
Отряды национальной гвардии подходили к заставе, отдавали распоряжения, сообщали новости. Неприятель еще не отваживался на серьезную атаку. Генералы пока бездействовали, ограничиваясь наблюдениями.
Союзники подходили со всех сторон, выбирали позиции. Мармон, Мортье, Монсей, командиры национальной гвардии советовались между собой, подготавливались, ожидая распоряжений, идущих непосредственно от императора.
Происходили случайные стычки, не имевшие никаких последствий. Собравшись возле Монмартра, император Александр, Блюхер, лорд Кэстлрей, герцог Дальберг, Фушэ, Талейран и Нейпперг ожидали вечера; они знали, что измена работает в их пользу.
Подойдя к заставе Клиши, ла Виолетт старался ободрить отряды национальной гвардии. Он поместил земляков Жана Соважа возле своих воинов и постарался их успокоить. В этой новой обстановке крестьяне оказались более наблюдательными, более дальнозоркими, чем старые солдаты.
Убедившись, что на них можно положиться, ла Виолетт отправился к маршалу Монсею, чтобы сообщить ему о том, что происходит. Неприятель показался у начала дороги Сен-Дени. Пока приходилось ждать его дальнейшего наступления. Ла Виолетт велел схватить нескольких человек, которых он принял за шпионов, но тщательный допрос доказал, что это были мирные жители предместий, искавшие убежища в городе, где они чувствовали себя в большей безопасности. Жан Соваж присутствовал при допросах, которыми руководил ла Виолетт, и когда последнего позвал к себе маршал Монсей, Жан предложил заменить его в задержании шпионов.
Все послеобеденное время прошло без инцидентов. Между тем события надвигались, а потому ни Жан Соваж, ни ла Виолетт не могли покинуть свои посты; они ограничились тем, что послали человека к Огюстине с известием, что не могут прийти, и просили ее не беспокоиться.
Наступали уже сумерки, когда Жану Соважу сообщили, что один дом, построенный на левой стороне дороги в Сент-Уэн, кажется подозрительным. Там, по слухам, поселились переодетые неприятельские шпионы. Жан Соваж решил схватить их врасплох и арестовать. В сопровождении нескольких человек он отправился к указанному домику.
Сальная свечка тускло освещала низкую комнату ветхого домика, состоявшего лишь из одного этажа. По-видимому, это жилище, расположенное в глухом месте, пустовало уже давно.
У единственного стола, опершись на него локтями, сидел какой-то человек, опустив голову. Видимо, он спал крепким сном. Такой шпион был не страшен. Какой-то пьяница, даже позабывший погасить свечку!
— Эй вы, подите сюда! — позвал Соваж своих спутников. — Войдем и посмотрим, что здесь делается.
Он толкнул дверь, и та сейчас же открылась.
— Что вам нужно? — протирая глаза, спросил незнакомец, проснувшись от шума.
— Нам нужно арестовать вас, так как вы шпион! — ответил Жан. — Вы наш пленник. Потрудитесь сказать, где находятся ваши соучастники.
— Я шпион? — с негодованием воскликнул незнакомец, вскакивая с места. — Нет, я французский солдат, участвовал в шести сражениях, получил тринадцать ран, был взят в плен под Дрезденом. Вот мой формуляр, а вот и проходное свидетельство; из него вы можете узнать мою фамилию и мой возраст.
Жан Соваж взял бумаги, которые ему протягивал незнакомец. Несмотря на смелый, твердый взгляд, на мужественное выражение лица, голос незнакомца дрожал, все его движения были неловки, неуверенны. Он без всякого сопротивления отдался в руки спутникам Соважа, которые окружили его. Незнакомец поднялся с места, но видно было, что он с трудом держится на ногах.
— Простите, товарищи, — обратился он к солдатам, — но я должен сесть. Меня недавно ранили; я очень страдаю и страшно устал!
Незнакомец опустился на стул. Вся его склоненная над столом фигура выражала сильное страдание.
Вдруг Жан Соваж вскрикнул от удивления. Он прочел имя незнакомца.
— Сигэ! — пробормотал он.
— Да, товарищ, меня зовут Сигэ! Разве мое имя знакомо вам? Я был ординарцем у маршала Лефевра.
— Ах, мой бедный друг, как ты изменился! — воскликнул Жан Соваж. — Я принял тебя за шпиона; но ты тоже меня не узнал? Мы думали, что ты умер; нам говорили, что тебя убили под Дрезденом.
— Нет, только ранили. Затем меня подняли, и добрейший неприятельский доктор вылечил меня, спас мою жизнь. Да, я теперь узнаю тебя. Ты Жан Соваж, не правда ли? — воскликнул Сигэ, бросаясь в объятия друга, который прижал его к сердцу.
— Я узнаю твой голос, твой взгляд. Я сильно изменился; но это понятно, мне столько пришлось выстрадать, и нужно много времени для того, чтобы силы восстановились! А. ты мало изменился, старина. Это твой солдатский мундир ввел меня в заблуждение; кроме того, у меня теперь лихорадка, голова плохо работает и потому я не сразу узнал тебя, тем более, что не ожидал, что увижу здесь своего приятеля. Я был уверен, что ты находишься в Комбо, возле моей жены и сына. Помнишь, ты обещал мне защищать и охранять их.
— Его жена, его ребенок! — прошептал Жан Соваж, теперь только сознавая весь ужас действительности.
— Да, я понимаю, вы считали меня мертвым. Мое отсутствие, кровавая битва, в которой мне пришлось участвовать, мое долгое молчание заставили вас подумать, что я погиб.
— Действительно, все сведения, полученные мэром, все наши розыски убедили нас, что тебя уже нет в живых! — заметил Жан.
— О, я скоро займу прежнее место в полку! — воскликнул Сигэ. — И надеюсь даже, что с большим повышением, так как имею много знаков отличия. Однако скажи, как поживает моя дорогая Огюстина, что поделывает мой сын? Ты ничего не рассказываешь о них. Я боюсь, не случилось ли с ними какого-нибудь несчастья?
— Нет, нет, не беспокойся, оба вполне здоровы. Они будут очень поражены твоим возвращением.
— Воображаю, как они будут рады, как мы все будем счастливы! А ты, дружище, до сих пор не женился? Что у нас новенького? Как поживает старушка Легран? Да что ты молчишь? Можно подумать, что ты проглотил язык. Впрочем, я понимаю: волнение, радость свидания перед лицом неприятеля сделали тебя немым! Мне знакомы эти чувства; но, несмотря на все пережитое, несмотря на страшную усталость, на боль открывшейся раны, я говорю: «Спасибо, товарищ, за все, что ты сделал для меня и моей семьи».
Сигэ говорил радостным, уверенным тоном. К нему вернулось хорошее настроение, как это бывает у людей, убедившихся, что все пережитые страдания отошли далеко назад. Жану Соважу не хотелось разочаровывать бывшего приятеля и он скрыл от него истину.
Отныне обоим друзьям — Соважу и Сигэ — предстояло разделить между собой одну и ту же женщину, законную жену обоих, мать их детей! Положение было трагическое! Страшно было заглянуть в то недалекое будущее, которое уготовила им слепая судьба.
XVII
В тот же вечер Жан Соваж привел к ла Виолетту своего друга Сигэ. Он объяснил старому воину, при каких обстоятельствах встретил Сигэ, приняв его сначала за шпиона. Ла Виолетт был страшно поражен. Жан Соваж просил ничего не говорить Сигэ о его браке с Огюстиной; он твердо решил скрыть от друга правду и уехать куда-нибудь подальше с женой и детьми. Сигэ, конечно, очень страдал бы, узнав истинное положение вещей, но его страдания были бы ничтожными в сравнении с тем, что испытывала бы Огюстина, встретив вдруг умершего мужа. Необходимо было прежде всего не допустить этого свидания, избежать объяснений. Ла Виолетт, которого Соваж вкратце познакомил с сутью дела, обещал ничего не отвечать на вопросы Сигэ, не выдавать Жана.
Сигэ, увидев бывшего управляющего Лефевра, очень обрадовался. Он рассказал своим товарищам, как его взяли в плен, затем как он бежал оттуда, как его скрывали у себя саксонские крестьяне и с какими затруднениями он добрался до границы Франции, причем ему пришлось сделать большой обход, чтобы не попасть в руки неприятельских разъездов. Теперь он решил снова немедленно взяться за дело и отдал себя в полное распоряжение ла Виолетта.
Жан Соваж оставил Сигэ с ла Виолеттом, которые зашли закусить в один из многочисленных кабачков, а сам отправился на ночь домой, чтобы повидать жену и детей. Он вспоминал, сколько ему пришлось выстрадать, когда Огюстина предпочла ему красавца-солдата, когда они служили оба у герцогини Данцигской. Тогда ему пришлось уступить молодую девушку Сигэ — этому любимцу маршала! Жан Соваж заставил в то время замолчать свое самолюбие, заглушил свою ревность! Но зато теперь он ни за что не уступит сопернику жены. Он готов был на величайшее насилие, решался скорее пойти на преступление, чем снова потерять Огюстину! А между тем у Сигэ были все шансы для того, чтобы овладеть сердцем бывшей жены. Хотя он сильно постарел, но не утерял способности нравиться. Перенесенные страдания героическим ореолом окружали его голову; а ведь женщины преклоняются перед храбростью и всем необыкновенным! Огюстина не переставала оплакивать своего первого мужа, и вот теперь он вдруг появился, как бы чудом воскрес. Жану Соважу всегда казалось, даже в минуты самых нежных излияний, что сердце Огюстины не принадлежит ему всецело. Отдаваясь ему, она точно исполняла долг, завещанный ей первым мужем. Ведь Сигэ просил ее выйти замуж за Жана в случае его смерти. Огюстина была привязана к своему мужу, в ее чувстве к нему большую роль играла жалость; но она не любила его настоящей любовью. Между тем Жан Соваж обожал Огюстину; он отдал бы жизнь за нее, но не мог допустить, чтобы она была в объятиях другого! Он предпочел бы видеть ее на кладбище, чем женой Сигэ.
Однако все размышления Жана не вели ни к чему. Факт совершился, и с ним приходилось считаться. Теперь нужно было сделать так, чтобы Сигэ не узнал, где находится его жена, и чтобы Огюстина и дети не подозревали о возвращении солдата. Соважу пришла в голову мысль о дуэли: он лучше убьет Сигэ, чем уступит ему свое место! Он даже подумал о том, что, сражаясь рядом с Сигэ, можно устроить дело еще проще! В солдата могла попасть неприятельская пуля, а в суматохе сражения очень трудно было бы сказать, из какого ружья вылетела эта пуля.
Соваж расстался с женой с чувством глубокой грусти, причем к последней еще примешивался стыд за преступные мысли, которые, помимо воли Жана, не покидали его. Когда он подошел к своему посту, добровольцы готовились к защите. Курьеры то и дело скакали с приказами, которые противоречили один другому. С медленной важностью раздавались залпы пушек с разных сторон города. Неприятельские авангарды подходили к заставе Клиши. Союзники разошлись и начали атаку со всех сторон. Парижу было трудно бороться с этими разбросанными нападениями. Генералы не могли собраться вместе и давать однородные указания. Император не распоряжался защитой, что вызвало недовольство, открытый ропот горожан. Побег Марии Луизы и маленького Римского короля еще более усилил тревожное настроение парижан; они с грустью, ужасом и гневом приняли это известие.
Застава Клиши, как и предсказывал маршал Монсей, сделалась центральным пунктом нападения. Союзники стремились прорваться через нее, она требовала усиленной охраны, на что понадобились силы Мортье, Мармона и национальной гвардии. Ла Виолетт был очень доволен своими войсками. Он давал советы Жану Соважу и Сигэ и убеждал их не покидать своих позиций.
— Как только начнется сражение, мои друзья, — говорил им опытный воин, — необходимо победить или умереть. Ни один казак не должен вступить в Париж, не будучи пленником. Нужно, чтобы император мог гордиться своими старыми товарищами по оружию; крестьяне должны превратиться в храбрых воинов и защищать город. Я не сомневаюсь в вас, мои друзья! Помни, Жан Соваж, и ты, Сигэ, о жене нашего маршала, дорогой мадам Сан-Жень. Как она будет гордиться своими старыми слугами, увидев их среди защитников отечества. Приготовьте оружие и стреляйте в неприятельскую толпу.
— Вперед, не отступать до самой смерти! — воскликнул Жан Соваж. — Возможно, что один из нас погибнет, — прибавил он затем, обращаясь к Сигэ, — если судьба выбрала для этого меня, то исполни мою просьбу, которая будет состоять в том же, в чем состояла и твоя, когда ты отправлялся в Германию.
— Я не понимаю тебя, — возразил Сигэ, — скажи яснее.
— Если я умру, позаботься о моей жене и ребенке. Тебе их укажет ла Виолетт.
— Это само собой разумеется, мой друг. Долг платежом красен!
— Спасибо, дружище, давай свою руку, я рассчитываю на тебя! — проговорил Жан Соваж, с трудом удерживаясь от рыданий при мысли о том, что он может умереть, а Сигэ узнает правду и снова станет мужем Огюстины.
Ему стоило больших усилий не выдать своей тайны, не признаться товарищу в своем браке с Огюстиной. Если бы Сигэ знал правду, он, может быть, разрешил бы страшную задачу, добровольно подставив свою грудь под неприятельские пули.
Вдруг Жану пришла на память вчерашняя преступная мысль о том, как просто можно избавиться от соперника!
Отряд пруссаков медленно приближался, уничтожая аванпосты.
— Вперед! — крикнул ла Виолетт и бросился в толпу со своими солдатами.
Засвистели пули, бой завязался по всей линии вплоть до заставы Монсо.
Сигэ, позабыв о своей ране, храбро сражался, вооружившись коротким ружьем со штыком. Он очень жалел, что у него не было лошади, чтобы глубже вдвинуться в неприятельские ряды. Жан Соваж не отставал от товарища и, подражая ему во всем, проявлял не меньшую храбрость.
— Я ранен, — вдруг вскрикнул он, — я умираю. Широкая полоса крови обагрила грудь Жана Соважа, он был ранен в плечо. Его глаза были широко открыты, а руки бессильно повисли вдоль тела. Сигэ быстро намочил платок в воде, находившейся в его фляжке, и, сняв с товарища китель, тщательно омыл рану и перевязал ее. Затем он осторожно перенес Соважа в первое безопасное место. Уложив его у тумбы, он хотел вернуться на свой пост, в ряды сражающихся. Но Жан остановил его.
— Я хочу видеть перед смертью Огюстину, — прошептал он. — Не уходи, я должен сообщить тебе большую тайну.
— Я не покину тебя, мой друг, — ответил Сигэ, — мы после повидаемся с Огюстиной, когда одержим победу.
— Нет, я должен видеть ее сейчас же, мне нужно поговорить с ней! — настаивал раненый.
— Будь благоразумен, мой друг, успокойся! Ты ранен очень легко; твое положение неопасно!
— Нет, не говори, я не ошибаюсь; мой счет с жизнью покончен. Ты увидишь Огюстину и все расскажешь ей. Люби ее, она любит тебя тоже. Она осталась тебе верна!
— Что ты говоришь, Жан? Ты огорчаешь меня. Не болтай пустяков.
— О, нет. Это не пустяки. Я знаю, что говорю. Ты счастливее меня. Уверяю тебя, что я погиб. Видишь ли, так как ты не понимаешь сам, я должен открыть тебе тайну, — сказать то, о чем хотел умолчать… — Вдруг тело Жана затрепетало от судорог и руки вытянулись. — Воды! — пробормотал он слабым голосом.
Сигэ приподнял его голову и поднес к губам товарища стаканчик воды с легкой примесью водки.
Раненый схватил дрожащими руками стакан и не мог оторваться от него. Его глаза горели лихорадочным огнем.
Пушки замолкли. Национальная гвардия возвращалась обратно. В битве произошел перерыв. Защитники Парижа были на время победителями. Маршал Монсей во главе рациональной гвардии оттеснил пруссаков к Сен-Дени и захватил нескольких пленных.
Ла Виолетт, завидев Жана Соважа с Сигэ, поспешил к ним. Его сияющее лицо померкло, когда он взглянул на лицо раненого.
— Бедный Соваж, ему очень плохо! — с грустью прошептал он.
— Не знаю, что с ним делать, — сказал Сигэ, бережно опуская на землю голову товарища, — ведь нельзя оставлять его здесь! Нужно поместить его в ближайшую амбулаторию, — продолжал Сигэ, — он хочет, чтобы его отнесли домой, и, кроме того, желает видеть сейчас же Огюстину. Я думаю, лучше сделать это завтра.
— Нет, нет, я хочу сейчас же домой, — прервал его Жан Соваж, с большим усилием произнося слова.
Он ничего не прибавил, но его взгляд был так властен, в нем отражалась такая непоколебимая воля, что ни ла Виолетт, ни Сигэ не решались противиться Жану. Они нашли носилки и положили на них раненого. Ла Виолетт был очень взволнован и обеспокоен тем, что должно было произойти. Он дал адрес жены Жана Соважа и ломал себе голову над вопросом, как не допустить неизбежной встречи Огюстины и Сигэ.
Чтобы сделать это свидание по возможности менее тяжелым, необходимо было по крайней мере предупредить Сигэ. Ла Виолетт ясно видел, что Жан Соваж ничего не сказал товарищу об ужасной действительности. Что произойдет, когда Огюстина очутится перед своим настоящим мужем, почти мертвецом, и бывшим, которого она считала умершим? А он оказался живым и собирался предъявить свои права мужа.
XVIII
Огюстина терпеливо ожидала возвращения мужа и ла Виолетта в своей квартире на улице Бобур. Но ее сердце начинало предчувствовать что-то недоброе: уже давно прошел час обеда, а мужчины все еще не возвращались, хотя они и обещали ей, что не оставят ее одну. Что же случилось с ними?
Она подходила к окну и подолгу всматривалась в черные стены, окружавшие двор и превращавшие ее в узницу страхов и предчувствий. И ее сердце мучительно сжималось, а на главах выступали слезы.
На улицах Парижа так же, как у застав и даже в окрестностях, наводненных неприятелем, повсюду сновали вооруженные люди, волновавшиеся и готовившиеся к бою.
Огюстина с горечью вспоминала свои опасения, испытанные во время немецкой кампании, когда маршал Лефевр увел с собой ее мужа Сигз. Как мучили ее тогда дурные предчувствия! Она чувствовала себя вдовой уже с того момента, когда рассталась с первым мужем. Сколько слез пролила она, когда ей объявили о смерти ее дорогого Сигэ! И вот теперь судьба заставляла ее переживать те же опасения, ее преследовала та же участь.
И бедная женщина не могла отделаться от навязчивого предчувствия, что с минуту на минуту сюда придет кто-нибудь с известием о ранении или смерти Жана Соважа или его принесут сюда истекающего кровью, пронзенным казацким копьем.
Все существо Огюстины протестовало против этих предчувствий, но в тяжелом одиночестве ожиданий черные мысли одолевали ее. Ведь она не знала решительно ничего о том, что делается на улицах, в каком положении и взаимоотношении находятся обе армии.
И эта тишина, это отсутствие Жана Соважа и ла Виолетта становились все более и более необъяснимыми, волнующими.
Нет, надо было выйти из дома, ходить, говорить, узнать что-нибудь! Она сумеет сама разобраться в спутанном лабиринте парижских улиц, расспросить дорогу, а, быть может, пушечная пальба поможет ей ориентироваться. Ей хотелось снова увидеть Жана Соважа, сейчас же, немедленно, быть рядом с ним, ухаживать за ним, спасти его, если он ранен. Она будет держаться вблизи от него, будет сражаться бок о бок с ним, если это понадобится. Разве женщины не бывали солдатами? И она уже упрекала себя, зачем отпустила его одного без себя. Нечего было слушать ла Виолетта, который уговорил ее скрыться в центре города и отодвинуться подальше от застав, где на карту военного счастья в данный момент ставились вся Франция, французы и их судьба.
Огюстина встала, полная решимости.
Она хотела идти, но юбка не пустила ее: маленькие ручки крепко вцепились и не пускали ее. Это были ее дети, которые сквозь дрему тесно прижимались к ней. Один из мальчиков открыл глаза.
— Мамочка, не уходи! — сказал он. — Не оставляй нас одних, я боюсь. А где папочка?
— Он сейчас придет, моя крошка! — ответила Огюстина, склоняясь к ребенку и целуя его. — Надо быть умником и спать. Смотри, какой умник брат!
Она начала нежно укачивать крошку, положившего свою головку к ней на руки, и ласками и поцелуями заставила его заснуть. Вскоре мальчик опять задремал.
Когда дыхание спящего ребенка стало легким и почти незаметным, что свидетельствовало о глубоком сне, то мать осторожно снесла его на кровать. Там она положила его рядом с братом и вышла на цыпочках из комнаты, осторожно затворив за собой дверь.
Огюстина попросила соседку посмотреть за детьми и успокоить их, если они проснутся и расплачутся, и сказала, что скоро вернется обратно.
На часах ратуши было половина пятого. По улицам сновала большая толпа, которая сходилась в небольшие группы, откуда раздавались угрожающие возгласы. Огюстина хотела пройти к заставе Клиши и пыталась понять, что так волнует эту толпу. Но никто не слушал ее вопросов и не отвечал.
Уже с шести часов утра на всех заставах Парижа шел ожесточенный бой, и последний час геройского 30 марта должен был стать последним часом империи. Дурные вести с громадной скоростью распространялись по городу. У всех на устах были горькие слова о понесенных поражениях, причем значительность их и количество мертвых и раненых сильно преувеличивались толпой. Курьеры летели один за другим. То и дело проносили раненых. Всем становилось ясно, что наступил конец, если только не подоспеет Наполеон.
Отъезд Марии Луизы вырисовывался теперь в своем истинном свете. Это было предательством, недостойной подлостью! Она не смела оставлять Париж на произвол судьбы; эта распутная, вероломная австриячка не имела права обрекать столицу на грабежи и насилия вражеского нашествия. Как-никак, а она была дочерью австрийского императора; ее отец находился в числе прочих завоевателей; будь она в Париже, так союзники не осмелились бы обречь столицу на разгром, а ее бегство отдавало теперь население во власть всем случайностям приступа!
И тех, кто содействовал этому бегству, тоже честили на всех перекрестках.
30 марта, перед рассветом, Мармон выступил на свои позиции из Шарантона. Жозеф с братом Жеромом с Монмартрских высот наблюдали за движениями войск. Войска Мармона обогнули Париж у Сен-Манде и Шаронны и утвердились на высотах Менильмонтана и Бельвиля. Но сейчас же неприятель атакой за атакой повел решительное наступление на французов и заставил их отступить к Пре-Сен-Жервэ. Как ни храбро сражались французы, но они уступали по численности неприятелю, да и терпели недостаток в артиллерии. Кроме того они не успели как следует отдохнуть. Поэтому куда ни обращал взор Мармон, он везде видел успехи союзных войск. При Шаронне и Менильмонтане союзники на скорую руку выдвинули свои батареи и стали осыпать французов ядрами, из которых некоторые стали попадать даже в самый Париж.
Тем временем и короли Жозеф и Жером очутились в опасном положении. Император Александр, который не только следил, но и руководил всеми действиями союзников под Парижем, приказал графу Ланжерону взять во что бы ни стало Монмартр. Увидев подступавшую грозную щетину войск, а также выдвигаемую грозную артиллерию союзников, против которой Монмартр мог выставить только семь пушек, Жозеф, опасаясь попасть в плен, поспешно оставил со свитой Монмартр. Он видел теперь, что дальнейшее сопротивление бесполезно и может только нанести ущерб Парижу. Поэтому он начал немедленно подготавливать сдачу. С этой целью он написал графу Молэ, обер-прокурору, следующее письмо:
«Благоволите, Ваше Сиятельство, предупредить министров, что по обстоятельствам момента следует выехать из города вслед за императрицей. Предупредите сенаторов, членов государственного совета» и т. п.
В то же время он послал своего флигель-адъютанта, генерала Штрольца, к Мортье и Мармону, которых уполномочивал вступить в переговоры с неприятелем о сдаче Парижа.
Маршалы Мармон и Мортье не согласились сейчас же капитулировать и, несмотря на недостаток оборонительных средств, продолжали геройски защищаться. Но все их упорство не привело ни к чему. Несмотря на безгранично отважную борьбу учеников ветеринарного института, Сен-Мор и Шарантон были взяты; Берси уже не мог держаться; Венсен, где львами дрались ученики политехнического института, был занят вюртембергскими войсками.
Все было напрасно — союзные войска шаг за шагом оттесняли французов и приближались к Парижу. Красавцу-городу грозило неминуемое разрушение, так как неприятельские ядра все чаще залетали туда. И, не видя иного исхода, Мармон принужден был воспользоваться данным ему Жозефом разрешением.
Император Александр собирался отдать гвардии приказание вступить в бой и решительным натиском довершить победу, когда к нему явился французский офицер, сказавший:
— Маршал Мармон просит прекратить военные действия и условиться о перемирии.
— Соглашаюсь на просьбу вашего маршала, — ответил император, — я прикажу остановить сражение, но с условием немедленной сдачи Парижа; иначе к вечеру не узнают места, где была ваша столица!
Император приказал затем флигель-адъютанту Орлову ехать к маршалу Мармону и заключить с ним предварительные условия. Подъехав к передовой цепи, Орлов увидал там какого-то генерала, который с обнаженной шпагой в руках ободрял утомленные войска; это и был сам Мармон.
— Я герцог Рагузский, а кто вы? — спросил его Мармон.
— Полковник Орлов, адъютант русского императора. Его величество хочет спасти Париж.
— В этом состоит и мое единственное желание, иначе нам ничего не останется, как умирать здесь. Какие ваши условия?
— Прекратить военные действия, французским войскам войти в заставы и тотчас назначить уполномоченных договариваться о сдаче Парижа.
— Согласен. Герцог Тревизский и я, мы поедем к заставе ла Вилетт для переговоров. Итак, к делу! Скажите, чтобы союзники перестали стрелять. До свидания!
По возвращении Орлова государь велел графу Нессельроде ехать к маршалам для заключения мира. С ним отправились Орлов и адъютант Шварценберга, граф Пар. Кроме того, сейчас же во все стороны разослали офицеров с приказанием прекратить пальбу. Но войска, ожесточенные упорным сопротивлением французов, очень неохотно повиновались, и окончательно сдержать их было довольно трудно. Кроме того, войскам, шедшим на приступ Монмартра, не успели доставить приказание прекратить враждебные действия, и громовое «ура» овладевших Монмартрскими высотами солдат долетело до ушей парламентеров, заседавших в маленьком кабачке «О Пти Жардинэ» у заставы ла Вилетт.
Слухи о начавшихся переговорах быстро облетели население и привели его в то состояние крайнего возбуждения, которое заметила Огюстина, выйдя на Гревскую площадь. По улицам бежали женщины и дети, плачущие, объятые страхом. Часть мужчин готовила на скорую руку носилки и отправилась за ранеными, причем в частных квартирах устраивали перевязочные пункты, другие же гневно говорили о том, что сдача невозможна, что бой должен быть перенесен на улицы Парижа, что каждый дом должен стать батареей.
Среди всей этой растерянности, отчаяния, страданий за родину и нацию личная забота Огюстины казалась слишком мелкой и незначительной. И бедная женщина окончательно потеряла голову: она даже не помнила теперь, зачем вышла на улицу. Ее личное горе растворилось в общем страдании народа.
Она забыла о Жане Соваже, ла Виолетте и дорогом усопшем Сигэ, мысль о котором неотступно преследовала ее весь день. И, не стараясь уже пробраться к застав. Клиши, где сражались Соваж и ла Виолетт, Огюстина бросилась домой, к детям. Но дома ее поджидала новая драма.
XIX
Огюстина торопливо поднималась по лестнице.
Из ее квартиры доносился какой-то смешанный гул голосов, среди которого выделялся детский плач. Прислушиваясь, затаивая дыхание, чувствуя, что ужас сжимает горло, Огюстина на мгновение замерла перед дверью, не решаясь открыть ее, не смея войти. Какое новое несчастье ждет ее там? Почему дети плачут? Кто пришел туда?
Вдруг дверь открылась, и на пороге показался ла Виолетт.
— А, — сказал он, — а мы вас ждем с большим нетерпением! Где вы были? Откуда вы?
— Я отправилась искать вас, — тревожно ответила женщина. — Я очень беспокоилась, я была слишком одинока, мне хотелось знать, что с вами делается. Но где Жан? Что случилось? Он умер?
— Успокойтесь… Это пустяки. Он просто ранен. Говорю вам, что особенной опасности не предвидится. Будьте мужественны и не отчаивайтесь.
— О, я готова ко всему! Но я хочу видеть Жана. Отведите меня к нему, не будем терять время даром.
— Хорошо, сейчас. Но сначала я должен сказать вам кое-что, — ответил ла Виолетт, понижая голос до шепота, подыскивая слова, которыми он мог бы выразить свою мысль.
Его лоб был озабоченно наморщен, а длинные руки с выражением отчаяния свисали по бокам. Он был в большом затруднении. Как сказать вот этой женщине, что ее покойный муж нашелся, что Сигэ, которого она оплакивала, по которому носила траур и которого в конце концов заменила Соважем, не умер, что он теперь у нее, что она сейчас увидит его и будет говорить с ним? Их свидание будет тягостным и неприятным для всех, а для нее — жестоким. И честному ла Виолетту очень хотелось теперь, когда Жан Соваж находился в безопасности, незаметно скрыться, исчезнуть, вернуться на укрепления и продолжать стрелять во вражеские войска.
— Ну так в чем же дело? Говорите, господин ла Виолетт! — воскликнула Огюстина. — Что еще случилось? Да говорите же! Скажите всю правду! Не обманывайте меня — я по вашему лицу вижу, что дело неладно. Жан умирает, может быть, уже умер? Я пришла слишком поздно, и теперь все кончено? Вы не решаетесь сказать мне всю правду?
И слезы брызнули из ее глаз, в тревоге уставившихся на ла Виолетта.
— Да нет, вовсе не в этом дело, — ответил тот. — Жан там, я притащил его сюда с помощью некоего бравого парня, которого вы тоже знаете и которому очень хочется свидеться с вами. О, вы будете страшно поражены!
— Жан жив! Он здесь! — вскрикнула Огюстина, не обращая внимания на последние слова ла Виолетта. — О, я спасу его! Где он?
И, не дав ла Виолетту докончить свое признание, договорить фразу до конца, она бросилась в комнату.
В скудно освещенной маленьким решетчатым окном спальне лежал Жан Соваж. Огюстина подбежала к нему, покрыла его поцелуями и принялась ласковой рукой ощупывать его руки, голову, щеки. Раненый был без сознания.
Воцарилось молчание. Шум и плач, услышанные Огюстиной сквозь входную дверь, смолкли. Она обернулась с сияющим выражением лица. Жан Соваж жив! О, она не даст ему умереть. Она умела обращаться с ранеными, — вот уже двадцать лет, как благодаря вечным войнам недостатка в раненых не было ни у одной семьи…
В углу сидели дети, которые теперь молчали, низко опустив головы. У окна сидел какой-то мужчина, лицо которого нельзя было разглядеть в царившей полутьме.
Огюстина подошла к детям и поцеловала их.
— Ах, мамочка, как мы боялись. Папа плакал, жаловался. Что с ним такое? Его положили на кровать, а он даже и не поговорил с нами!
— Пойду-ка поищу доктора, — сказал ла Виолетт, который искал предлог улизнуть. — Нелегко это сегодня! Нечего сказать, им досталось порядочно-таки работы! Я дойду до заставы Клиши, но останусь там ненадолго. Хочу посмотреть, что там делается — наверное, там горяченько приходится! Не правда ли, вы обойдетесь при Соваже и без меня? Привет всей компании!
И с этими словами ла Виолетт поспешил скрыться.
Как только он ушел, человек, сидевший у окна и не сказавший еще ни одного слова, встал и подошел к кровати, куда тем временем вернулась Огюстина. Раненый тяжело дышал. Его жена склонилась к нему и тревожно всматривалась в его лицо.
— Вы не узнали меня? — вдруг сказал человек, трогая молодую женщину за руку.
Огюстина быстро обернулась на звук его голоса.
— Нет, не узнаю. А кто вы такой? — просто спросила она. Но вдруг ее лицо покрылось смертельной бледностью, губы задрожали и из груди вырвался крик: — Сигэ!
— Да, это я. Вы не ждали меня?
— Теперь я все поняла, обо всем догадалась, — с горечью сказала она. — Но ла Виолетту следовало бы предупредить меня обо всем. По крайней мере для меня это было бы не так больно. Бедный друг мой! Я не верю своим глазам. Ты, которого занесли в списки выбывших из строя, мертвых, ты явился сюда?
— Да, да, понимаю! Ты подумала, что я исчез навсегда, ты вышла замуж за Жана, и рок опять свел нас при таких трагических обстоятельствах.
— Да, нам не повезло. Что за страшное несчастье!
— Не бойся ничего, Огюстина, я ни в чем не упрекну тебя. Я и не порицаю тебя; ты, должно быть, сильно страдала и плакала при известии о моей смерти. А теперь ты плачешь оттого, что я снова перед тобой! Но и я должен оплакивать тебя теперь, тоже плакать, тоже страдать в свой черед, проклинать злую судьбу, которая разлучила нас. Но у меня не хватает духа обвинять обстоятельства, которые снова свели нас.
Огюстина должна была присесть. Все ее лицо было залито слезами.
Дети подошли поближе. В их взорах виднелись изумление и тревога. Отец ранен, почти умирает, без сознания лежит на постели, мать чем-то удручена. Покров тайны носился над всем этим и погружал их детские сердечки в глубокую грусть. Они не знали, что им делать. Страх подавлял их рыдания.
Сигэ молча стоял, не решаясь прибавить еще что-либо.
Но ему все-таки захотелось узнать, который из детей принадлежит ему, чтобы взять сына на руки и покрыть его поцелуями. Но он был так плохо одет, его лицо было так истомлено усталостью и плохо залеченной раной, что его вид с первого взгляда не внушал доверия.
И, словно боясь его, дети еще теснее прижались к матери, как бы умоляя защитить их от этого незнакомца.
Огюстина рассеянно ласкала их. Не выдерживая больше, Сигэ красноречивым взглядом попросил Огюстину показать ему, который из двух детей его сын. Не отвечая, чувствуя, как к ее горлу подступают рыдания, она кивком головы показала на того мальчика, который особенно недоверчиво и испуганно глядел на незнакомца, в то же время она встала и подошла к кровати, чтобы не видеть трогательной сцены.
Сигэ схватил ребенка на руки и покрыл его поцелуями. Испуганный этим взрывом нежности, ребенок отбивался и рвался из рук отца.
Жан Соваж захрипел. Дыхание со свистом вырвалось с его запекшихся уст.
Вливая ему в рот маленькими глотками успокоительное питье, Огюстина смягчила пыл лихорадки, и больной снова начал дышать ровно.
В комнате воцарилась тишина. Поджидали возвращения ла Виолетта, который должен был привести с собой доктора. Смущение сковывало Огюстину и Сигэ, они не решались заговорить, и в их конфузливых взглядах проскальзывали воспоминания о радостях их былой, юной любви. Мысленно они переживали свое прошлое. Они посматривали друг на друга, но сейчас же отворачивались, когда их взгляды встречались. Они понимали, как ужасно было бы вызывать теперь у постели умирающего призрак прошей любви, и хранили молчание.
Тем временем ла Виолетт вернулся на свой пост, не зная о том, что произошло в его отсутствие. Он ободрял своих людей, и дорога Сен-Дени все еще оставалась недоступной для неприятельских войск.
Моисей, руководивший защитой Клиши, отказался сдаться. Он с геройской отвагой держался в первых рядах, поднимая дух в сердцах национальных гвардейцев, готовый перенести защиту в самый центр Парижа, отстаивая дом за домом. Среди храбрых граждан, этих импровизированных солдат, составлявших его войска, никто не думал о сдаче; около Монсея парижане становились героями. Они все еще надеялись на возвращение императора и держались, не уступая ни пяди.
К пяти часам число раненых и убитых возросло до значительной цифры, но отряд Монсея все еще держался. А в маленьком кабачке у заставы ла Вилетт тем временем решалась судьба Франции, и все это геройство становилось лишним, ненужным.
Переговоры начались требованием графа Нессельроде, чтобы войска сложили оружие и сдали Париж. На последнее маршалы были согласны, но категорически отказались сложить оружие, ссылаясь на то, что их блестящее прошлое не знало таких позорных условий. «Скорее погибнем, чем подпишем такое условие!» — заявили они. Им представляли всевозможные доводы, им указывали, что из-за их упорства Париж будет взят приступом, что повлечет за собой ряд бедствий для столицы; взятие Монмартра, о котором мы упоминали в прошлой главе, было тоже немалым доводом, но маршалы оставались непреклонными — они не могли и не хотели признать себя военнопленными.
Из-за этого граф Нессельроде был вынужден возвратиться к императору Александру, чтобы испросить новые инструкции. В семь часов вечера император снова отправил графа к заставе ла Вилетт и разрешил не настаивать на сдаче французских войск военнопленными. Но союзникам хотелось предотвратить соединение Наполеона с войсками, защищавшими Париж, и потому, разрешив предоставить французам свободное отступление, император велел Нессельроде оставить за собой право назначить дорогу, по которой могло произойти это отступление.
Нессельроде изложил эти условия.
— Куда же вы хотите направить нас? — спросил Мармон.
— В Бретань! — ответил граф.
На это маршалы возразили ему, что Париж не обложен неприятельскими войсками, так что и защищая Париж, французы могут, отступая шаг за шагом, отойти к Фонтенбло.
— Военное счастье на вашей стороне, — заметил Маркой, — ваш успех несомненен. Так будьте же великодушны и умеренны, не доводите нас до крайности.
Поэтому графу Нессельроде снова пришлось ехать к императору Александру за инструкциями.
Выслушав его, император приказал послать курьера к оставшемуся в Париже Орлову с приказом составить и подписать капитуляцию, не настаивая на выходе войск по назначенной союзниками дороге. Получив высочайшее повеление, Орлов в четверть часа составил условия капитуляции, которые и были тут же подписаны. Они заключались в следующем: 1) Мортье и Мармон обязываются не позже семи часов следующего дня вывести свои войска из Парижа; 2) военные действия не могут быть возобновлены ранее двух часов по выступлении французских войск из города; 3) французы должны сдать союзным войскам арсеналы и магазины в том виде и состоянии, в каком они находились в момент подписания капитуляции; 4) национальная гвардия и жандармерия не входят в состав удаляемых из Парижа войск; по усмотрению союзников они могут быть либо распущены, либо по-прежнему оставлены для несения гарнизонной и полицейской службы; 5) раненые и отставшие, найденные после десяти часов утра, признаются военнопленными; 6) Париж поручается великодушию союзных монархов.
Сейчас же были посланы офицеры ко всем отрядам еще защищавшимся с приказанием прекратить сопротивление и отступить. И тому самому Монсею, который потратил так много энергии и огня на то, чтобы вдохнуть геройский дух в защитников Парижа, пришлось лично сдерживать своих людей.
— Да чтобы черт взял мою душу! — прорычал ла Виолетт. — Как? Мы сдаемся? Но что скажет о нас император! Он еще явится, я уверен в этом; предатели отлично знают это, поэтому-то они и торопятся так с капитуляцией. Император завтра же будет среди нас, он сумеет защитить нас! Нет, ребята, мы должны еще продержаться!
— Бесполезно! Капитуляция уже подписана, мой храбрый ла Виолетт, — сказал маршал Монсей. — Как знать, что уготовано нам на завтра! Но не отчаивайтесь! Мы еще получим реванш позднее. А в данный момент необходимо повиноваться тем, кто приказывает сложить оружие!
И крупные слезы покатились по загорелым щекам Моисея.
Ла Виолетту и его команде не оставалось больше ничего, как подчиниться приказу очистить Париж. Это так поразило его, что он был совершенно удручен и не понимал, что борьба была кончена и империя погибла. Он все еще верил в императора, в маршала Лефевра, в добрую мадам Сан-Жень. Разве не обещал он ей, что как бы то ни было, а император и ее муж явятся освободить Париж? Но разве пока что пришлось сложить оружие, то почему не навестить приятелей?
Он торопливо направился к улице Бобур вместе с врачом, которого встретил на перевязочном пункте.
Огюстина открыла ему дверь.
Доктор осмотрел рану Жана Соважа и попросил оставить его наедине с раненым, чтобы он мог лучше поставить свой диагноз. Ла Виолетт забрался в угол; Сигэ и Огюстина прошли в соседнюю комнату вместе с детьми.
Страшная тревога терзала молодую женщину.
Сигэ приблизился к ней и взял ее руку.
— Послушай, — сказал он, — мы потом поговорим о прошедшем и о будущем, а теперь мне хочется поцеловать тебя.
— О, нет, нет, — воскликнула Огюстина, отстраняясь от него, — это было бы слишком дурно. Подумай только: Жан лежит здесь рядом, может быть, даже умирает!
— Я уйду, я не могу оставаться с вами, для меня это слишком тяжело; да, я вижу, что и ты страдаешь. Скажи мне, что я не противен тебе, Огюстина, и я исчезну. Обещай мне, что ты будешь крепко любить нашего сына, а затем, когда мы станем старше и несколько успокоимся, ты позволишь мне видеться и говорить с ним. Отвечай же! Ты не ненавидишь меня?
— Не спрашивай, я не могу отвечать; ты видишь, ты понимаешь, что я не принадлежу себе. Прости меня, я не знаю, лучше ли тебе уйти или остаться, но не будем говорить ни о будущем, ни о прошлом, ни о нашем ребенке. Счастье для нас окончено. Мы даже не знаем, что ожидает нас завтра. Что будет с Жаном? Куда я денусь?
В эту минуту ла Виолетт приоткрыл дверь и крикнул:
— Идите скорее! Доктор говорит, что наш дорогой Жан выздоровеет. Весь вопрос только в нескольких днях. Он отвечает за жизнь раненого.
Доктор с непроницаемым видом писал рецепт, наклонившись над столом.
— Вот это оживит вашего мужа, — обратился он Огюстине, — можете успокоиться на его счет, я вам ручаюсь за него. Нужно только избегать нервного потрясения, которое может вызвать вновь лихорадку и бред. Ему нужен покой, только покой, и в течение двух недель он поправится.
Огюстина и Сигэ обменялись многозначительным взглядом, в котором выражались удивление и затаенное неудовольствие. В глубине души, даже не отдавая себе отчета в этом, они надеялись на другой исход.
Огюстина любила Жана; она решила остаться верной ему, несмотря на неожиданное возвращение первого мужа. Она готова была отдать жизнь для того, чтобы спасти Жана, и слова доктора должны были бы сделать ее счастливой, но на деле вышло не так, — воспоминание о Сигэ было слишком живо в ее сердце! Сколько раз она мысленно представляла его черты, его выражения, его жесты. Она не могла забыть его, даже думая, что он в могиле. И вдруг Огюстина увидела его живым, увидела того, которого так долго и горько оплакивала! На одно мгновение ей пришла в голову постыдная мысль, что она может, оставаясь с Жаном, ухаживая за ним, продолжать быть женой Сигэ, вести ту счастливую жизнь, которая была прервана ужасной войной. Но она поспешила отогнать эту недостойную мысль. Да и помимо всего последняя была совершенно неосуществима. Выздоровевший совершенно Жан пожелал бы вернуть прежний образ жизни, хотел бы иметь покой в своей семье, и присутствие Сигэ было бы невозможным. Огюстина не могла быть женой обоих и разделить себя между двумя мужьями. Но если бы она даже настолько пала, что согласилась бы на такую комбинацию, Сигэ был слишком честным человеком для того, чтобы принять ее.
«Жан, конечно, не знает о возвращении Сигэ, — думала Огюстина, — что он почувствует, увидев его? Доктор сказал, что Жану необходим полнейший покой. Но как только он придет в себя и заметит у своей постели Сигэ, он будет страшно потрясен. Тогда возврат лихорадки неизбежен! Нужно избавить Жана от этого потрясения, которое может стоить ему жизни. Необходимо удалить Сигэ!»
Огюстина окинула его взглядом, полным нежности, сострадания и горя. Сигэ понял эту немую мольбу. Он вытер слезу, дрожавшую на реснице, и тихо произнес:
— Прощай, Огюстина! Я постараюсь найти маршала и вернусь в свой полк. Вероятно, мы еще будем драться, и то, что не удалось в один раз, может случиться в другой. Пуль найдется достаточно в ружьях неприятелей.
Затем он схватил в объятия сына, сильно прижал его к груди и, ни разу не оглянувшись, удалился. Может быть, он хотел скрыть слезы, которые струились по его щекам!
Огюстина опустилась на колени перед постелью дремавшего Жана и тихо пробормотала:
— Господи, да будет воля Твоя!
XX
Нужно отдать должное даже изменникам. Надо сознаться, что сам Наполеон облегчил изменившим ему генералам их нечестный поступок. Париж не был укреплен. Император не распорядился, чтобы народу, желавшему поддержать солдат Мармона, Мортье и национальную гвардию, было выдано оружие. Наконец, Наполеон должен был отказаться от своего похода на восток и спешно вернуться в Париж; тогда он подошел бы к столице на три дня раньше, имея за собой армию в сто тысяч человек. Несомненно, что тогда союзникам не так легко было бы овладеть Парижем, а изменникам не удалось бы привести в исполнение свои недостойные замыслы. Император слишком сильно понадеялся на свое счастье, жену и брата Жозефа, поэтому ему пришлось почувствовать себя тройным банкротом. Он надеялся отвлечь неприятеля от Парижа, но союзники, секретно уведомленные о планах Наполеона Мобрейлем, оставили лишь часть кавалерии в Шампани, а сами ускоренным шагом направились в Париж. Таким образом все замыслы императора рухнули.
Первая измена — самая страшная — была со стороны Марии Луизы. Когда императрица согласилась покинуть Париж со своим сыном, она должна была сказать себе, что навсегда теряет Наполеона и французскую корону. Присутствуя в совете регентства в качестве представительницы, Мария Луиза твердо решила, что она убежит из Парижа, несмотря ни на какие советы и уговоры. Многие голоса на этом высшем собрании напоминали Марии Луизе о чести и обязанностях французской императрицы; они убеждали ее отправиться в городскую ратушу с сыном на руках, показать его народу и призвать к защите города всех, кто способен держать в руках оружие и умереть на баррикадах Мария Луиза выслушала советы и тем не менее начала готовиться к отъезду.
В восемь часов утра императрицу уже ждали запряженные экипажи. Король Жозеф успел уже скрыться под тем предлогом, что желает произвести смотр аванпостам. Больше его в Париже не видели.
Известие об отъезде Марии Луизы сильно взволновало защитников Парижа. Многие не хотели верить этому. Офицеры национальной гвардии, дежурившие в Тюильри, проникли в комнату императрицы. Мария Луиза, уже совсем готовая к путешествию, сидела в кресле и плакала. Она еле ответила на поклоны офицеров и почти не слушала их просьб остаться в Париже, хотя они уверяли ее, что будут защищать свою императрицу и маленького Римского короля до последней капли крови. В десять часов Мария Луиза сошла вниз совершенно спокойная, почти счастливая. Она чувствовала себя освобожденной и с нетерпением ждала новой жизни. Прошлого ей не было жаль, она не дорожила короной.
Маленький Римский король не хотел оставлять Францию и дом своего отца.
Мальчик ни за что не хотел сойти с лестницы, так что его пришлось насильно унести.
— Я не хочу уезжать из своего дома, — плакал маленький король, вырываясь из рук, державших его, — скоро приедет папа, я хочу подождать его здесь. Когда папы нет, я хозяин. Я хочу оставаться дома, слышите, господа? Я король и приказываю вам не уезжать. Папа накажет вас, если вы не исполните мое приказание.
Двое слуг схватили маленького короля и, несмотря на его крики, усадили в большую коляску, в которую сел также и его воспитатель.
Ребенок забился в угол экипажа, не переставая кричать:
— Папа, папа!
Десять тяжелых колясок составили печальный кортеж, медленно продвигавшийся среди молчаливой толпы любопытных в Рамбуйе, где Мария Луиза должна была быть к вечеру.
Наполеон потерял сразу скипетр, жену и сына. Императрица Мария Луиза нашла успокоение в объятиях обожаемого возлюбленного. Нейпперг торжествовал. Его ненависть к Наполеону получила удовлетворение. Мария Луиза сладко мечтала, сидя в карете; по временам на ее мало выразительном лице появлялась улыбка. Маленький Римский король перестал плакать, но на его детском личике разлилась печаль, которая навсегда запечатлелась на нем.
* * *
Наполеон во время этих событий находился в Дулеване. Он рассматривал свои карты, когда ему доложили о приходе маршала Лефевра. Император дружески принял своего старого боевого товарища и, заметив его расстроенный вид, спросил, здоров ли он.
— Да, ваше величество, я здоров, но предпочел бы быть больным, — ответил герцог Данцигский, — моя жена здесь…
— Ах, эта милая Сан-Жень! Но ведь очень хорошо с ее стороны, что она приехала навестить тебя. Герцогиня, вероятно, привезла свежие новости из Парижа? Попроси ее сейчас же прийти сюда.
— Да, она действительно привезла новости и ждет разрешения вашего величества сообщить их вам, — ответил Лефевр, после чего подошел к порогу зала и открыл дверь в следующую комнату, где на скамье сидела Екатерина со строгим, озабоченным лицом.
— Войдите, герцогиня, — любезно пригласил Наполеон, идя навстречу жене маршала, и с обычной торопливостью задал ей несколько вопросов.
Со свойственной ей откровенностью Екатерина Лефевр сообщила императору все, что считала нужным. Она рассказала, что народ настроен хорошо, но что императрицу окружают дурные люди и плохие советники. Она выразила мнение, что императору пора вернуться в Париж, если он желает спасти трон и столицу. Он должен как можно скорее успокоить патриотов, задержать неприятеля и пристыдить изменников.
Наполеон призадумался, а затем пробормотал:
— Возможно, что вы правы, герцогиня; мое присутствие было бы, конечно, полезно там; но здесь я ближе к Берлину и Вене, чем мой тесть и император Александр к Парижу. Еще одна неделя — и они в моих руках, да, в моих руках! Я хочу вернуться в Париж после победы.
— Ваше величество, время не терпит, — возразила Екатерина Лефевр, — ваши лучшие друзья, вернейшие слуги, даже маршалы требуют вашего возвращения. Все устали от войны и думают, что мир может быть заключен, если вы будете в Париже. Спросите Лефевра.
— А что ты думаешь об этом, старина? — обратился император к Лефевру.
— Моя жена высказала то, что мы все думаем, ваше величество. Ваше возвращение в Париж необходимо.
— Да, я знаю, что около императрицы имеются вероломные люди. В Париже измена свила себе прочное гнездо, — мрачно заметил Наполеон.
— Не только в Париже, ваше величество! — живо воскликнула жена маршала. — Да, да, я скажу вам то, в чем не смеет признаться Лефевр. Сегодня утром, приехав сюда, я застала мужа в горячем споре с другими генералами. Знаете ли вы, что они хотели от него? Они требовали, чтобы Лефевр отправил в Париж императорскую гвардию и покинул вас. Но это еще не все, ваше величество. Некоторые из них имели дерзость заявить, что только ваша смерть может успокоить страну.
— Они с ума сошли! — спокойно ответил император. — Что же ответил Лефевр на совет изменить мне, на предложение избавиться от меня?
— Лефевр выхватил саблю, ваше величество, и крикнул: «Молчите, несчастные! Я распоряжаюсь здесь. Если кто-нибудь из вас осмелится угрожать императору, то будет иметь дело со мной. Предупреждаю, что я защищаю его величество и отомщу за него!»
Наполеон быстро подошел к Лефевру и поцеловал его.
— Я узнаю тебя, мой старый товарищ, — проговорил он. — Но не следует обращать внимание на слова этих господ. Война возбуждает всех, приводит в отчаяние. Говорят часто то, чего не думают, и не дают себе отчета в том, что говорят. Это дурное настроение в лагере не пугает меня. Временное недовольство генералов сменится энтузиазмом при первом же сражении. Но все же совет герцогини очень хорош, и я воспользуюсь им.
Расспросив еще Екатерину Лефевр об императрице, Наполеон отпустил маршала и его супругу. Известие о том, что Мария Луиза собирается покинуть Париж, заставило императора сильно призадуматься. Результатом этого откровенного разговора было то, что Наполеон отказался от своего первоначального плана. Он изменил свое намерение направиться к северу и решил вернуться в Париж. Он отправил вперед герцогиню Данцигскую с генералом Дежаном, своим адъютантом, и поручил им сообщить императрице и королю Жозефу о его быстром прибытии в Париж. Поспешно были сделаны нужные распоряжения, и армия быстрым шагом двинулась к столице, делая по восемнадцати миль в день. 30 марта Наполеон, желая скорее приехать в Париж, передал командование армией Вертье, который должен был привести ее в Фонтенбло, а сам взял почтовых лошадей и помчался к столице. Он не переставал Думать о том, что если Екатерина Лефевр сказала правду, то Париж находится уже накануне разгрома, а Мария Луиза собирается покинуть Францию. Хотя жена маршала не упомянула имени Нейпперга, Наполеон не сомневался в его присутствии в Париже и в его дурном влиянии на императрицу. Теперь дело шло не только о защите столицы и короны, но и о спасении жены и сына. Не отдыхая, нигде не останавливаясь, чтобы поесть, император мчался вперед. Скоро он оставил почтовых лошадей, которые, по его мнению, ехали слишком медленно и пересел в коляску Коленкура. За ним следовали еще два экипажа: в первом сидели Друо, Длаго и адъютант, а во втором — офицер-ординарец и маршал Лефевр.
Герцог Данцигский чувствовал себя помолодевшим и сиял от радости. Император поручил ему созвать народ и рабочих Парижа для защиты столицы.
Ночью 30 марта императорская коляска остановилась перед дверью маленькой гостиницы в деревне Фроманто, находящейся в четырех с половиной милях от Парижа.
Почти в эту минуту рысью проехал мимо отряд кавалерии. Это был авангард Мортье.
— Стой! — крикнул Наполеон.
Начальник отряда Белльяр, пораженный, остановился, узнав голос императора. Наполеон подозвал его и с лихорадочным нетерпением начал расспрашивать:
— Где армия?
— Следует за мной, ваше величество!
— А где неприятель?
— У стен Парижа!
— Кто защищает Париж?
— Никто, он эвакуирован.
— Как? А где же моя жена, мой сын?
— На Луаре!
— Кто это так распорядился?
— Это было желание вашего величества! — в недоумении ответил Белльяр.
— Неправда, я никогда не выражал такого желания, — возразил Наполеон. — Следовало подождать меня. Но где же король Жозеф, Кларк, Мармон, Мортье? Куда они все подевались?
— Мы весь день не видели, ваше величество, ни короля Жозефа, ни Кларка. Что касается Мармона и Мортье, то они вели себя прекрасно. Их войска дрались поразительно. Национальная гвардия храбро защищала высоты Бельвиля. Удалось сохранить Монмартр, хотя на нем было только несколько пушек. Застава Клиши была центром ожесточенного сопротивления. Неприятель, отступая, едва не попал в Сену. Ах, ваше величество, если бы у нас был резерв в десять тысяч человек, мы потопили бы союзников в Сене и спасли бы Париж. О, если бы вы были с нами!
— Я не могу быть одновременно везде, — недовольным тоном возразил император. — Но я должен был ждать этого. Из-за Жозефа я потерял уже Испанию, а теперь должен потерять и Францию. А что делал Кларк? Неужели все лишились разума? Вот что значит довериться людям, не имеющим ни здравого смысла, ни энергии. А это животное Жозеф воображает еще, что может так же хорошо вести армию, как я сам! Но можно еще поправить беду. Коленкур, карету мне!
Белльяр почтительно остановил его и печально проговорил:
— Слишком поздно, ваше величество!
Наполеон велел зажечь свечи и, разложив на столе карту, начал создавать новый план. Император не признавал себя побежденным. Он утешался тем, что Мармон занимает еще город и акт капитуляции еще не окончательно подписан. Нужно было прервать переговоры и продолжать борьбу. Наполеон послал курьера к Мармону и отправил Коленкура к императору Александру.
Ответ пришел от герцога Рагузского. Мармона чествовали союзники. Он был героем дня, первым лицом во французской империи, носителем мира. Он видел Талейрана. Лукавый дипломат прошептал ему на ухо имя Бурбонов и обещал Мармону, что он не только сохранит при законном короле свой титул и положение, но поднимется еще выше. Оба изменника поняли друг друга с полуслова. Мармон, не колеблясь ни одной минуты, торопливо подписал капитуляцию. Таким образом он удалил войска и отнял столицу у своего благодетеля. Содержание письма было безнадежное.
«Не только нет возможности защищаться, — гласило оно, — но существует твердое решение не принимать для этого никаких мер. Со дня отъезда императрицы и короля Жозефа на юг, а также со дня исчезновения всех членов правительства, недовольство народа достигло наивысшей точки».
На Наполеона этот ответ не произвел удручающего впечатления, наоборот, его энергия как бы усилилась.
— Бог дает мне возможность захватить в руки моих врагов, — воскликнул он, разглядывая карту, — я уничтожу их в самом Париже. Нужно только выиграть время. Коленкур, вы поможете мне в этом деле.
Когда Коленкур поехал к Парижу, император решил отправиться в Фонтенбло; в то же время он распорядился, чтобы прибывшие войска заняли позиции вдоль реки Эссон. Отсюда он собирался начать свои действия. Имея в своем распоряжении армию в семьдесят тысяч человек, Наполеон рассчитывал на победу. Он решил, что неприятель не выйдет из Парижа, будет захвачен в плен и разбит французами. План Наполеона был смелый и не невозможный. Он был убежден, что, перейдя со своей армией Эссон и подойдя к восставшему Парижу, он отрежет путь отступления союзникам и стиснет их со всех сторон.
Если бы не предательство высших сановников Парижа и начальников армии, Наполеон несомненно достиг бы своей цели. Трусливый сенат пал ниц перед императором Александром. Он менял повелителя, не меняя своего состояния. Вероломный Мармон подписал с Шварценбергом договор и передал в его распоряжение шестую дивизию, которая защищала императора и Фонтенбло. Талейран с успехом агитировал в пользу Бурбонов. Нейпперг запрещал Марии Луизе ехать к Наполеону в Фонтенбло. Армия была все так же предана императору, но начальники изменили ему. Маршалы, желая прежде всего сохранить свои посты, богатства и добиться милости Бурбонов, которым очень покровительствовали русские, пруссаки, австрийцы и англичане, начали поговаривать о том, что Наполеон должен отказаться от престола.
Союзникам не хотелось, чтобы Франция имела регентшей Марию Луизу и на троне маленького Римского короля, так как за их спинами империей управлял бы все тот же Наполеон. Симпатии неприятеля склонялись на сторону Людовика Восемнадцатого.
4 апреля Наполеон собрал офицеров и унтер-офицеров и обратился к ним с речью.
— Солдаты, — сказал он, — неприятель хозяйничает в Париже, нужно прогнать его. Недостойные французы, бывшие эмигранты, которым мы по слабости простили, действуют заодно с иностранцами и мечтают о белой кокарде. Трусы! Они поплатятся за свое новое преступление. Поклянемся победить или умереть и отомстить за оскорбление, нанесенное нашему оружию и отечеству.
— Клянемся, что отомстим врагам! — в один голос воскликнули храбрые офицеры.
Но маршалы Удино, Ней и Макдональд убедили Лефевра, что нужно представить Наполеону все опасности, все бедствия, какие может вызвать новая война, да еще в самом Париже.
Император терпеливо выслушал своих маршалов и затем спросил Лефевра, желает ли он служить под начальством Бурбонов.
— Я старый республиканец, — ответил маршал, — и ненавижу белую кокарду. Я не стану служить под начальством тех принцев, которых нам навязывают казаки. Но сенат, народ, весь свет требует мира, ваше величество. У моих товарищей, может быть, имеются какие-нибудь личные интересы, у меня же их нет. Я очень предан вам, ваше величество, но начинаю думать так же, как и другие, что нам необходим мир.
— Следовательно, я служу препятствием для мира? — воскликнул Наполеон, совершенно уничтоженный замечанием верного маршала.
Это было нравственное поражение, более чувствительное, чем все военные бедствия.
— Твоя жена не говорила бы так, — заметил он Лефевру, после чего, не сказав более ни слова, повернулся спиной к своим маршалам, поколебленным изменой Мармона, и заперся у себя в комнате.
XXI
В этот скорбный момент Наполеон испил до дна всю чашу страданий. В этой комнате, в Фонтенбло, он пережил все унижения, все страдания, испытанные на острове Эльба, при Ватерлоо и на острове Святой Елены.
Его фельдмаршалы, его друзья и товарищи не желали более продолжать борьбу, им наскучила боевая жизнь. Бурбоны обеспечивали им мирную, покойную жизнь в их богатых владениях, и они предпочли новых повелителей своему старому, который сулил в перспективе только славу и новые сражения. Они пресытились и утомились славой и битвами. Они твердо решили покончить с войной и ради Достижения этой цели, не колеблясь, готовы были избавиться от него.
Великий побежденный невыразимо страдал от этой перемены в настроении тех людей, которые до сих пор послушно следовали за ним повсюду в Европе, принимая Участие во всех битвах. Он не находил более опоры, не знал, кому довериться.
Он стал опасаться военного переворота. Презренный генерал Субори, старинный друг Моро, запятнал себя участием в измене Мармона, он поспешил привести в исполнение договор, заключенный герцогом Рагузским с князем Шварценбергом, и ввел в Версаль 6-й корпус, открыв для неприятеля Эсон и Фонтенбло. Наполеон чувствовал, что повсюду ему изменили, и не знал, на что решиться: продолжать ли борьбу или же отказаться, отречься от престола? Мысль о сыне заставила его принять решение: отречься в пользу Римского короля и регентство вручить Марии Луизе.
Все маршалы, за исключением Удино, не любили Бурбонов и были бы рады такому исходу, который принес бы мир и вместе с тем сохранил бы империю.
— Да, ради моего сына, ради моей жены я должен сложить свою шпагу и отказаться от всего! — с усилием пробормотал Наполеон и, вынув из кармана портрет Марии Луизы, поцеловал его.
В этот момент вошел камердинер Наполеона, единственный человек, имевший право входа в подобные минуты. и доложил ему, что в Фонтенбло приехала дама, которая желает видеть императора.
Наполеон по описанию камердинера догадался, кто могла быть эта особа, несколько поколебался, но затем отдал приказание проводить к нему посетительницу.
Вошла графиня Валевская, радостная, трепещущая, и со слезами бросилась в объятия императора.
Это была красавица-полька, которую из политических соображений свели с Наполеоном во время войны 1809 года. Красавица-графиня отдалась Наполеону из патриотизма, испытывая вначале только страх перед ним, но затем она воспылала к нему глубокой страстью. Плодом этой связи явился сын, о судьбе которого Наполеон позаботился. Это была единственная женщина, которая действительно искренне любила Наполеона.
Графиня Валевская примчалась в Фонтенбло, чтобы утешить своего возлюбленного и предложить сопровождать его в какое угодно изгнание, которое придумают для него мстительные монархи. Из первых же слов императора она поняла, что он не отдавал себе отчета, насколько велико его несчастье. Наполеон говорил ей об измене Мармона, очевидно не зная ничего остального.
— О, люди, люди! — воскликнул он. — Мои маршалы говорят с негодованием о Мармоне и стыдились бы быть с ним заодно; а между тем им досадно, что он опередил их на пути к счастью, и они охотно стяжали бы при помощи Бурбонов такие же титулы.
— Мармон был вашим другом, и понятно, что его неблагодарность, жертвой которой вы стали, должна очень огорчить вас, — с нежностью заметила графиня. — Но, увы, есть нечто худшее! — произнесла она со сдержанным вздохом.
Однако Наполеон был слишком занят своими мыслями, он не заметил ни замешательства, ни скрытого смысла слов графини, он продолжал:
— Этого Мармона я любил, как собственное дитя! Как часто мне приходилось защищать его перед его товарищами, которые не ценили его ума, а судили только по тому, как он проявлялся на поле сражения. Я сделал его маршалом и герцогом исключительно из расположения к нему, снисходя к воспоминаниям детства, и, должен сознаться, я доверял ему. Он был, быть может, единственным человеком, в расположение которого я верил; но тщеславие, слабость, честолюбие погубили его. О себе я уже не думаю, поверьте мне, моя карьера кончена или близка к тому. Наконец, какая охота мне управлять людьми, которым я стал в тягость и которые спешат отдаться другим? — Он сделал жест отчаяния; и, расхаживая по комнате большими шагами, продолжал: — О себе я не думаю, но Франция… Ужасно оставить ее в таком состоянии, без определенных, хорошо защищаемых границ, между тем как она имела такие прекрасные! Мне хотелось сделать Францию обширной, а между тем я оставляю ее маленькой! Вот что самое ужасное во всех тех унижениях, которые довелось мне пережить! — Затем, возвращаясь снова к мысли о своих маршалах, он воскликнул: — Ах, если бы эти глупцы не покинули меня, в двадцать четыре часа я восстановил бы величие Франции. Верьте мне, что союзники, сохраняя свое настоящее положение, то есть имея меня перед лицом, а за спиною Париж, были бы погублены! Если бы они, избегая опасности, покинули Париж, они уже никогда не вернулись бы туда обратно. Одно их выступление против меня было бы уже огромным поражением. Этот злосчастный Мармон помешал такому прекрасному исходу! Теперь я не знаю, что предпринять?
— Вы не можете продолжать эту отчаянную борьбу.
— Я мог бы! Можно было бы созвать на помощь крестьян. Я убежден, что крестьяне из Лотарингии, Шампани, Бургундии, со всех сторон возьмутся за оружие и разгромят отдельные отряды. Наконец, население Парижа могло бы навести ужас на неприятеля. Продолжительная борьба.
— Какое значение может иметь решение этих негодяев!
— Русский император и король Прусский призвали Бурбонов, которых им представил Талейран. Теперь уже царствует Людовик Восемнадцатый.
— Нет еще! А что же хотят сделать со мной?
— Вы удаляетесь в ссылку на остров Эльба.
— На остров Эльба! Напротив Италии, поблизости от берегов Франции; оттуда легко возвратиться! — вполголоса произнес Наполеон и тотчас же прибавил: — От меня скрыли эти известия. Впрочем, это неважно! Я был готов на все, даже на смерть! Но мой сын, императрица? Они последуют за мной на остров Эльба? Отвечайте же! Отчего вы молчите?
Графиня закрыла лицо руками и плакала, не будучи в состоянии произнести ни слова. Наконец она воскликнула:
— Нет, ваш сын и императрица не будут с вами. Римский король уже разлучен с матерью. Он находится на пути к Вене, к Шенбруннскому дворцу; он получил звание принца Пармского и будет воспитываться при австрийском дворе.
— Мой сын станет немецким герцогом! А моя жена? Она будет со мной, я жду ее. Я удивлен, что ее нет еще до сих пор в Фонтенбло. Где она?
— Не ждите императрицу! Она не любит вас. Она никогда не вернется к вам! Императрица выразила желание отправиться на воды к Экс-ле-Бен. Она встречалась со своим отцом в Гробуа, а оттуда отправилась в Экс.
— А кто сопровождает ее? — спросил Наполеон с дрожью в голосе, как бы боясь услышать ответ на свой вопрос.
— Граф Нейпперг!
Глухой стон, подобный хрипению раненого животного, вырвался из груди Наполеона, и, как сраженный громом, он без чувств упал на диван.
Увидев, как император упал, испуганная графиня позвонила. Прибежали камердинер и дежурный офицер, но Наполеон отослал их.
Умоляющим голосом графиня Валевская спросила:
— Разве и я должна удалиться?
— Да, мне необходимо побыть одному! — глухо ответил Наполеон.
— Могу я подождать, пока вам угодно будет снова принять меня? — спросила бедная удрученная женщина.
— Да, да, — ответил император, по-видимому приходя в себя.
Графиня поклонилась и вышла.
Она бросилась на скамейку в передней и всю ночь проплакала в ожидании, что император велит позвать ее. Не получив до рассвета никакого приказания и поняв, что молчание любимого человека означает окончательное прощание, она удалилась разбитая, униженная, огорченная.
Пораженный словами графини Валевской об измене Марии Луизы, Наполеон пришел к ужасному решению. Все рушилось вокруг него. Трона он лишился, его маршалы покинули его, его сын превратился в немецкого принца, жена при злорадном соучастии Европы и с одобрения родного отца бросилась в объятия графа Нейпперга, презренного соперника, отныне восторжествовавшего. Ему остался один исход, одна доступная радость: смерть!
И вот Наполеон в припадке отчаяния прибегнул к содействию этой великой освободительницы в несчастье.
Во время кампании в России по его требованию доктор Эйван дал ему смертельную дозу опиума, заключив этот яд в гнездо перстня, который Наполеон всегда носил на пальце. Император запасся этим ядом, чтобы не попасть живым в руки казаков.
Теперь Наполеон решил отравиться не только с целью избавиться от унижения и страданий в изгнании, но также чтобы избавиться от мучительного горя, которое ему причиняли пленение его сына и неверность жены.
Наполеон решил умереть и, быстро открыв перстень, проглотил его содержимое.
Но яд не произвел смертельного действия оттого ли, что он слишком долго содержался в перстне, или, быть может, доза была недостаточно сильна для такой могучей натуры, какой обладал Наполеон.
Всю ночь он провел в ужасной агонии. Наутро открылась рвота, после чего ему стало легче.
Коленкур, войдя в комнату, был поражен исказившимся лицом своего повелителя, корчившегося в муках.
Позвали доктор Эйвана.
Наполеон требовал нового яда, так как выдохшегося количества оказалось недостаточно. Доктор отказался дать.
— Ах, как трудно умереть, — пробормотал император, — между тем на поле сражения это так легко! Ах, отчего я не умер при Арси-сюр-Об!
Коленкур и доктор Эйван ухаживали за ним; к полудню Наполеон был уже в состоянии подняться и выйти.
Наполеон снова овладел собой и, направляясь в зал, где назначен был прием маршалов, созванных к известному часу, с настойчивостью повторял про себя:
— Остров Эльба, остров Эльба! Я буду жить! Так нужно! — Затем обращаясь к Коленкуру, он сказал: — Еще есть смысл жить!
Без сомнения, он, еще не отправившись на остров Эльба, думал уже о том, как будет возвращаться оттуда; настолько его ум быстро опережал время и пространство.
— Вы, Коленкур, позаботьтесь о моем семействе, — сказал он, — что же касается меня, то я ни в чем не нуждаюсь. Если мне дадут пенсию инвалида, и того довольно!
Он сел за стол и твердым, обычным малоразборчивым почерком написал на бумаге несколько строк. Затем он велел позвать своих маршалов.
Они вошли поодиночке, опустив головы, плохо скрывал замешательство.
Наполеон молчал некоторое время, как бы коварно наслаждаясь их беспокойством. Наконец он произнес:
— Господа, успокойтесь! Ни вы, ни армия не будут больше проливать кровь! Я согласен на отречение без всяких условий. Я желал в интересах моих и моего семейства упрочить престолонаследование за моим сыном. Полагаю, что такое решение было бы даже выгоднее для вас, чем для меня, так как вы имели бы правительство, соответствующее вашему происхождению, вашим вкусам, вашим интересам. Несколько часов тому назад это было еще невозможно, но недостойная измена лишила вас положения, которое я считал выгодным для вас. Не будь измены шестого корпуса, мы могли бы добиться многого, мы могли бы восстановить Францию. Но случилось иначе! Я подчиняюсь своей участи, а вы подчинитесь своей. Покоритесь и живите под властью Бурбонов. Вы жаждали отдыха и получите его. Мы же были поколением, не созданным для отдыха. Мир, которого вы желали, уготовит вам пуховики, которых вы не имели бы на бивуаках во время войны. Вот мое отречение!
Затем при глубоком волнении присутствующих Наполеон громким и внятным голосом прочитал бумагу, которую держал в руках во время своей речи, обращенной к маршалам:
— «Союзные державы объявили, что Наполеон является единственным препятствием для водворения мира в Европе. Император Наполеон, верный своим клятвам, объявляет, что отрекается как для себя, так и для своих наследников, от престолов Франции и Италии, потому что нет такой жертвы, не исключая даже своей жизни, которую он не был бы готов принести в интересах благоденствия Франции».
Свершилось. Франция переменила правительство, маршалы готовились поменять кокарды.
Один только Лефевр не согласился служить Бурбонам и ворча удалился в свой замок Комбо. Остальные поспешили засвидетельствовать свое благорасположение императору Александру, прусскому королю, Талейрану, графу д'Артуа. Что касается изменника Мармона, то его за услугу осыпали любезностями пруссаки, русские, австрийцы, англичане. Бурбоны наградили его милостями.
* * *
Когда об измене Мармона стало известно в Париже, храбрецы и патриоты пришли в негодование. В рядах защитников Парижа раздавались крики отчаяния и самых ужасных угроз.
Около девяти часов вечера в пороховой склад явился сопровождаемый двумя или тремя товарищами какой-то человек высокого роста, вооруженный, совершенно черный от дыма и пыли, и потребовал смотрителя склада майора Мальяр де Лекура. Смотритель явился. Неизвестный человек приставил пистолет к его горлу, требуя, чтобы тот проводил его в пороховой погреб. Этот человек был ла Виолетт, которого патриотический пыл привел к чудовищному решению. Пороховой склад в Гренеле содержал 245 000 килограммов пороха, 28 000 пушечных зарядов и 5 миллионов боевых патронов. У ла Виолетта было намерение поджечь погреба.
Треть Парижа взлетела бы на воздух. Ла Виолетт рассчитывал похоронить под обломками почти всю неприятельскую армию и, воспользовавшись ужасом и разгромом, дать возможность победоносным патриотам пойти навстречу Наполеону.
Майор Мальяр де Лекур, дрожа от страха, готов был выдать ключи от склада, как вдруг раздался выстрел и раненый ла Виолетт упал на землю.
Выстрел шел из рядов так называемых патриотов, привлеченных сборищем людей и странной манерой ла Виолетта, размахивавшего огромной дубиной, как будто он предводительствовал полком гренадеров, идущих на приступ. Тот, кто выстрелил и таким образом помешал выполнению этого ужасного проекта, оказалось, стоял прислонясь к дверям магазина, решив искать в нем убежища.
Сбежалась магазинная стража, а товарищи, сопровождавшие ла Виолетта, в испуге разбежались.
Мальяр де Лекур стал пожимать руку своему спасителю.
— О, какую услугу вы оказали нации и вашим законным властителям! — сказал майор, приверженец королевской власти. — Ваше имя?
— Маркиз де Мобрейль! — ответил незнакомец. — Я явился сюда вовремя. Этот шут заставил бы нас взлететь на воздух, не правда ли, майор?
— Само провидение привело вас сюда! — воскликнул майор, который был настолько же ханжа, насколько роялист.
— Ничуть не бывало, — рассмеялся Мобрейль. — Представьте себе, майор, у меня есть любовница, прелестная женщина, которую зовут Алиса; она исчезла вот уже несколько дней назад. Разыскивая ее, я случайно среди неистовствующей толпы, разглагольствующей и размахивающей оружием по направлению королевского дворца, откуда Мария Луиза покинула Париж, заметил этого шута, который хотел поджечь ваш порох. Дело в том, что поджигатель знал эту молодую женщину; он охранял ее и окружил стражей церберов. Я последовал за ним в надежде, что обнаружу его жилище, и таким образом попал сюда как раз вовремя, чтобы предупредить катастрофу.
— Я доложу моему начальству, маркиз, и изложу ваше прекрасное деяние. Если бы не вы, Париж был бы взорван! Его величество оценит ваш поступок.
— О каком его величестве говорите вы? — спросил Мобрейль.
— В настоящее время есть только один государь — король Людовик Восемнадцатый.
— А что сталось с узурпатором?
— Его отправляют на остров Эльба.
— Это слишком близко!
— Вы находите?
— Да, спокойным можно было бы быть лишь тогда, если бы это чудовище упекли не на остров, а куда-нибудь подальше.
— А куда хотели бы вы его послать?
— В могилу! — сказал неумолимый роялист. — Все порядочные люди такого же мнения, как и я.
Мобрейль ушел в прекрасном настроении, мечтая о смерти Наполеона, которая была бы лучше отречения. Весело насвистывая какую-то арию из итальянской оперы, он направился к бульварам, чтобы присутствовать при подготовке к торжественному въезду союзников в Париж.
Проходя по площади Согласия, Мобрейль увидел разносчика продававшего карикатуры, размалеванные пестрыми красками. Около него собрались зеваки.
— Покупайте, господа, въезд его величества короля в его славный город Париж. Вот что будет, смотрите!
Карикатура изображала пылающую огнем деревню с надписью: «Дорога в Париж», позади страшного казака сказал толстый, смешной Людовик XVIII, попирая копытами трупы французских солдат.
Мобрейль гневно скомкал листок и пробормотал:
— Этот глупый смотритель порохового погреба был прав. Бурбоны никогда не будут королями, пока Наполеон будет жив Остров Эльба-это нелепость! Наполеона следовало бы сослать на остров Святой Елены, как предлагал милейший Нейпперг. А еще надежнее было бы избавиться от него, как я предлагал, с помощью кинжала, пули или яда!
Он очутился в конце площади Согласия перед улицей Святого Флорентина.
Против него находился дворец Талейрана, где император России и король Пруссии назначили аудиенцию всем изменникам. В этом доме завершилась реставрация.
— 7 — Фаворитка Наполеона
Как изменчива судьба! Всемогущий император, влюбленный в молодую жену, рождение желанного наследника — казалось бы, что еще нужно для счастья? Оказалось, нужно завоевать Россию — и с этого момента фортуна изменяет Наполеону. Он терпит поражение в войне, Мария Луиза оставляет мужа, сенат лишает его трона… По дороге в изгнание на остров Эльба враги Наполеона хотели убить его, но любовь и преданность фаворитки спасли жизнь императора. Во время 100-дневного возвращения Наполеона была сделана неудачная попытка выкрасть Марию Луизу, чтобы доставить ее к мужу. Но… судьба неумолима.
I
В большой комнате одного из великолепных особняков на Вандомской площади, где обычно селились знатные иностранцы, в большом кресле у высокого окна сидела в глубокой задумчивости молодая белокурая женщина. На ковре, в нескольких шагах от нее, играл ребенок лет шести-семи.
Взгляд матери обращался то на ребенка, то на площадь, где возвышалась гигантская колонна Великой армии. На ней еще висели обрывки канатов, которые должны были снести статую Наполеона и колонну на глазах торжествующих союзников. Маленькая статуэтка Победы в левой руке императора была уничтожена, но сама статуя устояла: свалить ее не удалось.
Молодая женщина, вздыхая, припомнила все подробности ужасного дня 31 марта 1814 года, когда союзники вступили в Париж благодаря помощи изменников.
В продолжение всего утра граф Мобрейль со своими друзьями разъезжал верхом по Вандомской площади, повсюду прикрепляя и раздавая народу вместе с деньгами белые кокарды, а также подбивая уличных зевак кричать вместе с ним: «Долой тирана! Да здравствует король! Да здравствуют Бурбоны! Да здравствуют союзники!»
Затем с торжественной музыкой, при громких криках толпы, на площади появился блистающий кортеж победителей, во главе которого были император Александр, король прусский, князь Шварценберг, генерал Платов, лорд Каткарт, сэр Чарльз Стюарт. Шествие прошло мимо колонны как мимо мрачного памятника погибшей славы и вернулось на Елисейские поля, где состоялся смотр сорокапятитысячного войска победителей.
На Вандомской площади остались только безобидные зеваки, не сожалевшие об империи, но и не желавшие Бурбонов; они равнодушно смотрели на разрушение, устроенное Мобрейлем и его сообщниками.
Целый день Мобрейль ездил по бульварам Парижа, привязав к хвосту лошади и влача в пыли крест Почетного легиона, пожалованный ему императором Наполеоном. Он сошел с коня около статуи в то время, когда ее обвили канатами.
Прошла ночь, но разрушить Вандомскую колонну не удалось. Мобрейль заплатил людям и отпустил их, ворча по поводу безуспешности их усилий.
— Если статуя устояла на месте, то уж человека-то, конечно, легче будет свергнуть, — проговорил он.
Молодая женщина из окна следила за всеми этими перипетиями, и, когда Мобрейль удалился, она с облегчением вздохнула: ей казалось, что эта неудавшаяся попытка свергнуть статую Наполеона была хорошим предзнаменованием.
В этот холодный и светлый апрельский день, вспоминая незабываемую сцену вступления союзных войск в Париж и усилия Мобрейля свергнуть статую того, кто и теперь, низверженный изменниками, казался непобедимым, она обратилась к ребенку, склонившемуся над игрушечными солдатиками на ковре, и тихо позвала его:
— Наполеон!
Ребенок поднял голову и, бросив поле сражения, поспешил к матери.
Она нежно прижала к груди его кудрявую головку и, целуя ребенка, шептала тихие слова; они, казалось, были понятны мальчику, но отвечать на них он не умел.
— Что он делает теперь? Какие новые страдания и опасности грозят ему? Может быть, его убили? — сказала молодая женщина. — Если бы я была около него, я отвела бы кинжал убийц от его груди, я успокоила бы его… Может быть, мое присутствие смягчило бы горечь ожидающего его изгнания… Но он не хочет утешений, не хочет защиты. В Фонтенбло, в ту ужасную ночь, когда он хотел покончить с жизнью, он не позвал меня, не разрешил разделить с ним яд и уснуть навеки в его объятиях. Если бы я могла повиноваться только голосу сердца, я поехала бы за ним; я переоделась бы, следовала бы за ним шаг за шагом в пути на этот ужасный остров Эльба, где его, может быть, ждут подосланные убийцы. Но что может сделать женщина! Бедное дитя, у тебя нет больше отца!
Женщина рыдала, сжимая в объятиях тоже заплакавшего, глядя на слезы матери, ребенка.
Так тосковала и плакала прекрасная полька, графиня Валевская, возлюбленная императора Наполеона, в своей печальной комнате на Вандомской площади, обнимая маленького Наполеона, плод ее любви к великому человеку.
В дверь тихо постучали.
Дивя в уединении, скрываясь, чувствуя себя на подозрении у высокопоставленных изменников, покинувших того, чья любовь подвергала ее презрению и мести, графиня Валевская вздрогнула при этом стуке. Она вскочила с места и инстинктивным движением толкнула ребенка в соседний кабинет, коротко приказав ему: «Молчи! Не двигайся, тише! Не бойся!» — после чего, преодолев испуг со всей храбростью благородной славянской крови, которая текла в ее жилах, она громко сказала:
— Войдите!
— Ваше сиятельство, вас желают видеть две дамы, — сказала вошедшая горничная.
— Я никого не принимаю, — ответила прекрасная полька. — Что им от меня надо?
— Они говорят только, что пришли от имени императора.
«Это — друзья», — подумала графиня и приказала ввести этих дам.
Не зная, чего ждать от этого посещения, заинтересованная и успокоенная именем императора, графиня Валевская сделала несколько шагов к двери, преодолевая невольное волнение, заставлявшее ее ожидать опасности от каждой случайности, несчастья — от каждого известия, угрозы — в каждом посещении.
На пороге показались две дамы и поклонились молодой женщине. Младшая, молодая и изящная, ничего не напомнила графине красивым, но глубоко печальным лицом.
Вторая — высокая, полная, дышащая здоровьем, вызвала у графини смутное воспоминание. Зеленое платье, кричащая шляпа казались смешными, но открытое, полное Доброты и энергии выражение грубоватого лица женщины вызывало невольную симпатию и доверие.
Позади обеих посетительниц виднелась высокая мужская фигура с большими усами и бородкой. В руках человека была солидная дубинка, надетая на ремень у кисти; он был одет в синий застегнутый доверху редингот, шляпа надвинута на ухо. Он остался стоять в передней с самым недоверчивым видом. Казалось, он был готов преградить путь каждому непрошенному гостю.
Графиня наконец узнала даму в высокой шляпе с такой бравой осанкой.
— Герцогиня Лефевр, если не ошибаюсь? — поклонилась она ей.
— Она самая и жена адъютанта императора, полковника Анрио, — ответила герцогиня, представляя свою спутницу.
Графиня успокоилась: это были друзья императора.
— Чему я обязана честью вашего посещения? — спросила она. — Не болен ли император, не случилось ли с ним чего-нибудь?
Графиня произнесла последние слова дрожащим голосом. Все ее мрачные предчувствия вернулись. Должно быть, произошло что-нибудь особенное, если герцогиня Данцигская появилась так неожиданно в ее убежище. Она тревожно ждала ответа герцогини.
— Успокойтесь, малютка, — сказала с обычным своим добродушием та, которая, несмотря на все свои титулы, на все свое богатство, осталась все той же мадам Сан-Жень, бывшей прачкой квартала Сен-Рок и маркитанткой республиканской армии. — Император после печальной попытки, о которой вы знаете, здоров, как Новый мост; к счастью, яд не оставил никаких следов, и император теперь вне всякой опасности.
Графиня перевела дыхание при первых словах герцогини. Император жив и здоров! Но конец фразы воскресил ее беспокойство, предчувствия снова ожили.
— Его величество в безопасности и здоров в настоящее время… Это известие делает меня счастливой, и я благодарю вас за него. Но сомнение сжимает мне сердце: ему не грозит опасность в настоящее время, но разве это не всегда будет так? Вы опасаетесь какого-нибудь покушения на него?
— Да, мы очень опасаемся. Мы обе имеем основание бояться за жизнь нашего императора.
Графиня побледнела и тихо проговорила:
— О, скажите же мне, что это за опасность? Нельзя ли избежать ее? Нельзя ли предупредить императора? Если нужно, я отправлюсь сейчас же. Я могу за деньги достать хороших лошадей, иметь подставных и прибыть к вечеру в Фонтенбло.
— Император теперь не там. Утром он попрощался с армией и теперь уже на дороге в изгнание, к острову Эльба.
— Бедный Наполеон! — прошептала графиня, утирая слезы.
— Пока, в начале его пути, беспокоиться нечего, — продолжала герцогиня. — Вы видите, я спокойна, а между тем вы должны знать, что я люблю императора. Я не была бы здесь, с вами, если бы Наполеон мог оказаться по дороге в руках убийц. Я ускакала бы на лошади или пошла пешком, и мы с ла Виолеттом, старым слугой моего мужа, сумели бы отвратить кинжал изменников от груди нашего повелителя, нашего божества…
Говоря это, герцогиня оглянулась на переднюю, где виднелась могучая фигура их спутника.
— Ах, если бы у Наполеона было побольше таких преданных людей, как вы, — воскликнула графиня Валевская, — он не был бы теперь изгнанником на пути к острову, где его ждут тысячи опасностей; вы скрываете их от меня, а я страстно желала бы разделить их с ним!
— Не пугайтесь заранее и напрасно, дорогое дитя! Я говорю вам, что теперь нечего беспокоиться за жизнь императора. Он проезжает Бургундию, где еще жива его слава, где его особа еще священна; до верного ему Лиона бояться нечего. Но дальше, за этим городом, начнется опасность.
— Вы что-нибудь знаете? Существует заговор?
— Этого-то я и боюсь, — ответила герцогиня. — Но начнем сначала. У вас есть сын, дитя императора… Где он?
— К чему этот вопрос? — встревожилась графиня.
«Зачем вмешивать моего сына в заговоры против знаменитого изгнанника? — подумала она. — Что хотела сказать герцогиня Данцигская?» — но все же подбежала к кабинету, куда заперла ребенка, и, представляя двум дамам мальчика, еще ошеломленного своим пленом в кабинете и приказанием матери молчать и не двигаться, сказала:
— Вот мой сын!
Герцогиня и ее спутница обняли расстроенного ребенка, причем герцогиня торжественно сказала:
— Берегите ваше дитя, сына императора!
Графиня вскрикнула, прижав к груди сына.
— У меня хотят отнять сына? — вырвалось у нее.
Герцогиня утвердительно кивнула головою.
— Боже мой! Кто же хочет украсть моего ребенка? Что он сделал?! Что сделала я? Вы знаете, кто эти негодяи?
Герцогиня опять сделала утвердительный знак и взглянула на Алису Анрио, как бы призывая ее в свидетельницы правдивости своего жеста.
— Враги императора хотят разлучить меня с сыном? — продолжала графиня как в бреду. — О, негодяи! На что он нужен им? Что у них за страшные замыслы? Говорите, герцогиня, говорите все, что знаете! Умоляю вас!
Тогда герцогиня открыла графине заговор, душою которого был Мобрейль, угрожавший одновременно жизни Наполеона и свободе его сына от прекрасной польки.
II
Алиса со времени своего свидания с графом де Мобрейлем в гостинице «Золотое солнце» жестоко страдала. Она вспоминала свои поступки и чувствовала ужас при мысли о той измене, сообщницей которой она стала.
Она ненавидела Мобрейля, но этот человек держал ее в своих руках из-за ее увлечения. Последнее было мимолетным, и она с ужасом думала: неужели всю жизнь ей придется остаться его рабой, нести иго этой проклятой любви и всю жизнь влачить тяжесть минутного увлечения? Мобрейль потребовал у нее в гостинице на дороге в Клиши письмо императора, доверенное ее мужу и содержавшее план похода на восток. Алиса была вынуждена отдать это письмо, и оно, будучи передано Мобрейлем, стало известно союзникам.
Таким образом она изменила сразу мужу, императору и родине. Этот поступок угнетал Алису. Она казалась себе презренной женщиной, не достойной жить.
Ах, зачем императрица предупредила ее о прибытии Анрио, посланного императором? Зачем у нее не хватило силы отказать Мобрейлю, когда он приказал ей явиться в кабачок Латюиля! Не глупо ли было с ее стороны надеяться найти защиту от Мобрейля около приехавшего мужа? Могла ли она открыть Анрио, такому доверчивому и любящему, связь ее с Мобрейлем! Ведь она знала, что истина убила бы ее мужа, которого она обожала… Она должна была скрыть от него все и слепо повиноваться бывшему возлюбленному, ставшему ее повелителем, и в руках этого демона, владевшего ее телом и сделавшего из нее послушное орудие своей воли, она чувствовала себя способной совершить все, что он потребует — преступление, величайшую измену! Безумная! Она думала найти защиту в испанском кинжале, который был спрятан за корсажем и которым она попыталась воспользоваться в критическую минуту. Увы, этот кинжал оказался не только бесполезным, но даже опасным для нее же самой. Когда Мобрейль потребовал, чтобы она изменила доверию и нежности своею мужa и лживо воспользовалась именем императрицы, чтобы получить письмо Наполеона, содержавшее тайну спасения отечества, победу и благополучие Парижа и империи, она выхватила этот кинжал и ударила им яростно, с радостью; но оружие только скользнуло по телу Мобрейля. Она не отомстила, не уничтожила преграду своему счастью, ее избавила Францию и Наполеона от гнусного изменника. Мобрейль отер кровь от легкой раны и снова стал требовать письмо. Благодаря этим нескольким каплям крови он победил Алису. Он, проклятый тиран, повторил свое требование, насмешливо заявив, что в случае ее отказа ему достаточно будет показать мужу эту рану, чтобы наказать ее, неверную жену. Как она объяснила бы такой порыв — гнева или радости, может быть, доведший ее до удара кинжалом? Алисе пришлось смириться. Но до каких пор это будет продолжаться? Чего еще потребует от нее Мобрейль? Послушав его однажды, будет ли она в силах отказать ему в чем-нибудь другом?
На минуту Алисе пришла мысль броситься к ногам мужа и все рассказать ему. Тогда будет конец мучениям! Анрио добр, он любит ее и простит. Она была уверена в прощении мужа, в том, что он сумеет отомстить за нее Мобрейлю. Это признание было бы освобождением, раем для ее. Но тут же она подумала, что прощение еще не означает забвения и, признавшись в своей вине, она еще не искупит ее. Не зная ничего, Анрио сейчас счастлив и мог бы остаться счастливым навсегда. Но ведь если так, значит, надо молчать. Как открыть ему ее странное, непонятное падение, ее двойную измену ему и императору?
Анрио любил свою родину как верный солдат. Простить неверную жену он мог бы из жалости, из великодушия любящего сердца, но, конечно, будет беспощаден к изменнице родной страны, продавшей ее врагам. Очевидно, надо молчать. Ведь Анрио возненавидит ее, если узнает истину. Он, может быть, не убьет ее, однако смерть была бы счастьем Для нее: ведь тогда Анрио стал бы оплакивать ее, теперь же он прогонит ее, а это будет наказанием гораздо худшим, невыносимым.
Алиса больше, чем когда-нибудь, любила теперь мужа. Она поняла, что сказать ему все — значило бы потерять его, и потому надо было продолжать играть свою роль, носить маску… Она надеялась в глубине души, что среди всеобщих беспорядков, падения-империи, среди почти мирового крушения Мобрейль исчезнет, что она ничего больше не услышит о нем, что ей не придется получать новые позорные приказания, требующие повиновения. И действительно, в первые дни после взятия Парижа она вздохнула свободно. Мобрейль был занят другим. Он с разрешения Бурбонов получил полномочия от Талейрана на одну тайную миссию. Мобрейлю была дана двойная инструкция. Прежде всего он должен был завладеть сокровищами императора, похищенными Марией Луизой при ее бегстве.
Это поручение Мобрейль выполнил удачно. Он вернулся в Орлеан с неким Диодоном; тот служил раньше в Испании, был разжалован за бегство, а затем, в первые дни реставрации — как это было со многими, изменившими Наполеону, — был восстановлен в правах и назначен главным финансовым комиссаром.
Мобрейль напал на императорские фургоны; часть их была разграблена на месте, а остальное отправлено в Париж, по всей форме, с протоколом, подписанным Диодоном. Фургоны, помещенные на Орлеанской площади, содержали десять миллионов золотом, три миллиона серебром, бриллианты, табакерки и перстни, предназначенные для подарков и стоившие около четырехсот тысяч франков. Все было разграблено, даже мундиры и платки императора, даже его белье, помеченное буквой «Н».
Совершив это воровство, Мобрейль взялся за вторую половину своей задачи и для этого вернулся в Париж.
Алиса с ужасом увидала его во дворце маршала Лефевра, куда она удалилась после отъезда Марии Луизы, когда прекратились ее обязанности придворной дамы.
Уверенный, что он сохранил над нею свою власть, полюбовавшись некоторое время ее испугом, Мобрейль сообщил то, что он от нее требовал.
Дни Наполеона была сочтены. Союзники, отказавшиеся от всяких отношений с Наполеоном и его семейством, по-видимому, приняли меры к охране особы бывшего императора. Были назначены особые комиссары, чтобы сопровождать его в путешествии по Франции. Таким образом союзники как бы не желали никакого похищения или убийства, но если бы это случилось, были бы очень довольны; они продолжали бояться победителя при Аустерлице, могучего человека, державшего их в страхе во все время войны во Франции, человека, который и теперь, конечно, побил бы и прогнал их, если бы не измена маршалов и бегство Марии-Луизы.
Людовик XVIII не мог быть спокоен за свой трон, пока был жив Наполеон. С острова Эльба можно было вернуться, изгнанник мог бежать, и тогда король был бы в опасности. Только из могилы не было возврата, а потому Наполеон должен был умереть. Ведь, по мнению союзников, от этого зависели спокойствие Европы, мир Франции, благосостояние Бурбонов. Но как избавиться от ненавистного противника?
Смерть Наполеона была мечтой маркиза де Мобрейля. Он совещался об этом с Нейппергом в Англии. Тогда случай не благоприятствовал исполнению их плана, но теперь обстоятельства, казалось, были благоприятны. Мобрейль получил аудиенцию у Талейрана, изложил ему свой план, который был выслушан внимательно и благосклонно. Он указал, насколько удобнее и легче устроить такую попытку теперь, на пути Наполеона в изгнание.
Никакой свиты у бывшего императора не будет. Генерал Камбронн, сопровождающий Наполеона с восемьюстами гренадерами старой гвардии, не может следовать за ним со скоростью экипажа. В удобном месте легко будет устроить стычку, поднять шум, приблизиться к императору и убить его без всякого риска. Иностранные комиссары не смогут защитить его. Убийство легче совершить в каком-нибудь городе на юге, где особенно накалены религиозные и политические страсти, если бы не удался первый план. В таком городе Наполеон один, без стражи, без друзей, предоставленный ярости фанатиков, легко мог быть брошен в Рону или задушен в какой-нибудь гостинице. Мобрейль брал на себя возбудить ярость крестьян при проезде императорского экипажа, в последнюю минуту подать сигнал к убийству, а если надо, то и нанести первый удар.
Талейран с улыбкой выслушал коварный план Мобрейля и, когда он кончил, поручил ему ради пробы вернуться в Орлеан и завладеть сокровищами, принадлежавшими лично Наполеону.
— Когда вам удастся, дорогой маркиз, вернуть законным владельцам эти богатства, похищенные узурпатором, тогда приходите ко мне, — закончил Талейран с многообещающей улыбкой.
Мобрейль, конечно, не упустил такого случая. Он исполнил поручение и получил аудиенцию у великого дипломата.
При этом свидании убийство Наполеона было решено, причем местом совершения преступления были назначены окрестности Оргона, в Провансе, даже сам Оргон, если Наполеон остановится там.
Мобрейль должен был прибыть туда заранее, возбудить население, устроить какую-нибудь демонстрацию и действовать. Правительство Бурбонов не будет производить серьезного следствия. Убийцы, находясь под защитой трона и церкви, не только не понесут наказания, но будут щедро вознаграждены.
Мобрейль рассказал Алисе весь этот план, не называя только назначенного места, и прибавил:
— Но есть одно затруднение. Как настолько близко подойти к тирану, чтобы без затруднения ударить его? Я знаю провансальцев: они много кричат, но ничего не делают. Надо, чтобы какой-нибудь молодец подал им пример. О, после первого же удара они разорвут Наполеона в клочки!
Алиса слушала, дрожа от негодования.
— Вы не посмеете подать знак к этому, — проговорила она.
— Я-то не посмею?! Придите взглянуть на меня в Оргон и вы увидите, дрогнет ли моя рука, смутится ли мое сердце перед чудовищем, от которого надо освободить землю! Вся штука в том, чтобы подойти к нему, потому что дурачье-комиссары, конечно, будут защищать его. Они должны привезти его здравым и невредимым на остров Эльба. Впрочем, принц Беневенто, поручая им пленника, наверное, шепнул им на ухо свое знаменитое предостережение агентам: «Пожалуйста, господа, не слишком усердствуйте!» Ну, да там увидим, на месте. Бывают победы без всякого плана, по вдохновению; сами события укажут, что делать. Ведь мне нужен только предлог, хотя бы тень предлога, чтобы подойти к тирану на расстояние протянутой руки, и этот предлог доставите мне вы!
Молодая женщина отступила и горячо воскликнула:
— Как? Вы имеете дерзость вмешивать меня в ваши отвратительные замыслы? Вы хотите втянуть меня в ваши преступления?
Мобрейль ответил с полным спокойствием, как будто приглашал Алису на бал или пикник:
— Не будем спорить, душечка. Вы знаете, что когда я занят делом, то не люблю праздных разговоров и болтовни. Вот что вы должны сделать. Вы знаете графиню Валевскую, прекрасную польку?
Удивленная вопросом, Алиса отрицательно покачала головой.
— Вы не знаете ее? — спокойно продолжал Мобрейль. — Тогда вам надо познакомиться с ней. Слушайте! Вы отправитесь к графине Валевской сегодня же, или полковник Анрио, находящийся теперь с генералом Камбронном на пути к Эльбе, узнает, как напрасно он полагается на добродетель женщин и в особенности своей жены!
— Презренный, — зарыдала Алиса, — что я сделала вам, что вы так мучаете меня?! За что вы ненавидите моего мужа и хотите нанести ему смертельный удар?!
— К вам я питаю самые нежные чувства, а против бравого полковника Анрио не имею никаких злых намерений, клянусь вам. Я не принадлежу к тем, кто сохраняет предубеждение против ими же оскорбленных людей. Напротив, мне жаль вашего мужа: он мог бы иметь жену, не так быстро стремившуюся к падению. Но бесполезно говорить о прошлом. К делу! Или вы отправитесь к Валевской, или ваш муж получит доказательство того, что вы скрываете от него. Выбирайте!
Алиса опустила голову, а потом прошептала:
— Я пойду. Что надо сделать?
— О, очень немного! У графини Валевской есть ребенок. Вы как-нибудь устроите, чтобы занять графиню, чем-нибудь отвлечь ее внимание, даже вызвать из дома — понимаете? — а я тем временем займусь ребенком.
— Что за новый ужасный план вы затеваете?
— Дело очень похвальное: я только хочу дать возможность отцу обнять своего ребенка. По разным причинам, политическим и иным, сын прекрасной польки, дитя Наполеона, уже давно не обнимал своего отца, и я хочу доставить последнюю эту радость, утешение в его несчастье. Я уверен, что Наполеон в своем печальном путешествии по Провансу, где он встретит мало сочувствия, будет счастлив обнять своего сына. Я не могу привезти к нему короля Римского, с которым не захочет расстаться его августейший дед, австрийский император, но зато я привезу Наполеону в награду его незаконного наследника, маленького Валевского. Скажите теперь, не добрый ли я человек?
— Несчастный! Вы хотите украсть у матери ребенка! Но для какой цели? Я еще не поняла этого, — сказала Алиса, с испугом смотря на Мобрейля, а затем, не получив ответа, продолжала: — Ах, теперь, я догадываюсь. Обманув бдительность комиссаров, пользуясь любовью Наполеона к ребенку, вы хотите сделать из последнего приманку, западню для императора? О, вы чудовище!
— А у вас тоже иногда есть сообразительность и здравый смысл, — насмешливо сказал Мобрейль, — вы отлично поняли мое намерение. Конечно, мне нужен этот малютка для того, чтобы приблизиться к Наполеону; видя меня со своим ребенком, он будет доверчив.
— И вы убьете его в то время, когда он, беззащитный, будет обнимать своего ребенка и, может быть, благодарить вас за доставленную ему короткую радость свидания с маленьким, невинным сообщником вашего преступления! О, это ужасно!
— Избавьте меня от ваших рассуждений, я прошу вас только облегчить мою задачу. Вы можете явиться к графине Валевской не возбуждая подозрений; вы скажете, что имеете к ней важное дело, письмо от Наполеона. Это тем правдоподобнее, что ваш муж состоит теперь при генерале Камбронне, в той охране, которую имели глупость оставить у тирана. Я рассчитываю на вас. Когда вы пойдете к графине? Надо торопиться!
Алиса подумала несколько минут, и в ней проснулась внезапная энергия. Мобрейль слишком злоупотреблял своим влиянием, она больше не боялась его. Она решила сбросить ненавистное иго, освободиться от его цепей и стать свободной.
Ее решение было твердо, надо было только хорошенько скрыть его, надо было не дать заметить этому человеку, что его власти пришел конец. Поэтому Алиса уверенно ответила:
— Если вы требуете, я сегодня же отправлюсь к графине Валевской. Приходите завтра опять, я сообщу вам, каким образом, пользуясь добытыми мною сведениями, вы сможете проникнуть к ней. Но обещайте мне, что ребенку вы не сделаете никакого вреда.
Мобрейль разразился смехом:
— Об этом не беспокойтесь, прекрасная Алиса! Мальчуган будет со мной в такой же безопасности, как со своей матерью. Монархии нечего опасаться незаконнорожденного. Ведь орленок теперь в клетке, у его отца-орла обрезаны когти, за каким же чертом мне душить несчастного цыпленка, не имеющего никаких прав даже на существование в глазах Европы? Подите вы! Итак, решено. Я очарован вашим благоразумием. До завтра! Однако где?
— Я не могу назначить определенное свидание, обстоятельства покажут. Я дам вам знать, — промолвила Алиса.
— Хорошо, пошлите мне с надежным человеком предупреждение о времени вашего свидания или, если ваш приход окажется опасным, указание того места, где я мог бы завтра увидеть вас в этот час.
— По какому адресу прислать вам это извещение?
— В дом принца Беневенто на улице святого Флорентина. Я имею честь находиться в настоящее время у самого могущественного в Европе лица.
Алиса кивком головы выразила свое согласие, Мобрейль ушел, довольный ее послушанием, но порекомендовав ей строжайшую осторожность.
Оставшись одна, Алиса, глубоко взволнованная, решила привести в исполнение план, зародившийся в ее уме. Оставив ложный стыд, она решила признаться в своем прегрешении против мужа, в своем раскаянии и намерении искупить свою двойную измену.
Но открыть все это мужу было слишком трудно. Он был так далеко, где найти теперь маленький отряд Камбронна? На это не хватило бы времени, да и мужества также. Кроме того, Алиса не могла решиться убить доверие к себе мужа. Что, если он не простит, если он разлюбит ее? Эта мысль пугала Алису. Молчать же дальше она тоже не могла: тайна рвалась наружу, душила ее. Несчастная женщина говорила себе, что, открыв душу, она будет иметь возможность, уже не краснея, не страдая, идти своей жизненной дорогой, ожидая прощения и заслуживая сострадания.
Но сделать то, что было выше ее сил, Алиса не могла. Она готова была сознаться пред целым светом в своей подлости, в своих изменах, но ее муж не должен был знать это. Для него она хотела остаться чистой, достойной уважения и любви.
Она остановилась на одной мысли, уже давно созревавшей в ее сознании: открыть все герцогине Лефевр, и действительно бросилась в ее объятия, со слезами рассказала ей свою тайну. Та, ошеломленная сначала, не могла потом, по старой привычке, удержаться от невольного восклицания:
— Черт побери, однако, милейшая, как у тебя хватило духа обмануть Анрио, такого чудного мужа, да еще с такой канальей, как Мобрейль! — Но потом она смягчилась и почти матерински ласково стала расспрашивать. — Ну, расскажи же, малютка, как этот мошенник поймал тебя в свои сети?
Алиса, рыдая, рассказала всю историю преступной слабости, потом своего раскаяния и страданий. Когда же она дошла до описания измены, к которой ее вынудил Мобрейль, до похищения письма императора, герцогиня воскликнула:
— Несчастная! Лучше бы ты еще десять раз обманула своего мужа, чем хотя на мгновение — императора! Ведь ты оказала огромнейшую услугу этим русским, пруссакам, негодная ты женщина!
Затем герцогиня встала и, обняв ее, сказала:
— Дочь моя, нельзя терять ни минуты! Твое раскаяние и великая услуга, которую ты оказываешь теперь императору, заслуживают тебе прощение и прежнюю любовь; ведь дело императора далеко еще не так плохо, как надеются роялисты и как думают союзники. Твой славный муж на узнает ничего, все, что ты открыла мне, погребено здесь, в моей груди. Люби же сильнее бедного Анрио; ты должна в будущем быть ему безупречной женою, нежной и любящей, как будто образ другого человека никогда не вставал между вами. Но займемся теперь другим. Нельзя допустить убийство императора. Как бы нам помешать этому него дяю Мобрейлю добраться до Наполеона? Не придумаем ли мы чего-нибудь?
— Я думаю, надо предупредить графиню Валевскую.
— Это верно! Пусть она бережет, как только может своего ребенка, из которого хотят сделать приманку, чтобы обмануть императора. Ты права! Пойдем к графине.
Одевшись наскоро, герцогиня повезла Алису в дом на Вандомской площади, где жила Валевская.
Когда они садились в карету, герцогиня заметила верного ла Виолетта в ложе привратника и спросила его, что он там делает.
— Я здесь на сторожевом посту, герцогиня, — ответила Виолетт, — кругом бродят подозрительные личности. Я не желал бы, чтобы кто-нибудь из этих пруссаков или плутов с белыми кокардами осмелился оказать неуважение дому маршала империи. Вот я и караулю. Нашего часового от нас взяли, но я сменил его и не советую никому соваться сюда.
— Успокойся, ла Виолетт! Пойдем-ка лучше к графине?! Ведь дело идет о важной услуге императору.
— О, тогда с радостью, герцогиня. — И бывший тамбуру мажор вскочил с живостью молодого человека на козлы кареты, а последняя быстро доставила обеих дам к жилищу графини Валевской.
В продолжение беседы ла Виолетт оставался в передней, недоверчиво и злобно наблюдая за дверью, за проходящими и проезжавшими. Этот старый ворчун не особенно доверял покровительству союзников. Он считал, что маршал Лефевр поручил ему свою жену, пока находился в Фонтенбло с императором, и старательно исполнял роль сторожевой собаки.
Ла Виолетт очень удивился, когда дверь комнаты графини, куда вошли герцогиня и Алиса, приоткрылась и его позвали туда. Его, простого солдата, чье место было в передней, у порога, позвали в зал! Что могла значить эта честь теперь, в такую минуту? Конечно, ничего хорошего. Если такое равенство возникает между слугой и господами, должно быть, им грозит какая-нибудь большая опасность.
Рассуждая так, несколько раздраженно ла Виолетт, надувшись, как бы боясь стукнуться в дверях, вошел в зал. Со своей дубинкой, которую он держал на караул, как ружье перед офицером, с маленькой бородкой на костлявом лице, со своими неловкими движениями он показался графине смешным.
— Он похож на Дон Кихота, — шепнула Валевская на ухо Сан-Жень.
— Он храбр не менее этого героя ветряных мельниц, но гораздо разумнее его, когда дело касается императора или маршала. На него можно положиться, как на каменную стену, и ему я хочу поручить охрану вашего ребенка, а вместе с ним и того, кому предстоит столько опасностей на пути в изгнание.
Затем герцогиня быстро посвятила ла Виолетта в положение дел и сообщила, чего она ждет от его преданности и мужества.
Прежде всего надо было позаботиться о безопасности ребенка, потом предупредить Наполеона об опасности, догнать его и сопровождать, охраняя его особу, отвращая от его груди кинжал убийцы.
Ла Виолетт принял с восторгом и благодарностью важное поручение, доверенное ему герцогиней и графиней. Какая честь охранять этого мальчика, в жилах которого течет кровь императора! Какое счастье покровительствовать ему самому!
Предписания ла Виолетту и план его действий были быстро составлены. Нельзя было терять ни минуты: ведь Наполеон был в дороге, и убийцы, может быть, уже скакали по его следам.
Надо было сначала обеспечить безопасность ребенка. На следующий день Мобрейль должен был иметь ответ Алисы, а потому надо было скрыть мальчика далеко от Парижа, в каком-нибудь тайном убежище, чтобы Мобрейль не мог завладеть им. Но где найти такой надежный приют?
Ла Виолетт подумал с минуту и сказал:
— В Торси живет некий Жан Соваж, на него можно положиться вполне.
Герцогиня вспомнила бывшего слугу в своем замке Комбо. Честно поработав у заставы Клиши, Жан Соваж с женой Огюстиной и двумя детьми вернулся в Шампань, в родную деревню. Надо было восстановить маленькую ферму, сожженную союзниками, и он мужественно взялся за дело.
Ла Виолетт высказал убеждение, что Огюстина будет хорошо заботиться о мальчике, он будет играть с ее детьми не соскучится особенно сильно, и никому не придет в го лову искать его в этой отдаленной местности.
Было решено, что ла Виолетт отправится немедленно в Торси с маленьким Наполеоном, а затем, как только дитя будет устроено, он двинется, не жалея ни издержек, ни времени, в Италию, догонять императора. Меняя лошадей, находясь все время в дороге, он догонит экипаж Наполеона раньше опасных остановок в Провансе, где Мобрейль предполагал совершить преступление.
— Вам нужен будет спутник, такой же храбрый и верный, как вы сами, — сказала графиня. — Вдвоем вы будете сильнее, вам будет легче бороться с препятствиями…
— Я не знаю никого такого, — прошептал в затруднении ла Виолетт. — Ах, да, вспомнил! — воскликнул он после минутного размышления. — Сигэ, вестовой маршала.
— Да, Сигэ, — верный слуга и храбр не меньше тебя, ла Виолетт, — сказала герцогиня. — Теперь мне кажется, Лефевр может обойтись без него… Ты найдешь Сигэ в Комбо.
— Это мне по пути от Торси на итальянскую дорогу, — произнес ла Виолетт. — Так я с вашего позволения, герцогиня, возьму с собой Сигэ. Вдвоем мы не побоимся ни русских, ни пруссаков, ни всей дьявольской шайки маркизов и иезуитов и не позволим никому коснуться ни одной выпушки на мундире нашего императора.
Когда все было решено, ла Виолетт принялся за приготовления к путешествию; ему были нужны оружие, деньги, паспорт, но он устроил все очень скоро и вернулся с почтовой коляской к дому на Вандомской площади.
После бесчисленных поцелуев и объятий графиня Валевская рассталась со своим сыном. Мальчик уже больше не плакал, познакомившись поближе с усами, рединготом и дубинкой ла Виолетта, и, казалось, был даже очень рад избавиться от скучного заключения в доме матери. Его больше не будут запирать в мрачном кабинете, он увидит новые места… Этих причин было достаточно, чтобы прояснилось затуманившееся было личико юного путешественника.
Когда коляска скрылась из глаз, увозя ребенка и его провожатого, графиня Валевская бросилась на колени перед привезенным из Польши распятием и благоговейно стала читать молитвы, закончив их воззванием к Провидению:
— Боже, помилуй моего сына!
Герцогиня отвечала ей, как на церковной службе:
— Боже, помилуй императора!
И все три женщины, с глазами, полными слез, со стесненным сердцем, мысленно следили за добряком ла Виолеттом, который, как некогда странствующие рыцари, отправился в далекий путь защитником правды, покровителем слабых и карателем изменников.
III
Утром 20 апреля 1814 года замок Фонтенбло был необыкновенно оживлен.
Немало великих событий произошло во дворце короля Франциска I. В этом чудном здании стиля ренессанс окончились многие мрачные трагедии и произошли незабываемые, сохранившиеся в течение веков, исторические события. Здесь Генрих IV арестовал своего гостя, маршала Бирона, открыв его измену. Здесь великий кардинал Ришелье чуть не попал в западню, которой руководил брат короля с помощью графа де Шале, возлюбленного герцогини де Шеврез. Заговорщики намеревались похитить Ришелье и убить его в дебрях диких лесов, причем хотели распустить слух, что его поймали и убили разбойники, водившиеся в лесах Апремона и на пустырях Франшара. Однако Ришелье открыл заговор, и Шале был обезглавлен.
В 1667 году в Фонтенбло поселилась Христина Шведская, одевавшаяся в мужское платье, бранившаяся, как грубый солдат, владевшая шпагой, как настоящий воин, похожая на красивого мальчика. С ней был ее конюший, бывший ее возлюбленный, маркиз Мональдечи. Христина нашла его письма к сопернице и, придя в ярость, отомстила неверному. Трое из ее офицеров напали на Мональдечи с обнаженными саблями в Оленьей галерее, и королева с жестокостью кошки наслаждалась агонией своей жертвы. Она показала ему письма, осыпала его упреками и оскорблениями. Несчастный на коленях умолял о прощении и помиловании. Однако Христина ничего не хотела слышать. Она призвала духовника, велела ему причастить приговоренного к смерти и прочитать над ним отходные молитвы. Духовник, отец Лебель, вступился за несчастного. Он сказал Христине, что нельзя совершить подобное убийство во дворце короля Франции, что если Мональдечи виновен, то только королевский суд может карать его. Однако мстительная шведка ответила, что она — королева повсюду и везде может наказать преступного подданного. И ветреный конюший был убит, притом очень неловко: три гайдука принимались за это несколько раз. Он носил кольчугу под платьем, и убийцы могли бить его только в голову. Мональ-дечи кричал и молил духовника помочь ему, но монах мог только дать ему отпущение грехов. Измученный, израненный Мональдечн просил отсечь ему голову. Наконец удалось пронзить ему горло. Он мучился еще с четверть часа, призывая Иисуса и Марию. А королева Христина в этот вечер танцевала в соседнем зале с молодым королем Людовиком XIV в балете «Времена года» — изящном произведении известного Берсерада.
Дворец Фонтенбло, в котором вопли жертв часто сливались с музыкой скрипок, во времена империи служил местопребыванием папы Пия VII. До сих пор посетители могут видеть комнату римского первосвященника и стол, у которого он подписал отречение от светской власти над римским королевством, то самое, от которого потом отказался после падения Наполеон. Это отречение ненадолго опередило отречение от престола самого Наполеона, вырванное у него изменой и падением.
Со времени своего отречения Наполеон, задумчивый и мрачный, бродил по галереям молчаливого и пустынного дворца. Великолепные залы, бывшие местом беспрестанных роскошных празднеств, теперь, когда умолк в них шум и исчезла толпа, казались еще печальнее и грустнее, чем обыкновенное жилище.
Не само отречение заботило Наполеона. Он сложил оружие спокойно, мужественно, без отчаяния, побежденный скорее изменой своих друзей, маршалов, чем кажущейся победой союзников.
Он мог еще продолжать войну. Около него в Фонтенбло было собрано до сорока тысяч человек. Пятнадцать тысяч солдат были при императрице. К нему могли быстро присоединиться отряды из Италии и Каталонии, войска Сюше и Сульта. На западе восстание продолжалось бы, а Париж оживился бы, услышав пушки своего освободителя. Союзники, очутившиеся меж двух огней, попали бы в ужасное положение. И все-таки Наполеон подписал отречение, подчинившись приговору ничтожного сената, преданного Бурбонам. Он не мог противиться народной воле, требовавшей мира, а так как остальные государи утверждали, что препятствием к этому миру был только один он, то Наполеон геройски, благородно отстранил себя. На него произвели удручающее впечатление нравственные потрясения, заставившие его так легко подписать отречение от престола. Его мучили измена маршалов и горестное сознание того, что жена не хочет более видеть его, что она воспользовалась событиями, чтобы покинуть его навсегда.
Из всех страданий, перенесенных Наполеоном в последнее время, самым жгучим, самым невыносимым было его двойное сознание крушения дружбы и любви. Он не имел еще доказательства полной измены жены, но ее равнодушие было последней каплей, переполнившей чашу горечи.
Запершись в галерее библиотеки, Наполеон большими шагами ходил взад и вперед, перебирая в памяти печальные события, людскую неблагодарность, измену друзей и останавливаясь каждый раз, как только до его слуха долетал стук колес экипажа во дворе замка.
— Это кто-нибудь из придворных, — говорил он себе, — Кларк, Камбасерес или Удино, явился, чтобы уверить меня в своей преданности, обещать мне помощь, предложить разделить со мною изгнание…
Наполеон подходил к окну, но карета проезжала мимо: его придворные спешили в Париж принести поклонение восходящему солнцу Бурбонов; среди них были и Кларк, и Камбасерес, и Удино. Последними все-таки уехали в Париж Макдональд, Мортье, Монсей. Все они изобретали предлоги, ссылаясь на оставшихся там жен, на здоровье, на дела, требовавшие их присутствия в Париже. Они обещали вернуться назад, но ни один не сдержал обещания.
Наполеон увидел их опять, пресмыкающихся, низкопоклонничающих, полных преданности и обещаний, только после своего потрясающего возвращения с острова Эльба, после гибели нового королевского трона Бурбонов, этого детища хитрости и измены.
Маршал Лефевр предлагал ему попробовать поднять восстание в Париже, опираясь на свою популярность, на свои заслуги и республиканские чувства, сохранившиеся у него, несмотря на то что он стал герцогом империи. Наполеон слушал его внимательно, качая головой, внутренне одобряя дерзкий план поднять Париж и устроить новое подобие Сицилийской вечерни.
Но отречение сломило Лефевра. Он с горечью сказал Наполеону: «Теперь ничего не поделаешь. Сенат потребует отречения» — и уехал.
Маршал Бертье, один из главных начальников армии, правая рука императора, попросил разрешения съездить в Париж только на два дня.
— Поезжайте, принц, — сказал ему с печальной улыбкой Наполеон, — надеюсь, что вы не поступите, как другие, и сдержите свое обещание. Я увижу вас снова, да?
— О, ваше величество, как вы можете сомневаться в этом! — воскликнул Бертье со слезами в голосе, как бы обиженный предположением, что и он может заискивать перед Бурбонами.
Однако Наполеон со вздохом посмотрел ему вслед и, умудренный опытом, проговорил про себя:
— Он не вернется.
Генералам отдельных отрядов были разосланы циркуляры с требованием присоединиться к королевскому правительству, и вскоре же официальная газета «Монитор» обнародовала низкопоклоннические ответы Журдана, Ожеро, Мезона, Лангранжа, Нансути, Удино, Сегюра.
Нельзя упрекать этих маршалов за то, что они не подняли восстание, отказались обнажить шпаги, когда сам Наполеон вложил в ножны свою. Но сама Франция не принимала участия в устройстве нового правления, и присоединение генералов к Бурбонам было совершенно произвольно. Это присоединение начальников армии к другому правительству, не тому, которому они присягали в верности, которое представляло собой защиту страны, сопротивление иноземцам, поддерживая трехцветное знамя и свободы 1789 года, — являлось настоящим военным переворотом.
Иноземцы сильно влияли на Бурбонов; без них Бурбоны предоставили бы французам большую свободу высказываний, если бы измена и присоединение к ним начальников армии не предоставили Талейрану и другим пособникам реставрации полную возможность действовать и всю власть.
Маршалы армии, не сделавшись бунтовщиками, могли не согласиться на осуждение Наполеона. Не присоединяясь ни к эмигрантам, ни к шуанам, ни к королевскому знамени, они могли получить почетный мир, сохранить своего государя, а это помешало бы унижению, разгрому Франции. Они своим влиянием, своим оружием помешали бы сделать из Наполеона пленника. Если они находили присутствие Наполеона на троне опасным для мира, так желаемого народом, они могли провозгласить регентство, возведя на престол Наполеона II.
Император отлично понимал эгоистические, мелкие расчеты маршалов, желавших во что бы то ни стало сохранить все блага, полученные от него, а вместе с тем воспользоваться милостями Бурбонов, и это, конечно, огорчало его.
Но, кроме того, к горькому чувству от неблагодарности и измены у него примешивалось печальное сознание истинных чувств к нему жены. Он долго утешался мыслью о том, что Мария Луиза присоединится к нему, разделит с ним его изгнание. Однако разговор, случившийся в это утро, 20 апреля 1814 года, лишил его этой последней надежды.
Происходил прием комиссаров, назначенных иностранными державами сопровождать Наполеона на остров Эльба.
Были назначены: от Англии — полковник Нейл Кэмпбел, храбрый воин, страдавший от раны, полученной в битве; от России — генерал Шувалов; от Пруссии — граф Трусгес-Вальдбург; от Австрии — генерал Колер.
Наполеон холодно принял комиссара прусского, довольно долго беседовал с русским и английским и задержал у себя после аудиенции генерала Колера, представителя своего тестя. Он спросил его о Марии Луизе, зная, что та виделась в Рамбулье со своим отцом, и горел желанием узнать, что они решили, поедет ли она на Эльбу, какая участь ждет Римского короля.
Австрийский представитель не оставил никакой надежды Наполеону. Он рассказал ему о свидании Франца Иосифа с дочерью в Рамбулье.
Прибыв в замок, император австрийский был встречен германской придворной дамой, помещенной союзниками у императрицы. Эта дуэнья раздражала Франца Иосифа своей болтовней, так что он закричал на нее:
— За каким дьяволом вы тут? Здесь нет императрицы, я хочу видеть мою дочь.
И он резко прошел в помещение Марии Луизы.
Весь этикет с церемониалом, установленный Наполеоном, исчез; не было даже, как верно выразился Франц Иосиф, императрицы: со времени падения Наполеона этот титул не принадлежал больше Марии Луизе, и ее отец, говоря о ней, называл ее просто: «моя дочь» или «принцесса». Он делал это не из доброты или дружелюбия, но для того, чтобы стереть в ней даже воспоминание о муже, принять которого заставили только его победы.
Неизвестно в точности, о чем говорили отец с дочерью, но, вероятно, ему не стоило большого труда убедить Марию Луизу считать себя в разводе с солдатом, которого еще можно было выносить, пока он был могуч и непобедим, но который не мог иметь никакого дела с эрцгерцогиней австрийской с тех пор, как он потерял единственное оправдание своей супружеской дерзости, а именно — владычество над Европой и своих орлов-солдат.
Мария Луиза вовсе не сопротивлялась внушениям отца. Она знала, что Нейпперг был рядом, в спальне, и была уверена, что он сумеет утешить ее во всем.
Франц Иосиф пожелал обнять внука. Мальчика привезли, но, казалось, Римский король не особенно был тронут ласками деда: вернувшись к гувернантке, которая спросила его: «Ну, что, ваше величество, видели вы австрийского императора?» — кудрявый мальчик ответил ей:
— Он мне не нравится. К тому же я знаю, что он не любит моего папу… тогда и я не буду любить его, этого императора Австрии, вот так же, как Блюхера, которого я ненавижу.
Мальчику сказали, что Франц Иосиф очень любит его мать и что он подарит ему чудесные игрушки в своем дворце, в Вене.
— Я не хочу игрушек из Вены, я хочу те, которые у меня были в Тюильри, — упрямо крикнул ребенок. — Их взял у меня король Людовик Восемнадцатый вместе с троном и шпагой моего папы. Но он должен отдать их когда-нибудь. Папа вернется в Тюильри, и я получу обратно свои игрушки.
Наполеон был тронут до слез, когда генерал Колер рассказал ему про эту вспышку ребенка, но вскоре чуть не заплакал от ярости, когда узнал, что его разлука с Марией Луизой решена, что императрица поедет путешествовать для подкрепления здоровья, а король Римский, переименованный в принца Пармского, будет отвезен в Шенбрунн, где получит воспитание, подобающее австрийскому эрцгерцогу.
— Мой сын — германский принц! — с горечью вздохнул Наполеон.
Затем он пожаловался генералу на обращение с ним в изгнании. Дюпон приказал снять на острове Эльба все пушки и убрать боевые припасы. Значит, его хотят оставить совсем беззащитным?
— Я не пожелал королевства, — сказал Наполеон, — я не просил Корсики. Я прошу только защиты от варваров и пиратов. При таких условиях я буду жить, там мирно и спокойно, но не хочу оставаться на острове Эльба, если он не будет достаточно защищен.
— Ваше величество, — сказал генерал Колер, — я передам это временному правительству.
— Мне нет никакого дела до временного правительства! — гордо ответил Наполеон. — Я заключил договор с союзными государями, им вы и передайте это. Я не так лишен возможности продолжать войну, как это думают, но не хочу разорять Францию и поддерживать волнение в народе. Солдаты же преданы мне больше, чем когда-нибудь. Если я не получу помощь и безопасность по нашему договору, я откажусь ехать и найду убежище в Англии. Раздался стук в дверь.
— Кто там? — спросил Наполеон.
— Дежурный адъютант.
— Что надо? Войдите!
Адъютант, полковник Анрио, вошел и доложил:
— Ваше величество, обер-гофмаршал поручил передать вам, что уже одиннадцать часов.
— Вот еще новости! — пожал плечами император, — с каких это пор я подчинен часам обер-гофмаршала? Возможно, господа, что я вовсе не поеду. Позовите ко мне комиссара Англии.
Вошел Нейл Кэмпбел, ожидавший в соседнем зале.
— Полковник, — обратился Наполеон к изумленному англичанину, — если бы я отказался ехать на остров Эльба, нашел бы я себе убежище у вас, в Англии?
— Ваше величество, — с живостью ответил Кэмпбел, — я уверен, что моя страна поступила бы с вами со всем великодушием, подобающим в отношении героя, находящегося в несчастии.
— Да, Англии я доверяю, — с волнением сказал Наполеон. — Ваша нация самая великая из всех, ваш народ превосходит всех национальным умом. Я удивляюсь и поклоняюсь Англии. Я был вашим величайшим врагом, откровенно говоря, но, отдавая себя в ваши руки, я верю, что вы не злоупотребите своей победой.
Так доверялся побежденный герой коварней Англии.
Но раньше, чем попасть в ад на остров Святой Елены, ему предстояло еще чистилище на Эльбе.
Обратившись к генералу Колеру, Наполеон сказал:
— Я сохраняю за собой право обратиться к великодушию Англии, но пока соглашаюсь на условия, предписанные мне Европой. Пусть предупредят моих офицеров: сегодня я отправляюсь в путь.
Экипажи для императора и его свиты выстроились во дворе гостиницы «Белая лошадь», которая после этих событий, более важных, чем все описанные нами раньше, стала называться «Двор прощания».
Императорская гвардия выстроилась в боевом порядке. В предпоследний раз она приветствовала свое божество. Все население Фонтенбло собралось у решеток замка.
В первом ряду можно было различить иностранных комиссаров и среди них Нейл Кэмпбела в красном мундире, с подвязанной рукой. В центре каре, образуемого гвардией, стояли верные сподвижники Наполеона, товарищи его последнего часа: Друо, Бертран, Коленкур, Марэ. Генерал Бертран, стоявший у порога галереи, по которой должен был пройти изгнанник, возвестил:
— Император!
Все обнажили головы. Показался Наполеон. На нем был костюм времен его славы: старый сюртук и треуголка. Он шел между шпалер немногих царедворцев несчастья, состоявших из нескольких субалтерн-офицеров, слуг и чиновников замка. Вот все, что уцелело от пышного цветника королей в Эрфурте, окружавшего великого Наполеона в апогее его славы, и от ослепительного тюильрийского двора.
Готовясь спуститься по парадной лестнице, Наполеон обернулся назад. Он искал глазами еще кого-то — надежного товарища, которого надеялся тут встретить, но не находил.
— Где же Рустан? — осведомился наконец император у барона Фэна.
Секретарь был вынужден сознаться, что накануне Рустан скрылся куда-то из дворца, не сказавшись никому.
Наполеон с грустью махнул рукой: у него навернулись невольные слезы.
Итак, мамелюк, верный мамелюк, бессменный товарищ дня и ночи, этот страж дверей и походной палатки, которому Наполеон в течение двадцати лет во Франции и на всех европейских полях битв доверял себя, вручал свою жизнь и свой сон, этот Рустан, осыпанный подарками и знаками дружбы императора, этот раб, подаренный пашой, как лошадь, как собака, и сделавшийся важной персоной, почти приближенным императорской семьи, также бежал от своего государя. Таким образом человеческая неблагодарность и низость открывались пред Наполеоном все в более и более отвратительном виде на каждом шагу, который он делал по пути к изгнанию.
Упомянем, что этот презренный Рустан, которого сманили и подкупили Бурбоны, выступал впоследствии за деньги в увеселительных заведениях низшего пошиба в Лондоне, а в Париже — в Пале-Рояле. Он явился феноменом предательства в ту эпоху, когда имя предателям было легион.
Едва император показался вверху парадной лестницы, барабаны забили поход. Он поднял руку, чтобы водворить тишину, и, двинувшись к войску, громко сказал:
— Офицеры, унтер-офицеры и солдаты моей старой гвардии, прощайте! В продолжение двадцати лет я находил вас постоянно на пути чести и славы. В последнее время, как и во времена нашего благополучия, вы не переставали являть собой образец верности и отваги.
С такими людьми, как вы, наше дело не было бы проиграно! Но война затянулась бы до бесконечности: она перешла бы в междоусобие, и Франция сделалась бы через это еще несчастнее. И вот я пожертвовал своими интересами ради интересов отечества. Я уезжаю! Вы же, друзья мои, продолжайте служить Франции. Ее счастье было моей единственной мыслью и останется навсегда близким предметом для моего сердца.
Не сожалейте о моей участи! Если я согласился пережить себя, то опять-таки с целью послужить вашей славе. Я намерен описать великие дела, совершенные нами сообща. Прощайте, дети мои! Хотелось бы прижать к сердцу каждого из вас, но я обниму по крайней мере вашего командира, поцелую ваше знамя.
Тут выступил вперед ветеран, покрытый боевой славой, весь в рубцах, генерал Пети, командовавший совместно с Камбронном императорской гвардией. Наполеон привлек его к себе, взяв за плечо, и прижал к груди. Потом он подозвал жестом знаменщика.
Офицер протянул императору священный символ. В этом знамени императорской гвардии сосредоточилась вся слава двадцати прошедших лет: непобедимое, развевалось оно в Вене, в Берлине, в Москве. Оно вступило в Труа после громких побед. И ему, закопченному пороховым дымом, предстояло погибнуть в рядах последнего каре под Ватерлоо.
Наполеон, величавый первосвященник этого поминального обряда по мертвецам побежденной Франции, поднял священный стяг. Храбрецы, собранные на отпевание погребенной империи, содрогнулись и в первый раз поникли головой: по их рядам пронесся трепет при этом воинственном возношении. Момент вышел торжественный, религиозный, трагический.
Наполеон поцеловал знамя и взволнованно сказал:
— Дорогой орел, пусть этот прощальный поцелуй отдастся в сердце каждого француза!
Все плакали. Даже английский комиссар Нейл Кэмпбел вытащил здоровой рукой платок и провел им по глазам.
Император проворно сел в ожидавшую его коляску. Он торопился скрыть свое волнение, ему не хотелось заплакать перед своими солдатами.
Отъезд произошел в следующем порядке: шествие открывали двенадцать кавалеристов; за ними следовали карета генерала Друо, коляска императора с генералом Бертраном, отряд кавалерии, четыре крытых экипажа иностранных комиссаров и восемь экипажей для адъютантов, офицеров императорского дома и слуг.
Гвардия и уличная толпа молча смотрели вслед этому погребальному поезду. Люди обнажили головы, точно провожая покойника, и никто не смел крикнуть хоть что-либо императору на прощание.
Вечером Наполеон остановился ночевать в Бриаре. Он ужинал один с генералом Бертраном. Изгнание началось.
IV
Ла Виолетт, увезший с собой сына графини Валевской, прибыл в Торси поутру.
Деревня была разгромлена. Повсюду виднелись следы вражеского нашествия. Полусгоревшие дома обнаруживали провалившиеся лестницы, рухнувшие стены. Разбросанные по полям бугры показывали, что тут наскоро зарывали трупы убитых, и от этой опустошенной местности поднимался запах кладбища.
Разоренные крестьяне уже энергично принимались за дело: поднимали повалившиеся стены, чинили продырявленные крыши, сколачивали на скорую руку навесы и пристанища для бесприютных семей, оставшихся без крова.
Ла Виолетт попросил, чтоб ему указали, где находится ферма Жана Соважа, и вскоре нашел доблестного шампанца за работой: с пилой и молотком в руках тот укреплял балки, конопатил щели, заделывал отверстия, пробитые пулями.
Фермер трудился с мрачным усердием и злыми глазами. Вбивая гвозди, стуча молотком, он издавал отрывистые восклицания:
— Свиньи пруссаки! Грязный казацкий сброд! Ах, попадись вы мне только под руку! А эти продажные маршалы! Чтоб им провалиться! Они были готовы заставить нас боготворить Наполеона и позволить ради него изрубить себя в куски! Однако его вовсе не любили, когда он отнимал у нас наших детей и обременял население налогами! Теперь же о нем сожалеют: он служил нам защитником. При нем мы не были унижены, ограблены, не подвергались вымогательству. Ах, нам следовало усердно защищать его и отложить пока всякие счеты с ним до поры до времени. Когда отечество освободилось бы от всего этого пришлого сброда, надо было всем дружно сплотиться вокруг императора и не допускать, чтоб его захватили эти изменники с белыми кокардами!
В раздражении фермер ожесточенно взмахивал молотком и ударял им изо всей силы. Клокотавший гнев удваивал его рвение: работа так и кипела.
Ла Виолетт оставил сына графини в гостинице на Арсийской дороге. Быстрая езда утомила ребенка, он заснул, и старый ворчун решил дать ему немного отдохнуть, прежде чем представить мальчика новым приемным родителям.
Велико было изумление Жана Соважа, когда он узнал тамбурмажора. Чего ради явился в Торси управляющий маршала Лефевра? Неужели затевается восстание и в Шампани будут еще драться!
Последовали рукопожатия, взаимные расспросы; потолковали о несчастиях отечества, и, прежде чем коснуться цели своего приезда, ла Виолетт предложил распить бутылку вина в придорожной гостинице. Его приглашение было принято. Жан Соваж отложил в сторону свои плотничьи инструменты, приоделся немного и собрался следовать за старым солдатом.
— Кстати, — сказал тот, — где же твоя жена? Где дети? Ах, вот одного из них я вижу играющим там, в стружках… А где же старший?
— С матерью. Сейчас наш приходский священник послал за ним и за Огюстиной. Должно быть, насчет первого причастия. Пойдем же выпьем, ла Виолетт, младший сынишка прибежит за нами, когда вернется мать.
— Да, но я хотел бы повидать и твою жену, старина. Мне надо поговорить с вами обоими.
— Так ты нарочно приехал к нам из Парижа? Значит, у тебя какое-нибудь важное дело! Уж не от супруги ли маршала послан ты сюда? Ну, как поживает наша славная мадам Сан-Жень?
— Весьма благополучно. Она дала мне поручение к тебе. Но я объясню, в чем дело, когда придет твоя жена. Ну пойдем, товарищ!
— Отправимся! Я все-таки рад видеть тебя, старина ла Виолетт! Много перенесли мы сообща с тобою всяких бед, дружище, помнишь? Жутко нам приходилось, ой, как жутко! Теперь я совсем оправился: моя рана зажила, как видишь. Ну, а ты? По-прежнему молодцом?
— Надо бодриться поневоле, делать нечего!
— Огюстина также обрадуется тебе. Мы потолкуем про заставу Клиши, про казаков, про улицу Бобур.
Жан Соваж вдруг запнулся. Мучительное воспоминание сжало его сердце, а в горле точно застряло что-то. Может быть, ему представилась унылая комната на этой улице Бобур, куда его перенесли раненного, без памяти; и тут со дна прошедшего всплыла тень Сигэ, склонившегося над ним. Сигэ, возвратившийся с немецких войн, воскресший муж, первый возлюбленный его жены Огюстины, заявляющий на нее права, требующий своего сына, занимающий вновь свое место у отвоеванного очага как полноправный хозяин.
Между тем Сигэ исчез опять. Жан Соваж не видел его больше со времени выздоровления. Он никогда не слыхал разговоров о нем, а у него самого не хватало духа расспрашивать Огюстину. Пожалуй, ей было известно убежище Сигэ. Может быть, они повидались перед отъездом в Торси, который Жан торопил, ускорял, не обращая ни на что внимания, так как ему не сиделось в Париже. Он спешил, едва встав с постели, поставить разлуку, пространство, забвение между этим Сигэ, выходцем с того света, и Огюстиной. Она была неизменно добра, кротка, приветлива к нему, Жану, и ничто не обнаруживало в ней, что ей известна трагическая истина. Только усилившаяся печаль на лице и заметное принуждение, когда она целовала при нем своего старшего ребенка, сына Сигэ, — вот все, что могло выдать ее душевные страдания.
Что касается самого Жана, то после того как он, находясь между жизнью и смертью, увидал Сигэ рядом с Огюстиной, его нравственная пытка не прекращалась. Он спрашивал себя, любит ли его по-прежнему Огюстина, не жалеет ли она о том, другом… На него и раньше нападала ревность к прошлому, когда он думал в былое время — еще до роковой встречи в Париже — о соперничестве, существовавшем между ним и Сигэ. Ведь ему посчастливилось сделаться мужем Огюстины лишь благодаря тому, что Сигэ, блестящий гвардеец, любимый ординарец маршала Лефевра, оставил Огюстину вдовою, пропавши, как полагали, без вести, скончавшись где-то на поле сражения. Жан отгонял тогда это раздражающее чувство недоверия к себе самому и к своей жене только уверенностью в том, что он избавился от соперника, которому отдавали предпочтение. Огюстина могла горевать втихомолку о своем убитом первом муже; ей не возбранялось оплакивать его славную смерть на поле битвы под Дрезденом, но не была же она настолько глупа, чтобы воображать, будто мертвые способны возвращаться с того света! Ведь Сигэ был теперь лишь тенью, рассеившимся дымом. И вдруг этот дым сгустился в действительность, тень облеклась плотью, и мертвый явился среди живых.
Огюстина осталась верна своему второму супружескому обязательству. Воскресший покойник не подумал заявлять свои права на ту, которая уже отдалась добровольно, по чистой совести, другому. Он даже принял великодушное решение устраниться, исчезнуть с их горизонта, вероятно, навсегда, сойти — за неимением могилы — в мрак забвения. Этот Сигэ был достойный малый с честным сердцем, и сердиться на него Жан не мог. Сигэ был жертвой роковых обстоятельств, как и он сам, даже более, чем он. Тем не менее, разве не тяжело было сознавать, что оба они — мужья одной жены, имеющие одинаковое право на ее любовь и предпочтение? Один из них, правда, подчинился свершившемуся факту. Это был Сигэ. Он добровольно принял свой приговор: его продолжительное отсутствие, безвестная отлучка, приписанная смерти, отнимали у него право жаловаться на прошлое; он понял это и пожертвовал собой. Да, Сигэ поступил похвально! Достало ли бы мужества у него самого, у Жана Соважа, отказаться в подобном положении от Огюстины?
В конце концов не выпал ли ему сравнительно лучший жребий, чем Сигэ? Огюстина и дети остались при нем, да, именно дети, а не дитя, потому что, воспитав старшего — сына Огюстина и Сигэ, Жан привязался к нему, как к родному сыну, и не делал никакого различия между двумя мальчиками, выросшими вместе, сравнявшимися в правах благодаря ежедневному общению. Между тем непреодолимая тревога сжимала Жану грудь. Он твердил себе, что это счастье, это спокойствие не прочны. Как ручаться за то, что может произойти в душе Огюстины? Как знать? Пожалуй, сожаление о Сигэ станет томить ее до такой степени, что сделает отвратительным и невозможным для нее, бедняги, мирное существование, которое вела она со своим вторым мужем. Пока Огюстина была разлучена с Сигэ неодолимым препятствием — могилой, она могла мириться с потерей того, кто был предметом ее первой, пожалуй единственной, любви; но теперь, когда она знала, что он жив, что она может сойтись с ним и принадлежать ему, раз-не нельзя опасаться, что она попытается осуществить ту мечту, считавшуюся невозможной, и что как Сигэ словно воскрес из могилы, чтобы соединиться с ней, так и она приложит все старания, чтобы уйти к нему в свою очередь, бежав от второго брака?
Эти мрачные думы назойливо осаждали Жана Соважа днем и ночью.
Приезд ла Виолетта живо напомнил ему сцены парижской осады. Встреча с Сигэ в лачуге на дороге в Сент-Уан, сражение, переправа на носилках в Париж, в квартиру на улице Бобур, видение в лихорадочном бреду и беспамятстве Сигэ, разговаривавшего с Огюстиной, причем он, Жан, раненный, не мог разобрать смысл их слов, — вся эта быстрая и мучительная драма сызнова разыгралась в душе молодого фермера. Он видел пред собою и переживал опять все это время, такое близкое и уже такое отдаленное. Жан с беспокойством спрашивал себя, какая важная причина могла заставить отставного тамбурмажора колесить по дорогам, еще полным неприятельскими солдатами, бродягами и мародерами, чтобы явиться к нему на ферму в Торси, куда он поспешил переехать сам, едва начав поправляться, в первых числах апреля, стремясь в это мирное убежище, как в тихую пристань. Следуя молча ло поперечной дорожке, которая вела к гостинице «Серебряный лев», расположенной на перекрещении проезжих трактов Арси и Планси, Жан Соваж сказал себе с возрастающей тревогой:
— Сигэ — ординарец маршала Лефевра. Может быть, маршал послал ла Виолета ко мне от имени Сигэ? Ведь он всегда питал слабость к Сигэ, своему подчиненному. Ла Виолетт, должно быть, явился хлопотать в интересах Сигэ, который не смеет показаться сюда. Что понадобилось ему от меня? Отнять Огюстину? Нет, лучше смерть!
И, ощущая озноб, пробегавший по спине, Жан Соваж шел, понурив голову, согнувшись под невидимым дуновением предчувствия.
Когда они подходили уже к гостинице, ла Виолетт заметил вдалеке на дороге всадника, быстро мчавшегося к Парижу, минуя Ножан.
— Посмотри-ка, Соваж, — воскликнул ла Виолетт, — какая странная посадка у этого верхового… уж не казак ли он?
— Нет! Это французский гусар, — безучастно ответил фермер, по-прежнему погруженный в горькое раздумье и будучи волнуем своими опасениями.
Тамбурмажор продолжал разглядывать кавалериста, расплывчатый силуэт которого мелькал вдали, скрываясь иногда за придорожными тополями.
— Удивительное дело, — пробормотал он, — я готов поклясться, что это — казак, только что ограбивший какую-то ферму. У него с собой какая-то поклажа… что-то громоздкое… мешок — не мешок. Ну-ка, — продолжал ла Виолетт, повысив свой голос, что заставило вздрогнуть Жана Соважа, погруженного в тревожные размышления, — глаза у тебя зорки, как у всех жителей равнин. Вглядись хорошенько да скажи мне, что такое, перекинутое поперек седла, увозит с собою твой воображаемый гусар.
Фермер словно очнулся. Остановившись, он защитил рукою от солнца свои глаза и стал пристально всматриваться.
— Это французский гусар! — вскоре подтвердил Жан Соваж. — Странно! С ним как будто ребенок… да еще довольно большой. Он посадил его впереди себя на седло.
— Похититель детей? Французский-то гусар? Эк куда хватил! Его поклажа — скорее мешок муки или овса, который этот кавалерист увозит из какого-нибудь дома в Торси. У тебя глаза видят плохо, товарищ…, погляди-ка еще… протри очки-то!
— Я не могу больше ничего разглядеть, — ответил Жан Соваж, — дорога делает здесь поворот, и всадник скрылся за ним. Но если этот молодец интересует тебя своей ношей, то расспроси о нем в гостинице «Серебряный лев». Мы как раз подходим к ней. Незнакомец, наверно, останавливался там.
— Мы разузнаем о нем еще раньше, — возразил тамбурмажор, — вот и твоя жена спешит нам навстречу. Она должна была видеть этого всадника и объяснит нам, что такое он вез: ребенка или мешок.
Жан Соваж поднял голову. Внезапная бледность покрыла его лицо.
— Ребенка? — пробормотал он. — Да, я хорошо различил, что при всаднике был ребенок. Ах, Боже мой, неужели это… Я, право, рехнулся! Однако Огюстина одна, — прибавил фермер хриплым голосом.
Он побежал навстречу жене.
Она остановилась и, вздрагивая, поднесла к лицу передник, точно желая скрыть свои слезы, стыд, ужас.
— Огюстина, — закричал еще издали муж, — где мальчик? Где Жак?
Услыхав голос Жана, женщина упала как подкошенная на дорогу, не отнимая передника от лица, и заговорила с мольбой:
— Прости! Не брани меня! Я и так убита горем!
— Где мальчик? — грозно допытывался фермер.
— Сжалься, Жан! Я не могла защитить его, я была не в силах помешать тому, что произошло.
Ла Виолетт приблизился к ней в свою очередь и, теребя усы, проворчал сквозь зубы:
— Так вот оно что! Значит, история с мальчиком, посаженным поперек седла, подтвердилась? — Глаза деревенского жителя не обманули его! Но кто же этот грабитель, осмелившийся похитить у матери ее ребенка? Он не может быть французским солдатом. — Это какой-нибудь переодетый казак, австрийский мародер, прикрывшийся гусарским ментиком одного из наших, предательски убитых им.
Жан Соваж грубо тряс жену, схватил ее за руку.
— Говори же, негодная тварь! — кричал он во все горло. — Как позволила ты схватить ребенка? Что это за человек? Я видел, как он мчался между тополями по дороге. Да отвечай мне наконец! Ты, верно, хочешь, чтобы я убил тебя?
Не вставая с колен, Огюстина отняла передник от своего лица, залитого слезами, и воскликнула:
— Убей меня, но перестань терзать своими расспросами. Не смею ответить тебе.
Фермер попятился, поднял руку словно для удара. Но эта размахнувшаяся рука бессильно опустилась. Он сделал шаг к жене, поднял ее с колен, привлек к себе и прошептал упавшим голосом:
— Так это был он!
— Да, — чуть слышно вымолвила Огюстина, как будто облегченная этим признанием, и прибавила: — Образумься, Жан! Это большое горе! Но могла ли я не отдать ему ребенка? Подумай, ведь он все-таки его отец!
— Правда, — глухим голосом сказал Жан, — он имеет больше прав, чем я! Ты не виновата! Я виноват, прости меня! Он пользуется своею властью. Но как бы то ни было, это тяжелый удар!
— Неужели ты думаешь, что мне не тяжела разлука с сыном? Ведь я ему — родная мать! — сказала тоном искренней материнской скорби Огюстина, заливаясь слезами.
Тамбурмажор стоял в сторонке и наблюдал эту потрясающую сцену, не смея вмешаться в нее.
— Черт возьми, — буркнул он себе в усы, — дело осложняется! В скверную минуту попал я сюда. Опять подвернулся этот дьявольский Сигэ! Он вечно появляется, когда его не ожидают! Мог бы, право, выбрать другой день для того, чтобы прискакать сюда и перессорить этих славных людей. При виде их горя я решительно не смею заговорить о том, что привело меня к ним! Однако время не терпит! Ведь не могу я в самом деле из-за каких-то передряг с ребятишками допустить, чтобы провансальцы убили императора!
Между тем Жан Соваж сдавленным голосом расспрашивал жену.
Она сообщила, что приходский священник пригласил ее побывать у него со старшим сыном. Ей пришло в голову, что дело касалось записи мальчика на уроки катехизиса для приготовления его к первому причастию. Ничего не подозревая, она отправилась в дом священника и сильно встревожилась, найдя там военного, а именно Сигэ. Тот не говорил ничего. Но священник, осведомленный об их тягостном, безнадежно запутанном положении, сказал ей, что она должна покориться Божественному Промыслу.
— Батюшка, — тихим голосом продолжала фермерша, — прибавил, что мой первый муж избег смерти и остался в живых по воле Божьей. Он сказал еще, что мы с тобою не совершили никакого греха и что если я считалась вдовой по закону, когда ты женился на мне, то я и должна оставаться твоей женой, принадлежать тебе всегда.
— Ах, батюшка сказал это! — смягчившись, промолвил Жан. — Ну, это дельные речи! А что говорил он о Сигэ?
— Он сказал, что Сигэ не должен и помышлять о том, чтобы разлучить нас, что Господу угодно, чтобы он оставался для тебя и для меня как бы умершим, точно его действительно сразила вражеская рука в битве под Дрезденом. Гражданский закон, конечно, допустил бы развод, но если бы я согласилась на него, то совершила бы святотатство. Я же заявила, что я — твоя жена и не желаю покидать тебя…
— Так вот что ты сказала! О, это хорошо! И ты дала такой ответ в присутствии того… другого? О жена, милая жена! Дай мне расцеловать тебя! — И Жан распахнул объятия Огюстине, которая бросилась к нему.
Ла Виолетт, исподтишка наблюдавший за ними, счел эту минуту удобной для того, чтобы приблизиться.
— Браво, детушки! — воскликнул он. — Вот так должны всегда кончаться ссоры между молодыми людьми, которые любят друг друга. Ну, вы смело можете толковать при мне о своих делишках. Я слушаю вас. — И, опустив трость, он оперся сложенными руками на набалдашник и принял позу внимательного слушателя.
— Вот дело-то какое, ла Виолетт, — жалобно произнес Жан Соваж, — Сигэ вернулся. Наш приходский священник сказал ему, что Огюстина — настоящая жена мне и что она обязана оставаться со мной. Сигэ после того уехал, но увез с собою Жака… старшенького… а я так полюбил этого мальчика!
Слеза покатилась по загрубевшей щеке крестьянина.
— Священник сказал, что ребенок должен принадлежать отцу, — робко промолвила Огюстина. — Как я ни плакала, как ни отстаивала свои права — разве я не мать? — мне пришлось подчиниться.
— Он ускакал, точно вор, этот разбойник! — воскликнул фермер. — Если бы он был прав, то не улепетывал бы так во все лопатки.
— Пожалуй, он так поспешно гнал лошадь, чтобы избавить тебя от слез, тягостных сцен и объяснений.
— Батюшка посоветовал ему уехать раньше, чем это сделается известным тебе, — заявила Огюстина. — Кроме того, он имел при себе приказ за подписью префекта, по которому в его распоряжение поступала жандармерия, если бы ему понадобилось отнять ребенка силой. Священник сказал, что это лишнее, что ему стоит только увезти мальчика отсюда, что я объясню тебе все дело и что ты вдобавок не можешь противиться его решению.
— Ну, детушки, — наставительно вмешался старый служака, — надо образумиться. То, чему нельзя помешать, надо перенести! И вот что еще: так как мы шли промочить горло, то зайдем в «Серебряный лев», стоящий на перепутье! Стакан вина подкрепит наши силы… а лишняя капелька прогонит печаль!
Жан побоялся нарушить отказом законы гостеприимства. Он не мог не выпить за здоровье ла Виолетта, каково бы ни было его горе.
— Ладно, пойдем! — решительно сказал он, жестом отпуская жену домой.
— Постой! — воскликнул тамбурмажор. — Пусть и твоя жена присоединится к нам. Ей также не мешает утопить в стакане свои горести!
Вскоре они все трое вошли в общий зал гостиницы «Серебряный лев». У ла Виолетта был свой план. Он ухмылялся в усы, видя, что его дело, которое сначала совсем расклеивалось, налаживается понемногу самым отличным образом. Наполняя стаканы, он сказал фермеру:
— Послушай, брось хмуриться! Ведь мальчик не пропал для тебя навсегда. Может быть, ты и увидишь его со временем!
— Кто знает? — печально возразил Жан. — Ребенок хоть и увидит меня потом, но успеет совсем позабыть… пожалуй, даже и не узнает!
— Да будь же мужчиной, черт возьми!
— Уж очень я любил Жака! — оправдывался Жан Соваж при этом упреке в малодушии. — Взял я к себе Жака малюсеньким, тощим; я его растил, нежил, холил. Ведь это невольно привязывает. Дети скорее принадлежат тем, кто воспитал их, а не тем, кто произвел на свет, а потом покинул на произвол судьбы, даже не увидев их в глаза. Жак звал меня папой, а я его — сыночком. Я любил обоих мальчиков одинаково и не делал между ними различия. Теперь мне кажется, как будто старший был даже милее моему сердцу…
— Ну-ка выпей! — уговаривал его ла Виолетт.
— Развеселись немного! — решилась сказать Огюстина. — Я тоже страдаю, но утешаюсь мыслью, что у нас остается Поль, наш Пуло.
— В доме было достаточно места для двоих детей. Теперь с одним станет так печально, пусто… Наш Пуло вдобавок расплачется. Ему будет не с кем играть.
— Постойте! — поднимаясь со стула, произнес ла Виолетт. — Пожалуй, я помогу общему горю, старый товарищ! — И с этими словами он удалился.
Жан Соваж скорбно покачал головой. Он смотрел вслед тамбурмажору, не угадывая, какого рода утешение обещал ему тот, и не доискиваясь до смысла его слов.
Несколько минут спустя ла Виолетт вернулся, ведя за руку сына графини Валевской, и сказал фермеру:
— Ты лишился ребенка, но вот небеса посылают тебе взамен другого. Ты полюбишь его, не правда ли, Жан? А вы станете нежно заботиться о нем, Огюстина? — И, наклонившись к удивленным супругам, которые вопросительно переглядывались, ла Виолетт кинул им таинственное признание: — Это сын императора!
Потом он объяснил Соважу с женой, что от них требовалось: заботиться о ребенке, стеречь его, защищать от всякого, кто сделал бы попытку приблизиться к нему, так как происхождение грозило бедняжке всякими неприятностями.
Оба они обещали зорко стеречь вверенного им ребенка.
— Ну, так как все благополучно устроилось, — сказал старый служака, — то позвольте мне выпить с вами на прощанье! Мне пора пускаться в путь.
— Куда же ты едешь? Отчего так торопишься покинуть нас? — спросил Соваж.
— Я спешу на помощь императору. Его замышляют убить.
— Кто же?
— Роялисты, духовенство, друзья врагов…
— Где же рассчитываешь ты встретиться с этими убийцами?
— Они устроили засаду на Провансальской дороге. Но я буду там раньше их!
— А ты отправляешься один? Это неосторожно!
— Нас будет двое.
— Кто же сопутствует тебя? Надежный ли товарищ по крайней мере?
— Весьма надежный! — подтвердил ла Виолетт. Он колебался с минуту, а потом, как человек, решившийся действовать честно, прибавил: — Тот, кого я рассчитываю взять с собой, теперь недалеко отсюда… ты знаешь его, Жан… ты даже видел его сегодня издали!
— Это Сигэ!
— Верно.
Тут фермер поднялся и сказал с решительным видом:
— Ла Виолетт, согласен ли ты взять и меня с собой?
— Что за мысль! Ты, никогда не жаловавший императора, вздумал вдруг сделаться его телохранителем?
Жан Соваж не возразил ему ничего, а Огюстина сказала мужу умоляющим тоном:
— Я не хочу, чтобы ты ехал туда. О, запретите ему следовать за вами, ла Виолетт! Вы понимаете, что Жан хочет присоединиться к Сигэ, чтобы драться с ним.
— Нет, — возразил Жан, — я вовсе и не думаю вызывать Сигэ. Священник сказал правду: Сигэ — отец ребенка и потому имел право отнять у меня Жака. Но тем не менее я желаю объясниться с Сигэ. Кроме того, мне очень хочется видеть маленького Жака. Больнее всего для меня то, ла Виолетт, что его увезли прочь так воровски, не дав мне даже проститься с ним.
— Впоследствии я устрою так, чтобы вы могли встретиться, — с твердостью ответил тамбурмажор. — Я уговорю Сигэ; он позволит тебе видеть мальчика. В данную же минуту это невозможно. Ты нужен мне, чтобы стеречь вот этого мальчугана, а Сигэ — чтобы защищать императора. Ну, друзья мои, моя задача здесь исполнена, и приказ зовет меня в другое место. Я уезжаю. Позаботьтесь хорошенько о маленьком Наполеоне! До свидания… и до скорого! Я полагаюсь на вас обоих! — И, не дав фермеру с женой опомниться, он бросился во двор, где его ожидала запряженная повозка, причем сказал остолбеневшему сыну графини Валевской: — Будь умницей, малютка! Через несколько дней я приеду за тобой, чтобы отвезти тебя к твоей маме!
Прошло еще немного, и ла Виолетт скрылся в облаке пыли по Ножанской дороге, на которую свернул час тому назад Сигэ.
Огюстина возвращалась домой печальная, ведя за руку сына графини; тот разглядывал широко раскрытыми глазами придорожные деревья, засеянные поля, деревенские дома и крестьянскую чету, у которой ему предстояло жить до приезда за ним ла Виолетта. Новизна, перемена обстановки, свежий воздух, видимо, развлекали ребенка, не давая ему слишком сильно горевать о матери и элегантной квартире на Вандомской площади.
Меж тем Жан Соваж по возвращении на ферму горячо расцеловал маленького сына Поля, заперся у себя в комнате под предлогом завершения счета зернового хлеба, который ему нужно было в тот же день предъявить мельнику. Успокоенная Огюстина принялась стряпать кушанье для юного гостя, привезенного к ним ла Виолеттом. Она говорила себе: «Мой муж работает. Это разгонит его печаль. Я страдаю не меньше, даже больше его от исчезновения Жака, но мое горе только огорчило бы его еще сильнее. Стану плакать втихомолку. Жан не должен видеть меня в слезах».
И, храбро подавив подступившие к горлу рыдания, собравшись с силами, она занялась хлопотами по хозяйству. Однако час обеда наступил, а Жан не показывался. «Как он заработался! — подумала Огюстина. — О, мне так не хочется его беспокоить! При виде меня и этого ребенка ему станет больнее прежнего. Подожду еще немного».
Прошло полчаса. Жан не думал показываться. — Сядем за стол, — сказала Огюстина, — это заставит его сойти вниз. Обыкновенно он очень аккуратен. Услыхав привычный сигнал, Жан не замешкается. — Тут она крикнула, как всегда: — За стол, детушки, за стол! Обед подан. Маленький Пуло тотчас показался, ведя за руку сына графини, с которым у него успела завязаться дружба. Сели за стол. Озабоченная Огюстина стала разливать кушанье детям. Ее тарелка оставалась пустой. Наконец, не одержав дольше, уже встревоженная и как будто предчувствуя несчастье, она встала, поднялась по лестнице на верхний этаж и, запыхавшись, остановилась перед дверью Жана.
Тут она подождала немного; сердце колотилось в груди, горло пересохло. Запертая дверь представляет иногда собою нечто ужасное: кажется, что нечто неведомое, какая-то опасность, горе, быть может, притаились в засаде за этим прикрытием. Подобное же предчувствие взволновало и Огюстину. Но она устыдилась своей тревоги.
«С чего это я так струсила? — сказала она себе. — Жан преспокойно занимается делом. Может быть, он на минуту прервал свои занятия, задумавшись о нашем маленьком Жаке, похищенном словно демоном. Ну же, надо позвать его!» И, собравшись с духом, она слегка постучала в дверь, тихо говоря:
— Жан… это я! Иди обедать, давно подано!
Она ждала ответа. Но ни слова не раздалось в комнате, ни единый звук не проник сквозь массивную дверь.
«Должно быть, он спит! — соображала Огюстина. — Да, конечно, горе вызывает лихорадку. Верно, Жан кинулся в постель. Надо разбудить его!»
Она постучала громче, двумя согнутыми пальцами.
Тишина в комнате ничем не нарушалась.
Тогда, испуганная, предчувствуя, угадывая беду, фермерша бросилась на дверь и принялась барабанить со всей силы, крича:
— Жан! Жан! Это я, Огюстина! Отвори же! Отворяй! Отворяй!
Но дверь оставалась закрытой и никакого ответа, никакого движения не послышалось изнутри на этот, теперь уже отчаянный зов.
Тогда, упершись в стену, толкая руками, ногами, плечами, сильная Огюстина заставила сначала затрещать крепкую дверь, а потом податься.
Через сломанные доски Огюстина заглянула в спальню. Та была пуста. Жан Соваж бежал через окно, выходившее в поле.
Коротенькая записка, оставленная на столе, сообщил.! несчастной женщине, что ее муж, будучи не в силах укротить бешенство и ревность, а также преодолеть отчаянно из-за потери маленького Жака, решился пуститься по следам ла Виолетта и Сигэ. Он просил жену хорошенько присматривать за маленьким Пуло и ребенком, вверенным ей тамбурмажором, и любить их обоих. Он не мог сказать заранее, когда пошлет ей известие о себе. Может быть, ему удастся написать Огюстине из Прованса, где, по словам ла Виолетта, убийцы подстерегали императора.
— О, Боже, — падая на колени, воскликнула несчастная женщина, — если он встретится с Сигэ, между ними произойдет дуэль и они убьют друг друга! Господи Иисусе Христе, смилуйся над всеми нами!
V
На землю спускался вечер, и хозяйка Гостиницы «Почта», главной в Органе, на дороге между Авиньоном и Кавайоном, пригласила садиться за стол троих мужчин, которые в ожидании ужина тихо разговаривали между собой, сидя на скамье против дверей, под платанами.
Эти трое, съехавшиеся с разных сторон: один из Авиньона, другой из Нима, третий из Юзеса, были одеты в платья зажиточных крестьян.
У самого высокого, самого крепкого из них, загорелого, с оливковым цветом лица, с широкими плечами и руками, толстыми, как ляжки, была на голове шапка нимских носильщиков. Этот колосс щеголял в золотых серьгах, а его бархатная куртка была украшена серебряной цепочкой, на которой висело миниатюрное изображение Богородицы. За красным поясом был заткнут кривой кинжал в медных ножнах. Гигант часто опирался на него рукой, говоря или жестикулируя. Этот привычный, любимый жест указывал на то, что силач-носильщик не задумывается при случае подкрепить свое бахвальство ударом ножа.
Раздавшийся зов хозяйки заставил его подняться и сказать сидевшему с ним невысокому человеку, черноволосому и свирепому, со скотской физиономией:
— Сходи-ка, Трюфем, погляди, нет ли в столовой посторонних приезжих.
Трюфем, кабатчик и содержатель подозрительного притона в Авиньоне, покорно пошел исполнить поручение.
— А ты, Серван, — продолжал носильщик из Нима, обращаясь к третьему мужчине, горбатому, хитрому на вид, погонщику быков из Юзеса, — взгляни в последний раз на Дорогу… Этому маркизу де Мобрейлю следовало бы уже прибыть сюда в настоящее время. Уж не надул ли он нас? Что касается меня, то я пройдусь до церкви, чтобы дать инструкцию звонарю.
— Он также из наших, Жозеф? — спросил содержатель притона в Авиньоне.
— Да. Архиепископ нимский указал нам на него как на человека благочестивого, ненавидяшего узурпатора.
Тут вернулся обратно Трюфем и произнес:
— Хозяин гостиницы сказал мне, что с нами сядут за ужин еще двое приезжих.
— Что это за люди?
— Торговцы лошадьми… они не здешние… кажется, северяне.
— Наверно, бонапартисты, — продолжал тот, кого называли Жозефом и кто был не кем иным, как знаменитым Жозефом Дюпоном, прозванным Трестайоном, которому предстояло приобрести ужасную известность при разгуле белого террора.
— Вон они там, на площади! — сказал Серван, указывая на двоих мужчин: одного высокого, сухопарого с костлявым лицом, который, прохаживаясь под платанами, держал в руках огромную дубину и, как будто забавляясь, ловко вертел ею то перед лицом, то над головой, то вокруг шеи, повязанной галстуком, и на другого — маленького ростом, но статного, крепкого, с немного тяжеловатой походкой кавалериста.
Оба они были в длинных блузах лошадиных барышников из Нивернэ. Эти люди, казалось, с сосредоточенным вниманием разглядывали церковное крыльцо.
— Барышники они или нет, но эти господа не по душе мне, — грубо продолжал Жозеф Дюпон. — У меня нет охоты ужинать с ними рядом. Трюфем, ступай обратно к хозяйке и скажи ей, чтобы нам накрыли где-нибудь в другом месте. У нее должна быть отдельная столовая. Ступай, сын мой, и поторопи ужин, потому что нам, вероятно, придется поработать сегодня ночью.
Трюфем лукаво кивнул головой, точно в знак того, что отлично понял, какого рода работу подразумевает Жозеф Дюпон, казавшийся распорядителем между ними.
Трое товарищей разделились: Трюфем отправился на кухню вести переговоры с хозяйкой гостиницы, Серван занял наблюдательный пост на дороге, ведущей в Дюрансу, чтобы дать знать о прибытии маркиза де Мобрейля, приезда которого нетерпеливо ожидал Трестайон, сокрушаясь о задержке. Что касается Жозефа Дюпона, то он проник в церковь, где пономарь собирался звонить «Анжелюс». Он почти задел барышников, которые стояли против церковного крыльца, точно измеряя глазами свод и высчитывая, сколько понадобилось камня на его постройку.
Эти трое людей, столкнувшись, обменялись, недоверчивыми взглядами.
«Ну, какие это барышники? — подумал про себя Жозеф Дюпон, — они, по-моему, скорее смахивают на кавалеристов из эскадрона узурпатора».
— У этого носильщика лицо разбойника, которое мне вовсе не нравится, — сказал своему товарищу барышник высокого роста, игравший со своей палкой. — Что ты думаешь, Сигэ, на этот счет?
Второй барышник, гусар Сигэ, ординарец маршала Лефевра, не задумываясь ответил:
— Начальник, по-моему, это один из злоумышленников, посягающих на жизнь императора. Вы не ошиблись!
И «начальник», который был не кто иной, как ла Виолетт, прибывший в Оргон с Сигэ, после того как он присоединился к молодому кавалеристу в замке Комбо и по уговору взял его с собой, прибавил тотчас:
— Маркиз Мобрейль еще не прибыл сюда. Но этот негодяй и двое мошенников, егозивших перед ним, по всей вероятности, все трое — его сообщники… люди, засевшие в засаду, чтобы совершить преступление.
— Вам точно указали на Оргон как на место, где намереваются покончить с императором?
— Да, Мобрейль собирался именно в Оргон, чтобы приступить здесь к исполнению своего плана.
— Наверно, этот негодяй-верзила из их шайки!
— Он и его спутники ожидают Мобрейля, который замешкался. С этой стороны вышла какая-то задержка, неожиданное препятствие, но какое именно — я не знаю.
— Только бы подлец маркиз не выбрал иное направление или не назначил западню вместо Оргона в другом месте! Ах, если бы я мог знать, зачем приходил сейчас тот мошенник сюда, в церковь!
— Должно быть, не для чтения молитв по четкам.
— Послушайте, Сигэ, как было… послышался «Анжелюс», потом колокол внезапно смолк… тут что-то нечисто.
— Что, если зайти в церковь?
— Мы можем навредить себе этим, вызвать подозрение. В это время церковь пуста; ведь теперь там только и есть всего что звонарь да наш убийца. Если даже они и сговариваются в настоящую минуту, то, увидев нас, обязательно смекнут. Узнать мы ничего не узнаем, а только дадим им понять, что следим за ними. Нет! Полно! Удалимся пока и Дождемся нашего человека.
Ла Виолетт и Сигэ повернули влево, словно, после того как они вдосталь налюбовались главным входом, им захотелось осмотреть и боковые стены здания.
Несколько мгновений спустя после внимательного, казалось, разглядывания, во время которого они, однако же не спускали взора с площади, они увидели, что подозрц! тельный посетитель вышел из церкви, после чего быстро перешел улицу и у гостиницы «Почта» присоединился к своим двум товарищам. Перекинувшись несколькими быстрыми фразами, все трое скрылись под навесом крыльца гостиницы.
— Скорей, скорей, — сказал ла Виолетт, — воспользуемся случаем и поспешим в свою очередь осмотреть церковь. Но в то самое мгновение, когда они входили под портал, они заметили звонаря, выходившего из боковой двери.
— Слишком поздно! — проворчал ла Виолетт, покусывая ус. — Ясно как день, что этот субъект виделся со звонарем. Но о чем они могли там сговариваться? Прерванный «Анжелюс»… За всем этим положительно кроется какая-то ловушка. О, если бы только я мог поговорить с этим звонарем, узнать, что у него в голове и в его колоколах!
Ла Виолетт инстинктивно свернул влево, за угол церкви, в ту сторону, где находилась маленькая дверь, из которой вышел звонарь.
Сигое Молча следовал за ним, и его тяжелые шаги гулко раздавались по булыжной мостовой маленькой улицы.
Звонарь обернулся. Он несколько удивился и поспешил навстречу ворчунам на своих кривеньких ножках.
— Вы приходили, чтобы повидаться с Жозефом? — спросил он, подходя к ним.
— Именно, — с неподражаемым хладнокровием ответил ла Виолетт, — мы разыскиваем его.
— Он только что ушел в гостиницу «Почта».
— Так и мы туда пойдем. Он говорил вам, что поджидает нас?
— Господи Боже! Вы спрашиваете, говорил ли он? Он испортил себе немало крови тем, что вы все не приходили; он только что приказал мне сходить к священнику и разузнать, не получил ли тот весточки от маркиза де Мобрейля.
— Это я! — многозначительно произнес ла Виолетт.
Звонарь почтительно поклонился и произнес:
— Я так и думал… я видел, как вы искали кого-то около церкви, и сейчас же сообразил. «Наверное, — думаю, — это и есть маркиз, которого ожидают».
— У вас, друг мой, верное чутье, и большая сметка.
— Между тем Жозеф даже и не предупредил меня, в какой вы будете одежде.
— Мы из предосторожности выбрали эту одежду.
— О, я и сам догадывался, что вы не станете бродить по этим дорогам в роскошных одеждах. Но вот об этом Жозеф мне ни одного слова не говорил, — произнес звонарь, взглядывая на Сигэ. — Они тоже будут из маркизов?
— Нет, просто граф.
— Граф де Сигэ, — с апломбом произнес гусар, возводя себя, по примеру своего начальника, в дворянина.
Звонарь вторично раскланялся.
— Так вот, господин, маркиз и господин граф, — униженно начал он, — будьте добры сказать, не могу ли я быть полезным вам? Жозеф все объяснил мне. — И звонарь, далекий от всяких подозрений, гордясь данной ему Трестайоном ролью в драме, которая должна была разыграться в Оргоне, поспешно продолжал: — Будьте уверены, что я все прекрасно понял и все удержал в памяти! Во-первых, я должен закрыть церковь, чтобы никто, кроме меня, не мог войти в нее, и, как видите, это уже сделано: вот и ключи, в кармане передника!
— Замечательная предосторожность! — сказал ла Виолетт, мысленно недоумевая, зачем понадобилось Трестайону, чтобы церковь была закрыта. Но он не решился слишком явно расспрашивать звонаря, боясь возбудить в последнем подозрения. Он только небрежно добавил: — Можно, собственно, не беспокоиться: едва ли кто-либо придет в церковь и удивится, найдя ее закрытой.
— Да никто и не ходит по вечерам. Лишь только успею отзвонить «Анжелюс», как тотчас же закрываю дверь на запор. Вот потому-то я и отзвонил «Анжелюс» на целый час раньше. Понимаете? — сказал звонарь, с лукавой усмешкой поглядывая на своих собеседников.
Ла Виолетт положительно ломал себе голову, тщетно стараясь разгадать причину закрытия церкви и преждевременного, да к тому же и прерванного трезвона к «Анжелюсу».
К счастью, боязливый звонарь пришел ему на помощь.
— Уж вы останетесь мною довольны, господин маркиз, и вы также, господин граф, — произнес он. — И Жозеф скажет, да и священник подтвердит, когда вы увидите его, ночью… по делу… оба скажут, что на меня можно положиться. Я отменный роялист и ревностный христианин! Мне можно смело и тайну доверить, и дело поручить. Я умею и молчать как рыба и ловко вывернуться, как молодой, увертливый ягненок!
Ла Виолетт очень находчиво уцепился за похвалу, которой любил награждать себя гуляка Жозеф.
— Мы знали заранее, что Жозеф, которому мы так доверяем, сумеет выбрать достойных людей для совместного труда с нами… в нашем святом деле, — уклончиво произнес он, не будучи в силах разгадать ту тайну, в которой этот звонарь, был одним из низших орудий.
— Вы во всей округе не найдете человека, который так ненавидел бы Бонапарта, — с энтузиазмом воскликнул звонарь, — и который с такой готовностью помог бы вам, господа, уничтожить этого выскочку и кинуть его в Дюранс.
— Его величество король французский будет осведомлен о ваших верноподданнических чувствах и сумеет достойно вознаградить вас, Улисс Рабастуль, за услуги, — торжественно изрек ла Виолетт. — Но так как и граф, и я горим желанием безотлагательно выразить вам свою признательность, то мы угостим вас сейчас же бутылкою доброго вина.
Звонарь расцвел при этом предложении: оно как нельзя лучше отвечало его наклонностям неисправимого пьянчужки.
— О, вы найдете в Органе великолепные вина! — воскликнул он с восторгом. — Вот там, в гостинице «Почта»…
— Нет, — быстро перебил его ла Виолетт, — поведите нас в другое место. Не надо, чтобы нас видели вместе. Это могло бы навести на нежелательные размышления.
— Вы совершенно правы, господин маркиз. Жозеф уже говорил мне, что ему кажется, будто он встречал бродивших в окрестностях бонапартистских эмиссаров. Я лучше сведу вас в гостиницу «Перекресток».
— Это далеко отсюда? — небрежно спросил ла Виолетт, которому не хотелось ни отойти далеко от гостиницы «Почта», ни попасть на глаза Трестайону и его сообщникам в обществе звонаря.
— В двух шагах… на берегу Дюранс.
Несколько минут спустя ложный маркиз де Мобрейль, псевдограф де Сигэ и Улисс Рабастуль комфортабельно восседали за столиком гостиницы «Перекресток» перед двумя бутылками крепкого вина. Ла Виолетт осушал свой стакан до дна, Сигэ тоже был не дурак выпить; Улиссу Рабастулю было с кем потягаться.
Когда первая пара бутылок была распита, на столе появились еще две бутылки, потом Сигэ подзадорил Улисса одним духом осушить бутылку до дна, и так как звонарь вышел победителем из этого испытания, то на столе появилась в виде проигрыша шестая бутылка.
Вслед за этим зорко следивший за собой ла Виолетт предложил новое пари, уверяя, что повторить опыт Улисс будет уже не в состоянии. Поданы были свежие бутылки.
Физиономия звонаря все более и более воспламенялась, язык заплетался, но вместе с тем он с каждой минутой делался все более и более общительным и выбалтывал без передышки разные приходские сплетни, толки и подноготную местных ханжей-прихожанок.
Увидев, что он доведен до надлежащего градуса, ла Виолетт легко и незаметно навел его на разговор о Жозефе, об «Анжелюсе» и о Бонапарте, которого следовало кинуть в волны Дюранса. Но Улисс совершил уже чересчур усердное возлияние. Его язык беспомощно и вяло заплетался, и, одолеваемый сном, он бессильно мотал головой из стороны в сторону. Он был не в состоянии отвечать на вполне определенные и ясные вопросы, которыми засыпали его ла Виолетт и Сигэ. С его коснеющего языка срывались лишь какие-то бессвязные, отрывистые междометия вперемежку с икотой. Но в конце концов все-таки удалось разобрать даже и из его бессвязных фраз, что он должен будет звонить «Анжелюс», перевести трезвон на звон набата и что это должно будет служить сигналом, по которому решено было кинуть Бонапарта в Дюранс. Вслед за этим он окончательно пошатнулся на стуле, упал головой на стол и погрузился в крепчайший сон.
— Ну, теперь он не так-то скоро зазвонит свой «Анжелюс», — заметил ла Виолетт. — Скорее в путь! Этот Жозеф, по-видимому, — главарь шайки этих мазуриков. Он-то не дремлет… и даже — кто его знает? — быть может, он даже и выслеживает. Скорее, Сигэ! Но что ты делаешь?
Гусар склонился над бесчувственным телом звонаря и старательно обшаривал его.
— Я ищу ключи! — ответил он. — Случается, что пьяницы пробуждаются. Возможно, что и этот, проспавшись, отрезвится и успеет поднять тревогу. Ага, вот и ключи! — с триумфом воскликнул Сигэ, потрясая связкой ключей, вынутой из кармана передника спящего звонаря.
— Ну, а теперь бежим! — сказал ла Виолетт.
Уплатив по счету и наказав не будить их товарища, а дать ему выспаться всласть, ла Виолетт и Сигэ покинули гостиницу «Перекресток».
Когда они торопливо шли по улице, ведущей к церковной площади, Сигэ вдруг заметил колодец под навесом.
— Вот «Анжелюс» и отзвонили! — сказал он, бросая ключи на дно.
VI
Как только ла Виолетт и Сигэ вернулись в гостиницу «Почта», хозяйка попеняла им:
— Поздненько! Вам придется довольствоваться холодными блюдами. Ко мне здесь понаехало немало других путников, они торопились, и мне пришлось все подать им.
Ла Виолетт быстро окинул взглядом общий зал и спросил хозяйку:
— Ваши путешественники уже кончили есть?
— Нет еще… они пьют кофе. Попросили, чтобы им подали отдельно.
— Вы куда поместили их?
— Да в ту комнату, наверху.
«Знать это нелишне», — подумал ла Виолетт и тотчас же добавил:
— Мы тоже торопимся, подайте же и нам поскорее.
Они уселись, наскоро съели первые блюда, отказались от всего остального и потребовали кофе. Когда на стол были принесены маленькие чашечки и наполнены кофе, ла Виолетт сказал служанке:
— Голубушка, ты больше не нужна нам. Мы теперь покурим перед сном. Позаботься, чтобы нас никто не побеспокоил.
— О, будьте покойны, господа, в эту пору у нас никто не бывает. Если что-нибудь понадобится вам, так позовите меня. Кроме того, ведь теперь время и нашего ужина.
Лишь только служанка ушла, ла Виолетт поднялся с места и сказал Сигэ:
— Пока все идет недурно, и дело с ключами обделано чисто. Но тем не менее мы ничего не знаем или по крайней мере очень мало.
— Все же мы знаем, что звонарь должен был звонить к «Анжелюсу», но не сделает этого! Это уже кое-что!
— Да, конечно. Но кому, собственно, он должен был подать сигнал? И почему маркиза де Мобрейля здесь нет до сих пор? Проедет ли император этим путем и не остановится ли он в этой гостинице? Мне очень бы хотелось знать это.
— Если бы маршрут был изменен, то Жозеф не сидел бы здесь со своими прохвостами. Нет, ла Виолетт, они поджидают так же, как и мы! А что, если бы мы поднялись наверх? Раз канальи заняты выпивкой, очевидно обсуждая планы своего заговора, то мы прекрасно могли бы напасть на них Орудуя вдвоем, мы великолепным образом уничтожим эту троицу прохвостов.
— Эта мысль улыбается мне. Но даже и так мы ничего не узнаем относительно того, что именно замышляется против нашего императора, и вследствие этого будем бессильны отпарировать удар, который готовится ему.
— Верно, начальник! Вы человек с головой! — промолвил Сигэ, с восхищением глядя на ла Виолетта. — И подумать только, что канальи наверху, над самой нашей головой, калякают о своих делишках, которые ведь в то же время касаются и нас; подумать, что их можно было бы услышать… если бы потолок был пониже, а мы повыше ростом!
Ла Виолетт быстро встал и воскликнул:
— Да здравствует император! Я нашел! Опустить потолок до нашего уха мы не можем, не так ли?
— Нет, это невозможно!
— Но если бы мы могли приподнять наши уши до потолка, то результат был бы один и тот же? Не правда ли?
— Совершенно верно! Но как сделать это? Эта комната чертовски высока. Даже встав на стол, мне не достать до половины высоты.
— Да, гусар, тебе невозможно, — сказал ла Виолетт, — но я! — И при этом он, выпрямившись во весь свой высокий рост, сказал: — Гляди, я лезу на стол! — И, согласуя слова с делом, ла Виолетт влез на стол, осторожно двигаясь среди посуды и бутылок. — А теперь твоя очередь, — произнес он, обращаясь к Сигэ. — Видишь, я все-таки не достаю до потолка. Ну же, влезай живей!
Гусар тоже полез на стол. Они ни дать ни взять походили на атлетов, готовящихся к головоломному прыжку.
— Теперь полезай мне на спину и садись ко мне на плечи!
Сигэ повиновался этому приказанию и мгновение спустя оказался сидящим на плечах у гиганта ла Виолетта.
— Так. Тебе удобно? Ну, теперь напряги свой слух, затаи дыхание и слушай внимательно!
Сидя на своем живом насесте, Сигэ мотнул головой в знак того, что хорошо понимает приказание ла Виолетта и что ему слышен разговор, происходящий наверху. Несколько минут спустя он дал понять, что желает спуститься.
— Тсс! Они уходят! — прошептал он, сползая с плеч ла Виолетта и легко соскакивая со стола.
Спустился на пол и тамбурмажор.
— Сегодня вечером, — продолжал запыхавшись Сигэ, — они ожидают прибытия императора. Коляска императора мчится впереди, и без эскорта, вероятно, для того, чтобы не привлечь к себе ничьего внимания и не быть узнанной. Мобрейль должен прибыть для того, чтобы командовать атакой, но, по словам этих мошенников, они обойдутся и без него. Да, да! Вечером они ожидают сигнала «Анжелюса»! Все местные роялисты должны сбежаться на площадь и окружить экипаж. Тогда Мобрейль должен будет приблизиться к нему под предлогом…
— Да… дитя. Я рассказывал тебе это.
— Но так как ни Мобрейля, ни ребенка здесь нет, то субъект, которого ты зовешь Жозефом, сказал: «Я беру на себя отделать этого мерзавца Бонапарта!» Дальше я уже и слушать не стал. Они встали из-за стола и открыли дверь. Гляди, вот они и выходят как раз.
— Пойдем, товарищ, за ними и теперь будем держать ушки на макушке! И подумать только, что наш император и не подозревает ничего подобного… едет себе теперь и, может быть, рассказывает кому-либо из приближенных генералов о своих битвах! Счастье, что мы здесь!
— Ну, этим еще не все сказано. Последнее слово осталось за императором, и нам предстоит еще немало хлопот и забот… Но пойдем и приглядим за канальей Жозефом!
Они оба вышли, не обратив на себя внимания служащих гостиницы, и последовали на некотором расстоянии за тремя роялистами, которые направились на Авиньонскую дорогу, навстречу экипажу императора.
Они увидели, как заговорщики остановились у одного из маленьких домиков и постучали в него. Сигэ и ла Виолетт, желая укрыться, быстро подались под навес ближайшего сарайчика.
Из домика вышел человек, но, перекинувшись несколькими фразами с тремя бандитами, снова скрылся за дверью. Это был оргонский живописец по стеклу. Но вскоре он снова вышел, таща за собою нечто вроде доски, рассмотрев которую трое посетителей выразили живейшую радость.
Вдруг ла Виолетт заметил, что эти три человека перестали разглядывать доску и показывать ее друг другу. Теперь они внимательно вглядывались в освещенную луною дорогу. Один из них поднял руки вверх, и вслед за этим все трое кинулись бежать к гостинице «Почта». Доску они унесли с собой, художник же вернулся к себе с таким видом, словно все происшедшее не касалось его.
Вдали поднялось большое облако пыли. Оно казалось темным на залитой лунным светом дороге.
— Это — император! — сказал ла Виолетт. — Скорее к гостинице, это наш наблюдательный пункт!
Они быстро достигли гостиницы «Почта». Почти вслед за ними явились Трестайон, Серван и Трюфем.
— Принесите веревку! — крикнул Трестайон в дверь, не обращая внимания на присутствие ла Виолетта и Сигэ, которые приблизились, чтобы рассмотреть, что представляла собой принесенная ими доска, где виднелись какие-то глубокие черты и силуэт человека.
Лишь только веревка была принесена, как Жозеф Трестайон с изумительною ловкостью перекинул ее через железный прут, поддерживавший вывеску гостиницы.
— Прикрепи человека! — скомандовал он Сервану.
Несколько мгновений спустя можно было разглядеть грубое изображение Наполеона, болтавшееся в виде повешенного под вывеской гостиницы. Фигура была более чем комична, с двумя рогами, выступавшими по сторонам треуголки.
— Долой Николя! На виселицу тирана! — громко крикнул Жозеф, указывая на позорное изображение.
Возгласы Жозефа привлекли прислугу гостиницы.
— Долой Николя! — повторяли Серван и Трюфем — Долой коронованного сатану!
Со двора раздались крики двух поварят. Имя «Николя» жутко веселило маленьких человечков.
Как известно, прозвище «Николя» было дано Наполеону роялистами. Их писатели пришли в восторг от этой выдумки и всячески старались доказать, что настоящее имя Бонапарта не Наполеон, а именно Николя. Они старались этим выставить врага в смешном виде, как будто имя св. Николая Чудотворца, покровителя России, было недостойно императора и бесчестило человека, получившего его при святом крещении! Однако вместо того, чтобы изощряться, разыскивая объяснение имени в архивах Флоренции и Корейки, эти протокольные монархисты почерпнули бы гораздо более сведений из коллекций английских карикатур эпохи Трафальгара и португальской войны. Они увидали бы шутовские и чудовищные изображения Наполеона, точь-в-точь такие же, какие изображали его повешенным у гостиницы «Почта», то есть с рогами на голове, которые служили дополнением к весьма распространенной легенде. Внизу была подпись: «Олд Ник». В английском языке «Ник» уменьшительное от «Николай», но одновременно с этим оно является народным презрительным наименованием дьявола. Англичане вообще часто приравнивали своих противников к дьяволу. Потому-то и Наполеон, их заклятый, непримиримый враг, был ими щедро награжден рогами, что вовсе не должно было обозначать неверность его двух супруг.
Будучи ярым роялистом, Трестайон со своей бандой имел сношения с Англией, откуда он и перенял характер изображения Наполеона, грубо переданный в оскорбительном изображении деревянного висельника. Дополнив возглас «долой Николя» возгласом «долой коронованного сатану», Серван как нельзя лучше выразил народную ненависть англичан, живших в Англии эмигрантов и провансальских роялистов, бывших в заговоре с Питтом.
Услышав возгласы Трестайона и его приспешников, несколько горожан выбежали на площадь.
Императорский экипаж приближался. Уже доносились звон колокольчиков и шум колес.
— А сигнал? Этот проклятый звонарь не подает сигнала! — сказан Трестайон настолько громко, что был услышан ла Виолеттом. Сказав это, он добавил тотчас же: — Тут что-то кроется… И Мобрейль отсутствует, и нет звона к «Анжелюсу», который должен был собрать наших сообщников из города и его окрестностей. Нам изменили! Трюфем, беги скорее к церкви и вели звонарю немедленно бить во все колокола! Если он будет колебаться или сопротивляться, то… ты сам знаешь, как поступить с ним.
— При мне мой серп! — ответил Трюфем, доставая из-за пазухи остро отточенное, закругленное оружие, ярко заблиставшее при ярком лунном свете.
Пока Трюфем спешил исполнить приказание Жозефа Дюпона, последний, встав на скамью, указывал палкой на изображение Наполеона и зычно возглашал:
— Сбегайтесь сюда, все обитатели Оргона, сбегайтесь, отважные сыны долин. Он здесь, творец всех ваших мук, висит под вывеской, тот самый, кто осмелился заточить в темницу нашего святейшего папу и отягчал вас рекрутскими наборами!
— Да! Долой налоги! Долой рекрутский набор! Долой солдатчину и сборщиков податей! — громко отозвалось несколько голосов из прибывавшей с каждым мгновением толпы, привлеченной всей этой кутерьмой.
Трестайон продолжал:
— Вы будете счастливы при нашем добром короле Людовике Восемнадцатом. Протестанты не осмелятся вести свои кощунственные проповеди, совращающие даже святых, оскорблять вашу религию и богослужение и отрицать чудеса. Вас не станут больше гнать на верную смерть то в слишком жаркие, то в слишком холодные страны. Ведь его величество император российский вместе с королем Франции, королем Англии и императором Австрии — со всеми нашими бывшими врагами, но нынешними доброжелателями и друзьями — берет нас под свое покровительство. Вы не будете больше солдатами и не станете платить подати; обещаю вам это именем короля! Мы все будем свободны! Желаете ли вы этого или же предпочитаете быть вечными рабами?
Собравшаяся группа мужчин, женщин и детей громко переговаривалась, жестикулировала и сыпала угрозами. На вопрос: «Желаете ли быть свободными?» — раздались голоса:
— Да, да! Долой рекрутчину! Да здравствует Людовик Восемнадцатый!
А когда оратор с яростью выкрикнул: «Желаете ли быть вечными рабами?» — толпа вся ответила:
— Нет! Долой Николя! Не желаем больше тирана!
Трестайон победоносно улыбался: он покорил свою аудиторию. Поэтому он продолжал с еще большей силой и зажигательностью:
— Знаете ли, товарищи, что следует сделать для того, чтобы избавиться навсегда от солдатчины, от сборщиков и от рабства? Достаточно очень малого. Нужно только, чтобы то, что вы видите здесь повешенным в изображении, — и при этом Жозеф еще раз указал толпе на изображение Наполеона, — было повешено в действительности, в живом его облике, на этом самом месте. Тиран будет низвергнут и понесет достойную кару, а вы… вы освободите страну от чудовища!
— Верно сказано, Жозеф! На виселицу Наполеона! — крикнул Серван, затесавшийся в толпу.
Ему вторили люди, сперва из безобидного подражания, потом опьянев от зажигательных речей и увлеченные животной стороной натуры, а главное — побуждаемые горячим желанием избавиться от налогов и военной службы.
И поднялось двадцать голосов, громких, отчаянных и убежденных в своей правоте:
— На виселицу Наполеона! Смерть тирану!
— Ах, если бы здесь были мои верные, мои надежные провинциальные друзья, — прошептал Жозеф, — я ручался бы за успех! Тут прервалось бы шествие Наполеона. Но что они делают? Почему не являются? И «Анжелюс» не звонят!
В это время вернулся Трюфем и зашептал что-то Жозефу на ухо.
— Как, — с гневом воскликнул последний, — церковь заперта и звонаря нет на месте? Ясно, что произошла измена. Уж одно отсутствие маркиза Мобрейля, который должен был руководить всем и все исполнить, само по себе доказывает, что мы покинуты на волю случая. Видишь ли, Трюфем, правительство боится… оно не решается освободиться от тирана! Э, и пусть себе! Зато здесь мы! Случай чересчур хорош для того, чтобы упустить его. Нужно действовать! Мы и втроем способны освободить страну. Я уверен в своих людях. Достаточно первого нанесенного удара; когда они увидят его окровавленным и готовым отдать свою подлую душу, они перестанут колебаться; они в клочья разнесут его тело и побросают в воды Дюранса. Позволь мне действовать!
— Поторопись, Жозеф, — шепнул подбежавший Серван, — экипаж узурпатора будет здесь через две минуты!
— Сыны прекрасных долин, — торжественно крикнул Трестайон, — Божественное Провидение ставит на вашем пути деспота, злобно упивавшегося вашей кровью, того, кто опустошил ваши хлебные амбары и поглотил своими войсками сок ваших виноградников, масло ваших оливковых рощ. Само небо привело его сюда, чтобы он понес достойную кару за все свои злодеяния. Через несколько мгновений он появится среди вас. Провансальцы! Неужели у вас не хватит храбрости?!
Экипаж уже въезжал на площадь, наполняя ее шумом колес, звоном бубенчиков и громким щелканьем бича. Кучер силился повернуть и пробить себе путь.
Экипаж оказался окруженным в одно мгновение. Раздались крики, угрозы, в воздух поднялись кулаки.
— Хватайся за камни! За оружие! — зажигательно крикнул Серван, снова затесавшийся в толпу и подстрекавший своих соседей, указывая им на остановившийся экипаж.
Град камней полетел в экипаж и разбил стекла окон. Можно было разглядеть раненного камнем в голову генерала Бертрана, который старался прикрыть своим телом императора. Последний откинулся вглубь, под фардэк, но был спокоен, хотя несколько бледнее обычного.
Кучер тщетно старался пробиться сквозь толпу и добраться до гостиницы «Почта», где они были бы в безопасности, а тем временем подоспели бы ехавшие позади иностранные комиссары и сумели бы разогнать всю эту толпу.
Кучер имел неосторожность взмахнуть бичом над неистовствовавшей толпой — и в то же мгновение бич вырвали, а его стащили с козел и скинули на землю.
Та же участь постигла и другого кучера, но ему посчастливилось, хотя и с сильными ушибами, все же подняться на ноги и с трудом дотащиться до конюшен гостиницы, где он и поспешил укрыться.
Серван подтолкнул нескольких головорезов к экипажу. Его обступили и стали выпрягать лошадей.
Императору грозила опасность стать пленником в своей же собственной карете, среди разъяренной и угрожающей, опьяневшей толпы. Он был подобен потерпевшему кораблекрушение на утлом суденышке, кидаемом разъяренными валами.
— Трюфем, — сказал тогда Трестайон, — мы докажем этому маркизу де Мобрейлю, что он годен лишь на то, чтобы подбирать ножны к штыкам. Когда он явится на поле битвы, то найдет землю, покрытую мертвецами, а нас совершившими великий переворот.
— Значит, мы идем? — спросил Трюфем, и его мрачный взгляд метнул угрожающую молнию на экипаж.
— Теперь как раз подходящий момент! — сказал Трестайон. — Ты увидишь, как мой нож вонзится в императорское брюхо! — И с этими словами он вынул из-за пазухи свой кривой нож.
Трюфем вооружился своим серпом, и они оба, пробивая дорогу через толпу, кинулись к императорскому экипажу.
Трестайон был уже в нескольких шагах от него и, замахнувшись, кинулся к правому окну с разбитыми стеклами, намереваясь всадить нож в грудь императора. Он уже собирался нанести удар, как вдруг нож выпал из руки, повисшей как плеть. Страдальческий вопль сорвался с уст, он стал звать Трюфема на помощь.
Сильный удар дубинки вышиб из его руки нож, а вторичный удар свалил с ног, прямо в оглобли императорского экипажа.
Ла Виолетт подоспел вовремя. Император был спасен.
Побежавший со своей грозной палицей по пятам Трестайона тамбурмажор лишил его возможности совершить задуманное преступление, а после этого кинулся на окружавших экипаж со стороны императора и заставил их отступить, грозно размахивая палицей.
Разбивая головы, ломая ноги, калеча плечи и лица, дубинка ла Виолетта летала в воздухе, словно цепь по снопам. Она была опаснее ружья и сабли и все вокруг себя превращала в какую-то кашу.
Суровые провансальцы, только что подстрекаемые Трестайоном к убийству, валялись теперь мертвые вокруг императорского экипажа, другие же отступали, потирая бока и едва влача ноги.
Правая сторона экипажа очистилась от людей.
С левой же стороны работал Трюфем, которого тщетно призывал на помощь Трестайон, отбитый палицей ла Виолетта. Он добрался до самого окна и собирался убить генерала Бертрана, сидевшего рядом с императором. Но в то мгновение, когда он, открыв дверцу кареты, уже заносил ногу, чтобы влезть в нее, замахиваясь серпом, он был вынужден с проклятием отпрянуть. Он быстро обернулся, встал лицом к лицу со своим неожиданным противником, свалившимся на него словно снег на голову, и в то же мгновение вскрикнул от острой боли, получив в упор заряд крупной дроби. Дробь попала в лицо, руки, грудь, ноги.
Ослепленный, окровавленный, тщетно стараясь отбиться и укрыться от нестерпимой боли, Трюфем выпустил из рук свой серп и обратился в бегство от Сигэ, разогнавшего и остальных нападавших.
Вооружившись подобранным плетеным бичом, который был обронен сбитым с козел кучером, Сигэ на славу орудовал им, размахивая направо и налево. В его руках, привыкших править экипажами маршала Лефевра, этот бич являлся более чем грозным оружием. Крутясь со свистом вокруг головы Сигэ, он всех заставлял почтительно расступаться.
Сигэ точно так же, как и ла Виолетт, побоялся пустить в ход пистолеты. Незачем было поднимать тревогу. Кроме того, раз удалось предупредить подачу сигнала заядлым окрестным роялистам, бросив ключи в колодец и подпоив звонаря, то было благоразумнее не привлекать внимания выстрелами и неизбежной суматохой. Достаточно было бича и дубинки.
Толпа теперь держалась на почтительном расстоянии. Правда, из последних рядов еще доносились отдельные возгласы: «Смерть! Долой Николя! Свергнуть его! На виселицу тирана!» — но тем не менее никто уже не решался подойти вплотную к экипажу.
Камни летели все реже и реже, и Серван, убедившись, что положение изменилось к невыгоде его и его сторонников, благоразумно счел за лучшее ретироваться.
Так как Сигэ держал первые ряды осаждающих на почтительном расстоянии от экипажа, то генерал Бертран нашел возможным выйти из него и, держа шпагу в руке, сказал Сигэ:
— Благодарю, молодчина. Мне очень хотелось бы расстрелять этих каналий, но первым делом следует позаботиться об императоре.
— Я здесь, генерал, — отозвался спокойным топом Наполеон. — Постараемся проникнуть в гостиницу… там мы будем в безопасности, а тем временем подоспеют и комиссары эскорта.
Наполеон взял Бертрана под руку. Генерал держал шпагу наголо, а Сигэ, размахивая бичом, составлял арьергард. Впереди же шествовал ла Виолетт, размахивая дубинкой и прокладывая путь.
Таким образом все достигли гостиницы и немедленно наглухо закрыли и забаррикадировали ее двери.
Извне доносились грозные крики. Снова посыпался град камней, снова послышались зловещие возгласы собравшихся под окнами роялистов, которым не угрожали больше ни шпага Бертрана, ни бич Сигэ, ни дубинка ла Виолетта.
— Смерть! Смерть! В воду! На виселицу! Смерть Николя! Выдайте его нам, мы повесим его!
Наполеон, презрительно усмехнувшись, сказал:
— Какое злое племя эти провансальцы! Они натворили массу мерзостей и преступлений в эпоху революции и готовы повторить то же и теперь; а когда нужно воевать, то рассчитывать на них нельзя. Еще не было случая, чтобы Прованс выставил хоть один-единственный полк, которым я мог бы гордиться. — Сказав это, император обернулся к ла Виолетту и, протянув ему руку, продолжал: — Ты спас мне жизнь, старина. Я должен был бы догадаться, что ты здесь, раз существует опасность; а зная, что ты около меня, я должен был сказать себе, что опасности не существует. О, я хорошо помню Вену, мой бравый ла Виолетт!
— А также и Берлин, не так ли, ваше величество? — ответил бывший тамбурмажор гренадерского полка. — Я и тогда, как сегодня, своей дубинкой расчищал дорогу вашему величеству!
— Таких молодцов, как ты, находишь на пути долга и чести, — сказал Наполеон, приподнимаясь на цыпочки, чтобы схватить гиганта за ухо; но это не удалось ему, так как ла Виолетт был слишком взволнован, чтобы догадаться нагнуться и тем удостоиться прикосновения руки императора. Но последний вознаградил себя, сильно ущипнув за ухо Сигэ и говоря: — Спасибо и тебе тоже, товарищ; мой дорогой Бертран должен поставить за тебя хорошую свечу! А теперь, хозяйка, — сказал император своим обыкновенным тоном, — не сесть ли нам за стол, не обращая внимания на беснования этих исступленных? Имеется у вас что-нибудь, чем бы поужинать генералу и мне?
VII
Император заканчивал ужин, когда колокол зазвонил «Анжел юс».
После покушения, не удавшегося благодаря энергичному вмешательству ла Виолетта и Сигэ, Трестайон, Серван и Трюфем собрались и принялись обсуждать положение дел.
Трестайон был весь избит внушительной дубинкой ла Виолетта; Трюфем тоже немало потерпел от гибкого бича Сигэ: его лицо носило явный след его прикосновения в виде багровых, вздувшихся рубцов. Один Серван отделался лишь охриплостью из-за частых и громких возгласов: «Долой Николя!»; он-то и помог своим кое-как добраться до города.
Дотащившись наконец, они задумались над выбором подходящего пристанища, где можно было бы без помех обсудить случившееся. Наконец их выбор остановился на гостинице «Перекресток». Она была и изрядно отдалена, и одновременно с этим находилась на достаточно близком расстоянии от гостиницы «Почта», где укрылась и забаррикадировалась их царственная добыча.
Они уселись в зале и стали совещаться.
Даже невзирая на полученное поражение, не все было потеряно. Наполеон только чудом избежал смерти. Он крайне неосторожно тайно путешествовал в одиночку, опередив иностранных комиссаров и офицеров своей свиты. Ему оставалось лишь два дня пути до Э и Тулоны, где власти были бы вынуждены защитить его. В этих больших городах заговорщики были бессильны. Надо было пользоваться его проездом через маленькие, фанатично ненавидевшие его местечки Прованса, для того чтобы иметь возможность окружить, схватить и убить его.
В Оргоне все дело лопнуло лишь из-за того, что окрестные роялисты, которые должны были поспешно собраться по первому сигналу вокруг маркиза де Мобрейля, почему-то не явились. Если бы звонарь забил в набат вовремя и если бы отсутствующий маркиз, на которого теперь уже нельзя было рассчитывать, был на своем посту, то Наполеон не смог бы выбраться из расставленной ему западни. Эти два неведомых наглеца — и большой, и маленький, — накинувшиеся на них невзначай и испортившие все дело, не выдержали бы напора вооруженной толпы, появившейся при звуке набата на площади.
Все любопытные, высыпавшие на площадь, хотя и были очень восстановлены против Наполеона, но все же были далеко не подходящим элементом: они отступили перед неожиданным натиском двух человек. Это позор, и требуется реванш.
Но как, где и когда?
Так переговаривались между собой три роялиста, перебрасываясь различными предположениями, планами и соображениями, но все это было лишено твердого основания; они не могли остановиться ни на чем дельном, практичном, ни на чем, что можно было бы тотчас реализовать.
Вдруг слух заговорщиков поразил какой-то неприятный повторяющийся, нудный звук; он был настолько неприятен, что они прервали наконец разговор.
— Жозеф, ты слышишь этот звук? — обратился Трюфем к Трестайону.
— Он исходит с этой стороны. Кто-то находится в соседней комнате. Может быть, за нами шпионят?
— Гм… можно было бы подумать, что это храп спящего человека, — сказал Серван, который, встав из-за стола, приложил ухо к деревянной перегородке.
— Тех людей, что так крепко спят, следует остерегаться, — заметил Трестайон. — Мы были застигнуты врасплох, атакованы и проведены этими двумя лжебарышниками из гостиницы «Почта». Тот, кто храпит в настоящую минуту, наверное, из их клики. Пойду посмотрю. И если он спит лишь наполовину, то я угощу его таким сном, при котором не будят своих соседей.
Бросив свирепый взгляд на перегородку, Трестайон потянулся за ножом и вытащил его наполовину из ножен. В нем клокотала затаенная ярость, и оружие, не употребленное в происшедшем смятении на площади, жгло теперь и подстрекало его руку.
Он вышел из зала, вошел в коридор, подошел к соседней комнате и, не давая себе труда открыть, высадил дверь могучим ударом плеча и с ножом наготове в руке кинулся в середину комнаты.
Уронив голову на стол, заставленный пустыми бутылками, какой-то человек спал и храпел вовсю. Он не шелохнулся при неожиданном вторжении Трестайона, и его натуральные мехи продолжали все так же регулярно раздуваться. В закапанном салом подсвечнике уныло догорала оплывшая, немилосердно чадившая свеча.
Трестайон крикнул:
— Принесите огня!
Трюфем и Серван, стоявшие наготове в коридоре, чтобы в случае надобности успеть прийти вовремя на помощь, кинулись на зов и принесли требуемое.
Трестайон поднес свечу к лицу незнакомца, продолжавшего свой концерт.
— Тсс… скажите, пожалуйста! Ведь можно подумать, что он и в самом деле спит! — произнес Трестайон с занесенным ножом, с тем чтобы при первом же движении незнакомца всадить его ему в горло.
— Это какой-нибудь запоздавший гуляка. Пойдем, Жозеф, не станем попусту тратить время; пусть себе переваривает свое вино! — сказал Серван, делая шаг к двери.
Трестайон уже собирался последовать за ним, как спящий вдруг вздрогнул и протяжно вздохнул. Он переменил позу и подложил себе руки под голову в виде подушки. На свет показалось его покрасневшее лицо.
— Да это же наш звонарь! — воскликнул Жозеф Дюпон.
Трюфем и Серван вернулись обратно. Снова приблизили свет, сильно встряхнули Улисса Рабастуля и стали дуть в лицо… Так как на дне бутылки оставалось еще немного вина, то Серван вылил жидкость ему на лоб и смочил виски. Трюфем хлопал звонаря по щекам, а Трестайон тряс его изо всей силы, ворча под нос:
— Как он здесь очутился? Да еще спящим? Вот разъяснение закрытой церкви и отсутствия звона «Анжелюса».
В конце концов Улисс приоткрыл-таки один глаз. Он с величайшим изумлением взглянул на окружавших его трех человек и сделал усилие, чтобы заговорить.
— А-а-а… это вы, товарищи? — пролепетал он. — Ну, необходимо велеть принести свеженьких бутылочек… много бу-тылочек… бу-тылочек.
И, будто обессилев от сделанного усилия, его заплетающийся язык снова умолк, словно язык безмолвствующего колокола. Звонарь уронил голову на импровизированную подушку и собрался снова предаться сну.
— Этот негодный пьяница все сгубил! Уж, право, не знаю, что удерживает меня от того, чтобы послать его заканчивать свой сон в преисподнюю! — воскликнул Трестайон.
— У него нет ключей при себе! — заметил Трюфем, тщательно обшарив звонаря.
— В таком случае его во что бы то ни стало нужно разбудить, — сказал Трестайон.
Серван взял дымившуюся на столе свечу и просунул ее догоравший фитиль между пальцами спящего звонаря. В комнате разнесся запах паленого мяса. Звонарь от страшной боли очнулся.
— Что? Что такое? — растерянно спрашивал он, и его обожженные пальцы машинально зажали угасшую светильню.
— Ключи! Негодяй! Скажешь ли ты, куда ты девал церковные ключи? — крикнул Трестайон, приставляя кинжал к груди Улисса.
Обезумевший звонарь не мог прийти в себя и мысленно спрашивал себя: не чудится ли ему весь этот кошмар? Он растерянно глядел на окружающих его трех человек.
— А! Ключи, — промолвил он наконец. — Они здесь, у меня в кармане. — Обожженными пальцами он полез в карман, но страшная боль заставила его громко вскрикнуть. Все это, вместе взятое, отрезвило его, и он с изумлением прошептал: — Их нет там!
— Мы прекрасно знаем, подлая тварь, что в твоем кармане ключей больше нет! Но где они? Где ты посеял их? Их украли у тебя? — крикнул Трестайон.
— Вовсе не украли… Может быть, маркиз де Мобрейль, пока я спал, взял их у меня, со своим другом, графом де Сигэ. Это два прекрасных, учтивых господина…
— Ты видел их? Они были здесь? Да отвечай же! — приказал Трестайон, свирепея все более и более.
Звонарь, с усилием тряхнув головой, промолвил:
— Я видел их и говорил с ними… они пригласили меня… Они были очень довольны, что все идет так хорошо. Я сказал им, что Жозеф все объяснил мне. Скажи, пожалуйста, да ведь Жозеф — это ты самый! Ха-ха! Вот так история! Это Жозеф разыгрывает комедию. Хочешь выпить, Жозеф? Я ставлю бутылку. От этого заживут мои болячки на пальцах. Не могу понять, что бы это могло быть, но это дьявольски болит. Бутылочку! А? Я плачу за нее! — И, радуясь тому, что узнал Трестайона, звонарь громко захохотал.
— Договоришь ли ты до конца, презренный пьянчужка? — с бешенством прошептал Трестаион, хватая звонаря за горло и сбивая его с ног. — У тебя отняли ключи?
— Я не говорю этого, но весьма вероятно, что, увидев меня спящим, маркиз не пожелал тревожить меня… он был так любезен! И вот, вероятно, он взял у меня ключи отнести их моей жене, чтобы она могла за меня звонить к «Анжелюсу». Пф… он, конечно, не мог знать, что у моей жены есть вторая связка.
— У твоей жены есть вторая связка этих ключей? — с живостью переспросил Серван. — Ну, не все еще потеряно!
— Значит, не все еще потеряно, — сказал Трестаион. — Серван, беги к жене этого скота и возьми у нее ключи. Лишь только они будут в твоих руках, ты откроешь церковные двери и станешь вовсю звонить к «Анжелюсу», а окончишь набатом. Наши тотчас же сбегутся. Решено!
Серван поспешил к жене звонаря.
Трестайон и Трюфем остались одни с Улиссом Рабастулем и всеми силами старались выжать из него рассказ о происшедшем.
Все еще отуманенный винными парами, Улисс бессвязно лепетал лишь какие-то отрывочные фразы; в них неизменно фигурировал маркиз де Мобрейль, которого он видел и который разговаривал с ним. После этого звонарь снова впадал в прострацию.
— Ничего не понять из всего этого! — прошептал Трестайон. — Приехал ли действительно маркиз де Мобрейль в Оргон? Эта история с пропавшими ключами более чем подозрительна! И этот «Анжелюс», к которому не было звона, несмотря на все данные инструкции… Прямо ум за разум заходит!
— Может быть, де Мобрейль запретил звонить. Он знал, что Бонапарт имеет здесь защитников. Он, верно, решил отложить дело… потому-то и не было сигнала.
— Это было бы очень странно. Маркиз де Мобрейль уведомил бы нас; он был предупрежден о нашем присутствии. И почему звонарь пьян, как польский улан?
— Маркиз, вероятно, заплатил ему за его усердие. Он от нечего делать и выпил в ожидании сигнала.
— Твои объяснения правдоподобны, Трюфем, но все-таки не удовлетворяют меня. Я по-прежнему склонен думать, что нас выдали, и только тогда поверю в существование маркиза де Мобрейля, когда увижу его.
В эту минуту в ночном воздухе раздался звон к «Анжелюсу».
— Это сигнал! Серван достал ключи и подает сигнал! — воскликнул Трестайон. — Сейчас явятся наши друзья, мы должны стать во главе их! Брось этого пьяницу! Надо действовать! Пойдем!
Спускаясь по лестнице, они увидели на пороге гостиницы красивого офицера, которому хозяин отвесил почтительный поклон. В нескольких шагах стояла дорожная карета, из которой с любопытством выглядывали две женские головки. Невдалеке стоял мужчина в плаще, наблюдая одновременно за обеими женщинами и за офицером.
Заметив, что хозяин гостиницы избегает определенных ответов на вопросы офицера, человек в плаще приблизился к ним со словами:
— Вы можете спокойно сообщить все необходимые сведения о приезде и пребывании здесь узурпатора. Я полагаю, что вы добрый роялист?
— Пресвятая Дева! Роялист ли я? Спросите вот у них; они тоже стоят за правое дело! — воскликнул трактирщик, указывая на Трестайона и Трюфема, которые остановились, прислушиваясь к этому разговору.
Сделав незаметно какой-то знак офицеру, человек в плаще продолжал:
— Пред вами один из величайших врагов Бонапарта, маркиз де Мобрейль, у которого я имею честь быть управляющим. — И он почтительно поклонился тому, кого назвал маркизом де Мобрейль.
Трактирщик с низким поклоном только что собирался засвидетельствовать свою глубокую преданность «святому делу», как Трестайон оттолкнул его в сторону и, остановившись перед офицером, подозрительно спросил:
— Так это вы маркиз де Мобрейль?
Офицер молчал, потому что не желал, может быть, объясняться с первым встречным, или по какой-нибудь другой причине; а человек в плаще с выражением отчаяния обернулся к карете. Тогда одна из сидевших в ней дам крикнула:
— Мы остановимся здесь, господин де Мобрейль, или вы повезете нас дальше?
Это обращение положило конец сомнениям Трестайона, и он, кланяясь, сказал:
— Добро пожаловать, господин маркиз! Я Дюпон, по прозванию Трестайон, хорошо известный на юге; а это мой друг Трюфем. Мы ждали вас раньше. Если бы вы были здесь, подлый Бонапарт в настоящую минуту уже искупил бы свои преступления.
— Он успел бежать отсюда? — с живостью спросил тот, кого Трестайон считал маркизом.
— К счастью, нет… нет еще! Вы прибыли вовремя!
— В самом деле? Что же, будет что-нибудь предпринято против него сегодня вечером?
— Разумеется! Недаром же вы здесь! Мы уже кое-что сделали без вас, так как не рассчитывали более на ваш приезд. Впрочем, вы ничего не потеряли. Только теперь начнется серьезное дело, в котором роялисты покажут себя. Слышите «Анжелюс»? Скоро придут наши друзья, вооруженные и на все готовые, и освободят нас от чудовища.
— А где же Бонапарт?
— В гостинице «Почта». Этот трус заперся. Но ведь нас будет много; мы выломаем двери, возьмем дом приступом и доберемся до него! Теперь он не уйдет от нас! Теперь он уже в наших руках, негодяй! Не угодно ли, господин маркиз, дать нам какие-либо приказания?
— Все, что вы уже сделали, очень умно придумано, — сказал мнимый маркиз де Мобрейль, — и я не сомневаюсь в успехе вашего предприятия. В настоящую минуту нам ничего не остается, как ожидать ваших друзей, которые, по вашим словам, должны явиться сюда с оружием в руках, как только услышат звон к «Анжелюсу».
Офицер обернулся, как будто отыскивая глазами того, кто назвал себя его управляющим, но тот уже исчез.
Чтобы скрыть выражение торжества на своем лице, офицер повернулся в ту сторону, где стояла карета, сделал знак дамам, которые внимательно следили за всем происходившим, и снова обратился к Трестайону и Трюфему:
— Позвольте, господа, передать этим дамам сообщенные вам добрые вести.
— Это тоже враги тирана? — спросил Трюфем.
— Ожесточенные и неумолимые враги!
На колокольне, видневшейся с порога гостиницы, умолк призывный звук к «Анжелюсу».
Трестайон не сомневался более в том, что неожиданно прибывший в карете господин, показавшийся ему сначала подозрительным, был не кто иной, как граф-маркиз де Мобрейль. После реставрации он снова принял свой титул маркиза, напомнивший старый режим и более ценимый при королевском дворе, чем титул графа; никто из воинов Наполеона не был награжден титулом маркиза.
Мнимый Мобрейль отошел к карете, чтобы побеседовать с дамами, как вдруг послышался какой-то смутный гул; из деревни доносились крики мужчин, женщин и детей. Крайне удивленные Трестайон и Трюфем начали прислушиваться. Дамы в карете сильно встревожились. Офицер приблизился к двум заговорщикам.
— Что означает этот шум? — спросил он, стараясь говорить самым естественным тоном, как будто им руководило простое любопытство.
— Не знаю… Крики слышатся со стороны гостиницы «Почта», где заперся узурпатор.
— Вероятно, ваши друзья, услышав сигнальный звон, извещают вас о своем прибытии? — заметил офицер.
— Нет! Они должны прийти с другой стороны… да и теперь еще слишком рано. Не понимаю, что значит этот шум! — сказал встревоженный Трестайон. — Ах, да вот и Серван, один из наших верных товарищей. Это он звонил к «Анжелюсу», он все объяснит.
Серван в сильном волнении быстро бежал к ним, издали делая отчаянные жесты.
— Нам изменили! — кричал он.
— Как изменили? Где Бонапарт?
— Убежал! Он воспользовался нашим отсутствием и всеобщей растерянностью. Двери гостиницы неожиданно открылись, свежие лошади уже были готовы… и узурпатор ускакал во всю прыть!
— Он опять ушел от нас? Это ужасно! — воскликнул Трестайон. — Это непостижимо! Неужели он догадался о нашем сигнале? Или нас опять предали? Но кто же?
— Его, наверно, предупредили. Видели, как кто-то входил в гостиницу, а через несколько минут карета уже уехала… И долговязый черт, который недавно помешал нам, и человек с бичом были тоже там; они помогали бегству Наполеона… Посмотрели бы вы на них! Долговязый был со своей палкой, которой он все сметал на своем пути, а маленький отчаянно работал саблей.
— Неужели здешние жители не тронулись с места? Они дали карете уехать? Надо было бросать камни, выхватить из-за пояса ножи и вонзить их в грудь тирана и его защитников; вот что было нужно! Вам следовало быть при этом, господин маркиз! — прибавил он, обращаясь к офицеру.
— Значит, больше делать нечего? — спросил офицер. — Наполеон спасся?
— Не совсем еще! — возразил Трестайон. — Надежда еще не потеряна.
— На что же вы надеетесь? Я горю нетерпением узнать, где можно настичь бежавшего или преградить ему дорогу.
— Он направляется на Э и должен проезжать через Сен-Кана. Ну вот, перед Э есть постоялый двор «Ла Калад»; злодей, разумеется, остановится там менять лошадей. Тамошний хозяин — мой друг; в минуту опасности он не потеряется и не отступит. Его прозвали Катртайон. Он бывший мясник и сумеет выпустить кровь из человека еще лучше и скорее, чем из быка.
— И вы думаете, что Бонапарт остановится там?
— Конечно! А если бы ему вздумалось проскакать через деревню, не меняя лошадей, то довольно будет, чтобы его заметили: Катртайон с оружием в руках бросится вслед за ним. Бонапарт не выйдет живым из Сен-Кана!
— Благодарю вас за такие важные сведения! — с насмешливой вежливостью сказал мнимый маркиз, направляясь к карете, и, отворив дверцу, сел возле встревоженных дам.
— Что вы делаете, господин маркиз? Вы покидаете нас? — воскликнул пораженный Трестайон. — Куда вы едете?
— В Сен-Кана — поддержать усердие вашего друга-трактирщика! — ответил мнимый маркиз, делая прощальный жест.
Кучер ударил бичом, и карета помчалась во весь опор по дороге в Э, направляясь к гостинице «Ла Калад», где хозяин-мясник, соперничавший в свирепости и преданности королю с жестоким Жозефом Дюпоном, наводившим ужас на окрестности, должен был убить Наполеона.
VIII
Между тем в карете мнимый маркиз де Мобрейль, оказавшийся полковником Анрио, передавал своим спутницам только что услышанные им вести. Эти две дамы были графиня Валевская и Алиса, жена Анрио.
Вот каким образом они очутились в обществе Анрио по дороге в Э, в поисках Наполеона.
Передав в надежные руки ребенка, которым хотел завладеть Мобрейль, чтобы легче поразить Наполеона, когда он один, без свиты, будет прощаться с сыном, графиня Валевская по совету Алисы тоже покинула Париж. Необходимо было, чтобы Мобрейль потерял ее из виду, и ей предложили поселиться в замке Комбо.
Не успела она водвориться в замке маршала Лефевра, как туда явился человек, желавший видеть Сигэ, ординарца маршала. Это заинтересовало графиню. Что было нужно этому человеку от гусара, который вместе с ла Виолеттой отправился на помощь императору?
Узнав, что это был Жан Соваж, которому она доверила своего ребенка, графиня страшно испугалась; но Соваж немедленно успокоил ее, сказав, что ребенок здоров и находится в полной безопасности, что ла Виолетт передал его Огюстине, жене Соважа, которая будет заботиться о нем как о своем собственном ребенке. Преувеличивая наставления ла Виолетта, Соваж сказал, что непременно должен догнать его на дороге в Прованс, чтобы помочь оберегать Наполеона. Он умолчал о своем соперничестве с Сигэ, равно как и о том, что главной причиной его приезда в Комбо было стремление видеть сына. Нежно расцеловав маленького Жака, находившегося на попечении жены садовника замка Комбо, Соваж под влиянием отцовской привязанности уже спросил себя: не благоразумнее ли вернуться в Торси, к горюющей Огюстине и к маленькому Пуло, которого, вероятно, очень удивляло отсутствие отца?
В эту минуту его вторично позвали к графине Валевской, которая стояла рядом с Алисой, уже одетая по-дорожному.
— Вы отправляетесь на защиту императора, — сказала графиня, — и мы решили ехать с вами, мой друг. Мы не будем помехой вам; мы предоставим вам полную свободу действий и, может быть, окажемся полезными вам. Мадам Анрио, — она указала на Алису, — надеется встретиться со своим мужем, который сопровождает императора. Быть может, впрочем, нам удастся уберечь его… он крайне неосторожен! Вероятно, он едет без конвоя и, не зная об угрожающей ему опасности или презирая ее, прямо попадет в руки убийц. Садитесь к кучеру на козлы, Жан Соваж, и будете нашим телохранителем!
Соваж не мог отказаться сопровождать этих дам, похожих на сказочных путешествующих принцесс, и все трое отправились в дорогу. Не жалея ни лошадей, ни денег на чай, графиня с Алисой быстро продвигались вперед и в Валансе нагнали часть эскорта Наполеона. В одном из экипажей оказался полковник Анрио. Он очень удивился, увидев жену, смело пустившуюся в такое путешествие, но у него не хватило духа порицать ее или настаивать на ее возвращении домой.
Анрио должен был сопровождать императора на остров Эльба. Алиса, предполагалось, приедет гораздо позже. Сопровождавшие императора офицеры хотели сперва устроиться, освоиться с языком жителей, найти средства обставить жизнь как можно удобнее и только тогда выписать своих жен. Анрио думал (как, может быть, думал и сам Наполеон), что это изгнание не будет вечным… Ведь остров Эльба не на краю света, и оттуда всегда можно вернуться! Но так как Алиса уже так много проехала, он не в силах был отослать ее домой; поэтому было решено, что она доедет до Тулона, дождется отплытия императора на Эльбу и вернется потом вместе с графиней Валевской в Париж, где под крылышком герцогини Данцигской будет ожидать дальнейших событий.
Молодые женщины передали полковнику все, что узнали о готовившемся покушении на жизнь императора и о засаде в окрестностях Оргона, умолчав, конечно, об обстоятельствах, при которых они открыли заговор. Анрио отнесся к их словам с недоверием.
Он даже немного посмеялся над миссией ла Виолетта и Сигэ, а присутствие Жана Соважа на козлах кареты нашел совершенно излишним и напрасно увеличивавшим вес экипажа. Он даже хотел отправить его в Торси, но Жан так умолял позволить ему продолжать путешествие и так убедительно просил обеих дам поддержать его, что его просьба была исполнена. Анрио от души хохотал, видя, как на каждой станции Соваж распахивал длинный плащ и удостоверялся в целости и исправности своих пистолетов. По мнению Анрио, такие предосторожности были излишни, а тревога не имела основания. Он значительно отстал от императора и только слышал по дороге враждебные крики. Анрио знал, что в Балансе произошло тяжелое свидание: здесь Наполеон встретился с Ожеро, ехавшим в Лион.
Этот грубый солдат, не отличавшийся воинскими доблестями, хотя и храбрый, но хвастливый, жадный до денег и до почестей, как выскочка, тревожился за прочность своего положения и желал, чтобы оно было санкционировано королевской властью, которую только одну считал законной; польщенный тем, что французский король обращался с ним как с настоящим герцогом, он поспешил перейти на сторону иностранной партии.
Ожеро был, видимо, очень смущен, очутившись лицом к лицу со своим старым товарищем по оружию, который, сделавшись императором, облагодетельствовал его; ему было немного стыдно явиться облеченным властью и украшенным знаками отличия, полученными от нового монарха, которому он поспешил предложить свою услужливую саблю и продажную совесть; он надеялся выпутаться из затруднения, выказав при встрече некоторую грубоватость и неуместную фамильярность; поэтому он обнял Наполеона и заговорил с ним на «ты».
Император упрекнул его за действия в лионской армии.
— Зачем ты бранил меня в своем воззвании к солдатам? — сказал он. — Следовало просто сказать: «Народ высказался в пользу нового государя, и армия обязана подчиниться этому». Ты мог кричать: «Да здравствует король!» — если это тебе нравилось, но не оскорблять меня, твоего императора… твоего друга!
В свою очередь Ожеро стал упрекать Наполеона за его честолюбие и за нескончаемые войны. Расстались они немного дружелюбнее, но этот разговор произвел грустное впечатление на Наполеона, и он продолжал путь недовольный.
Он на несколько станций опередил экипажи иностранных уполномоченных и офицеров своей свиты, и потому Анрио ничего не знал об угрожающих криках, которые встречали изгнанника на всем пути, начиная с Баланса. Ему было неизвестно, что многочисленные крики «Да здравствует император!» за Лионом уже смолкли, а в Оранже и Авиньоне их сменили угрозы и оскорбления, сопровождавшиеся возгласами в честь Людовика XVIII.
Графиня Валевская умоляла Анрио спешить, чтобы поскорее догнать Наполеона. Она далеко не разделяла оптимистического взгляда Анрио на опасности, ожидавшие изгнанного императора при проезде через деревушки Прованса. В Оранже они наконец обогнали своих спутников, предоставив уполномоченным продолжать путь не спеша.
Приехав в Оргон, они из-за стечения народа не смогли добраться до гостиницы «Почта» и остановились в гостинице «Перекресток». Здесь Анрио узнал о готовившемся покушении на императора; хозяин сообщил ему, что, как только приедет из Парижа маркиз де Мобрейль, с Бонапартом будет покончено.
Когда на сцену явились Трестайон и Трюфем, Жану Соважу пришло в голову выдать Анрио за ожидаемого маркиза, чтобы, с одной стороны, избежать враждебных выходок этих разбойников-роялистов, а с другой — внушив им доверие, выведать у них их намерения.
Узнав об опасности, угрожавшей Наполеону в гостинице «Почта», Соваж незаметно скрылся, не предупредив Анрио, чтобы не возбудить подозрений Трестайона. Он намеревался проникнуть к императору и предупредить об опасности, которой он подвергался, оставаясь в Оргоне. Он поспешил покинуть гостиницу, пока роялисты, повинуясь призывному звону, еще не собрались и не преградили доступ к помещению, занятому императором.
* * *
Наполеон заканчивал свой ужин, когда до его слуха долетел звон колокола, призывавшего к «Анжелюсу». Он невольно вздрогнул, ему почудилось что-то роковое в жалобном звоне, и это впечатление еще усиливалось от медленности, с какой удары следовали один за другим.
Он осведомился о причине звона, но никто не мог ничего объяснить. Тогда император встал из-за стола и подошел к окну. На площади еще двигались темные фигуры.
— Можем ли мы безопасно ночевать здесь? — спросил он Бертрана.
— Ваше величество, нельзя предположить, чтобы осмелились напасть на вас Стычка при вашем прибытии — простая случайность, выходка каких-нибудь презренных головорезов, подкупленных вашими врагами.
Наполеон покачал головой. Слова Бертрана не убедили и не успокоили его. Храбрый на поле сражения, он выказывал презрение к смерти и хладнокровно ожидал внезапного кровавого конца; так было на мосту в Лоди, при Арколе, среди русских снегов и еще недавно при Арси-сюр-Об, когда он принудил лошадь обнюхать дымящуюся бомбу; но теперь он испытывал особенную, гнетущую тоску, чувствуя себя одиноким среди раздраженного населения. Им овладел тот страх перед толпой, который хорошо знаком людям, принимавшим участие в революциях. Наполеон не дрогнул, когда около него раздался оглушительный взрыв адской машины на улице Сен-Никэ, а теперь чувствовал, как его тело холодело от невольной дрожи. Ему хотелось быть подальше от этого негостеприимного места, от готовых напасть на него убийц, присутствие которых он угадывал. Но у него не было необходимой силы воли, чтобы решиться заказать лошадей и крикнуть: «В дорогу!» Бывают такие минуты в жизни, когда самое желанное бегство оказывается выше сил человека.
В это время в гостиницу явился Жан Соваж и рассказал о западне, в которой император неминуемо погиб бы, если бы был узнан. Было одно средство спасения — переодевание. По совету Бертрана Наполеон снял костюм и заменил его ливреей одного из слуг.
Генерал Бергран приказал отнести в карету пакет с мундиром императора; но Наполеон, не терявший присутствия духа и все предвидевший, заметил, что опасно оставлять карету пустой; кто-нибудь должен был в платье императора занять его место в карете. Сыграть эту небезопасную роль вызвался Жан Соваж, и его предложение было принято. Он быстро переоделся, и Наполеон, внимательно осмотрев его, по-видимому, остался доволен своим двойником и с улыбкой, походившей, несмотря на его старания, на гримасу, он сказал Бертрану:
— Видя, что мое место в карете занято, они не догадаются, что я скачу далеко впереди на почтовой лошадке. Кто, черт возьми, заподозрит, что под ливреей курьера скрывается император французов?
Итак, простой крестьянин в императорском мундире занял место в карете, украшенной гербами, а император в ливрее простого слуги уселся верхом на лошадь, которой предстояло спасать жизнь изгнанного цезаря.
Переодетый курьером Наполеон мог пробраться через враждебные толпы, сторожившие по деревням на Сен-Канской дороге проезд императорской кареты.
Всеобщая ненависть была так сильна, страсти так возбуждены, что неистовствовавшие крестьяне не спали всю ночь, подстерегая побежденного, которого жаждали прикончить.
Однако никто не узнал Наполеона, сторожившие фанатики со старыми ружьями на плече или просто с цепями пропустили безобидного верхового, притом доброго роялиста, о чем свидетельствовала белая кокарда на шляпе Переодетому в этот костюм императору с эмблемой приверженности к партии Людовика XVIII кланялись как слуге короля, как одному из мелких деятелей правого дела. В нескольких местах его даже угощали, в других — осведомлялись, какие есть новости о тиране.
Благополучно проехав Сен-Кана, Наполеон вздохнул свободнее. Погоняя коня, он скоро оставил далеко позади много опасных сборищ. Никто не обратил на него внимания; самые пылкие, утомившись ожиданием, отправились спать. В Сен-Кана раздалось лишь несколько враждебных криков:
— Ага, вот курьер! Едет готовить помещение. Значит, злодей Бонапарт недалеко!
И эти враги, решительные и нетерпеливые, возбужденные духовенством, обманутые эмиссарами Талейрана и барона де Витроля, давали себе слово — хотя бы ради этого пришлось сторожить всю ночь — броситься на карету, как только она покажется, и вытащить из нее изгнанника.
Какие удручающие, горькие мысли должны были преследовать Наполеона, вынужденного обратиться в бегство, облаченного в костюм слуги, во время этой скачки среди разнузданной толпы, среди враждебных криков, среди проклятий, преследовавших его по пятам!
До сих пор его переодевание спасало его, но он торопился добраться до места. В Э он надеялся найти представителя королевского правительства, власти и войска. Подпрефект должен будет поручиться за его безопасность. Бурбонам очень хотелось, чтобы Наполеона убили на большой дороге, но они вовсе не желали отвечать за это преступление перед Францией, перед Европой, перед потомством. В Э он мог уже не бояться банд, подстрекаемых Трестайоном; но хватит ли у него сил домчаться туда?
Хотя Наполеон и был превосходным ездоком, но он не привык скакать на почтовых лошадях. Его костюм, тяжелые сапоги и быстрая скачка, к которой ему пришлось прибегнуть, чтобы сыграть свою роль и отвратить всякое подозрение, страшно утомляли его. Пот лил с него ручьями. Несмотря на ночную свежесть, усталость Наполеона все возрастала; с каждым лье ему казалось, что дальше ехать он уже не в состоянии.
Среди уединения бесконечной большой дороги, он, привыкший сидеть на коне в окружении самого блестящего, самого славного штаба, испытывал глубокое уныние. Впервые, может быть, с печальных времен своей жалкой юности в Марселе, с тех пор как на берегу Средиземного моря он чуть не похоронил в волнах свою будущую судьбу, Наполеон почувствовал себя ничтожным, слабым, подвластным внешним событиям. Если бы на этой нескончаемой дороге в его распоряжении оказался яд, он, может быть, остановил бы коня и искал бы покоя в смерти, возобновив попытку самоубийства, не удавшуюся в Фонтенбло.
Однако, призвав на помощь всю энергию, напрягая нервы и мускулы, собрав всю силу воли, он сказал себе, погоняя коня:
— Я хочу доехать до Э!
Его лошадь уже не слушалась шпор и хлыста; она совершенно выбилась из сил и, вся покрытая пеной, задыхаясь, каждую минуту грозила пасть. Необходимо было остановиться, поискать пристанища и свежей лошади.
Наконец впереди показалась гостиница. Какой-то конюх открывал ставни при восходе солнца, напевая про себя.
Наполеон окликнул его:
— Эй, товарищ, где это я?
— Это «Ла Калад», — ответил конюх, — в двух перегонах от Э. Войдите, надо позаботиться о вашей лошади, она сильно в этом нуждается.
Наполеон не заставил повторять приглашение. Пока лошадь ставили в конюшню, он вошел в кухню, отяжелевший, с затекшими ногами, чувствуя полную разбитость.
Плотный, здоровый детина с суровым лицом, сидевший у очага, поднялся при его входе и спросил:
— Вы курьер Бонапарта?
— Да, — ответил Наполеон, — а что вам от меня нужно?
— От вас ничего, но если ваш Бонапарт заедет сюда и вздумает остановиться в этой гостинице, он может быть уверен, что тут ему и конец придет… это так же верно, как то, что меня зовут Катртайон. А где же сейчас этот Бонапарт, ужасный тиран? — прибавил хозяин «Ла Калад».
Наполеон не утратил хладнокровия. Страшный трактирщик не узнал его, и следовало подкрепить его уверенность, что перед ним действительно был настоящий курьер. Поэтому Наполеон, который всю жизнь был прекрасным актером, ответил самым естественным тоном:
— Да я думаю, что он ночует в Сен-Кана. Я еду в Э приготовить помещение к сегодняшнему вечеру.
— Как так? Тиран не в Оргоне? Вы думаете, что он в Сен-Кана? — спросил трактирщик.
— Я уверен в этом. Я выехал из Оргона в одно время с ним и покинул его в Сен-Кана. Но я остановился в этой гостинице не затем, чтобы болтать, а чтобы подкрепиться и отдохнуть, перед тем как отправиться далее. Разве у вас нельзя выпить? Нельзя за деньги получить кусок сала и краюху хлеба? — И словно он всю жизнь служил курьером, привыкшим сходить с коня, чтобы пропустить в гостинице стаканчик, Наполеон взял стул, придвинул его к огню, спокойно уселся и, протягивая к пылающим головням ноги в тяжелых сапогах, весело заметил: — За свои деньги, милый мой, мы можем и погреться!
Катртайон, все сомнения которого рассеялись от непринужденного обращения курьера, ответил ворчливым тоном:
— Грейтесь себе на здоровье и ешьте! Моя жена сейчас придет и подаст вам. — И он крикнул: — Антуанетта!
Маленькая смуглая женщина с живыми глазами и черными волосами, с покорным, но злым видом сбежала с лестницы и явилась узнать, что нужно.
Катртайон, очутившийся уже на пороге, приказал ей предложить курьеру свои услуги.
— Вы уходите? — спросил Наполеон, в душе очень обрадованный возможностью избавиться от присутствия этого человека с такой неприветливой физиономией.
— Да, пойду в Сен-Кана! Если встречу там Бонапарта, вам уже не для чего будет ехать в Э готовить ему квартиру; тогда постель для него на эту ночь приготовит Матюрэн, наш могильщик! — И, вооружившись охотничьим ружьем, Катртайон вышел, ворча: — Живым Бонапарт не попадет в Э, или я перестану зваться Катртайоном!
Между тем жена трактирщика поставила для путника прибор и подала яичницу и поджаренное сало.
Наполеон был голоден. Он сел за стол и живо съел вкусное блюдо.
Трактирщица поглядывала на него глазами, горевшими любопытством. После ухода мужа она сделалась более самоуверенной.
— Так вот как, — начала она, становясь против проголодавшегося «курьера», — вы были вместе с Бонапартом? Вы видели его?
— Нет, он ехал в карете, а я был впереди. Ведь я курьер.
— Верно, но вы все-таки могли увидеть его. Я так очень хотела бы видеть Бонапарта! Говорят, он похож на антихриста. Я очень хотела бы знать, удастся ли ему спастись, — продолжала болтливая Антуанетта. — Честное слово, если народ убьет его — а мой муж немножко-таки для этого и пошел, — то надо ведь сознаться, что этот бездельник вполне заслужил такую смерть.
— Разве он наделал много зла?
— Как «разве наделал»?! Господи Иисусе! Да он заставлял всех сражаться, всех платить налоги! К тому же он похитил корону у нашего доброго короля. Ну, да теперь всему конец. Мы опять увидим своих прежних властителей; не будет больше ни рекрутских наборов, ни конфискаций…
— Вы думаете? А что же будет делать король, если у него не будет ни солдат, ни денег?
— О, это все устроится. Священник сказал нам, что Само Провидение будет заботиться о нас с той минуты, как мы избавимся от Бонапарта, который так обошелся с нашим главным священником — папой. Скажите-ка мне: если он улизнет от наших, которые подстерегают его с серпами и даже с ружьями, то его отправят на тот остров?
— Конечно! Ему назначен для житья остров Эльба.
— Но дорогой, в море, я думаю, его утопят, — сказала Антуанетта с наивной жестокостью.
Вскоре на дворе послышался стук кареты; это приехал Анрио в сопровождении графини Валевской и Алисы.
Свидание Наполеона с его верной подругой было серьезно и печально. Присутствие посторонних и трагические обстоятельства сначала лишили встречу прежних влюбленных всякого намека на любовь.
— Графиня, — сказал Наполеон, идя ей навстречу, — вы видите меня в весьма смешном наряде.
Валевская не могла удержаться от слез.
— Я нахожу вас живым, ваше величество, а для меня это лучшее, что только я могла бы пожелать.
— Да, мне удалось ускользнуть от этих грубых провансальцев; конечно, они самые ярые роялисты! — ответил император, лицо которого уже снова улыбалось. Затем он обернулся к жене Катртайона, которая, узнав наконец императора, была страшно поражена и притом опасалась какой-либо кары за угрозы, высказанные в присутствии курьера, и сказал ей: — Так вы надеетесь, что меня повесят или утопят? Узнаю вашу страну! Я был здесь восемнадцать лет назад, стоял в гарнизоне недалеко отсюда, и меня послали с несколькими солдатами отбить у разъяренных крестьян двух офицеров-роялистов, на которых донесли, что они носят белую кокарду. И мне пришлось защищать эту самую гостиницу с саблей в руке. Мне стоило страшного труда вырвать несчастных из рук тех самых людей, которые сегодня стремятся убить граждан, оставшихся верными трехцветному знамени. Такова игра судьбы! Какое это яркое доказательство человеческого непостоянства! Эта изменчивость, подвижность — это юг, настоящий юг! О, я прощаю ему! Я сам чересчур южанин!
Поговорив с Анрио и его молодой женой, Наполеон потребовал отдельную комнату и удалился вместе с Валевской.
В эти короткие часы опасной близости прекрасная полька не переставала умолять императора окончательно отказаться от власти, от славы, от надежд на возврат счастья, о странной и жестокой изменчивости которого он сам только что упоминал по поводу двух офицеров-роялистов. Она пыталась вырвать у него обещание отречься от короны, от мщения и попыток бежать из заключения и вести на Эльбе жизнь простого смертного. Но так как Наполеон ничего не отвечал ей, то она воскликнула:
— Государь, вы знаете, как я люблю вас, знаете, что я с радостью отдала бы за вас свою жизнь. Я на коленях прошу вас: перестаньте быть мишенью для стрел врагов! Тупая и жестокая враждебность, которую вы видели на своем пути, среди провансальцев, происходит именно оттого, что они не верят, будто ваше отречение твердо, и полагают, что, переправившись на Эльбу, вы только и будете думать что о скорейшем возвращении.
Император загадочно улыбнулся и, взяв в свои руки руки графини, вместо ответа покрыл их поцелуями.
Тогда прекрасная полька открыла ему свою душу. Она начала с первых дней своей любви к Наполеону. Она полюбила в нем сначала не мужчину и не прославленного императора, которому судьба сулила наслаждаться плодами его побед на могущественнейшем из тронов.
Тот, кого она тогда не любила, а только снизошла к его любви — вернее, чью любовь только переносила, — был непобедимый герой, во власти которого было освободить Польшу. Прежде всего патриотка, графиня Валевская не поколебалась отдать свою молодость, красоту и честь взамен поддержки родине, которую обещали ей посредники, стремившиеся устроить ее связь с Наполеоном.
Она всем пожертвовала идеалу свободной Польши, восстановленного королевства Станиславов, хотя долго боролась. Бедная девушка из благородного, но разорившегося рода, наделенная чудной красотой, она сделалась предметом исканий и вскоре женой одного из варшавских магнатов Графу Анастасу Колонна-Валевскому было семьдесят лет; это был старый борец за права Польши, обожавший молоденькую белокурую сиротку, прямодушную и пламенную патриотку.
После трех лет супружества она сделалась матерью, причем никто не имел права или основания заподозрить, что отцом ребенка был кто-нибудь другой, а не семидесятилетний влюбленный муж. Явился Наполеон, увидел ее и пожелал обладать ею. Графиня энергично противилась. Все, окружавшие великого человека, стали осаждать ее и, как охотничья свора, гнать, преследовать добычу, пока благородная дичь не пала к ногам властелина. Тогда, несмотря на горькие слезы, в Валевской свершился огромный переворот: она стала меньше говорить о польском сейме, о свободных правах соотечественников, о перенесении русской границы далеко за Вислу; она меньше видела в своем друге императора и больше — мужчину, она влюбилась в Наполеона. С этих пор она уже не стремилась увлечь того, кого любила, к новым приключениям и победам. Победный путь славы пугал ее; она хотела бы отвратить от него Наполеона, видеть его менее великолепным, менее царственным, но ближе к своей любви.
Однако в сердце Валевской не было места ни для каких недоброжелательных стремлений или вредящих императору надежд. Она жила в уединении и нежно любила своего сына, сына Наполеона, но ничего не требовала и не ждала от императора возвращения былого чувства.
Она знала, скорее — угадывала, какая прочная связь приковывала Наполеона к Марии Луизе, и вовсе не имела дерзости отбивать у императрицы ее мужа. Она переносила свою суровую долю, часто плакала тайком и утешалась на целую неделю, если случайно, издали могла увидеть между рядами солдат своего любовника, властелина, свое божество, быстро скачущего на коне, по-прежнему невозмутимого, высокомерного.
Когда же настали дни испытаний, графиня снова явилась на сцену, предлагая уже не свою любовь, а поддержку и утешение, которые могли дать побежденному господину ее улыбка, ее присутствие. В Фонтенбло Наполеон заставил ее целую ночь напрасно прождать его в приемном зале, и когда на рассвете вспомнил о ее присутствии, было слишком поздно: утомившись ожиданием, вынужденная покинуть дворец, чтобы не вызывать скандала, сочтя себя забытой, презренной, изгнанной, графиня Валевская уехала, в душе навеки простившись с тем, кто уже не любил ее, кто, может быть, никогда не чувствовал к ней любви.
Свою любовь она унесла нетронутой, как неприкосновенное сокровище. Раз отдавшись, она уже не отнимала обратно своего чувства, готовая страдать в уединении и забвении.
У нее оставался еще сын, живое доказательство мимолетной страсти того, кого с той же поры ей пришлось считать умершим для нее. Она искала утешения в материнской любви; в ней следовало ей отныне искать счастья, черпать силы, чтобы жить.
Однако, несмотря ни на что, в сердце графини жила тайная надежда. Она была женщина и… все еще любила. Она не могла не думать, что возможность снова овладеть Наполеоном, как в былые дни, возрастала благодаря наступившим событиям. В качестве могущественного и победоносного императора он все время фатально ускользал от нее; обязанности, налагаемые властью, величие престола, уважение к династии разъединяли ее с тем, кого она жаждала любить как человека, которому вся отдалась, не спрашивая, кто он, не заботясь о его положении, богатстве или славе, стремясь только получить немного чувства взамен сердца, которым он завладел. Но император, сверженный с ослепительной высоты, на которой он так долго держался, становился уже доступнее.
Момент падения приближался. У графини не было эгоистического чувства, все относящего только к себе, даже чужие бедствия. Она не радовалась поражениям, которые могли умалить значение Наполеона, сделать его менее сверхчеловеком и приблизить его к ее сердцу.
Но она не могла не думать, что соображения высшей политики, запрещавшие ему вспоминать о ней, пока он жил в Тюильри в качестве могущественного вождя французов, столько раз торжествовавшего победу, вершителя мира всей Европы, уже не существовали теперь, на том горестном пути в изгнание, где она присоединилась к нему.
В Фонтенбло Наполеон был еще великим императором, и гвардия оберегала его жизнь, здесь же, в харчевне, где для спасения своей жизни Наполеон был вынужден скрываться под одеждой простого курьера, пряча свой мундир, замалчивая свое имя, — здесь он уже был просто человеком. Графиня снова нашла того, кого любила, но лишенным ореола и сложившим оружие.
Преследуемый, оскорбляемый, униженный, несчастный, спасающийся от нападений разъяренных деревенских банд, Наполеон становился для графини еще более привлекательным, более пленительным, более достойным любви, чем в то время, когда он царствовал в Тюильри и делал смотры гвардии. И он сам казался теперь более доступен любви.
Валевская радовалась своему быстрому решению и той смелости, с которой, зная, что сын в безопасности, она вместе с Алисой бросилась по следам того, кого обожала, кто в том состоянии беспомощности и мучительного томления, в котором она его застала, конечно, не найдет в себе мужества еще раз оттолкнуть ее.
В ту мрачную ночь в Фонтенбло он пытался отравиться, а ей предоставил плакать и мучиться ожиданием, не сказав ей ни слова, не подав ни малейшей надежды. Его желание остаться тогда наедине с самим собою, отсутствие влечения к женщине объяснялись страшным возбуждением нервов и напряжением ума. Во время этого кризиса он мысленно прощался с империей, со всем миром, со всем, что привязывало его к жизни. Он освобождался от всех уз земного существования, и в этот час, который он считал последним часом своей жизни, он, конечно, не мог испытывать сильное желание вновь увидеть женщину, напоминавшую ему дни былого счастья. Погружаясь в бездну печали, он даже не хотел быть утешенным.
Ясно, что графиня выбрала тогда неудачную минуту. Она прекрасно понимала, каковы могли быть чувства, отдалившие от нее Наполеона в эти лихорадочные часы упадка духа, безумия, заставившие тогда императора закрыть пред нею свою дверь и… свое сердце.
Харчевня и переодевание вернули Валевской надежду. Обстоятельства совершенно изменились.
Наполеон не хотел уже больше сам лишить себя жизни здесь, в Провансе. Напротив, здесь хотели убить его, а это было совсем другое дело. Он защищал свою жизнь, ему приходилось спасаться от убийц. Это уже не был угнетенный, несчастный человек, потерявший веру в себя; теперь он желал жить. Быстрая езда в одежде курьера, с кнутом в руке, на простой, почтовой лошади доказывала его желание спасти свою жизнь. В его энергичных поступках уже не было следа того упадка духа, который владел им в Фонтенбло. Может быть, теперь он лучше примет эту любовь, эту преданность, которые были хорошо известны ему, но без которых он хотел обойтись.
Наполеон отправлялся теперь в изгнание, где ему придется вести монотонную, тихую жизнь маленького государя. Ему нечего больше мечтать о возвращении утраченного трона, о возобновлении кровавой партии, в которой противники сплутовали и вырвали карты у него из рук. Ему придется покориться печальной участи развенчанного монарха, вести жизнь частного лица.
Но он мог любить. Европа, политика, прежнее величие — все препятствия теперь исчезли. Графиня Валевская мечтала о счастье мирной и тихой жизни вдвоем в каком-нибудь домике на Эльбе, где после нескольких часов приема и занятий делами во дворце Наполеон возвращался бы к ней. Их сын играл бы около дома, около них. Никакой внешний шум, никакой звук оружия, никакой отблеск бывшего великолепия не нарушали бы спокойствия мещанской жизни, предписанной победителями тому, перед которым они не раз дрожали. Это было бы блаженное, дивное завидное существование, если бы Наполеон сумел примириться с ним.
Но покорится ли этому спокойствию его вечно тревожная натура? Захочет ли он довольствоваться таким счастьем?
Одного препятствия боялась графиня, предвидя его заранее: это были Мария Луиза и ее сын, король Римский.
Но союзники разлучили мужа с женой, отца с сыном. Бедный маленький король был лишен своего звания, своих отличий, своего имени. Его приказано было называть Франциском, даже Францем, так как он стал австрийским принцем, и от всего могущества, от всех преимуществ, казалось, дарованных ему от рождения, осталось звание принца Пармского, из жалости к сиротке пожалованное ему дедом, австрийским императором.
Что касается Марии Луизы, то ведь она не любила Наполеона и была рада политическим событиям, разлучившим ее с супругом. Император австрийский одобрял эту разлуку; он воевал с зятем, лишил звания внука; его сильнейшим желанием было сделать из императрицы Франции снова только австрийскую эрцгерцогиню. Чтобы привлечь на свою сторону дочь и окончательно разлучить ее с мужем, Франц Иосиф разрешил ей интригу с Нейппергом. Очень довольная таким исходом, Мария Луиза отправилась в Э, а оттуда в горы Тироля. Нейпперг сопровождал ее и в продолжение этой интимной жизни развлекал ее игрой на флейте.
Наполеон не подозревал об измене жены; он верил ей и ждал. Он переписывался с ней и был уверен, что она приедет к нему на Эльбу вместе с сыном.
Поэтому Наполеон хотя и был тронут чувством графини, но не ответил ей взаимностью. Он поблагодарил ее за то, что она присоединилась к нему в этом опасном пути, за помощь, которую она оказала ему. Но на ее планы он никак не отозвался. Его отправляли на остров Эльба, где он останется, если союзники будут держать свое слово. Он хотел жить на этом острове независимым принцем. Политикой он будет заниматься ровно столько, чтобы охранять права короля Римского.
Эта холодная, точная речь подействовала на молодую женщину, как удар бревна, упавшего с высоты.
Видя это, Наполеон заговорил с ней нежнее и мягче. Он сказал, как сильно любил ее и был бы счастлив продолжать любить с той же нежностью, но если его трон, высокое положение и разные заботы не препятствовали теперь этой любви, то его достоинство требовало не давать никакого повода для порицаний. За ним следят, все его действия известны. Присутствие с ним женщины на острове Эльба будет немедленно известно при высоком дворе, а там сумеют воспользоваться этой его неверностью жене, чтобы расторгнуть союз, вызванный политическими соображениями. Он прибавил, что любит императрицу, что она мила, добра и не замедлит приехать к нему на остров.
Эта уверенность в скором свидании с женой и ребенком, доверие, с которым говорил Наполеон, поразили молодую женщину. Она молчала, затаив в глубине сердца, так неосторожно открытого, всю силу горячей любви и преданности. Ей удалось скрыть свое горе; она больше не настаивала на желании сопровождать Наполеона на Эльбу с их сыном; она не смутила сомнением его твердую уверенность в приезде Марии Луизы.
Разговор был прерван громкими криками и шумом на дороге перед гостиницей.
— Ага, мои убийцы опять появились, — сказал Наполеон. — Не бойтесь, графиня, они ждут императора, а я — теперь не больше чем простой курьер.
Он подошел и открыл окно, желая видеть, что делается на улице.
Подъезжала его карета.
Лошади уже давно шли шагом. Разъяренная толпа окружила экипаж, думая, что в нем сидит император. Его место занимал Жан Соваж, одетый в императорское платье; с ним был генерал Бертран. Почтальон не мог гнать лошадей: толпа бросалась к ним и замедляла ход кареты.
Недалеко от «Ла Калад» навстречу попался трактирщик Катртайон. Высокий ростом, разъяренный, он выделялся среди толпы. Он громко заявлял, что Бонапарт не выйдет живым из этой кареты с опущенными стеклами; его заставят зайти в «Ла Калад», где народ расправится с тираном.
Карета продолжала медленно двигаться среди дико кричащей, жестикулирующей толпы. Однако за несколько шагов от гостиницы крики усилились, раздались отдельные голоса:
— Товарищи, спасайтесь! Вот они! Вот они!
Вдали показались несшиеся во всю прыть пять или шесть карет со свитой Наполеона и иностранными комиссарами. Впереди всех, погоняя вспотевших лошадей, скакали два человека. Один, громадного роста, еще издали угрожающе размахивал дубиной, второй махал кавалерийской саблей, готовясь напасть на толпу.
— Скорей! — скомандовал Катртайон. — Если они успеют подъехать, то тиран еще раз ускользнет из наших рук! Товарищи, к карете! Стой, почтальон! Эй вы там, к черту вашу телегу!
Карета остановилась и скоро закачалась под напором двадцати рук. Опрокинутая, с поднятыми вверх оглоблями, она походила на какое-то раненое фантастическое животное, терзаемое сворой охотничьих собак. Наиболее свирепые взобрались на крышу, другие старались выломать дверцы. Наконец карета была взломана. Из нее вытащили генерала Бертрана и предполагаемого императора.
Когда появился бессмертный серый сюртук, перед которым трепетала Европа, самые дерзкие отступили с невольным почтением. Катртайон увидел колебание, надо было действовать.
Он приложился и прицелился, но толпа стиснула его. Он отложил ружье и взял нож. Но броситься на серый сюртук ему удалось не сразу. Переодетые всадники кинулись на помощь осажденным и уже окружили карету.
Ла Виолетт и Сигэ поспели вовремя. Ла Виолетт расчищал себе дорогу своей страшной палицей, а Сигэ, махая саблей, прокладывал путь к серому сюртуку.
Катртайон, нагнувшись, проскользнул к тому, кого он считал императором, поднял нож и ударил им. Но между ним и его целью промелькнула какая-то тень… Однако лезвие ножа проникло во что-то оно попало в цель.
В ту же минуту Катртальон почувствовал, что и он ранен: страшный удар по голове оглушил его. По-видимому, череп был проломлен. Ну, что за дело, решил бандит, зато нож сослужил ему службу: он видел, как упала его жертва. Император убит, теперь он сам умрет довольным. Катртайон поднес руку к голове и рухнул на землю.
Толпа боязливо отступила. Кровь произвела на всех угнетающее впечатление: примолкли все крикуны.
Два человека лежали на земле: трактирщик Катртайон и всадник, размахивавший саблей над толпой.
Около генерала Бертрана, прислонившись к карете, с обнаженной шпагой в руке, стоял человек в сером сюртуке и в маленькой треуголке — тот, кого приняли за императора. Он был здрав и невредим, нож Катртальона поразил того, кто бросился между жертвой и убийцей. Сигэ заплатил своей жизнью за жизнь Жана Соважа.
Ла Виолетт нагнулся над Сигэ, стараясь расслышать биение его сердца, дышит ли он еще. Присмиревшая, ошеломленная толпа, уже почти сочувствующая теперь, увидела, как принятый ею за императора человек бросился к раненому, обнял его, дружески умоляя его ответить.
— Сигэ, старина Сигэ! Ты дал убить себя за меня! — восклицал Жан Соваж, со слезами на глазах сжимая горячими руками уже холодевшую руку гусара. Потом он обернулся к толпе, как бы призывая ее в свидетели или желая облегчить себя публичным признанием, и произнес: — А я был готов убить его! Я искал с ним встречи ради этого, я ревновал его, я был как сумасшедший! Бедный Сигэ, я виноват в твоей смерти, а своей жизнью я обязан тебе!
Сигэ открыл глаза и, узнав Соважа, слабым голосом проговорил:
— Люби сильнее ребенка… теперь он совсем твой…
Его глаза закрылись, рука, которую продолжал сжимать Жан Соваж, холодела, коченела. Ла Виолетт еще раз положил руку на сердце, потом поднялся, обнажил голову и печально сказал:
— Он умер. Император лишился храброго солдата. Эй, вы! — крикнул он затем, размахивая своей страшной дубинкой и обращаясь к собравшейся толпе: — Шляпы долой, и да здравствует император!
Крестьяне молча обнажили головы; ни одного протестующего крика, ни одного оскорбления не раздалось в ответ.
Когда Катртайона, бывшего без чувств, унесли в гостиницу и мало-помалу стало известным переодевание Жана Соважа, успокоенные крестьяне разошлись по домам. Осталось лишь несколько зевак, желавших разглядеть в окнах гостиницы настоящего Наполеона.
Между тем император, поблагодарив ла Виолетта и Жана Совало, объявил, что он позаботится о детях Сигэ, если они имеются; затем он стал совещаться с комиссарами о мерах безопасности, которые следовало предпринять.
Он казался очень озабоченным. Теперь он был уверен, что королевское правительство намерено скрыть или убить его ранее его отбытия на остров Эльба. Алиса и графиня открыли ему планы Мобрейля, составленные секретарем Талейрана.
Наполеон боялся, что в Э население устроит ему враждебные демонстрации, пожалуй, еще хуже тех, которых он так чудесно избежал. Он хотел даже вернуться в Лион и ехать в Италию другой дорогой.
Однако комиссары обещали ему тщательно охранять его особу и не отлучаться от него ни на шаг. Адъютант генерала Шувалова был послан в Э предупредить подпрефекта, чтобы тот приготовил охрану к прибытию императора.
Наполеон снял платье курьера и надел мундир генерала Голлера с орденом святой Терезии; на голову он надел фуражку, а шинель взял у генерала Шувалова.
Переодевшись таким образом, он попросил к себе графиню Валевскую и попрощался с нею.
Вся в слезах, графиня проговорила:
— Государь! Разве я больше не увижу вас? Вы никогда больше не поцелуете моего ребенка, вашего сына?!
Наполеон подумал немного и ответил:
— Я разрешаю вам, дорогая графиня, приехать ко мне на остров Эльба, но лишь при одном условии: чтобы там не было в то время императрицы, моей супруги.
Графиня ничего не ответила; в ее глазах блеснул луч надежды. Она была уверена, что императрица никогда не поедет на остров Эльба, а потому, значит, она могла надеяться снова увидеть Наполеона.
Несколько утешившись этим, Валевская смотрела, как уезжал тот, кого она думала было отбить у Марии Луизы, но кто и до сих пор еще был ослеплен любовью к ней.
Когда карета, уносившая Наполеона, исчезла в облаках пыли, графиня сказала Алисе, муж которой должен был следовать за Наполеоном:
— Отправимся в тот порт, где император сядет на корабль, ведь полковник Анрио там расстанется с ним.
Про себя же она подумала, что увидит еще раз Наполеона до отплытия его судна.
Обе женщины могли ехать только на следующий день, так как ла Виолетт и Жан Соваж, сопровождавшие их, должны были отдать последний долг бедному Сигое. Похороны этой жертвы провансальских роялистов состоялись в тот же день вечером, по приказу префектуры. Последней были известны все происшествие и убийство близ «Ла Калад», но она, по-видимому, ничуть не возмутилась ими. Тело несчастного солдата похоронили быстро, как предмет скандала, при свете двух факелов.
Зрелище было зловещее. Графиня и Алиса пожелали проводить усопшего. Дорогой они набрали букет диких цветов и положили его на могилу; они подобрали букет из красных, белых и синих цветов, так что могила солдата украсилась тремя национальными цветами.
Ла Виолетт подошел к могиле печальный и взволнованный и несколько угрожающим тоном обратился к умершему товарищу:
— Прощай, Сигэ! Мы вернемся вместе с императором и тогда отомстим за тебя этим канальям-роялистам.
Ла Виолетт сопроводил это обещание, такое точное, хотя и краткое, энергичным взмахом своей дубинки, а затем вернулся на дорогу, где его ждали обе дамы, утешая плакавшего Жана Соважа.
— Он дал убить себя ради меня, — твердил Жан рыдая, — а я хотел убить его сам!
Ла Виолетт шел медленно, печально размышляя о том, какая жалкая смерть в западне, на дороге, нож фанатика-роялиста ждали храброго Сигэ, столько раз бывшего в сражениях по всей Европе, когда он сопровождал маршала Лефевра.
IX
В большие, открытые настежь окна гостиницы «Королевский орел» на дороге в Инсбрук вливались волны смолистого, крепкого аромата ближнего леса; на веранду доносились аккорды рояля, сопровождавшие мелодичные звуки флейты, которые нарушали тишину чудного летнего вечера.
Обитатели гостиницы рассеялись по саду или сидели за партией фараона, пикета или виста в большом зале. Вся богатая гостиница дышала миром и тишиной дачного жилья.
В маленьком музыкальном зале, откуда неслись звуки рояля и флейты, были двое — мужчина и женщина.
Женщина, свежая и полная блондинка с голубыми глазами, выражавшими самую пылкую любовь, была красива, но несколько тяжелой, незначительной красотой. Иногда она прерывала аккорды, чтобы поднять голову и нежно, радостно улыбнуться склонившемуся к ней кавалеру.
Это был стройный, высокий мужчина с правильными чертами лица и корректными бакенбардами. Он был одет в оливковый сюртук с большими отворотами и пелериной, в узкие панталоны светло-серого сукна и высокие сапоги с кисточками, как носили в то время щеголеватые люди. Черная повязка, скрывавшая часть лица и кривой глаз, несколько портила впечатление от этого красивого господина.
Он прекрасно играл на флейте, слегка отбивая такт ногой, чтоб помочь музыкантше. Они разучивали мелодичный романс, и иногда флейтист показывал подруге особенно выразительный пассаж. Она с улыбкой повторяла его и продолжала свой аккомпанемент, шаловливо качая головой. Когда пьеса была окончена, она повернула табурет, посмотрела в лицо своему собеседнику и сказала:
— Адольф, ведь нехорошо, что мы взяли того ребенка.
Флейтист положил инструмент на рояль и сухо спросил:
— Вы так интересуетесь этим плодом супружеской измены?
— Нет, он противен мне, — быстро ответила женщина. — Я не могу простить его отцу… хотя для меня, собственно, тут не было измены.
— Нет, она была, — холодно сказал флейтист, — привязанность отца к этому мальчишке, длящаяся до сих пор, — оскорбление для вас. Правда, это прошлая измена, я знаю, но она все время повторяется и возобновляется привязанностью того, о ком вы против желания все время думаете, Мария!
— Опять эти упреки, Адольф! — с волнением сказала молодая женщина. — Ведь вы же знаете, что я ни о чем не сожалею, что я все забыла. Не хочу даже вспоминать этого человека, которого я не люблю и никогда не любила, который взял меня, как трудную, завидную добычу, тешившую его гордость больше, чем все остальные победы. Я люблю только вас, с вами я счастлива; я хочу жить и умереть около вас. Не заставляйте же меня вспоминать то, что я хочу забыть. Разве не счастливы мы здесь вдвоем, вдали от света, живя лишь для своей любви? Это уединение среди мирной, прекрасной природы чудесно. Вы напрасно привели ко мне этого ребенка и разбудили во мне воспоминания; я равнодушна к нему, он не вызывает во мне ни гнева, ни ревности. Вы напрасно допустили маркиза де Мобрейля вмешаться в дело; он — человек ненадежный, его дружба опасна.
— Зато его пылкую ненависть можно обратить в свою пользу. Ему не всегда удается исполнить то, за что он взялся, но он настойчив, и на него можно положиться.
Вошел слуга и почтительно доложил:
— Ужин подан! Ваши сиятельства, господин граф и графиня Гвасталла, вы изволите ужинать в зале или у себя в комнате?
— В зале, — сказал граф Гвасталла. — Нас здесь не знают, — обратился он к своей даме, — нас развлечет ужин посреди оживленной болтовни и шума.
Он подал руку подруге, и оба прошли в столовую, блистательно освещенную, убранную цветами, где собрались все обитатели гостиницы «Королевский орел», и сели за небольшой круглый стол, стоявший в углублении окна, вдали от нескромных взглядов и любопытных ушей.
Эта парочка записалась под именем графа и графини Гвасталла неделю тому назад в книге гостиницы и сообщила, что рассчитывает пробыть там с полмесяца. Скромные манеры этих двух путешественников возбудили мало любопытства. Видя, как этот господин в черной повязке и его молодая спутница оказывают друг другу самое нежное внимание, пожимают руки, гуляют под дубами аллей, пользуясь поворотами дорожек и тенью деревьев, чтобы поцеловаться или нежно обнять друг друга, их принимали за новобрачных. Впрочем, праздные и злые языки предполагали, что, может быть, эта пара и не была обвенчана. Делались предположения о бегстве, о похищении, просто о какой-нибудь интриге, для которой было нужно уединение тирольских лесов; эти толки оживляли послеобеденные разговоры. Двое слуг, сопровождавших путешественников, не опровергали такие предположения.
Несколько дней спустя после приезда предполагаемых «молодых» посетила какая-то мрачная фигура, похожая на военного, одетого в штатское платье. Из почтовой коляски вместе с этим человеком вышел мальчик лет шести-семи и был передан молодой чете. Потом незнакомец с грубыми манерами и суровым лицом снова сел в экипаж и отправился по дороге в Вену, оставив ребенка в гостинице. Общее любопытство возросло до последней степени. Очевидно, это не были «молодые», справлявшие медовый месяц в горах Тироля; значит, дело шло не о тайном убежище влюбленных, не о бегстве пылкой парочки, даже не о простой интриге богатых венцев, искавших в этом укромном уголке свободу и безопасность. Присутствие ребенка прекращало все толки. Господин, приехавший и уехавший в почтовой коляске, был, должно быть, какой-нибудь строгий наставник, какой-нибудь гувернер. Очевидно, родители, поселившись в гостинице «Королевский орел», захотели взять ребенка к себе. Это было так просто и так неинтересно! Наиболее любопытные должны были сознаться, что это — обыкновенное курортное событие. Хотя мать казалась молодой, но ее мужу на вид было лет сорок; мальчику было лет шесть. Значит, это были люди, женатые давно.
Все пересуды прекратились: граф и графиня Гвасталла могли, не стесняясь непрошенного любопытства или злых сплетен, продолжать восхитительные прогулки под деревьями, поездки в горы, где при каждой остановке они обменивались поцелуями, и свои музыкальные дуэты на флейте и рояле по вечерам, перед ужином. В неизвестности и полной безопасности они могли спокойно наслаждаться всей прелестью этого очаровательного горного уединения.
Но, несмотря на успокоение, внесенное в жизнь появлением ребенка, эти влюбленные, казалось, были не уверены в завтрашнем дне; они как будто боялись будущего. Они наслаждались дивным, прекрасным настоящим с тревогой в сердце и беспокойством во взоре. Они, казалось, вкушали все блаженство рая, но постоянно сознавали близкое присутствие ада, готового поглотить их. В каждом взгляде, которым они обменивались, как будто просвечивал страх, что они не успеют достаточно налюбоваться друг другом. Они дрожали при каждом расставании, а находясь, как казалось для всех, на высоте счастья, словно все время опасались за его хрупкость и непрочность.
Граф и графиня Гвасталла не обращали никакого внимания на посетителей гостиницы, евших, пивших и болтавших вокруг них и не замечавших их нежного обращения друг с другом. Не так было с мужчиной и женщиной, которые приехали в гостиницу в тот же день и теперь заняли места за столиком позади графской четы, так что могли все видеть и слышать. Эти новоприбывшие не спускали взора с графа и графини Гвасталла и напрягали слух, стараясь уловить малоинтересную болтовню, срывавшуюся с их уст, горевших желанием поцелуя. Иногда мужчина за столиком склонялся к своей спутнице и говорил ей несколько слов, не прекращая наблюдений. Говорили они по-французски.
Женщина была стройная блондинка, красота которой бросилась в глаза еще при ее входе в зал. Ее спутник был очень высокого роста. В длинном сюртуке, с жесткими усами и длинной бородкой, он тоже произвел некоторое впечатление на обитателей гостиницы «Королевский орел» Всех удивила и даже вызвала иронические усмешки его громадная палка, похожая на дубину, которую он прислонил к спинке стула, как будто и за столом не желая расставаться со своим орудием защиты, готовый схватить его при первой тревоге.
Граф и графиня Гвасталла не заметили появления этих новых лиц, но граф инстинктивно обернулся, почувствовав подозрительный, следящий за ним взгляд. В это время человек с палицей обратился к своей спутнице:
— Нет, графиня, о ребенке они еще ничего не говорили.
Однако он сразу замолк и сделал знак молчать подруге, заметив, что граф Гвасталла смотрит на них.
Последний невольно вздрогнул. Ему показалось, что он где-то видел этого молодца с большими усами и выдающимися челюстями костлявого лица. Он не уловил смысла произнесенных слов, но расслышал, что эти загадочные соседи говорят по-французски.
— Напрасно мы не велели подать ужин у себя, Мари, — сказал он вполголоса.
— Почему? Разве что-нибудь мешает нам здесь? Ведь вы сами сказали, что, проведя это время за столом, среди публики, мы почувствуем себя еще приятнее вместе. Вы знаете, я делаю только то, чего вы хотите. Не надо было звать меня сюда. Разве вы заметили что-нибудь опасное?
— Здесь есть французы, за соседним столом.
— Что ж, какое мне дело до французов? Я, слава Богу, больше не француженка и никогда не хотела бы стать ею вновь. Вы это хорошо знаете, злой! — сказала она с упреком.
Граф взял руку своей дамы и, поднеся ее к губам, сказал:
— Простите, Мари, но вы не знаете, сколько у нас врагов! Вам никогда не простят, что вы позволили себе искать счастья с таким простым солдатом, как я. Наше блаженство возбуждает зависть и ненависть. В этой блондинке и ее спутнике я чувствую опасных врагов. Поверьте мне, что нам лучше выйти из-за стола, а также отказаться от вечерней прогулки в лесу.
— Зачем это? Я готова уйти из-за стола, если вас беспокоит это соседство, но лесом, моим дорогим лесом, я не согласна пожертвовать.
— Это неосторожно! Я боюсь за вас, Мари! Во Франции много фанатиков, которые не прощают нас. Видя вас здесь со мною, они легко могут оскорбить вас, чтобы отомстить… вы знаете за кого… Инкогнито может быть открыто. Эти наши соседи смотрят на вас очень странно, почти враждебно. Должно быть, они узнали вас. Этого достаточно, чтобы принять предосторожности. Мари, послушайтесь меня! — нежно прибавил граф.
— Я слушаюсь вас всегда, но не сегодня вечером. Воздух так хорош, так душист горный ветерок! Смотрите, какая спокойная и светлая луна встает над лесом! Она точно манит идти гулять.
Графиня встала. Несколько успокоенный, но все еще недовольный, граф последовал за нею. Проходя мимо людей, возбуждавших его подозрения, он окинул их недоверчивым взглядом и пробормотал:
— Положительно я где-то видел этого верзилу, но где?
Через четверть часа граф и графиня, тесно прижавшись друг к другу, пошли по направлению к лесу. Графиня, прильнув к своему спутнику, смеялась над его тревогой.
— Мне никогда еще так, как сегодня, не хотелось блуждать под деревьями, — сказала она, — и я никогда не простила бы вам, если бы вы лишили меня этого вечера.
Двое путешественников, язык и манеры которых так смутили графа Гвасталла, также поторопились уйти из зала. Они последовали за первой парой до густых деревьев аллеи, пошли за нею до опушки леса, точно ожидая какой-нибудь случайности, благоприятных обстоятельств.
Выпрямившись и описав два-три круга дубинкой в воздухе, мужчина сказал спутнице, указывая на графа и графиню, которые виднелись вдали, под темною листвою, едва видным, смутным пятном:
— Надо действовать, графиня; лес предоставляет в наше распоряжение на некоторое время ее величество Марию Луизу, императрицу Франции, и сообщника ее измены, того, для кого она бросила трон, ребенка и супруга. Этот Нейпперг теперь в нашей власти и сделает то, что мы от него потребуем… Мужайтесь, графиня! Австрийцы уже похитили наследника императора Наполеона, не надо оставлять у них заложником вашего ребенка, тоже сына нашего императора, род которого они так же жаждут истребить как и само воспоминание о нем. Как будто это возможно!..
— Я полагаюсь на вас, ла Виолетт, — сказала блондинка, графиня Валевская.
— Хорошо, предоставьте мне действовать, — согласился тот. — Сговоримся же хорошенько. Если вы увидите меня там, в конце аллеи, и при лунном свете разглядите, что я держу свою палку вверх, неподвижно, значит, наши дела плохи. Тогда вы возвращайтесь скорее обратно, в конюшню, где ждет нас заранее приготовленный экипаж, и быстро уезжайте в свое убежище в Инсбруке.
— А что будет с вами, ла Виолетт? Я не могу бросить вас здесь, подвергнуть опасностям из-за меня и сына.
— Не заботьтесь обо мне, графиня, я люблю опасные случайности, это волнует кровь, и я говорю себе: «Браво, малый, ты не такой трус, как бывал прежде! Еще немного — и ты будешь не хуже людей».
— Ла Виолетт, вы просто герой, я это знаю, да и император подтвердил мне это.
— Да, это со времени дела при Вене. Император был тогда в хорошем настроении, и я воспользовался им — вот и все.
— Император скоро убедится, что вы остались верным и преданным ему человеком, когда все его более знатные и блестящие товарищи покинули его. Теперь, ла Виолетт, вы моя единственная опора, защитник сына императора. Ваша жизнь драгоценна, будьте осторожны.
— Не беспокойтесь, я верю в свою звезду, — Ла Виолетт поднял свою дубинку и прибавил: — Вот в эту!
— Если вам удастся дело, где я найду вас? — спросила графиня.
— Я приду сюда, в эту аллею; вы увидите, как я буду вертеть свою палку. Тогда вы идите ко мне навстречу и я расскажу вам, как обстоит дело. Теперь же вам надо быть настороже, а я отправлюсь на разведку. Теперь, должно быть, пора: те, кого мы хотим окружить, должно быть, уже возвращаются… Надо отрезать им отступление.
Ла Виолетт пошел широкими шагами, сделав графине успокоительный жест. Он углубился в лес и скоро скрылся.
Одной, в темной аллее, примыкающей к лесу, графине Валевской стало страшно. Нервное возбуждение, придававшее ей силы, разом упало. Она опустилась на скамью и ждала с тревожно бьющимся сердцем, устремив взгляд в темноту леса.
В ее памяти проносились все события, приведшие ее из гостиницы «Ла Калад» в Провансе, сюда, в это лесистое тирольское местечко, и возбуждали в душе новые тревоги.
После похорон Сигэ графиня с Алисой в сопровождении Жана Соважа и ла Виолетта отправились в порт Фрежюс, где должен был сесть на корабль Наполеон.
Императору были предоставлены в распоряжение два судна: английский фрегат «Неукротимый» и французский бриг «Непостоянный». Наполеон мог выбирать. Он предпочел английский фрегат, где его встретили как государя. При встрече ему был отдан салют из двадцати одного пушечного выстрела и притом в виде исключения, после заката.
Наполеон чрезвычайно дорожил тем, чтобы с ним обращались как с государем при его первых шагах вне Франции. Он желал этих царских почестей не из пустого тщеславия: он уже довольно испытал их в жизни. Но после оскорблений, полученных им в Провансе, этот церемониал снова как бы возвращал ему его высокое звание. Он хотел Доказать Франции и Европе, что он все еще монарх, хотя бы только острова Эльба, но монарх, признаваемый даже враждебной Англией. Значение, придаваемое им этим публичным почестям, было так велико, что, издав приказ не стрелять из пушек после заката солнца, он решил сесть на корабль только на другой день, чтобы не лишить себя салюта, установленного для государей. Иностранные комиссары расстались с Наполеоном во Фрежюсе, кроме английского, Нейла Кэмпбела, который должен был сопровождать его на остров Эльба.
Утром 29 апреля 1814 года «Неукротимый» распустил паруса.
Переезд был долгим. Второго мая, в семь часов утра, еще не видно было даже берега Корсики.
Император поднялся на мостик и приветствовал родную землю, которую ему предстояло увидеть еще раз издали, с борта судна, но ступить на которую ему было больше не суждено.
Он высадился 4 мая в Портоферрайо при салюте из ста пушечных выстрелов.
Графиня Валевская стояла на берегу порта Сен-Рафаэль при отъезде Наполеона… Она тихо плакала и, стараясь скрыть свое горе, шептала:
— Увижу ли я его еще раз?! Он позволил приехать к нему на остров Эльба. Когда мне сделать эту тяжелую, безнадежную попытку?
Алиса утешала ее как умела. Она сама сильно грустила, расставаясь с Анрио, сопровождавшим императора.
Мало-помалу английский фрегат стал казаться на горизонте не больше чайки с распростертыми крыльями, наполовину погрузившейся в воду.
Надо было подумать о возвращении в Париж. Алиса могла присоединиться к своему мужу только гораздо позже, графиня торопилась увидеть сына, поэтому отъезд прошел быстро.
До прибытия в Париж графиня хотела заехать в Торси, взять сына, оставшегося с женой Жана Соважа, который также был в восторге, что скоро увидит свое поле, свой домик, Огюстину и малютку Поля. Он рассчитывал обнять мать и своего ребенка, а затем немедленно отправиться в замок Комбо за Жаком — теперь за своим Жаком. Жан оплакивал смерть Сигэ, убитого вместо него, поклялся отмстить за него разбойникам-роялистам, но не мог заглушить в глубине души эгоистическое чувство радости быть отцом этого ребенка в глазах всех: своей жены, соседей, даже самого мальчика. Он мог теперь без угрызений совести любить, лелеять и воспитывать ребенка, который по закону принадлежал умершему и которого ему по своей привязанности и в силу привычки так трудно было уступить Сигэ.
Так как Алисе незачем было особенно спешить в Париж, то Валевская упросила ее ехать вместе в Торси.
Ла Виолетт, не хотевший оставить Алису, которую настоятельно поручила его попечениям герцогиня Лефевр, отправился с ними. Добрейший тамбурмажор не сразу решился сопровождать обеих дам. Генерал Бертран, чтобы отблагодарить его за помощь, принесенную им в Оргоне и Сен-Кана, предложил ему сопровождать императора на остров Эльба. Сначала обрадованный, ла Виолетт согласился, но потом раздумал. Удивленный генерал спросил у него причину отказа от такого почетного, завидного предложения. Ла Виолетт не знал, что ответить, но его вывел из затруднения сам император. Услышав их разговор, он со свойственной ему живостью спросил тамбурмажора:
— Как? Ты не хочешь ехать со мной на остров?
— Государь, — пробормотал ла Виолетт, — я думаю, что не останетесь же вы всегда на своем острове и что здесь должны оставаться друзья, чтобы встретить вас, когда вы вернетесь.
Наполеон задумался. Этот ответ верного служаки так согласовался с его тайными чувствами, что не огорчил его.
— Может быть, ты прав, Виолетт! Оставайся во Франции. Мне нужно, чтобы здесь не забывали меня. Ты заставляешь меня пожалеть французов, таких неблагодарных и забывчивых… Прощай, мой старый солдат!
Император быстро отвернулся, чтобы скрыть волнение или чтобы не показать, как упорно думал он о возможном возвращении, отправляясь на остров Эльба.
Ла Виолетт же думал, что, оставаясь во Франции, он будет гораздо полезнее императору, герцогине, Анрио, всем, кого он любил, чем разделяя изгнание Наполеона.
В особенности беспокоил его маркиз де Мобрейль. На дорогах Прованса тот не появлялся; значит, он коварно затевал какую-нибудь новую гнусность. Отказавшись убить императора, он, конечно, занялся другими преступными замыслами.
Ла Виолетт дал себе слово не покидать графиню и Алису, пока будет жив Мобрейль, всегда угрожавший им.
Тамбурмажор кипел гневом при мысли об убитом Сигэ и оскорбленном императоре, о трехцветном знамени, спрятанном как предмет позора, о белой кокарде, красовавшейся на шляпах убийц и изменников. Поверенная всех его печалей и радостей, желаний и мыслей — его любимая дубинка описывала в такие минуты яростные круги в воздухе, спугивая птиц и держа на почтительном расстоянии людей.
В Торси приехали вечером. Жан Соваж подбежал к двери своего дома, которая была заперта. Он постучал, несколько обеспокоенный. Его жена, открыла, вся в слезах.
— Ребенок здесь? — крикнул испуганный, дрожащий Жан.
— Оба ребенка здесь, — ответила Огюстина.
— Ах, я дышу свободнее! Ты испугала меня своим печальным и смущенным видом. Знаешь, Сигэ умер.
— Я знаю это.
— А! Так вот, мы возьмем маленького Жака из замка Комбо; ты будешь очень рада этому, не правда ли?
— Жакино здесь, — ответила Огюстина. — Герцогиня прислала его сюда с одним из своих слуг, который и сказал мне про смерть Сигэ. Ты не понял, когда я сказала тебе, что оба ребенка здесь.
— Я думал, что ты говоришь о нашем маленьком Поле и о ребенке графини, которая приехала со мной. Теперь опасность прошла и она может взять его обратно.
Огюстина сделала жест отчаяния и печально сказала:
— Ребенка здесь больше нет.
Жан Соваж был ошеломлен этими словами. В порыве гнева он поднял руку, чтобы ударить жену, и закричал:
— Несчастная, ты должна была беречь доверенного тебе ребенка больше, чем своего собственного! Говори, как это случилось? Что я скажу теперь графине, матери, радостно ждавшей свидания со своим сыном, когда она увидит только тебя, плачущую у его пустой кроватки? Ну, живо! Слышишь стук колес кареты по дороге? Я опередил графиню, чтобы поскорее обнять тебя. Говори, поторопись! Понимаешь ли ты, что мать потребует у тебя своего ребенка?
Опустившись на табурет, со вздохами и слезами Огюстина рассказала мужу, как у нее похитили дитя графини.
Однажды у ее дверей появился весь раззолоченный курьер. Он объяснил, что служит у герцога Данцигского прибыл из замка Комбо. Он привез с собой, по приказу герцогини, маленького мальчика Жака, сына Сигэ. Когда Огюстина, горячо обняв своего ребенка, стала расспрашивать курьера, почему ей привезли Жака, этот человек сказал ей о смерти Сигэ в Провансе. Герцогиня Лефевр сейчас же приказала, чтобы мальчик, по желанию отца живший в замке Комбо, был отдан матери. Герцогиня узнала от Алисы о приключениях императора в пути, о смерти Сигэ, о самопожертвовании Жана Соважа и его любви к ребенку, помещенному в замке Комбо. Чтобы вознаградить Соважа и сделать ему приятный сюрприз, Алиса попросила герцогиню отослать мальчика к нему. Герцогиня поторопилась отправить с верным человеком ребенка на ферму Торси. Счастливая тем, что она увидела своего малютку, Огюстина приняла курьера как можно лучше. Тот увидел дитя графини и спросил, откуда оно. Огюстина ответила ему уклончиво, но, оставшись один с детьми до своего отъезда, слуга из любопытства стал расспрашивать их; оба мальчугана с детской наивностью разболтали ему столько, что он понял, что на ферме Торси скрывается таинственный ребенок, по имени Александр-Наполеон, сын графини и какого-то важного лица. Вернувшись в замок Комбо, болтливый слуга рассказал в лакейской и конюшнях о том, что он видел и слышал в Торси. Как раз в это время в окрестностях замка бродил какой-то человек, довольно загадочного вида, который назвал себя слугам замка секретарем маркиза Мобрейля, по имени Дасси. Этот на все способный человек был нанят Мобрейлем помогать ему в темном деле; ему было поручено следить за замком Комбо.
Обманутый Алисой, Мобрейль отказался следовать за Наполеоном по дороге через Прованс. Крушение его плана, основанного на похищении ребенка графини, что дало бы ему возможность свободно приблизиться к Наполеону, заставило изменить свой первый проект. К тому же он был опасен даже в случае успеха; пожалуй, вместо награды можно было получить презрение и даже наказание. Ведь Бурбоны были бы, конечно, очень рады отделаться от Наполеона смелым ударом кинжала, но очень возможно, что они не постеснялись бы отказаться от того, кто нанес его.
Поэтому Мобрейль теперь устранился, но, не имея никакого состояния, не зная никакого ремесла и будучи очень мало расположен к честной деятельности, разработал другой план. Он изучил политическое положение дел, в особенности относительно всего того, что касалось непрочности положения наследника Наполеона.
Если император скончается, то, возможно, что его сын, Римский король, даст законным государям веские основания для беспокойства. Без сомнения, австрийский двор будет держать в прочной клетке царственную птичку и не выпустит ее из своих рук.
Но наследник императорского венца может стать добычей смерти так же, как и его отец. Весьма возможно, что великие политики обоих дворов примут свои меры, чтобы при помощи яда или других каких-либо преступных средств вскоре пресечь мужское потомство Наполеона. А в таком случае всякий наследник, даже и незаконный, побочный, является очень важным препятствием, даже опасностью. Если бы сын графини Валевской оказался в руках его, Мобрейля, то он с большой выгодой мог бы воспользоваться им в качестве заложника как по отношению к Бурбонам, так и к австрийскому двору.
Того, что Мобрейлю не удалось сделать в Провансе о ребенком, которого Алиса должна была передать ему, он рассчитывал добиться в Вене. В Шенбруннском дворце, который должен был стать тюрьмой Римскому королю, будет очень удобно свернуть шею наполеоновскому внебрачному сыну. В настоящее время все были озабочены тем, чтобы окончательно порвать узы, которые все еще связывали императрицу Марию Луизу с ее супругом. Существование этого плода преступной любви, способного стать соперником Римскому королю, заставило бы Марию Луизу окончательно порвать с Наполеоном.
Поэтому Мобрейль решил отправиться на поиски этого ребенка. Он предполагал, что его спрятали где-нибудь в Комбо, и через своего агента Дасси узнал, что в замке действительно был какой-то ребенок, которого внезапно увезли оттуда по приказанию герцогини Данцигской.
Вскоре Мобрейль узнал о возвращении слуги, который увез Жака, сына Сигэ и Огюстины. Этот лакей сейчас же рассказал Мобрейлю все, что заметил и узнал в Торси.
Мобрейль сразу приступил к делу. Он явился на ферму и категорически потребовал ребенка, заявив, что действует от имени и по поручению матери. Огюстина не осмелилась отказать. Мобрейль взял ребенка и исчез. Но куда увез он его? Вероятно, в Париж.
Жан Соваж объявил графине о похищении ее ребенка, прибавив, что предлагает ей свои услуги, чтобы броситься по следам Мобрейля и постараться отобрать у него похищенного им мальчика. Графиня разразилась бурными рыданиями, затем она стала умолять Соважа сейчас же броситься на поиски. Но куда, в какую сторону двинуться прежде всего? Огюстина не могла ничего сказать об этом.
Ла Виолетт, уныло опустив свою дубинку, старался разрешить эту задачу, но не мог. И он должен был признаться, что совершенно немыслимо наверняка определить дорогу, по которой скорее всего можно будет догнать похитителя.
По счастью, к ним на помощь пришла Алиса. Она знала одного из лакеев Мобрейля и обратилась к нему. Узнав Алису и предположив, что она явилась ради свидания с его барином, лакей и не подумал даже делать секрет из местонахождения маркиза; он рассказал, что Мобрейль отправился в Тироль вместе с маленьким мальчиком, которого он, по его словам, собирался отвезти к его родителям в гостиницу «Королевский орел» около Инсбрука.
Такое точное указание давало возможность отыскать если не Мобрейля, то хоть ребенка. Поэтому графиня, решив тотчас же отправиться в путь, уговорила ла Виолетта сопровождать ее в путешествии, чтобы добром или силой отнять в этой тирольской гостинице похищенного ребенка.
Таким-то образом случилось, что двое путешественников, обеспокоивших Марию Луизу и Нейпперга, поселившись в гостинице «Королевский орел», оказались в аллее, которая вела в лесок.
Ла Виолетт оставил графиню одну, погруженной в мучительные воспоминания и спрашивающей себя, положит ли этот вечер конец ее беспокойству, ее волнению, ее лихорадочным скитаниям с места на место. Вот уже два месяца, как она, можно сказать, не жила. После всех перипетий путешествия в Провансаль ее ждало исчезновение ребенка. Это была какая-то цепь катастроф, способная свести с ума.
Поджидая ла Виолетта, она думала про себя, что если старый тамбурмажор, обещавший вернуть ей ее сына, обманется в своих надеждах, если и эта попытка не удастся ему, так что он окажется не в состоянии сдержать свое обещание, то для нее будет бесполезно далее страдать, бороться, надеяться. Жизнь обманула все ее обещания. Если она не найдет сына, которого Мобрейль отдал в руки Нейпперга, чтобы тот сделал из него оружие против Наполеона и средство предотвратить возобновление сношений Марии Луизы с ее супругом, то жизнь потеряет для нее всякую цену. И в эти ужасные полчаса ожидания графиня поклялась, что в этом случае она не останется в живых. Теперь вопрос жизни или смерти зависел от того сигнала, который ла Виолетт подаст ей своей палкой.
Дрожа, Валевская ждала у входа в аллею, где исчез тамбурмажор. Вдруг она вскрикнула и схватилась рукой за грудь, чтобы сдержать безумное биение сердца, разрывавшегося от волнения. В конце аллеи, озаряемой бледными лучами луны, показался высокий и тонкий силуэт старого ворчуна, палка которого, словно птица с гигантскими крыльями, описывала в лунном свете бурные фантастические кривые, Ла Виолетт торжествовал…
— Победа!.. Победа!.. — кричал он, в несколько больших прыжков подбегая к графине.
— Что сказали вам? Где мой сын? — поспешила спросить Валевская, снова воспрянув духом.
— Он в гостинице… вам отдадут его.
— Так поскорее бежим! — сказала графиня, хватая ла Виолетта за руку, с намерением увлечь его за собой.
Старый солдат глухо вскрикнул, а затем выругался.
— Что с вами, друг мой? Я причинила вам боль? — сказала графиня, изумленная этим болезненным криком. — С вами что-нибудь случилось? Как вы побледнели! Вы ранены?
— О, пустяки! Немножко! — с презрением сказал ла Виолетт. — Это маленькая любезность господина Нейпперга.
— Он стрелял в вас?
— Да. Он вспомнил о Вене, узнал меня. Когда я попросил его отодвинуться в сторону, сказав, что мне надо поговорить с ее величеством императрицей, то он вытащил пистолет и выстрелил в меня. Но я видел, что он достает оружие, а у меня была моя палка, так что наши силы были равны.
— Но вы не успели встать в оборонительное положение?
— О, времени было достаточно! Стоило только сделать шаг к нему навстречу, один удар палкой — и пистолет вывалился бы, а державшая его рука была бы парализована и не могла бы взяться за оружие. Но вы понимаете, что я не мог первый нанести ему удар!
— Почему? Раз Нейпперг хотел вас убить.
— Я не могу ударить барона Нейпперга в присутствии ее величества императрицы Марии Луизы, — твердо сказал ла Виолетт. — Поэтому я дал ему спокойно выстрелить в меня и только потом нанес ему удар — о, самый необходимый, только чтобы заставить его выронить второй пистолет, который он достал, чтобы еще раз выстрелить в меня. Барон попал мне в левую руку, но я все-таки мог маневрировать своей тростью. К тому же пуля просто скользнула по коже, а это — пустяки, уверяю вас! Ну, пойдемте за вашим ребенком!
По чрезвычайной деликатности ла Виолетт не решился ударить Нейпперга в присутствии Марии Луизы, которая в его глазах все еще оставалась императрицей, женой его императора. Но, выдержав выстрел Нейпперга и не моргнув и глазом под огнем, он потребовал, чтобы ему отдали ребенка графини. Он прибавил, что если императрица, к которой он относится с прежним неизменным уважением, не прикажет сейчас же отдать ему ребенка, то он подымет такой скандал, шум которого из гостиницы «Королевский орел» дойдет до Вены, до Парижа, до острова Эльба.
Нейпперг напрасно старался вмешаться в это дело и советовал Марии Луизе прогнать этого нахала, который явился, чтобы диктовать ей свою волю. Ла Виолетт настойчиво повторял свое требование.
В качестве искусного дипломата он дал понять Марии Луизе, что общественное мнение неизбежно будет против нее, если станет известно, что она без всякого права на его захватила ребенка графини; кроме того, скандал, который поднимется из-за этого, привлечет всеобщее внимание к ее пребыванию в гостинице «Королевский орел», и ей придется пожинать печальные последствия открытия ее секрета, который никто не должен знать.
Весомость этих слов поразила Марию Луизу. Разумеется, присутствие Нейпперга она могла бы оправдать той любовью, с которой до сих пор Наполеон относился к графине Валевской и ее сыну; она могла бы ответить, что только отплатила мужу изменой за измену. Но Наполеон мог бы в этом случае возразить, что со времени его женитьбы на Марии Луизе среди всех опасностей и бедствий путешествия в Провансе они встретились просто как старые знакомые и что если он и заботился об этом ребенке, то потому, что это был в конце концов его сын, а следовательно он только исполнял свой нравственный долг, за что никто не мог бы обвинить его. Само собой разумеется, австрийский двор пожелал бы удержать этого ребенка в качестве своего рода заложника, но в данный момент они с Нейппергом проводили такие счастливые часы в своем тирольском уединении, какие, быть может, более никогда не повторятся. Это было самое важное для Марии Луизы; она отдала бы всех побочных сыновей Наполеона за возможность провести без помехи лишний часочек в обществе Нейпперга. Поэтому, несмотря на взбешенные и злые взгляды любовника, она ответила ла Виолетту:
— Можете взять ребенка. Через час я буду в гостинице и дам соответствующие распоряжения.
Ла Виолетт почтительно поклонился ей и поторопился поскорее принести добрую весь графине, счастливый, что рана позволяет ему вертеть палкой, движения которой, как известно, у него служили комментариями всех душевных движений, чувств и мыслей.
Счастье графини было безгранично, когда она вновь получила своего ребенка; она не могла наглядеться на него и, опасаясь лишиться его опять, готова была тотчас же двинуться в путь. Однако рана, полученная ла Виолеттом, разболелась; надо было перевязывать ее, а это заставило графиню Валевскую остаться в гостинице «Королевский орел» до следующего дня; лишь тогда она уехала вместе с ребенком и славным тамбурмажором.
X
На острове Эльба Наполеон старался в своем лице воскресить старинное предание о короле Ивето. Этот повелитель острова, простиравшегося на несколько лье, коронованный поражением, вел жизнь добродушного легендарного монарха, отца своих подданных, довольного своей участью.
До сих пор остается совершенно неизвестным, играл ли Наполеон во время пребывания на острове Эльба комедию. Многие уверяют, будто все это примирение с выпавшей на его долю судьбой, его равнодушие к европейским событиям, его заботы об улучшении жизни новых подданных и о благоустройстве острова, его труды по проведению новых дорог и возведению новых зданий были только искусным маневром терпеливого, скрытного человека, решившего во что бы то ни стало обмануть бдительность английских комиссаров. Но другие с уверенностью утверждают, что, наоборот, пленник Портоферайо, главного города острова, примирился со своим изгнанием, что на первых порах ему очень понравилось это островное государство и что он стал думать о бегстве и новой попытке воцарения во Франции только под давлением обстоятельств и под влиянием его верных, смелых, нетерпеливых сторонников.
Так или иначе, но можно считать вполне достоверным, что на первых порах Наполеон казался очень довольным своей участью, и можно смело утверждать, что в то время он был вполне искренним.
Ведь остров Эльба был для него местом отдохновения, покоя. Он имел полное право чувствовать себя крайне утомленным после всех потрясений и страшной борьбы последних лет, за которыми последовало ужасное путешествие среди экзальтированных провансальцев. Все его существо, напрягавшееся в столь продолжительных сверхчеловеческих усилиях, требовало хоть краткого отдыха. Пребывание на этом острове было для него своего рода каникулами, тем более что как ни печален был пейзаж Эльбы, но он напоминал ему почти забытую родину.
Действительно, остров Эльба очень похож на Корсику. Он составляет часть Средиземноморского архипелага. Хотя этот островок весь испещрен горами вулканического происхождения, хотя на нем чувствуется сильный недостаток воды, пополняемый редкими и жалкими источниками, но там имеются красивые города и сочные, свежие долины.
Деревенский домик, в котором помещался Наполеон, был расположен в долине Сан-Мартино, откуда виднеются море, бухта Портоферайо и дальние горы. В самом городе Портоферайо Наполеон занимал помещение, называвшееся дворцом, но представлявшее простую виллу.
Островом от имени Наполеона овладели третьего мая генерал Друо, полковник Кэмпбел, граф Кламм и лейтенант Гэрлингс. Генерал Далэм, командовавший там от имени Бурбонов, сдал остров Наполеону. В то же время генерал приказал вместо белого знамени вывесить знамя повелителей острова Эльба, представлявшее собой голубое поле, пересеченное красной лентой, усеянной золотыми пчелками.
Наполеон сошел на остров при грохоте пушек. Когда он ступил на набережную, то муниципалитет поднес ему ключи города. Под балдахином он проследовал прямо в собор. Там ему пропели «Тебя, Бога, хвалим». Затем в городской ратуше, где для него установили королевский трон, члены муниципального совета обратились к нему с приветственными речами. Весь остров оглашался криками радости.
Первые дни пребывания на острове Наполеон посвятил осмотру своих скромных владений. Первые его посещения были сделаны в форты и продовольственные магазины. Он начал с того, что занялся приведением острова в оборонительное состояние. Под предлогом отражения возможных атак со стороны берберийцев он вооружил батареи и занялся укреплениями.
Жизнь Наполеона в Портоферайо и в Сан-Мартино текла спокойно, регулярно, правильно. Все его усилия с самого начала были направлены на защиту острова. Он имел основание бояться, что в один прекрасный день союзники могут решиться принять против него чрезвычайные меры. Он знал, что проекты подлого убийства всегда найдут доброжелательное внимание у Талейрана и других советников Бурбонов, и ему не хотелось оставаться в зависимости от случайно мелькнувшего у его врагов желания убить его или перевести куда-нибудь в другое место.
Укрывшись на Эльбе, он мог быть спокойным, что намерение врагов как-нибудь в темную ночь тайно захватить его, чтобы перевести на более отдаленный остров, рухнет, тем более что во всех портах острова он учредил очень строгую полицию. Теперь всякая попытка захвата потребовала бы значительной силы, военной экспедиции.
Но не одни только заботы о личной безопасности тревожили Наполеона. Ему приходилось думать также о личных расходах и в особенности — о содержании войск. У него было около полутора тысяч солдат вместе с национальной гвардией острова; он экипировал и вооружил всех их за свой счет, а содержание этого войска требовало почти миллиона франков годового расхода. Из Франции он вывез всего каких-нибудь три миллиона из своих сбережений; считая, что доходов острова, составлявших около четырехсот тысяч франков в год, хватает только на чисто местные необходимые расходы, он видел, что его личное содержание, содержание солдат, чинов дорожного ведомства, островной полиции придется оплачивать из собственных скромных средств.
Ввиду того, что пенсия в пять миллионов франков, которая была назначена ему, согласно договору с союзниками в Париже, не выплачивалась, да и, по всей вероятности, не была бы выплачена никогда, ему пришлось бы либо прибегать к сбору чрезвычайных налогов, либо отказаться от существования в качестве государя и зажить частным лицом.
Однако отослать во Францию эту полуторатысячную армию храбрецов казалось ему слишком опасным. Ведь это значило не только унизиться в глазах всей Европы, но и обречь себя, совершенно беззащитного, на мщение членов коалиции.
Бурбонское правительство поручило управление Корсикой генералу Брюлару, личному врагу Наполеона. Этот генерал нисколько не скрывал своего намерения взять в плен Наполеона, как только тот лишится своей маленькой армии вследствие дезертирства или недостатка денег на жалованье.
Немногим более чем на два года Наполеон мог рассчитывать на свои средства. Но далее?
Он учел все эти финансовые затруднения, и все более и более в его голове стала утверждаться мысль, что необходимо бежать с острова и попытаться вернуться во Францию. Здесь, на этом острове Эльба, его загоняли в тупик. Ему приходилось либо зажить частной жизнью, без солдат и без престижа, либо бежать отсюда по морю, взяв с собой своих испытанных храбрецов, судьба которых была тесно связана с его судьбой. Поэтому можно предположить, что уже с первых недель своего пребывания на острове Наполеон решил при удобном случае попытаться вернуться во Францию. Но пока все еще было слишком смутно, неопределенно. Надо было ждать благоприятных обстоятельств.
Наполеон отлично отдавал себе отчет, насколько быстро росла непопулярность Бурбонов. Неосторожные обещания и невозможные, невыполнимые мероприятия, как восстановление былых прав и уничтожение воинской повинности, вначале увлекли население. Все чувствовали себя усталыми от вечных войн и надеялись, что с исчезновением Наполеона не придется уже выносить всю тягость военного положения и платить усиленные налоги. Тем не менее сборщики податей продолжали, как и во времена воинского деспота, предъявлять окладные листы, а армия продолжала вербовать все новых и новых рекрутов. Таким образом недовольство среди сельского населения все росло и росло.
Но и жители городов были возмущены не менее их. Законы, нарушавшие свободу совести, обязательство проводить воскресение в праздном бездействии, высокомерие духовенства, спесивость и жадность вернувшегося дворянства, требовавшего признания недействительными сделок по продаже национальных земель, бессовестные притеснения полиции — все это заставляло смотреть на предшествующую эпоху владычества тирана-императора почти как на эру полной свободы. И все твердили, что, если бы Наполеон все еще был в Тюильри, ему пришлось бы дать народу такие свободы, которые сделали бы его правление более мягким, более справедливым, более сносным, чем правление Людовика XVIII.
Наконец, все военные, и в особенности офицеры, находившиеся на половинной пенсии, гранившие в пустом бездействии парижские мостовые и торчавшие по различным кабачкам и кафе в поисках ссоры с роялистами, вслух жалели об императоре, презрительно отзывались о королевском правительстве и с уверенностью говорили о скором возвращении Наполеона во Францию.
Наполеон внимательно следил за всеми этими симптомами разложения королевской власти и возрождения симпатий к утраченному режиму империи, все следы которого старательно уничтожались ревностными лакеями короля. Тем не менее он не решался на приключения. Он спокойно продолжал жизнь добродушного монарха, наблюдал за работами, возводя укрепления, насаждая деревья и прокладывая новые дороги, а вместе с тем позаботился о приобретении небольшого флота, который помог бы ему переправить свои войска в какой-нибудь пункт континента в тот день, когда он рискнет сделать свою последнюю ставку.
Он советовался с Мюратом, частенько поглядывал на итальянский берег, от которого его отделял только узкий пролив Пьомбино, и не раз подумывал, что хорошо было бы попытаться высадиться во владении своего зятя.
Одно только удерживало его, парализовало все его желания: он говорил себе, что, нарушив мир, заключенный с Европой, получив свободу и попытавшись вернуть обратно утраченный трон, он должен будет сказать «прости навеки!» Марии Луизе. А он любил ее более, чем когда-либо. Он не знал о ее измене; он продолжал верить, что она просто уступила давлению отца и австрийских принцев. Он воображал, что со временем все уладится и что, увидев, как спокойно он живет в своих островных владениях, короли простят ему смелость этого союза и позволят вновь разделить ложе со своей женой. И при одной мысли о возможности снова увидеть Марию Луизу, снова обладать ее красивым телом, которого он был лишен столь долгое время, вся кровь вскипала в жилах Наполеона и весь он загорался лихорадочной страстью.
О, если бы достаточно было броситься с оружием в руках навстречу всем королевским силам, чтобы освободить эту царственную пленницу из австрийского дворца, подобно легендарным героям, мчавшимся на крылатых драконах освобождать пленных принцесс, то он переплыл бы вплавь отделявший его от материка пролив, прошел бы через горы, пробился бы через все государства и дал бы сотни сражений.
Увы! Этих сказочных обстоятельств не было, и в данном случае сослужить хорошую службу могли только спокойствие, неподвижность, терпение. Надо было казаться смирившимся, умиротворенным, безобидным, чтобы укрепить Европу во мнении, что ему можно с безопасностью вернуть его супругу.
Эта уверенность, что не сегодня завтра Мария Луиза приедет к нему на остров, мешала Наполеону серьезно думать о том, чтобы покинуть остров Эльба, и заставляла его откладывать со дня на день приготовления к бегству.
Он не получал никаких известий о Марии Луизе, он не знал, как ее здоровье и как поживает маленький Римский король; только изредка, в самых кратких выражениях, Меневал, секретарь императрицы, сообщал ему, что никаких перемен нет.
Из уклончивых фраз этого секретаря, корреспонденция которого вскрывалась и прочитывалась венским двором, Наполеон понял, что Мария Луиза в самом скором времени приедет к нему. Обрадованный, счастливый, он велел приготовить в деревне специальную виллу, где предполагал принять супругу, чтобы жить, обожая ее, в самом сладком уединении острова.
Извещение, посланное ему из Италии, что какая-то дама с маленьким мальчиком, возраст которого почти подходил к возрасту Римского короля, прибыла в Ливорно, откуда собиралась отправиться на остров Эльба, еще более укрепило эту надежду. Действительно, через несколько дней было объявлено о прибытии на остров дамы и мальчика.
Но ошибочная надежда встретить в этой даме Марию Луизу продержалась недолго. Ступив на барку, которая должна была доставить ее на берег, дама назвала себя инспектору полиции. Это была графиня Валевская.
Императору сейчас же дали знать о прибытии графини.
«Что ей нужно здесь?» — подумал Наполеон, затрудняясь решить, как подобало ему встретить ее.
Он был и опечален тем разочарованием, которое принесло ему это посещение, и обрадован стойкостью чувств этой красавицы польки, которую когда-то он страстно любил.
На мгновение в его голове промелькнула мысль, что ему вообще не следует видеться с ней; пусть ее отвезут обратно на борт доставившего ее корабля. Он не хотел возобновлять с нею связь, а властное и дразнящее воспоминание о любимом образе Марии Луизы не позволяло и Думать о каком-либо мимолетном любовном приключении.
Но как отослать ее обратно, не дав даже увидаться с ним, не сказав ей ни слова — ей, женщине, которую он когда-то страстно любил, которая теперь, без сомнения, должна была бороться со многими трудностями и опасностями, прежде чем ей удалось навестить его в ссылке?
Он посвятил Друо в эту проблему и спросил его мнение на этот счет.
Генерал Друо был человеком высокой честности. Он знал истинные чувства, питаемые Марией Луизой к мужу, знал, что Нейпперг компрометирует ее своим вечным нахождением возле нее, знал, что императрица даже и не старалась особенно скрыть свою связь с последним; поэтому он был более чем убежден, что она никогда не приедет к мужу. Таким образом, он не мог глазами сурового ригориста смотреть на присутствие на Эльбе женщины, когда-то обожаемой Наполеоном и все еще способной внушить ему страсть или по крайней мере хоть нежность. Ведь Наполеон находился теперь как раз в расцвете сил. Теперь, живя на этом острове, он был лишен обычного волнения, лихорадочной деятельности, движений, вечного перенапряжения мозга и опасений за судьбы империи, за исход сражений или иных мероприятий. Значит, было вполне возможно, что мало-помалу образ Марии Луизы потускнеет в его памяти и Наполеон сможет легко сойтись с первой попавшейся женщиной, подвернувшейся ему совершенна случайно, быть может, совершенно недостойной его ласк, и тогда эта связь в таком маленьком государстве, где жизнь всех и каждого была на виду, могла бы вызвать большой скандал. А графиня Валевская, женщина интеллигентная, любящая, скромная, по мнению Друо. была способна значительно смягчить суровость ссылки императора и уж во всяком случае казалась более желанной, чем какая-нибудь новая возлюбленная, выбранная среди женского населения острова, или обольщенная жена одного из офицеров, последовавшая на остров вслед за мужем.
Кроме того, в глубине сердца добряк Друо беспокоился, будет ли Наполеон в состоянии долго удерживаться в роли повелителя без претензий, без сожалений о будущем, ограничивать свои желания и мечты заботами об украшении и цивилизации маленького острова. Правда, император еще ни разу не говорил ему ни прямо, ни намеком, что не считает свое отречение окончательным, что он еще собирается попытать счастье, чтобы вернуть все утраченное; но Друо говорил себе, что такой человек, как Наполеон, мужчина в расцвет сил, не удовлетворится на долгое время таким отчуждением от мировой сцены, на которой, как он сознавал, ему по праву принадлежит первая роль, единственно приличествующая ему. В этом владении на микроскопическом острове Эльба Друо видел только эфемерное королевство и был убежден, что Наполеон не будет в состоянии остаться королем Ивето.
Генерал не чувствовал себя способным убедить Наполеона не пускаться в опасную, губительную авантюру. Он был уверен, что в тот день, когда император скажет: «Друо, мы возвращаемся во Францию! Мы еще раз испытаем счастье нашего оружия!» — он ответит ему без всяких колебаний: «Слушаю, ваше величество!»
А женщина могла бы оказать на Наполеона влияние, которого не хватало генералу Друо; ей, быть может, удалось бы удержать его в этой ссылке, в сущности довольно сносной, так как здесь было хоть то преимущество, что император мог считав себя в безопасности.
Поэтому Друо на вопрос императора ответил, что не видит ничего неприличного в том, чтобы принять эту даму, которая, кроме всего прочего, может сообщить ему кое-какие новости из Франции. Надо принять во внимание, что эти новости будут сообщены лицом, правдивость которого вне всяких сомнений; он прибавил затем, что ребенок, сопровождавший мать, лишит свидание характера банального любовного приключения.
Ввиду этого Наполеон решил дать приют графине Валевской, но не на вилле, которую велел приготовить для императрицы, а в довольно кокетливой хижинке, расположенной в одной из самых диких, самых отдаленных частей острова, в Марсиане.
Там и произошло на самом деле их свидание. Оно продолжалось два дня. Было отдано строжайшее приказание, чтобы никто не вздумал мешать их разговору. Но случилось комическое происшествие, которое никто не мог предвидеть.
Мэр городка Портолоньоно, узнав, что с континента к императору явилась какая-то дама с ребенком, придумал снабдить своих сограждан музыкальными инструментами и фонарями, чтобы дать под окном домика серенаду. Последняя была исполнена при криках:
— Да здравствует императрица! Да здравствует Мария Луиза! Да здравствует Римский король!
Стоило большого труда заставить инструменты смолкнуть и лампионы погасить. Музыканты вернулись домой в огорчении.
Эта неожиданная манифестация сильно повлияла на настроение императора. В его сердце еще ярче всколыхнулось воспоминание о Марии Луизе.
Бедной графине Валевской пришлось поплатиться за это досадное недоразумение. Наполеон обратился к ней довольно сурово и выразил удивление по поводу ее прибытия. Он даже не приласкал ее. Между нею и им стал всезаслоняющий образ Марии Луизы.
Подавляя острую боль и решив скрыть тайную надежду, которая привела ее сюда, графиня представила сына Наполеону; но он лишь мельком взглянул на мальчика. Затем она сказала, что явилась на остров Эльба, ослушавшись почти прямого запрещения делать это, только для того, чтобы предупредить императора о замышляемых против него планах.
Его пребывание на острове, столь близком от Франции, с неугомонным Мюратом под рукой, доставляло глубокое беспокойство союзным монархам. На венском конгрессе решили сослать Наполеона на какой-нибудь африканский остров, на Азорские острова или на остров Святой Елены. При этом перемены места ссылки на более отдаленное в особенности добивался человек, очень влиятельный при австрийском дворе и находящийся в большой милости у матери Марии Луизы — генерал Нейпперг.
Услыхав имя этого ненавистного соперника, Наполеон почувствовал острую боль. Ночная сцена во дворце, когда, собираясь навестить императрицу, он натолкнулся на австрийца, с мучительной болью и бешенством ненависти всплыла в его памяти. О, какую ошибку он сделал, что не приказал тогда мамелюкам задушить этого врага!
На губах императора дрожал вопрос. Он хотел знать, не около ли Марии Луизы находился в данный момент Нейпперг. Но он не решался спросить об этом графиню и вздумал легким маневром проверить, имеется ли хоть какое-нибудь фактическое основание у этого предположения. Поэтому, обсуждая возможность и вероятность ссылки на отдаленный остров, о котором ему рассказала графиня, он заметил, что императрица Мария Луиза воспользуется своим влиянием на отца и воспротивится такой несправедливости.
Графиня опустила голову и молчала, но под градом вопросов кончила тем, что выдала тайну Марии Луизы.
Она была женщиной, она любила императора. Она уже не питала иллюзий относительно возможности для нее стать снова его другом, его спутницей, дорогой возлюбленной, которой она была прежде; она читала в глубине взглядов своего царственного любовника неизбежность разрыва, отказ, безразличие. Он не любил ее более; прерванный роман не возобновится более. Сообщая Наполеону о мрачных замыслах против его свободы в Вене, она думала о совместном бегстве с острова Эльба. Будучи предупрежден, Наполеон поспешит обеспечить свою безопасность. Неаполитанский король даст ему такой приют, где Наполеон будет в неприкосновенности. Монархи не осмелятся двинуть свои силы вдогонку за жертвой, ускользнувшей от них. А потом если дело и дойдет до сражения, то разве союзные силы устоят против Наполеона и Мюрата, сражающихся бок о бок, но не за славу, не за новые завоевания, не за корону, а за саму жизнь? Они еще подумают, прежде чем решатся на такую авантюру, и когда улягутся политические страсти и утихомирятся мстительные инстинкты эмигрантов и маркизов Карабасов, ныне всемогущих в Тюильрийском дворце, когда согласятся с необходимостью уважать условия мира, заключенного в Фонтенбло, Наполеон сможет вернуться на этот остров, где и закончит жизнь, озаренную в прошлом былой славой и согретую мирным счастьем любви с ней, Валевской.
Теперь приходилось расставаться с этими мечтами. Наполеон по-прежнему любил Марию Луизу, рассчитывал на ее помощь. Надо было открыть ему глаза, во-первых, для того, чтобы дать ему истинное представление о грозящей ему опасности, которая казалась ему ничтожной благодаря заступничеству императрицы, и, во-вторых, — чтобы отомстить за свою боль оскорбленной любовницы; отталкивая ее, Наполеон наносил ей глубокую рану в сердце, так вот и она тоже ответит ему раной за рану!
С каким бешенством, с какой яростью Наполеон узнал о возобновлении любовного приключения императрицы. Возможность его он подозревал иногда, но никогда не считался с ним как с реальным, правдоподобным фактом! Зато теперь ряд крупных и мелких подробностей, отдельные детали, черточки, штрихи — все связывалось между собой, представляя стройную картину действительности, и маленькие, почти незаметные прежде факты теперь разрастались до трагической величины.
Поспешность, с которой Мария Луиза бежала из Парижа, воспользовавшись для этого письмом, уже устаревшим к тому времени, продиктованным при таких обстоятельствах, которых в данный момент уже не было, и содержавшим совет ей скрыться за Луару; затем ее вечный отказ присоединиться к нему как в Фонтенбло, как во время путешествия в ссылку, так и на острове Эльба; ее молчание, нежелание ответить на его полные страсти и нежности письма — словом все, все подтверждало, что графиня говорила правду, что Мария Луиза не любила его более, обманывала и не хотела более видеть.
И все-таки Наполеон еще сомневался. Он не мог заставить себя примириться с очевидностью, поверить в такую ужасную действительность.
Он вышел из себя, грубо набросился на графиню с упреками, почти с угрозами, корил ее тем, что все это она сочинила из подлого расчета, что она хотела очернить в его глазах чистый образ императрицы, чтобы снова завладеть его душой. В конце концов он довел до последних пределов эту женщину, которая крайне страдала от этой почти трагической сцены.
Он не хотел верить? Ну, что же, она заставит дать показание свидетеля! И какого свидетеля! Сама правдивость и невинность в кудряшках — его сын, малютка Александр-Наполеон!
Ребенок играл на лужайке перед домом. Мать позвала его, и, прежде чем Наполеон мог догадаться или успел спросить, зачем поднадобился ей сын, графиня, ласково запустив пальцы в кудряшки мальчика, нежно сказала:
— Скажи мне, дорогая крошка, когда я приехала за тобой в ту страну, где еще растут такие большие деревья и высятся такие громадные горы…
— Это Тироль, — сказал ребенок, — эту страну зовут Тиролем, а мы жили в гостинице «Королевский орел».
Наполеон вздрогнул. Он по очереди глядел то на ребенка, то на мать и не без некоторого беспокойства спрашивал себя, чего графиня хотела добиться этим вопросом. по никак не мог отгадать.
Мальчик продолжал, гордый от возможности выказать свои познания:
— В гостинице «Королевский орел» не было орлов, но там было очень хорошо, гораздо лучше, чем здесь.
— Этот человечек разговаривает довольно-таки откровенно! — заметил Наполеон.
— Он всегда говорит правду, ваше величество! — поспешила заметить графиня. — Слушай-ка, Александр, скажи нам, что ты видел в этой гостинице, в Тироле… в гостинице, где не было орлов? Ты помнишь господина?
— Того господина, который явился вместе с нами? У него большая борода и толстая палка?
— Да нет, Александр, ты описываешь нашего доброго друга ла Виолетта. Вот преданный и верный защитник, ваше величество! — сказала графиня, как бы поясняя присутствие ла Виолетта императору.
— Я знаю ла Виолетта, это надежный человек! Но какого черта ему понадобилось в Тироле? — воскликнул удивленный император.
— Он сопровождал меня, ваше величество, и был моей защитой и охраной. Только благодаря ему я и могла вновь найти ребенка.
— У вас украли его, что ли?
— Да, ваше величество, некий негодяй, маркиз де Мобрейль, украл моего сына и увез его в горы Тироля.
— Господи, целый роман! Ну, а с какой целью было предпринято это похищение ребенка?
— Не знаю. Но я хотела бы, чтобы вы от ребенка услыхали имя или по крайней мере хоть описание того, по наущению которого было совершено это похищение.
— А какой в этом толк? Я не располагаю правом судить и карать в Тироле и не могу наказать преступника.
— Самое главное — это чтобы вы узнали, кто это такой. Да, ну же, сынок, — настаивала графиня Валевская, наклоняясь к ребенку, — постарайся вспомнить. Каков же был собой тот мужчина, который проводил тебя в комнату, где передал охране двух слуг, страшно пугавших тебя… ну, знаешь — тот мужчина, который был с дамой.
— Ах, да, да! Это мужчина с повязкой на глазу.
Наполеона передернуло от бешенства.
— Нейпперг! — пробормотал он. — Нейпперг был там. И дама с ним… Ну, а та дама, какова она была собою? Говори, мальчик, поскорее говори! — прибавил он полузадушенным голосом, наклоняясь к ребенку.
Мальчик испугался и не захотел отвечать. Тогда мать поцеловала его и сказала:
— Ну, а как говорил ла Виолетт с этой дамой, когда мы уезжали из гостиницы? Ты помнишь, эта дама стояла в подъезде, а ла Виолетт снял шляпу и сказал.
— Да, да, он сказал: «Ваше величество».
Наполеон глухо, страдальчески крикнул и судорожно запустил руку за жилет, словно желая вырвать сердце.
Ребенок, восхищенный своим успехом, так как мать казалась довольной его ответами, продолжал лепетать:
— Да, ла Виолетт два раза повторил: «Ваше величество», потом повертел тростью в воздухе. А! Он и еще кое-что сказал, когда мы уже были в карете. Он посмотрел на господина с черной повязкой и сказал…
— Что он сказал? — спросил Наполеон совершенно машинально, словно пробуждаясь от глубокого сна.
— Он сказал: «Да здравствует император!» — ответил ребенок.
Он ждал, что его расцелуют и приласкают за то, что он так хорошо отвечал. Но Наполеон сказал резким тоном:
— Прикажите, чтобы ребенка увели прочь отсюда!
Графиня взяла сына за руку и увела на улицу.
Когда она вернулась, Наполеон уже овладел собой и лицо его приняло обычное выражение. В те несколько минут, которые прошли во время отсутствия графини, он подумал и сориентировался.
Итак, значит, это было вполне очевидно, более невозможно сомневаться: Нейпперг и Мария Луиза живут как муж с женой, почти официально. Он, Наполеон, был достаточно легковерен, достаточно наивен, чтобы предполагать, будто жена не является к нему разделить его одиночество, только уступая давлению родственников, подчиняясь желаниям государей. Каким болваном был он, когда думал, что политика мешала этой женщине разделить его участь! Единственное, что она хотела разделить, — это ложе с Нейппергом. О, подлое создание! Он проклинал, он мысленно осыпал ее ругательствами. Если бы она была так близко от него, что он мог бы дотянуться до нее, он задушил бы ее.
Но нет! Если бы каким-нибудь чудом она очутилась возле него, то он раскрыл бы навстречу ей свои объятия, он с радостью прижал бы к своей груди ее очаровательную головку кающейся грешницы. Он все еще любил ее, все еще жаждал ее, более, чем когда-либо прежде!
Он сознавал, какое громадное оскорбление нанесла ему жена, жестоко терзался от этого оскорбления, но в то же время чувствовал, что способен забыть его. Простить он не будет в силах, нет, но станет поступать так, как будто ее вины вообще не существовало. Он любил Марию Луизу, и этого было достаточно, чтобы смыть всякую грязь, какой бы она ни забрызгала его. Он все еще хотел близости своей дорогой Луизы и, несмотря на ее измену, несмотря на все то, что сообщила ему графиня, несмотря на обнаружение интимных подробностей ее жизни в Тироле, несмотря на Нейпперга, все-таки не мог примириться с мыслью об окончательной разлуке с нею, не мог признать возможность, чтобы та, которая еще недавно принадлежала ему. отдалась окончательно и бесповоротно другому. Нет, Мария Луиза не могла умереть для него! Она жила, она дышала иным воздухом, но это было только временным отсутствием. Она разобьет оковы насильственной разлуки, которой связали его враждебные государи. От него зависело теперь изменить все, вновь вернуть себе любимую женщину вместе со всем прочим, утерянным им.
Затем, следуя логике своего острого мышления, он перешел от любимой женщины на трон, от любви — к славе.
Бедный великий человек чувствовал себя очень униженным, очень исстрадавшимся, очень маленьким, когда мысленно представлял себе любимую жену в объятиях другого; но утешался тем, что он еще воспрянет и будет сильным, гордым, более великим, чем когда-либо прежде; он снова смелым натиском овладеет утраченным могуществом, и еще ярче разгорится померкшая звезда его славы.
Мария Луиза ускользала от него. Ну что же — он попытается найти утешение и смысл жизни во власти. Он постарается снова сесть на тот самый трон, в узурпации которого его обвинили тогда, когда он был побежден, разбит. Он внезапно предстанет перед своими старыми солдатами, сказав им: «А вот и я!» — и они последуют за ним.
Теперь ему уже не приходилось считаться ни со своим зятем, австрийским императором, ни со всей Европой вообще. До тех пор он еще мог надеяться на возвращение Марии Луизы, пока еще он мог ждать от нее такого же сюрприза, который сделала ему графиня Валевская, он был готов примириться со своей участью. Он наивно верил, что, оставаясь безобидным повелителем острова Эльба, отказавшись от честолюбивых замыслов и желаний, не выказывая ни малейших поползновений на восстановление былой славы, он обезоружит ненависть государей и добьется от австрийского императора разрешения Марии Луизе прибыть в Портоферайо.
Теперь приходилось отказываться от этих ожидаемых минут величайшего счастья, от этих восторгов чистейшей радости. Легкомысленное сердце Луизы, все более и более возраставшее влияние на нее этого негодяя Нейпперга заставляли его сказать последнее «прости навсегда!» тихим радостям мирной супружеской жизни в одиночестве острова. Ну что же! Вместо такого мирного существования, в котором ему отказывали, он снова сядет на лошадь, снова зальет, если понадобится, кровью и дымом пожарищ пораженную Европу, которой придется снова смириться пред ним.
В то же время в тайниках души Наполеона теплилась мысль, что вернуть себе обратно Францию и скипетр значит, быть может, вернуть в то же время и расположение жены. Быть может, в случае если придется выбирать между Нейппергом и законным супругом, вновь ставшим вождем грандиозной армии, приветствуемый великой нацией, Мария Луиза, не задумываясь, вернется к нему.
В то же время все эти соображения поддерживались весьма важной причиной, о которой мы уже упоминали ранее, и эта причина придавала планам Наполеона характер необходимости.
Пенсия в пять миллионов франков, назначенная ему согласно договору в Фонтенбло, до сих пор не выплачивалась.
Его личные средства таяли с каждым днем, и уже недалек тот день, когда он вынужден будет распустить свою гвардию. А тогда он будет обречен жить в зависимости от великодушия врагов, которые будут в состоянии в любой момент атаковать его в его резиденции, или задушить, как советовал Брюлар, старинный вождь шуанов, или перевезти на острова Мадеру или Святи Елены.
Хотя Наполеон и решил действовать в величайшем секрете, но в этот npoeкт следовало посвятить по крайней мере двух человек.
Когда графиня Валевская, удивленная переменой, происшедшей в душе Наполеона, спросила у него после сцены с удалением ребенка, не может ли она быть полезной ему во Франции, куда она собиралась возвратиться, лицо императора выразило удовольствие. Не открывая полностью своих планов графине, он дал ей понять, что в случае если народ призовет его снова во Францию, а армия выразит желание снова встать под его начало, он найдет возможность, воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, тайно сесть на корабль и добраться до берегов Франции. Для того чтобы этот смелый план удался, достаточно было усыпить бдительность английского комиссара, сэра Нейла Кэмпбела, и избежать встречи с королевскими судами, крейсировавшими в Средиземном море. Ведь счастье, которое так помогало ему в этих самых водах при возвращении из Египта, могло помочь ему и в этот раз.
Графиня постаралась ободрить Наполеона, вдохновить его еще больше на выполнение этого намерения. Она обещала ему самым тщательным образом осведомиться о настроении умов во Франции.
Тогда Наполеон сказал ей, по обыкновению все предвидя и предусматривая:
— На обратном пути постарайтесь осведомиться и как следует сориентироваться в симпатиях и настроении гренобльского гарнизона. Если французы вновь призовут меня, то мне придется быть очень осторожным, в особенности в самом начале путешествия. Я теперь слишком хорошо знаю провансальцев, чтобы вторично довериться им. Дофинцы — совсем другой народ; они порядочны, храбры, преданны. Если когда-нибудь я решусь вернуться во Францию, то это возвращение произойдет через Гренобль.
— Хорошо, ваше величество, я побываю там. Там стоит полк полковника Анрио. Быть может, мне удастся через его жену Алису войти в сношения с некоторыми из офицеров гарнизона.
— Черт возьми! — сказал император. — Этот храбрец Анрио скучает здесь. В данный момент он вовсе не нужен мне; ему, вероятно, очень хочется расцеловать свою жену, вот я и пошлю его в Париж… через Гренобль. — Наполеон задумался на мгновение, а затем прибавил: — Чтобы не привлекать ничьего внимания, я дам ему поручение в Вену.
Графиня Валевская вздохнула. Значит, Наполеон все-таки думал о том, чтобы вновь завоевать расположение Марии Луизы! То, что она ему сообщила, не смогло уменьшить его страсть. Ее сердце сжалось, и, не в силах долее сдерживать свои истинные чувства, она попросила у императора дозволения сейчас же удалиться с острова.
Наполеон предложил ей остаться, чтобы отобедать у него с ребенком, прибавив, что вечером она сможет уехать на одном из связных судов.
Послали за полковником Анрио, и Наполеон дал ему соответствующие инструкции. Он должен был отправиться в Вену, попробовать увидеть де Меневаля, секретаря императрицы, а если будет возможно, то добиться личного свидания с нею; он скажет ей, что император чувствует себя хорошо и надеется на скорое свидание. Затем, исполнив это поручение, полковник направится в Гренобль, где стоит его полк. Там он постарается разузнать у офицеров, как они относятся к Бурбонам и продолжают ли они чтить память императора. Графиня Валевская, которую будет сопровождать полковник Анрио, позаботится о том, чтобы сведения, добытые полковником Анрио, были переправлены в полной тайне и сохранности на остров Эльба.
После обеда, во время которого император был в очень хорошем расположении духа, графиня покинула Марсиану и отправилась в маленькую бухту, где ее ждала лодка. Вместе с полковником Анрио и сыном ее отвезли на борт связного судна, на котором она и добралась до Ливорно.
Там, предъявив свой паспорт, она оказалась объектом особенного внимания со стороны английского комиссара Нейла Кэмпбела, тайного тюремщика Наполеона.
Он посовещался с английским консулом, был страшно любезен с красавицей полькой и спросил у нее, выпадет ли ему на долю счастье когда-нибудь снова увидать ее, будь то в Лондоне или на острове Эльба.
Графиня подумала, что из впечатления, которое произвела ее красота на стража царственного узника, можно будет извлечь кое-какую пользу. Ведь она могла бы усыпить его бдительность, отвлечь его внимание и тем способствовать бегству императора. Поэтому она не стала обескураживать галантного англичанина и обещала увидеться с ним в последних числах февраля, когда она, по всей вероятности, будет в Италии у неаполитанского короля.
Кэмпбел, влюблявшийся все более и более, поклялся графине, что при первом известии о ее присутствии в Италии он примчится туда. Прекрасная полька запомнила это обещание и решила воспользоваться им.
Из Ливорно она собиралась отправиться на английском корабле в Триест, откуда должна была проследовать в обществе Анрио в Вену. Когда она уезжала, Кэмпбел провожал ее до пристани, откуда еще долго махал платком, причем из глаз этого влюбленного вояки катились слезы.
После отъезда графини Наполеон погрузился в глубокую задумчивость. В его глазах заблестел огонь надежды, его лицо порозовело, и — редкое явление со времени его поселения на острове Эльба — он улыбался! Король Ивето умер, император вновь воскрес к жизни!
XI
В последние месяцы 1814 года всю Францию охватило чувство глубочайшего разочарования. Все жалели об эпохе Наполеона. Войны, налоги, страдания, лишение свободы были забыты; вспоминали только былую славу времен Наполеона и сравнивали прежний нравственный подъем с теперешним нахождением под опекой духовенства и необходимостью переносить наглость старинной родовой аристократии.
Бурбонскому правительству плохо удавалось поддерживать свой авторитет в магистратуре и армии. Духовенство под покровительством герцога де Берри совершало ошибку за ошибкой, а маршал Сульт, ставший военным министром вместо Дюпона, пускался в такие авантюры, которые окончательно роняли престиж правительства.
Все офицеры империи чувствовали себя под надзором целой армии сыщиков, стороживших и выслеживавших каждое их движение. Они не могли даже и вздохнуть свободно. О малейшем слове немедленно доносилось, их переписка вскрывалась. В результате по всей Франции начался ряд конфликтов и скандалов между военными частями и офицерами запаса, получавшими лишь половину прежнего содержания и посылаемыми в различные, специально для них назначаемые местности. Между прочим, много шума наделал процесс генерала Эксельмана.
Эксельман получил приказ отправиться в Бар-сюр-Орнэн, место своего рождения. Это была ссылка. За отказ подчиниться этому несправедливому и беззаконному требованию маршал Сульт велел арестовать Эксельмана. В Суасоне последнему удалось ускользнуть от конвоиров; он укрылся в надежном месте и написал оттуда министру письмо, в котором требовал назначения над ним, Эксельманом, правильного суда, обещая немедленно отдаться в руки властям, как только для расследования его дела будут назначены беспристрастные судьи.
Заседание военного суда 16-й дивизии состоялось 23 января 1815 года в Лилле. Суд единогласно вынес Эксельману оправдательный приговор, который был встречен с неописуемым торжеством. Отныне офицеры запаса уже могли, значит, распоряжаться своей свободой по собственному усмотрению, ездить из города в город, как и куда заблагорассудится, не навлекая на себя репрессий.
Подобные происшествия с каждым днем все более и более выставляли напоказ, насколько призрачна власть и неустойчиво могущество реставрированной королевской власти. Недовольная, мятежно настроенная армия ускользала из-под ее влияния.
Да и общественное мнение тоже возмущалось все более и более. Наглое поведение королевской лейб-гвардии в Париже, вызывающий образ действий провинциального дворянства, вмешательство духовенства в домашние дела мирян, убытки торговцев, разоряемых англичанами, угрозы по адресу собственников земель, приобретенных у нации, подавление бурбонским правительством либерального духа — все эти беспорядки и притеснения возмущали офицерство и даже буржуазию, и в их среде уже развивались ферменты революционного движения, которое должно было вскоре превратиться в могучее и единодушное движение в пользу возвращения Наполеона.
Наполеон был в курсе всех этих событий и настроений: газеты, сообщая о различных эпизодах и инцидентах, рисуя картины внутренней жизни страны, давали ему основание быть твердо уверенным, что Франция уже жалеет о нем и готова вновь призвать его как законного повелителя.
Таково было настроение в стране, когда полковник Анрио ехал в Гренобль, где стоял его полк.
Согласно инструкциям императора, он поехал через Вену, чтобы поговорить с де Меневалем, секретарем Марии Луизы. Однако в момент приезда Анрио Меневаля не оказалось в Вене, а потому полковнику пришлось поговорить только с де Боссэ, камергером императрицы. Аудиенции он не получил, да и не добивался ее особенно. Нейпперг зорко следил за императрицей, и было бы более чем неосторожно открывать ей хотя бы в общих чертах надежду Наполеона снова свидеться с женой во Франции, во вновь отвоеванном Тюильрийском дворце.
Из Вены полковник Анрио и графиня Валевская отправились в Дофинэ через Альпы. Прошло уже две недели, как они ехали по дороге в город Гренобль. Они двигались очень медленно, принимали массу предосторожностей, вплоть до сокрытия своих настоящих имен. В это время стояли сильные холода, особенно в этих альпийских областях; всюду лежал снег. Однажды, подходя к дому, где они должны были переночевать, графиня Валевская, внезапно упав духом, ухватилась за руку Анрио и сказала ему сквозь рыдания:
— О, полковник, я хотела бы умереть! Я слишком устала… Хотя бы это кончилось поскорее!
— Смелее, графиня, смелее! — ответил Анрио, поддерживая молодую женщину. — Почему вы вдруг загрустили? Ведь мы вскоре доедем до цели нашего путешествия, и все наши трудности и усталости останутся позади!
— Меня мучает не настоящее, а будущее. Император был очень сдержан, слишком осторожен по отношению ко мне и к вам. Он не доверяет нам. Он не захотел связывать себя словом, что все наши усилия не пропадут даром и что он воспользуется нашими советами.
— Подобная осторожность была необходима, графиня. Он должен был сдержаться и не выказывать пред нами своих надежд. Вы не имеете права сомневаться в его доверии к вам. Он ьери1 в армию, понимает, что все гонения и притеснения, чинимые министром, невольно кинут к нему офицеров. Да и не все они остались служить при Бурбонах, те же, которые остались на службе, сделали это по необходимости. Маршал Лефевр, удалившийся к себе в Комбо, далеко не один. Я вскоре увижу его, поговорю с ним о Наполеоне. Как только мы соберем армию, я отправлюсь в Комбо.
— Вы надеетесь встретить в Гренобле поддержку? — спросила графиня.
— Да! Там гарнизоном стоит мой полк; я увижу своих офицеров, своих солдат. Армия жалеет, ждет, жаждет возвращения императора… А потом, промахи, делаемые маршалом Сультом и герцогом де Берри, подготавливают ожесточенную борьбу против роялизма… Вскоре мы увидим, как повсеместно восстанут войска, возглавляемые угнетаемыми ныне офицерами.
— О, я не сомневаюсь в тех преданных героях, которые сейчас же придут на помощь Наполеону, как только колесо фортуны повернется к нему. Я сомневаюсь в решительности самого Наполеона: он не верит уже в свою звезду!
— Не думайте так, графиня! Стоит только вспомнить, с какой лихорадочной горячностью он комментировал газетные сообщения, порицал правительство, уверял в близком перевороте в пользу герцога Орлеанского или Наполеона Второго под регентством Марии Луизы.
— Его сын! Мария Луиза! А, это тоже мое больное место! — сказала графиня, подавляя рыдания.
Тогда Анрио понял наконец истинную скорбь и страдания этой женщины, все мысли которой были устремлены к Наполеону и к ее собственному ребенку от него.
Слезы заливали ее красивое, изящное лицо. Брови нахмурились, губы слегка вздрагивали, но вся ее подавленная горем фигура дышала глубокой гордостью. Наконец она вытерла слезы и, протягивая руку Анрио, сказала:
— Простите меня, полковник, но я чувствовала себя очень, очень несчастной! Слезы успокоили меня. С того самого момента, как мы расстались с императором, они подступали у меня к горлу и душили меня. Спасибо вам за то, что вы поняли меня. Спасибо, я не забуду этого!
— Сегодня вечером я надеюсь получить кое-какие добрые известия. У меня имеются друзья, с которыми мы должны встретиться. Мы поговорим об императоре и подготовим его возвращение, если Франция готова призвать его обратно.
— Да услышит вас Господь! Пусть поскорее вновь взойдет звезда, померкшая на мгновение! Пусть мое личное счастье навсегда закатилось для меня, но я буду счастлива хоть издали видеть, что Наполеон снова завоевал свою утраченную власть. Я ничего не жду от него, не имею права надеяться на что-либо с его стороны… Но об этом я даже и не думаю; я рада служить императору, не рассчитывая ни на какую награду, не претендуя на счастье или благодарность.
Они подошли к лачужке, занимаемой какой-то старухой и пастухом, около Малижэ, на берегу Дюранс.
Женщина, увидев подходящих к ней путников, вышла за дверь и сказала:
— Стоит страшный холод, добрый барин и красавица барыня, и я совсем заждалась вас.
— Найдутся у вас хорошие постели? — спросил Анрио, отдавая поводья какому-то парню, подбежавшему к нему.
— О, что касается хороших постелей, то я соврала бы, если бы сказала, что таковые найдутся у меня! Но зато что касается ваших лошадей, то им будет хорошо на конюшне, за это-то я ручаюсь. Не правда ли, Матюрен? Зато и огонек я развела для вас, вот уж увидите!
— Ну, и ладно! Войдем поскорее в дом!
Анрио подал графине руку и прошел вслед за ней в низенькую комнату лачужки.
В очаге горел жаркий огонь; путников сразу охватила приятная теплота. Графиня подошла к очагу, уселась на шаткую деревянную табуретку пред огнем и вытянула руки и ноги к пламени, весело игравшему по раскаленным углям. Лицо Валевской смягчилось. В его нежных чертах уже не отражались страдания, которые еще недавно мучили графиню.
Анрио с радостью видел, что ее душа отходила в этой атмосфере благодатного покоя, а затем подумал о свидании с друзьями, назначенном в этом уединенном месте.
Они с графиней прибыли ранее назначенного срока — тех еще не было; поэтому они принялись за ужин.
Работник все время торчал сзади них. Он с любопытством наблюдал за ними, следил за всеми их взглядами, за их отрывочными словами, как бы желая прочитать мысли, остававшиеся невысказанными, и превратить в стройные фразы брошенные путешественниками отрывочные слова.
Они и не замечали этого наблюдателя. Пастух был невелик ростом, очень коренаст, кривоног, с непомерно большой мохнатой головой. Вытянув шею, прищурив глаза, опустив плечи, он был очень похож на охотничью собаку в стойке. Казалось, что он подстерегал прибывших посетителей словно добычу.
Чего он ждал? Что делало его таким сосредоточенным и серьезным?
Подойдя к очагу, Анрио заметил Матюрена, но не обратил на него внимания. Он повернулся к крестьянке, которая собирала посуду и подавала свои незатейливые блюда, и сказал ей ласковым тоном:
— Итак, милая, значит, вы ждали нас?
— Да как же было не ждать! Ведь я не знала наверное, когда именно вы пожалуете.
— Нам пришлось сильно задержаться в пути. Во-первых, дороги у вас плохие, затем идет снег, а главное — мы не знали как следует дороги.
— Вам, вероятно, хочется навести справки о местных жителях? — вмешался Матюрен. — Здесь это не очень-то удобно. Все волком смотрят друг на друга; полиция не любит шутить, когда говорят об императоре.
— Об императоре? Что вы хотите сказать этим, друг мой? Я не понимаю вас!
— Э, барин, Господь с вами, это так просто! С тех пор как его заперли там, на острове Эльба, находятся порядочные люди, которые не перестают думать о Наполеоне. Говорят, что Бурбоны делают такие вещи, которые не следовало делать. Полицейские крючки рады были бы заставить замолчать всех тех, кто думает об императоре, ну, да это не так-то уж легко сделать… Можно быть последним нищим и все-таки иметь свое мнение. Никогда, никогда — слышите ли вы? — не было у Наполеона столько приверженцев, как с тех пор, когда его прогнали. Но он вернется, это уж во всяком случае!
— Вы так думаете, друг мой?
— Да, следует, чтобы он снова взял в свои руки управление страной, а го духовенство уже показало нам свои лапы, да и король старается отобрать все наше добро.
— А, значит, и вы так смотрите на вещи? — спросила графиня, плохо скрывая радость при этих словах Матюрена.
— Да, сударыня, я держусь такого мнения. Да и не один я, как мне кажется.
— А почему вы думаете, что император еще может вернуться? Недостаточно надежды нескольких бедняков, чтобы вернуть прежнего государя, ныне оставшегося без поддержки и без вооруженной силы.
— Это правда; но всем известно, что за это дело взялось много солдат и даже генералов. Мне не раз приходилось слышать об этом. Говорят, что…
— Ты лучше сделаешь, если отправишься в конюшню и посмотришь, все ли там в порядке, — перебила его старуха крестьянка. — Сам видишь, что твоя болтовня надоела доброму барину и красавице барыне. Ты еще навлечешь на нас разные беды всеми этими разбойничьими россказнями. Запрещаю тебе мешаться в политику. Наш король — это король, а кюре уверяет, что Наполеон — просто бесноватый, демон, бандит, способный на всякое преступление.
Матюрен только что собирался ответить старухе, как снаружи раздался троекратный стук в дверь. Он отправился открыть, а затем, отходя в сторону и пропуская троих путешественников, сказал:
— Добрый вечер, господин Робер! Вы пришли вовремя, чтобы заступиться за святое дело, и вы будете в силах сделать это лучше, чем я, так как у меня и слов-то не хватает.
Затем он скромно скрылся, отправившись на конюшню, чтобы позаботиться о лошадях и осмотреть, заперты ли двери, засунуты ли запоры и спущены ли собаки во дворе.
В этой лачуге, затерявшейся в альпийской лощине, должны были разыграться грандиозные и трагические события. Звезде Наполеона суждено было вновь возгореться под крышей этой простой и честной крестьянки.
XII
Человек, которого Матюрен назвал Робером, заметив полковника Анрио, не мог сдержать крик радости. Они бросились в объятия друг другу и дружески расцеловались. Затем Робер представил своих спутников, назвав их своими друзьями.
После представлений позаботились удалить крестьянку.
— Вот что, старуха, мы займем эту комнату на добрую часть ночи, не следует нас беспокоить, — сказал вновь пришедший.
— О, понимаю, господин Робер, — ответила крестьянка, кивнув головой. — Матюрен в конюшне, а я отправлюсь спать. Вы будьте здесь как у себя дома. Располагайтесь как вам будет удобнее, не стесняйтесь, а если красавице барыне все-таки захочется спать, то я уступлю ей свою кровать. Она может там отоспаться всласть, стоит ей только сказать слово.
— Спасибо, я знаю, где ваша комната, — сказал Робер повелительным тоном. — Оставьте нас теперь!
Старуха сделала им почтительный реверанс, прибавила несколько любезностей и ушла к себе наверх.
Как только они остались одни, Робер снова представил своих друзей.
— Доктор Эмери, — сказал он, показывая на молодого человека с решительным выражением лица, — он прибыл из Гана. Это — пламенный приверженец императора; я часто говорил вам о нем… А это мой секретарь; он готов на все.
Анрио раскланялся и пожал руки обоим сторонникам Наполеона.
— Дорогой де Лабэдуайер, — сказал он, называя Робера его настоящей фамилией, которой суждено было завоевать трагическую славу, — благодарю вас за, то, что вы привели сюда обоих ваших друзей… Вы уже знакомы с графиней Валевской, которая пожелала сопровождать меня. Мы возвращаемся с острова Эльба. Наша преданность императору подскажет нам планы для исполнения наших общих задач; мы должны подготовить события, сгруппировать их, направить так, чтобы избежать всякого поражения… Что вы скажете?
— Что вы делали на острове Эльба? Что сказал император? Готов ли он рискнуть? Согласен ли он наконец последовать желанию всей Франции?
— Полковник, все будет зависеть от вас, — ответила ему Валевская.
— Но, графиня, все зависит только от самого Наполеона! Без него мы не можем рискнуть ровно ни на что! От него должна исходить вся инициатива. Страсти, подъем, воодушевление народа — все это магниты, которые может заставить действовать только его воля!
— Ну что же! Император ждет! Нам не удалось заставить его высказаться окончательно.
— Графиня, — сказал Анрио, — оставьте все ваши страхи! Наполеон с нами. Я только что убеждал вас в этом. Я умею отчасти читать в его душе, с тех пор как научился служить ему. Наше последнее свидание с ним значительно повлияло на его решимость. Он не хочет идти против желания народа, но любит Францию, жаждет мира и спокойствие страны ценит выше всего, даже выше собственной свободы. А если он пока еще немного и колеблется, то потому, что среди всех слухов, достигших его ушей в ссылке, он, несмотря на все наши убеждения, все еще не нашел окончательных и бесспорных доказательств того, что армия последует за ним, станет защищать его, будет приветствовать его криками восторга, на руках внесет в Париж.
— О, армия, — сказал полковник Лабэдуайер, — за нее я отвечаю вполне! Она еще никогда не была настолько расположена в пользу императора, как теперь!
— Генералы пока еще не решаются признаться в этом, — прибавил Эмери, — но во всех полках солдаты готовы крикнуть: «Да здравствует император!» — как только он предстанет пред ними!
— Это правда, — подтвердил Лабэдуайер. — Пусть он только покажется, а я уж отвечаю за подъем духа и восторг войск. Не правда ли, Эмери? По дороге из Гана в Визиль вас задержал генерал Мутон-Дювернэ! Он знает, как вы преданы императору, и все-таки отпустил вас, не посмев арестовать. Ну что вы заключаете из этого?
— Разумеется, он не решился задержать меня.
— Ну вот! — продолжал Лабэдуайер. — Со своей стороны, могу прибавить следующее: мы обедали у генерала Маршана со всеми офицерами гарнизона. Нас собрали, чтобы узнать наши мнения и убеждения. Большинство офицеров молчало, но, несмотря на присутствие высших военных властей, они не могли не показать, что им будет очень трудно пойти против Наполеона.
— В таком случае, Лабэдуайер, мы являемся господами положения, — оживленно сказал Анрио. — Предупреди: императора и подготовим почву, чтобы он мог вновь надеть на своих солдат трехцветные кокарды!
Лабэдуайер, сидя посредине у стола, задумался на мгновение.
Это был один из самых молодых офицеров армии, один из тех, на кого роялисты возлагали наибольшие надежды. Он принадлежал по жене к королевскому роду, был исконным дворянином, и ему покровительствовал двор. Солдаты обожали его и слепо повиновались. Его полк, седьмой пехотный, расквартированный в Шамбери, должен был в ближайшем будущем направиться в Гренобль.
— У меня есть своя идея, — заговорил он снова, отвечая Анрио, — но прежде чем я изложу вам ее, я хотел бы нарисовать вам точную картину положения в областях Дофинэ и Альп. Вы понимаете, что на Париж существует только одна целесообразная дорога: следует пройти через Гап, взять Гренобль, представляющий собой сильную крепость, неприступную благодаря своим позициям, укреплениям, политическому значению и настроению жителей. Раз Гренобль будет взят, Лион будет открыт сам собой, а это отдаст нам в руки Париж. Следовательно, нам надо позаботиться о том, чтобы подготовить все в этом городе. Наш друг, доктор Эмери, пользуется там симпатиями среди интеллигенции… Он-то и поможет нам завладеть столицей Дофинэ.
Лабэдуайер перешел к отдельным деталям этого грандиозного проекта свержения Бурбонов и восстановления империи.
Префектом Изеры был Фурье, а седьмой дивизией, стоявшей в Гренобле, командовал генерал Маршан. Фурье был ученым, страшно досадовавшим на политические смуты. Он не любил вмешиваться в уличные волнения, во всякие смуты, которые только пугали его. Он проделал вместе с Наполеоном египетскую кампанию и в глубине сердца остался верен ему, благоговейно храня в памяти воспоминания о былой славе. Он служил Бурбонам без всякого энтузиазма, только ради спокойствия. Что касается генерала Маршана, то это был очень храбрый и прямой солдат. Он боялся возвращения Наполеона из-за тех осложнений, которое оно вызовет, но в то же время негодовал на Бурбонов, которые не сумели успокоить Францию.
В Альпах предполагалось сосредоточить значительные военные силы; это уже начали делать в Франш-Контэ, в Лионе, в Дофинэ. Будут ли эти войска верны императору, когда он появится перед ними?
Горцы Дофинэ и Систерона оставались страстными приверженцами былой славы французского оружия, ненавидели иностранцев, презирали дворян и духовенство; без сомнения, они окажут императору хороший прием, первые станут приветствовать его, доставят ему лошадей, съестные припасы, будут защищать его до смерти в своих неприступных горах.
Накануне генерал Маршан не скрыл от Лабэдуайера в присутствии всех властей своих опасений, внушаемых настоящим моментом. Батальонные командиры не ручались за всех офицеров, офицеры не могли поручиться за своих солдат.
В Гренооле наряду с пятым пехотным полком находился также четвертый артиллерийский, в котором Наполеон начал военную карьеру и в который после роспуска императорской гвардии зачислили многих спутников Наполеона времен его славных походов; кроме того, там же стоял третий саперный полк, открыто высказывавший антипатию к Бурбонам.
Седьмая дивизия, образованная из четырех полков, разделялась таким образом на две поддивизии: гренобльскую, заключавшую в себе Изер и Монблан, и валенсийскую, заключавшую Дром и Верхние Альпы. Генерал Мутон-Дювернэ должен был каждый раз приезжать в Гренобль, когда следовало отдать распоряжение в Верхние Альпы, то есть в Гап.
Таким образом Гренобль был центром защиты, который правительство непременно хотело удержать за собой. Это была старинная и сильно укрепленная крепость. Там помещались артиллерийское училище, инженерное училище, материальный склад на восемьдесят тысяч ружей, двести артиллерийских орудий и большие запасы патронов и снарядов. Следовательно, именно в этом пункте и постараются сосредоточить все войска Дофинэ и части Савойи, еще принадлежавшей Франции.
— Вы видите, господа, — сказал Лабэдуайер, заканчивая свой длинный обзор положения, — что все это очень ясно и многозначительно. Бурбоны уже не чувствуют под собой твердой почвы, почти вся армия не на их стороне. Я нарисовал вам картину роялистских сил, их скрытые намерения, схему передвижения войск с того самого момента, когда Наполеон высадится на берег… Только бы он не вздумал явиться сюда через Италию! Но это совершенно невозможно! Мюрат не может помочь ему так открыто; ведь коалиционные силы держав уничтожат его, так что он не рискнет пойти на такой шаг. К тому же лучше всего будет направиться по настоящей дороге, по той самой, которую мы только что наметили.
— Первая же вспышка увлечет за собой всех остальных, — сказал Анрио. — А вы лично, полковник, как рассчитываете распорядиться вверенными вам войсками?
— Первым делом будет отдано распоряжение двинуть в Гренобль четвертый гусарский полк, так как там чувствуется недостаток в кавалерии; одиннадцатый и седьмой то есть мой, тоже должны будут последовать туда. Мы немедленно пустимся в дорогу. Таким образом я очень скоро окажусь в самом центре военных операций. На моих солдат можно положиться. Вот уже несколько месяцев, как я удваиваю им пайки и оделяю через верных людей деньгами. Я могу сделать с ними все, что захочу. С самого начала военных действий я поспешу к императору, сказав солдатам просто следующее: «Кто любит меня, последует за мной!» Ручаюсь вам, что весь полк побежит за мной с криками: «Да здравствует император!»
В этот момент снаружи послышался шум голосов.
Кто мог явиться в такой час? Ведь лачужка стояла в стороне от проезжей дороги, и не бывало еще, чтобы туда заходили случайные путники.
Свои последние слова полковник Лабэдуайер произнес очень громко, но, услышав шум голосов, остановился на мгновение в высшей степени удивленный. Заговорщики в немом спокойствии выжидали, что последует далее.
— Откройте! — сказал вдруг кто-то снаружи, постучав в дверь кулаком.
Никто из присутствующих не ответил ни слова. Анрио и доктор Эмери даже немедленно обнажили имевшееся при них оружие, готовясь дорого продать свою жизнь и свободу.
— Именем короля приказываю вам отворить дверь! — еще громче повторил прежний голос.
— Ни малейшего сопротивления! — сказал Лабэдуайер, обращаясь к друзьям. — Нам изменили… Всякое сопротивление будет напрасным. Людей, которых послали арестовать нас, наверное, достаточное количество. Придется сдаться, а там посмотрим.
Он встал и отодвинул запор.
Показался Матюрен, возглавлявший целый отряд стражников, и произнес:
— Я крайне сожалею, что господам полицейским приходится слегка потревожить вас, господин Лабэдуайер. Но, видите ли, политика имеет свою обратную сторону. Я лично держусь таких убеждений, которые вы не вполне разделяете, так что я счел своим долгом позаботиться, чтобы вас арестовали.
— Как, негодяй? Так это ты напустил на нас полицию? — сказал полковник Лабэдуайер, занося руку над уродливым пастухом.
— А ей-Богу же, я! Да и как было иначе поступить? Ведь я — верноподданный его величества короля! Уж давненько я выслеживаю вас, и не скоро придется подлому Узурпатору снова увидать Тюильри. Да и то сказать, ведь вы даже не принимали особенных предосторожностей. Ну, да ладно, теперь вы в надежных руках, и это большая удача для Франции и всех истинных верноподданных короля…
— Нельзя ли заткнуть глотку этому болвану? — сказал Лабэдуайер. — Господа, мы совершенно к вашим услугам! — Затем, обращаясь к полковнику Анрио, он прибавил еле слышным шепотом: — Дорогой брат по оружию, счастье изменяет нашим надеждам, но если нам и не придется увидать возвращение императора, то мы по крайней мере можем утешиться тем, что подготовили ему дорогу, и сознание этого у нас никто не может отнять. Наш долг исполнен! Так будем же храбрыми и гордыми! Звезда Наполеона поднимается, он еще засияет былой красотой и славой. Все эти люди так же боятся Наполеона, как если бы он все еще был всемогущ. А это явно доказывает конец роялизма! Но ввиду того, что нам нечем особенно рисковать, я все-таки попробую отвоевать нас у этих разбойников роялизма!
Графиня Валевская наклонилась к нему, прислушиваясь к последним словам.
Заметив это, Лабэдуайер, обращаясь к ней, сказал, но уже громче, чтобы полицейские слышали:
— Вы являетесь жертвой подлого предательства. Вас задерживают без всякого основания. Я офицер королевской армии, мне еще отдадут отчет в этой ошибке, и вас скоро отпустят на свободу. Не бойтесь ничего и крепитесь! Произвол недопустим и не опасен ни при какой форме правления. Он не может долго продержаться, и горе тому правительству, которое прибегает к нему как к средству управления!
Ордер об аресте, предъявленный им полицейским комиссаром, был составлен в неясных выражениях. Очевидно было, что сначала там были оставлены пустые места для имен, которые вписали в самый последний момент. Без сомнения, правительство боялось скандала.
Вспомнив о том, что накануне он обедал у генерала Маршана и ничем не выдал себя, Лабэдуайер рассчитывал в ближайшее время освободиться и выручить своих друзей из того неловкого положения, в которое они попали. Ведь не было никаких улик против него!
В данный момент интересы самих Бурбонов требовали величайшей осторожности и громадной тактичности в подобных рискованных шагах. Нельзя было на основании каких-то смутных, в высшей степени спорных улик нанести подобное оскорбление двум полковникам и доктору, пользовавшемуся огромным уважением со стороны населения большого города, а также арестовать графиню Валевскую. Доноса со стороны какого-то болвана пастуха было еще очень недостаточно для того, чтобы правительство могло пойти на это.
Поэтому, не вступая ни в какие пререкания и не оказывая ни малейшего сопротивления, Лабэдуайер и его секретарь, Анрио, доктор Эмери и графиня Валевская вышли из комнаты, дрожа от волнения за судьбу императора.
Они возлагали на него слишком великие надежды для того, чтобы упасть духом и отказаться от своей энергии и веры в него, а потому последовали за стражниками, надеясь, что очень скоро их отпустят, так что они смогут вновь приняться за свое дело освобождения императора и отпора его врагам.
XIII
Арест полковника Лабэдуайера мог повлечь за собой самые серьезные последствия. Со всеми предосторожностями арестованный был отправлен в Гренобль с Анрио и его друзьями, и во всем этом деле власти тщательно избегали огласки.
Общественное мнение, уже чрезмерно возбужденное оправданием генерала Эксельмана, волнениями в Лилле, а также произволом по отношению к офицерам, угрожало с минуты на минуту создать революционную обстановку во всей этой области Дофинэ, подстрекаемой к мятежу деятельными и уважаемыми бонапартистами.
Префекту Фурье было весьма неприятно принимать безотлагательные меры. Он опасался попасть впросак, совершить политическую ошибку, которая могла бы навлечь на него строгое порицание короля. Генерал Маршан, бывший в курсе дел, в свою очередь запросил совета из Парижа. Ответ не заставил себя ждать. Через свою семью Лабэдуайер состоял в родстве с домом Бурбонов. Он всегда выказывал верность своему долгу; его служба была безупречна. Начальники любили его, на него возлагали самые большие надежды. Состоявший под его командой полк пользовался безусловным доверием.
Накануне, за столом того же генерала Маршана, где в присутствии высшего начальства производили как бы экзамен совести, проверяли каждого в смысле верности общему делу, чести, служебному долгу на тот случай, если бы Наполеон сделал попытку вернуться, все офицеры отвечали утвердительно; своим поведением на этом банкете Лабэдуайер тоже оправдал доверие, которое оказывало ему правительство. Таким образом, его неожиданный арест сбил всех с толку.
Первый рапорт королевского прокурора о его аресте не содержал ни одной важной улики против его участия в каком-либо бонапартистском заговоре и допускал прекращение следствия. Герцог де Берри воспользовался этим; вмешавшись лично в дело, он приказал немедленно освободить Лабэдуайера с его секретарем. Присутствие женщины на ферме Малижэ допускало безобидное объяснение захвата молодого полковника, застигнутого врасплох на любовном свидании, и это обстоятельство поспешили ловко обратить в его пользу.
Но ни полковник Анрио, ни графиня Валевская, ни доктор Эмери не были отпущены на свободу. Их дело выделили из дела полковника Лабэдуайера, и правительство позволило правосудию пустить в ход все свое оружие и на законном основании наказать подсудимых.
Королевский прокурор был властолюбивый самодур с переменчивыми, непостоянными взглядами, без твердо установившегося мнения, жестокий и причудливый. Сначала он вступил в союз революционеров в Вандее, состоял членом многих комитетов, обладавших исключительной властью; в эпоху империи он обнаруживал жестокий, экзальтированный республиканизм, потом примкнул к правительству Бурбонов и оказался тогда одним из самых усердных агентов крайнего роялизма. Словом, этот человек творил зло всюду, куда только попадал; он не пользовался никаким уважением, но был известен своим резким характером, крайней нетерпимостью и готовностью ожесточенно и умышленно поражать противников данной минуты. Это был рьяный защитник короля и духовенства, один из тех отступников революции и империи, которые, чтобы заставить забыть прошлое, ударились в крайний легитимистский и религиозный фанатизм.
Избавившись от нежелательной обузы в лице полковника Лабэдуайера, прокурор вздохнул с чувством облегчения и удовольствия. Теперь ему открывалась возможность действовать по своему произволу, обращаться с подсудимыми, опасными бонапартистами, так, как они того заслуживали.
Ужасные репрессии судов не были еще придуманы герцогом Деказом, но гренобльский прокурор уже превратил свой кабинет в подобие камеры пыток для пожизненно заключенных, где обвиняемые, скорее подсудимые, подвергались самым жестоким мучениям. Он не щадил никаких человеческих чувств, не принимал во внимание никакое положение, никакое достоинство, звание или заслуги.
Разъяренный и в то же время избавленный от обязательства преследовать судом родственника Бурбонов, он собирался применить к полковнику Анрио, к Эмери и красавице польке все отвратительные приемы судебного следствия.
Законы о личном задержании, о крике, речах, мятежных письмах, частных и публичных собраниях, различные предложения на этот же счет, ежедневно утверждаемые роялистами в палате депутатов, а также удаление лиц администрации, сколько-нибудь не согласных с новым режимом, придали новую энергию прокурорам-роялистам, которые сдавливали свирепыми когтями каждый город. Видя повсюду виновных, они вынуждали представителей административной власти под страхом отставки вести самые инквизиторские розыски; они организовали комитеты, где держали всех под арестом и наказывали за самые пустяковые проступки. Политические, личные или местные страсти допускали самые вопиющие злоупотребления. Вернулось ужасное время комитета общественной безопасности, хотя теперь его существование нельзя было оправдать какой-либо опасностью, грозившей стране.
Превратно понятого слова, намека на прошлые и настоящие события, малейшей жалобы было достаточно, чтобы отстранять от должности чиновников, приговаривать к ссылке бывших военных, простых граждан, отмеченных как лица, враждебные королевской власти.
Честных людей отдавали под суд по оговору соседей, недоброжелательных чиновников, метивших на их место или решивших завладеть их состоянием, и произносили над ними безжалостный приговор.
Но все это беззаконие творилось согласно вероисповеданию, привычкам, а также — и это в особенности — по усмотрению комиссаров или генеральных прокуроров, и в очень многих случаях высшему суду и министерству приходилось пересматривать поспешные решения дел, смягчать приговор, каравший слишком сильно и дававший промах вместо того, чтобы метко попасть в цель.
Полковник Анрио не видел еще ни графини Валевской, ни доктора Эмери после их общего ареста, а также ничего не слышал об освобождении полковника Лабэдуайера. Он был в одиночном заключении. Наконец королевский прокурор потребовал Анрио к себе в кабинет; это был уже его четвертый вызов на допрос.
Было два часа пополудни, когда стража ввела Анрио к прокурору. Тот сидел за письменным столом, лицом к двери. Анрио слегка наклонил голову для приветствия и осмотрелся вокруг.
В комнате, освещенной высоким решетчатым окном, находившимся сбоку, царил обманчивый сумрак, мешавший при входе различать окружающие предметы. Глаз не сразу привыкал к этому тусклому свету.
Анрио сел немного поодаль, справа от прокурора, несколько впереди, но вдруг, через несколько минут, внезапно вскочил и рванулся с места. Причиной было то, что он только что заметил напротив, по другую сторону письменного стола, рядом с доктором Эмери, графиню Валевскую. При его порывистом движении его удержали конвойные; однако он, не обращая на них внимания, воскликнул, обращаясь к графине:
— Вы здесь?
— О, я не падаю духом, успокойтесь, мой друг! — с твердостью ответила она. — Я знаю, что нас недолго продержат в неволе; ведь мы не совершили ничего предосудительного.
— Это раскроет правосудие, — холодно пробормотал прокурор.
— Все равно, — заметил Эмери, — только бы не заставляли нас слишком долго ожидать его решения! Как бы ни было оно сурово, мы готовы беспрекословно подчиниться ему. Ваши строгости к нам — дело, привычное для нас… Меня уже многократно подвергали аресту; я прошел через сеть всех специальных статей закона, относящихся к нашему брату, — сеть, сплетенную подобно паутине исполинского паука, в котором мы неизбежно должны запутываться с нашими убеждениями, нашей верой, нашей честью… Времена не благоприятствуют нам, общее политическое положение против нас… Но при всем том мы верим в лучшие дни, в перемену судьбы, в справедливость. Вам не срубить дерева свободы революции; оно пустит ростки над всеми вашими ошибками, всеми вашими злодействами, всей вашей разрушительной деятельностью и над всеми вашими преступлениями! Все ваши усилия настолько же напрасны, насколько они неловки и жестоки, и вскоре вы будете изгнаны как обманщики и недостойные слуги! — пылко заключил доктор, не робея перед прокурором и угрожая ему взглядом и тоном.
— Эти слова не задевают меня, — возразил прокурор. — Они чересчур избиты. Вы слишком часто произносили их. Собрания, на которых вы разглагольствуете так же рьяно, как сделали это здесь, нам известны; мы давно знаем ваши речи и ваши намерения. В Гренобле, в Лионе и других местах, по всем мелким городкам вы неизменно стояли на стороне оппозиции. Вас щадили, чтобы оправдать некоторые меры, к которым приходилось прибегать в различные моменты. Ведь во всей вашей кипучей деятельности вы, сами того не подозревая, были только превосходным агентом королевской власти, и мы не хотели лишать себя ваших услуг, вполне добровольных и бессознательных. Теперь дело иное… вы говорили достаточно! Услуги, которые вы должны нам оказать, — безмолвного свойства.
— А почему, позвольте вас спросить? — надменно произнес доктор Эмери с плохо скрытой иронией. — Неужели вы воображаете, что можете сковать мой язык?
— Конечно! Мы просто хотим произвести над вами хорошую экзекуцию. Пример подействует, будет благодетелен.
— О, вы не можете осудить нас открыто! У вас нет достаточных поводов. Процесс обличит ваше лицемерие.
— Мы предпошлем ему соответственное судебное следствие и обставим его надлежащими доказательствами.
— Народ за меня, я имею многочисленных друзей!
— Вот именно! Ваш авторитет приобретает опасное влияние на дух толпы, вашими речами слишком увлекаются. Пора прервать ваше красноречие и предотвратить нежелательные последствия!
— Я стану защищаться, воспользуюсь всем доверием, которое вы сейчас подтвердили, обращусь к суду народа перед лицом всей нации и разоблачу вас! Вы не можете приговорить меня на основании предположений или ложных доносов!
— Неужели вы воображаете, что мы позволим вам доказывать свою невиновность, раз она уже опровергнута актами судопроизводства? Существуют приговоры, сообразные с преступлением, не забывайте этого! Обстоятельства всегда подсказывают правосудию верный приговор, зависящий от личности подсудимого. К вам мы будем беспощадны!
— Ну, берегитесь! Час возмездия ударит скоро.
— Бросьте эту декламацию! — сказал прокурор, посмотрев на разбросанные бумаги, валявшиеся на столе у него под рукой, а затем, повернувшись к секретарю, следившему за этими нападками и отпором на них, спросил, составил ли тот краткое изложение ответов обвиняемого. — Мы слишком заговорились, — продолжал прокурор, обращаясь к Эмери. — Сегодня наше следствие будет закончено. Я вызвал вас одновременно с полковником Анрио и графиней Валевской для последних уточнений, а также для разбора противоречий, пропусков в ваших предшествующих раздельных показаниях.
— Нам незачем возобновлять наши показания и нечего прибавить к ним, — заявил Анрио. — Я уверен, что графиня и мой друг показали чистую правду. Мы ничем не провинились против властей, против долга.
— Вы пытались составить заговор.
— С кем? Чьи имена можете вы приплести к нашим мнимым планам?
— Это я должен спросить у вас! Вот важный пункт, который как раз не выяснен в собранных нами документальных данных.
— Нам нечего сказать, — повторил доктор Эмери, — вы ничего не узнаете от нас. Мы отказываемся отвечать вам.
— Вы сознаетесь косвенным образом в существовании заговора? Вы сделали попытку развратить армию и с целью ниспровержения правительства подбить к побегу военных, считавшихся еще бонапартистами?
— Мы ни в чем не сознаемся, мы невиновны!
— Ну, а вы, графиня, — сказал судья, обращаясь к Валевской, — тоже упорствуете в своем отрицании? Я обязан сообщить вам без утайки и промедления, что у нас наилучшие намерения относительно вас и мы даже вполне готовы возвратить вам свободу.
— Я выйду из тюрьмы не иначе как с моими друзьями! — чистосердечно ответила графиня Валевская. — Я отказываюсь от всякой милости и не намерена воспользоваться никаким преимуществом, если оно не распространяется на полковника Анрио и доктора Эмери! Я хочу разделить их участь, последовать за ними всюду, куда бы ни послали их.
— Боюсь, что мы не в состоянии удовлетворить вас в этом отношении. Политика имеет свои строгости, которые вы не сумеете понять.
— Извините! Я могу со всем примириться, все понять, но вы никогда не вынудите меня совершить подлость. Впрочем, сердце и разум защитят меня от всякой измены, и я рассчитываю остался солидарной с моими товарищами по несчастью.
— А если я скажу вам, что получил исключительное распоряжение, содержащее особую милость для вас?
— Какова бы она ни была, я отказываюсь от нее! Я не хочу быть обязанной чем-либо правительству, которое я презираю и ненавижу всей душой, всеми силами.
— Вот вполне мятежнический язык! Но не горячитесь понапрасну! Знаете ли вы, что полковник Лабэдуайер оказывает вам лестное внимание совершенно особого свойства?
— Что вы хотите сказать этим? — воскликнула графиня.
— Самую естественную вещь на свете, на которой у меня нет охоты останавливаться… впрочем, если только вы не пожелаете и не заставите меня коснуться некоторых подробностей исключительно частного характера.
— Вот именно, я и спешу попросить вас об этом. Я не улавливаю вполне смысл ваших слов и не догадываюсь, куда вы метите. Будьте любезны объясниться; чтобы отвечать, мне нужно хорошенько вникнуть в ваши вопросы.
— Полковник Лабэдуайер был освобожден, равно как и его секретарь.
— Вы видите, что ваше обвинение не выдерживает критики, — с живостью перебил доктор Эмери. — Вы были вынуждены отпустить полковника и не можете предать нас суду!
— Извините, но я как раз намерен сделать это после того, как отвечу графине Валевской. Потрудитесь не прерывать меня больше!
Прокурор подумал с минуту, вертя в пальцах бумагу, которой он помахивал с каким-то лихорадочным нетерпением с самого начала допроса. Его лицо приобрело выражение холодной иронии, голос также изменился; он ради большего эффекта заговорил медленнее, положительнее.
— Графиня, — произнес он, обращаясь к Валевской, — у меня собраны документы по делу, и я, вероятно, сейчас прочту их вам вслух, если меня вынудит к тому ваше упорство. В них заключаются факты величайшей важности и вместе с тем нечто, касающееся вас лично. В моих руках имеется распоряжение, говорящее об особом благоволении к вам. Вы будете освобождены, но мне все-таки понадобилось устроить свидание между вами, полковником Анрио и доктором Эмери, которых я удерживаю под арестом, чтобы с помощью этой ставки узнать некоторые дополнительные подробности. Вы отказываетесь помочь мне скорее решить возложенную на меня трудную задачу. Сознаюсь, я весьма сожалею об этом, но это нисколько не изменит благосклонною решения вашей участи. Не бойтесь ничего! Приказ неотменим. Он — следствие ходатайства полковника Лабэдуайера, а это значит, что между ним и вами существовали отношения, совершенно чуждые политике.
— Это гнусность! Это неправда! — воскликнула возмущенная графиня.
— Никто не может поверить подобной клевете! — сказал Анрио. — Вы не имеете права прибегать к подобным инсинуациям. Полковник Лабэдуайер не способен говорить такие вещи, ручаюсь в том моей честью! Это судебная гнусность!
— Однако полученные мной сведения весьма подробны. Ведь благодаря именно тому, что полковник Лабэдуайер состоял в связи с графиней Валевской и явился на любовное свидание с нею на ферму Марижэ, где вы находились все трое вместе, мы смогли освободить его.
— О, какая страшная подлость! Я не позволю вам далее оскорблять женщину, находящуюся под моей защитой! — пылко сказал Анрио.
— Нельзя ли без угроз и напрасных слов! Надо признать доказанный факт, допустить весьма ясные положения. Графиня Валевская может защищаться сама по себе, она получит свободу и вольна лично обратиться за отчетом к полковнику Лабэдуайеру.
— Не терзайте мою душу! — промолвила графиня со слезами, удрученная тяжким обвинением. — Я не знаю, какие махинации скрываются за такими оговорами. Будущее пугает меня, потому что перед подобной чудовищностью цепенеет ум. Вам известно, кто я такая? Вы знаете, какого рода отношения соединяют меня с императором, и если бы у вас было сердце, то вы не могли бы оскорбить меня без краски стыда!
— Я так же хорошо знаю ветреных женщин, — холодно ответил прокурор, — равно как и то, что у политики есть пружины, которые должны оставаться неведомыми для публики; вдобавок к этому я сознаю свой долг и не позволю ни вам и никому другому отвечать мне таким тоном. Что касается меня, то мне все дозволено, вам же — ничего! Я ваш судья… вы принадлежите мне… вам остается лишь повиноваться! Итак, по моему приказу вы должны немедленно уйти, если не имеете ничего прибавить в качестве свидетельницы.
Конвойные уже собрались вывести графиню вон. Но она была так подавлена, что с трудом держалась на ногах. Волнение мешало ей отвечать, сделать малейшее движение.
Анрио счел нужным протестовать еще, просить ей несколько минут отсрочки.
— Ваши последние слова были слишком резки, — сказал он прокурору. — Вы неблагородны. Так нельзя поступать с беззащитной женщиной. Оклеветанная, униженная, оскорбленная в своем достоинстве, она безоружна против вашего тайного оговора. Вы заставляете ее слишком дорого расплачиваться за свою свободу.
— Полковник, вы мастер по части красноречия, — ответил прокурор. — Кстати, мне надо сообщить и вам целый ворох забавных вещей; дело, лежащее здесь, в значительной степени касается вас. Было бы довольно интересно видеть, как графиня Валевская, ваша приятельница и любовница корсиканца, которому она дарит незаконнорожденных детей, будет слушать чтение этих документов, следить за интересными перипетиями и, пожалуй, распространять их, как сделали вы сейчас относительно нее. Если я оскорбил эту даму, то охотно прошу у нее прощения ради удовольствия, которое она доставляет мне тем, что дает возможность ответить вам как следует на вашу брань.
И прокурор залился притворным смехом.
Наступило молчание, прерываемое подавленными рыданиями графини. Прокурор шарил между бумагами на письменном столе, рылся в них, перекладывая их с места на место с нервной дрожью в пальцах, что говорило о его лихорадочном нетерпении.
Полковник Анрио был поражен загадочными словами прокурора. Он пытался проникнуть в их смысл, но не мог. Увы, он не предвидел, как вся его любовь, все лучшее в его сердце и жизни обольется кровью и затрепещет в этом мрачном кабинете, куда он был вызван по обвинению политического свойства. То, что предстояло ему выстрадать, чувствуя, как оскорбляется его гордость доброго человека, храброго солдата и доверчивого мужа, то, что он был должен вырвать из своей души под взором безжалостного негодяя, в присутствии графини и доктора Эмери, граничило со смертельным ударом. Он очутился на краю пропасти, на той грани бедствия, которые навсегда старят самых великодушных и доводят до самоубийства и сумасшествия людей с самым закаленным характером.
— Итак, — спросил прокурор, — вы прибыли с острова Эльба, который покинули с разрешения Бонапарта, пожалуй даже по его приказу, и с секретной миссией, что будет тщательно рассмотрено! Теперь же вы намерены посетить свою жену, которая живет в Комбо при супруге маршала Лефевра?
— Совершенно верно, — ответил Анрио. — Тут нет никакой тайны. Я люблю свою жену и любим ею взаимно… мы оба спешим повидаться друг с другом. Она не могла приехать ко мне на остров Эльба; я испросил разрешение прибыть сюда, чтобы провести с ней несколько дней. Кажется, это вполне естественно?
— Да, разумеется! Но часто самые простые вещи быстро запутываются, создают самые противоестественные осложнения.
— Моя жизнь не отличается сложностью. Я известен походами, и мое имя не раз с честью упоминалось в приказах по армии. Что дурного в том, если я остался верен императору? Ваш арест мало тревожит меня. Докажите, что я согрешил против любви к отечеству, против долга и чести! Найдите улики, доказательства тому, что я замешан в готовящихся заговорах, тогда я умолкну! Нет, я вправе высоко держать голову и гордо смотреть перед собой!
Прокурор промолчал. Он казался занятым какой-то собственной мыслью и немного спустя потянул к себе объемистое «дело». Развернув его с мелочным тщанием, этот человек спросил, неторопливо произнося каждое слово:
— Знакомы ли вы с Мобрейлем, маркизом д'Орво, графом де Герри, французским авантюристом, родившимся в Мобрейле в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году?
— Да, — подтвердил Анрио, — я видел его не раз в Тюильри и у супруги маршала Лефевра в Комбо.
— Вы никогда не сходились с ним коротко, и ваши отношения оставались такими, какие существуют между светскими людьми, встречающимися в высшем обществе, на парадных церемониях, на вечерах и приемах?
— Именно такими! Все знакомство между нами ограничивалось просто вежливостью. Мы обменивались только незначительными словами при случайных встречах.
— Очень хорошо, полковник. Сведения, заключающиеся в этих бумагах, весьма точны. Я задам вам один довольно щекотливый вопрос. Можете ли вы сообщить, не имела ли ваша супруга более прямых отношений с Мобрейлем, которого она тоже встречала у супруги маршала Лефевра?
— Я могу с уверенностью утверждать, что моя жена никогда не видалась с де Мобрейлем без меня или супруги маршала. Моя дорогая Алиса выезжала очень редко… Неужели вы располагаете особыми сведениями относительно ее поведения, которые могли быть истолкованы неправильно?
— Я отвечу вам, или, скорее, факты, упомянутые здесь, подробно ответят вам на ваш весьма законный вопрос. Но предварительно позвольте ознакомить вас с некоторыми весьма важными фактами, касающимися маркиза де Мобрейля. — И прокурор объяснил, что Мобрейль был замешан в историю с похищением драгоценностей, которые увезла с собой Мария Луиза, повлекшую за собой его арест, после чего продолжал: — Мобрейль всегда оставался врагом Наполеона. Он продался Бурбонам, содействовал всем замыслам, которые могли окончательно погубить императора и даже отправить его на тот свет. Он покушался на его жизнь на дорогах Прованса, как и на жизнь его обоих братьев: Жозефа и Жерома. Эти факты, о которых мы делали донесения гораздо раньше, получили огласку. Ему выдавались неосторожные приказы за подписью военного министра Дюпона, временного комиссара общей полиции Англэ, главного почтдиректора Бурьена, русских и прусских военных властей от шестнадцатого и семнадцатого апреля, по которым в распоряжение Мобрейля поступили все военные силы, французские и иностранные, все агенты, могущие понадобиться ему для исполнения секретной миссии и осуществления мер, какие он пожелал бы принять «ради службы Людовику Восемнадцатому». — Сделав маленькую передышку, прокурор продолжал: — Все эти документы, безусловно подлинные, у нас перед глазами; они объясняют отчасти грабежи, которые ставят в вину Мобрейлю. Он сговорился с неким Дасси, бывшим смотрителем магазина в Ножан-на-Марне, снабженным теми же полномочиями. Мобрейль в мундире гусарского полковника, а Дасси в форме национального гвардейца отправились кратчайшим путем в Монтро. Они выдали себя за адъютантов военного министра и потребовали себе восемь мамелюков и гвардейских стрелков. Во главе этого отряда маркиз со своим сообщником остановил у деревни Фенар императрицу с ее свитой, покинувших Париж восемнадцатого апреля. При них оказалось одиннадцать чемоданов. Они были все взломаны, чтобы вынуть из них золотые вещи, драгоценности, бриллианты, а затем отправлены обратно в Париж. Императрица написала императору Александру, требуя назад свои драгоценности, как и возмещения убытков, понесенных ею в этой западне. Она везла с собою приблизительно на два миллиона бриллиантов; кроме того, у нее была отнята сумма в восемьдесят шесть тысяч франков золотом. Большую часть этих сокровищ нашли в различных жилищах Мобрейля, остальное подняли со дна Сены, около моста Инвалидов. Мобрейль не думал отрицать, что он организовал это нападение из засады, но утверждал, что не присутствовал при исполнении своего плана и что драгоценности были украдены без его ведома, вопреки строгому запрету похищать что-нибудь при этом дерзком предприятии. Он сознался в стремлении убить императора. Но это простительно, так как со стороны Наполеона всегда надо опасаться попытки к возвращению. Мобрейль виновен, допустим это. Он подлый искатель приключений, но не следует быть слишком придирчивым к нравственности человека, если он оказывает крупные услуги' нации. Разбойники часто совершают поступки, гнусные в смысле средств, но их извиняют цели. Именно при содействии смельчаков и забубённых голов, рука которых легко хватается за оружие, разрешаются трудные ситуации. Дасси был оправдан; Мобрейль предстанет перед исправительным судом департамента Сены.
Воспользовавшись паузой в речи прокурора, который настойчиво продолжал этот рассказ, пускаясь в излишние подробности, делая отступления, явно выказывая сочувствие разбойнику, плугу на королевской службе, полковник Анрио внезапно произнес:
— Вы крайне обязали бы нас, если бы сократили эту историю, не имеющую к нам никакого отношения. Мобрейль украл драгоценности — да разве это касается нас? Он хотел убить Наполеона, но, к счастью, потерпел неудачу; какая же связь между этими фактами и процессом, который затевается против нас?
— Мы как раз дошли до дела, полковник. В жизни мошенника все сплетается вместе. Он развращает все, к чему причастен, и каждая личность, соприкасающаяся с ним, неизбежно будет скомпрометирована. Обвинительный акт ставит Мобрейлю в укор неточность в исполнении приказов высших властей, отводя второстепенное место вооруженному грабежу на большой дороге.
— Одно не чище другого, — сказал Анрио. — Вашему делу служат наемники, достойные своей низкой работы. Когда государство нуждается в подобных помощниках, оно заслуживает сожаления.
— Не королевское правительство достойно жалости, но скорее вы сами, полковник, играющий роль жертвы или сообщника как раз в настоящем деле об украденных бриллиантах. Вы говорили мне, что ваша жена многократно встречалась с маркизом де Мобрейлем?
— Да, и я могу открыто заявить об этом. Тут нет никакого позора! Если бы все порядочные люди, знавшие этого Мобрейля, должны были навлекать на себя подозрение, это было бы плачевно.
— Пожалуй, но не у всех порядочных людей есть ветреная, неосторожная жена-кокетка! — иронически промолвил прокурор, не стараясь замаскировать свой ясный намек. — Постойте, хотите выслушать несколько слов вот отсюда? Это копия дела Мобрейля; тут изложены его ответы судебному следователю. В них вся защита подсудимого. И его оправдают, основываясь на ней, я нисколько в том не сомневаюсь, потому что он противопоставляет обвинению алиби, которое, по-видимому, доказано: ведь его показание подтверждено достоверными свидетелями. Прочтем, однако, рапорт, он поучителен.
Тут, переворачивая страницы, прокурор стал отыскивать отмеченное им место в обвинениях и ответах маркиза. Найдя что следовало, он поднял голову.
— Послушайте, вот подлинные слова Мобрейля: «Восемнадцатого апреля, в тот же день, когда королева Вестфальская покинула Париж, в три часа дня, я провел вечер и ночь в ресторане Латюиля в обществе жены полковника Анрио».
— Мерзавец! Негодяй! — воскликнул Анрио. — Этот человек лжет! Вы видите сами, что это невозможно. Пусть он установит, что его видели с моей женой в тот день, пусть докажет, что она скомпрометировала себя с ним!
— Он так и сделал, полковник; Мобрейль ловко взялся за это! Он представил свыше десяти свидетельств в свою пользу, сплошь достоверных.
— Они не могли признать мою жену, мою дорогую Алису; эти люди не видали ее в глаза: она никогда не бывала у Лятюйя.
— Жестоко ошибаетесь! Она много раз приходила в Ресторан с Мобрейлем в качестве кавалера, а также, до вступления союзников, с супругой маршала Лефевра, которая таскалась в свою очередь с сержантом ла Виолеттом.
— Эти факты ничего не доказывают, не оправдывают ужасной клеветы!
— Мобрейль думает наоборот. У него есть свидетели, повторяю вам. Он провел ночь восемнадцатого апреля в ресторане Лятюйя с госпожой Анрио. Жена Лятюйя, слуги, прислуживавшие им, люди, знающие в лицо госпожу Анрио, утверждают, что Мобрейль не лжет! Впрочем, у вас есть довольно простое средство убедиться в том, не обманул ли нас Мобрейль, нет ли тут, несмотря на многочисленные уверения, подтверждающие факты, умышленной ошибки, обмана.
— Какое же это средство?
— Напрягите хорошенько свою память и скажите мне, где провели вы ночь восемнадцатого апреля… не ночевали ли вы, например, вместе со своей женой? Стоит вам доказать это, как вся мерзкая ложь Мобрейля рухнет сама собой. Останется одна запутанная комедия, в которой он заставил сыграть роль обманщиков или доносчиков чересчур податливых свидетелей; и я первый встану тогда на вашу защиту.
Полковник Анрио медлил с ответом. Он переживал жестокую пытку.
Вопрос прокурора поставил его в сильнейшее затруднение. Какое ужасное сомнение, какой мрак должны были бы овладеть его умом, если бы, по какой-нибудь роковой случайности, ему не удалось разъяснить дело, найти немедленное и неопровержимое доказательство! С пылким нетерпением перебирал Анрио свои воспоминания. Однако ни единый луч торжества не освещал его лица, искаженного тревогой, ужасом при невозможности убедить себя.
Доктор Эмери с беспокойством следил за чтением прокурора и за действием жестокого признания Мобрейля на душу Анрио. За все это время он не произнес ни слова.
Графиня Валевская как будто дремала, до такой степени расстроили ее коварные обвинения, которые она выслушала за несколько минут до этого.
Она сидела потупившись, сложив руки, подавленная всем случившимся. Однако последние слова прокурора, обращенные к Анрио, заставили ее встрепенуться, и она с большим нетерпением ожидала ответа полковника.
Тяжелое молчание томило присутствующих.
Анрио испытывал невыносимую пытку. Вдруг он пошатнулся и воскликнул:
— Несчастная!
Доктор Эмери подхватил его на руки, тогда как графиня подвинула ему стул.
Анрио тихонько стонал, и слезы медленно катились по его щекам.
— О, Алиса, Алиса! Обожаемая красота моя, — воскликнул он, — ты обманула мою любовь, мое доверие. Ты была моей гордостью, моим божеством, моей лучезарной красой. Все кончено, горе убьет меня, я слишком люблю тебя!
Графиня Валевская искала нежные слова, чтобы смягчить эту глубокую скорбь. Доктор Эмери уговаривал и утешал как умел несчастного, советуя ему успокоиться, ободриться, хладнокровно принять случившееся.
Прокурор оставался бесчувственным и надменным. Плохо скрытая улыбка блуждала порой по его губам. Его маленькие моргающие глазки светились радостью. Он смотрел на нравственную гибель, вызванную им, на рану этого человека, подло пораженного им в сердце оружием закона.
Наконец графиня, обернувшись к нему, сказала:
— То, что вы сделали, отвратительно! Но я женщина, а женщины способны лучше сопротивляться сердечным ударам, крушениям чувства. Между тем мужчина, теряющий то, что он любит, бывает слаб; он не может овладеть собой и отдается уносящей его буре, беспомощный, измятый, израненный! Он все утратил, он не сознает более ничего. Где найти ту, которая заменит разбитый кумир? Он может только стонать, плакать… его храм разрушен, мрак надолго водворился у него в сердце; для него жизнь кончена!
— Вздор — все эти разглагольствования! Оставьте ваше нытье! — сказал прокурор. — Потрудитесь уйти, вы свободны!
— Я уйду не иначе как вместе с полковником Анрио и доктором Эмери.
— Этих господ я оставляю у себя. Вы должны отправляться одни, вам уже было сказано… все формальности соблюдены мной заранее! — И, приказав страже увести графиню, прокурор поднялся и вышел из кабинета через боковую дверь, тогда как графиня Валевская против желания получила свободу, а полковник Анрио, поддерживаемый доктором Эмери, был отведен обратно в тюрьму.
XIV
Как какое-нибудь существо без разума, как животное, которое ведут на бойню, полковник Анрио был отведен обратно в тюрьму, не успев даже вернуть себе хладнокровие. Удар был слишком силен, Анрио страдал под тяжестью того, что было раскрыто в суде.
Он оставался глух и ничего не отвечал на слова доктора Эмери, на нежные утешения графини Валевской, но его страдание было огромно и горе безысходно. Единственно, что он желал теперь, — это смерти. Лишь одна мысль жгла его мозг — мысль о том, что его безгранично любимая жена, его нежная, кроткая Алиса изменила ему, и с кем же? С каким-то негодяем авантюристом!
Когда он наконец пришел в себя, лежа на своей маленькой, низкой постели в тюремной камере, прошло довольно долгое время. Он оставался два дня без пищи и две ночи без сна. Но после этого периода уныния к нему вернулся некоторый душевный покой; мало-помалу у него снова возродилась энергия, и он стал думать о своем положении.
Он был скомпрометирован, и очень серьезно, в заговоре против Бурбонов, и это могло стоить ему жизни. Но вместо того чтобы защищаться, он открыл себя со всех сторон для нападения. Правда, так он мог спасти своего преданного друга, доктора Эмери, признанного опасным человеком в Гренобле.
Правительство хотело показать пример наказания населению, слишком расположенному к Наполеону, и рассчитывало, что, чем нагляднее будет пример, тем сильнее будет влияние.
Полковник уже знал, что его участь решена в военном совете. По донесению прокурора он вместе с доктором Эмери должен был подвергнуться суду королевского комитета, и относительно приговора у него не было никаких иллюзий.
Это решение обрадовало Анрио, и он благословлял обстоятельства, так хорошо сложившиеся для него. Последние юридические формальности должны были скоро кончиться; правительственный комиссар уже сообщил ему день, когда он должен предстать перед военным судом.
Конечно, полное успокоение не снизошло на Анрио, но зато теперь его поддерживало сознание своего долга и достоинства. Он решил, что должен оставаться спокойным и гордым, должен приготовиться умереть как храбрый солдат, а не как обманутый муж, которого угнетает сердечная боль; ведь он должен умереть за свое дело, а не от любовного горя.
Свидания с посторонними были вообще запрещены подсудимым, но в виде исключения полковнику Анрио было разрешено принять кого-либо по своему выбору, кому он пожелал бы передать последнюю волю. Эта милость была разрешена ему в награду за его признание. Он действительно признался, что стремился низвергнуть Бурбонов и восстановить императора Наполеона на троне; но, принимая на себя главную вину, он упорно старался выгородить Эмери и совершенно не упоминал о своем друге, полковнике Лабэдуайере. Ему предстояло через два или три дня появиться на суде, после которого приговор должен был быть немедленно приведен в исполнение, и он попросил пригласить к нему супругу маршала Лефевра.
Сторож явился за ним как раз в тот момент, когда он с глубокой грустью думал об их убежище в Комбо, и доложил:
— Вас спрашивает какая-то дама, очень похожая на доброго молодца, — фамильярно прибавил сторож. — Она одета как маркиза, но без всякой церемонии называет всех на «ты»… Должно быть, это очень хорошая особа.
— Да, знаю. Поспеши же.
Полковник прошел в приемную. Железная ажурная решетка отделяла его от комнаты, где находились посетители. Мадам Сан-Жень была одна; позади нее лишь стоял тюремный смотритель, чтобы присутствовать при их беседе.
— О, мой милый, как ты изменился! — проговорила госпожа Лефевр со слезами в голосе.
— Не плачьте, моя дорогая благодетельница, успокойтесь! Я не какой-нибудь страшный преступник, и, что бы ни случилось со мной, вам не придется жалеть меня, так как вскоре меня не будет. Я ухожу туда, где забвенье, покой.
— Что ты говоришь? А твоя жена, а маршал? Ты забыл о них, несчастный! Тебе нужно защищаться! Постарайся смягчить судей, добейся отсрочки. Ведь они — военные, ты же смелый, отважный офицер, они оправдают тебя.
— Не думаю. Я признался, я все взял на себя.
— Как? В чем ты признался? Ведь ты же не сделал ничего бесчестного. Ты наш, и мы ждем, что ты скоро вернешься к нам. Алиса хотела сопровождать меня сегодня, она плачет все время. Мы ничем не можем утешить ее.
— О, не говорите мне ничего об Алисе!
— Вот тебе раз? Почему же это? Ты писал нам и ни одним словом не заикался об Алисе. В последнем письме, где ты просил меня приехать к тебе, ты даже определенно сказал, чтобы Алиса не приезжала со мной. Ты, значит, хочешь быть один? Разве ты не понимаешь, что твое поведение странно и неприлично?! Ты и так много зла причинил бедной Алисе, которую мы любим так же, как и тебя. Вы оба — наши дети.
— Замолчите, умоляю вас, вы разбиваете мое сердце! — воскликнул Анрио, закрывая лицо руками.
Госпожа Лефевр, удивленная этим порывом, по-видимому, была сбита с толку выражением искреннего горя. Горькая мысль мелькнула у нее в голове: уж не узнал ли Анрио, что жена обманула его с Мобрейлем? Как же тогда он говорил о ней? Почему он плакал? Но нет! Этого не может быть! Ведь Анрио ни от кого не мог узнать ужасную истину и неверность, в которой так искренне раскаивалась Алиса и которая должна была оставаться навеки тайной для него.
— Послушай, дитя мое, — начала мадам Сан-Жень, — мне непонятны причины, которые так глубоко волнуют тебя. Конечно, твое несчастье велико, но ведь Алиса тут ни при чем, и ты не должен так говорить о ней. Ты обижаешь меня.
— Вы правы, я виноват в том, что выказал слабость перед вами. Прошу простить меня.
— Ну хорошо, успокойся, расскажи мне все откровенно!
— Да, да, я все расскажу вам. Вы поймете меня, вы так преданны и так прямы по отношению к маршалу, которого я люблю как своего родного отца! Вы чужды низости…
— Расскажи мне все, Анрио! — с состраданием произнесла мадам Сан-Жень. — Доверься мне как своей матери.
Анрио отер слезы и начал свою исповедь. Алиса изменила ему с Мобрейлем, он узнал об этом от прокурора, который сообщил ему об этом в присутствии его лучшего друга, доктора Эмери, и графини Валевской, красавицы польки, которой когда-то увлекался император. Этим почти публичным оскорблением ему была нанесена страшная рана.
— И несмотря на это, — продолжал Анрио, — я все же мысленно уношусь к тем мгновениям счастья, которые Алиса подарила мне! Я люблю ее как испорченного ребенка, звук ее невинного голоса до сих пор чарует меня, нега ее взора заставляет биться мое сердце. Мне немного нужно, чтобы сойти с ума. Я готов был бы разбить себе череп о стены тюрьмы, если бы во мне не было уверенности, что моя жизнь принадлежит императору, что я должен подчиниться ожидающему меня приговору; ведь моя казнь воскресит в этих местах сожаление по императору и увеличит ненависть к королевским палачам. Я отказываюсь от самоубийства, потому что мне обеспечена более благородная смерть.
— Но что, если тебя обманули, если Алиса осталась верна тебе? — проговорила Екатерина Лефевр, стараясь посеять сомнение и думая таким образом спасти тех, кого она называла своими детьми. — Ты не должен верить, должен забыть.
— Не верить, забыть? — повторил полковник. — Но я считал дни, часы рокового числа и каждый раз только глубже чувствовал весь стыд и весь ужас своего бесчестия. Восемнадцатого апреля Алиса находилась с Мобрейлем в ресторанчике Лятюйя, да, мне это известно… В этот день я был в Комбо и хотел, чтобы Алиса была со мной. Мы должны были провести вместе весь день перед моим отъездом к императору, который направлялся к Провансу и острову Эльба. Я уже так давно не был свободен! Но — вы помните? Несмотря на мои мольбы, Алиса уехала от нас, так как хотела быть в Париже. И она не вернулась. О, я все отлично помню теперь! Когда я спросил ее, почему она не приехала назад, она ответила, что не было почтовой кареты и что она осталась ночевать у де Бриньон, с которой я едва был знаком. Я написал этой даме, и она ответила мне, что ее не было в Париже весь апрель месяц; ее письмо здесь. До этого последнего доказательства я все еще сомневался… Но что же мне теперь делать? Разве это недостаточно ясно, грубо и ужасно?
Анрио говорил с лихорадочной торопливостью. Мадам Сан-Жень ничего не могла сказать; она была поражена. Ее честность также протестовала против измены Алисы, и она вполне сочувствовала Анрио.
— Послушай, дитя мое, — начала она, — то, что ты сообщил мне, действительно отвратительно. Но не следует отчаиваться, слагать оружие. Ты выйдешь отсюда, мы постараемся утешить тебя. В Комбо мы создадим тебе такую приятную, тихую жизнь, что ты все забудешь и простишь.
— Увы, я уже говорил вам, что моя жизнь кончена. Я не увижу Комбо. Передайте от моего имени маршалу, что я не перестану до гроба питать к нему чувства дружбы; что же касается Алисы, то пусть она забудет меня, неблагодарная! — Он на мгновенье прервал свою речь, видимо подавленный тяжестью обстоятельств, а затем продолжал: — Но теперь и нам придется расстаться. Я очень рад, что видел вас, но мне необходимо быть одному, так как я слишком страдаю. До свидания! Поцелуйте от меня маршала и прощайте навсегда, так как нам не придется увидеться более!
— Но почему же? Я думаю, наоборот, что мы скоро увидимся, — воскликнула мадам Сан-Жень прерывающимся от рыданий голосом.
Однако Анрио ничего не сказал и вышел, понурив голову.
Едва он удалился, как мадам Сан-Жень опустилась на скамью и дала волю слезам.
Три дня спустя полковник Анрио был приговорен к смерти, а доктор Эмери оправдан военным судом.
XV
Приговор военного суда нисколько не напугал полковника Анрио. Он ожидал его, почти сам вызвал его, и его признания были вполне категоричными. Его поведение, так же как поведение доктора Эмери, было твердо в присутствии правительственного комиссара.
Доктор во время речи увлекся своими революционными идеями, которые в умах тогдашних либералов неразрывно сочетались с наполеоновским режимом и трехцветным знаменем.
— Господа, — сказал он, — я отлично понимаю, что у вас есть две причины, чтобы осудить нас. Во-первых, вы хотите показать, что можете покарать самых достойных и благородных офицеров, оказавших большие услуги отсутствующему императору, и в то же время хотите заставить поверить других, что мы не больше как исключение, что армия верна вам и забыла своего прежнего вождя. Но, мне кажется, ваша игра повредит только вам и от этого выиграем мы. Что значит наша жизнь, моя и полковника Анрио? Мы уже давно принесли ее в жертву. Мы не боимся вашего приговора. Но я считаю нужным заявить во всеуслышание: реставрация, которой вы служите, имеет призрачную прочность, данные ею обещания все оказались ложью. Народ в скором времени заметит ваш деспотизм и постарается уничтожить вас. И меры, к которым прибегнет он, будут ужасны! Неужели вы настолько слепы и глухи? Неужели вы ничего не слышите и не видите? Вы — жалкие безумцы! Разве вы не понимаете, что ваши деспотизм и репрессии повлекут печальные последствия и что за них придется отвечать Людовику Восемнадцатому и его семье, связанной узами родства с иностранными монархами, легионы которых пролили кровь наших соотечественников? Господа, ваше лицеприятие велико, ваше невежество безгранично, ваши приговоры низки и фанатичны! Если бы вы прислушивались к тем крикам, которые доносятся до моего слуха через плохо закрытые рамы окна, вы отпрянули бы в страхе и ужасе! Народ ожидает вашего приговора, но его бесконечная наивность, его доверие еще раз будут обмануты. Мое имя известно и пользуется уважением в этом большом и прекрасном городе Гренобле. Симпатии, которые охраняют мое имя, сильнее, чем все ваши статьи, они переживут ваш приговор и когда-нибудь заявят миру о вашей низости, о вашей рабской подлости и занесут ваше имя на скрижали истории, в красный список политических преступников.
Эта речь произвела большое впечатление на присутствующих и спасла жизнь доктору.
Анрио отказался от речи; он ограничился тем, что подтвердил свои показания.
Отведенный обратно в свою камеру, он ждал казни, которая должна была состояться через сорок восемь часов.
По закону приговоренные к смерти имели право видеться со своими друзьями или родственниками, а также могли распорядиться своим наследством, прежде чем состоится казнь; только ради этого и давалась эта незначительная отсрочка. Однако Анрио отказался видеться с кем бы то ни было, и ему нечего было также ни писать, ни передавать что-нибудь.
Поэтому он был немало удивлен, когда сторож ввел к нему двух дам и мужчину. Его камера еле освещалась узким окошком, выходившим на тюремный двор, и он не сразу признал вошедших.
— Неужели ты не хочешь расцеловаться с нами? — проговорил мужчина, хлопая полковника по плечу.
Анрио лежал в это время на своей узкой постели. Услышав возглас, он вскочил, точно на пружинах, и, приглядевшись, воскликнул:
— Маршал! Неужели это вы? Благодарю вас, что вы не забыли меня!
Он кинулся в объятия маршала Лефевра и крепко сжал его.
— Нас тоже следует поцеловать, — проговорила в свою очередь Екатерина Лефевр, подводя Алису, закутанную в густую вуаль.
— Вас — да. Но ее никогда, никогда… Я не могу! — воскликнул Анрио и, бросившись на шею к мадам Сан-Жень, зарыдал. Несколько успокоившись, он продолжал: — Ваш неожиданный приход является настоящим счастьем для меня! Но к чему вы привели Алису? Вы заставляете меня испытывать муки. Я не хочу видеть ее. Я хотел умереть с памятью о ней и с моим горем.
— Постой, посмотри на нее! — сказала мадам Сан-Жень, указывая на Алису, которая, стоя на коленях, тихо шептала про себя, точно молясь.
— Прости, прости, Анрио! — сказала она. — Я менее виновна, чем ты думаешь, уверяю тебя! Я пришла, чтобы покаяться в своих прегрешениях у твоих ног, рассказать тебе о своих страданиях. Я хочу, чтобы ты знал все тайны моего сердца, чтобы ты понял мою вину. Если после того, как ты выслушаешь меня, ты откажешься поцеловать меня, я умру раньше тебя. Жизнь стала адом для меня! Одна легкомысленная ошибка, один проступок, совершенный вопреки моей воле, заставили меня постареть на десять лет. Ведь и изменяя тебе, я сама не знаю, как это свершилось, я любила тебя. Это слишком тяжело! Тебе известно, что я обманула тебя низко и подло. Я сделала все, чтобы скрыть от тебя это чудовищное преступление, двадцать раз я готова была признаться тебе в своем проступке. Но я никогда не могла собраться с силами. Я чуть не умерла, когда осмелилась признаться нашей дорогой благодетельнице.
— Это правда, друг мой, — ответила герцогиня, — хотя еще три дня тому назад я пыталась успокоить тебя, но мне уже давно было все известно.
— Так, значит, весь мир презирал меня! — вскрикнул Анрио. — О, как я несчастен!
— Нет, Анрио, — возразила мадам Сан-Жень, — весь мир не мог презирать тебя. Наоборот, ты вызывал к себе лишь любовь и всеобщее уважение. Только Мобрейль виноват во всем этом, и только его презирали за его низость.
После этого она рассказала то, что когда-то она сама узнала от Алисы. Она сообщила, как горько раскаивалась бедная женщина, как сильно страдала она. Алиса никогда не любила Мобрейля; этот бандит, этот вор воспользовался положением женщины, воспользовался тем, что смог заставить ее подчиниться его влиянию, которое трудно объяснить, но которое снимало с нее ответственность за еепроступок. Алиса проклинала эту связь, которая едва не довела ее до пропасти самоубийства, и только ей, мадам Сан-Жень, удалось отговорить ее от этого решения покончить с собой. После этого молодая женщина снова как бы несколько успокоилась и с наивной, безумной верой начала верить в счастье. Госпожа Лефевр обещала ей забвение и мир, приняла в ней участие и сумела восстановить у нее веру в себя. Но с тех пор, как с Анрио случилось несчастье, она снова впала в отчаяние и решила во что бы то ни стало покончить с собой. Однако сперва ей хотелось повиниться Анрио, которого она не переставала любить, несмотря на измену. Она хотела покаяться в своем проступке, кричать о нем и искупить свою вину. Поэтому маршал и его супруга взяли ее с собой в тюрьму. Алиса узнала о той участи, которая ждет Анрио, и ее горю не было границ. Они взяли ее с собой, так как хотели, чтобы перед смертью муж узнал, что вина Алисы была не так велика, как ему могло показаться.
Рассказав все это, герцогиня подняла молодую женщину и, подтолкнув ее в объятия мужа, сказала:
— Поцелуйтесь же! Вы еще достойны один другого. Горе уравнивает характеры. Следует простить, я так хочу.
— Да, прости, — присовокупил со своей стороны маршал, — Алиса очень страдала и уже этим заслужила прощение.
— Хорошо, — сказал Анрио, — раз так вы хотите, маршал, и вы, моя добрая матушка, я прощаю! Насколько мои уста и мое сердце, которые были осквернены словами ненависти и злобы против моей дорогой Алисы, могут прощать, я готов простить и все забыть. Сколько бы я ни кричал на тебя, моя дорогая, я все-таки люблю тебя, я все-таки — твой самый верный и преданный обожатель. Я люблю тебя, Алиса, и готов забыть и простить все ради того счастья, которое испытываю в данный момент, снова видя тебя.
— Благодарю, — проговорила молодая женщина, обнимая его и запечатлевая на его устах свой пылкий поцелуй.
XVI
Графиня Валевская, выпущенная на свободу, решила предпринять все возможное, чтобы спасти Анрио. Прежде всего она решила известить обо всем Наполеона.
Казнь полковника могла сильно подогреть общественное мнение, настроить в сторону восстания крестьян и возмутить армию; поэтому нужно было воспользоваться трагическими обстоятельствами. Если император узнает об этой казни, может быть, он ускорит свое бегство.
Значит, ей снова нужно было отправиться на остров Эльба. Одной? Такое путешествие было и трудно, и небезопасно. Ей нужно было посоветоваться, но с кем? Кому можно было довериться?
Графиня колебалась, когда в Гренобль под охраной доброго ла Виолетта прибыли маршал Лефевр, его супруга и Алиса, чтобы попытаться отсрочить казнь Анрио и умилостивить военный суд. Графиня встретилась с ними.
Узнав, в чем дело, маршал и его жена, хотя и не веря в скорое возвращение Наполеона, тем не менее дали графине в провожатые ла Виолетта. Графиня и грубый, но добрый малый отправились в путь немедленно.
Прибыв в Ливорно, они встретили Нейла Кэмпбела.
Английский комиссар сильно скучал на острове Эльба. Он никогда не допускал мысли, что Наполеон мог покинуть остров, а потому постоянно устраивал себе небольшие передышки и приезжал то в Рим, то в Геную, то в Ливорно.
Обрадованный встречей с графиней, красота которой произвела на него при первом свидании огромное впечатление, Кэмпбел забыл про свои обязанности тюремщика и был занят только мыслью о том, как бы подольше удержать графиню в Ливорно. Кроме испытываемой им страсти он тешил себя мыслью, что, может быть, ему придется обладать любовницей Наполеона.
Графиня Валевская заметила это и стала кокетничать с англичанином напропалую, стараясь удержать его подальше от острова Эльба. Это ей удалось, а тем временем ла Виолетт отправился с ее устным поручением на остров.
Преданный тамбурмажор не знал, как ему удастся увидеться с императором, не навлекая на себя подозрений. В течение нескольких дней он посещал только своих знакомых солдат, говоря им, что хотел бы снова поступить на службу на остров. Он наблюдал за всем, стараясь как-нибудь попасть навстречу императору и воспользоваться удобным случаем, чтобы заговорить с ним. В то время как он бродил по Портоферайо, до него дошел слух, что на остров прибыл какой-то молодой человек с вестями из Франции. Ла Виолетт стал разыскивать этого молодого человека; последний не был послом, но, во всяком случае, его усиленно рекомендовал императору герцог Бассано. Встретив наконец этого человека, ла Виолетт сказал ему, что у него есть интересные новости из Гренобля, которые он должен передать императору. Флери де Шабулон, так звали молодого человека, ответил, что передаст это императору.
Впечатление, произведенное на императора привезенными Шабулоном сведениями о состоянии умов в Париже и о том, что он будет с восторгом принят там, было очень сильно, а сведения, привезенные ла Виолеттом, окончательно укрепили императора в его намерении. Наконец отсутствие Кэмпбела, а также уверенность, что графиня Валевская удержит его еще в течение двух недель вдали от Эльбы, заставили Наполеона поспешить с отъездом.
Тогда, не сообщая никому о своих планах, кроме своей матери, Наполеон начал свои приготовления. Мать Наполеона, узнав о его намерении, была потрясена.
— Дай мне возможность на один момент стать матерью, — промолвила она, — и я выскажу тебе, что чувствую.
Она страдала при мысли, что ее сын может быть арестован, выдан пристрастным судьям и затем расстрелян. И в то же время ей ясно представлялись те условия, в которых в дальнейшем будет протекать его ссылка.
Взвесив все эти возможности, она подняла голову и решительно сказала:
— Отправляйся, сын мой, отправляйся! Следуй тому, что уготовано тебе судьбой! Быть может, ты потерпишь неудачу и найдешь преждевременный конец. Но вместе с тем ты не можешь жить здесь; я с грустью убеждаюсь в этом ежедневно. К тому же будем надеяться, что Бог, который столько раз хранил тебя среди битв, сохранит тебя и на этот раз.
Она поцеловала его в лоб и ушла, взволнованная, но не удрученная, утешая себя мыслью, что ее сын не может находиться в бездействии на этом уединенном острове.
Наполеоном были приняты такие предосторожности, что никто, за исключением генерала Друо, не догадывался о готовящемся отъезде.
Бриг «Непостоянный» снова появился, но уже перекрашенный. Он теперь внешне походил на английские суда и мог смело пройти незамеченным среди сторожевых судов.
Двадцать шестого февраля 1815 года, в восемь часов вечера, когда войско только что окончило свой несколько ранний ужин, был дан приказ готовиться к походу.
Офицеры находились на балу, который устраивала княгиня Боргезе. Солдаты думали, что дело идет о каком-нибудь смотре или маневре, который хочет произвести император. Но вскоре все поняли истинное значение приказа, и прогремел громкий клич: «Да здравствует император!». Все стали целоваться друг с другом от радости, что снова будут во Франции и начнут новый путь к славе.
В тот момент, когда император собирался ступить на бриг, он заметил ла Виолетта во главе солдат на своем месте тамбурмажора и, сделав ему знак, спросил:
— Готов ли ты, ла Виолетт?
Жезл тамбурмажора поднялся и описал параболу в голубом небе. В тот же момент раздались звуки марша, который в последний раз играли на берегу острова.
Флотилия Наполеона распустила паруса. Император ступил на бриг в сопровождении генералов Берто, Друо, Камброна и директора рудников Рио Понса де Леро. Начальствование над островом было передано камердинеру Наполеона Лапису, который был переименован в губернатора.
Окрестности Эльбы охранялись французскими судами «Лилия» под командой шевалье де Гара и «Мельпомена» с капитаном Галле.
Как в отъезде, так и в высадке Наполеона все было как-то странно и чудесно. Но нужно помнить, что Кэмпбел все еще отсутствовал, а королевские суда должны были вечно крейсировать вокруг острова.
Переход длился две ночи и два дня. В понедельник 27 февраля бриг был встречен французским судном «Зефир» с капитаном Андрие. Командир брига, на котором плыл Наполеон, обменялся приветственными фразами через рупор с коллегой, которого он хорошо знал. Гренадеры в это время сняли свои мохнатые шапки и легли на палубу. Капитан Андрие ни на одно мгновение не заподозрил, кого вез его приятель. Рассказывают, что на вопрос, как здоровье императора, Наполеон сам взял рупор и ответил:
— Император чувствует себя очень недурно.
Во вторник 28 февраля, в семь часов вечера, увидали берег, но высадка произошла только на другой день, в час пополудни.
Был произведен пушечный салют, подняли трехцветное знамя, и войска были высажены в заливе Жуана. Один отряд солдат, по собственному почину, направился к маленькому городу Антиб. Но тут произошел случай, который можно было бы истолковать как дурное предзнаменование. Комендант укрепленного городка отворил ворота и впустил 25 солдат, но затем опять закрыл город и объявил солдат своими пленниками.
Графиня Валевская, которая тоже приехала в Антиб, чтобы одной из первых приветствовать императора на французской земле, была, как и солдаты, заперта в укрепленной части города, конечно, к немалому для себя неудовольствию. Несмотря на ее мольбы и жалобы, губернатор Орнано оставался непреклонен. Впрочем, так случилось, что губернатор влюбился в графиню и позднее заставил ее забыть Наполеона.
Едва высадившись на берег, Наполеон приказал принести карты и здесь же, под открытым небом, разложив их на столе, четко наметил свой будущий путь.
Наиболее удачным, конечно, представлялся путь, который идет по берегу моря мимо Тулона и Марселя на Лион. Но там находились войска, и если император мог более или менее верно рассчитывать на офицеров, то на маршалов была плохая надежда, так как для них переход на сторону Наполеона неминуемо был сопряжен с большим риском и с лишением всех тех привилегий, которые были приобретены ими на службе у Бурбонов. Кроме того, население Прованса вообще без особых симпатий относилось к императору и было преисполнено уважение к королям.
Однако благоприятные известия, привезенные ла Виолеттой из Гренобля, окончательно укрепили решение Наполеона, и его маленькая армия пустилась в путь через Грасс после небольшого отдыха в Канне.
Вначале поход проходил очень медленно. Наполеон приказал не прибегать к насилию и платить населению за все, чтобы не вызывать злобы.
Конечно, на Эльбе поднялся переполох, когда узнали об отплытии Наполеона. Тотчас же фрегат «Лилия» двинулся в путь, но прибыл в залив Жуана лишь 2 марта, когда Наполеон находился уже в двадцати милях от места высадки. Известие о высадке было послано в Марсель, где командовал Массена, но тогдашняя медленность сообщений благоприятствовала Наполеону, и нигде не предпринималось никаких мер ни для его встречи, ни для преграждения ему пути. Так, например, мост через Систерон, который легко было разрушить, дал ему возможность проникнуть в Альпы.
В это время были пущены в обращение прокламации — одна к народу и другая к армии, тщательно переписанные сержантами и фурьерами во время похода и помеченные «1 марта» и «залив Жуан».
«Мы не были побеждены, — говорилось в этих прокламациях. — Два человека, вышедшие из наших рядов, изменили нашим лаврам, своей стране, своему повелителю, своему благодетелю».
«Солдаты, в моей ссылке я слышал ваши голоса и пришел к вам теперь наперекор всем препятствиям и всем опасностям. Сорвите те цвета, которые изгнала нация и которые в продолжение двадцати пяти лет служили опорой для всех врагов Франции. Наденьте на себя трехцветную кокарду — вы носили ее в наши величайшие дни.
Мы должны забыть, что были владыками всех наций, но мы не должны терпеть, чтобы какая-нибудь из них вмешивалась в наши дела.
Солдаты, идите, собирайтесь под знаменами своего вождя; его существование является вместе с тем и вашим. Его права являются не чем иным, как правами народа и вашими. Его интерес, его слава, его честь — точно такие же, как и ваши интересы, ваша честь и ваша слава.
Победа пойдет шагом атаки, а орел с национальными цветами будет перелетать с колокольни на колокольню до самых башен собора Богоматери».
После этой пылкой прокламации Наполеон выразил благодарность жителям Нижних Альп, сказав:
— Мое возвращение рассеивает вместе с тем и все ваши страхи, а также гарантирует неприкосновенность вашего имущества, равноправие между отдельными классами; права, которыми вы наслаждаетесь вот уже двадцать пять лет и по которым тщетно вздыхали наши предки, составляют теперь как бы часть вашего существования. Я всегда с живым интересом буду вспоминать то, что мне Пришлось видеть при переходе через нашу страну.
Шестого марта Наполеон выступил в направлении Гапа и послал Камброна вперед в Map, по дороге в Гренобль.
Городок Map в эту эпоху заслужил себе бессмертие. На этом пути Наполеон наконец мог перестать считать себя бродягой, которого могут застрелить из-за куста или расстрелять судебным порядком. Он пожинал успех за успехом.
Пятый линейный полк был послан преградить ему там путь. Капитан Ласар устанавливал солдат в боевой порядок, стараясь возбудить их против Наполеона. Копейщики и гренадеры Наполеона, вероятно, не замедлили бы броситься в атаку на полк, но Наполеон остановил их, выехал вперед один и, стоя на дороге и распахнув свой серый сюртук, крикнул:
— Я здесь, солдаты пятого линейного полка! Если среди вас есть кто-нибудь, кто хочет убить своего императора, пусть стреляет!
И, быстро расстегнув мундир, он обнажил грудь.
Опущенные ружья поднялись, и крики «Да здравствует император!» огласили воздух, и солдаты пятого полка пошли брататься с солдатами Наполеона.
Так шли навстречу Наполеону как войска, так и народ. После этого путь к Греноблю был открыт.
Наполеон не без смущения подошел к этому городу, ворота которого были закрыты. Неужели он будет вынужден напасть на город и заставить его силой отворить ворота? Это был первый из больших городов Франции, который встретился ему на пути. В то же время он знал, что против него уже выступили Массена и герцог д'Ангулем. В ту минуту, когда он стоял в раздумье, раздались крики «Да здравствует император!», ворота раскрылись, и навстречу императору вышел полк, украшенный трехцветными кокардами. Это был седьмой пехотный полк под командованием полковника Лабэдуайера. Вслед за ними высыпали гре-нобльцы, и гренадеры вступили в город со своим великолепным тамбурмажором ла Виолеттом, который как сумасшедший вертел и играл своим жезлом.
Первым следствием появления императора в Гренобле было, конечно, освобождение Анрио, который немедленно бросился к Наполеону, а тот в свою очередь обрадовался этой встрече и произвел его в генералы, так же как и Лабэдуайера.
Затем Наполеон, произведя смотр войскам и приняв городские власти, обратился к Камброну:
— В Париж, друзья мои! Мы не можем успокоиться прежде чем наши орлы не будут отдыхать на башнях собора Богоматери. — И он прибавил улыбаясь: — Камброн, скажите своим солдатам, что они могут побросать свои заряды; они не потребуются им больше…
Когда Наполеон, сидя в карете, следовал за торжественным шествием армии, казалось, что он никогда не был побежден, не был оскорблен; проезжая же мимо толп народа, он принимал дань восхищения, как будто в течение этого времени не произошло ничего особенного.
Алиса последовала за армией в Париж вместе с маршалом и, глядя иногда издали на Анрио, который находился среди блестящей свиты императора, думала: «Простил ли он меня?»
— 8 — Шпион императора
Как изменчива судьба! Всемогущий император, влюбленный в молодую жену, рождение желанного наследника — казалось бы, что еще нужно для счастья? Оказалось, нужно завоевать Россию — и с этого момента фортуна изменяет Наполеону. Он терпит поражение в войне, Мария Луиза оставляет мужа, сенат лишает его трона… По дороге в изгнание на остров Эльба враги Наполеона хотели убить его, но любовь и преданность фаворитки спасли жизнь императора. Во время 100-дневного возвращения Наполеона была сделана неудачная попытка выкрасть Марию Луизу, чтобы доставить ее к мужу. Но… судьба неумолима.
I
Наполеон, полулежа на козетке, углубился в мысли в тиши своего кабинета в Елисейском дворце, как вдруг дверь осторожно открылась и дежурный офицер доложил:
— Генерал Анрио!
Наполеон приказал ввести генерала, а затем снова погрузился в свои мысли. Анрио вошел и, почтительно поклонившись, остановился, не смея нарушить размышления императора. Наполеон казался сильно постаревшим, утомленным» и как бы подавленным каким-то внутренним беспокойством. Чудесное возвращение, завоевание всей страны без единого выстрела, поспешное оставление трона королем Людовиком XVIII и удивительное вступление в Тюильри, который он уже не надеялся когда-либо увидеть в своей жизни, — вся эта феерия оставила после себя какой-то осадок горечи и беспокойства в душе императора.
Конечно, он испытал сладкое чувство реванша и удовлетворения, когда, выйдя из кареты у подъезда Тюильри, был подхвачен и на руках внесен в первый этаж офицерами, которые выбежали ему навстречу. Но он очень быстро понял, какая непоправимая перемена произошла в нем самом и во Франции. Он уже не был, как прежде, неограниченным владыкой; он чувствовал, что отныне он может править не иначе как на основании конституции. Однако для того, чтобы стать либеральным монархом, ему нужно было не только сменить своих министров, но изменить также и свой характер, приспособиться к тем новым веяниям, которые охватили Францию. Он своим великим умом понимал слабость и непрочность своего положения, а также хрупкость трона, на который он взошел почти чудом.
Со всех сторон ему выражали преданность и обожание; но он знал людей, которые клялись снова в верности ему: они уже раз клялись умереть за него, а теперь их клятвы являлись в то же время изменой Людовику XVIII. Таким образом он был окружен вероломными людьми, которые в любое время могли изменить ему. За исключением нескольких действительно преданных ему лиц, Наполеон ни на кого не мог положиться. Армия, без сомнения, осталась верной ему; император был уверен в ней, но был ли он также уверен и в победе? Он хотел бы жить в мире, но Европа вынуждала его возобновить войну, и он был уверен, что населению это будет неприятно, а армия останется верна ему лишь до первого поражения.
Кроме этого Наполеона еще терзала мысль о жене и ребенке.
Их отсутствие мучило его. Страдания, причиняемые ему тем, что его маленький сын, носивший теперь немецкое имя Франц, воспитывался в ненависти к своему отцу, а также к Франции, и жил теперь в Шенбруннском дворце, увеличивались тем, что его жена, его обожаемая Луиза, открыто жила в Вене с Ненппергом.
Наполеон, благодаря сообщениям графини Валевской, знал, почему Мария Луиза не возвращалась к нему. Ее удерживала в Вене не коалиция, не ее отец, император, а Нейпперг, роковой человек, враг и соперник, который даже в этот час, когда трон снова был завоеван Наполеоном, имел преимущество, так как находился рядом с Марией Луизой, за что Наполеон в минуты уныния и отчаяния готов был бы отдать свое царство.
Он по-прежнему любил вероломную женщину. Хотя он и забыл ее ненадолго во время пьянящей радости возвращения, а также во время политических и военных занятий, тем не менее мысль о ней скоро вернулась к нему и захватила целиком.
Наполеон не мог оставаться в Тюильри. Этот дворец вызывал в нем воспоминания о счастливых днях, и он на каждом шагу встречал следы императрицы. Избегая этих воспоминаний, он переехал в Елисейский дворец и старался найти под его тенистыми деревьями мир, покой и забвение. Но мысль о жене и сыне не покидала его, и тут он строил планы, которые привели бы к их возвращению.
Анрио отправился в Елисейский дворец без большого энтузиазма. По прибытии в Париж он находился в глубоком унынии. Ни неожиданное торжество его дела, ни спасение от смерти, ни повышение в генералы, которым император вознаградил его за преданность, — ничто не могло рассеять его печаль и тоску. Все время он вспоминал ужасную сцену в кабинете у следователя, где королевский прокурор неожиданно раскрыл ему глаза на измену жены.
Анрио мучился бесконечно, тем более что любовь к Алисе не умерла, а была лишь отравлена ядом ревности.
С тех пор как прокурор сообщил ему об отношениях его жены с Мобрейлем, бедный Анрио почти не жил. Он точно тень бродил по дому, едва прикасаясь к пище, но стараясь казаться равнодушным и даже веселым, когда Алиса поднимала на него печальный взор и как бы спрашивала его, не страдает ли он еще. Анрио знал, что Алиса все еще любит его; он видел, что она тоже страдала и что ее раскаяние было вполне искренним, но все же мысль о том, что она изменила, не оставляла его.
— Может быть, она никого другого никогда и не любила, — повторял он себе по двадцать раз в день, — но тогда зачем же она отдалась этому человеку?
Эта неотвязная мысль преследовала и мучила его. Все напоминало ему об измене жены, он с болезненным удовольствием мысленно восстанавливал все любовные сцены изменников, представлял свою жену в объятиях Мобрейля, воображал все позы и положения, приводившие его в ярость.
От этой муки он нигде не находил покоя и чуть не сходил с ума. Его мучения увеличивались еще тем, что он старался скрыть все от Алисы и окружающих.
Бедная женщина видела, какие страдания переживает ее муж; она видела, как эта болезнь все прогрессирует, и прилагала усилия, чтобы кротостью, покорным поведением и веселостью успокоить его сердце и направить ход его мыслей в другую сторону.
Мадам Сан-Жень, которой Алиса рассказала о страданиях, переживаемых ее мужем, посоветовала ей продолжать действовать в том же духе и по-прежнему бороться против дурных мыслей Анрио. Она утверждала, что время в конце концов заглушит все страдания, что Анрио постепенно забудет все, так как нет вечных страданий, и тогда простит.
Это заставило Алису снова надеяться на лучшее будущее, и она снова начала стараться любовью и нежностью стереть воспоминания о когда-то совершенной ею ошибке.
Анрио с душевной болью следил за стараниями Алисы. Он говорил себе, что не прав, не желая удовлетвориться настоящим, принадлежащим исключительно ему, и что глупо погружаться в прошлое, которое уже никогда не возвратится вновь. Он сознавал деликатность и нежность, которыми Алиса старалась заставить его забыть о том, что Мобрейль держал ее в своих объятиях. Но мысль эта приводила его в невыразимое бешенство и делала напрасными все усилия и все тонкое кокетство Алисы, стремившейся возвратить любовь мужа.
Эта вечная кровоточащая рана, эта вечная лихорадка ревности, вызванная прокурором, делала жизнь Анрио невозможной. Хорошо было бы, если бы началась война и в ее неожиданных приключениях, среди опасностей он мог бы найти забвение, хотя бы даже временное. Но как раз теперь был мирный период, и это заставляло Анрио страдать еще сильнее.
Император уже несколько раз говорил о том, что хочет дать Анрио пост при дворе. До сих пор Анрио удавалось как-то избегать прямого ответа на вопросы императора, какая служба была бы ему желательна при дворе; ему вовсе не хотелось очутиться опять при дворе, где Алиса встречалась с Мобрейлем и дала себя соблазнить. Он чувствовал, что не будет иметь ни одной спокойной минуты в то время; когда служба будет удерживать его во дворце, так как его жена будет окружена блестящими офицерами, намерения которых ему были всегда хорошо известны. Если она уже раз не удержалась и пала, почему не может быть того же и вторично?
Теперь, войдя по вызову Наполеона в его комнату, он почтительно дожидался приказаний.
Император несколько минут оставался в задумчивости? наконец он поднял голову и проговорил, обращаясь к Анрио:
— Генерал, я хочу дать вам важное поручение. Можете ли вы немедленно отправиться в путь?
Анрио вздрогнул, и его лицо вдруг стало пурпурным. Эта миссия являлась спасением от обуревавших его мыслей и давала возможность забыть на время его несчастье.
— Я готов, ваше величество! — твердо ответил он. — Куда угодно вам послать меня?
— В Вену, — ответил император глухим голосом. — Вы возобновите то дело, которое я поручил вам еще на Эльбе.
— Значит, я должен увидеться в Вене с господином де Меневалем?
— Да! Этот верный человек проведет вас во дворец и поможет вам. Кроме того, вам нужно постараться увидеться еще с другой особой и постараться переговорить с ней наедине. Вы догадались, о ком я говорю?
— Это ее величество императрица?! Но буду ли я принят, государь? В прошлый раз мне не удалось исполнить ваше поручение и проникнуть к императрице, несмотря на все мое старание.
— Я знаю. Вход к ней охраняется. Я не могу ни обнять моего сына, ни даже послать простое письмо к моей жене! — с горечью проговорил император. — Когда я посылал вас в первый раз в Вену, я был пленником на острове, который считался в насмешку моим государством. Тогда меня считали величиной, с которой нечего считаться; тогда про меня говорили: «Он сидит в тюрьме, из которой никогда не выйдет, или если выйдет, то только для того, чтобы отправиться куда-нибудь еще дальше или умереть». Теперь положение изменилось. Императрица под влиянием дурных советов думала точно так же и не могла рассчитывать на меня; ей приходилось заботиться о самой себе, о том, чтобы умиротворить своего отца и получить Пармское герцогство для себя и богемские земли для моего сына. Она должна была подчиниться приговору коалиционных государей и забыть меня! О, я отлично понимаю ее положение и затруднения! — присовокупил Наполеон, подыскивая извинения для своей супруги, которую он по-прежнему обожал.
Анрио молча поклонился в знак согласия.
Наполеон пришел в возбуждение при одном упоминании имени Луизы и, встав с козетки, заговорил с еще большим оживлением:
— Теперь же ваша миссия будет носить совсем другой характер. Я — уже больше не какой-нибудь пленник; мое возвращение является доказательством того, как крепко держу я тот скипетр, который хотели отнять у меня. Население встретило меня с восторгом, армия предана мне; у меня еще хватит пушек и храбрых, как вы, солдат, чтобы держать в страхе всю Европу, если она вздумает противодействовать мне. Я стал тем, кем был раньше. Теперь моя супруга может не унижаться перед своими родственниками и вести с коронованными особами беседу, как равная с равными, она — императрица Франции. Я думаю, что ее чувства изменились благодаря перемене обстоятельств, — Наполеон остановился, подумал минуту и, устремив взгляд на Анрио, добавил: — Но женщины часто бывают капризны и упрямы. Может быть, императрица не верит в прочность случившегося переворота, который привел в изумление всю Европу; дурные советы могут еще оказывать влияние на ее слабый, легко поддающийся чужому влиянию ум… Что вы думаете об этом, генерал?
И Наполеон пристально взглянул на Анрио, стараясь найти подтверждение своим надеждам. Ведь он все-таки продолжал сомневаться. Он хотел уверить себя, что изменение его положения вызовет перемену и в чувствах его супруги. Он ждал теперь подтверждения своим мыслям, своим надеждам.
Анрио ответил, что, по всей вероятности, императрица будет счастлива вернуться во Францию и занять опять престол, который покрыт славой ее великого супруга.
Наполеон задумчиво покачал головой, и его ясный, сообразительный ум тотчас же стал рассматривать возможность неудачи его посольства.
— Нужно, — сказал он, — предвидеть также и противодействие со стороны австрийского двора. Ведь в случае необходимости императрицу могут даже силой удержать при австрийском дворе. Тогда, генерал, вам придется прибегнуть к хитрости. Вы должны будете проникнуть к императрице и к моему сыну и похитить их тайно.
— Я постараюсь выполнить свою миссию. Клянусь вам, что или привезу сюда императрицу с сыном, или погибну.
— Отлично, генерал, я рассчитываю на вас! Отправляйтесь с Богом! Да, в соседней комнате вы найдете помощника, которого я назначил сопровождать вас. Вы знаете его: его зовут Монтрон. Это необыкновенный человек; он силен, ловок и довольно хорошо знает венский двор. Он известен как ученый, как опытный ботаник. Вы, конечно, знаете, что к людям, за спиной у которых висит зеленая коробка для собирания трав, нельзя относиться подозрительно, а потому, я думаю, Монтрон легко проникнет куда будет нужно и окажет вам большую помощь в случае, если вам придется тайно похищать императрицу.
— Государь, я счастлив, что вы назначаете мне помощника, которому придаете такое большое значение. Но кроме того, я думал взять еще одного верного человека, который уже не раз сопровождал меня в опасных предприятиях, который долго служил вам, ваше величество, и еще недавно в Провансе… Это ла Виолетт.
— Мой храбрый тамбурмажор? Да, вы можете взять его с собой. Ла Виолетт силен, отважен и предан. Моя жена и сын под вашей защитой будут в полной безопасности. Итак, в путь, генерал! Нельзя терять ни одной минуты. Коалиция может снова взяться за оружие; нужно отнять у тех, кто дают советы императрице, всякую возможность противодействовать мне, а потому спешите! Только не говорите никому, что услышали здесь от меня.
— Слушаюсь, ваше величество! — произнес Анрио и направился к выходу из кабинета императора.
Когда он был уже на пороге, Наполеон добродушно обратился к нему:
— А чтобы скрасить путь, побеседуйте с Монтроном, его приключения очень забавны. Он когда-то покаялся мне, и я отпустил ему все его грехи. Он очень охотно рассказывает свою историю, чтобы облегчить совесть и в то же время добиться одобрения людей! — И дружеским жестом Наполеон отпустил Анрио.
Тот немедленно пошел познакомиться с Монтроном. Ботаник в ожидании его прихода сидел на канапе с развернутой на коленях газетой. Он читал статью, посвященную флоре Бразилии, и в то же время думал, что для французских ботаников большое горе, что император до сих пор не завоевал этой дивной страны.
II
Познакомившись с ботаником, Анрио тотчас начал готовиться к отъезду. Он сообщил о нем ла Виолетту, и тот, узнав, что сам император назначил его в эту опасную экспедицию, не раздумывая согласился и с радостной улыбкой спросил:
— Когда мы едем?
— Сегодня вечером!
Действительно в тот же самый вечер Анрио, Монтрон п ла Виолетт выехали на парижскую заставу и с отвагой в душе пустились в опасный путь.
Похищение Марии Луизы с сыном из-под носа австрийского двора и стражи было предприятием не только рискованным, но также смелым и великим. Все трое отлично понимали, что рискуют своими головами или сгниют в какой-нибудь австрийской тюрьме, если будет открыто их инкогнито, но эта опасность придавала известную прелесть их путешествию. Первые дни пути прошли очень приятно. Анрио, казалось, меньше мучился воспоминаниями, связанными с изменой Алисы, ла Виолетт описывал своей палкой разные круги и петли, доказывая тем глубокую радость, что ему еще раз приходится отправляться в путешествие по поручению императора, Монтрон же скромно улыбался и одобрял все предложения своих спутников. Иногда он останавливал свою лошадь и извиняясь слезал, чтобы сорвать в каком-нибудь овраге тот или другой цветок; последний немедленно исчезал в зеленом ящике, висевшем за спиной у ботаника. Однако в этом зеленом ящике находилась и пара пистолетов, которые хозяин каждый вечер тщательно осматривал.
В Лионе путешественники оставили лошадей и пересели в почтовую карету, в которой было, конечно, много удобнее, чем верхом, и поехали как богатые иностранцы, путешествующие ради своего удовольствия. Вместе с тем в таком виде они должны были обратить на себя меньше внимания, когда вступят на германскую землю.
Монтрон очень сожалел о своей лошади, которая давала ему возможность собирать гербарий, но зато он стал теперь рассказывать разные анекдоты из жизни австрийского двора И мелких германских дворов, которые были, по-видимому, очень хорошо известны ему.
Постепенно он рассказывал также и о своей жизни, и о том случае, который имел решающее влияние на всю его жизнь и о котором он до сих пор не забыл.
Монтрон был сыном армейского офицера в эпоху королей; когда в Америке началась освободительная война, его отец вместе с Лафайеттом отправился туда, а затем при первой вспышке революции возвратился во Францию и предложил свою шпагу нации. В эпоху террора ему удалось отправить свою жену в маленькое имение, которым он владел в Бурбоннэ. Там госпожа Монтрон вместе со своим сыном жила в полной безопасности.
Атенаис де Монтрон была красивая женщина, несмотря на то, что во время египетского похода Наполеона ей уже шел тридцать восьмой год. Монтрон в битве при Абукире попал в плен к англичанам, и те отправили его вместе с другими на галеры; он попытался бежать, и это послужило причиной того, что его не отпустили на свободу при происшедшем вскоре размене пленными.
Живя в полном одиночестве в Бурбоннэ, госпожа Монтрон не имела других развлечений, кроме прогулок с учителем ее сына, молодым аббатом, и эти прогулки кончились тем, что она вскоре почувствовала непреодолимую страсть к этому воспитателю и полностью подчинилась его влиянию. Но мальчик в это время уже вырос, и его ум жадно ловил и впитывал все внешние впечатления мира. Он видел, что, в то время как отец находился в плену, молодой аббат занял его место; это действительно было так, потому что из-за слабости характера матери аббат Сегюзак распоряжался как полновластный хозяин и господин.
Молодой человек чувствовал глубокое отвращение к измене матери, но, не смея восстать против этого и желая чем-либо заглушить это чувство, со страстью отдался ботанике. Поднимаясь каждый день с зарей, он брал ящик для гербария и уходил в лес; оттуда он возвращался только поздно вечером, но не заходя в парадные комнаты, поднимался к себе и там, разложив свою добычу, печально любовался закатом. Он непрерывно думал о матери, об аббате, и в нем все больше и больше росла неприязнь к последнему.
Тем не менее за обедом он старался казаться веселым и беспечным. Он громко смеялся, а затем, становясь серьезным, принимался с большим аппетитом уничтожать приносимые блюда.
Но вот однажды жизнь, которую вели обитатели маленького поместья, внезапно нарушило известие, появившееся в официальном «Вестнике» и гласившее, что благодаря обмену пленными Монтрон выпущен на свободу в числе товарищей по несчастью.
В то время как юноша с радостью ждал прибытия отца, который должен был положить предел самовластью аббата, его мать и ее возлюбленный не находили места от страха перед предстоящим свиданием. И вот, чтобы остаться свободными, они придумали адскую махинацию.
Юноша, предвидя скорое расставание с аббатом, стал с ним очень любезен и готов был простить ему все.
Наконец настал день, когда пришлось ехать навстречу пленнику. Почтовый дилижанс должен был привезти его в Мулен, а оттуда карета, высланная ему навстречу, должна была доставить его в его замок. Приказано было запрячь две кареты. В одной должны были поместиться Монтрон с женой, в другой — аббат с учеником.
Пленника, еще бледного и изнуренного работами на галерах, перенесли в карету, куда села одна госпожа Монтрон.
Ехали медленно, но вдруг, не доезжая немного до замка, кареты разом остановились, а госпожа Монтрон, высунувшись из дверцы, делала какие-то отчаянные жесты. Аббат и ученик поспешили к ней. Красавица Атенаис стояла, наклонившись над мужем, а он лежал с широко раскрытыми от ужаса глазами, и было ясно, что эти глаза уже не видели ничего земного. Напрасно госпожа Монтрон пыталась привести в чувство мужа, ничто не могло помочь ему: он Умер, и усилия жены не могли вернуть его к жизни.
Вдова, искусно скрывая свою радость, жалобно кричала, но тем не менее глаза у нее оставались совершенно сухими, так как при всем желании она не могла заплакать при виде смерти того, который был уж давно мертвецом в ее глазах; наоборот, в ее глазах было такое выражение удовлетворения, какое появляется у охотника, убившего опасного зверя, неожиданно вышедшего из логова.
Этот торжествующий взгляд случайно подметил и молодой человек, все время стоявший тут же. Он склонился у кареты и горячо молился об отлетевшей душе отца, но, подняв случайно голову, поймал взгляд матери, устремленный на труп отца. Этот взгляд поразил его; ему показалось, что жена, после долгой разлуки вдруг приобретшая мужа и затем опять внезапно навсегда потерявшая его, не может смотреть такими глазами. И у него вдруг зародилось тяжелое подозрение. Ему показалось, что он даже заметил радость в глазах матери. Это было ясно, но тем не менее он с отвращением отверг подозрение, которое казалось ему уж слишком чудовищным.
Он снова склонил голову и стал молиться за того, кто был отважным солдатом, долгое время находился в тяжелом плену и погиб на пороге своего дома.
Но страшное подозрение не покидало юношу; он снова прервал молитву и взглянул на мать.
Атенаис отвела взор от трупа, смотрела на аббата и улыбалась ему… Юноша успел уловить эту улыбку, и холодная дрожь пробежала у него по спине. Он поднялся и громким голосом приказал кучеру:
— Отвезите тело отца в дом!
Это было первое приказание, которое он дал в своей жизни.
После этого он сел в карету, где лежал покойник и вместе с ним въехал в ворота замка, хозяином которого становился теперь. Мать и аббат последовали за ним. Они шли рядом друг с другом веселые, улыбающиеся, составляя планы на будущее и совершенно забыв о том, кто только что умер и прибыл в свой дом безжизненным трупом.
Возвращение в замок обошлось без всяких приключений. Ради проформы был вызван соседний врач. Однако наскоро осмотрев покойного, а главное, опираясь на симптомы, сообщенные ему аббатом де Сегюзаком, он заключил, что де Монтрон скончался от аневризма, вследствие старческого истощения, вызванного тяжелыми условиями жизни в плену. Он высказал соображение, что сильное волнение от свидания с женой и сыном после долгих лет разлуки, вид родного замка и дорогих ему мест вызвали слишком сильный шок в измученном, утомленном организме, последний не выдержал впечатлений, и смерть наступила внезапно, но вполне естественно.
Прах де Монтрона похоронили в ограде маленькой деревенской церкви. Во время заупокойной службы сын покойного все время наблюдал за матерью и аббатом. Первая порядком-таки плакала, скрыв лицо под вдовьей вуалью, что же касается аббата, то он вдумчиво, внимательно и вполне спокойно совершал отпевание.
Однако это нисколько не разубедило молодого Монтрона в его подозрениях: его мозг жгла мысль о том, что смерть отца — результат преступления его матери и аббата.
По окончании печальной церемонии молодой де Монтрон убежал в поле, где далекий ветерок немного освежил его воспаленный лоб. У него было такое ощущение, точно тысячи муравьев бегают по его телу. Ему не сиделось на месте; его била нервная лихорадка, и в то же время леденящее душу спокойствие сжимало сердце.
Он с тоской мысленно задавал себе вопрос: «В своем ли я уме?», старался заглянуть в тайники своей души, проанализировать доводы рассудка и мысленно упрекал себя в том, что он — нравственный выродок, раз способен подозревать подобные чудовищные преступления. Не представляет ли это морального уродства? Или у него совершенно испорченная, извращенная натура, худшая среди худших? Быть может, он — нравственный убийца ближайшего в мире существа — матери, достойной жесточайшей кары, уготованной в будущей жизни преступникам, избегнувшим своего наказания на земле? Ведь что он делал? Он осквернял свою мысль подозрением относительно родной матери!
Да, он обвинял мать! Как он ни старался подавить ужасное подозрение, оно вопреки всему упорно возникало в его мозгу, юноша тщетно старался усыпить свою совесть; у него все время возникала мысль, что мать убила отца по наущению аббата де Сегюзака, который распоряжался ее душой, как командовал всем домом.
Молодой Монтрон приходил в ужас от своего обвинения, но ничего не мог с собой сделать.
Казалось, что само божественное Провидение осеняло его свыше.
А между тем у него не было никаких доказательств; он повиновался исключительно внутреннему чувству, а может быть, даже и предубеждению, и из-за чего? Из-за того, что аббат де Сегюзак был антипатичен ему, из-за подозрения, что тот в интимной жизни матери занял место отсутствующего отца, до супружеского ложа включительно. Все это так, но дает ли это повод думать, что аббат внушил матери мысль убить мужа? Если даже предположить, что аббат действительно посоветовал совершить это преступление, то все же какие имеются доказательства тому, что она последовала совету? То, что он случайно перехватил улыбку и мимолетный взгляд? Но достаточно ли этого для столь тяжкого обвинения? И не преступен ли тот, кто способен заподозрить подобное, или вернее — не безумен ли он?
Юноша упал на камень и обхватил голову руками.
Наступил вечер, и сумерки, окутавшие долины, леса и холмы, казалось, усугубили мглу, царившую в душе Монтрона. Он вернулся в замок измученный, еле держась на ногах, с пустой головой и разбитыми нервами, не ужиная бросился на кровать, и вскоре тяжелый сон сковал его.
Вдруг он проснулся среди ночи, и ему в голову пришла чудовищная мысль. Он вскочил и замер на месте, охваченный ужасом.
Он не смел шагнуть, а между тем ему хотелось немедленно проверить свое подозрение.
Он говорил себе, что ему стоит лишь протянуть руку к стенной полочке, которую он ясно различал при ярком лунном свете, чтобы подтвердить ужасное подозрение, — но тем не менее ноги не повиновались ему, и он по-прежнему продолжал неподвижно стоять у кровати.
Но его взгляд не отрывался от полочки, висевшей над бюро, на котором были разбросаны исписанные листы и сухие растения, ожидавшие обработки.
Там стояли легкие и, сильные яды, которыми он пользовался для предохранения своих растений от насекомых.
Монтрон долго переводил взор с одного опасного флакончика на другой, не решаясь наткнуться взглядом на тот, который мог послужить неопровержимой уликой подозреваемого им преступления. В конце концов он не выдержал, кинулся к ряду флаконов и, низко нагнувшись, не прикасаясь к ним, стал тщательно рассматривать один из них.
В этом маленьком стеклянном сосуде хранился один из сильнейших ядов: цианистый калий, служивший Монтрону для охраны редких растений от моли. Этикетка, наклеенная на флакон, гласила о ядовитых свойствах содержимого.
При ярком лунном свете Монтрон с первого же взгляда увидел, что этого флакона касалась посторонняя рука: этикетка была повернута в другую сторону!
Молодой человек больше не дрожал, не колебался и не сомневался. С этого мгновения действительность встала перед ним в своей неприглядной наготе. Теперь он уже больше не испытывал ни прежних терзаний, ни прежнего, раскаяния: он видел и знал. Ему оставалось получить неопровержимые доказательства.
Он зажег свечу, спокойно и решительно, словно дело касалось химических опытов, взял флакон с цианистым калием и, тщательно оглядев его, прошептал:
— Этот флакон открывали недавно. Прекрасно! Я не ошибся!
После этого Монтрон стал ходить по комнате, с пересохшим горлом, тяжело дыша.
На камине стоял портрет его отца в молодости, относившийся к той эпохе, когда он отправился вместе с Лафайеттом на освобождение Америки. Монтрон торжественно протянул руку к портрету и прошептал:
— Клянусь тебе, отец, что я отомщу за тебя! Клянусь!
После этого он сбежал вниз и вошел в зал, где сидели мать и аббат де Сегюзак и разговаривали словно муж и жена, рассматривая деловые бумаги, счета, денежные бумаги и контракты фермеров. Они оба были так заняты определением суммы доходов покойного, оставшихся после него, что не обратили внимания на приход юноши.
Прошло несколько недель после смерти де Монтрона. Время текло тихо и монотонно. Аббат де Сегюзак был по обыкновению иронично-флегматичен. Впрочем, это было понятно: в его положении не произошло никаких перемен; он по-прежнему руководил госпожой де Монтрон и с обычным спокойствием и апломбом управлял жизнью дома.
Атенаис же в своих мрачных, траурных одеждах испытывала с каждым днем все большее беспокойство. В ее смятении проглядывали не только угрызения совести и раскаяние; нет, в ее взгляде ясно отражался ужас, когда она за столом встречалась взглядом с сыном.
Она всеми силами старалась владеть собой и казаться спокойной, когда ее сын настойчиво возвращался к вопросу о причинах внезапной смерти де Монтрона, приписанной доктором разрыву сердца. Он каждый день возвращался к этой теме, комментируя на все лады причины, могущие вызвать подобный финал, высказывая предположение, что вблизи замка должно расти ядовитое растение, способное вызвать подобный финал благодаря одному лишь воздуху, насыщенному его вредным, смертоносным запахом. Кроме того, он говорил, что этого растения нет в его гербарии, но что он приложит все усилия, чтобы его найти, тщательно изучить его свойства и в точности узнать причины смерти отца.
— Его ботаника сводит его с ума! — говорил аббат, презрительно пожимая плечами.
— Смерть отца помутила его рассудок, — говорила Атенаис и с тщательно сдерживаемой дрожью в голосе добавляла: — Что он, собственно, хочет сказать этой «смертоносной травой»? Вы верите тому, что он действительно целые дни разыскивает это гибельное растение среди скал, канав и пещер?
Аббат на эти слова пожимал плечами и говорил:
— Шевалье слишком много занимается. У него слабые нервы. Вся его рабочая комната увешана растениями, запах которых расстраивает его разум. Необходимо отобрать у него книги, растения и флаконы. Шевалье скоро минет двадцать лет, может быть, для него было бы лучше, если бы он поступил на службу. Его, например, можно было бы устроить при одном из правительственных учреждений.
Хотя госпожа де Монтрон и очень любила сына, но это предложение аббата пришлось ей как нельзя более по душе. Мысль хоть на время избавиться от присутствия сына казалась ей большим облегчением. Она в его присутствии чувствовала себя страшно подавленной и смущенной. Когда же шевалье возвращался к своей излюбленной теме: существованию таинственного, смертоносного растения, аромат которого способен убить человека, давая картину полной иллюзии естественной смерти от разрыва сердца, с госпожой де Монтрон делался нервный припадок. Она, задыхаясь, откидывалась на спинку кресла и долго, иногда часами, не могла прийти в себя и оправиться.
Аббат тоже стал улыбаться все реже и реже. Предполагаемое им расстройство умственных способностей его ученика начинало беспокоить его, и он также стал испытывать в его присутствии неловкость и стеснение.
Таким образом предполагаемый отъезд молодого человека являлся сущим избавлением как для его матери, так и для наставника.
Не откладывая дела в долгий ящик, аббат со своей обычной решительностью отправился в Париж и вернулся в скором времени обратно, заручившись обещанием военного министра принять молодого Монтрона в интендантские части.
Шевалье отнесся вполне безразлично и беспечно к перемене, которая могла произойти в его дальнейшей судьбе, и не высказал ни радости, ни грусти при мысли о разлуке с родными местами. Аббат сообщил, что ему дано две недели срока до явки в Париж, а оттуда ему предстояло догнать тот корпус, к которому он будет прикомандирован и который, по всей вероятности, расположился в Германии. Молодой человек казался довольным и ни о чем не спрашивал. Аббат не без удовольствия воспринял спокойствие, с которым будущий интендантский чиновник принял это известие, и стал укладывать книги, прятать бумаги и собирать свои коллекции растений.
Несколько успокоенная, госпожа де Монтрон старалась уделить сыну некоторое внимание, но последний принимал его с оскорбительным равнодушием.
Наступил день отъезда. За прощальным обедом шевалье был удивительно оживленным и любезным собеседником. Он должен был выехать в четыре часа утра для того, чтобы успеть захватить дилижанс, проходящий около шести часов через Мулен. Обед прошел вполне мирно и закончился взаимными приветствиями и тостами. Было распито несколько бутылок крепкого вина, и, когда настало время расходиться по своим комнатам, у всех несколько кружилась голова.
Прощаясь с матерью, шевалье загадочно взглянул на нее и промолвил: «Спите хорошо, матушка!» — когда же аббат, смеясь, ответил ему на это: «А вы, шевалье, не спите слишком долго, а то пропустите дилижанс!» — он вынул из кармана флакон и сказал:
— У меня есть кое-что, что способно удержать меня от сна.
— Что же это такое? — поинтересовался аббат.
— Цианистый калий. Средство, которое, усыпляя одних, заставляет других воздержаться от сна, — отчетливо и звучно ответил Монтрон, уходя и оставляя мать и аббата в самом подавленном настроении.
Госпожа де Монтрон проснулась среди ночи в каком-то смутном состоянии страха. Она слегка толкнула локтем аббата, лежавшего рядом с ней, и промолвила вполголоса:
— Адриан, мне страшно!
Какое-то дуновение коснулось ее. Аббат же остался недвижим.
Госпожа де Монтрон приподнялась, пристально вгляделась в окружавшую тьму и вдруг откинулась назад, в ужасе шепча задыхающимся голосом:
— Мой сын!
Монтрон поутру уехал в Париж и явился в назначенный срок к начальнику интендантского ведомства Дарго, а в то же самое утро перепуганные слуги нашли в спальне своей барыни бездыханные трупы аббата и красавицы Атенаис.
Тот же самый врач, засвидетельствовавший внезапную смерть де Монтрона и приписавший ее разрыву сердца, теперь засвидетельствовал и эту двойную смерть и объяснил ее происхождение сильным приливом крови к мозгу вследствие позднего, обильного и неудобоваримого ужина. Но слуги, слышавшие предположение шевалье, упорно стояли на том, что в окрестностях замка действительно растет неведомое ядовитое растение, запах которого способен вызвать внезапную смерть, и все как один человек покинули опасные места, не дождавшись даже приезда сельского нотариуса и поверенного владельца, которые должны были рассчитать их и выдать причитавшееся им жалованье.
Администрация Мулена назначила следствие по этому загадочному делу, но из Парижа пришло предписание это дело замять и следствие прекратить.
Молодой шевалье де Монтрон с изумительной скоростью явился к первому консулу и рассказал ему свою драму. Консул, поразмыслив хорошенько, оправдал шевалье, как потом узнал Анрио. Смерть аббата и его любовницы была приписана двойному самоубийству, и это дело было предано забвению.
Шевалье де Монтрон сохранил к Бонапарту глубочайшую признательность и неоднократно оказывал ему услуги как в военной службе, так и в штатской, при дипломатическом корпусе, где он не раз отличался своей находчивостью и ловкостью.
Наполеон запомнил его и, когда задумал план похищения короля Римского и императрицы, тотчас же подумал о том, чтобы прибегнуть к помощи его ловкости, смелости и проворства. Шевалье де Монтрон вполне заслуживал этого доверия. У этого завзятого ботаника был лишь один недостаток, а именно тот, что он всем, направо и налево, рассказывал драматический эпизод своей юности и неизменно требовал одобрения слушателей, словно он, получив помилование императора, добивался получить всеобщее оправдание своему неумолимому самосуду,
III
Нейпперг в Шенбруннском дворце уже не думал о том, чтобы играть на флейте. Правда, известие, что Наполеон высадился в заливе Жуан, обеспокоило его, но не ужаснуло. Это был энергичный человек, и каковы бы ни были обстоятельства, он все же не терял головы.
Он был уверен в Марии Луизе, хорошо зная власть, приобретенную им над нею, знал, что та, которую он держал — и крепко держал — в своих любовных объятиях, не так-то легко вырвется из них. Действительно, хотя объятия слишком сильно напоминали тиски хищной птицы, голубка не желала менять свое гнездо.
Беспокойство Нейпперга было связано с австрийским двором, оно шло от королей и от дипломатов.
Возвращение Наполеона сильно меняло суть дела. Он уже не был побежденным при Фонтенбло, предводителем, преданным своими приближенными, монархом, вынужденным к отречению, против которого восстало общественное мнение, сосланным — на незначительный остров — с прерогативами монарха. Он торжественно шествовал через всю францию не как авантюрист, идущий на авось во главе небольшой группы храбрых партизан, а как бесспорный властелин, встречаемый общим поклонением и восторгом при возвращении в свои владения после кратковременной заграничной кампании.
Это вторичное завоевание симпатий Франции, исчезновение монархии Бурбонов, единодушное и добровольное отступничество маршалов, Ней, присягнувший в верности Людовику XVIII, энтузиазм черни и постоянство войска, осыпанного милостями того, кто так часто вел его к победе, все это в совокупности — и реальные факты, и моральная сторона — могло свободно изменить настроение монархов и смягчить отношение австрийского императора к Наполеону.
Франц Иосиф делал вид, будто игнорирует тот факт, что его дочь была императрицей, и не соглашался давать ей другой титул, как эрцгерцогини. Ее брак с Наполеоном он считал вполне и окончательно расторгнутым, так как он согласился на него скрепя сердце и лишь при том условии, чтобы ее супруг был императором, прочно сидящим на своем троне и всегда одерживающим победы. Но с того дня, как трон был потерян им, как ряд неудач превратил императора в простого смертного, повелителя лишь острова Эльба, брачный контракт, с точки зрения австрийского императора, был бесповоротно уничтожен.
Но если властитель острова Эльба превратится снова в императора, если трон, покинутый Людовиком XVIII, будет снова занят Наполеоном, если победа снова превратит пленника Фонтенбло в центр Европы и в короля из королей — что весьма возможно при наличии такой неустрашимой армии, наводящей ужас на всю Европу, и при таких маршалах, как Ней, Сульт, Даву и Лефевр, — то, как знать, не войдет ли снова в свою законную силу этот временно расторгнутый брак? Раз Наполеон все еще продолжал считаться императором, то не должна ли и Мария Луиза считаться императрицей?
Таким образом все опасения Нейпперга нашли логическое обоснование, а непостоянство и малодушие австрийского императора давали ему повод к всевозможным предположениям.
Согласится ли коалиция, жаждущая мира, взяться снова за оружие с единственной целью победить Наполеона и восстановить трон Людовика XVIII, не сумевшего сохранить его?
Нейпперг не заблуждался относительно того, как близок был от Станислава трон Франции, которым так властно распорядился император Александр. Одно время он склонялся к идее об отречении Наполеона и о назначении регентства Марии Луизы от имени Наполеона II. Император австрийский тоже соглашался на это. Его внук при таких условиях вступил бы в свои права по истечении многих лет, а до совершеннолетия внука он успел бы извлечь массу вы год для австрийского царствующего дома, что дало бы возможность Габсбургскому дому закончить с блеском свое двухвековое соперничество с Францией, уничтожить плоды деятельности Ришелье и Людовика XIV и отомстить за унизительный брак с Наполеоном.
Единственным тормозом этого плана, приглянувшегося всей Европе, являлась высочайшая воля русского царя, и в данном случае Нейпперг снова явился фатальной личностью, гибельным противником Наполеона.
До совещания с императором Александром он явился к Марии Луизе.
Она сильно пополнела с того времени, как стала жить жизнью частного лица, поскольку обладала завидным аппетитом. Спокойствие, правильная жизнь, отсутствие забот об этикете, приятная и привольная жизнь королевы без трона — все это способствовало ее ожирению. Не проходило дня, чтобы она не порадовалась своему благополучию, тем более что одно сознание того, что она навсегда разлучена с Наполеоном, наполняло ее блаженством. Она испытывала чувство птицы, вырвавшейся из цепких кошачьих когтей, путешественника, выбравшегося из леса, переполненного ядовитыми гадами и хищными животными, бессрочно осужденного каторжника, которому вдруг объявили неожиданное освобождение.
Каково было бы Наполеону, если бы он знал истинные чувства своей супруги!
После этого, спрашивается, стоит ли быть великим человеком, ненавидимым, осужденным, выданным, оклеветанным, но внутренне несокрушимым; изощряться в том, чтобы выказать военный гений, равный гению Ганнибала, Александра Македонского, Цезаря; быть таким же великим организатором, как Карл Великий, папа Григорий, Людовик Святой, Людовик XI, Ришелье и Кромвель; быть таким выдающимся светилом в политике и дипломатии, как Мазарини, Меттерних и Талейран; иметь стиль и красноречие, равные Тациту, Боссюэ и Монтескье, а вместе с тем добродетели и качества отца, супруга и любовника, не считая власти славы и бессмертия в перспективе? Стоит ли обладать всем этим и в результате прийти к тому, чтобы быть покинутым ради пожилого любовника с повязкой на глазу и кем же? — пассивной и массивной женщиной с душой трактирной служанки под осыпанным бриллиантами нарядом эрцгерцогини?
А все это случилось как раз с Наполеоном.
В его судьбе вообще все необычайно и чудесно, все, кроме его увлечений. Он бывал обманут, как последний сапожник. В Милане, куда он вступил с огромным торжеством, где он был крайне обаятелен и великолепен, — он был нагло обманут истомленной потаскушкой Жозефиной, к которой и историки, и анекдотисты выказали какую-то удивительную нежность и бережливость. Правда, она была очень наказана, и грустная история ее развода и изгнания из Мальмезона во многом делают ее подкупающе симпатичной. Но не следует забывать, что она полюбила своего мужа, который буквально обожал ее, лишь с того времени, когда стала слишком стара, чтобы иметь любовников. Наполеон попользовался лишь объедками от красавца Шарля. Но тот, кто читал страстные письма двадцативосьмилетнего героя, властно и победоносно попиравшего почву Италии, тот, кто знает о том тоскливом отвращении, с которым эта креолка покидала своего возлюбленного для того, чтобы перейти в объятия своего прославленного слепца-супруга, тот никогда не оправдает Жозефины, как не оправдает и Марии Луизы. Обе они заставили бедного Наполеона жестоко страдать. Мария Луиза выказала более низости, сойдясь с врагом Франции, а Жозефина — более виновности; она не была эрцгерцогиней, Наполеон же был молод, обаятелен и страстен. Эти две самки заслуживают презрения всех последующих поколений наравне с гнусным Хадсоном Лоу, своими притеснениями окончательно доконавшим Наполеона на острове Снятой Елены. Весьма возможно, что они терзали свою великую жертву сильнее, чем английский надсмотрщик.
Нейпперг без всякой подготовки объявил Марии Луизе о бегстве ее супруга из места ссылки.
— Вам известна новость? — развязно спросил он. — Наполеон бежал с острова Эльба.
Занимавшаяся в это время своим туалетом Мария Луиза подскочила от ужаса и, отстранив рукой камеристку, одевавшую ее, спросила полузадушенным шепотом:
— Он явится сюда?
Нейпперг победоносно улыбнулся и, фамильярно нагнувшись к ней, словно собираясь поцеловать, шепнул:
— Да нет же, толстенькая дурочка! Если бы он явился сюда, то его посадили бы в тюрьму с кандалами на руках и на ногах. Он направляется в Париж.
— В Париж? А как же король Людовик?
— Этот тяжелодум не в силах противостоять Наполеону. К тому же сведения вполне точны. Вашему мужу все сдается, все покоряется. Завтра он будет ночевать в Тюильри, если его еще нет там сегодня.
— О, Боже мой! Так посоветуйте, что мне делать?
— Ничего! Ждать!
Мария Луиза подумала и сказала с энергией, которую ей придавала ее врожденная настойчивость:
— Ну, пусть он себе ночует в Тюильри, если ему это нравится, что же касается меня, то я не тронусь отсюда. Меня не могут заставить вернуться в Париж. Я нахожусь под сильным покровительством. Я охраняю своего сына.
— О, на этот счет не беспокойтесь. Великие мира сего так же желают вашего присутствия здесь, как и я сам. Они и пальцем не пошевельнут, чтобы уладить ваш отъезд отсюда. Напротив… Одно только могло бы изменить ход событий: это ваше личное желание — перед которым я должен был бы преклониться, — желание быть вместе с супругом.
— Я не могу. Ведь вы прекрасно знаете это!
Нейпперг сделал вид, что не понимает, и произнес:
— Да, конечно, вы не можете. Это само собой разумеется. Ваш батюшка-император никогда не отпустит вас, монархи же, понимая громадное значение в интересах мира сохранить вас с сыном в чудесной Вене, сделают все, от них зависящее, чтобы предотвратить этот отъезд, который очень сильно походил бы на бегство.
— Наполеону эта попытка не может удаться. Вся Европа восстанет против него. Не так ли?
— Я еще ничего не знаю о замыслах монархов. Меня больше всего интересовали ваши намерения.
— О, вы можете положиться на меня: мои чувства неизменны! — ответила Мария Луиза, нежно глядя на Нейпперга.
Последний, вполне уверенный в своей власти, спокойно выжидал последнего слова. Мария Луиза быстро огляделась по сторонам и, словно не будучи в силах сдержаться и желая доказать, как далеко отстоят ее мысли от возможности бегства из Вены и возвращения к мужу, порывисто бросилась к Нейппергу, снисходительно раскрывшему ей свои объятия.
Он ожидал этого нежного доказательства. Недаром он был владыкою Марии Луизы. Он соблаговолил поцеловать ее с некоторой страстностью и увлек ее к кушетке, предусмотрительно стоявшей в глубине уборной.
Мария Луиза трепетала от ласк своего любовника и шептала среди лихорадочных, прерывистых поцелуев:
— Нет! Нет! Я не поеду в Париж! Я хочу остаться в Вене, вместе с тобой! Ведь ты же — мое счастье! Моя жизнь!
— Значит, вы жертвуете троном ради меня? В вашем сердце ничего не осталось для того, кто первый обладал вами, кто пробудил в вас страсть и любовь? — горячо промолвил Нейпперг, все сильнее и сильнее сжимая в своих объятиях трепещущую Марию Луизу.
— Нет! Клянусь тебе. Я никогда не любила этого человека. Я даже и думать не хочу о том, что он был моим мужем.
— И вы никогда не поедете в Париж?
— Никогда! Разве я ездила на остров Эльба? И потом ведь Наполеон — безумец. Его расстреляют, как авантюриста. Я должна оставаться здесь. Хотя бы ради сына…
— Только для принца Пармского? — коварно спросил Нейпперг, держа Марию Луизу на коленях и сопровождая свои слова жгучими поцелуями.
— Для сына и для тебя. Разве ты не знаешь это?
Двойной поцелуй заключил это признание.
Нейпперг, никогда не упускавший случая подчеркнуть свою власть над дочерью австрийского императора, попросил Марию Луизу последовать за ним в рабочий кабинет (он среди страстных объятий не забывал о своих делах).
Он выхлопотал аудиенцию у русского императора и хотел явиться во всеоружии ума и находчивости перед всесильным владыкой, распоряжавшимся по своему усмотрению иностранными тронами.
Он не сомневался в твердости решения Марии Луизы. Она вернулась бы к мужу лишь при самой крайней необходимости: под давлением союзных монархов. Первым делом надо было поставить императора Александра в известность относительно отвращения Марии Луизы к супругу.
Нейпперг подвел ее к письменному столу и заставил написать письмо под его диктовку. Когда она окончила, он внимательно прочел его и взялся передать его императору Александру.
Это письмо было настоящим отречением императрицы и разводом с Наполеоном. Мария Луиза формально заявляла о своем полном недоверии к проекту Наполеона о бегстве и добавляла, что считает это актом, который она, со своей стороны, глубоко порицает. Наконец, она высказывала твердое намерение впредь оставаться в стороне от всех действий и намерений Наполеона и, кроме того, сообщала, что, желая защитить интересы сына и предпочитая закрепить за ним собственность в Германии вместо того, чтобы гоняться за химерической передачей трона Франции, она, отдавая себя под покровительство союзных монархов, обязуется жить безвыездно в Вене вплоть до закрепления за нею Пармского герцогства, клянясь при этом никогда больше не видеться с Наполеоном и беспрекословно вручать Меттерниху все письма, получаемые ею от него.
Написав это письмо и подписавшись под ним, Мария Луиза обернулась к действительному хозяину положения Нейппергу и, улыбаясь, сказала ему:
— Вы довольны? Что касается меня, то я очень счастлива и не жалею ни о чем. Вы знаете, как я не люблю общества. Но я надеюсь, что монархи будут довольны моей покорностью и постараются упрочить как мое собственное положение, так и положение моего сына.
— Я постараюсь в разговоре с русским императором коснуться этого вопроса, — сказал Нейпперг.
— Чем скорее, тем лучше! — заметила Мария Луиза. — О, когда-то мы все трое будем в Парме! Неужели вам не так же сильно хочется, как мне, скорее устроиться тихо и мирно в пармском дворце, удалившись от света, живя исключительно для самих себя в этом чудном краю, где жизнь так же ясна, как ясно лазурное небо?
Нейпперг в виде ответа поцеловал руку Марии Луизы и утвердительно наклонил голову. Заручившись заявлением императрицы, он отправился к императору Александру.
Молодой монарх не любил ни Бурбонов, ни Наполеона. Он чувствовал себя призванным к служению высокому долгу. Известная ясновидящая, баронесса Крюднер, имела большое влияние на его воображение и, пользуясь этим, сильно восстанавливала его против Наполеона. Эта фантазерка разыгрывала из себя пророчицу. Носились слухи, что она сделала несколько важных предсказаний, и император Александр неожиданно подпал под ее влияние. Она подстрекала его к борьбе и к покорению Наполеона, которого она называла демоном тьмы, тогда как самого императора Александра окрестила светлым ангелом.
Хотя он был и очень раздражен тайным тройственным союзом, заключенным против него Англией, Австрией и Францией, но тем не менее искренне желал умиротворить Францию, возвратив ей снова монархический образ правления. В момент, когда шло описываемое здесь дело, его симпатиями пользовался герцог Орлеанский, впоследствии король Луи Филипп.
Однако восстановление престола Франции оказалось делом нешуточным и способным вызвать сильнейшее волнение и переворот. Весьма вероятно, что император Александр утвердил бы регентство Марии Луизы и вообще предпочел бы любой образ правления воцарению Бурбонов, к которым он питал глубочайшую антипатию.
Но он не мог сделать Марию Луизу регентшей против ее воли.
Ознакомив императора с настроением Марии Луизы, Нейпперг передал ему написанное под его диктовку письмо.
Император Александр был очень смущен всем этим и долго молчал в нерешительности. Наконец он воскликнул:
— Это действительно доказательство большого здравого смысла. Я вполне разделяю мнение эрцгерцогини: выходка Бонапарта более чем безрассудна, и мне думается, что недалеко то время, когда он жестоко поплатится за свою дерзость. Может быть, Европа и согласилась бы на Утверждение регентства. Но раз эрцгерцогиня довольствуется для своего сына владением в Австрии и ни за что не Желает возвращаться во Францию, предоставим ход событий своему течению. Будущее покрыто мраком неизвестности. Быть может, Господь и просветлит его!
Но Нейппергу было далеко недостаточно подобного неясного объяснения. Выраженное Марией Луизой решение не возвращаться к мужу и ее желание оставаться с сыном в Парме были уже большой победой; дело шло уже не о предложении ей регентства; нет, неумолимый враг Бонапарта шел гораздо дальше.
Во что бы то ни стало надо было помешать Наполеону утвердиться на вновь завоеванном им троне. Если ему дать время, то он сплотит народ Франции в одну прочную, грозную и неодолимую силу. Он вернет сторицей утраченный престиж, и если бы ему пришла фантазия вернуть жену, то Европа единодушно поспешила бы возвратить ему Марию Луизу. Все ее красивые решения разлетелись бы в прах, если бы такова была воля ее отца. А на какие только низости, на какое низкопоклонство не окажется способен этот монарх, чтобы снова войти в милость к своему зятю, вновь приобретшему силу и власть! Следовательно, для того чтобы сохранить Марию Луизу, первым делом требовалось уничтожить Наполеона.
Император Александр ненавидел Наполеона; но достаточно ли сильна была эта ненависть, чтобы заставить его вооружиться и снова начать военные действия?
Нейпперг прибегнул тогда к другому способу: к вопросу о революции, что всегда глубоко возмущало русского монарха. Он нарисовал картину Франции, подпавшей под влияние якобинцев и террора. Каково было первое действие Наполеона при восстановлении его власти? Передача полномочий революционной власти бывшему участнику конвента, цареубийце Карно, назначенному в тот же день министром внутренних дел и одновременно с назначением получившему титул графа де Фелена. Он учредил восемь полицейских округов, начальники которых должны были исполнять обязанности бывших комиссаров конвента, выдавать и выслеживать роялистов и предавать их своеобразному, более чем странному суду. Наконец, Наполеон бросил призыв ко всем революционным силам нации, образуя из них грозные федеративные батальоны.
Император Александр, крайне пораженный всем тем, что ему пришлось услышать от Нейпперга, особенно заинтересовался и внимательно расспрашивал именно о настроении умов и направлении этих федеративных батальонов, рассеявшихся по всей Франции. Нейпперг уверял его, что это — не более как дикие банды санкюлотов, этих отчаянных врагов монархической власти, которые снова всплыли на поверхность общественной жизни, вдохновленные идеей равенства эпохи 1792 года.
Кстати, и новости из Парижа, привезенные курьером, подтвердили важность этого нового массового восстания в революционно настроенной Франции. В газетах, привезенных им, были напечатаны обращения к народу федералистов, восхвалявших Наполеона и осыпавших остальных государей Европы ругательствами и угрозами.
«Наглецы! — восклицали бургундские федералисты, обращаясь к коалиционным монархам, — мы свободны, как наши отцы, и сознаем себя достойными быть таковыми! И в качестве людей, имеющих право свободного выбора, мы избрали того, кого вы осудили. Не пытайтесь грозить ему! У нас еще имеется достаточное количество солдат, привыкших побеждать; эти солдаты образовали собою железную заставу, через которую вы будете тщетно пытаться пробиться. Мы идем на помощь их самоотверженным усилиям, и вскоре два миллиона вооруженных людей посмеются над вашими угрозами и заставят вас на коленях молить у них пощады!»
Федералисты Руана доводили этот призыв до требований войны, до открытого желания затопить всю монархическую Европу кровью и дымом пожарищ.
«Император, — писали они, — двигается во главе всей вооруженной Франции, по-прежнему наводя ужас на враждебных царей и разбивая по пути цепи рабства народов!»
Кроме того, Нейпперг показал императору Александру, считавшему себя защитником монархического принципа в Европе, воззвание работников предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо, тон которого явно изобличал в них краснокол-пачников времен сентябрьских убийств.
Одна из английских газет, приведшая текст этого воззвания, прибавила:
«Никогда еще Бонапарт не являлся в более правильном свете, чем теперь, когда сразу видно, кто он такой: отъявленный враг всех государей и законных тронов, коронованный предводитель республиканцев, вооруженный наследник Робеспьера, окружающий себя его сподвижниками; наконец это — креатура и венец революции, которой он поклонялся во всех ее проявлениях, которую выставлял иностранцам в качестве своего непреодолимого оплота, а Франции выдавал за свою покровительницу и ангела-хранителя».
Внимательно прочитав эти строки, император Александр пробормотал:
— Надо раздавить революционную гидру! Нет! Я не потерплю, чтобы Франция снова стала очагом цареубийств и богохульства. Я обезоружу нового Робеспьера и укрощу безбожный народ, который укрывается под сенью знамени сатаны!
Он схватил руку Нейпперга, крепко пожал ее, потом ушел в свои апартаменты, и туда вскоре были вызваны Талейран и другие полномочные члены Венского конгресса.
На следующий день появилась прокламация союзных государей:
«Государи, подписавшие Парижский договор и ныне собравшиеся на Венском конгрессе, получив известие о бегстве Наполеона Бонапарта, а также о том, что последний с вооруженными силами ворвался в пределы Франции, считают долгом собственного достоинства и в интересах общественного порядка торжественно изъявить те чувства, каковые овладели ими при получении сего известия.
Нарушив условия конвенции, установившей его безотлучным местопребыванием остров Эльба, Бонапарт этим поступком сам лишил себя единственного законного положения, с которым еще могло быть связано его существование.
Вновь появившись в пределах Франции и неся с собою планы смут и переговоров, он этим сам лишил себя покровительства законов и показал пред лицом всей вселенной, что с ним немыслимы ни мир, ни перемирие.
Вследствие сего союзные государи объявляют, что Наполеон Бонапарт становится вне всяких гражданских и общественных условий и в качестве врага и нарушителя мирового спокойствия предается преследованию во имя блага общества.
Кроме того, союзные государи объявляют, что они употребят все средства и соберут все силы, чтобы гарантировать Европу от всякого покушения, способного вновь погрузить народы в ужасы и беспорядки революции».
Этот акт об объявлении Наполеона вне покровительства законов был подписан всеми полномочными комиссарами Венского конгресса. Но среди имен всех этих разбойников-дипломатов не хватало еще одной подписи, самой главной, подписи той, которая толкнула всех остальных на этот шаг, а именно Марии Луизы!
Действительно, фактически она была истинным автором этой ужасной прокламации.
Правда, редактировал это воззвание князь Меттерних; но ведь объявление кого-нибудь вне закона и обращение к общественной мести (вендетте) давало всякому человеку право безнаказанно убивать лишенного покровительства законов, и вся прокламация дышала замаскированным призывом к такому акту; а едва ли министр австрийского императора рискнул бы провоцировать таким способом убийство зятя своего государя и супруга своей эрцгерцогини если бы последняя выразила твердое желание вернуться к мужу и вновь принять на себя ранг и титул французской императрицы!
В действительности сама Мария Луиза лично потребовала составления такой прокламации, которая приравнивала ее мужа к беглому каторжнику; это она сама, заявив, что никогда более не увидит мужа, объявила перед лицом всех этих монархов и их дипломатов окончательное низвержение Наполеона. До тех пор, пока на австрийскую эрцгерцогиню смотрели как на супругу Наполеона, которая могла со дня на день пожелать вернуться к нему, всем этим сберегателям престижа роялизма трудно было приравнять зятя австрийского императора к обыкновенному преступнику. Но, разлучаясь с супругом, отказываясь впредь иметь с ним что-либо общее, Мария Луиза отнимала у Наполеона его ранг равного остальным монархам человека; она обрекла его, словно обыкновенного авантюриста, словно обыкновенного узурпатора, мести всех этих государей «милостью Божьей». И этой новой изменой Мария Луиза открывала Францию для нового иноземного нашествия и обрекла своего великого супруга ссылке на острове Атлантического океана.
Действительно, прочтя эту возмутительную прокламацию, Мария Луиза не испытала ничего, кроме чувства глубокого удовлетворения. По совету Нейпперга она с самого начала обратилась к покровительству союзников и теперь от всего сердца благословляла государей и их министров, которые таким образом выступали на ее защиту и спасали ее от Наполеона. В то же время она чувствовала глубокую признательность к Нейппергу, доброму советчику, который с такой преданностью и ловкостью направлял ее поведение и следил за соблюдением ее интересов.
Таким образом волнение обоих голубков улеглось. Теперь уже ничто не могло обеспокоить их, и оставалось исполнить лишь две ничтожные формальности, чтобы Мария Луиза стала госпожой Нейпперг.
Эти формальности заключались в смерти супруги Нейпперга и в смерти императора Наполеона.
Новость о первом из ожидаемых событий дошла до Вены в тот самый момент, когда дипломаты ставили Наполеона вне покровительства законов. Мария Луиза и Нейпперг надеялись, что прокламация союзников поможет осуществиться и второй надежде. Поэтому окончательно спокойный за будущее, полный и безраздельный владыка над сердцем и телом Марии Луизы, ставший свободным благодаря смерти жены, вознагражденный за ряд ценных услуг роялизму Нейпперг сиял от счастья.
Австрийский император пришел в полный восторг от письма, которое было написано дочерью и побудило конгресс издать вышеприведенную прокламацию. Теперь он мог не опасаться, что в один непрекрасный день его ужасный зять вдруг предстанет перед ним. Очень признательный Нейппергу за его ловкий образ действий, он спросил дочь, чем можно было бы отблагодарить ее любовника.
Мария Луиза поспешила ответить, что его следовало бы назначить обер-гофмаршалом. В этой просьбе заключался тонкий расчет: ведь это звание давало носившему его лицу привилегию садиться в карету эрцгерцогини, а для Нейпперга и Марии Луизы это было самым дорогим подарком. Отныне наши голубки могли находиться рядом друг с другом и в своих комнатах, и на прогулке.
Тем не менее им на короткое время пришлось расстаться. Не удовольствовавшись почетным титулом, которым он вознаградил своего «зятя с левой стороны», австрийский император захотел дать ему фактический военный чин. Поэтому Нейпперга назначили командующим войсками, посланными против Мюрата, который преждевременно и довольно глупо взялся за оружие. Неаполитанский король был единственным союзником Наполеона во всей Европе. Разбив его, Нейпперг разбивал самого Наполеона. Не было поручения, которое оказалось бы ему более по сердцу. Он выехал из Вены 1 апреля 1815 года, напутствуемый всяческими пожеланиями Марии Луизы. Ведь Мюрат, с одной стороны, как союзник и зять Наполеона, а с другой — как противник Нейпперга на поле сражения, был вдвойне ее врагом!
IV
Де Монтрон, генерал Анрио и ла Виолетт решили пробраться в Вену так, чтобы не привлечь к себе внимания и подозрения недоверчивой австрийской полиции. Каждый из них поселился отдельно, и свидания были назначены заранее. Они решили, что до того решительного дня, когда надо будет вручить Марии Луизе собственноручно написанное Наполеоном письмо и убедить ее последовать за ними в Париж, они должны выдавать себя за иностранцев, незнакомых друг с другом.
Обыкновенно ботаников считают самыми безобидными мире людьми, и поведение ученых, занимающихся пополнением своего гербария, не внушает никаких подозрений. Де Монтрон, запасшийся рекомендательными письмами к венским натуралистам и превосходно принятый ими, не пренебрег ни малейшей деталью в костюме, внешнем виде и манерах, которые должны были отвести от него всякие подозрения. Всем своим внешним видом он представлял тип безобидного любителя растений, явившегося в Вену с целью пополнить свои коллекции.
Он придал себе старческий вид, украсил нос громадными очками, надел просторный дорожный плащ, карманы которого были битком набиты книгами и брошюрами, повествующими об австрийской флоре. Его знаменитая зеленая коробка, бывшая безотлучно при нем, внушала большое почтение сторожам Шенбруннского парка, когда он медленным шагом прогуливался по его дорожкам, тщательно и кропотливо осматривая все кусты, цветы, этикетки, привешенные к редким породам растений. Таким образом он совершенно незаметно приближался к отгороженному садику, где Римский король ежедневно прогуливался в обществе своей гувернантки, доброй мамаши Кью.
Монтрон надеялся этим путем добиться встречи с императрицей и думал, что ему будет достаточно одного момента, чтобы незаметно передать ей драгоценное императорское письмо, которое он хранил под пучками травы в коробке, казавшейся каким-то святилищем науки сторожам, поставленным следить за порядком в парке, а под секретом — облеченным миссией наблюдать, чтобы никто не приближался к императрице или к сыну Наполеона.
Анрио, по совету де Монтрона, переоделся в священное одеяние. Он достаточно хорошо говорил по-итальянски и отлично мог сойти за аббата Альфьери, римского священника, уполномоченного священной коллегией произвести расследование относительного возможности канонизации архиепископа сент-этьенского, Ромуальда Моравского, великого евангелизатора и просветителя чехов и мадьяр, в бозе скончавшегося, распространяя вокруг себя райский аромат святости.
Анрио долго не соглашался надеть сутану; он чувствовал себя мешковатым и связанным в этом одеянии, в котором вечно запутывались его ноги, привыкшие к лосинам и высоким сапогам; его руки, несравненно более привыкшие держать саблю, чем кропильницу, никак не хотели складываться для благословения. А кроме того, ему нужно было сбрить усы и коротенькие, доходившие до половины щеки, баки. О, это была слишком большая жертва!
— Но ведь эта жертва приносится вами ради императора! — заметил ему де Монтрон.
— А, если для него, тогда… Чего только не сделаешь для него! Пойдем в огонь и в воду, как перешли Березину; да, да! Но все-таки слишком жестоко с вашей стороны требовать, чтобы я переоделся попом! — ворчал Анрио в то время, как де Монтрон поправлял на нем пояс и обучал, как следует осторожно оправлять на ходу сутану.
— У нас нет иного выбора костюмов для нашего маскарада, — ответил генералу де Монтрон, — по крайней мере священническое платье является самым удобным пропуском куда угодно. К тому же я знаю лично аббата Альфьери, настоящего исследователя святости всеблаженного Ромуальда Моравского. Его задержала подагра в одном из монастырей Анконы, так что он не сможет прибыть в Вену ранее середины лета. Таким образом у нас окажется время выполнить наш долг или оказаться расстрелянными, или заключенными пожизненно в тюрьму еще до его приезда сюда. Самое удобное — это внешность этого аббата! О вашем приезде объявлено повсеместно, и вас примут с распростертыми объятиями во всех общинах.
— Только бы им не пришло в голову заставить меня служить обедню.
— Ну что же из этого? Вы — ученый монах. Правда, вы имеете священнический сан, но обыкновенно не служите обеден. Вы отделаетесь от подобных приглашений тем, что скажете, будто изыскания и сведения, которые необходимо собрать относительно жития всеблаженного Ромуальда Моравского, не оставляют вам свободного времени для совершения богослужения.
— Ну, я все-таки предпочел бы быть подобно вам ботаником! — сказал Анрио, корча невероятные гримасы.
— Натуралисты очень любопытны и ревнивы к своей науке; при первом же обращенном к вам вопросе вы сразу обнаружите свое невежество и заставите заподозрить вас. Ну, а аббату всегда легче отклонить всякие подозрения! Достаточно только напустить на себя лицемерно слащавый вид истинного ханжи.
— Уж попытаюсь изобразить на своем лице этот вид! Но это будет очень трудно! — сказал генерал с глубоким вздохом, стараясь в виде упражнения набожно сложить руки и нашептывать молитвы.
— Знаете, из вас выйдет преотличный римский аббат! — сказал ему де Монтрон. — Ручаюсь, что мы с вами оба собьем с толку полицию Меттерниха. Только вот ла Виолетт отчасти беспокоит меня.
— Где он? — спросил Анрио.
— Он назначил мне свидание на площади Святого Стефана. Он не захотел прийти сюда; благодаря высокому росту, его легко узнать.
— Это очень осторожно с его стороны. Но именно благодаря высокому росту ему будет очень трудно явиться неузнаваемым в каком-либо другом виде.
Де Монтрон, покачав головой, возразил:
— Ну нет, наш бравый ла Виолетт уверял меня вчера, что относительно его беспокоиться совершенно нечего, что он сумеет придать себе такую внешность, которая отлично подойдет к нему. Он клялся, что не далее как сегодня же днем докажет нам на площади Святого Стефана, что ему удастся как нельзя лучше ускользнуть от внимания австрийских шпионов.
— Так пойдем туда. Мы не станем заговаривать с ним, а только посмотрим. Если случится что-нибудь, то решено, что мы не знакомы. Достаточно, чтобы хоть один из нас спасся, чтобы можно было выполнить возложенную на нас священную миссию.
— Ла Виолетт, — продолжал де Монтрон, — прибавил кроме того, что он клянется повидать раньше нас обоих его высочество Римского короля, принца Пармского, как здесь называют сына нашего императора.
— А не сказал он вам, оставил ли он свою палку, которую во что бы то ни стало хотел взять с собой, несмотря на наши справедливые замечания по этому поводу?
— Ла Виолетт заявил, что он расстанется с этой палкой разве только в гробу. Да и то он просил, если окажется возможным, чтобы эту палку положили рядом с ним в месте последнего успокоения.
— Какого черта понадобилась ему здесь эта палка? И что за переодевание придумал он?
— А вот пойдем на площадь, там узнаем!
Они осторожно вышли из маленького изолированного домика, нанятого ботаником, и сейчас же разошлись в разные стороны, направляясь к месту, назначенному ла Виолеттой для их свидания.
Когда они вышли на площадь, они заметили там большую толпу народа, собравшуюся вокруг чего-то, издававшего раздирающие слух звуки дикой музыки.
Посмотрев направо и налево и не обнаружив нигде присутствия ла Виолетта, которого рост должен был выдать еще издалека, они решили, что он еще не успел прибыть на место свидания.
Чтобы занять чем-нибудь минуты ожидания, а также, чтобы не привлекать к себе внимания, они решили, дожидаясь ла Виолетта, замешаться в толпу, собравшуюся на площади.
Окруженный любопытствующими, какой-то человек, одетый в костюм горца-тирольца и бывший на голову выше всех любопытных, обступивших его тесным кольцом, руководил при помощи большой палки, которой он манипулировал с ловкостью искусного престидижитатора комической и хорошо выдрессированной труппой собак.
Рядом с ним стоял молодой тиролец с большим турецким барабаном за спиной, одетый в китайскую шапку, увешанную бубенчиками и колокольчиками. Молодой парень изо всех сил дубасил по ослиной коже, аккомпанируя этому грохоту потряхиванием головы, заставлявшим звенеть и бренчать все колокольчики и бубенцы своего головного убора.
Анрио не мог удержаться от хохота. Пользуясь тем, что толпа была увлечена движением палки и упражнениями дрессированных собак, подошел к де Монтрону и сказал ему:
— Да ведь это ла Виолетт! Вы узнали его?
— Сейчас же. Да и он тоже видел нас, так как благодаря своему высокому росту он может смотреть поверх голов толпы. Но посмотрим, что он здесь выделывает.
В полном молчании оба они принялись наблюдать за импровизированным директором собачьей труппы.
Тамбурмажор уже давно ломал себе голову над вопросом, как бы переодеться и какой бы профессией заняться, чтобы не привлечь внимания и подозрений венской полиции, но не мог придумать ничего удовлетворительного. Ведь имея в вышину добрую сажень, не так легко подыскать то, что требуется в этом отношении!
Он силился придумать что-нибудь, комбинировал в уме возможные и невозможные превращения, поливая кружкой превосходного пива большую порцию розовой ветчины, которую он ел в скромной харчевне, примыкавшей к постоялому двору, где он остановился; вдруг он услыхал, что кто-то тяжело вздыхает, и заметил одетого в причудливый тирольский костюм мальчика, сидевшего на скамейке в глубине зала.
Ла Виолетт достаточно хорошо говорил по-немецки, чтобы суметь объясниться на этом языке, и решился завязать разговор с маленьким тирольцем.
Этот мальчишка, подумал он, не причастен к полиции. Его терзает какое-то горе, он расскажет мне, что его угнетает. Может быть, мне удастся утешить его, а он за это поможет мне ориентироваться в этом городе, который я знаю неважно; может быть, он даже наведет меня на какую-нибудь хорошую идею. Я обещал быть завтра на площади Святого Стефана переодетым до неузнаваемости, а я все еще — прежний ла Виолетт, каким они покинули меня вчера. Ну, так за дело! Прощупаем почву, и раз это — первый субъект, с которым можно поговорить, не рискуя особенно в этой стране шпионов, то я постараюсь извлечь какую-нибудь пользу из этого нытика!
Он подошел к маленькому тирольцу, спросил его, не пожелает ли он выпить с ним кружку пива, и осведомился относительно причин горя мальчика.
Ребенок — маленькому тирольцу могло быть в лучшем случае тринадцать лет — принял угощение и рассказал свою историю. Он три дня тому назад остановился в этом постоялом дворе вместе с хозяином, неким Карлом Брюннером, прибыв из Зальцбурга. Карл Брюннер имел труппу дрессированных собак, а он, Франц Гейльбах, бил в турецкий барабан, звонил китайской шапочкой и собирал у зрителей подаяние. Маленькая труппа благоденствовала, и они уже рассчитывали на отличные дела в Вене, как вдруг полицейские агенты в то же утро явились и арестовали директора. В соседней деревушке, где ночевал Карл Брюннер, случилась кража, в которой его и обвинили. Он, Франц, избежал ареста только потому, что хозяин выслал его вперед, чтобы заблаговременно прописать в Вене паспорта и испросить у властей разрешение на представления; он не ночевал на ферме, где произошло воровство.
Мальчик закончил свой рассказ новыми вздохами и сетованиями. Что-то будет, если его хозяина еще долго продержат в тюрьме? Он сам не сможет ни прокормить собак, являвшихся источником их благосостояния, ни пропитать самого себя. Содержатель постоялого двора, обеспокоенный появлением полицейских, заявил юному тирольцу, что выставит за дверь всю труппу, если мальчик не внесет ему пяти флоринов (около четырех рублей) авансом.
А где же взять такую кучу денег? Карла Брюннера забрали вместе со всей выручкой труппы. Да и он, Гейльбах, не способен один руководить целой труппой и заставить ее проделывать те ловкие штуки, которые вызывают крики «браво» и дождь мелких монеток! Что же ему делать? Если трактирщик, как обещал, выставит его за дверь вместе с собаками, то его, Франца, арестуют как бродягу. Ему придется отправиться в тюрьму к Карлу Брюннеру. Но собаки? Их возьмут да утопят, а то и повесят просто.
Мысль об утопленных или повешенных всех этих славных собачках, которые так мило танцевали под аккомпанемент турецкого барабана и китайской шапки, заставляла мальчика проливать слезы и вздыхать.
Но постаравшись побороть свое волнение, он принялся перечислять ла Виолетту достоинства, добродетели и таланты различных персонажей труппы Карла Брюннера, описывал, какие у них славные рожицы, какие они ловкие и сильные.
На совести ла Виолетта лежало довольно много врагов разных национальностей, которых он уложил на полях сражений, куда его приводили республиканское знамя и орел императорского штандарта. Привыкнув ставить на карту свою жизнь, он относился с равнодушием к злоключениям других, но картины ближайшего будущего труппы Карла Брюннера, возможность утопления или повешения собак вызвали и в нем глубокое сочувствие. Да и судьба юного тирольца тоже показалась ему достойной участия, так что он стал думать, как выручить из беды его и его артистов.
Мальчик, увидав, что на лице иностранца отражается все большая и большая жалость, понимая, что незнакомец, угостивший его кружкой пива и внимательно выслушавший повесть о его злоключениях, должен быть добрым человеком, принялся называть по очереди всех животных труппы, вдаваясь в подробное описание достоинств каждого из них.
Самым главным был Кронпринц, большой пудель, премьер труппы, который великолепно прогуливался на задних лапах в белом костюме и со шляпой с перьями, которую он прижимал к груди передними лапами. Его товарища звали Капельмейстер; он был одет в костюм из черного бархата, отделанного кружевами, и умел извлекать звуки из маленькой скрипочки. Шварц, совершенно черная горная собака, великолепно вращала лапами пустую бочку, забиралась на нее по сигналу, скатывалась и выскакивала по новому сигналу. Ее брат Вейс с белой как снег шерстью, вызывал восторги зрителей, представляя, как он спасает и выносит из пропасти на своей мускулистой спине путника, застигнутого горным обвалом. Затем следовало упомянуть про русскую гончую Мужик, бесподобного прыгуна, и про Вольфа, померанскую овчарку с всклокоченной шерстью, на редкость ловкую в деле поднимания брошенных монет.
Со стороны прекрасного пола отличались следующие: Маркиза, французский пудель, кокетливо выступала в шляпе с перьями, в юбочке и шали, открывая и закрывая нежными лапками веер; Ольга, русская гончая, восхитительно танцевала; Гретхен, саксонский гриффон, прогуливалась в соломенной шляпе перед зрителями и моментально указывала самую влюбчивую особу из всех зрительниц, никогда не впадая ни в малейшую ошибку.
Франц, стараясь окончательно завоевать расположение ла Виолетта, умолял его помочь ему.
Тогда тамбурмажор выразил юному тирольцу согласие поручиться за него перед трактирщиком и руководить представлениями четвероногой труппы, но при одном условии: чтобы Франц оставался дирижером оркестра!
Мальчик с признательностью согласился на это условие и повел ла Виолетта в конюшню, где умные животные разразились радостным лаем при виде своего нового директора.
Довольно неожиданная мысль превратиться в импресарио собачьей труппы возникла у ла Виолетта во время рассказа юного тирольца; он вспомнил об одной из своих любимых забав в старые времена, во время службы в первом гренадерском полку.
У полка была собака, знаменитая той ловкостью и отчетливостью, с которой она проделывала различные трюки. Ее звали Мусташ, и это имя стало знаменитым во всей армии и было известно даже самому императору. Воспитателем же этого знаменитого Мусташа был он, ла Виолетт! В то время вся армия рассыпалась в похвалах искусству, с которым он выдрессировал собаку, и теперь ла Виолетт видел, что ему будет нетрудно взять на себя руководство уже выдрессированными собаками.
Кроме того, он решил выучить новым штукам воспитанников Карла Брюннера. Там был Кронпринц, представлявший собой величайшего плута из пуделей. Он переименует его, назовет его Рагуз в честь того негодяя, который погубил Наполеона, сдав союзникам Париж и шестой корпус. Эта маленькая месть улыбалась старому ворчуну.
Решив это, он вспомнил, что ему следовало как можно скорее приобрести какой-нибудь маскарадный костюм, чтобы не огорчить друзей, с которыми он прибыл в Вену для смелого предприятия. А какой костюм мог быть более подходящим, чем одеяние уличного гаера? Ведь это переодевание было хорошо особенно тем, что он выставлял себя открыто напоказ, а последнее обстоятельство, конечно, никак не могло бы вызвать у полицейских подозрение, будто он — заговорщик, явившийся в Австрию с секретным поручением от Наполеона. Конечно, хлопот с полицией не избежать, но все это будет из-за его ремесла дрессировщика животных, а далее дело не пойдет. Карл Брюннер был зарегистрирован, маленький тиролец выхлопотал все разрешения, причем последние были выданы не на имя Карла Брюннера, а прямо антрепренеру собачьей труппы. Ему разрешалось показывать своих животных на улицах Вены, подчиняясь установленным правилам. Это успокоило ла Виолетта: ведь, значит, осмотрев его бумаги как директора собачьей труппы, полицейским придется оставить его в покое.
Кроме того, это переодевание позволит ему бродить в любом месте города, и ему, быть может, будет очень легко подобраться к Шенбрунну и Римскому королю.
Разве не так уже невозможно заинтересовать нескольких слуг упражнениями дрессированных собак и добиться таким образом разрешения дать представление перед сыном Наполеона? Императрица тоже могла явиться туда из любопытства, чтобы полюбоваться трюками, проделываемыми собаками. Тогда уже придется действовать Монтрону и Анрио: пусть тогда они отдадут принесенные письма, пусть убедят императрицу бежать с ними и устроить похищение Римского короля!
Наконец, имелась еще причина, чтобы превратить былого тамбурмажора в директора собачьей труппы. Его страшно заботила возможность сохранить при себе свою палку, так как расстаться с ней было бы для него равносильно ампутации. Между тем мало костюмов и профессий позволило бы сохранить этот жезл тамбурмажора, радость и гордость ла Виолетта, привыкшего выражать им все свои переживания и отражать впечатления, производимые на него поступками, словами и мнениями людей.
Ремесло руководителя труппы дрессированных собак не только терпело, но и требовало употребления палки. Ловкость, с которой он будет маневрировать ею, вызовет у публики только лишний восторг, и это престидижитаторские упражнения с палкой, которые он будет производить время от времени вместе с прыжками и акробатическими штуками собак, доведут до полнейшей иллюзии ею маскарад.
— Гм! А все-таки после того, как я командовал батареей первого гренадерского и украшен орденом собственноручно Наполеоном, несколько странно выдавать себя за уличного скомороха! — пробормотал тамбурмажор с гримасой, примеряя уличный костюм Карла Брюннера, который по его указаниям переделала и надставила жена трактирщика. — Ну, да что там! Когда служишь императору, то всякое ремесло хорошо. А потом ведь сам генерал Анрио не задумываясь переоделся попом! Что же делать! Когда служишь императору, то позорных костюмов не существует.
Он прервал нить своих размышлений, чтобы прикрикнуть на одного из артистов, ставшего уже непочтительным:
— Постой только, Рагуз, ты получишь от меня! — крикнул он, погрозив палкой Кронпринцу, пуделю в придворном костюме, который, разыгравшись, принялся покусывать его sa ноги.
Хотя и с большим трудом, но все-таки в конце концов ла Виолетту удалось надеть мундир посаженного в тюрьму директора собачьей труппы. Затем он направился вместе с Францем и академически образованной сворой по городу, чтобы попасть на место, которое он назначил для свидания с друзьями.
На площади Святого Стефана ла Виолетт отлично разыгрывал взятую им на себя роль и, поддерживаемый Францем, который изо всех сил лупил по барабану и потрясал колокольчиками своей китайской шапочки, собрал пышную жатву медных монет, среди которых попадалось даже серебро. Когда он заметил Монтрона и Анрио, он поспешил заявить, что сейчас будет дан последний номер, так как ему не терпелось поскорее поговорить с товарищами и узнать у них план, который они выработали для удачного выполнения возложенного на них императором поручения.
Закончив представление, ла Виолетт приказал Францу отвести труппу в гостиницу и дал ему часть выручки, а сам направился в мрачную, тесную пивную; он сделал это вполне спокойно: было вполне естественно, если после работы и такого сбора он зашел немножко освежиться.
Анрио благоразумно ушел прочь и, делая вид, будто читает свой молитвенник, принялся прогуливаться взад и вперед перед собором.
Де Монтрон прошел в пивную. Ведь ботаник, особенно в Вене, редко бывает врагом кружки пива. Он уселся около директора собачьей труппы и даже завязал с ним разговор, причем сделал это так естественно, что не мог навлечь на себя никаких подозрений. Все его вопросы и комплименты, сделанные по адресу мохнатых артистов, казались простым любопытством, возникшим после столь блестящего представления. Казалось, что только манипулирование палкой и выходки собак интересовали ученого ботаника, который, чтобы завязать разговор, начал с осмотра палки ла Виолетта, словно видел ее в первый раз.
Они быстро обменялись несколькими словами, причем де Монтрон ввел ла Виолетта в курс того, что они решили вместе с Анрио.
Момент был очень благоприятным. Нейпперг только что отправился в Италию, чтобы сражаться там против Мюрата, благодаря этому Мария Луиза была вне влияния своего обычного советника, а потому и следовало действовать как можно скорее. Искать непосредственного общения с Марией Луизой было бы неблагоразумно; вокруг ее особы было организовано самое строгое наблюдение, потому малейшая неосторожность могла погубить весь задуманный план.
Ла Виолетт вполне одобрил осторожность и сдержанность де Монтрона и согласился, что самым лучшим будет стараться не скомпрометировать себя всем троим сразу и что только одному из них надо попытаться первым пробраться к императрице. Если это удастся, то финальное дело будет проведено ими сообща; если попытка не удастся, то остальные двое все же будут еще иметь некоторый шанс.
Де Монтрон сообщил, что первую попытку сделает Анрио. В качестве аббата Альфиери ему удалось получить рекомендательное письмо к Анатолю де Монтескью, сыну гувернантки Римского короля, который официально прибыл в Вену, и Анрио рассчитывал, что при посредстве этого Монтескью ему удастся вручить Марии Луизе письмо императора и добиться свидания с нею.
Тем временем он, Монтрон, во время этого свидания примется с глубоким вниманием изучать редкие растения Шенбруннского парка, по крайней мере те из них, которые находятся ближе к апартаментам императрицы. Что же касается ла Виолетта, то ему будет легко прогуливаться со своими собаками около дворца и таким образом отвлечь внимание стражи и лакеев.
Если императрица решится последовать за Анрио, ее уведут на лужайку парка, где ее будет ждать карета. Императрицу увезут переодетой; Анрио будет сопровождать ее вплоть до швейцарской границы, где все они съедутся. Что касается де Монтрона, то он смело проберется во дворец, расскажет госпоже де Монтескью о бегстве императрицы и, сообщив ей приказание императора, от его имени велит ей немедленно отвезти царственного ребенка к матери на границу.
Ла Виолетт кивнул головой в знак согласия и потом сердито пробурчал:
— Однако во всем этом деле мне-то особенно и делать нечего, а моим собакам — тем более!
— Успокойтесь, мой храбрец, успокойтесь! — поспешил сказать де Монтрон. — У каждого из нас имеется своя роль, и притом каждая из этих ролей первая в той пьесе, которую мы подготавливаем. Вашим собакам тоже придется принять участие в ней. Вам придется отвлечь внимание лакеев, сторожей, посторонних, которые могут вмешаться. Представление ваших артистов соберет их вокруг себя, заставив позабыть о службе. Ваша роль, милый ла Виолетт, важна, поскольку вполне возможно, что похищение Марии Луизы будет замечено ранее того, как вы будете иметь возможность укрыться в безопасном месте. И тогда… вы понимаете?
— Да, меня расстреляют, — спокойно ответил ла Виолетт. — Но раз я уже принял участие в этом деле, раз моя смерть может быть полезной императору… так что же! О, но мне позволят сначала приласкать, сколько влезет, палкой этих австрияков?
— Можете защищаться как умеете.
— В таком случае я совершенно согласен с вами. Ваш план превосходен. Ну, а когда начнем мы представление нашей пьесы? Я вполне овладел порученной мне ролью!
— Завтра. В данный момент постараемся избавиться от шпионства, от неосторожности, способной выдать нас шпионам. Сейчас мы — актеры за кулисами. Давайте повторять свои роли, дожидаясь, пока поднимут занавес. До завтра во дворце Шенбрунна!
И де Монтрон тихонько отошел от ла Виолетта, медленно опорожнил свою кружку и легким, спокойным шагом вышел из харчевни.
V
В те времена в Париже вдоль шоссе д'Антен тянулись пустыри, безлюдные и подозрительные днем, зловещие в ночную пору и служившие притоном для бродяг. На их пустынном просторе одиноко возвышался большой новый дом. В примыкавшем к нему флигеле, в чистенькой, но бедной квартирке, обставленной лишь самой скудной мебелью, сидела однажды вечером за работой молодая девушка и с лихорадочной поспешностью шила при свете чадившей свечи. Иногда она поворачивала голову и с чувством взглядывала на портрет в овальной раме, висевший на стене. То была довольно нежная пастель, изображавшая молодую женщину в изящном бальном туалете и длинном плаще из синего бархата с кисточками из лебяжьего пуха, который драпировал ее фигуру, ниспадая сзади до пола. На белокурых волосах этой дамы была легкая графская диадема. Роскошно одетая красавица походила точь-в-точь на молодую девушку за шитьем.
Докончив работу и видя, что уже поздно, молоденькая швея тщательно сложила рукоделие, вынула из маленького буфета некрашеного дерева кусок хлеба, несколько сухих миндальных орехов и винных ягод (обычная закуска французской бедноты) и принялась ужинать, занимаясь в то же время чтением.
Она развернула и положила перед собой на стол книгу, напечатанную крупным шрифтом. То не был ни любовный роман, ни повесть о рыцарских приключениях; на желтой обложке стояла ярко-красная заманчивая надпись: «Жизнь Наполеона Великого».
Юная читательница была так поглощена описанием побед и завоеваний императора, что не сразу услышала стук в дверь.
После некоторой паузы раздались два новых, более сильных удара. Молодая девушка вздрогнула, встала и спросила.
— Кто там?
— Это я, мадемуазель, я! Пак.
Она пошла открыть дверь.
На пороге показался мужчина лет сорока в длинном темном сюртуке, похожий на отставного военного. Его лицо было печально и строго, но взор, остановившийся на юной работнице, смягчился, превращаясь почти в нежный из сурового и резкого, каким он был обычно.
— Я не слишком побеспокоил вас, мадемуазель Амелия? — спросил вошедший.
— Нет, я почти закончила свою работу. Видите, у меня есть свободное время, я читала.
Пак нагнулся над книгой, перевернул ее и, прочтя заглавие, воскликнул:
— Ах, «Жизнь Наполеона»! Так вы любите великого человека? Он заслуживает этого. Я также восхищаюсь им, хотя он позабыл обо мне. Однако я спас ему если не жизнь, то нечто такое, чем он дорожил почти не меньше жизни, — его корону.
— Как это могло случиться? Ах, вам следовало бы рассказать это приключение, это чудо! Вы знаете, что меня интересует и увлекает все, касающееся императора.
— Я уже заметил в вас это поклонение, можно сказать, любовь к его величеству. Оно удивляло меня тем более, что ваша матушка, как мне известно, была немка.
— Моя мать, портрет которой вы видите перед собой, — возразила Амелия, указывая на пастель, где молодая дама в графской диадеме улыбалась в продолжение двадцати пяти лет в своей овальной раме, — была француженка.
— Неужели? — удивился Пак, видимо заинтересованный. — Сведения, собранные о вас, устанавливали только национальность вашего отца… врага императора!
— Моя мать, — продолжала Амелия, — называлась в девичестве Бланш де Лавелин.
— Я не знал этой фамилии. Мне было известно о ней лишь то, что она вышла замуж за австрийского генерала, графа Нейпперга, который покинул ее в Германии без средств. Она приехала с вами во Францию и здесь, в этом самом доме, старалась поддерживать свое существование, исполняя вышивки и расписывая цветами фарфоровые чашки. Она была почтенная, достойная женщина!
— Благодарю вас за этот сочувственный и справедливый отзыв о моей матери. С ее смерти я живу воспоминаниями о ней! — И дочь графа Нейпперга прослезилась.
Сильно растроганный Пак проворчал про себя:
— Ну вот еще: теперь я довел ее до слез! Мне больно, — продолжал он вслух, — что я растревожил ваше горе, точно мне и без того не предстояло сообщить вам довольно неприятные вещи… относительно домохозяина. Видите ли, он приходил опять. Требует уплаты… Мне тяжело мучить вас таким образом, но он — человек несговорчивый; ведь это — его светлость, герцог д'Отранте.
— Значит, министр полиции занимается такими пустяками вместо того, чтобы охранять императора и следить за его врагами! — героическим тоном сказала Амелия.
— Герцог д'Отранте, по примеру своего повелителя, хочет вести много дел зараз. Вдобавок он как будто особенно интересуется этим домом и особенно вашей квартирой.
— Вот как? А не знаете ли вы, что заставляет его отрываться от своих важных и действительно поглощающих обязанностей для того, чтобы посвящать свое внимание таким безделицам, как плата за мою убогую квартиру?
— Я не позволил бы себе выведать помыслы его светлости, — уклончиво ответил Пак, — но дело в том, что герцог опять заходил сюда не далее как сегодня. Он позвал меня и сказал своим насмешливым, кислым голосом: «Пак, когда я нанял вас управлять этим домом, который имел глупость построить на пустыре, в глубине глухого квартала, то думал, что вы будете стараться и радеть о хозяйской пользе»… Когда же я стал возражать, что, кажется, не сижу сложа руки и что хлопот у меня довольно, он перебил мою речь, чтобы напомнить мне о своих благодеяниях. О, герцог д'Отранте не забывает ничего! Вы знаете его?
— Никогда не видела! Я знаю только, что он, к несчастью, пользуется доверием императора, которому изменил уже однажды и, наверно, изменит еще.
— Ш-ш! Не станем пускаться в политику! Вы спрашивали меня сейчас о том, по какому случаю мне удалось оказать услугу великому Наполеону. Так вот, извольте слушать! Было это в тысяча восемьсот двенадцатом году; один генерал, по имени Мале, сидя в тюрьме, затеял довольно диковинный и отчаянно-смелый заговор. Дело шло о том, чтобы распустить молву о гибели императора в России. Известий из этого ужасного похода не было долгое время, и всякие предположения о его плачевном исходе могли показаться правдоподобными. Бежавший из тюрьмы Мале успел уже посадить под стражу министра внутренних дел и министра полиции, которым состоял тогда Савари; он собирался упрятать в тюрьму и генерала-коменданта города Парижа, забрать в руки власть над всем, но был арестован в свою очередь.
— Кем же это?
— Мною. Или почти так… Представьте себе, один мой товарищ-однополчанин по имени ла Виолетт, отставной тамбурмажор, служивший в гренадерском полку, выпросил у меня билет полицейского агента… ведь я в то время занимал должность агента, как уже рассказывал вам. Благодаря этому билету ла Виолетт получил пропуск в здание главного штаба и ему удалось арестовать Мале. Вот каким образом я, так сказать, сохранил императору его корону.
— Он, конечно, наградил вас?
— Да. Прежде всего ла Виолетт предоставил мне всю честь, всю пользу этого ареста. О, я не мог пожаловаться! По донесениям начальства, это мной все было сделано, все угадано, все остановлено и все спасено.
— Как же вы попали в немилость? Как лишились впоследствии своей должности?
— В тот момент, когда Париж был отдан неприятелю, когда Бурбоны вернулись сюда с союзниками, сторонниками старого режима, я оставался на своем посту. Я состоял в распоряжении начальника, лица, которое, с кресла своего предшественника, отдававшего мне раньше свои приказания, должно было отдавать мне их теперь в свою очередь. Итак, я остался в главном управлении сыскной полиции при Людовике Восемнадцатом. Нас было немало таких — преданных приверженцев Наполеона, которые продолжали — конечно, с неохотой — служить Бурбонам и белому знамени! Что же делать, надо чем-нибудь жить! По возвращении Наполеона меня уволили. Я был на дурном счету как роялист! Благодарю покорно! Наконец герцог д'Отранте в память о моих прежних заслугах надумал пристроить меня и дал мне место управляющего домом, который он выстроил тут, в Монбланском квартале. Вот каким образом стал я обязан его светлости и вот почему мне трудно не исполнять хозяйские распоряжения.
— А почему же вы оказываете неповиновение своему благодетелю, человеку, избавившему вас от нищеты, в которую вы попали благодаря незаслуженному увольнению?
— Почему? — со вздохом вымолвил Пак. — Да потому, что суровые распоряжения, получаемые мною от него, касаются вас, а вы внушаете мне участие, волнуете меня. Будь я моложе, то, право, все мое смущение и расстройство, в котором я нахожусь, можно было бы приписать любви к вам.
— Не болтайте вздора и сообщите мне скорее последние, касающиеся меня, приказания, которые, по вашим словам, повторил сегодня ваш патрон и мой домохозяин, господин Фушэ.
— Он сказал мне, что если вы в течение трех дней не внесете квартирную плату за истекшее полугодие и за наступивший срок вперед, что составит в общем сто пятьдесят франков, то я должен выселить вас.
— Всего три дня отсрочки! — в раздумье промолвила молодая девушка. — Я не в состоянии ничего уплатить. Болезнь моей бедной матери, расходы на похороны, горе, мешавшее мне в течение нескольких дней взяться за иглу, — вот причина моего безденежья. Я не могу дать вам ничего ценного из этой квартиры, поскольку постепенно все перешло в ломбард или к старьевщикам. Пусть домохозяин даст мне отсрочку.
— Он откажет в этом, я уверен заранее!
— Такая важная персона! Министр! Неужели он нуждается в этих полутораста франках? В его жестокости кроется что-то. Моя мать считалась иностранкой; не из-за ее ли имени или скорее из-за имени ее мужа, который слывет заклятым врагом императора, на меня воздвигают гонение? Когда я скажу всю правду господину Фушэ, он, наверно, отменит свои суровые распоряжения. Его называют великодушным, человеколюбивым. Правда, он слывет мошенником и не особенно добросовестным политиком, но ему все-таки приписывают много добрых черт. Что, если бы я написала господину Фушэ, попросила у него аудиенции?
Лицо Пака сделалось серьезным, и он пробормотал:
— Не советую вам делать этого! Но почему не обратились вы к своему отцу? Господин фон Нейпперг богат и могуществен. Мне известно, что он находится в Вене.
— Нет! Нет! — с живостью воскликнула Амелия. — Господин фон Нейпперг, считающийся по закону моим отцом…
— А разве он вам не отец на самом деле?
— И да и нет, — ответила молодая девушка. — О, не принимайте моих слов в ошибочную сторону! Покойная мать была образцовой супругой, как и лучшей из матерей. Господин фон Нейпперг никогда не мог упрекнуть ее ни в малейшем забвении своих обязанностей… следовательно, не в том смысле, как вы подумали. Должно быть, я неверно выразилась. Нейпперг действительно — мой родной отец и не может хоть сколько-нибудь сомневаться в этом. Но, покинув мою мать, вынудив ее жить в нужде, на скудный заработок, который доставлял ей неблагодарный труд вышивальщицы, покинув, наконец, меня, родную дочь, которую он обрек на унижения и бедность, Нейпперг отрекся от звания отца. Перед лицом закона он по-прежнему остается моим отцом, но в моем сердце он перестал быть им.
— Вас вдохновляют прекрасные чувства, — заметил отставной полицейский агент, — но, к несчастью, герцог д'Отранте не оценил благородства ваших мыслей.
— Значит, он выгоняет меня отсюда?
— Увы, да, и я не в силах помочь вам: к сожалению, у меня нет скопленных денег.
— Я и не воспользовалась бы ими! — с гордостью воскликнула Амелия. — Но за неимением денег, которые я не могла бы принять, дайте мне совет. Как нужно поступить?
Пак с минуту колебался, а потом вдруг сказал как человек, принявший героическое решение:
— Постойте, на вашем месте я написал бы императору.
— Но император не знает меня, он не прочтет мое письмо, он даже не получит его.
— Верно! Как тут быть? Ах, если бы мой старый друг ла Виолетт очутился здесь, он непременно выручил бы нас и вывел бы из затруднений! Постойте! Мне пришла идея… да… отчего не попробовать? Во время заговора этого генерала Мале я имел случай увидать вместе с ла Виолеттом супругу маршала Лефевра и даже говорил с нею. Может быть, она и припомнит меня.
— Ее называют превосходной женщиной.
— Черт возьми! Да это — душа нараспашку, а ее рука открыта для всех нуждающихся, — вот она какова! Я отнесу ей ваше письмо и уверен, что она вручит его императору.
— А что надо писать ему?
— Правду. Напишите, что герцог д'Отранте притесняет вас и что вы просите заступничества. О деньгах не упоминайте — не надо; выскажите только, что его светлость преследует вас и что вы умоляете о помощи и защите против него. Император поймет. Завтра поутру я зайду за вашим письмом. До свидания, мадемуазель Амелия!
И Пак заторопился уходить, точно опасаясь, что если он замешкается дольше, то невольно выболтает лишнее.
Оставшись одна, Амелия стала размышлять о словах и странном замешательстве представителя домохозяина, который так явно был предан ей. Очевидно, Пак умалчивал о чем-то.
Что значила эта крайняя суровость герцога д'Отранте к бедной девушке без опоры, без средств? Дело шло о такой ничтожной сумме, которая не могла иметь значение для этого богача. Не было ли у него поводов мстить ей?
Тут Амелии пришло в голову, что министр полиции преследует ее по приказу императора. Ее отец, граф Нейпперг, по-видимому, был предметом ненависти Наполеона, которому он причинил много зла. Во время долгих бесед с покойной матерью, в уединении их убогой квартирки, Амелия не могла не понять настоящей причины той заброшенности, в которой они жили обе, и злополучного разрыва между ее родителями. Графиня Нейпперг не раз проклинала роковую любовь, оттолкнувшую от нее мужа, и с ее уст часто срывалось имя Марии Луизы, раскрывая дочери тайну ее горя и разлуки с мужем.
Гордая женщина не хотела ничего принимать от человека, покинувшего ее. Отказываясь от предложенной им пенсии, она воскликнула: «Мне нужен мой муж, а не его деньги! Пусть господин фон Нейпперг не думает откупиться ими от своих обязанностей отца и супруга!» И она с благородным достоинством переносила во Франции бедность.
Итак, Амелия знала настоящие чувства своего отца. Она знала также, что он всю свою жизнь преследовал Наполеона, великого человека, восхищавшего ее своими подвигами, своей гениальностью, и что Нейпперга воодушевляла при этом неискоренимая, часто грозная вражда.
С какой же стати Пак, такой добрый малый, желавший ей добра и вдобавок посвященный в ее семейные обстоятельства, посоветовал ей обратиться к императору? Не будет ли отчасти неделикатно с ее стороны, как дочери человека, ненавистного ему больше всего на свете, прибегнуть к его благосклонности? Конечно, бессердечие Нейпперга по отношению к ней давало ей право на сочувствие императора, но означает ли это злоупотребление чувством удовольствия, которое мог испытывать Наполеон, покровительствуя дочери своего заклятого врага? Каким образом Пак мог подать ей подобный совет, по меньшей мере странный?
К чему клонились эти многократные увещевания? Что, собственно, было на уме у Пака? Чего опасался он со стороны герцога д'Отранте? Герцог был владельцем дома; ему следовало получать квартирную плату с постояльцев; он требовал ее через своего управляющего, пользуясь своим законным правом; что же тут было необыкновенного, опасного? Не к нему ли скорее стоило обратиться в настоящем случае вместо императора, слишком недоступного и чересчур высоко стоящего для того, чтобы беспокоить его по такому ничтожному делу?
«Пожалуй, Пак был не в здравом рассудке сегодня вечером, — сказала себе молодая девушка, раздеваясь перед отходом ко сну. — Я повидаюсь с ним завтра утром и поговорю хорошенько еще раз. Посмотрим, что он скажет мне, и тогда я решу, как быть. В сущности, мне, дочери графа Нейпперга, вовсе не лестно обращаться с просьбой о помощи к императору».
Она вскоре заснула. И ей не приснилась величавая фигура Наполеона, а приснился сухощавый мужчина, с костлявым лицом, с тонкими чертами, с загадочной улыбкой, скользящей по тонким губам. Амелия почувствовала, что ей угрожает от него какая-то опасность, что она скоро очутится во власти этого человека с его кошачьими повадками, который потихоньку подкрадывался к ней и завладевал ею.
Когда она проснулась поутру, то ей смутно представился этот сон, и тут молодая девушка припомнила странного субъекта, который походил на приснившегося ей в ту ночь. Амелия сталкивалась с ним случайно два-три раза, когда отправлялась в центр Парижа, чтобы отнести работу, сделанную ею в течение недели, к белошвейке в Пале-Рояле, у которой она получала заказы.
Ей вспомнилось также, что за несколько дней перед тем этот незнакомый мужчина проводил ее до самых дверей… Она поскорее бросилась в проход, боясь, чтобы он не вздумал подняться вслед за нею по лестнице, под предлогом попросить у Пака взаймы свечу вошла в каморку управляющего и оставалась там некоторое время. С тех пор сухопарый преследователь не попадался ей больше на глаза.
Амелия вскоре прогнала это довольно комическое воспоминание о незнакомце, напрасно подстерегавшем ее, и поспешила сойти вниз. Ей нужно было идти в свой магазин за работой, и она рассчитывала сначала еще раз посоветоваться с Паком, спросить его, находит ли он полезным, а главное, приличным с ее стороны обратиться с просьбой к императору.
Но Пака не было дома. На его обычном месте, в ложе привратника, сидел человек подозрительного вида, с хитрыми глазками, который посмотрел на нее исподлобья со злобной улыбкой.
Амелия осведомилась у него о своем друге управляющем и услыхала в ответ, что его потребовали рано утром к герцогу д'Отранте по делам службы.
«Герцог, может быть, раздумал, — соображала молодая девушка, — он раскаялся в своей суровости ко мне и послал за Паком, чтобы позволить ему дать мне отсрочку, о которой тот ходатайствовал… Вероятно, Пак обрадует меня этой приятной новостью, когда я вернусь из магазина».
И, легкая, улыбающаяся, совершенно сбросившая с себя заботы, она достигла квартала Пале-Рояль.
Когда Амелия, доверчивая и успокоенная, вошла к госпоже Мелани, державшей бельевой магазин в Пале-Рояле, то была удивлена, не найдя на столе работы, приготовленной, по обыкновению, для раздачи швеям на дом. Старшая мастерица, заведовавшая этим делом и назначавшая каждой работнице ее недельный урок, была занята. Амелия стала дожидаться, немного встревоженная такой переменой магазинных порядков.
Наконец закройщица явилась и язвительным тоном сообщила оторопевшей девушке, что на ее долю нет работы.
— Нельзя ли мне прийти к вам завтра? — осведомилась Амелия, бледнея от испуга, с сжавшимся сердцем.
— Это совершенно лишнее, — крайне сухо ответила старшая мастерица. — Когда для вас будет работа, за вами пошлют. До свидания!
Несчастная Амелия, удрученная, подавленная, еле передвигала ноги, выходя из магазина. Она плелась потихоньку домой, ошеломленная неожиданным ударом.
Откуда взялось это внезапное решение, этот отказ в работе? Ей никогда не делали выговоров за исполнение заказов. Для других работниц на столе лежала приготовленная работа, значит, магазин не имел недостатка в заказах. Отчего же ее одну лишили заработка? Был ли то каприз хозяйки, или дурная молва, распускаемая на ее счет, зависть какой-нибудь неведомой противницы, уронившей ее в глазах госпожи Мелани? Амелия решительно терялась, не зная, чему приписать это лишение работы, повергшее ее в отчаяние.
Она бродила некоторое время без цели по галереям Пале-Рояля, стараясь ободриться и говоря в утешение себе: «Госпожа Мелани, наверное, опомнится; она велит послать за мной. Но когда это будет: завтра? послезавтра? через неделю? через две?»
Амелия с ужасом представила себе этот период безработицы. Каким образом просуществует она до новой работы?
Ее средства иссякли. Она забрала у хозяйки деньги вперед, когда скончалась ее мать, и теперь ей было нечего получить. Она как раз отработала забранную сумму. Амелия рассчитывала попросить в это утро новый аванс по получении заказа. Неудача вышла полная, убийственная.
А уплата за квартиру? А неминуемое выселение? Куда приклонить голову? Чем прокормиться?
Одиноко бродя по Пале-Роялю, где в эти часы кипела вся торговая жизнь, блистала вся роскошь, сосредоточивались все увеселения императорского Парижа, Амелия машинально читала магазинные вывески. Над одной дверью ей бросилась в глаза надпись: «Госпожа Клеман, белошвейка».
Луч надежды зажегся в сердце молодой девушки; на ее щеках выступил румянец. Ей был знаком этот магазин. Белошвейка Клеман также давала работу на дом многочисленным вышивальщицам. Может быть, и ей не будет отказа.
После минутного колебания Амелия решилась повернуть дверную ручку, отворить дверь и войти.
Госпожа Клеман как раз стояла за кассой. Она довольно спесиво выслушала просьбу молодой работницы, а потом, внимательно всмотревшись в нее, удостоила ответом, что у нее действительно есть работа, но она не может доверить первой встречной материалы, стоящие большую сумму денег. Ей нужны ручательство за честность, а также справки насчет умения просительницы шить и вышивать. Поэтому госпожа Клеман спросила, где Амелия работала раньше. Молодая девушка назвала фирму госпожи Мелани.
— Отчего же вы ушли оттуда? — спросила хозяйка.
— Мне сказали там сегодня поутру, что для меня нет работы, — простодушно ответила Амелия.
— Значит, вас попросту спровадили, милая. Этому должны быть причины.
— Уверяю вас, сударыня, что я не знаю, по какому поводу не дали мне работы, на которую я рассчитывала. Я ничего не сделала, ничего не сказала такого, что могло бы объяснить этот отказ.
— Хорошо, милая, — перебила Клеман, — я посмотрю. Наведу справки у госпожи Мелани. Зайдите послезавтра.
И Клеман вошла обратно в будочку своей кассы, непреклонная и угрюмая.
Амелия удалилась, несколько ободрившись. Однако обещание было ненадежно: Клеман не приняла на себя никакого обязательства; но все-таки в ее словах замерцал луч надежды.
Итак, Амелия вышла из бельевого магазина повеселевшая; она почувствовала новый прилив энергии и пошла домой.
Проходя по галерее, где находился магазин ее бывшей хозяйки, молодая девушка не могла удержаться, чтобы не заглянуть в него сквозь стеклянную дверь, и невольно вздрогнула от неожиданности. Она увидела там сухопарого мужчину с хитрым худощавым лицом и тонкими губами, который с некоторых пор как будто подстерегал и преследовал ее. Он разговаривал с госпожой Мелани как добрый знакомый. Это был тот самый человек, который приснился Амелии вчерашней ночью, который угрожал ей, бранил ее во сне и был почти готов поднять на нее руку.
Она удалилась, удивленная, несколько встревоженная, боясь быть замеченной им или хозяйкой. Она недоумевала, кто мог быть этот странный преследователь и какое Дело обсуждал он так оживленно с госпожой Мелани. Амелия смутно чувствовала, что присутствие этого незнакомца в бельевом магазине имело некоторое отношение к ней.
Раздумывая над этой встречей и медленно двигаясь по галерее, она столкнулась с двумя изящно одетыми молодыми людьми, проведшими ночь в одном из игорных притонов по соседству. Один из них говорил очень громко:
— Послушай, угадай-ка, кого я увидел сейчас вон там, в бельевом магазине? Его негодяйство господина Фушэ!
— Фушэ! Какого черта принесло его сюда в эту пору? Он затевает опять какое-нибудь канальство, можешь быть уверен!
Амелия не могла опомниться от изумления. Говорили о Фушэ Неужели он находится в этих местах?
Она содрогнулась на миг при мысли, что это герцог д'Отранте следит за нею, что это его обманула она, скрывшись у Пака, что это он разговаривал сейчас на ее глазах с госпожой Мелани. Однако, поразмыслив, Амелия засмеялась над своими мыслями, сочла их фантазией.
«Мало ли бельевых магазинов в Пале-Рояле, кроме этого! — сказала она себе. — Вдобавок молодые люди шли с другой стороны. Право, кажется, я брежу герцогом д'Отранте даже среди бела дня. Это становится подозрительным. Вот так домовладелец! Он не только надоедает с требованием квартирной платы, но еще лезет в глаза!»
И, от души потешаясь над этой фантазией, Амелия добралась до Монбланского квартала. Она спешила расспросить Пака, сообщить ему о своей неудаче у Мелани и о надежде, поданной ей Клеман, но сочла за лучшее не упоминать в разговоре с добряком-управляющим о своей предполагаемой встрече с герцогом д'Отранте у белошвейки.
VI
Пака все еще не было на его посту. Его место занимал человек подозрительного вида, сменивший его утром.
Амелия не смела заговорить с этим человеком. Она предчувствовала для себя целый ряд неприятностей с удалением бывшего управляющего. Она была теперь совсем одинока, без всякого покровителя, ей не с кем было посоветоваться. Уединение стало еще более суровым, ее отчаяние еще более жгучим. Она совсем упала духом, даже забросила свое ремесло, свои иголки.
Амелия еще ничего не ела со вчерашнего дня и не имела к этому даже ни малейшего желания. К тому же был ли еще хоть кусок хлеба в ее маленьком буфете? У нее не было даже охоты и силы заглянуть туда. Ее лихорадило, лицо пылало, горло пересохло. Она бросилась одетая на кровать, и ее охватило лихорадочное забытье. Из этого тяжелого состояния ее вывели легкие удары в дверь.
— Это Пак! — радостно вскрикнула она, бросившись отпирать.
Но на пороге показался изящно одетый господин.
Девушка отступила, охваченная страхом. Она узнала человека с тонкими губами, с худощавым, лукавым лицом, ожидавшего ее на улице, того незнакомца, которого она видела у белошвейки.
— Разве я внушаю страх, прелестное дитя? — бесшумно закрыв за собой дверь, спросил он, тихо подходя к ней, как кот, подкрадывающийся к своей добыче.
— Что вам надо? Я не знаю вас. Уходите отсюда.
Вошедший сжал тонкие губы и смотрел на перепуганную девушку блестящими глазами.
— Она еще красивее, когда сердится, — пробормотал он, и по его губам пробежала сладострастная улыбка.
Амелия тревожно следила за ним.
— Я не хочу пугать вас, милое дитя, — сказал посетитель отеческим тоном, — я друг вам, поверьте.
— Я прошу вас уйти, я одна и никого здесь не принимаю, — сказала Амелия, стараясь казаться спокойной.
— Мне известно ваше печальное положение, — не смущаясь, продолжал незнакомец. — После смерти вашей матери вы остались почти без всяких средств.
— У меня есть мое ремесло, я — вышивальщица. Я ничего не прошу и никому не позволю предлагать мне непрошенную помощь.
— Я знаю, что вы много должны за свое помещение и вам грозит выселение за неплатеж. Я в хороших отношениях с вашим хозяином. Позвольте мне ходатайствовать за вас.
— Вы знаете герцога д'Отранте? — спросила Амелия.
— Я его приятель, — ответил незнакомец со сдержанной улыбкой, доставая полную щепотку из большой табакерки, причем нюхая, продолжал следить своим кошачьим взглядом за дрожащей девушкой, опиравшейся на спинку стула.
— Да уж не герцог ли д'Отранте вы сами? — живо спросила она.
— Черт возьми! — рассмеялся незнакомец. — Если ты узнала меня, милая малютка, то это очень упрощает дело. Да, я — герцог д'Отранте, но для тебя я — просто поклонник твоих прелестных глаз, желающий устроить для тебя счастливую, беззаботную жизнь взамен нескольких часов блаженства около тебя. Скажи, ты согласна?
Амелия слушала, дрожа от негодования. Весь ее страх исчез. Она сделала шаг навстречу Фушэ и гордым жестом указала ему на дверь, говоря:
— Уходите! Вы не имеете права оскорблять меня и угрожать мне. Пока вы не выселили меня отсюда при помощи ваших сыщиков и приспешников, я здесь у себя.
— Я не угрожаю и не оскорбляю вас! Поверьте, я не так страшен, как вы думаете. Я узнал от Пака, моего управляющего, что после смерти матери вы очень нуждаетесь, задолжали за квартиру и не имеете никаких средств к жизни, кроме случайного заработка у белошвейки в Пале-Рояле. Я узнал, кроме того, что вы — особа прекрасного поведения, развитая и более интеллигентная, чем ваша среда. Вашего происхождения, вашей семьи я не знаю. Достаточно взглянуть на ваши прекрасные глаза, на ваше свежее личико, чтобы плениться вами навсегда. Ваша юная красота очаровала меня с первого же раза, когда я увидел вас. С тех пор одно желание владеет мной: видеть вас наедине, без несносных свидетелей, чтобы сказать вам, что если вы согласитесь хоть сколько-нибудь полюбить меня, то я сделаю вашу жизнь счастливой. Я жду вашего ответа. Не будьте так недобры, позвольте любить вас, я умоляю! Я только потому не встал на колени, что это смешное положение не подходит ни к моему возрасту, ни к сану, но сила моего чувства от этого не меньше.
Последние слова Фушэ произнес дрожащим голосом и двинулся к Амелии, желая заключить ее в свои объятия.
Она выскользнула из его рук и, бросившись к окну, распахнула его настежь.
— Что вы делаете? Зачем вы открыли окно? — крикнул удивленный Фушэ, прерывая объяснения в любви.
— Вы заперли дверь, — холодно сказала Амелия, — мне остается только окно, которым я и воспользуюсь.
— Что вы хотите сделать?
— Позвать на помощь, если вы сделаете еще хоть шаг ко мне. О, хоть вы и министр полиции, ко мне придут на помощь, меня защитят, когда я стану кричать в это окно, что мужчина хочет оскорбить девушку, у которой нет иной защиты, как добрые люди.
— Полно, незачем сердиться и кричать! Закройте окно' Вы можете простудиться, когда я открою дверь и будет сквозной ветер.
Фушэ прибег к своей обычной насмешливости, чтобы скрыть досаду и смущение.
Амелия закрыла окно, а он уже с порога оглянулся на нее и сказал:
— Вы победили меня, малютка, на этот раз вы взяли верх, доказав мне, что вы у себя дома. Но берегитесь, чтобы не случилось наоборот, когда, в свою очередь, я буду у себя.
— Я никогда не буду у вас!
— Министр полиции у себя в каждой кордегардии королевства, и мы можем встретиться там с вами.
Произнося про себя проклятия, Фушэ стал спускаться с той лестницы, по которой только что поднимался полный нетерпения любви, с огнем страсти в глазах.
Амелия провела весь день в сильном нервном возбуждении. Теперь она поняла, о какой опасности предупреждал ее своими намеками Пак. Оказалось, что герцог д'Отранте влюблен в нее или по крайней мере желал обладать ею. Он открыл отчасти свои планы Паку и приказал ему быть неумолимым с бесправной жилицей дома, рассчитывая на то, что страх выселения приведет ее в его объятия. Теперь она, видя, какими средствами Фушэ хочет воздействовать на нее, убедилась, что Пак был прав, советуя ей обратиться к императору, и сильно раскаивалась, что не последовала этому совету. Но теперь было уже поздно, к тому же и Пака более не было с ней.
Что делать? Оставаться в этой комнате, подвергая себя преследованию отвергнутой любви и упрямства Фушэ, желавшего торжествовать над дурочкой, отказавшейся от собственного счастья, было опасно. Надо уйти, искать себе приют. Но для этого прежде всего нужны деньги, хотя бы небольшая сумма на первые, необходимые расходы. Где их найти? Если бы еще Пак был тут! Но, вероятно, его уже удалил Фушэ, сообразив, что тот может оказать ей поддержку и помощь. Ее, очевидно, хотели оставить совсем одну, в полной нищете и отчаянии.
Несмотря на все это Амелия подняла голову и энергично сказала себе: «Я буду бороться». Искать новое помещение в этот вечер было невозможно, но завтра же она пойдет снова к своей белошвейке, госпоже Клеман, которая ее так хорошо встретила и обещала дать ей работу, если у нее будет хорошая рекомендация от прежней заказчицы; ведь та, конечно, в этом не откажет. Таким образом она получит работу и сможет взять немного денег вперед, чтобы снять комнату и купить себе поесть. Свое имя она изменит, выходить на улицу будет только по вечерам и таким образом собьет с пути агентов Фушэ, которых он, конечно, направит по ее следам. Потом будет видно, что будет; прежде всего надо как можно скорее скрыться из этого опасного дома.
Амелия заснула почти успокоенная, надеясь найти завтра и работу, и надежный приют.
Около девяти часов она отправилась к белошвейке, которую нельзя было застать раньше. Амелия подошла к ней покрасневшая и взволнованная. Мадам Клеман, увидев ее, поморщилась и объявила наотрез, что работы у нее нет, и попросила ее удалиться, не желая продолжать разговор.
Амелия вышла, как во сне, так же машинально, почти бессознательно несколько раз обошла Пале-Рояль и наконец, обессиленная, упала на стул около кабинета для чтения.
У нее явилось соображение, что Клеман отказала ей, вероятно, потому, что получила дурную рекомендацию от прежней хозяйки Почему же, однако, та дала о ней такой неверный и дурной отзыв? Тогда Амелия вспомнила о человеке, виденном ею у белошвейки. Очевидно, Фушэ все предвидел заранее и повлиял на хозяйку, из-за чего она лишилась работы Таким образом ей представлялось на выбор — нужда и смерть или уступка желаниям Фушэ.
Амелия снова принялась бродить без цели, без надежды по галереям Пале-Рояля, уже наполнявшимся пестрой толпой, стремившейся к удовольствиям и развлечениям, или же попытать счастья в игорных домах, которые открывались в полдень. На ходу она обдумывала, что и как она сегодня будет есть, где будет ночевать, потому что твердо решила не возвращаться в дом Фушэ. Иногда в ее утомленном мозгу мелькал луч надежды. Не могла же она погибнуть таким образом! Ей двадцать лет, будущее принадлежит ей. Отчаиваться грешно: кто знает, может быть, счастье еще улыбнется ей и введет в свои лучезарные чертоги.
Размышления девушки были прерваны грубым и неожиданным образом. Какой-то человек схватил ее за руку и сказал ей:
— Я уже давно слежу за вами. Идите за мной!
— Куда это? Боже мой! Что я сделала, что вам надо? — в испуге вскрикнула бедная девушка, не понимая, почему ее так грубо схватили.
— Вам говорят — идите за нами, и без разговоров! — раздался позади нее еще один грубый голос, и еще чья-то сильная рука схватила ее с другой стороны.
Амелия стала кричать и отбиваться, призывая на помощь.
Некоторые прохожие остановились около нее.
— Ничего, ничего, — сказал один из схвативших ее людей, — эта девица скандалит, и мы отправляем ее в полицейский пост.
Прохожие спокойно отправились дальше, повторяя: «Ничего особенного».
Амелия теряла сознание. Ужас, стыд, отчаяние подавили ее энергию. Она чувствовала, что ее уводят, но не могла ни кричать, ни защищаться. Ее посадили в заранее приготовленный фиакр. Она наклонилась к дверце и хотела выбить стекло, однако агент, сидевший с той стороны, предупредил ее, что если она будет кричать и рваться, то он будет вынужден надеть ей кандалы и заткнуть рот.
Ей пришлось покориться и терпеливо ждать. Когда-нибудь фиакр остановится, найдутся люди, которым она пожалуется, потребует сострадания и справедливости. Как бы ни был могуществен министр полиции, но и он не может держать ее пленницей без всякого основания. Он предупредил ее, что будет мстить и что они еще встретятся в кордегардии, на полицейском посту, где хозяином будет он, Фушэ. Но она будет защищаться, сопротивляться, призывать людей на помощь, ее крики будут услышаны, ее освободят…
Амелия снова почувствовала себя сильной, рассудительной, энергичной: ведь она не была еще в когтях Фушэ.
Фиакр остановился перед уединенным, но обыкновенным домом, с решеткой, окружавшей деревья и кусты сирени. Этот дом походил на убежище, которое богачи прежних времен устраивали для своих фавориток и происходивших у них оргий.
Оба агента довольно вежливо попросили Амелию пройти за решетку, отворенную служанкой, и войти в дом.
Улица была пустынна, квартал — уединенный; помощи Ждать было не от кого. Понимая невозможность сопротивления, Амелия решила войти в дом.
Дверь захлопнулась за ней, как только она переступила порог, и оба агента исчезли. Девушка была одна со служанкой, особой с суровым взглядом и очень серьезным видом. Она открыла дверь в маленькую гостиную, за которой виднелась уборная, и сказала Амелии, что она найдет здесь все нужное, чтобы привести в порядок свое платье и прическу. Девушка хотела было отказаться — для кого и для чего ей было украшать себя? Но потом подумала, что если ей придется предстать перед судьями или вообще перед кем-нибудь, то лучше иметь приличный, не беспорядочный вид; ее манеры, речь и наружность могли бы говорить в ее пользу.
Когда служанка вышла, Амелия оправила платье, причесала волосы и стала с любопытством осматривать помещение, куда привезли ее. Мебель была хотя старинная, но изящная. Кресла с медальонами, кушетка с грациозными изгибами, покрытая материей, где были вытканы танцующие пастухи и пастушки. Инкрустированный стол посреди комнаты — все напоминало прошлый век. В глубине виднелся альков кровати, нарядно убранной кружевами и бантами из лент.
Все это не походило ни на полицейский пост, ни на темницу. Фушэ, как видно, приказал своим агентам под предлогом арестов, производившихся ежедневно по галереям Пале-Рояля среди наводнявших их девиц, привезти ее в этот домик, бывший когда-то приютом любви для какого-нибудь изящного богача восемнадцатого века.
Амелия, расстроенная донельзя, тихо плача, опустилась на красную кушетку; она боялась, что теперь она пропала. Бегство отсюда казалось немыслимым, звать на помощь было бесполезно. Если бы кто и явился, то, конечно, слуга, сообщник Фушэ, который сдержал слово, мстя теперь за пренебрежение к себе. Теперь она, прогнавшая его накануне, была в его власти.
Она попробовала собраться с духом и стала раздумывать, нельзя ли поискать способ уйти из рук Фушэ?
Внутри комнаты виднелось окно. Амелия хотела открыть его рамы, но секретная задвижка не позволила сделать это. Значит, этот путь был закрыт. Тогда девушка стала тщательно осматривать кокетливую комнату, служившую для нее тюрьмой, но не могла придумать никакого спасения от насилия Фушэ, который, конечно, не замедлит явиться, чтобы силой взять то, что он не смог получить угрозами и обещаниями.
Амелия готова была решиться на все, чтобы только избежать объятий этого ненавистного человека, любовь которого была ей хуже всякой пытки.
Случайно взгляд девушки упал на позолоченные палки, поддерживавшие занавес кровати, и ей пришло в голову, что одну из этих поддержек можно превратить в оружие. Она подбежала к алькову и вырвала одну из этих палок, с большим усилием отделив ее от стены. На одном конце этой палки был металлический шар, а на другом остался большой кусок гвоздя, так что образовалось некоторое подобие пики. Потрясая этим оружием, девушка довольно улыбнулась: может быть, ей удастся защититься этой импровизированной пикой, оттолкнуть или ранить своего преследователя. Держа в руках свое оригинальное оружие, Амелия ждала, чутко прислушиваясь: ей почудились как бы отдаленные шаги, заглушаемые дверями и драпировками. Вероятно, шел Фушэ, она вооружилась вовремя.
Шаги раздались около двери, и последняя неожиданно распахнулась. Амелия подняла свою пику, готовая защищаться.
— О, как вы похожи на Минерву с занесенным копьем, недостает только каски и щита! — раздался твердый, металлический, несколько отрывистый голос.
Однако вошедший не был герцогом д'Отранте. Это был человек среднего роста, со спокойными и правильными чертами лица, насколько можно было их разглядеть из-под надетой шляпы.
— Не бойтесь, — сказал незнакомец, — вам нечего бояться, я — не Фушэ. Я пришел сюда как друг.
— Кто вы? Меня привезли сюда силой, взяв в галерее Пале-Рояля. Чего от меня хотят? Я хочу уйти отсюда.
— Ваше желание будет исполнено. Повторяю, меня вам нечего бояться.
— Кто поручится мне, что вы не обманываете меня? Что вы не посланы герцогом д'Отранте помогать ему в его намерениях?
— Я понимаю ваши опасения. Итак, Фушэ овладел вами и против вашей воли привез вас в этот дом? Это недостойно! А публика, а прохожие, видевшие это дерзкое похищение среди дня, неужели никто не помешал этому насилию?
— Никто. Вероятно, видели, что это — агенты министра полиции. Право, не знаю… я была слишком расстроена. Никто не посмел вступиться за меня.
Незнакомец сделал недовольную гримасу и проговорил:
— Конечно, полиция должна пользоваться уважением, но лишь тогда, когда она служит интересам закона. Да! Так мне сообщили о вашем печальном положении, и я пришел, чтобы прекратить его.
— Кто же открыл вам это происшествие? Кто мог указать вам этот дом, в который меня заперли и который герцог д'Отранте считает, конечно, никому не известным?
— Я знал раньше этот дом, а о том, что вас привезли сюда, я узнал от одного из ваших друзей.
— Кто же позаботился обо мне? — быстро спросила Амелия, все более успокаиваясь. — У меня нет друзей, я одна на свете, без родных, без опоры.
— Ваша мать умерла недавно. Но ваш отец? Правда ли, что его зовут графом Нейппергом, что он теперь в Вене?
Последние слова незнакомец произнес с какой-то глухой яростью; даже его лицо приняло злое выражение.
— Я действительно дочь графа Нейпперга, — сказала Амелия. — Моя мать, брошенная им, нашла со мной убежище во Франции, я не видела его многие годы.
— Хорошо, не тревожьтесь же больше, я займусь вашей судьбой. У дверей ждет экипаж, который отвезет вас в такое убежище, где сам герцог д'Отранте не посмеет искать вас. Вы больше не боитесь? Вы доверяете мне, скажите? Тогда следуйте за мной.
Амелия была готова на все, лишь бы не попасть во власть Фушэ, и потому несколько минут спустя села в карету около своего неожиданного и странного спасителя.
Какой-то военный сел на козлы рядом с кучером, и карета тронулась в путь.
После многих поворотов экипаж остановился перед низкой дверью. Под навесом высоких деревьев тянулась длинная стена, ограждая прекрасный сад. В нескольких шагах виднелась будка гвардейца-часового. Незнакомец вышел, предшествуемый каким-то человеком, похожим на военного в штатском платье; последний вынул из кармана ключ и, отперев маленькую дверь, посторонился, чтобы пропустить Амелию и ее покровителя. В это время молодая девушка с безграничным удивлением увидела, что часовой сделал на караул, отдавая честь оружием.
Пораженная Амелия остановилась и с глубоким волнением обратилась к спасшему ее незнакомцу:
— Ваше величество? Так это вы?!
— Да, дитя мое, здесь вы у меня. Я же вам сказал, что там, куда я привезу вас, вам нечего бояться моего министра полиции.
С этими словами император ласково указал трепещущей девушке дорожку, которая вела через сад Елисейских полей к самому дворцу.
VII
Шенбруннский парк находился на некотором расстоянии от центра Вены и являлся любимым местом прогулки венцев, равно как и летней резиденцией императорского семейства. Часть дворца была в описываемое здесь время предоставлена в распоряжение Марии Луизы и ее сына.
Последнее обстоятельство нисколько не повлияло на доступ в парке для венских обывателей. Но зато там были поставлены специальные сторожа и агенты охраны, на обязанности которых лежало следить, чтобы к Марии Луизе и в особенности к Римскому королю никто не приближался; то было сделано ради того, чтобы не допустить агентов Наполеона войти в сношение с его супругой и сыном.
Шенбрунн, построенный при Иосифе I и отделанный при Марии Терезе, — прелестное местечко. Парк украшен статуями, фонтанами, гротами; в частях его, огороженных и недоступных для обычной публики, можно видеть, как между деревьев скользят грациозные лани, козы, олени. Белые лебеди величественно плавают по глади громадных прудов. Наконец, там устроен ботанический сад, славящийся среди ученых своими редкими породами растений.
С некоторого времени в той местности парка, где ежедневно гулял сын Наполеона в обществе матери или чаще всего со своей гувернанткой Монтескью, можно было заметить одетого в длинный редингот ученого, по виду иностранца, который с глубочайшим вниманием рассматривал через очки редкие растения, помещавшиеся там.
Хотя ботаник ничем не мог вызвать какое-либо подозрение, но к нему сейчас же подошел один из сторожей и спросил, кто он такой.
Ученый, нисколько не смущаясь, подал сторожу письмо директора императорского венского общества, и это не только обеспечило ему в дальнейшем полную свободу научных занятий в парке, но и внушило сторожу громадное уважение к нему; по крайней мере сторож даже предложил ему присесть и отдохнуть на стуле, поставленном около двери вестибюля дворца, из которого ежедневно царственный ребенок выходил на прогулку.
Вскоре между сторожем и ученым установилась даже дружба. Они много разговаривали, и, когда сторож, старый солдат, пожаловался ученому, что его мучает страшный ревматизм, ботаник стал приносить ему травы, способные успокаивать страдания. Отдых на стуле около вестибюля теперь практиковался все чаще и чаще.
Однажды — это было на другой день после разговора де Монтрона с ла Виолеттом, ставшим импресарио труппы ученых собак, — ботаник, разговаривая со своим приятелем-сторожем, пожаловался на странную слабость и вместо того чтобы, как обыкновенно, заняться изучением растений, долго просидел на стуле у входа в вестибюль. Он нетерпеливо поворачивал голову (это, по его словам, было следствием мучивших его невралгических болей) к входу в вестибюль, словно стараясь разглядеть что-то, словно ожидая какого-то знака, какого-нибудь таинственного появления… Время от времени он настораживался и прислушивался к доносившейся из парка старинной музыке.
— Вам придется вернуться домой, барин, — с участием сказал ему сторож, — вам, видно, очень нездоровится!
— Сейчас немножко лучше, спасибо, друг мой, — ответил ботаник, — еще несколько минут отдыха, и я буду в силах вновь взяться за свои занятия или вернуться домой. А сейчас я чувствую, что не мог бы сделать и шага.
— Вас, верно, раздражает эта музыка? Господи, когда чувствуешь себя и без того плохо…
— В самом деле! Откуда эти шум и грохот, которые вы называете музыкой? — спросил ботаник.
— А это показывают дрессированных собак. Громадная толпа собралась посмотреть.
Тем временем беспокойство ботаника все увеличивалось. Он все чаще посматривал на часы, помещенные на фронтоне дворца, и с тревогой впивался взглядом в мрачные недра вестибюля, остававшиеся сегодня до сих пор молчаливыми и пустынными. Наконец он не выдержал и спросил сторожа:
— А скажите-ка, разве теперь не время эрцгерцогини и ее сыну выйти на прогулку?
— О, это время давно прошло! — спокойно ответил сторож. — Очевидно, на сегодня отдано другое распоряжение Вот видите, уводят часовых. Значит, ни эрцгерцогиня, ни молодой принц не выйдут сегодня на прогулку.
Ботаник ничего не ответил на это. В продолжение четырех или пяти минут он продолжал хвататься за лоб и легко стонать; потом, словно почувствовав, что боль внезапно покинула его, он вытянулся и пробормотал:
— А, вот мне стало и получше! Теперь я буду в силах кое-как добраться до дому.
— Смотрите только не простудитесь! — напутствовал его добряк-сторож.
Де Монтрон (это именно он и был заболевший ботаник) направился к тому месту, где под грохот дикой музыки продолжалось представление дрессированных собак.
Его и в самом деле терзало сильное беспокойство. Он спешил поскорее добраться до ла Виолетта и узнать от него, не имеет ли он каких-либо сведений о том, что перевернуло вверх дном весь их проект. Но надо было стараться не обращать на себя внимания; он должен был продолжать разыгрывать роль больного, и ему следовало идти тихим шагом, умеряя свое нетерпение.
Идя по дорожке парка, де Монтрон раздумывал и строил различные предположения. Почему как раз сегодня была отменена прогулка Римского короля, регулярно повторявшаяся до сих пор каждый день в определенный час? Правда, Мария Луиза не каждый день гуляла с сыном, но гувернантка принца, Монтескью, ни разу не забывала водить своего воспитанника в парк. К тому же и погода стояла великолепная, так что происшедшую перемену ровно ничем нельзя было объяснить.
Кроме того, генерал Анрио, пробравшийся во дворец под видом аббата Альфьери, не показывался оттуда. Было решено, что если Мария Луиза, ознакомившись с содержанием важного письма императора, согласится последовать за своими освободителями, она в обществе Альфьери сойдет в Шенбруннский парк. Там, разговаривая, они отойдут подальше и, словно усталые от прогулки, опустятся на скамейку. Римский король подойдет к ним со своей гувернанткой, и в то время как Монтрон займется с ребенком, Анрио уведет Марию Луизу к карете, которая умчится полным галопом. Ла Виолетт постарается при помощи своих собак отвлечь внимание сторожа настолько, чтобы похищение супруги и сына императора оставалось как можно долее незамеченным. На первой же остановке Мария Луиза переоденется в мужское платье, которое они позаботились припасти в кузове кареты.
Все было организовано как нельзя лучше, и похищение должно было удаться, но при одном только условии: если Мария Луиза согласится сойти в парк вместе с мнимым аббатом Альфьери.
И вдруг ни Анрио-Альфьери, ни Мария Луиза не показались! Что же случилось? Что перевернуло вверх дном весь их план? Самые мрачные предчувствия зашевелились в душе Монтрона.
В тот момент, когда он подходил к толпе, окружившей животных ла Виолетта, вызвавшего в это время взрыв аплодисментов зрителей ловкими скачками собак через палочку, которую он поднимал все выше, со стороны дворца, где помещалась кордегардия, послышался какой-то шум. Солдаты расталкивали толпу, заставляя ее подаваться в обе стороны, словно желая образовать коридор для прохода какой-то важной особы.
Теперь де Монтрону уже нечего было бояться сторожа, которого могло бы поразить его такое быстрое выздоровление; он бросился бежать к толпе и прибыл в тот самый момент, когда проводили под сильным эскортом солдат Анрио со связанными руками.
У Монтрона все закружилось перед глазами, он чуть-чуть не упал в обморок. Значит, Анрио арестовали? Значит, его узнали? Выдали, быть может? Но кто именно? Куда его вели? А ла Виолетт? Не напала ли полиция на их след?
Шествие полуроты солдат, эскортировавших арестанта, отвлекло от ла Виолетта все внимание зрителей. Он бы i теперь один со своими собаками и, дав знак своему человеку-оркестру прекратить невыносимый грохот, приготовился осторожно начать отступление. Он тоже узнал Анрио и задавался вопросом, что сталось с де Монтроном.
Когда он заметил ботаника, то в знак утешения принялся быстро вертеть палкой над головой. Что же делать! Не стало доброго товарища, но еще двое свободных и смелых мужчин уцелело, значит, не все еще было потеряно. Вот что должно было выразить быстрое вращение палки ла Виолетта при виде де Монтрона.
Ботаник— прошел тихим шагом мимо него и торопливо шепнул ему:
— Нужно узнать, куда увели генерала Анрио. Сегодня вечером будьте на дороге у Дуная. Это — пустынное место, там нам можно будет поговорить.
— Буду! — ответил ла Виолетт. — Я видел Римского короля в одном из окон дворца. Он хотел посмотреть на моих собак, а его оттащили от окна. Бедняжку, сына нашего императора, мучают. Что за негодяи! Хотят запретить ему даже смеяться и забавляться. Его позабавили мои собаки, так его отвели от окна!
— Во дворце случилось что-то особенное, — сказал Монтрон. — Вы не знаете, почему и как был арестован генерал Анрио?
— Нет. Все, что я узнал от одного из камер-лакеев, залюбовавшихся чистой работой моих собак, это то, что госпожу де Монтескью только что уволили со службы. Подробностей он не знал, а сказал только, что нашу добрую француженку должна будет заменить какая-то немка. Она тут же приступила к исполнению своих обязанностей, вот поэтому-то принц и не был сегодня на обычной ежедневной прогулке.
— Ла Виолетт, мне кажется, наше дело плохо, — сказал де Монтрон, знаком показывая, что им надо расстаться.
— Ну, пока еще это нельзя сказать, раз мы живы и на свободе, то отчаиваться не приходится. До вечера, около Дуная! — ответил ла Виолетт, который никогда не терял надежды.
Затем, собрав своих собак, он в сопровождении тирольца-музыканта удалился прочь, несколько раз принимаясь по дороге вертеть над головой палкой в знак задумчивости и затруднения.
Вечером он не преминул прийти на обусловленное место свидания, находившееся в пустынных и болотистых низинах у берега Дуная. Оба приятеля обсудили положение и поделились тем, что каждому из них удалось разузнать.
Анрио отвели в военную тюрьму, заперли в одну из башен старого замка и обвинили в государственной измене. Им не удалось узнать, как было мотивировано обвинение, но ведь им обоим более чем кому-либо были известны причины ареста Анрио. Что им было важно узнать — был ли раскрыт заговор похищения Марии Луизы и ее сына.
Собственно говоря, даже если было найдено письмо Наполеона, то в нем не было никаких указаний относительно всего проекта бегства. В письме император просто просил Марию Луизу следовать инструкциям, которые будут ей переданы подателем этого письма от имени Наполеона. Значит, теперь опять можно будет рискнуть повторить свою попытку. Анрио, наверное, ничего не сказал на допросе, имена его сообщников остались неизвестными. Предосторожности, принятые ими, чтобы не встречаться и не показываться на виду у всех, могли помочь им избежать внимания австрийской полиции; следовательно, они могли и без Анрио продолжать свое дело.
Де Монтрон предложил вновь проникнуть в Шенбрунн и вновь попытаться поговорить с императрицей.
Ла Виолетт согласился с этим, но заметил, что сначала надо постараться освободить их товарища. Если им удастся увезти супругу и сына императора, то Анрио, оставаясь в руках австрийцев, окажется их жертвой. Поэтому надо было постараться во что бы то ни стало освободить его. Но как? Ах, ну уж найти какое-либо средство для этого — это было дело компетенции де Монтрона. Ведь он — ученый и должен ухитриться изобрести такой аппарат, открыть секрет, с помощью которого можно будет разбить все тюремные засовы и выпустить на свободу арестанта. Он, ла Виолетт, будет действовать, но воображение — не его дело, в этом он не силен. И добряк-ворчун остановился в ожидании, что де Монтрон тут же в своем умственном сундучке, в котором должны были храниться неисчислимые сокровища, найдет знаменитый ключ и откроет им двери темницы Анрио.
К несчастью, де Монтрону пришлось признаться, что он не может в один присест прозреть ту тьму, которая окружала их новое предприятие, и что единственное, представляющееся ему возможным в данный момент, — это постараться убедить Марию Луизу, чтобы она заступилась за Анрио; быть может, ей удастся добиться даже его освобождения.
Ла Виолетт встретил такое предложение кислой гримасой и, условившись относительно нового свидания с де Монтроном, ушел, погрузившись в глубокое размышление.
Но они вернулись в Вену различными дорогами. Каждый занимался своими планами: де Монтрон раздумывал, как бы добиться свидания с Марией Луизой, а ла Виолетт — как бы прежде всего освободить Анрио.
Тамбурмажор плохо спал эту ночь, проворачивая в уме тысячи планов, один другого абсурднее и невозможнее, и соображая, как бы дать Анрио знать, что его судьбой озабочены друзья и чтобы он не терял бодрости духа.
Вдруг ла Виолетт вскочил, словно от толчка: средство было найдено!
Он с нетерпением дождался дня и прождал первые утренние часы, казавшиеся ему чересчур долгими и скучными. Наконец пробило полдень. Тогда он вышел из дома, взяв с собой Кронпринца, переименованного им в Рагуза, у которого он отнял его костюм принца крови, что, казалось, очень оскорбило гордого, ворчливого пуделя.
Ла Виолетт в сопровождении собаки отправился к крепости, где содержался Анрио, прошел по площади, раскинувшейся перед тюрьмой, и дошел наконец до здания кордегардии. Солдаты, усевшись на скамейках, со скучающим видом глазели на проходящих, посасывая свои фарфоровые трубочки.
Словно желая позабавиться на прогулке, ла Виолетт, не забывший захватить с собой свою палку, заставил Рагуза сделать несколько прыжков через нее, а затем по мере того кто подходил к скамье, на которой сидели солдаты, все учащал и разнообразил прыжки пуделя, поднимая палку все выше и выше.
Требовалось очень немногое, чтобы поразвлечь скучавших солдат. В несколько минут сюда сбежались все свободные от дежурства солдаты и принялись с любопытством любоваться даровым зрелищем, подталкивая друг друга локтями и громко выражая свое восхищение. Кое-кто из них достал кусок хлеба или сала и предложил пуделю в виде гонорара; остальные ласкали его, подзывали к себе, капрал же даже разразился рядом комплиментов по адресу хозяина пса.
Это было венцом желаний ла Виолетта. Он поблагодарил капрала и предложил ему отправиться в ближайший кабачок, помещавшийся на площади, против ворот крепости, чтобы освежиться кружечкой пива. Капрал принял предложение, и вскоре они уже чувствовали себя большими приятелями, восседая за столиком со стаканами в руках.
Ла Виолетт выдал себя за старого солдата-саксонца, служившего в союзных армиях Наполеона; капрал же рассказал, что он был с саксонцами в Лейпциге, и вскоре стаканчик водки, последовавший за пивом, закрепил их дружбу.
Ла Виолетт осторожно расспросил капрала относительно его службы и тех узников, которых приходится оберегать в крепости. Капрал не знал ничего о том, что происходило внутри. Почти все арестанты помещались вместе, за исключением двоих или троих, помещавшихся отдельно в башне, которую он описал ла Виолетту.
Последний постарался запомнить расположение башни. Когда он расстался со своим новым другом — капралом, то спокойно направился к указанной ему башне и стал рассматривать узкие окна камер, закрытые решетками.
Анрио находился в одной из них, но на каком этаже, где именно?
От любопытства публики башня была отделена круглой стеной. Не могло быть и речи о том, чтобы вступить в непосредственное сообщение с камерой Анрио, даже если ла Виолетту удалось бы узнать, какое именно окно ведет в нее. А между тем было очень важно узнать, где именно заперт Анрио, помещается ли он в одиночной камере первого этажа, или второго, или третьего.
Ла Виолетт не мог стоять до бесконечности перед этой мрачной грудой громадных камней, за которой страдала масса людей; ведь слишком долгое стояние перед крепостью могло обратить на себя внимание. Поэтому он ушел с тяжелым сердцем оттуда, но в то же время дал сам себе твердое обещание вернуться на следующий день в тот же час. И действительно в течение двух или трех следующих дней он шнырял вокруг тюрьмы, не решаясь тем не менее приближаться ни к башне, ни к кордегардии.
Капрал рассказал ему, что он бывает в наряде по охране тюрьмы почти каждую неделю, и ла Виолетт стал с нетерпением ждать, когда дойдет черед до дежурства этого импровизированного друга.
Когда этот черед, по его соображениям, настал, он направился вместе со своей собачьей труппой и юным тирольцем к площади, примыкавшей к тюрьме, расположил там своих зверей и подал музыканту знак начать представление.
Солдаты не преминули группами выйти за ворота при первой же ноте, изданной человеком-оркестром, и выстроились в линию перед скамьей, стараясь издали следить за представлением, за которым не могли наблюдать вблизи.
В антракте, в то время как тиролец обходил публику с шапкой, ла Виолетт, притворяясь усталым, направился к кабачку. Он заметил издали своего приятеля-капрала и жестом пригласил его последовать за собой.
Тот немедленно прибежал. Ла Виолетт словно в шутку спросил у него, позабавила ли его музыка арестантов. Капрал, смеясь, ответил, что некоторые из них, подтянувшись к окнам, могли даже видеть собак.
— В таком случае, — сказал ла Виолетт, — им следовало бы бросить мне монетку. У них имеются деньги?
— Да, у тех, которые еще не осуждены, имеются. Среди арестантов находится даже поп, получающий с разрешения губернатора пищу со стороны. Стойте-ка, вот как раз один из моих людей сопровождает в тюрьму надзирателя, на обязанности которого лежит доставка еды в камеры.
Ла Виолетт вздрогнул; он тотчас сообразил, что этот «поп» был не кем иным, как Анрио.
— Вот и спросите у попа, остался ли он доволен представлением, а если доволен, то пусть даст вам талер для моих артистов, — смеясь, сказал ла Виолетт. — Мы вместе пропьем его, товарищ!
— Эй ты, слышишь? — крикнул капрал солдату, сопровождавшему надзирателя. — Исполни как следует поручение, принеси талер и ты выпьешь вместе с нами!
Часовой прошел в тюрьму вместе с надзирателем, приносившим подследственным пищу, а ла Виолетт вернулся к своей труппе, чтобы продолжать прерванное представление.
Когда по его расчетам солдат мог уже вернуться из тюрьмы, он кончил представление и снова направился в кабачок. Капрал издали показывал ему с торжествующим видом какую-то монету.
Ла Виолетт ускорил шаг, но старался скрыть свое волнение. Какой-то арестант дал монетку, но был ли этим арестантом Анрио? Следовало избегать слишком большой настойчивости в вопросах: ведь капрал может заподозрить в этом что-нибудь неладное, а малейшее подозрение могло повести к тяжелым последствиям. Если Анрио помещается в первом этаже, то будет возможно пробраться к нему благодаря небольшому строению, подымавшемуся за круглой стеной, уже замеченной ла Виолеттом. Но если у полиции возникнет хоть какое-нибудь подозрение, то Анрио переведут в другое место. Поэтому он старался не дать заметить свою радость и не решался расспрашивать далее.
— Вы ловко предсказали, что наши арестанты окажутся щедрыми, — сказал капрал, — в данный момент в первом этаже их трое, и каждый из них дал по монетке.
— Это великолепно! — пробормотал ла Виолетт полузадушенным голосом.
Благодаря чрезмерной щедрости арестантов все его расчеты полетели вверх дном. Как же узнать среди этих троих того, который интересовал его?
— Вот вам три серебряных монеты! — сказал капрал и вдруг, рассматривая их перед тем, как вручить ла Виолетту, воскликнул: — Батюшки! Кто-то дал плохую монету. Вот поглядите сами! Это — французская монетка!
Ла Виолетт чуть-чуть не выдал радости, охватившей его при этих словах.
— А ну-ка, покажите! — торопливо сказал он. — В самом деле, это — монета в сорок су. Они здесь не ходят? Так ее следует отдать тому, кто дал ее! Вы знаете, кто это? — прибавил ла Виолетт, поворачиваясь к солдату, только что ходившему к арестантам.
Тамбурмажор догадался, что Анрио, предупрежденный о его присутствии музыкой тирольца, придумал таким образом дать ему знать о себе. Ведь, вероятно, только у него одного и могла найтись монетка с изображением Наполеона. Это было очень ценным указанием. Анрио знал, что ла Виолетт занят мыслью о его освобождении, но как теперь было точно узнать, где именно он заперт?
На всякий случай ла Виолетт обратился к солдату с этим вопросом.
Солдат ответил без малейшего колебания:
— Я уверен, что эту монету всучил мне поп. Только вот отдать ему назад эту монету будет трудновато. Вплоть до ужина в тюрьму больше никто не войдет, а тогда меня уже не будет в наряде.
— Так ты можешь указать эту камеру человеку, который заменит тебя. Ты знаешь, в которой это камере?
— Да, господин капрал, если эту монету дал мне аббат, то он помещается в средней камере. Я уверен, он знал, что его монета никуда не годится!
Ла Виолетт, восхищенный до последней степени, поспешил сказать:
— Хороша или плоха эта монета, а мы ее пропьем, как и остальные. Ну-ка, красавица, — весело обратился он к служанке кабачка, — принеси ка нам побольше кружек, а потом подашь нам водки, сколько хватит на три талера. За ваше здоровье, товарищи! — сказал он, чокаясь принесенными кружками.
Все трое отпили пива.
— За здоровье арестантов! — сказал капрал, когда опорожненные кружки были заменены новыми.
— Ну, уж за попа я пить не стану! — воскликнул солдат, который все еще сердился на него за монету, не ходившую в Вене.
— Ну, еще чего! А за кого ты станешь пить? — осведомился капрал.
— За здоровье императора, — сказал солдат.
— Браво, это ладно! За здоровье императора! — крикнул ла Виолетт, весело поднимая свой бокал и очень довольный маленькой мистификацией: ведь каждый из них пил за своего императора, хотя солдат и не подозревал этого.
Все узнанное окончательно привело ла Виолетта в великолепное состояние духа; он узнал, где помещается камера Анрио, и был уверен, что похищение удастся.
В окрестностях тюрьмы не видали директора собачьей труппы, тем не менее однажды вечером служанка кабачка, задержавшаяся на площади вместе со своим возлюбленным после закрытия заведения, как будто заметила около стен крепости длинный силуэт человека, сопровождаемого собакой и сильно смахивавшего на дрессировщика животных. Но она была слишком занята сладкими речами и увесистыми ласками, которыми награждал ее здоровенный парень, и не обратила внимания на подобные пустяки.
Поэтому ла Виолетт мог рискнуть завязать сношение с узником, следуя плану, обдуманному и разработанному в течение нескольких дней. Он внимательно рассмотрел крышу маленького строеньица, возведенного между круглой стеной и башней, где помещались узники. Благодаря своему высокому росту ему удалось взобраться на стену, а оттуда на крышу зданьица, так что он оказался на очень небольшом расстоянии от закрытого решеткой окна камеры Анрио.
Довольный тем, что он забрался так высоко, ла Виолетт остановился на минутку, промерил расстояние, достал довольно длинную веревочную лестницу, спустил ее вдоль круглой стены, в то же время тихонько свистнул особенным образом и стал ждать.
Вдруг лестница вздрогнула, словно под тяжестью.
— Тише! Тише! — пробормотал ла Виолетт, снова свистнув и медленно подтягивая лестницу к себе.
Вскоре около него оказалось какое-то существо.
— Хорошо, хорошо, дочка, ты очень мила, — тихонько прошептал ла Виолетт, лаская Маркизу, которая, взобравшись на перекладину лестницы, дала поднять себя на стену.
Это было новым упражнением, которому ла Виолетт обучил ее в дни ожидания, проведенные им в обдумывании деталей своего плана.
Выразив удовольствие ловкостью Маркизы, ла Виолетт пробормотал:
— Сможет ли Рагуз как следует стеречь по крайней мере?
Затем он принялся выполнять вторую половину своей задачи. Она состояла в том, чтобы доставить Анрио длинношерстного вестника.
Ла Виолетт осторожно просвистел знаменитую в то время песенку: «На славу империи…», но затем смолк, с некоторым испугом думая, что стоит страже заметить его, как ему немыслимо будет удрать, а тогда все будет проиграно.
Прошло несколько тревожных секунд. Вдруг над головой тамбурмажора раздался свист, продолживший начатую патриотическую песенку. Ла Виолетт понял, что это Анрио Дал ему знать, что он уловил сигнал.
Будучи уже предупрежден о присутствии тамбурмажора в окрестностях тюрьмы с того дня, когда директор собачьей труппы устроил на площади представление, Анрио каждую минуту ждал появления обещанной ему ла Виолеттом помощи. Он вскарабкался на стул, который вместе со столом и убогим ложем составлял всю меблировку камеры, и, подтянувшись к окну, наудачу произнес во мрак ночи, среди которого не мог видеть ла Виолетта:
— Это вы, товарищ?
— Да, генерал, будьте внимательны! Вытяните руку наружу, через решетку, если можете!
— Ладно. А что надо сделать?
— Взять то, что вам принесет Маркиза.
— Кто это — Маркиза?
— Моя собака. Тише!
Вдали, во дворе, раздался шум тяжелых шагов приближавшегося обхода. Это сменяли часовых.
Анрио просунул руку между решеткой, как ему советовал ла Виолетт, и замер в томительном нетерпении. Вдруг он почувствовал, что о его руку трется что-то шелковистое, мягкое, в чем он узнал собачью шерсть… Нащупывая далее, его рука соприкоснулась с мордой собаки, в которой торчал какой-то сверток.
Анрио взял этот сверток; то был моток веревки. В то же время послышался голос ла Виолетта, говоривший:
— Распустите веревку и оставьте один конец во рту у Маркизы.
Анрио повиновался. Собака исчезла в темноте, унося с собой конец веревки, другой конец остался у узника.
Таким образом веревка, протянутая между камерой и ла Виолеттом, послужила средством сообщения. Тамбурмажор поспешил передать этим путем генералу последовательно пилу, ножницы для холодной резки железа, заряженный пистолет, кошелек с золотом и карандаш с бумагой; с помощью этого Анрио было уже нетрудно обрести свободу.
— Спасибо! До скорого свидания! — сказал он, бросая в пространство эти слова по адресу своего смелого и ловкого спасителя.
Тем временем ла Виолетт с массой предосторожностей спускал умную Маркизу по веревочной лестнице с крыши. Хотя спуск и оказался труднее подъема, но собаке в конце концов удалось достичь земли.
Что касается самого ла Виолетта, то он прыгнул вниз, согнув колени. Однако высота оказалась более значительной, чем он рассчитывал; он легко мог разбиться насмерть в этом прыжке. Но он упал на какую-то мягкую, большую массу, которая смягчила толчок, так что он не испытал никаких повреждений.
Это был Рагуз, который спокойно улегся у подножия стены и тело которого образовало как бы матрац. Громадным весом тела ла Виолетта собака была раздавлена. Долгий вздох вырвался из ее пасти, словно из отверстия продырявленного игрушечного воздушного шара, и после этого бедный Кронпринц околел.
Ла Виолетт некоторое время взволнованно смотрел на издохшего пуделя, а затем, погладив рукой труп несчастного животного, спасшего его в опасном прыжке и поплатившегося за это жизнью, грустно взвалил его на плечи: не следовало, чтобы обход нашел свидетеля-обличителя здесь, около стен крепости.
Тамбурмажор унес собаку к берегу Дуная и спрятал там в ров, а затем, закрыв труп ветками и листьями и завалив камнями, ушел, обещая про себя вернуться сюда на следующий день с инструментами, чтобы приготовить Кронпринцу достойную могилу.
VIII
Наполеон прогуливался по своему кабинету в Елисейском дворце, когда ему доложили о приходе шевалье Флери де Шабулона. Он сейчас же принял этого юного авантюриста, который приезжал за ним на остров Эльба и был одним из главных инициаторов его чудесного возвращения.
Флери де Шабулон получил звание секретаря императора. Будучи глубоко предан последнему, видя, как повсюду куют измену, замыкая его дорогого императора во враждебный круг предательства, смелый и проницательный молодой человек добровольно взялся за контрполицейские обязанности. Угадав двойственную и тройственную игру, которую вел Фушэ (этот многообразный предатель составлял заговоры со всеми партиями и старался заварить кашу покруче, чтобы потом в образовавшейся неразберихе правильнее избрать, кому именно выгоднее всего служить), Флери де Шабулон следил за каждым шагом министра полиции. Он шпионил за ним, следил, не спускал с него взора, и ни одно из его движений не ускользало от Флери.
Поэтому, получив в секретариате письмо, написанное Паком, беспокоившимся относительно исчезновений Амелии Нейпперг и умолявшим императора вмешаться, чтобы защитить молодую девушку, Флери отложил его в сторону и прямо показал императору.
Имени Фушэ оказалось достаточно, чтобы император узнал о просьбе маленького агента полиции; Наполеон решил лично заняться этим делом и вырвать дочь своего смертельного врага из рук герцога д'Отранте.
Благодаря Флери маленький домик министра полиции, расположенный в Менильмонтане, был вскоре обозначен как место, куда Фушэ отвез свою жертву. Наполеон явился туда, и таким образом состоялось освобождение Амелии Нейплерг. Наполеон отвез ее в Елисейский дворец и поручил жене генерала Бертран заботиться о его протеже в ожидании, пока выяснится, что следует с нею делать.
Наполеон не мог не обратить внимания на грацию и очарование этой молодой девушки. Она предстала перед ним в ореоле такой простоты, которая счастливо выделяла ее из среды манерных придворных дам, и при виде ее красоты и юности император почувствовал, словно сам молодеет душой, словно может еще любить с прежним пылом и страстью. Наполеон, Антей войны и политики, пораженный, раздавленный перевесом сил бесчисленных противников в тот самый момент, когда все ждали его падения, вновь воспрянул духом, так как вместе со способностью любить у него появилась способность бороться, желание победить.
На его суровом лице возникла улыбка, когда при имени Флери де Шабулона в его памяти встал образ молодой девушки, освобожденной благодаря вмешательству секретаря.
Прогоняя от себя важные соображения, которыми был занят его деятельный ум в то время, он с удовольствием вызвал в памяти образ молодой девушки, сначала заплаканной, оскорбленной, потом радостной, трогательно-прекрасной, и в конце концов она вспомнилась ему в различные фазы своих злоключений. Задумавшись, он словно во сне пробормотал:
— Быть может, я всегда гонялся за тенью, упуская из вида жертву? К чему эта беспрерывная борьба для достижения какого-то результата? Может быть, счастье, которое столько раз уходило у меня из рук, еще когда-нибудь повернется ко мне? Не удастся ли мне теперь схватить его на лету, поймать и пришпилить к стене эту бабочку, которая столько раз давалась мне в руки и которую я каждый раз выпускал опять?
И Наполеон решил после беседы с Флери де Шабулоном, который несомненно принес ему какие-нибудь известия о Фушэ, а может быть, даже и доказательства какого-нибудь его вероломства, непременно отправиться к генеральше Бертран и переговорить с Амелией, которую он отдал на попечение этой даме.
— Что нового? — спросил император, здороваясь с молодым секретарем. — Какие новые выходки герцога д'Отранте укажете мне сегодня?
— Ваше величество, министр полиции изменяет вам.
— Это не новость! Но неужели вы полагаете, что он изменяет мне одному? Фушэ — артист по изменам; он настолько хорошо играл Людовиком Восемнадцатым, Меттернихом и коалицией, что решил поиграть и мной. Но я наперед знаю все его намерения. Он угодничает перед моими врагами, но продолжает служить и мне. Разве он не остановил опасного восстания в Вандее? И разве не он усмирил Сапино, Сазонне, Отишан? Если бы он вовремя не остановил всех этих мятежей, я был бы вынужден задержать армию, которую мне приходилось в тот момент готовить к выступлению. Неужели вы не признаете этих его заслуг, Флери?
— Нет, ваше величество! Он при помощи полиции и прессы действует открыто за вас да, кроме того, является представителем того среднего либерализма, который исповедует в настоящее время половина всей Франции, и своим присутствием в вашем совете успокаивает, так сказать, тех, которые иначе боялись бы за свою судьбу.
Флери де Шабулон остановился.
— Вы хотите сказать: «тех, которые боятся моего деспотизма», Флери? — воскликнул Наполеон. — Пожалуйста, говорите, что вы думаете, я не боюсь таких упреков. Я без малейшего колебания выдал хартию свобод, таких свобод, которых французы никогда до сих пор не имели. Я правлю при помощи двух палат, министры, назначенные мною, все ответственны, судьи независимы, осадное положение может быть введено только в случае нашествия неприятеля, цензура уничтожена, печати дана полная свобода, всем религиям дана полная свобода, и французский народ сохранил все свои суверенные права. Что нужно еще? Мои враги говорят, что нельзя верить в искренность моих чувств. Конечно, я не стал ангелом, но я понял, что в умах произошла перемена, и сам последовал этому примеру. Я знаю, что против моей хартии свобод поднимается глухой ропот, а между тем она настолько либеральна, что если я исчезну вместе с нею, то Франции придется пережить три революции и тридцать лет борьбы, чтобы отвоевать ее вновь. Но возвратимся к Фушэ! Что он делает в данный момент?
— Он только что писал к венскому двору.
— Неужели по поводу той миссии, которую я дал Монтрону? Кстати, как далеко продвинулся он со своим делом? Может быть, по этому поводу вы и утверждаете, что Фушэ изменяет мне?
Сильное волнение охватило Наполеона. Ему страстно захотелось узнать от Монтрона о том, что сделано им для побега императрицы.
Флери ответил, что Фушэ написал какое-то секретное письмо Меттерниху.
— Я знаю содержание этого письма, — ответил император. — Вот его копия в двух вариантах, — прибавил он с пренебрежительной улыбкой, после чего подошел к письменному столу и, вынув оттуда два письма, написанных сжатым, изящным почерком, показал их Флери, сказав: — Вот, прочтите! Почерк очень неразборчив, но содержание писем до того ясно, что разобрать слова нетрудно.
Флери взял первое письмо и прочел его вслух:
«Вас обманывают, мой дорогой князь. Наполеона призвала не только армия, но и народ. И кто имеет право препятствовать нам иметь императора, которого мы считаем наиболее подходящим для нас? Французский народ хочет мира, но будет ужасен во время войны. В короткое время под ружье будет собрано до миллиона экзальтированных людей Все троны рушатся при крике французской армии. Поэтому для Вас и для нас будет лучше, если Вы отвратите возможность войны».
Флери остановился, не будучи в состоянии разобрать какое-то слово.
— Этого достаточно, — сказал Наполеон, — возьмите и прочтите другое письмо, отправленное другим путем, чтобы оно не попало ко мне в руки.
Флери взял другое письмо, написанное тем же изящным и красивым почерком, но почти так же неудобочитаемое, как и первое, из-за того, что оно написано было очень мелко:
«Пишу Вам, дорогой князь, самым секретным образом, желая быть уверенным, могу ли я рассчитывать найти приют у Вас, если мне придется спасаться бегством. Наполеон обманывает положительно всех. Весь его модернизм — не что иное, как маска. Когда ему удастся получить прежнюю власть, он будет еще страшнее, и те, которых он теперь считает своими врагами, прежде всех почувствуют на себе силу его деспотической власти. Я один из них. Некоторые услуги, оказанные мной Людовику Восемнадцатому и другим союзным государям, обрекли меня на его месть. Поэтому-то я и хочу знать, могу ли я рассчитывать на Вашу поддержку в случае, если мне придется бежать из Франции. Говоря откровенно, мой дорогой князь, этот человек вернулся с Эльбы еще более безумным, чем он был, когда отправлялся туда. Но теперь с ним кончено. Как я уже сообщал Вам, через три месяца…»
— В каком из этих писем Фушэ говорит правду? — спросил Наполеон.
Флери молчал, боясь сказать, что герцог был откровенен во втором.
Однако Наполеон сам прервал молчание и заговорил с иронией в голосе:
— Фушэ искренен в обоих письмах. Он ненавидит меня и в то же время служит мне. Ведь он стремится и хочет только одного, а именно — власти. Управлять, повелевать людьми, делами — это его сфера, его жизнь. Интрига — его стихия, и как охотничья собака, которая бросает своего хозяина, чтобы отправиться за незнакомым человеком, который проходил мимо с ружьем за плечами, так и он оставляет хозяина, который больше не охотится. Все его колебания проистекают от сомнения в том, одержу ли я верх над монархией Бурбонов… Если бы Фушэ знал наверное, что верх возьмут Людовик Восемнадцатый и коалиция, о, тогда он ни минуты не колебался бы! Он отправился бы в Гап. Но здесь — он министр, принимает участие в управлении государством, и, конечно, не из тех людей, которые в состоянии отказаться от власти и погнаться за какой-то несбыточной мечтой. В таких случаях Фушэ готов держаться за меня и пишет такие письма, как это мы видели в первом. Но потом его снова одолевают сомнения относительно тех сил, которыми я располагаю для борьбы, он боится моего падения и в то же время полагает, что, узнав о его измене от таких преданных мне людей, как вы, Флери, я прикажу расстрелять его. Тогда он объявляет меня сумасшедшим, пророчит скорое мое падение, стараясь в то же время найти себе верное убежище у моих врагов, если события, которые он предсказывает, почему-либо не исполнятся. Человек, написавший второе письмо, столь же искренен, как в первом. Вот, друг мой, какой человек Фушэ. Он изменяет только тогда, когда видит, что дело плохо. Но, выйди я победителем и останься императором Франции на долгое время, у меня не будет более деятельного агента и преданного слуги, чем герцог д'Отранте. Что же после всего вы имеете против него? Вы видите, что я в курсе дела. Вместо одного секретного письма, которое, вы говорите, писал Фушэ, я показал вам сразу два.
— Государь, я хочу сообщить вам еще о письме, которое должен получить герцог д'Отранте от Меттерниха. Я видел посланника Меттерниха у банкира Лафита. Под видом простого рекомендательного письма Меттерних написал симпатическими чернилами письмо Фушэ. Лафит, с которым я дружен, сообщил мне об этом человеке.
— Что же вы сделали?
— Я убедил этого человека, по имени Ольтенфельс, что могу помочь ему увидеться с Фушэ, и привел его сюда.
— Очень хорошо, я хочу его видеть.
— Ваше величество, вы можете сами допросить его. Этот человек полагает, что я привел его к герцогу д'Отранте, но когда он предстанет перед вами, то, конечно, не замедлит покаяться во всем.
Император позвонил и сказал:
— Немедленно приведите сюда человека, которого вам покажет господин де Шабулон.
Офицер вышел вместе с Флери, и уже спустя несколько мгновений Ольтенфельс стоял перед императором, потупив взор.
В коротких словах Наполеон допросил его. Ольтенфельс признался во всем и склонил голову, ожидая, что сейчас же будет расстрелян.
— Давайте сюда письмо, — сказал император, когда Ольтенфельс все рассказал ему.
Австриец вынул письмо Меттерниха, но так как оно было написано симпатическими чернилами, то на бумаге не было заметно никаких букв. Наполеон наклонился к камину и поднес листок к огню. Через минуту показались голубоватые линии, потом стали вырисовываться отдельные буквы, и наконец письмо стало удобочитаемо.
Меттерних писал следующее:
«Державы не желают Наполеона Бонапарта, они решили воевать с ним до последней крайности. Но державы желают в то же время знать, чего хочет Франция и чего хотите Вы. Пошлите лицо, пользующееся Вашим исключительным доверием, в место, которое укажет Вам податель письма. Он встретится там с другим человеком и переговорит!»
Наполеон гневно смял письмо и пробормотал:
— Это предательство.
Он зашагал по кабинету, раздумывая, что ему предпринять. Минута была важная и серьезная. Расхаживая взад и вперед по комнате, он не переставал в то же время искоса наблюдать за австрийцем. Внешний вид последнего, по-видимому, успокоил его и навел на мысль прибегнуть к хитрости. Подойдя к Ольтенфельсу, все еще трясшемуся от страха, Наполеон взял его за пуговицу и проговорил:
— Вы, я убежден, знаете условный знак или какой-нибудь пароль, который посланный должен сказать доверенному лицу Меттерниха. Говорите скорей, какое это слово!
— Государь, — залепетал Ольтенфельс, — лицо, которое герцог д'Отранте облечет своим доверием, должно отправиться в Базель, в гостиницу «Три короля», и там, назвав себя Меттерниху, должно произнести: «Святая Елена».
Император вздрогнул и помрачнел.
— Святая Елена, — повторил он. — Ах да, это маленький остров среди Атлантического океана, куда державы хотели отправить меня, чтобы я там умер от лихорадки и тоски. Но пришлось отказаться от этого плана! Я теперь ближе к тому, чтобы войти в Вену и силой заставить выдать мою жену и моего сына, которых незаконно держат пленниками в Шенбруние, чем ехать на отдаленный остров, который должен быть мне могилой. Тем не менее нужно сознаться, что пароль выбран недурной, — Наполеон остановился, одну минуту смотрел на Ольтенфельса, а затем продолжал: — Я мог бы предать вас военному суду, который в двадцать четыре часа покончил бы с вами. Но я согласен оставить вас на свободе. Вы отправитесь к герцогу д'Отранте, как если бы ничего не произошло с вами, и передадите ему это письмо. Как видите, буквы снова исчезли и на бумаге ничего не заметно. Поняли?
— Да! Я передам это письмо герцогу д'Отранте.
— За вами будут наблюдать. При малейшем упоминании с вашей стороны о том, что здесь произошло, вы будете преданы военному суду. Ступайте! Вы отвечаете жизнью за свое молчание.
Ольтенфельс, низко поклонившись, вышел из кабинета. Оставшись с Флери де Шабулоном, Наполеон сказал:
— Благодарю вас, мой друг, за оказанную мне услугу. Теперь отправляйтесь немедленно в Базель, в гостиницу «Три короля». Вы напишете Меттерниху, назовете себя выдуманным именем и произнесете условный пароль. Там вы услышите предположения коалиции насчет меня; постарайтесь узнать намерения Австрии и затем возвратитесь сюда.
Император передал подписанную им лично подорожную, и Флери, выехав в тот же день в путь, встретился с эмиссаром Меттерниха Генрихом Вернером, с которым у него было несколько совещаний; последние раскрыли Наполеону планы союзных держав, их нежелание заключить с ним мир и намерение снова восстановить во Франции династии Бурбонов.
Дав время Фушэ переговорить с Ольтенфельсом и познакомиться с содержанием письма Меттерниха, император приказал ему явиться к себе. Они начали обсуждать совместно текущие дела, а затем Наполеон неожиданно сказал:
— Вы изменник, Фушэ, и мне следовало бы сегодня же вечером приказать расстрелять вас.
— Позвольте мне не согласиться с вами, ваше величество, — холодно возразил Фушэ. — Почему вы считаете меня изменником? — Его острый взгляд старался проникнуть в глубину глаз императора, он подумал, что тот знает все, но вполне равнодушным тоном промолвил, вынимая бумагу из кармана: — Ах, кстати, я получил от какого-то сумасшедшего или, вернее, интригана, который представился мне в виде посланника Меттерниха, письмо. В этом письме австрийский министр сообщает якобы интересные для меня новости. Вот оно. Но я думаю, что это — простая мистификация.
— Ах, вы полагаете, что это мистификация! Но почему же вы не сообщили мне об этом ранее?
— Ваше величество, у меня столько разных дел в голове, а служба у вашего величества настолько захватывает меня, что вся эта история с таинственным посланием совершенно вылетела у меня из головы. Ваше величество, извините меня, но у нас есть на очереди более важные дела для обсуждения. — И, раскрыв свой портфель, Фушэ вынул оттуда несколько бумаг и начал говорить своим скрипучим голосом: — Все эти донесения в один голос сообщают о концентрации английских и прусских войск в Бельгии. Не сегодня завтра будет объявлена война. Генералы Веллингтон и Блюхер еще колеблются с наступлением, но, повторяю, война неизбежна.
— Хорошо, — сказал Наполеон, — я хотел мира, который, по моему мнению, необходим как Франции, так и Европе. Но раз меня заставляют вновь обнажить шпагу, я буду беспощаден.
— На войне шансы изменчивы, и если возможно избежать…
— Я готов принять всякие условия мира, если они не будут унизительны. Делали ли вам какие-нибудь предложения, Фушэ?
— Нет, никаких предложений я не получал, ваше величество, — ответил Фушэ. — Но, может быть, вы сами заявите державам о своем желании отречься от престола на условии немедленного мира?
— Мой трон взамен мира? Я согласился бы, пожалуй, но кто займет мое место?
— Ваш сын, государь. Европа приняла бы регентство как залог продолжительного мира, в особенности если бы совет этого регентства состоял из лиц, внушающих доверие Европе.
Фушэ, предлагая регентство, главным образом заботился о себе. Если бы ему удалось заставить отречься императора, то он стал бы фактическим правителем Франции.
— А если державы откажутся? — спросил Наполеон.
— Тогда вы можете призвать в свидетели нацию и под ваши знамена соберется весь народ!
Наполеон, пожав плечами, воскликнул:
— Это химерическая мечта. Европа и слышать не хочет о регентстве. Она будет думать, что под именем сына продолжаю править все-таки я. Европейские государи стремятся главным образом сломить мое могущество, обезоружить Францию. Они одинаково боятся как меня, так и ее. Поразмыслите над неосновательностью вашего предложения, если вы создадите регентство этого режима; если же вы отдадите меня как залог во власть иностранным державам, Франция станет беззащитной страной. Единственным результатом этого предложения явится неуверенность в народе, страх в армии, а Европа станет, наоборот, смелее, и, кроме того, мы потеряем время в бесцельных переговорах, а нам и так дорог каждый час, чтобы закончить наши военные приготовления. Раз с нами хотят воевать, так будем же стремиться к победе! Оставьте свои проекты регентства и осведомите меня лучше насчет состояния умов во Франции ввиду надвигающейся страшной войны.
Фушэ склонил голову и ничего не ответил.
IX
После совещания с Фушэ Наполеон отправился в апартаменты госпожи Бертран, проживавшей с мужем, обер-гофмаршалом, в Елисейском дворце. Он застал Амелию Нейпперг беседующей с госпожой Бертран, но при входе Наполеона последняя тотчас же покинула комнату. Амелия и Наполеон остались наедине.
Самые добродетельные женщины (Бертран, несомненно, принадлежала к их числу) имеют какую-то странную склонность содействовать любовным похождениям лиц, находящихся около них, и если покопаться в совести такой добродетельной женщины, то там непременно можно найти следы какого-нибудь содействия в любовных делах или даже в сближении двух любовников.
По тому, как император попросил ее взять на попечение молодую девушку, привезенную им в Елисейский дворец, Бертран угадала, что он особенно интересуется ею.
Может быть, император снова влюбился?
Бертран договорила об этом со своим супругом. Осторожный маршал посоветовал жене быть начеку, но прибавил, что нельзя ограничивать императора в удовольствии и лишать его возможности развлекаться, так как это может принести благодатные результаты для него самого. Наполеон жил в одиночестве на острове Эльба, вдали от своей жены, а потому теперь ему было позволительно искать утешение в любви, чтобы рассеяться от своих тяжелых трудов. Не следует только ускорять ход событий. Мария Луиза могла самым неожиданным образом появиться в Париже. Ее чувства к императору должны измениться вместе с изменением положения Наполеона; ведь он уже не был больше развенчанным властелином, а стал могущественным императором, вождем огромной армии и одной решительной победой мог навсегда закрепить за собой трон. Поэтому не следует отдалять императора от сближения с Марией Луизой.
Бертран знал о секретной миссии Монтрона и сильно опасался, что генерал Анрио и Виолетт встретят при венском дворе серьезное препятствие. Но в таких делах случай играет важную роль, и очень возможно, что в один прекрасный день Мария Луиза появится в Елисейском дворце вместе со своим сыном. Поэтому госпожа Бертран должна одинаково покровительствовать зарождающейся страсти императора и в то же время не упускать из вида возможности возвращения императрицы.
По совету мужа Бертран решила содействовать исполнению желания императора и в то же время наблюдать за тем, чтобы его страсть не заставила его потерять голову и скомпрометировать себя. Выйдя из комнаты, она остановилась недалеко от дверей так, чтобы слышать долетавшие оттуда голоса.
Наполеон по своему обыкновению сперва пристально рассматривал ту, с которой хотел начать беседу, а затем неожиданно спросил:
— Вы не очень жалеете, что находитесь здесь?
— Ваше величество, я была бы неблагодарной. Вы вырвали меня из тяжелого положения. Я всю жизнь буду благословлять этот час.
— Вам нравится во дворце?
— Ваше величество, я не смею отвечать утвердительно, чтобы не дать вам повода истолковать неправильно мой ответ.
Взгляд императора, этот странный, неподвижный и в то же время глубокий, как бездна, взгляд вдруг подернулся нежностью. Он с большим волнением смотрел на Амелию. Его трогали ее юность и искренность, он не мог оторвать взгляд от ее гладкого и чистого чела, от ее детских невинных глаз.
Любовь или по крайней мере форма любви, заставляющая желать находиться вблизи любимого существа, присутствие которого само по себе доставляет радость и наслаждение, все сильнее охватывала его сердце.
— Вы можете жить в этом дворце, пока вам будет это приятно, — заговорил снова Наполеон, — я сделаю по этому поводу соответствующее распоряжение.
Амелия с чувством живейшей признательности поблагодарила императора.
На протяжении этой беседы Наполеон переживал странную внутреннюю борьбу. Он, обычно никогда не задумывавшийся над решением какого-нибудь дела и хладнокровно распоряжавшийся своими внешними движениями, поступками, на этот раз чувствовал странное волнение, зародившееся в нем под влиянием разнородных мыслей и ощущений. Он ясно сознавал, что происходило в его душе, и понимал причину своего замешательства. Он сознавал, что его соблазняли очарование и юная грация Амелии, и говорил себе, что вполне естественно почувствовал себя в плену этих нежных, красивых глаз, в которых мелькало выражение робости, удивления и иногда восхищения. Но будет ли он любим? Он был императором, и каждая женщина, которой он выражал свое восхищение, неминуемо становилась его жертвой, никто и не думал сопротивляться ему. На всех красавиц он всегда смотрел отчасти как на свою собственность; побеждая, он проникал в сердца.
На этот раз он тоже не сомневался в победе, но предпочел бы не быть этим вечным победителем теперь, в присутствии этой молодой девушки, которую он вырвал из рук Фушэ. Он почти сожалел, что сказал, кто он, и думал, что было бы благоразумнее скрыть свое имя, свою личность, явиться спасителем в домик министра полиции в качестве неизвестного и оставаться в глазах молодой девушки безымянным спасителем, которого она могла бы любить без примеси восхищения, превращавшего каждую женщину в его послушную подданную.
Юпитер поступил умно, когда для покорения сердца Леды надел на себя оперение лебедя, и сделал непростительную глупость, когда появился перед неосторожной Семелой с нахмуренными бровями и молнией в руке.
Наполеон тоже казался теперь Юпитером, Амелия не могла полюбить его; он невольно внушал другие чувства, имевшие очень мало общего с любовью.
«Если я обниму и поцелую ее, — подумал про себя Наполеон, — она склонится предо мной как для принятия благословения!»
И тяжелый вздох вырвался из груди властелина: он понимал, что в делах любви он из-за своего положения должен уступить пальму первенства обыкновенным смертным — ведь он слишком угнетал своим величием Амелию. Мог ли он уменьшить разделявшее их расстояние? Но ведь когда уста соединяются, то любовники становятся совершенно равными друг другу.
«Что, если я попытаюсь?» — подумал он, после чего взял трепетную руку девушки и, молча подведя Амелию к канапе, пригласил ее сесть рядом с собой.
Девушка казалась смущенной, пристыженной и робкой. Она верно поняла взгляды, жесты и замешательство императора, и в одно и то же время у нее вспыхнули неизмеримая гордость и какая-то печаль, порожденная разочарованием.
Быть любимой императором! Разве могло быть что-либо величественнее этой мечты! Сколько ревнивых взглядов будет брошено на нее за этот выбор императора! Для каких только женщин не являлось мечтой то самое положение, в котором теперь очутилась она! О, она должна была гордиться той любовью, о которой он говорил ей своим нежным, мягким голосом, где слышалась вся сила его страсти!
И однако эта блестящая победа только наполовину удовлетворяла ее гордость. Она давно втайне восхищалась Наполеоном, обожала его, как обожают сказочных героев, которые появляются над толпой в пурпурной мантии, окруженные облаками фимиама, но никогда не видела его вблизи и иногда, вдевая нитку в иглу, мечтала про себя: «Как была бы я счастлива видеть вблизи императора и хоть одну минуту побеседовать с ним!»
И вот теперь император сидел возле нее как простой смертный. Это император жал ей руки и император же нашептывал ей на ухо те самые любовные слова, которые она, может быть, слышала на улице, на прогулке, в галереях Пале-Рояля, где она бегала в поисках работы. Действительность мало походила на ее мечту: император, превратившийся во влюбленного, сошел со своего бронзового коня; это уже не был большой герой, великий человек, виденный ею в блеске славы. В ее глазах он вдруг будто принизился, и она не могла не смотреть на него как на обыкновенного смертного, лишенного ореола и потерявшего все уважение, которым он прежде пользовался в ее глазах.
Между тем Наполеон от слов любви постепенно переходил к делу. В этот момент он забыл Фушэ, Блюхера, предательства и измены; для него ничто не существовало, кроме этой молодой девушки, такой притягательной и красивой.
Амелия лишь пассивно сопротивлялась, не осмеливаясь ни кричать, ни отбиваться; она ограничивалась тем, что оставалась совершенно инертной и безмолвной.
Легкий стук в дверь заставил Наполеона откинуться назад.
— Что такое? Кто осмеливается мешать мне? — раздраженно крикнул он.
Генеральша Бертран, находившаяся все время у дверей, не слыша более звука голосов, нашла нужным прервать это любовное свидание.
— Ваше величество, — сказала она, продолжая стоять за дверью, — из Вены прибыл курьер с депешами.
— Пусть подождет, — сказал Наполеон.
Он поднялся и, расхаживая по комнате, погрузился в мысли.
Выражение робости и как бы упрека, светившееся в глазах Амелии, произвело на него сильное впечатление.
«Куда я зашел? — подумал он. — Ради минутного развлечения, ради каприза я едва не сломал этот хрупкий цветок и едва не погубил эту юную душу!»
Все решения созревали в душе Наполеона быстро.
— Встаньте, — мягко проговорил он, — и перестаньте бояться меня. Я больше не стану надоедать вам своей любовью, которая вовсе не дана мне в удел.
Амелия, поднявшись, залилась слезами и пролепетала:
— Ваше величество… Простите меня. Я предана вам, но… но…
Рыдания прервали ее речь.
Император улыбнулся.
— Но вы не любите меня, не правда ли? Это разрешается… Я не могу приказывать любить себя; если же я попытаюсь сделать это, то меня немедленно обвинят в деспотизме. Успокойтесь! Но теперь мне нужно принять курьера, хотя он мог бы приехать немного позднее или немного раньше, а потом я побеседую с вами.
Император подошел к двери и, отворив ее, принял из рук курьера пакет с депешами.
Вена! Оттуда он ждал новостей относительно своей жены и ребенка. Что находилось в этом пакете? Может быть, известие о скором прибытии императрицы и его сына?
Разве было теперь время думать о каких-то мелких любовных интрижках? Плоть, восторжествовавшая было на один момент, снова была покорена духом.
Взломав печать конверта, император жадно прочел депешу.
Это было письмо от де Монтрона. Ботаник с большими подробностями сообщал о различных фазах исполнения возложенного на него поручения. Сообщив о принятом им решении, он перешел к описанию, неожиданного результата. Генерал Анрио под видом Альфьери проник во дворец, имел свидание с императрицей, вручил ей собственноручное письмо императора, но вслед затем был непонятным вначале образом выдан: аббата Альфьери арестовали и отвели в тюрьму.
Затем Монтрон описывал планы, задуманные им с ла Виолеттом с целью подготовить бегство генерала Анрио. Ла Виолетту посчастливилось передать узнику пилу, ножницы и деньги; отвернув болты засовов и отперев отмычками двери, генерал Анрио в конце концов выбрался на свободу.
Дойдя до этого места, Наполеон сделал движение, выражавшее его удовольствие.
— Только бы они не вздумали повторять свои попытки! — пробормотал он. — Австрийская полиция будет очень счастлива, если удастся захватить преданного мне человека, стремящегося избавить жену и сына от тирании венского двора. Надеюсь, что эти три смельчака окажутся достаточно благоразумными и вернутся во Францию. Ну, прочтем, что далее!
Он продолжал читать письмо. Монтрон сообщал, что с громадным прискорбием узнал от генерала Анрио про обстоятельства, при которых совершился арест. Он предпочел бы промолчать, чтобы не огорчать его величество, но считает своим долгом честно и открыто поведать обо всех фактах, связанных с исполнением возложенного на него поручения.
Генерал Анрио, пробравшись к императрице под видом аббата Альфьери, полномочного посла двора его святейшества, открыл Марии Луизе свое истинное звание и цель, которая привела его в Вену. В то же время он вручил ее величеству письмо императора.
Ни один мускул не дрогнул на лице Марии Луизы, когда она читала это письмо от мужа, который от всего полного любви и нежности сердца умолял ее приехать к нему и советовал в случае, если венский двор будет задерживать ее и сына, довериться подателю этого письма, так как последний уже найдет случай и возможность вернуть ей свободу и доставить в Елисейский дворец к тому, кто ждал ее, кто любил ее, которому не будет радости от вновь обретенной власти и трона, если и то, и другое ему нельзя будет разделить со своей дорогой, желанной женушкой.
Прочитав письмо, Мария Луиза холодно взглянула на посланца и сухим тоном заявила ему, что очень недовольна тем способом, которым он вздумал пробраться к ней. Она обещала своему отцу, австрийскому императору, не получать никаких писем, исходящих от Наполеона, через чье бы посредство они ни передавались, а если письма все-таки тем или иным путем дойдут до нее, то она обязана немедленно показать их отцу. Если император Наполеон желает передать ей что-либо, то он должен был бы обратиться не к посредству тайных агентов, сильно смахивающих на темных искателей приключений, пробирающихся во дворец под фальшивыми именами и прибегающих к переодеванию, а пойти официальным путем, через канцелярию. Тогда от князя Меттерниха она получила бы все сообщения. Затем под влиянием вспышки гнева Мария Луиза, собиравшаяся уже выйти из комнаты, кинула генералу Анрио, сильно смущенному всем происшедшим, следующие слова:
— Можете передать тому, кто послал вас — разумеется, если император, мой отец, и его министры дадут вам когда-либо возможность снова повидать его, — что совершенно бесполезно будет надоедать мне подобными просьбами и посылать ко мне тайных послов; я приняла твердое решение никогда не возвращаться обратно во Францию. Благодаря великодушию и милости союзных монархов я стала герцогиней Пармской и чувствую себя совершенно удовлетворенной в своих честолюбивых помыслах тем, что могу править этим небольшим государством.
Наполеон гневно скомкал депешу, дойдя до этих фраз.
— Ах, так! Она довольна тем, что может быть герцогиней Пармской… вместе с Нейппергом, разумеется! — пробурчал он, стискивая зубы. — Ну, а у меня все-таки имеется средство отомстить этому Нейпнергу, — пробормотал он, кидая злобный взгляд на Амелию, которая в сильном беспокойстве спрашивала себя, что произойдет, когда император, ознакомившись с содержанием депеши, снова займется ею. Он, быть может, опять возобновит прерванную прибытием почты атаку, отражать которую она могла только пассивным сопротивлением.
Наполеон с лихорадочным нетерпением закончил чтение секретного доклада тайного комиссара.
Монтрон докладывал далее, что Мария Луиза, оставив генерала Анрио одного в комнате, вышла после сказанных ею гневных слов; генерал некоторое время все еще оставался на месте, надеясь, что случайное дурное расположение духа императрицы пройдет и она вернется, чтобы дать менее резкий ответ или, может быть, даже письмо к супругу; однако он не дождался этого и собрался уходить, как вдруг появился офицер и арестовал его. Будучи захвачен на месте, генерал Анрио не мог дать знать своим друзьям, что именно привело к его аресту. Отсюда и произошло опоздание в докладе императору о происшедших событиях.
В настоящий момент, — так заканчивал свое послание де Монтрон, — все три агента, которым император доверил высокое поручение привезти во Францию императрицу и Римского короля, находятся вместе. Вновь получив полную свободу действий, они надеются довести порученное им дело до успешного завершения. Конечно, как бы там ни было, но приходится действовать с величайшей осторожностью, так как бегство генерала Анрио подняло на ноги всю австрийскую полицию. Вокруг особы его величества Римского короля учрежден самый строгий надзор. Госпожу де Монтескью, его достойную гувернантку, заменили другой особой, немкой. Вообще теперь только одни немки окружают юного принца. Полковник де Монтескью был вынужден уехать из Вены, так как его обвинили в том, что он способствовал проникновению во дворец тайного агента Наполеона. Но несмотря на все эти препятствия они не отчаиваются в успехе. Конечно, рассчитывать на добрую волю Марии Луизы не приходится, но приняты все меры, чтобы направить ее во Францию. А как только она окажется вне злокозненного влияния венского двора, она, наверное, добровольно согласится последовать за тремя французами, которые явились к ней с предложением трона. Что касается Римского короля, то уже составлен проект его похищения. В один и тот же день вместе с матерью он окажется в руках агентов императора; нужно только ждать благоприятного случая, который и представится 24 июня. В этот день Мария Луиза с сыном должна отправиться в Карлсбад. Похищение совершится по дороге, в одной из гостиниц, где уже все приготовлено для этого.
Наполеон два раза перечитал последнюю фразу донесения и погрузился в глубокую задумчивость.
Так, значит, Мария Луиза продолжает упорствовать в своей надменности! Значит, она отказывается вернуться во Францию! Она, которой был открыт первый трон в Европе, удовольствовалась управлением посредственным итальянским герцогством! Она жертвовала всем будущим сына, низведенного до ранга второстепенного, мелкого немецкого князька, примирилась с тем, что он должен довольствоваться крохами, падавшими со стола императора, он, которому под именем Наполеона II могла быть послушной вся Франция. Она презрительно отворачивалась от любви Наполеона, она отталкивала все, что являлось от его имени, и дерзко отказывалась от всякой помощи мужа. Она не побоялась в подлом бесстыдстве своего предательства выдать австрийской полиции смелого и беззаветно отважного французского офицера, который с опасностью для жизни пытался говорить с ней на языке чести, разума, любви, супружеских обязанностей. Она выказала прискорбную храбрость, выдав Анрио венским полицейским, чтобы подчеркнуть этим, что она приняла твердое решение ничего не слышать, ничему не потворствовать, что исходит из Франции.
«Ах, подлая женщина! — внутренне простонал Наполеон. — Что я сделал ей? Чем я дал ей основание быть по отношению ко мне такой злобной, несправедливой, презрительной, изменчивой? А ведь я так любил ее! Да и все еще люблю ее, мою Луизу! Боже мой, что я за идиот, если отдаю свое сердце той, которая с презрением отбрасывает его прочь! В ее глазах я больше не муж ей. А ведь не своим поражением обязан я такому отношению ко мне: теперь все снова исправлено, и снова Европа считается со мной, с ужасом прислушиваясь к бряцанию оружия моих войск. Если Луиза оказывает сопротивление моей супружеской воле и выказывает себя столь же плохой матерью, как и женой, то потому, что между нею и мной встало препятствие… в виде человека, всецело овладевшего ею, сумевшего овладеть всеми ее помыслами и желаниями. О, если бы этот Нейпперг оказался в моих руках!»
Лицо императора исказилось от страшной ненависти и злобы. Казалось, будто он уже держит в своих руках соперника и готов жестоко отомстить ему.
Его взгляд снова упал на Амелию.
«Это его дочь, — подумал он, — ничто не может помешать мне воспользоваться ею и наказать отца бесчестием дочери. Только что она сопротивлялась мне, но была готова уступить. Еще одна попытка — и Амелия Нейпперг будет моей! — Он прервал нить своих мыслей, бурно вздохнул и принялся расхаживать взад и вперед по комнате порывистым, возбужденным шагом. — Но будет ли это благородным мщением? Будет ли такое мщение достойно меня? — мысленно спросил он себя. — Нет! Я не имею права поражать его в лице этой невинной жертвы. Она не любит меня. Да, и она тоже! Что же делать! Я сделан не из того теста, чтобы внушать женщинам любовь. Страх, восхищение — о, это могу внушить! И, быть может, когда-нибудь потом, если судьба еще раз отвернется от меня, если военное счастье изменит мне, я буду внушать только сожаление, не более. Нет, я должен пощадить ее и доказать, что Наполеон умеет управлять своими страстями и смирять свой гнев!»
Затем он обратился к Амелии, испуганно встрепенувшейся при обращении к ней, и сказал:
— Прошу вас простить меня за те вольности, с которыми я позволил себе обратиться к вам. Ваша красота, ваше очарование сделали то, что я перестал владеть собой. Я счастлив, что имею возможность извиниться перед вами. Но вы простите меня, не правда ли? Вы не будете думать обо мне, что я злой человек?
— Ваше величество, я смотрю на вас как на самого великодушного, самого благородного из всех государей мира!
— Не говорите мне того, чего я совершенно не заслужил. Вот что! Я предложил вам поселиться у меня во дворце, но это совершенно невозможно. Это было очень неосторожным проектом, да и для меня самого тоже было бы слишком мучительно, слишком опасно быть вынужденным постоянно встречать вас около себя. Для нашего общего спокойствия будет лучше, если мы будем подальше друг от друга. Я придумал кое-что другое. Вы имеете какие-либо известия от господина Нейпперга, вашего отца?
— Никаких, ваше величество. Моя мать, видя, что она покинута, брошена, укрылась во Франции; хотя она и была бедна, но не пожелала получать что-либо от того, на кого смотрела как на мужа, а не па щедрого благотворителя, кидающего милостыню.
— Все эти чувства делают честь тонкости души вашей матушки. Но ее нет более в живых, и господин Нейпперг не имеет оснований выказывать полнейшее и враждебное безразличие к вашей судьбе.
— Я не имею ни малейшего представления, что чувствует ко мне отец — нежность или презрение. От него я не имею никаких вестей, а сама я ему не писала никогда.
— Ну так что же! Вам надо увидеться с ним. Я не сомневаюсь, что, увидев вас, он совершенно переменится к вам.
Амелия наклонила голову, не отвечая ни слова, как-то странно смущенная сделанным ей императором предложением вернуться к отцу.
— Мне известно, что господин Нейпперг в данный момент находится в Италии, — продолжал Наполеон. — Он сражается против неаполитанского короля. Как раз в данный момент я посылаю одного из своих генералов, Бельяра, к королю Мюрату. Он проводит вас, и, добравшись до аванпостов, вы будете в состоянии добиться пропуска и проникнуть таким образом в главную квартиру господина Нейпперга. Вы согласны?
— Я поступлю, как вам будет угодно, ваше величество!
— Значит, вы отправитесь завтра вместе с Бельяром. Если вопреки ожиданиям господин Нейпперг откажется принять пас, останется нечувствительным к вашей обаятельной грации, к прелести вашей юности, — тогда попросите отвезти вас на неаполитанские аванпосты и, окончив свою миссию, Бельяр отвезет вас обратно во Францию. А там мы посмотрим!
И император, сказав это, милостиво кивнул головой смущенной девушке и вышел, чтобы отправиться в зал совета, куда он созвал своих маршалов.
Война была неизбежна, европейские державы все настойчивее провоцировали ее. Приходилось либо перейти самому в наступление, либо смириться и ждать вторичного враждебного нашествия во Францию.
Наполеон решил перейти в наступление, что более соответствовало его гению и темпераменту французов. Было решено, что он отправится в законодательный корпус, чтобы там торжественно объявить об открытии военных действий, причем определил, что он выступит в ночь на следующий день, 12 июня.
Закрывая заседание совета, где были приняты все эти серьезные решения, Наполеон пробормотал:
— Двадцать четвертого июня храбрецы, которые ради меня рискуют жизнью и пытаются в Вене совершить невозможное дело, должны попробовать освободить моего сына и силой увезти его мать. Тем временем я выиграю в долинах Бельгии грандиозное сражение, и результат его, став известным в Шенбрунне, безусловно облегчит смелое предприятие моих героев.
X
24 июня 1815 года в гостинице, находившейся на дороге к знаменитому своими целебными источниками городу Карлсбаду, сидели трое путников, одетых в длинные плащи погонщиков баранов.
Эта гостиница, называвшаяся «Золотая цапля», находилась как раз у самого края страшной пропасти на вершине холма, подъем к которой сменялся далее обрывистым спуском.
Трактирщица, крепкая и свежая крестьянка, бегала взад и вперед, торопясь подать требуемое посетителям. Она охотнее всего останавливалась около одного из троих погонщиков, выделявшегося своей гигантской фигурой, и перебрасывалась с ним шуточками и смешками. Время от времени гигант отрывался от еды и кидал беспокойный взгляд на палку, прислоненную около него к стене, словно боясь, что он не найдет ее в нужный момент под рукой. Остальные двое гуртовщиков молчаливо и сдержанно кутались в плащи, посматривали на дорогу, ведущую к Вене, и изредка обменивались многозначительными взглядами.
Один из них был мал ростом, очень худощав и отличался спокойными манерами. На нем была надета на перевязи какая-то круглая коробка, издававшая металлический звук каждый раз, когда он случайно задевал ею за угол стола, наклоняясь, чтобы рассмотреть дорогу.
Другой был среднего роста; он был моложе, и весь его вид говорил о решительности; он отличался энергичными живыми манерами. По внешности его можно было принять скорее за военного, чем за купца; достаточно было хотя бы посмотреть, с каким молодцеватым видом он сидел, подбоченившись, верхом на скамейке!
Что же касается третьего путешественника, того самого, который пользовался видимым предпочтением со стороны красивой трактирщицы, то казалось, что он чувствует себя здесь совсем как дома. Его уже не в первый раз видели в веселом зале гостиницы «Золотая цапля».
Улучив удобную минуту, гигант сжал своими мощными руками квадратную талию трактирщицы; последняя оттолкнула его и, делая вид, будто очень сердится за это, сказала:
— Вы сегодня чересчур дерзки, господин Фриц. Уж не присутствие ли ваших друзей заставляет вас так приставать ко мне? Оставьте меня в покое!
— Меня вдохновляет таким образом присутствие не друзей, а ваших несравненных прелестей, неоцененная Катенька. Ну уж нет, я вас не пущу!
— Господи! Ну и денек выдался! Да вы подумайте только: ведь мы ждем проезда эрцгерцогини Марии Луизы вместе с сыном, принцем Пармским, и свитой. Нашли тоже время шутки шутить!
— А свита велика? — равнодушным тоном спросил гуртовщик, продолжая стискивать в своих объятиях Екатерину.
— Нам дали знать, что едут две кареты. В одной едет эрцгерцогиня с сыном и его гувернантка, в другой — два офицера и две дамы из свиты эрцгерцогини.
— Так они едут без солдат?
— По два гусара на козлах каждого экипажа по бокам кучера. Вы только подумайте: всем услужи, всех накорми.
— Разве эрцгерцогиня со свитой останется здесь ночевать?
— Нет, они здесь только поужинают, пока им будут менять лошадей. Хотя сюда они приедут только под вечер, но спать они будут в Карлсбаде, куда прибудут к одиннадцати часам.
Остальные двое гуртовщиков, молчаливо прислушивавшиеся к разговору, обменялись быстрыми, выразительными взглядами. Казалось, что все, что рассказывала трактирщица, живо интересовало их. Но Екатерина была слишком поглощена защитой от излишней предприимчивости гиганта, так что не заметила взглядов, которыми обменивались гуртовщики.
А Фриц действительно не терял времени даром. Он встал и, целуя и милуя ее, подталкивал трактирщицу к комнате, дверь которой выходила в общий зал гостиницы.
— Если вы сейчас же не оставите меня в покое, я позову мужа, — крикнула Екатерина и потом прибавила: — Вы были гораздо благоразумнее и сдержаннее прежде, когда приезжали сюда без ваших друзей, господин Фриц! Если бы я знала, что вы за гусь, я не стала бы сама служить вам, а кликнула бы слугу. Сейчас он в конюшне, но если вы не оставите меня в покое, я позову его сюда.
— Ну полноте, — не унывал Фриц. — Я, милочка вы моя, всегда бываю любезен с дамами. Так не будьте же такой злой! Три недели тому назад, когда я случайно остановился У вас в пути, вы осчастливили меня кое-какими явными признаками несомненной симпатии. Так почему же теперь вы стали вдруг такой недотрогой?
— Но у меня сегодня столько дел… Вы забываете про эрцгерцогиню.
— А какое мне дело до вашей эрцгерцогини! Вы так очаровательны! Просто съесть вас хочется — вот я и съем! — ответил предприимчивый Фриц.
Он продолжал подталкивать чувственную Екатерину, сопротивление которой явно ослабевало.
— Нет, я не хочу! Я должна позаботиться по хозяйству! — повторяла Екатерина, красная и очень оживленная.
— Разве вы не говорили мне в прошлую субботу, что я — странный мужчина и что должно быть очень приятно побыть со мной вдвоем?
— Да что говорить, вы — красавец, но только зато и негодный же вы человек! Ну, оставьте меня сейчас же, а то я кликну мужа!
— Твой муж не станет из-за таких пустяков бросать свою плиту. Есть когда трактирщику заботиться о том, как проводит время его жена наверху!
— Нет, нет! — пробормотала Екатерина, наполовину склоняясь в объятия бравого мужчины, который все усиливал натиски все энергичнее подталкивал ее. — Не сегодня! Потом… как-нибудь в другой раз!
— Екатерина! Я люблю тебя, и ты будешь моей! — энергично возразил Фриц, который был уже в двух шагах от двери комнаты.
Он все усиливал напор, и трактирщица поддавалась, бессильная сопротивляться.
— Что подумают обо мне ваши друзья? — пробормотала она, стараясь высвободиться из его объятий.
— Мои друзья и не подумают заниматься этим вопросом! — И с этими словами «Фриц» заставил ее переступить через порог желанной комнаты.
Перед тем, как запереть дверь, он повернулся и, не выпуская Екатерины из своих мощных объятий, крикнул своим товарищам:
— Эй, вы там, скорей на кухню! Я догоню вас на конюшне!
С этими словами он исчез в комнате вместе с Екатериной, которая почувствовала какое-то беспокойство при последних словах возлюбленного, обращенных к его спутникам.
Последние, услыхав обращенные к ним слова, немедленно встали из-за стола.
— Что вы скажете, генерал, а ведь дело-то идет очень хорошо! — сказал самый маленький из обоих гуртовщиков, обращаясь к товарищу.
Тот, смеясь, ответил:
— Этот дьявол ла Виолетт избрал себе приятную часть! Трактирщица-то эта не из вредных будет! Как, по-вашему, дорогой Монтрон?
Монтрон — это именно он в обществе ла Виолетта и Анрио скрывался под видом гуртовщика в гостинице «Золотая цапля», в месте, назначенном для отдыха Марии Луизы при переезде в Карлсбад, — ответил Анрио, покачав головой:
— Красоту я понимаю только тогда, когда дело идет о растениях, генерал. По-моему, из нас троих только ла Виолетту как холостяку и подходила эта роль Дон Жуана. Я — ботаник, а вы женаты, дорогой Анрио. Кроме того, ведь вы любите свою жену, не так ли?
— Да, да! — пробормотал Анрио.
Внезапная бледность разлилась по его щекам. Воспоминание об Алисе, вызванное словами Монтрона, причинило ему боль. Он снова пережил ее измену, снова вспомнил все перипетии ее любовного приключения, и в одну секунду перед его мысленным взором пронеслась вся его отравленная, погубленная жизнь, полная ревности и мук обманутого мужа, который не в силах забыть прошлое.
Однако усилием воли отогнав от себя все эти печальные воспоминания, он сказал Монтрону:
— Не будем терять ни минуты. Ла Виолетт держит теперь в своей власти женщину, займемся мужем. Ваши пистолеты с вами?
Ботаник развернул тряпку, в которую была завернута продолговатая коробка — это оказался зеленый гербарий, неразлучный спутник натуралиста, — открыл ее и достал оттуда пару пистолетов, засунул их за пояс после проверки курков и кремней, а затем буркнул:
— Это — очень убедительные аргументы, но только несколько шумные. Кое-что будет в данном случае лучше.
— Что именно? — спросил Анрио.
— А вот этот молчаливый помощник! — ответил ботаник, доставая из зеленого гербария маленький флакончик, на три четверти наполненный какой-то жидкостью.
— Это что за микстура такая?
— Безобидный сок растения из семейства пасленовых. Открыв флакон и заставив человека вдохнуть в себя его аромат, сразу погружают его в летаргическое состояние. О, это совершенно безопасно! Я хочу заставить нашего трактирщика проспать сладким сном несколько часов… ровно столько, сколько нужно, чтобы довести наше предприятие до желанного конца.
— Так пойдемте! Нельзя терять время! Но не забывайте, что с вами пистолеты! — сказал Анрио, который, казалось, питал очень небольшое доверие к научному оружию ботаника.
Они отправились вместе на кухню, где и нашли хозяина гостиницы «Золотая цапля», деятельно хлопотавшего у плиты. Он, видимо, сильно волновался и весь красный возился с кастрюлями, готовя ужин для эрцгерцогини Марии Луизы.
Анрио подошел к нему и спросил, не может ли он дать им поесть. Трактирщик вежливо попросил их обождать, пока он справится с ужином для эрцгерцогини и ее свиты. Он сказал, что после их проезда постарается угостить на славу гуртовщиков, клиентурой которых он очень дорожил, но разве может он пренебречь ради них ужином дочери императора, делающей честь его скромной гостинице своим посещением?
Анрио объявил ему, что они с удовольствием подождут, пока эрцгерцогиня уедет, к тому же они заморили червячка добрым ломтем розовой ветчины, политой золотистым пивом, и их аппетит не так-то уж дает себя знать.
— К тому же у меня имеется превосходное средство за ставить желудок замолчать, раз я не имею возможности сейчас же удовлетворить его требования, — добродушно сказал Монтрон.
Трактирщик с изумлением вытаращил на него глаза и спросил, не будучи уверен, уж не смеются ли над ним эти гуртовщики:
— А, так вы обладаете средством заставить голод притупиться? Хотел бы я знать ваш секрет.
— А вот — в этом флакончике! Этот эликсир подарил мне один из индийских ученых, когда я путешествовал по Тибету.
— Ну, мне-то ваше снадобье не нужно, — насмешливо сказал трактирщик. — Вы понимаете, повар, которому постоянно надо торчать у плиты, никогда не бывает сильно голоден… Но тем не менее это было бы превосходно для бедняков, шляющихся по дорогам, выпрашивая хлеба. О, они частенько стучатся к нам в гостиницу, ну а так как мы с женой — не бессердечные люди, то и не можем не накормить их, хотя и знаем, что никогда не увидим от них ни гроша. В самом деле, ваш эликсир мог бы пригодиться мне Нельзя ли купить его где-нибудь?
— Я только один знаю его рецепт, а этот флакон последний, оставшийся у меня.
— Это досадно, — сказал заинтригованный трактирщик. — А каково на вкус это снадобье? Наверное, отвратительно?
— Ничего подобного! Да вот понюхайте сами!
С этими словами Монтрон быстро откупорил флакон и приставил его к ноздрям любопытного трактирщика.
Летучие испарения жидкости быстро сделали свое дело. Трактирщик вдруг закачался, выпустил из рук шумовку, его руки схватились за воздух, и если бы Анрио и Монтрон не успели подхватить его на руки, он рухнул бы на пол, не будучи в силах преодолеть внезапную сонливость.
Тогда «гуртовщики» отнесли его в ближайший к кухне чулан, где и положили на кучу рогож.
— Ну, что скажете? — с торжествующим видом произнес ботаник. — Что лучше: мой маленький скромный флакончик или ваши шумные пистолеты? Скоро, действенно и чисто!
— Дивное средство, дорогой Монтрон! Ну а теперь нам остается заняться работником. Впрочем, с этим-то не будет никакой возни. Достаточно будет небольшой веревки…
— И хорошенького кляпа в рот! — весело договорил Монтрон.
Они направились к конюшне, где сразу напали на работника, нагнувшегося к яслям, чтобы подсыпать овса в ожидании лошадей эрцгерцогини, и связали его.
Бедняга принялся умолять, чтобы его не убивали.
— Не делайте мне зла, господа жулики, — кричал он. — Я все скажу, скажу, куда хозяин прячет деньги, где хозяйка держит свои драгоценности.
— Молчи, — сказал Анрио, — мы не разбойники. Держи, вот тебе талер, чтобы доказать тебе, что мы не покушаемся ни на драгоценности твоей хозяйки, ни на золото твоего хозяина. Веди себя смирно, не шуми, и мы не сделаем тебе ничего дурного!
Ввиду того, что работник продолжал стонать, Монтрон засунул ему в рот платок, в который завернул грецкий орех, найденный на кухне, после чего сказал ему, что придет освободить его приблизительно через час.
Затем, достав пистолет, Анрио сказал ему:
— А теперь — марш! Спускайся!
Он поднял крышку погреба, заставил работника сойти вниз, после чего, опустив тяжелую дубовую крышку, он завалил ее тяжелыми кусками дерева и железа.
— Теперь скорее переоденемся, — сказал Анрио, — наверное, у трактирщика найдется перемена платья.
Они принялись рыться в кухне. Вскоре Анрио удалось найти жилетку, которая могла сойти за костюм конюха, а Монтрон торопливо надел белый халат и полотняный колпак, составляющие во всем мире поварской мундир.
Переодевшись таким образом, они взглянули друг на друга и покатились со смеху.
Вдруг на лестнице послышался шум быстрых шагов; они не без тревоги насторожились. Неужели их застали врасплох?
Анрио поднес руку к поясу, нащупывая под жилеткой конюха свои пистолеты.
— А, дело сделано? — крикнул им хорошо знакомый голос. — Как раз вовремя!
Появился ла Виолетт.
— Ну, теперь каждый на свое место! — весело сказал де Монтрон, поворачиваясь и осматривая себя со всех сторон.
— Я бегу в конюшни! — сказал Анрио.
— А я остаюсь при плите!
— Что касается меня, — подхватил ла Виолетт, — то я останусь у порога, притворяясь содержателем почты, и рассыплюсь в приветствиях по адресу императ… Чтобы меня черт побрал! Как бы мне не ляпнуть ей такого словца! Я рассыплюсь в приветствиях по адресу ее императорского величества эрцгерцогини. О, как трудно мне будет называть таким образом супругу нашего императора!
— А что наша трактирщица? — осведомился Анрио.
— Она заперта в верхней комнате. Ваш покорный слуга обещал ей тысячу поцелуев, если она найдет силы продержать язык в неподвижности в течение часа.
— Ну, а если она все-таки закричит, позовет на помощь?
— В таком случае ей обещан самый искусный пируэт моей палки, какой только когда-либо производился мною, — с невозмутимым хладнокровием ответил ла Виолетт. — Но я совершенно спокоен, — продолжал он с уверенной улыбкой. — Екатерина обожает меня и потому будет молчать. Я придумал целую историю. Екатерина уверена, что мы состоим на службе у австрийского императора и что наша цель — помешать эрцгерцогине Марии Луизе вступить в переговоры с заговорщиками-французами.
— Вот это прелестно!
— Екатерина не только не выдаст нас, но, быть может, даже поможет.
— Ла Виолетт, вы — великий человек! — с энтузиазмом сказал Монтрон.
— Во всяком случае — довольно большой! — улыбнулся тамбурмажор, вытягиваясь во весь свой гигантский рост.
— Тише! — сказал вдруг Анрио, настораживаясь. — Вы слышите? Лошадиный топот!
— Это они! Это эрцгерцогиня! Скорей на места и постараемся разыграть как можно лучше наши роли! — крикнул ла Виолетт, а затем поспешил встать на заранее выбранное место у порога гостиницы, держа колпак в руках, наклонив свое гигантское туловище и будучи наготове приветствовать подобающим образом ту, которую он не привык называть эрцгерцогиней.
Наконец перед порогом гостиницы с грохотом и звоном остановилась карета и оттуда вышли два офицера и две дамы свиты Марии Луизы. Вскоре там же остановилось ландо. Оба офицера бросились к дверцам и, почтительно распахнув их, замерли в ожидании.
Из ландо показалась Мария Луиза, которая рассеянно и небрежно ступила на землю.
За ней показалась гувернантка, ведшая ребенка — того самого, которого звали прежде Римским королем, а теперь, при венском дворе, Францем. Позднее ему так и пришлось умереть в мундире австрийского офицера, сохраняя этот псевдоним, оставаясь симпатичным, несмотря па все свои странности. Теперь глубокая грусть сквозила в его гордом, нежном взоре. Мать не любила его, и материнские ласки были неведомы ему, а кругом него виднелись только равнодушные, презрительные, ироничные физиономии.
Что же! Ведь он был сыном побежденного! Ему разрешали жить, так как в его жилах текла кровь Габсбургов и его мать была дочерью немецких императоров, но в малейших деталях этикета ему давали чувствовать, что он — отродие проходимца-солдата, человека, враждебного законным королям, основателя плебейской аристократии, дерзкого раздатчика корон и тронов своим родственникам, завоевателя, пронесшего трехцветное революционное знамя через все страны Европы!
Юный принц уже начинал чувствовать свою изолированность в императорском дворце Шепбрунна. У него не было маленьких товарищей по играм, с которыми он мог бы забавляться, кричать, смеяться; его любимую гувернантку, де Монтескью, прогнали, а самого отдали на руки воспитателям и лакеям-немцам; он не слыхал вокруг себя ни единого французского слова, но все-таки из упрямства старался читать французские книги, говоря, что не хочет забывать язык своего отца.
Ах, его отец! О нем Наполеон-Франц думал каждый день. Не проходило вечера, чтобы в тиши своей постельки он не думал о нем или не проливал о нем слез.
У него была книжка с картинками, которая представляла для него самую большую ценность на свете и которую он читал и перечитывал без конца. Это была французская книга, довольно обыкновенная, очень скучная, но каждая строка ее заставляла сердце мальчика бурно биться. Там описывались сражения, победы, великие дела, совершенные его отцом. Рисунки изображали войска, взятые города, завоеванные знамена, отбитые пушки и дивные столицы; на главных улицах последних были выстроены ряды гренадер и стрелков, между которыми, предводительствуемый гигантом тамбурмажором, торжественно помахивавшим своей палкой, ехал конвой, а потом — небольшого роста человек, одетый в серый редингот и маленькую треуголку, — император Наполеон, его отец!
За несколько дней до этого уволили де Меневаля, секретаря Марии Луизы, который выражал чересчур много уважения и восхищения Наполеону, так что Нейпперг не мог долго терпеть его близость около Марии Луизы. Прощаясь с сыном Наполеона и поцеловав его крохотную ручку, милостиво протянутую ему, Меневаль тихонько спросил ребенка:
— Я возвращаюсь в Париж и по прибытии буду у императора. Не желаете ли, чтобы я передал ему что-либо от вас?
Видимо взволнованный, ребенок задумался на минуту и потом сказал:
— Скажите папе, что я очень люблю его. Скажите ему, что я так хотел бы снова повидать его… поцеловать его, как в то время, когда я еще был королем. Но ведь мой папа — все еще император, не правда ли? Так почему же он не распорядится, чтобы меня увезли к нему в Париж?
Меневаль ушел со слезами на глазах, не зная, что ответить ребенку, которого удивляло, что его так долго держат вдали от отца, в ненавистной Вене.
Несмотря на свой юный возраст, сын Наполеона понимал ту враждебность, с которой к нему относились при венском дворе. Он знал, что его отец был могущественным, славным государем и что все это позолоченное лакейство, которое окружало ныне принца Пармского, когда-то дрожало и бежало на полях сражения перед ним. Поэтому он был горд именем Наполеона, которое ему запрещали носить.
Когда было кому рассказать о сражениях императора, он никогда не уставал слушать и постоянно требовал все новых и новых деталей.
С постоянным благоговением к памяти своего отца и энтузиазмом к его славе, к его имени, среди ледяного молчания венского двора сын Наполеона сохранил инстинктивную любовь к Франции. Не раз в час вечерней молитвы, когда его священник возглашал обычную формулу: «Храни, Боже, Австрию!», де Монтескью, склонившись к своему питомцу, слышала, как он в виде вызова или как бы в виде заклинания против этого возгласа, бывшего для него богохульством, шептал:
— Храни, Боже, Францию!
Таков был вышедший вслед за Марией Луизой из дорожной кареты царственный ребенок, уже мучительно пораженный судьбой, но еще крепкий, цветущий, здоровый, потому что яд, который (это весьма вероятно) избавил Европу от призрака — наследника Наполеона, — не разливался еще по его жилам.
Малолетний принц, к которому во время пути родная мать не обратилась ни с малейшей лаской, ни с единым словом, должно быть, под влиянием тревоги из-за долгого отсутствия Нейпперга, мешкавшего окончательно разбить короля Мюрата и вернуться утешать ее в Вену, — хранил грустный, немного недовольный вид. Но вдруг его лицо просияло.
Мальчик заметил ла Виолетта, стоявшего у входа в гостиницу навытяжку, по-военному. Тамбурмажор совершенно машинально принял эту позу при виде приближавшегося к нему сына императора.
— О, какой славный солдат! — воскликнул ребенок. — Вы, конечно, состояли на военной службе?
— Точно так, ваше вели… ваше высочество… я был солдатом, это верно. Извольте, однако, войти в дом, ваше высочество! Ужин подан! — И отставной тамбурмажор в сильном смущении поспешил впереди Римского короля в столовую, где изрядно проголодавшаяся Мария Луиза уже сидела за столом.
Бравый ла Виолетт едва не выдал себя и закусил губу с Досады, соображая, что малейшая оплошность могла испортить все дело и расстроить ловко задуманный план похищения, уже близкий к удаче. Он должен был осуществиться через несколько минут, если не помешает какая-нибудь непредвиденная случайность или катастрофа.
Римский король сел возле матери; но она не обращала на него никакого внимания, будучи вся поглощена кушаньями, приготовленными и поданными превосходным поваром Монтроном.
XI
Остановка у гостиницы «Золотая цапля» была назначена кратковременная, достаточная только для перемены лошадей. Однако вечно голодная Мария Луиза немного замешкалась за столом, удовлетворяя свой большой аппетит.
Приготовленный для нее ужин состоял из холодного мяса, большого блюда дичи, под видом «сальми», где жареные куропатки, фазаны, бекасы перемешивались с ломтиками филе дикой козы и зайца; после того были поданы жареная индейка с салатом из грушевого варенья и пирожное.
Мария Луиза ела все с большим аппетитом и не обращала внимания на сына, который жевал грудку цыпленка, молчаливый, задумчивый, поглядывая украдкой на ла Виолетта, стоявшего по-прежнему навытяжку у входа в столовую. Старый тамбурмажор следил за ужином эрцгерцогини, время от времени бросая зоркий хозяйский взгляд на закладку обоих экипажей. Гигантская фигура переодетого ворчуна забавляла царственного ребенка.
Офицеры поднялись из-за стола, согласно предписанию, в час, назначенный для отъезда, лишь наскоро утолив голод. Они ожидали, стоя у порога, рядом с ла Виолеттом, когда насытится эрцгерцогиня.
Один из них заметил своему товарищу, указывая на вытянувшегося в струнку и бесстрастного тамбурмажора, что ему стоит только поджать одну ногу, чтобы превратиться в живую вывеску своего постоялого двора «Золотая цапля». Оба офицера засмеялись и повернулись на одну минуту спиной к каретам во время этого краткого обмена глупыми шутками по адресу ла Виолетта.
Однако мнимый содержатель почты оставил на это время свою позу меланхолической птицы; приблизившись к карете эрцгерцогини, он нагнулся и как будто тщательно проверил со своей стороны прочность постромков. Его конюх по другую сторону производил такую же проверку. Сразу же за гостиницей «Золотая цапля» начинался длинный и опасный спуск, так что эта предосторожность была не лишней и хозяину не мешало убедиться заблаговременно в прочности сбруи.
Мария Луиза поднялась наконец из-за стола и подала знак гувернантке, сопровождавшей ее сына, вести мальчика в экипаж.
В одну секунду с чисто военной точностью все было готово к отъезду.
Солдаты, помещавшиеся по одному возле кучера на козлах каждого экипажа, вспрыгнули на свои высокие сиденья. Оба офицера стояли справа и слева у отворенной дверцы кареты в ожидании эрцгерцогини. Римский король занял со своей гувернанткой переднее сиденье, а Мария Луиза поместилась на заднем. Офицеры захлопнули дверцу, отдали честь и сели в свой экипаж, где уже находились две служанки эрцгерцогини.
Был подан сигнал к отъезду, и первый экипаж — с офицерами — тотчас помчался во всю прыть.
Дорога поворачивала в сторону почти за углом гостиницы «Золотая цапля». Коляска офицеров уже скрылась из вида, когда кучер эрцгерцогини только еще готовился пустить вслед за ней и своих лошадей.
Между тем ла Виолетт, Анрио и Монтрон, переодетый поваром, окружили экипаж. Отставной тамбурмажор и генерал наблюдали за кучером и солдатом, сидевшим на козлах возле него; Монтрон стоял у дверцы Марии Луизы.
— Погодите! — сказал он кучеру и, сделав шаг вперед, с любезной миной подал букет эрцгерцогине.
Приняв цветы, Мария Луиза поблагодарила и спросила:
— Почему же мы не двигаемся с места?
— Трогай! — приказал кучеру Монтрон.
Тот, размахнувшись, хлестнул сразу по всем лошадям. Ретивые кони тотчас же пустились галопом и завернули за угол гостиницы вслед за ускакавшим экипажем, но карета не тронулась с места.
Оторопевший, с вытянутой рукою, хлопая бичом в воздухе, возница провожал взором своих рысаков. Он хотел спрыгнуть с козел и бежать вдогонку за умчавшимися конями, которые оторвались от экипажа точно по мановению волшебной палочки. Однако ему не дали опомниться: сильная рука ла Виолетта схватила его, сдернула с козел, и кучер, совершенно ошеломленный, очутился на земле, не будучи в состоянии дать себе отчет в невероятных происшествиях, случившихся с ним.
Анрио, со своей стороны, стащил вниз растерявшегося солдата и, приставив ему к груди пистолет, вынудил его пятиться назад до входа в конюшню. Тут, отняв у него ружье, Анрио запер беднягу и поспешил на выручку ла Виолетту, боровшемуся с возницей.
Тот отбивался, вопил: «Лошади, мои лошади», — и хотел убежать. Однако ла Виолетт и Анрио с помощью болтавшихся постромков, перерезанных ими в ту минуту, когда провожатые офицеры пересмеивались между собою и повернулись спиной, стоя на пороге гостиницы, связали сопротивлявшегося кучера и втолкнули его в конюшню; солдат был проворно связан двумя веревками и посажен возле него на солому, служившую подстилкой лошадям.
Анрио предупредил этих людей, что им не сделают никакого вреда, если они будут сидеть смирно, но при малейшей попытке к бегству прострелят им головы.
— Успокойтесь, однако, — сказал он своим пленникам, — эрцгерцогиня, как и вы сами, не подвергается никакой опасности. Завтра вы узнаете, кто мы такие и чьим именем действуем здесь. Вероятно, офицеры заметят под горою, что за ними никто не последовал, и вернутся обратно на поиски эрцгерцогини, вообразив, что случилось несчастье. Они будут здесь приблизительно через час и освободят вас. Имейте же немного терпения.
— Иначе не видать вам больше Вены! — вмешался ла Виолетт. — Живее, генерал, время не терпит! — прибавил он, обращаясь к Анрио, который прислушивался к разговору на дороге. — Кажется, эрцгерцогиня зовет нас, — сказал он.
— Хорошо! Будем же действовать в свою очередь!
Удивленная неподвижностью экипажа и смутно заметив исчезновение с козел кучера и солдата, Мария Луиза высунулась из окна кареты и спросила:
— Что это значит? Почему мы не едем?
Стояла ночь, темная, мглистая. Единственный огонек светился в конюшне, дверь которой снова отворилась. В поднимавшемся из долины тумане нельзя было ничего различить.
Монтрон приблизился, услыхав, что эрцгерцогиня осведомлялась о причине остановки, и спокойно ответил ей:
— Это пустяки. Не тревожьтесь, ваше высочество! Маленькая неудача с упряжкой. Сейчас произведут починку. Это дело одной минуты.
— Какая скука! В котором же часу доберемся мы до Карлсбада?
— Задержка выйдет незначительная. Вооружитесь терпением, ваше высочество. Не угодно ли будет вам выйти, пока починят сбрую?
— Не стоит! — сухо возразила Мария Луиза и снова забилась в угол кареты, видимо недовольная.
Дверь конюшни опять отворилась, пропустив полосу света. Лошади были приведены и поставлены в оглобли.
— Скоро ли мы тронемся? — крикнула Мария Луиза сердитым тоном.
Ответом ей послужило хлопанье бича.
Лошади побежали. Марии Луизе показалось, что экипаж повернул назад, однако она не придала этому значения.
Лошади быстро неслись, но через час одна из них упала в изнеможении, обливаясь потом.
Новая остановка вывела из себя эрцгерцогиню, и она, высунувшись из дверцы экипажа, крикнула:
— Что случилось? Мы, кажется, никогда не приедем! Где мы теперь?
Кругом был лес.
Мария Луиза поняла, что случилась беда.
— Я хочу выйти! Мне страшно! — крикнула она. — Отворите, отворите скорей!
Так как ее голоса, по-видимому, не расслышали, а упавшая лошадь несмотря на все усилия возницы не поднималась, то эрцгерцогиня приказала гувернантке отпереть дверцу. Женщина исполнила приказание, и Мария Луиза спрыгнула на землю.
Она остолбенела, увидав при свете фонарей двоих мужчин, закутанных в длинные плащи; они суетились около упавшей лошади, стараясь поставить ее на ноги. Мария Луиза не узнавала кучера, ехавшего с нею. Солдата, которому следовало сидеть на козлах, заменял человек громадного роста. Она слегка вскрикнула от испуга и спросила:
— Кто вы такие? Вы не из моей свиты. Что значит это приключение? Отвечайте!
— Не бойтесь, ваше высочество, — сказал один из мужчин, поднимавших лошадь, — вы среди верных слуг.
— Но вы не из числа людей, сопровождавших меня из Вены. Я не знаю вас. Уж не злодеи ли вы? Я приказываю вам немедленно присоединиться к экипажу моих офицеров!
— Ваше величество, — вмешался ла Виолетт, — вы должны извинить нам эту остановку. Лошади выбились из сил.
— Мы вынуждены просить вас, ваше величество, — в свою очередь сказал Анрио, — дойти с нами пешком до ближайшей деревни, где нам дадут лошадей.
— Ваше величество, я думаю, вы извините нас за то, что мы везем по таким плохим дорогам. Ведь эта дорога вашего августейшего отца, — заметил Монтрон, подходя и кланяясь с изяществом дипломата старого режима.
Мария Луиза не знала, что подумать; она все еще верила в простую дорожную случайность.
Лес, в котором они очутились, скверная дорога, темная ночь, — все производило впечатление на высокую путешественницу, однако не пугало ее; она лишь не отдавала себе ясного отчета в перемене, происшедшей с персоналом, обязанным сопровождать ее до Карлсбада. Кто такие были эти трое людей, одетые так просто? Они не походили ни на убийц, ни на грабителей, однако их вид, скорее странный, чем грозный, мог внушать в этом уединенном месте только страх.
Мария Луиза нисколько не была трусливой, изнеженной самкой, которая трепещет от малейшего пустяка; она была гораздо энергичнее, чем думали и как ее рисовали, приписывая ей, судя по ее виду полной блондинки и влюбленной кошечки, чисто воображаемую слабость. Сопротивление, которое оказала она желаниям Наполеона, умолявшего ее приехать к нему на остров Эльба, стойкость, с какой, несмотря на множество преград, способных остановить не одну женщину, Мария Луиза осуществила свой план поселиться с Нейппергом в Пармском герцогстве, составлявшем единственный предмет ее честолюбивых желаний, доказывают с избытком, что эта бывшая императрица проявила себя, особенно после падения супруга, личностью настойчивой и деятельной.
Вдобавок она была эрцгерцогиней и дочерью императора и чувствовала себя под защитой своей короны, своих предков, своей крови и своего сана.
Мария Луиза, совершенно успокоившись и овладев собой при этих мыслях, спрашивала себя, чего хотят от нее незнакомцы, с которыми она очутилась в лесу, разлученная со своими провожатыми. Она нисколько не боялась за свою жизнь, но хотела разгадать эту загадку, а потому, выйдя сама из кареты, приказала гувернантке-немке выйти с маленьким Римским королем.
Поставленный наземь ребенок начал испуганно озираться. После ужина он заснул, убаюканный качкой экипажа, и это внезапное пробуждение не понравилось ему, и он обратился к матери.
В приливе нежности та обвила его руками, обычно скупыми на материнскую ласку, но этот порыв любви к сыну был внушен ей себялюбием. Мария Луиза сознавала, что если таинственные люди, во власти которых она очутилась на время, питали злые умыслы на ее счет, то присутствие ребенка обезоружит их.
Ободрившись от этой мысли, она посмотрела на троих незнакомцев, выстроившихся перед нею в ряд, подобно солдатам на параде, и повторила свой вопрос:
— Кто вы такие? Что вам от меня нужно? Вы именуете меня титулом, который не принадлежит мне более. Я — австрийская эрцгерцогиня!
— Для нас, ваше величество, вы по-прежнему остаетесь императрицей французов и не можете быть никем иным! — возразил Монтрон с грациозным поклоном.
Тут Римский король, с удивлением смотревший на троих мужчин, стоявших на дороге и ярко освещенных светом фонарей, дернул мать за юбку и сказал:
— Ведь это тот самый высокий солдат, которого мы видели сейчас в гостинице, где ужинали.
Мария Луиза внимательно вгляделась в ла Виолетта, указанного ей сыном, и подтвердила:
— В самом деле! Я как будто узнаю этого человека. Я видела его в гостинице, где мы останавливались. Ведь вы, кажется, содержатель почты? — обратилась она с вопросом к ла Виолетту.
Тут заговорил Анрио, заметив смущение отставного тамбурмажора, не решавшегося дать откровенный ответ:
— Ваше величество, вы не должны оставаться долее в неведении о том, кто мы такие. Но так как вы можете усомниться в моей правдивости и не поверить мне на слово, то мы предъявим вам знак, который убедит вас.
— Что значит этот маскарад, господа? Находимся ли мы на пути в Карлсбад?
— Мы на пути во Францию, — ответил Монтрон, — и если будет угодно Богу и вам, ваше величество, то с помощью лошадей, ожидающих нас в соседней деревне, завтра мы переправимся через границу.
— Я хочу ехать в Карлсбад и не желаю возвращаться во Францию! — воскликнула тогда испуганная Мария Луиза и сделала шаг к троим людям, увлекая за собой сына, уцепившегося за ее платье. — Если вы, как можно судить по вашей наружности, не злодеи, не разбойники, — произнесла она слегка взволнованным голосом, — то немедленно доставьте меня на уцелевшей лошади на карлсбадскую дорогу. Я так хочу! Я приказываю вам это!
— Мы в отчаянии, что не можем исполнить первое желание, выраженное вами, ваше величество, ибо мы должны повиноваться высочайшим повелениям императора!
— Моего отца? Это не может быть…
— Мы — не злодеи, ваше величество, мы — солдаты, а вот наше знамя! — воскликнул Анрио и, обернувшись к товарищам, он скомандовал: — Солдаты императора Наполеона, под знамя!
Тут, проворно распахнув плащи, трое мужчин представили удивленной Марии Луизе три цвета революции и империи, опоясывавшие их стан.
Они стали в ряд в заранее условленном порядке: синяя опояска Анрио, белая — Монтрона и красная — ла Виолетта образовали священные цвета Франции.
Затем трое французов развязали символические пояса, а ла Виолетт подал свою дубинку Монтрону; последний ловко сколол булавками три лоскута материи и прикрепил их к трости тамбурмажора как к древку.
Ла Виолетт торжественно распустил знамя, а генерал Анрио, обнажив голову, сказал ошеломленной Марии Луизе, сердце которой закипело гневом:
— Вы узнаете, ваше величество, эти три цвета? Они ваши собственные в силу вашего брака с императором Наполеоном. От имени императора, пославшего нас сюда, мы почтительно спрашиваем вас, ваше величество, согласны ли вы, уступая его желаниям, последовать за нами! Где знамя, там долг и честь!
— А, так это Наполеон дал вам милое поручение остановить в лесу ночью женщину с ребенком! Вот оно что! Так ваш Наполеон превратился теперь в атамана разбойников?
Эти насмешливые и обидные слова оскорбили троих товарищей. Они давали им мало надежды на успех их предприятия.
— Вы не узнаете меня, ваше величество? — продолжал Анрио. — Ведь это я имел честь представить вам на частной аудиенции письмо его величества императора.
— Так это вы переоделись аббатом? Вы были арестованы, заключены в тюрьму, бежали оттуда, а теперь преобразились в контрабандиста, браконьера или невесть что такое! Неужели вы и тот, кто послал вас, воображаете, что подобные приемы, подобные комедии способны оказать какое-нибудь влияние на австрийскую эрцгерцогиню? Разочаруйтесь, господин комедиант!
— Я не комедиант, ваше величество, — серьезным и печальным тоном возразил Анрио. — Я генерал, состоящий на службе императора, один из его адъютантов: меня зовут Анрио.
— Генерал Анрио! Вы? — с каким-то скорбным любопытством воскликнула Мария Луиза.
Ей были известны кровные узы, порванные молодым офицером, захотевшим остаться французом, и соединявшие приемыша супруги маршала Лефевра с графом Нейппергом, и она не могла удержаться, чтобы с большим вниманием и интересом не остановить на нем взгляд. Перед нею были не вульгарные искатели приключений; она почти могла вступить с ними в объяснения. Поэтому, подумав об этом, Мария Луиза, к которой вернулось хладнокровие, продолжала:
— Вы взяли на себя, генерал, миссию, совершенно не согласную с воинской честью. Допустим, что Наполеон был достаточно сумасброден, чтобы придумать настолько же нелепую, насколько невероятную затею. Но как хватило у вас отваги взяться за подобное предприятие? Ах, вот в чем дело! Вы думали, что я соглашусь на ваши предложения. Что вам достаточно показать мне знамя, переставшее быть моим, чтобы я тотчас выразила согласие следовать за вами? Должно быть, вы считали меня крайне безрассудной женщиной, одержимой страстью к приключениям!
— Мы полагали, что нам достаточно заговорить о вашем супруге, показать вам цвета Франции и предложить средства переправиться через границу, чтобы вы с восторгом воспользовались случаем вернуть себе вместе со свободой ваше место на первом троне Европы.
— Значит, вы считаете меня пленницей в Вене? Ну, знаете, Наполеону давно следовало выкинуть эти идеи из головы. Он должен знать, есть ли у меня желание приехать к нему в Париж.
— Император любит вас, — возразил на это Монтрон. — Когда он снова вступил на свой престол среди ликования исступленной Франции, его первой мыслью было увидеть возле себя вас, разделяющей его славу, его могущество.
— Я не сожалею ни о лучезарном блеске этой короны, которую он звал меня разделить, ни о сиянии этого могущества, клонящегося, однако, к закату. Я хочу жить на свободе и в спокойствии. У меня нет больше ничего общего с Францией, мой супруг знает это. Ему следовало бы понять, что было бы достойно его не преследовать меня предложениями любви и власти, утратившими всякую привлекательность в моих глазах. Передайте, господа, тому, кто послал вас, что мое решение принято и ничто не заставит меня изменить его. Я никогда не вернусь в Париж. Мои религиозные чувства не позволят мне согласиться на развод, осуждаемый церковью; но мы — Наполеон и я — остаемся разлученными навсегда!
— Итак, — с некоторым раздражением спросил Анрио, — вы отказываетесь следовать за мной во Францию?
— Отказываюсь ли я! Вот еще! Неужели вы вообразили, что я соглашусь разыграть комедию похищения? Это было недурно придумано, и фарс начался довольно удачно, но берегитесь, чтобы он не завершился для вас плачевным финалом!
— Соблаговолите, ваше величество, не прибегать к угрозам! — мягко и вежливо сказал Монтрон. — Умоляю вас принять в соображение, что вы находитесь на пустынной дороге в обществе трех энергичных мужчин, твердо решивших исполнить приказания, полученные ими от императора Наполеона!
— Мерзавцы! Значит, вы готовы прибегнуть к насилию?!
— О, в весьма почтительной форме! Но мы непоколебимо решили волей или неволей отвезти вас, ваше величество, к французской границе. Время бежит, и нам пора позаботиться о собственной безопасности. Пока мы рассуждали тут между собой, нашему другу ла Виолетту удалось кое-как поставить на ноги упавшую лошадь. Мы можем теперь добраться до деревни. Там вы найдете мужское платье, которое позволит вам путешествовать днем, не будучи узнанной.
— Но я не последую за вами! — энергично возразила Мария Луиза.
— Ну в таком случае, к нашему величайшему сожалению, мы будем вынуждены отнести вас, ваше величество, на руках в?карету и запереть вас в ней до прибытия к французской границе, — сказал Анрио. — Покончим с этим! Ла Виолетт, если ее величество будет мешкать долее, ты поможешь мне перенести ее.
Ла Виолетт выступил вперед в сильном смущении и, нагнувшись к уху Марии Луизы, взволнованно шепнул ей:
— Дозвольте вас увезти! Это доставит такое удовольствие нашему императору!
— Запрещаю вам приближаться ко мне! — крикнула, выпрямляясь, Мария Луиза и снова прижала к себе Римского короля.
Положение становилось затруднительным. Троим друзьям было не по душе увозить императрицу насильно. Они продолжали надеяться, что, покорившись обстоятельствам, Мария Луиза, которая, живя в Веке, пожалуй, не помышляла о возвращении во Францию, позволит увезти себя туда при данных условиях, ободряемая, увлекаемая, почти убежденная посланцами своего мужа.
Монтрон хотел сделать последнюю попытку и попытался с дипломатической ловкостью представить крайний аргумент.
— Допустим, ваше величество, — начал он, — что ваши чувства, ваши вкусы, стремления к тишине и спокойствию заставляют вас бежать от пышности трона, которой вы предпочитаете ваше мирное уединение в Австрии. Но при всем том не обязаны ли вы вспомнить, что вы — мать?
— Вот именно потому, что я помню это, я и не желаю возвращаться во Францию.
— Но вы жертвуете правами вашего сына. Оставаясь при вас, Римский король отказывается от права стать наследником престола своего отца. Вы хотите сделать из него мелкого немецкого принца, тогда как он мог бы сделаться Наполеоном Вторым!
Мария Луиза, покачав головой, возразила:
— Нет, я не отнимаю у своего сына никакого достояния. Поверьте мне, это его наследие весьма сомнительно, а его корона химерична. Дни Наполеона сочтены! Европа собирается покончить с ним. Оставаясь при мне, в Вене, мой сын будет в безопасности. Как знать, на что заставили бы решиться европейских монархов их опасения? Кто может предвидеть, какого рода жребий приготовят они сыну, когда отец очутится в их власти?
— Не опасайтесь, ваше величество, за будущее! Император в прежней силе; он располагает превосходной армией, скоро одержит великую победу и снова приобретет господство над Европой.
— Пустые бредни! Если случай сделал его победителем на этих днях, то он должен оставаться победоносным и завтра, и всегда?… Европа дала клятву избавиться от него!
— Ну, эта опрометчивая Европа поклялась в том раньше Маренто, раньше Аустерлица, Иены, Ваграма! — с гордостью возразил Анрио. — Однако мы не можем пуститься в прения, давая тем самым вашим офицерам возможность присоединиться к нам. Простите, ваше величество, я принужден отвести вас силой к экипажу. Ко мне, ла Виолетт!
Однако вместо того, чтобы выступить вперед, старый ворчун отошел на несколько шагов в сторону. Он насторожил слух, стараясь различить какой-то отдаленный шум.
— Что там такое? — спросил Анрио.
— Лошадиный топот. Скачет один человек, — объяснил ла Виолетт. — Он приближается и будет здесь через несколько минут. Он также свернул на эту дорогу.
— Верховой на пустынной дороге? В этот час? Странная штука! — промолвил Монтрон.
Трое мужчин встали посреди дороги. Всякое бегство было невозможно без риска поднять тревогу. А что, если этот одинокий всадник — разведчик более многочисленного отряда, пожалуй, запасного конвоя, посланного вслед эрцгерцогине?
Мария Луиза уселась на пень, бесстрашная, с презрительной миной, и казалась совершенно равнодушной к происшествию, которое так сильно смутило ее похитителей.
Римский король прижался к гувернантке и с любопытством смотрел на троих мужчин, заряжавших пистолеты и располагавшихся посреди дороги, точно готовясь к бою. Порой его взоры обращались к трехцветному знамени, которое смастерил на скорую руку ла Виолетт. Оно было прислонено к дереву и как будто представляло собою Францию в готовившейся борьбе за обладание императрицей.
Вскоре верховой, скакавший во всю прыть, достиг места, где стояла карета Марии Луизы.
— Стой! — крикнул Анрио.
— Фельдъегерь! — отозвался тот и хотел промчаться мимо.
— Остановитесь! — сказал Монтрон, схватив лошадь за узду. — Вам не сделают никакого зла!
— Разбойники! Я не дамся живым вам в руки! — воскликнул курьер и, выхватив пистолет из кобуры, направил его на ботаника, но вдруг покачнулся в седле и упал, выронив из рук оружие.
Очутившийся на земле верховой был схвачен Анрио и Монтроном, и они лишили его всякой возможности сопротивления. Впрочем, бедняга и без того был ошеломлен и не способен защищаться.
При его приближении ла Виолетт проворно оторвал три лоскута материи, обратившие его трость в знамя, и быстрым ударом дубинки по плечу курьера опрокинул его.
Мария Луиза вскрикнула при виде его падения с лошади.
— Не пугайтесь, ваше величество, — поспешил успокоить ее ла Виолетт, — ведь я ударил его не со всего маху. Он больше струсил, чем пострадал. Да говори же, трусливое животное! Скажи императрице, что ты не умер! Ты видишь, что напугал ее! — крикнул тамбурмажор, тормоша курьера.
Тот, открыв глаза, растерянно пробормотал:
— Какая императрица?
— Ну… эрцгерцогиня Мария Луиза. Посмотри, если ты ее знаешь. Она вот там…
Курьер повернул голову к Марии Луизе.
— Ах, ее высочество здесь! Тогда я спасен! Ведь я принял вас, господа, за разбойников на большой дороге. Простите, пожалуйста!.. Вот мое поручение и исполнено. Ведь я искал именно эрцгерцогиню! — И курьер молодецки вскочил на ноги, после чего, порывшись в своей сумке, вытащил оттуда запечатанный конверт и сказал с низким поклоном в сторону Марии Луизы: — Вот что было приказано мне передать вам, ваше высочество, в дороге, если я успею догнать вас, или в Карлсбаде, если бы вы опередили меня.
Удивленная Мария Луиза подалась вперед и сказала:
— Откуда это письмо?
— Из Вены. Из императорского кабинета.
— Не захворал ли мой отец?
— Никак нет, ваше высочество! Когда его величество собственноручно отдавал мне эту депешу, то находился в абсолютном здравии. Император изволил потирать руки н пожаловал мне — как будто на радостях — два золотых флорина, говоря, что и вы, ваше высочество, пожалуете мне столько же, когда прочтете мою депешу, до такой степени обрадует вас привезенная мною новость.
Мария Луиза сорвала с конверта печать и приблизилась к экипажу, чтобы при свете одного из каретных фонарей прочесть послание, таким странным образом доставленное ей.
Монтрон, видя, что ей трудно разобрать почерк своего отца, снял фонарь и держал его над ее головой.
Эрцгерцогиня дважды перечитала письмо, и ее лицо, невыразительное и обыкновенно безжизненное, оживилось довольно сильным волнением. Новость, очевидно, была важная.
Анрио и ла Виолетт, неподвижные, встревоженные, обменивались между собой взглядами и недоумевали, что могло заключаться в императорской депеше.
Монтрон, держа фонарь, старался в то же время читать через плечо эрцгерцогини, однако ему не удалось разобрать ничего, кроме одного непонятного слова: «Ватерлоо».
Вдруг Мария Луиза, подняв голову, сказала своим полительным тоном:
— Вы хотели насильно отвезти меня к императору, да?
Трое мужчин не отвечали ни слова. Они начинали догадываться о катастрофе.
— Так вот: ваша попытка была совершенно бесполезна… и крайне опасна вдобавок для моего сына, в судьбе которого вы, по-видимому, принимали участие. Эта депеша, посланная моим отцом, императором, сообщает мне о большом сражении, происшедшем в Бельгии восемнадцатого июня, в одной местности, называемой Ватерлоо. Французы были разбиты полковниками Веллингтоном и Блюхером. Их гвардия уничтожена, армия обращена в беспорядочное бегство. Наполеон, низвергнутый с престола, должен в данный момент спасаться бегством или находиться в плену. Вот какие новости привез мне курьер. Ну что же, и теперь вы хотите вернуть меня во Францию? Весьма вероятно, что союзные государи, овладев Парижем, не дадут вам награду, обещанной тем, кто послал вас сюда!
Трое мужчин казались уничтоженными.
Разбитая армия, истребленная императорская гвардия, сам император, спасающийся бегством или снова попавший в плен, — все это крушение гордого императорского здания представилось им, как трагическое видение на этой темной дороге, в глухом лесу Богемии.
Анрио, судорожно сжимая кулаки, пробормотал:
— Императора, наверно, предали!
Монтрон, жестикулируя фонарем в руке, произнес:
— Одно сражение не может быть до такой степени решающим. У императора еще остались ресурсы… дипломатия может поправить промахи полководцев.
А ла Виолетт со слезами на глазах проворчал:
— Император обращен в бегство! Император в плену! Возможно ли это?
Мария Луиза, лицо которой не обнаружило ни малейшей скорби при известии о несчастиях, постигших Францию и ее мужа, обернулась к троим удрученным людям, колебавшимся, не знавшим, на что решиться.
— Хотите прочесть письмо? — насмешливо спросила их она.
Тогда Монтрон, овладев собою, произнес:
— К сожалению, мы не сомневаемся в бедствиях, сообщенных вам этой депешей. Друзья императора в горе; вы видите нас убитыми этими несчастиями. О нашей миссии здесь не может быть и речи. Как вы сказали, в интересах его величества Римского короля необходимо, чтобы при данных трагических обстоятельствах он жил при вас, в Вене. Будущее покажет, суждено ли ему вечно оставаться только немецким принцем! В настоящее время мы позволяем вам продолжать путь. Этот курьер заменит вашего кучера и повезет вас до встречи с вашими провожатыми, которые разыскивают ваши следы. Прощайте! Желаю вам когда-нибудь осознать, что наша миссия была справедлива и что много катастроф было бы предотвращено, если бы вы сделали ее ненужной, вернувшись добровольно к вашему августейшему и несчастному супругу. Да хранит вас Небо, ваше величество, и да защитит Бог того, кому суждено со временем сделаться Наполеоном Вторым!
— Да здравствует Франция! — крикнул Анрио.
— Да здравствует император, несмотря ни на что! — проворчал ла Виолетт, ожесточенно размахивая своей тростью.
Римский король вырвался из рук гувернантки во время этой сцены, побежал к дереву, у подножия которого валялись священные реликвии — три лоскута материи, сорванные с древка ла Виолетта в момент стычки с курьером, схватил их, и, принеся их матери, спросил ла Виолетта:
— Вы отдадите мне это знамя моего папы?
— Отдам ли я тебе его! Ах, черт побери! — ответил тамбурмажор, позабыв всякое уважение. — Дорогое дитя, люби его хорошенько и защищай его со временем! Это — знамя твоего отечества, знамя твоего отца! — И, схватив маленького сына Наполеона, ла Виолетт расцеловал его.
Мальчик не испугался великана, кричавшего так славно: «Да здравствует император!»
Трое мужчин скрылись в лесу, спеша теперь добраться до деревни и добыть лошадей, которые довезли бы их, увы, без желанной добычи, до границы Франции.
Курьер припряг свою лошадь навынос и повез Марию Луизу. Они поднялись обратно в гору, к гостинице «Золотая цапля», где встревоженные офицеры нашли эрцгерцогиню. Дорогой она с радостью думала о том, что окончательно избавилась от людей, хотевших вернуть ее во Францию, и в то время как сын бережно прятал на детской груди трехцветное знамя, свое сокровище, она благословляла битву при Ватерлоо, навсегда избавившую ее от Наполеона.
XII
Поражение при Ватерлоо имело значение не столько боевое, сколько моральное и политическое.
Причины этого памятного разгрома были тщательно рассмотрены со всех сторон историками: Шарра, Тьером, Волобеллем, Кине, и тем не менее многое осталось неясным.
Упрямое решение маршала Груши держаться приказаний, полученных в момент битвы с де Линьи, и нежелание открыть огонь, затем вступление в линию его тридцатитысячного корпуса обеспечили победу англичан, и наполеоновская армия, усиленная и не ведавшая до сего поражений, была раздавлена Блюхером, ворвавшимся после того, как Веллингтон смял передние ряды. Вот первая причина поражения. К этому еще следует прибавить слишком позднее время, когда Наполеон открыл огонь. Генерала Друо обвиняют в том, что он дал Наполеону пагубный совет подождать до полудня, чтобы дать местности немного подсохнуть, так как, по его мнению, артиллерия рисковала не прибыть вовремя из-за размытых дорог. Сначала было решено начать сражение в восемь часов утра. Если бы последовали этому плану, Веллингтон был бы разбит до прихода пруссаков, которые, в свою очередь, были бы уничтожены соединенными силами Наполеона.
Необходимо также принять во внимание неудержимую стремительность Нея, в своих геройских атаках увлекшего всю свою кавалерию. Несмотря на героизм храбрейшего из храбрых, было очевидно, что он сильно ухудшил положение дел, со всеми резервами обрушившись на позиции англичан.
Нравственное и физическое состояние Наполеона в момент этой последней битвы точно так же оказали немалое влияние на фатальный исход ее…
Наполеон тяжко страдал в этот день мучительным приступом геморроя; его сильно лихорадило, и это парализовало его энергию. В то же время уверенность в том, что жена покинула его, что ему никогда не видать больше сына — так как письмо от Монтрона, полученное из Вены, не оставляло на этот счет никаких иллюзий и он совсем не рассчитывал на успех похищения своего ребенка посланным вместе с Анрио и ла Виолеттом, окончательно сломала его.
И все же его нельзя упрекнуть ни в одной стратегической ошибке. Численное распределение армий при Ватерлоо никогда не представляло своим читателям действительных цифр.
18 июня 1815 года Франция могла выставить только сто двадцать тысяч человек против двухсоттысячной армии союзников, находившихся под командой генералов, которые успели уже выучиться воевать, так как неоднократно были разбиты Наполеоном.
План Наполеона — броситься на левый фланг англичан, овладеть дорогой на Брюссель и изолировать пруссаков — был вполне достоин лучших дней расцвета его гения. Он применил здесь тактику своих итальянских сражений: чтобы уравновесить численное превосходство неприятеля и его более выгодное положение, он бросился сначала на одну часть и, уничтожив ее, напал на другую, чтобы покончить с нею.
Но второстепенные факты помешали осуществлению этого плана. Виктор Гюго при помощи своего дара провидения понял их значение и поставил их на первое место. Эти препятствия состояли в следующем: бесполезная потеря огромного количества людей перед фермой Гугомана, которую в четверть часа могли сровнять с землей при помощи орудийного огня, и затем невозможная дорога из Огена, в которой завязла большая часть кавалерии Эрлона.
Но те, которые писали историю кампании 1815 года под влиянием ненависти к империи и к Наполеону, умолчали о самом главном, что битва при Ватерлоо вовсе не была непоправимым несчастьем. Наполеон потерпел главное поражение не на полях Ватерлоо, а в Париже.
«Ватерлоо — крупное сражение, выигранное второстепенным полководцем», — писал автор «Несчастных», и эти слова ставят на должное место счастливчика Веллингтона. В материальном смысле ничто окончательно не было потеряно.
Рапп, запершись в Страсбурге, и Лекурб в Бельфорэ охраняли западную границу и препятствовали вторжению неприятеля на дорогу в Лотарингию. Маршал Сюше с восемнадцатью тысячами человек держал в страхе шестидесятитысячную армию австрийцев на границе Савойи.
Юра, Альпы, Лион, столь преданные Наполеону, находились в безопасности. Австрийский генерал после известия о поражении при Ватерлоо попытался было продвинуться к Лиону и Греноблю, но был немедленно разбит Сюше. Тогда австрийскому генералу ничего не осталось делать, как просить перемирия и установить границы разделения армий.
Правда, Вандея при приближении войск коалиции снова было решила поднять знамя восстания, как в эпоху революции, но и тут патриотизм взял свое. При известии о приближении англичан вандейцы отказались повиноваться своим роялистским вождям.
Наконец, маршал Груши, которого считали попавшим в плен со своей армией, имел до тридцати тысяч человек, причем это количество еще увеличилось благодаря беглецам, отбившимся от своих частей после сражения при Ватерлоо. Таким образом у Наполеона могло в короткое время образоваться до ста тысяч человек войска. Этого было достаточно, чтобы занять Париж, дождаться соединения с Раппом и Лекурбом, а там попытаться дать вторую решительную битву.
Ватерлоо закончилось великолепным самопожертвованием императорской гвардии, «которая умирает, но не сдается», а также непонятной паникой.
Была ночь. Повсюду царил полный хаос. Крики умирающих, которых подло добивали пруссаки, ржание лошадей, дальние и ближние раскаты пушечных выстрелов еще сильнее увеличивали ужас, распространившийся при слухе, что император убит. Это известие, что вождь армии погиб, превратило батальоны в стадо, а храбрых солдат — в трусливых беглецов Крик, брошенный одним: «Спасайся, кто может!» — послужил как бы сигналом для тысяч человек. В одну минуту все поспешили бежать, бросая оружие, ранцы, забывая про честь и славу, и армия, состоявшая из львов, вдруг превратилась в стаю зайцев с человеческими лицами. Единственным утешением может служить лишь то, что это общее бегство спасло несколько лишних жизней. Но армия не была уничтожена, как говорили в Париже и палате, чтобы вынудить Наполеона к отречению от престола. Она потерпела поражение под Лаоном, где находился Наполеон и где ему следовало оставаться.
Окруженный в Лаоне шестидесятитысячной армией, которая опять была сильна, потому что видела своего вождя живым, Наполеон должен был оставаться там и мог бы диктовать оттуда свои условия мира или по крайней мере угрожать парижским политикам, которые под влиянием Фушэ отрешили его от престола, и в первое время он колебался, хотел было остаться, но затем передумал и пошел на Париж.
Однако это был уже не прежний Наполеон. Он не верил больше в свою звезду, считал необходимым все согласовывать с демократическими чувствами народа, не мог насильно заставить народ делать то, что тому не нравилось.
Кроме того, он чувствовал себя не совсем спокойно в Лаоне, в то время как в Париже его собирались свергнуть с престола. Он не мог повторить переворот 18 брюмера, когда по возвращении из Египта народ с радостью приветствовал его и страстно желал уничтожения директории. Тогда он был популярным человеком, теперь же, после поражения, становился ненавистен народу, а политики, которые диктовали мир и опубликовывали разного рода декреты, наоборот, приобретали популярность среди народа.
И Наполеон возвратился в Париж. Он заперся в Елисейском дворце. Всевозможные проекты роились в его голове, а в это время толпа, собравшаяся под окнами, бешено кричала: «Да здравствует император!»
— Я мог бы править при помощи этих людей, которые приветствовали меня, — сказал он, обращаясь к Бенжамену Констану, — но я не хочу быть революционным императором, предводителем партизан. Если представители страны пожелают, чтобы я управлял государством, я останусь, если нет, я отрекусь от престола в пользу моего сына.
Фушэ между тем по обыкновению вел двойную игру. Он нашел себе соучастника в лице бессовестного старика Лафайета. Отречение Наполеона было решено. Раз он допустил поражение своего войска, его шпага становилась ненужной стране, а его имя могло погубить все либеральные учреждения Франции. Ввиду этого было назначено временное правительство, состоявшее из Карно, Кенеля, Коленкура, Гренье и Фушэ, причем последний был избран президентом.
Этот предатель и жалкий полицейский достиг заветной мечты: он стал фактическим правителем Франции, стал хозяином страны, и благодаря его интригам она была выдана врагам и Бурбонам.
Наполеон был удручен и утомлен властью, когда отрекался от престола. Когда ему стали говорить о правах его сына в тот момент, когда он подписывал акт отречения, Наполеон ответил:
— Мой сын! Мой сын! Какая химера! Нет, я знаю, что отрекаюсь не в пользу моего сына, а в пользу Бурбонов! Эти, по крайней мере, не находятся в плену у Австрии.
Даже и в этот момент его мысль была полна заботой о Франции в ущерб собственным интересам.
Временное правительство сейчас же после подписания акта отречения призвало Бурбонов и объявило Наполеону, что о его сыне говорилось в акте только единственно из вежливости и что это ни к чему не обязывает правительство.
Отречение Наполеона состоялось 22 июня 1815 года. Получив акт отречения, Фушэ стал торопить Наполеона как можно скорее покинуть Париж и Францию.
Перед дворцом с утра до ночи стояла толпа, не перестававшая приветствовать павшего императора. Эта толпа была более предана Наполеону, чем все его маршалы, генералы, министры и чиновники, которым Наполеон раздавал чины и награды. А между тем эта самая толпа была именно пушечным мясом и главным плательщиком налогов.
Эти сборища беспокоили Фушэ; он чувствовал, что пока Наполеон не покинет Елисейский дворец, он не посмеет привезти Бурбонов. Поэтому он командировал к Наполеону маршала Даву, честного и преданного человека, чтобы гот сказал бывшему императору, что, пока он находится в Париже, он стесняет действия временного правительства.
Наполеон принял маршала холодно и заявил, что готов покинуть Париж, как только ему дадут средства и возможность найти надежное убежище. Он рассчитывал отправиться в Соединенные Штаты и жить там в качестве простого смертного, а для этого ему нужно иметь два фрегата, которые перевезли бы его и его свиту.
Спустя три дня Наполеон покинул Париж. Толпа, узнавая его карету, кричала: «Да здравствует император!» Это было в последний раз, когда крик приветствия раздавался в его ушах. Он приказал отвезти себя в Мальмезон, где его ожидала королева Гортензия; он прибыл сюда как бы для того, чтобы еще раз вспомнить первую зарю своей славы, свои мечты, свою любовь.
Здесь воспоминания о Жозефине повеяли на него, как забытые в памяти черты и характер той женщины, которую он так страстно любил когда-то. Как и вторая его жена, Жозефина обманывала его, но обманывала с любовниками, а не с врагами. Измены Жозефины задевали только честь мужа, измены же Марии Луизы имели всегда в виду императора. И теперь Наполеон прощал неверность жене, помня, как жестоко она поплатилась за это.
Наполеон молча и мрачно прохаживался по аллеям парка, когда к нему подошел Лас-Казас и сказал, что какая-то дама непременно желает переговорить с ним.
— Я не даю больше аудиенций, — ответил Наполеон улыбаясь. — Я не раздаю больше мест. Чего желает эта дама от императора, не могущего ничего сделать? Но все равно пусть она придет, это оживит немного мое уединение!
XIII
На аллее, направляясь к Наполеону, показалась молодая и элегантно одетая женщина. Это была графиня Валевская. Верная подруга его пребывания на острове Эльба явилась предложить ему если не свою пылкую любовь, как прежде, то по крайней мере тихую дружбу.
Приятно пораженный встречей с красавицей-полькой, Наполеон ласково принял ее.
Графиня пришла сообщить ему, что он подвергается сильной опасности, так как Фушэ приказал одному из генералов присутствовать при его отплытии. Валевская прибавила, что этим надсмотрщиком и тюремщиком будет генерал Беккер и что она успела приехать раньше генерала.
— Меня по крайней мере должны были предупредить, так как ведь я не собираюсь нарушать свои обязательства, — с недовольным видом проговорил Наполеон.
— О, государь, — сказала графиня Валевская, — вам необходимо поскорее уехать, так как ваше присутствие вблизи Парижа связывает по рукам и ногам изменников и, кроме того, враг приближается. Прусские разведчики уже появились в окрестностях Сен-Дени. Дело может дойти до того, что вас неожиданно захватят здесь.
— Я уеду, — ответил Наполеон с жестом нетерпения, — но ведь мне нужны паспорта, суда…
— Куда вы отправитесь, ваше величество?
— В Соединенные Штаты. Там мне отведут землю или я сам куплю. Я кончу тем, чем человек начинает. Я буду жить продуктами своих стад, — Наполеон сделал движение, как бы желая исправить только что сказанное. — Но, может быть, явится и другое разрешение. Солдаты все еще полны доверия ко мне, неприятель у ворог Парижа. Хитрость Блюхера и Веллингтона слишком явно бросается всем в глаза; они уверяют, что воюют только против одного меня, а не против Франции. Теперь я отрекся от престола, так зачем же они продолжают идти на Париж?
— Это правда, — ответила графиня, — вчера в версальском лесу драгуны Эксельмана атаковали два прусских полка.
— Теперь уже эти три солдата угрожают не мне, так как я превратился в простого смертного, но Парижу. В скором времени в руках неприятеля будет вся страна, которая к тому же совершенно беззащитна, так как у меня шпага отобрана. Ах, если бы меня назначили генералом и поручили мне командование! Я не буду больше императором, я не хочу власти; все, чего я желаю, — это сразиться с неприятелем, воспрепятствовать ему войти в Париж, заставить его заключить с нами мир на приемлемых условиях. Сделав это для страны, я удалюсь и стану жить в одиночестве.
Графиня Валевская покачала головой и ответила:
— Фушэ никогда не примет этих условий, как бы заманчивы они ни были. Он стремится лишь удалить вас.
— Да, я знаю; ему очень хочется видеть на престоле Бурбонов Пусть будет по его, я удалюсь. Когда сюда явится генерал Беккер, я поручу передать правительству мое предложение, а затем отправлюсь в Рошфор.
На глазах графини появились слезы.
— Вы плачете? — мягко спросил ее император. — Что я могу сделать для вас?
Валевская с дрожью в голосе ответила:
— Я хотела просить у вас милости. Разрешите мне сопровождать вас туда, куда вы отправитесь. Я была бы счастлива, если бы могла хоть отчасти, хоть иногда сократить часы вашего одиночества.
Наполеон помолчал, а затем проговорил:
— Это было бы с вашей стороны слишком большой жертвой; кроме того, я должен отказаться от вашего предложения уже потому, что у меня остается сын и ради него я должен отправиться в мое изгнание один. Я очень признателен вам, графиня. Вы молоды, ваш супруг только что в прошлом году умер, и я не могу быть помехой в вашей судьбе. — Он отступил от графини на несколько шагов и продолжал: — Мне говорили, что один из моих офицеров, полковник д'Орнано, влюблен в вас и хочет жениться на вас?
— Это правда, ваше величество, у нас был разговор об этом, по я отложила решительный ответ, пока не переговорю с вами.
— Принимайте его предложение, — быстро проговорил Наполеон, — я не хочу, чтобы ради меня вы чем-нибудь жертвовали.
Графиня хотела было возразить, но приход генерала Беккера заставил их кончить этот разговор.
Наполеон немедленно направил генерала обратно в Париж, чтобы он отвез его предложение правительству.
В предложении Наполеона не было ничего химерического. Если бы ему вверили командование войсками, то разгром прусской армии был бы полный. Блюхер удалился от своей главной базы более чем на шестьдесят миль, и под Парижем у него было не более пятидесяти тысяч. Веллингтон, стоя в Сен-Мартен Лонжо, находился в двух днях пути от Парижа и не мог помочь Блюхеру. Ввиду приближения стотысячной армии Наполеона со ста орудиями англичанам не оставалось бы ничего иного, как отступить в Бельгию. Франция была бы спасена, и разгром Ватерлоо заглажен.
Но предатель Фушэ и его сподвижники, составлявшие временное правительство, отказали Наполеону. Они не без основания считали, что если Наполеон выгонит из страны англичан и пруссаков, то его самого потом будет уже трудно отправить в ссылку.
Однако восстановления империи опасаться было нечего: Франция в последнее время пережила многое и вернуться назад ей было трудно; зато французам не пришлось бы пережить восстановление бурбонской монархии и они не пережили бы кровавых дней революции тридцатого года. Со стороны Наполеона было предложено стране возвращение славы и чести, но временное правительство было настолько недальновидно, что отказалось от всего этого. Генерал Беккер возвратился обратно в Мальмезон и сообщил свергнутому императору о своей неудаче.
Наполеон встретил Беккера в высоких сапогах и походном мундире, так как был готов сесть на лошадь и отправиться выручать Париж. Выслушав ответ генерала, он горько рассмеялся и сказал:
— Эти люди не понимают ни положения дел, ни общего состояния умов в стране. Они отказались от моего предложения, и им придется еще раскаяться. Прикажите собираться в путь!
Угнетенный отказом правительства, он решил немедленно покинуть Францию, где его жизнь все больше и больше подвергалась опасности.
— Если бы я мог поймать его, — говорил потом Блюхер, — я повесил бы его в присутствии моего войска.
А Веллингтон сказал:
— Если бы монархи решили лишить жизни Наполеона, я не стал бы противодействовать им, но роли палача во всяком случае не принял бы на себя.
К императору явился офицер и доложил, что прусские разъезды замечены на правом берегу Сены, между Шату и Аржантейем. Наполеон взглянул на карту и сказал:
— Я оказываюсь окруженным. Если мост Сен-Жермен не разрушен, то я могу попасть в плен.
— Он цел, — ответил офицер.
— Тогда нужно немедленно отправляться в путь.
Генерал Беккер явился и доложил:
— Государь, все готово!
— Я иду, — ответил Наполеон.
Он поцеловал королеву Гортензию и распрощался с другими присутствовавшими лицами.
Было половина шестого вечера, когда Наполеон сел в карету. Одетый в простое штатское платье, он был записан в паспорте как секретарь генерала Беккера. 3 июля он прибыл в Рошфор и остался там до 8 числа. Он все еще надеялся, что в Париже одумаются и пошлют за ним. Увы, эта иллюзия и явилась причиной гибели Наполеона.
Два английских фрегата сторожили выход в море, но тем не менее можно было проскользнуть незамеченным. Преданные люди делали Наполеону смелые, но выполнимые предложения. Два французских фрегата были быстроходными судами, и их экипаж был предан Наполеону; англичане ничего не могли бы поделать с этими судами.
Но Наполеон отказался от всех этих соблазнительных планов. Он продолжал жить в Рошфоре, все еще надеясь, что его позовут обратно, и тут у него постепенно зародилась идея отдаться в руки англичан. Он отправил Лас-Казаса к капитану английского фрегата «Беллерофон» с просьбой принять его и в то же время написал свое бессмертное письмо принцу-регенту английскому:
«Ваше королевское величество! Ввиду распрей, разрывающих мою страну, и ввиду объединения Европы, я решил закончить свою политическую карьеру. Я хочу, подобно Фемистоклу, сесть у очага британского народа. Я отдаюсь под покровительство его законов и обращаюсь с этим к Вашему королевскому высочеству, как к самому постоянному, самому могущественному и самому великодушному из моих врагов».
На другой день, 15 июля. Наполеон отдался во власть Англии и переправился на борт «Беллерофона».
Его отвезли на плимутский рейд.
Огромная толпа народа в лодках разного калибра выехала навстречу императору, чтобы взглянуть на него, и в одной из лодок Наполеон при помощи бинокля рассмотрел графиню Валевскую с д'Орнано, ее будущим супругом.
— Бедная женщина! — промолвил он про себя. — Будь же хоть ты счастлива!
Он уже не верил в постоянство женщин, но продолжал еще питать иллюзии относительно великодушия англичан.
Спустя пять дней из Лондона пришло страшное распоряжение. Наполеон был перевезен на борт «Нортумберлэнда», и адмирал Кокберн предложил ему подписать бумагу, в силу которой он становился пленником Англии. Его багаж был досмотрен, у него хотели отнять даже шпагу и затем ему объявили, что он будет отвезен на остров Святой Елены.
В своем знаменитом протесте Наполеон заклеймил Англию перед потомством:
«Я по собственному желанию перешел на борт судна «Беллерофон». Я не пленник, я — гость Англии. Я взываю к истории. Она скажет, что враг, который в течение двадцати лет воевал с английским народом, пришел по своей воле в час несчастья искать убежища под сенью его законов. Разве мог он дать более яркое доказательство своего уважения и своего доверия? И что же ответили в Англии на это великодушие? Там прикинулись, будто подают ему руку помощи, а когда он доверчиво отдался, его погубили».
8 августа «Нортумберлэнд» вышел в море. Стоя на мостике, Наполеон в последний раз увидел берега Франции. Он снял шляпу и, простерши руку к берегу, воскликнул:
— Прощай, земля храбрых! Прощай, дорогая Франция! Несколькими изменниками меньше — и ты опять станешь великой нацией, госпожой мира!
Преступление Англии не вызвало протеста ни с чьей стороны. Но последствия этого преступления были самые неожиданные: Наполеон, палач свободы, ненасытный завоеватель, неумолимый деспот, беспокойный монарх, поражения которого уничтожили все материальные выгоды эфемерных побед, мог сойти в могилу забытый людьми и преданный анафеме народами, но англичане подняли сверженную статую бога и поставили ее на колоссальный пьедестал, на скалу Святой Елены. С этой скалы Наполеон будет в течение многих веков взирать на мир.
— 9 — Мученик англичан
В этих романах описывается жизнь Наполеона в изгнании на острове Святой Елены — притеснения английского коменданта, уход из жизни людей, близких Бонапарту, смерть самого императора. Несчастливой была и судьба его сына — он рос без отца, лишенный любви матери, умер двадцатилетним. Любовь его также закончилась трагически…
Рассказывается также о гибели зятя Наполеона — короля Мюрата, о казни маршала Нея, о зловещей красавице маркизе Люперкати, о любви и ненависти, преданности и предательстве…
I
В один из ноябрьских вечеров 1815 года был назначен прием у герцога и герцогини Данцигских в их особняке на Вандомской площади. Залы были уже освещены, ждали только приглашенных. Хозяева дома находились в маленьком будуаре, обставленном и отделанном во вкусе Директории, который милейшая Екатерина Лефевр считала верхом изящества.
Герцогиня пополнела и поседела; отяжелевшая походка выдавала ее пятидесятилетний возраст. Но она осталась все такой же вспыльчивой и горячей, проворной на словах и на деле, той, которую прозвали когда-то в лагерях и при дворе мадам Сан-Жень. Все также ее единственными привязанностями на свете остались ее муж и император. Обычно она делила свои чувства поровну между этими дорогими существами, наполнявшими собой всю ее жизнь. Но с некоторого времени доля Лефевра как будто уменьшилась — Наполеон взял верх в сердце герцогини. Да и не мудрено! Ведь он был так несчастен!
Воспоминание о пленнике нездорового и уединенного острова Святой Елены поглощало все мысли герцогини Лефевр. Не проходило дня, чтобы она не думала: «Что-то теперь делает наш бедный император?»
Известий о Наполеоне не было, но все чувства и воображение стремились к проклятому острову. Планы освобождения витали в воздухе, и не одна голова была занята проектами бегства. Но ничто не было еще решено, не хватало руководителей и точного плана действий. Наиболее преданные приверженцы Наполеона, офицеры, чиновники, моряки, обращались к маршалу Лефевру с просьбами встать во главе их или по крайней мере помочь своим влиянием освобождению императора. Маршал со свойственными ему добродушием и грубоватостью отвечал на это, что состарился для заговоров и что для дерзновенных, желающих одним разом вырвать у англичан императора, а трон — у Бурбонов, нужен человек более молодой и энергичный, чем он. Конечно, он не был сторонником Бурбонов и держался вообще в стороне, храня в душе воспоминания о прошлой славе. Он отстранился как от политики, так и от армии. Франция больше не нуждалась в славе; она пресытилась ею. Генералы и солдаты вышли из моды, настала очередь дипломатов, духовенства, пасынков родины, насмехавшихся над былыми победителями Европы, называя их разбойниками Луары. Конечно, маршал желал успеха людям, игравшим своей головой в этом дерзком предприятии, но не обещал им деятельной помощи.
Среди приступавших к старому маршалу были: один моряк, капитан Лятапи, который после падения Наполеона в 1814 году поступил на службу в Америке, и бывший капитан гвардии Огюст Беллар. Его подталкивала на это возлюбленная, мадам де Роншу, разведенная со своим мужем, французским консулом в Готембурге. Когда-то мадам Роншу называлась мадам Фуре. Эта эксцентричная маленькая женщина, переодетая в мужское платье, последовала за Бонапартом в Египет; император одно время даже собирался жениться на ней. Эта особа сохранила живое воспоминание о генерале Бонапарте и уговаривала своего возлюбленного, настоящего сорвиголову, устроить экспедицию на остров Святой Елены, чтобы увезти Наполеона.
Лефевра уговорить не удалось, но он дал обещание, если экспедиция удастся и во Франции начнется движение в пользу императора, примкнуть к нему, употребив в защиту его свою шпагу и авторитет маршала.
Было решено, что Лефевр и его жена дадут вечер, на который будут приглашены главные руководители приверженцев Наполеона. Два события побудили ускорить этот вечер. Маршал Ней был предан суду пэров за измену, причем его осуждение было несомненно. И вот у Лятапи и Беллара возникла мысль, что до бегства императора хорошо было бы устроить освобождение маршала из Люксембурга, и с этой целью были предприняты некоторые шаги. Жена директора почт, графа Лавалетт, занимавшего комнату над темницей маршала (его должны были судить после графа), сумела привлечь на свою сторону сторожей и подготовила бегство мужа. Поэтому предполагалось использовать это обстоятельство для спасения Нея. Когда же выяснилось, что попытка может не удастся и знаменитого маршала поведут на казнь, то стали утешать себя тем, что это вызовет желание мести и стремление избавить Наполеона от предназначенной ему медленной смерти.
Бал у маршала Лефевра был назначен, и приглашения разосланы не только официальным лицам, но и множеству офицеров, получавших половинное жалованье как находящиеся в полуотставке, и бывшим чиновникам, известным своей преданностью империи.
Была еще одна причина, принятая предварительно в расчет при рассылке приглашений и побудившая герцогиню устроить этот прием.
Ее сыну Шарлю шел двадцать восьмой год. Это был изящный молодой человек, служивший прежде при посольстве в Англии и тесно связанный с кружком золотой молодежи. Несмотря на то, что он был сыном ярого бонапартиста, он, не краснея за свое плебейское происхождение, смягченное военной славой его отца, был заодно с роялистами и выказывал аристократическое презрение к приверженцам империи. Как все выскочки, Шарль Лефевр хотел заставить забыть свое происхождение и чувствовал себя счастливым, когда на официальных приемах его спрашивали о его знаменитом отце, маршале Лефевре, и вспоминали о том, каким славным воином был тот.
Шарль Лефевр, беспечный игрок и кутила, всегда нуждавшийся в деньгах, имел отдельное помещение в доме родителей на Вандомской площади. Герцогиня смотрела сквозь пальцы на частые отлучки сына, но требовала от него полной покорности отцу и матери. Она требовала также его постоянного присутствия на своих больших обедах, за что снабжала крупными суммами денег, дававшими ему возможность платить долги и содержать особое хозяйство в Пасси. Герцогиня знала о тайной связи сына и говорила, что «надо дать пройти молодости», но начинала считать, что эта молодость затянулась, что сыну пора остепениться и устроиться.
Она слышала о молодой, красивой и богатой вдове-итальянке, маркизе Люперкати, муж которой, офицер короля Мюрата, был убит неприятелем. Герцогиня была очарована представленной ей молодой вдовой и решила женить сына на этой блестящей, богатой и знатной невесте, которая дала бы ему, кроме больших владений в Италии, еще блестящее положение при дворе.
Лефевр, которому жена сообщила свои планы, вполне одобрил их. В течение тридцати лет он привык подчиняться своей супруге, в особенности где дело шло о его самолюбии.
Бал, предполагавшийся в доме маршала Лефевра, должен был послужить предлогом для знакомства Шарля с маркизой Люперкати и дать молодому человеку возможность начать ухаживать за нею. Он был предупрежден матерью о ее брачном проекте и не посмел противоречить ей; не смея сознаться в своей давнишней связи, он согласился на официальное знакомство с молодой вдовой.
В небольшом будуаре, где герцог Данцигский и его жена ожидали приглашенных, заранее собрались главные заговорщики: капитан Лятапи, капитан Беллар, генерал Анрио и другие. Разговор шел о последнем люксембургском процессе; обсуждали поведение маршала Нея и мнения судей, пэров Франции. Правда, все избегали даже намеков на предполагаемое предприятие по освобождению Нея, опасаясь нескромных ушей, но у каждого из присутствовавших оно было на уме. Озабоченная герцогиня говорила мало и едва слушала, часто взглядывая на входную дверь зала, как бы нетерпеливо ожидая кого-то.
Лакей доложил в числе первых приехавших гостей о маркизе Люперкати, и в зал вошла молодая, изящная брюнетка. Герцогиня привстала на своем диване, протянула руку гостье и усадила ее около себя. Они стали говорить о самых банальных вещах, но обе одинаково казались рассеянными и встревоженными. Наконец герцогиня не выдержала и сказала мужу, занимавшему около нее гостей:
— Что значит, что Шарля нет до сих пор?
Лефевр пожал плечами и добродушно ответил:
— Нынешние молодые люди всегда опаздывают. Они не знают, что такое дисциплина и точность. Теперь не то, что в наше время, когда император назначал свидание восьмидесяти тысячам человек у Эсслинга или Смоленска. Придет твой сын, не беспокойся, не порти себе кровь! Ведь еще не поздно, и нынче в моде заставлять ждать дам! — И Лефевр продолжал свой разговор с командиром Лятапи, который тихо, понизив голос, сказал ему:
— Я ручаюсь за пять тысяч вооруженных флибустьеров в Пернамбуко, которые будут сопровождать императора и защищать его при высадке…
Залы постепенно наполнялись гостями: хозяева дома перешли в главный зал принимать и приветствовать приглашенных, однако Шарль не появлялся. Герцогиня тревожилась все сильнее, спрашивая себя, что подумает предупрежденная заранее о знакомстве маркиза. Что если этот так подходящий во всех отношениях брак не состоится? И как это невежливо! Где его. черт носит, что он теперь делает, негодный мальчишка? Верно, его держит эта особа! Что если она не пустит его? Какой скандал! Какой позор!
— Тысяча чертей! — бранилась про себя герцогиня. — Это ему так не пройдет! Я сама пойду искать его, хоть бы около этой негодницы! Он должен явиться сюда! Не может же он не сдержать данного слова, оскорбить молодую женщину, которая ждет его!
Она поискала глазами маркизу, которая, как она видела, незадолго перед тем проходила по залам под руку с Анрио, но нигде не могла найти ее. Тревога мадам Сан-Жень все более и более возрастала, а между тем ей приходилось волей-неволей исполнять обязанности хозяйки дома, занимать гостей, вести пустые разговоры. Теперь, привыкнув к светским обычаям, она понимала, что было бы невежливо с ее стороны выказывать беспокойство, материнскую тревогу, что это было бы признано дурным тоном, недостатком воспитания.
Время шло, начались танцы. Маршал увлек некоторых из своих товарищей к буфету. Там, опустошая стаканы пунша и хереса, они вспоминали лихие подвиги своего прошлого. Капитан Лятапи, воспользовавшись удобной минутой, отвел в сторону герцогиню, чтобы сказать ей, что все его друзья здесь и что в конце бала надо будет переговорить о планах на будущее и о немедленном освобождении маршала Нея. Сообщив это герцогине, он откланялся ей и пошел сзывать друзей, рассеянных по залам.
А в это время бедная герцогиня, отвечая всем и каждому из гостей, только и думала, что о своем сыне. Где он? Отчего его нет? Не случилось ли с ним несчастье? Наконец она вскочила с места и направилась к высокому человеку, с которым говорил у окна Лятапи. Увидев герцогиню, он отдал ей честь.
— Ла Виолетт! Где мой сын? — живо спросила она. — Почему его здесь нет?
— Герцогиня, — ответил бывший тамбурмажор, — вы не поручали мне караулить мосье Шарля. Я очень люблю вашего сына, но вы знаете, что он не выносит моих замечаний, считая меня старым ворчуном, старой скотиной! И вот, чтобы не раздражать его, я никогда не позволяю себе смотреть за ним! Но, несмотря на это, я кое-что знаю.
— Что же ты знаешь, ла Виолетт? Говори! — повелительно сказала герцогиня.
— Немногое, — пробормотал тамбурмажор, — но если вы желаете, чтобы я нашел господина Шарля, я думаю, что живо найду птицу, раз я знаю, где ее гнездо.
— Ты знаешь, где он? Кто мог удержать его, когда он должен быть здесь, у нас, в день бала, даваемого для него?
— Вероятно, его задержали в его интимном гнездышке, и если я побываю в Пасси, то захвачу там нашу прекрасную птичку, герцогиня.
— Отправляйся туда сейчас же и приведи его! — приказала герцогиня. — Его отсутствие — настоящий скандал! От тебя у нас нет секретов. Сегодня я должна была представить его одной даме, прибывшей сюда собственно для этого. Я боюсь, что она уедет, и дорогой для меня план расстроится.
— Будьте покойны! Если только я найду вашего сына, я приведу его непременно, даже за ухо, как делал, бывало, император со своими гренадерами.
Ла Виолетт откланялся по-военному и вышел из зала, а затем прошел к себе, снял парадный сюртук, положил на всякий случай два пистолета в карман, а в руку взял свою знаменитую дубинку — опасное оружие в его руках.
На Вандомской площади он нанял экипаж, предварительно хорошо поторговавшись, и велел везти себя в Пасен.
Между тем бал на Вандомской площади кончался и герцогиня хотела извиниться перед маркизой Люперкати за отсутствие сына. Но напрасно она искала гостью по залам — та бесследно исчезла.
Это еще более встревожило герцогиню, но она старалась подавить волнение, так как должна была еще присутствовать на совещании, созванном Лятапи и Белларом по поводу процесса маршала Нея и узника острова Святой Елены. План не был выработан окончательно, но каждый из присутствовавших получил предписание организовать в своей сфере по мере своих сил движение, во-первых, с целью освободить маршала Нея из Люксембурга, во-вторых, устроить экспедицию к острову Святой Елены, руководить которой взялся Лятапи, чтобы хитростью или силой вырвать императора Наполеона из рук англичан.
Разошлись только на рассвете и каждый из приверженцев Наполеона, покидая особняк Лефевра на Вандомской площади, думал о тюрьме Люксембурга и о скалах Святой Елены, каждый спрашивал про себя: «Что они теперь делают?»
А в это же время герцогиня Данцигская, пока горничные снимали с нее диадему, перья и другие украшения, в первый раз со времени падения Наполеона забыла о знаменитом изгнаннике, так как была поглощена мыслью о сыне: «Где он теперь? Что он делает?»
II
— Фант! Фант! Он ошибся!
— О, неловкий! Он принял Бетси за Джэн!
— Он не узнал меня, хоть и долго прижимал к себе. Он чуть не задушил меня, мисс Годсон!
— Тогда надо взять с него два фанта, милая Бетси!
— Повязка у него сдвинулась. Надо завязывать крепче, гораздо крепче! Папа, поправь платок, сделай двойной узел! Пусть он не плутует!
— Играть, играть! Поворачивайся, жмурка, поворачивайся! — И молодые девушки в развевающихся платьях рассыпались по саду, повернув несколько раз на одном месте плотного господина в белом пиджаке и соломенной шляпе.
Несколько запыхавшись, он сделал крутой поворот, вытянул руки, остановился и схватил гибкую и стройную девушку.
— Ну, на этот раз это действительно Бетси! — сказал он, срывая повязку и целуя отцовским поцелуем лоб покрасневшей девушки, пойманной жмуркой.
— Государь, вы опять сплутовали! — воскликнула раздосадованная Бетси.
Толстый господин в соломенной шляпе — император Наполеон — выпустил Бетси и сказал ей:
— Плутовка, я дам тебе фант, но ты заплатишь штраф!
— Нет, нет, государь! Вы отлично видели из-под повязки.
— Это ты сама хочешь сплутовать, маленькая обезьянка, — громко рассмеялся Наполеон, с гордостью выговаривая последние два слова по-английски и при этом взял за ухо Бетси, как, бывало, делал со своими гренадерами, когда был доволен, и слегка потянул девушку за ушко.
— Ай, он щипнул меня! — воскликнула та, убегая. — Я сейчас убью его за это!
Она подбежала к веранде, перед которой на траве происходила игра в жмурки; там в углу лежала шпага. Бетси вынула ее из ножен и, размахивая ею в воздухе, стала наступать на своего противника, повторяя:
— Защищайтесь! Отразите-ка этот удар! Ага, я накажу вас, противная жмурка!
Наполеон отступал перед обнаженной шпагой, а шалунья продолжала наступать на него, приговаривая:
— Молитесь, молитесь! Настал ваш последний час!
Сумасбродная девушка стала гоняться за Наполеоном по аллеям сада, как вдруг с веранды раздался крик.
— Мисс Бетси! Отдайте мою шпагу! — кричал граф Ла Сказ, секретарь Наполеона. — Я принес эту шпагу в подарок вашему отцу, отдайте мне ее обратно!
Он побежал за Бетси, которая яростно преследовала начавшего задыхаться императора, тщетно искавшего убежища от своего шуточного врага.
К счастью, на пути оказался колючий кустарник, и Бетси, зацепившись за него платьем, уронила шпагу. Верный Ла Сказ подскочил к ней весь красный и запыхавшийся, подхватил оружие, вытер его платком и завернул золотую рукоятку, отделанную бриллиантами. По приказу императора эта дорогая шпага была принесена в подарок Бэлкомбу, отцу Бетси, хозяину этого дома.
На шум прибежали отец и мать Бетси; они побранили дочь и извинились перед императором, который потрепал по щеке молодую шалунью и тихо сказал:
— Малютка, шпагами не играют; ведь это не ножницы, не иголка. Ну, на этот раз вас прощают, но если вы не станете умнее, то мы выдадим вас за молодого Ла Сказа.
Эта угроза подействовала. Бетси недолюбливала сына секретаря, и Наполеон забавлялся, при каждом удобном случае дразня молодую особу свадьбой с молодым человеком, для которого у нее находились лишь колкости и гримасы.
— Вот что, — сказал император, когда настало некоторое спокойствие среди сбежавшейся молодежи, громко рассуждавшей по поводу поступка Бетси: — Игра в жмурки приводит Бетси в слишком воинственное настроение. Выберите более невинную игру, господа!
Джэн, старшая сестра Бетси, побежала за серсо и кольцами для новой игры, когда показался офицер в форме французского офицера и, почтительно подойдя к императору, стал ожидать, когда тот обратится к нему.
— Ну, что случилось, господин гофмаршал? Что-нибудь особенно важное, что вы пришли искать меня здесь? — спросил у пришедшего Наполеон.
— Государь! — почтительно ответил генерал Бертран, который так же верно и точно исполнял свои обязанности гофмаршала, как во время пребывания в дворцах Тюильри или Сен-Клу. — Ввиду острова появился французский корабль, и по вашему приказу я поспешил дать вам знать об этом.
— Корабль? Он, конечно, несет известия об императрице, о моем сыне? — воскликнул Наполеон. — Извините, господа, что я прерываю вашу игру, мы возобновим ее в другой раз; я спешу навстречу этому судну из Франции. Оно несет воздух родины в своих парусах, — прибавил Наполеон с глубоким волнением, которое не мог преодолеть.
Все присутствовавшие сняли шляпы и расступились перед императором и его верным Бертраном.
Все это происходило в Бриаре, имении Бэлкомба, где поселился Наполеон по прибытии на остров Святой Елены.
Он расположен в южной части Атлантического океана в 1800 верстах от западного берега Африки. Площадь острова около 200 квадратных верст и представляет собой величественную пирамидальную массу темно-зеленого цвета.
Бриар, красивое местечко, единственное на всем острове, было частично занято Наполеоном в ожидании, пока будет готов предназначенный ему павильон Лонгвуд. Так как Наполеону понравился Бриар, то англичане отказали ему в разрешении жить здесь постоянно. Все, что могло смягчить горечь плена для изгнанника, безжалостно и бесчеловечно отнималось у него. Он захотел приобрести этот веселый коттедж, но получил сухой, непоколебимый отказ, и ему пришлось переселиться в Лонгвуд — самую нездоровую часть острова. Это была одна из бесчисленных придирок английского правительства, причем в довершение всего коменданту острова Хадсону Лоу было поручено без пощады и милосердия изводить самолюбивого пленника мелочными придирками.
Наполеон, переселившись в Лонгвуд, очень сожалел как о живописной местности и цветущем тенистом саде в Бриаре, так и о семействе Бэлкомб. Оно состояло из отца и матери, двух сестер, Джэн и Элизабет, называемой сокращенно Бетси, и из двух мальчиков. Бэлкомб, служащий индийской компании, британский подданный, был одновременно банкиром и поставщиком острова. Вопрос продовольствия был важен тут, в этой естественной тюрьме, состоящей из скал и колючих растений, где ничего не росло, так что все надо было привозить.
Все семейство Бэлкомб было очаровано знаменитым несчастным гостем, проведшим здесь три первых месяца своего плена. Наполеон также подружился с этими хорошими англичанами и забывал в их кругу, что когда-то владел чуть не всем миром. Он любил беседовать с ними, в особенности со своей любимицей Бетси, хорошо говорившей по-французски, принимал участие в играх молодежи, напоминавших ему счастливые дни в Мальмезоне и Сен-Клу, и такие же игры с королевой Гортензией, Каролиной и другими блестящими молодыми женщинами, окружавшими Жозефину.
Больше всего удручало Наполеона постоянное, вынужденное бездействие, страшно тяготившее этого энергичного, деятельного человека. Поэтому он время от времени посещал Бриар и с удовольствием предавался ребяческим развлечениям тамошней молодежи. Он был бы и теперь очень недоволен тем, что игра прервана, если бы это случилось не от извещения Бертрана о прибытии судна.
Идя по аллее бананов к дороге, Наполеон приказал Бертрану зайти к губернатору, чтобы получить, если возможно, сведения о прибывшем корабле, а затем продолжал один медленно подниматься по скалистой тропинке по направлению к своей темнице в Лонгвуде. Дорогой он вынул из кармана зрительную трубу, которую всегда носил с собой, на ходу развернул ее и протер стекла. Дойдя до природной платформы из обрушившейся скалы, он остановился, снял соломенную шляпу и отер вспотевший лоб, а затем направил на море трубу, стараясь найти приближающийся корабль. Но тот, вероятно, скрылся за скалами, и, не найдя его, Наполеон, погруженный в глубокую задумчивость, продолжал свой путь. Тропинка раздвоилась и император повернул направо. Но не успел он сделать и несколько шагов в этом направлении, как грубый голос из чащи кустов крикнул: «Стой!» Наполеон вздрогнул, остановился и, не сказав ни слова, вернулся на левую тропинку, ведшую в Лонгвуд. На оставленной им дорожке стоял английский часовой, преграждая дальнейший путь. Терпеливо снеся грубый окрик часового, император вернулся в свое жилище в Лонгвуде по единственной дозволенной ему дороге.
Отведенное ему помещение состояло из старой дачи, бывшей резиденции губернаторов острова, которую для Наполеона привели в несколько более обитаемый вид. Комната императора находилась внизу! там были два окна, стены обтянуты китайкой; стояла знаменитая кровать Аустерлица и Ваграма под белыми занавесками; в небольшой торфяной печке можно было развести лишь маленький огонь; на деревянном выкрашенном верхе камина стоял мраморный бюст Римского короля. В узкой комнате помещались еще комод, книжный шкаф и старый диван, обитый белой материей, где любил лежать Наполеон. На стене висел портрет Марии Луизы, а на столе, около будильника Фридриха, привезенного из Потсдама, стояла миниатюра — портрет Жозефины.
Рядом с этой комнатой было нечто вроде кабинета, где Наполеон принимал друзей и давал аудиенции. В таких случаях он надевал свой известный легендарный костюм: белые панталоны и жилет, зеленый мундир и маленькую шляпу. Обычно же он носил удобный в этом климате нанковый костюм, придававший ему добродушный вид колониста. Наполеон пополнел и уже чувствовал приступы болезни, которая унесла его в могилу. Дурное питание и нездоровая вода, полное отсутствие движения (потому что ездить верхом в сопровождении англичанина он отказался наотрез) пошатнули его здоровье, что с беспокойством замечали его друзья и доктор О'Мира.
Наполеон ежедневно делал лишь небольшую прогулку по саду, вокруг дома и время от времени, ожидая известий из Европы, поднимался на высокую площадку, откуда было видно море.
Осматривая в зрительную трубу горизонт, он надеялся увидеть парус, который принес бы ему известия из Франции, а может быть — письмо от жены или сына.
Но — увы! — ребенок был пленником Священного Союза в Вене и не мог писать отцу, что же касается Марии Луизы, то она совершенно забыла рядом с Нейппергом, которому дарила ежегодно по ребенку, что была когда-то императрицей Франции и женой Наполеона.
Придя домой, император приказал ввести генерала Бертрана как только он вернется от губернатора. Действительно, тот скоро прибыл и сообщил ему, что сведения о прибывшем корабле можно будет; получить только завтра или, в крайнем случае, сегодня вечером.
Наполеон поблагодарил его за усердие и, рассказав о происшествии с часовым, преградившим ему дорогу, попросил сходить еще раз в губернаторский дом и сообщить там об этом обстоятельстве.
— Я прошу тебя немедленно довести до сведения губернатора, что я протестую против того, что за мной так шпионят и преграждают дорогу даже во время прогулок! — резко сказал он. — Неужели нельзя поместить часовых на высотах? Я по крайней мере буду тогда делать вид, что не замечаю их. Но зачем ставить солдат у меня на пути, на таких дорогах, в конце которых только пропасти и море?
— Государь, я передам ваше законное требование.
— Я был вынужден поселиться здесь против законов наций и не признаю никакого права держать меня здесь как пленника.
— Губернатор, как видно, желает лучше наблюдать за вами, ваше величество? — заметил Бертран.
— Не думают ли они, что я хочу бежать? Я не имею такого намерения. Но все-таки скажи губернатору, что своего слова в этом я не даю и не дам никогда, потому что это значило бы признать за Англией право считать меня своим пленником, — заключил Наполеон, вставая с дивана.
Бертран записал слова Наполеона в записную книжку и с сияющим лицом обратился к императору.
— Так что вы, государь, согласитесь исчезнуть отсюда, если представится случай?
Наполеон пристально посмотрел на Бертрана и ответил:
— Я увижу, что мне делать, когда этот случай представится. Или, может быть, ты слышал, Бертран, что мои приверженцы хотят приехать за мной? — прибавил он, подумав с минуту. — Разве во Франции заботятся обо мне и желают освободить меня отсюда?
— Я думаю, государь, судя по мнению одного англичанина, что ваши друзья во Франции хлопочут о вашем освобождении. Для этого составлен целый план, известие о котором принесла только что прибывшая с мыса лодка.
— Почему же ты не сказал мне об этом тотчас же, как узнал?
— Я боялся, государь, чтобы этот слух не оказался ложью или какой-нибудь ловушкой со стороны губернатора, и хотел проверить его.
— Ах так? Ну, ты хорошо сделал. Так, значит, дело идет о попытке серьезной, о плане, имеющем шансы на успех?
— Да, государь, но подробности не известны. Все, что я знаю, — это лишь то, что вы получите план этого проекта вашего бегства в шашечнице, которая будет прислана вам неизвестным другом.
— В шашечнице? Отличная мысль! — задумчиво сказал Наполеон. — Посмотрим, обсудим… Я не давал слова оставаться узником. Я подумаю, позволят ли мне бежать как простому арестанту мои достоинство, честь и забота оставить сыну неприкосновенное право на престол. Но все же как только что-нибудь станет известным, сообщи мне.
— Государь, может быть, пришедшая в порт лодка имеет какое-нибудь поручение к вам.
— Ты передашь мне это своевременно, Бертран, а пока отправляйся к губернатору и передай ему мой протест против дурного обращения со мной, против насилия, не допускающего для меня даже прогулки.
Бертран откланялся и вышел.
Наполеон, оставшись один, задумчиво остановился у бюста своего сына и проговорил:
— Если бы я знал наверное, что увижу и обниму тебя, дитя мое, как охотно я бежал бы с этого проклятого острова! Но позволят ли мне государи, держащие тебя заложником, прижать тебя к своему сердцу? Может быть, для тебя, для твоего величия, для твоего будущего царствования будет лучше, если я окончу здесь свою блестящую и вместе с тем несчастную жизнь? А быть может, эта скала Святой Елены будет когда-нибудь подножием трона Наполеона!
Отойдя от бюста сына и желая рассеяться, император подошел к небольшому рабочему столу, за которым обычно диктовал мемуары Ла Сказу, и склонился над развернутой картой ломбардских равнин. Забывая изгнание, оскорбления плена, английских часовых, планы своих друзей об освобождении и печальные мысли о сыне, он стал изучать эту карту, чтобы передать потомству славную историю итальянской кампании, утешаясь в плену воспоминаниями о своем военном гении,
III
Молодая белокурая женщина с черными глазами ирландской красавицы, видимо, встревоженная, смотрела из окна белого домика с зелеными ставнями на одной из улиц Пасси, тогда еще тихого, зеленого предместья Парижа, куда не достигал шум большого города, видневшегося вдали, с выступавшими из тумана колокольнями, башнями и куполами. Отойдя от окна, молодая женщина спросила у прибежавшей на ее зов служанки, чей выговор обличал британское происхождение:
— Сейчас прошел почтальон. Нет ли мне письма, Мэри? Все еще нет?
— Нет, сегодня ничего нет для вас, — ответила маленькая англичанка, выходя из комнаты.
Тогда молодая женщина с печальным видом снова заняла свой наблюдательный пост у окна. Она ждала и караулила таким образом еще со вчерашнего дня, беспрестанно повторяя:
— Что он делает? Что с ним случилось? Почему нет от него известий?
Ее мучили самые мрачные предчувствия. Она страдала еще сильнее от того, что была совершенно одинока, не зная не только в Пасси, но и во всей Франции ни одной души, которой могла бы довериться. Она едва знала даже язык той страны, куда ее привез случай или скорее — любовь к молодому французу.
Эта женщина познакомилась в Лондоне, на одном дипломатическом вечере с Шарлем Лефевром, атташе при посольстве. Дочь английского дипломата, имевшего постоянные сношения с посольством, мисс Люси Элфинстон почувствовала склонность к молодому человеку. Последовали частые встречи. Живой, пылкий и мало щепетильный в делах такого рода Шарль Лефевр, не колеблясь ни минуты, обещал жениться на девушке. Когда же посольство было отозвано в Париж по случаю объявления войны, Люси, готовившаяся стать матерью, не задумываясь последовала за человеком, которого она считала своим мужем, так как перед отъездом молодых людей был совершен обряд венчания, тайный для Франции, но действительный в Англии.
Несмотря на то, что Шарль Лефевр был легкомыслен и вел рассеянный образ жизни, он имел в то же время прекрасное сердце и не хотел бросить ту, которая для него пожертвовала всем, порвала со своей семьей и подвергла себя всеобщему осуждению. Он поклялся ей считать ее своей женой и нанял для нее маленький дом в Пасси, недалеко от Булонского леса. Им же были наняты двое слуг, муж и жена, и привезенная из Англии бонна.
Он навещал Люси ежедневно, а время от времени, как мог чаще, оставался ночевать в маленьком домике в Пасси. Впрочем, это случалось не часто: хотя герцогиня Данцигская знала об этих отлучках сына и не расспрашивала о них, все-таки он признавал, что надо было соблюдать приличия.
Если Шарль не мог прийти на назначенное свидание, он всегда посылал Люси письмо или являлся рано на другой же день, чтобы успокоить подругу. Поэтому молодая женщина, не получив накануне никакого известия, несмотря на обещание письма в случае какой-либо помехи свиданию, была теперь очень встревожена и целый день провела у окна. Когда же настал час обеда, ей пришлось сесть за стол, чтобы не удивлять слуг, а также успокоить мальчика лет десяти, не раз спрашивавшего, что она делает у окна, глядя на проходящих. Ребенок спрашивал также, отчего не идет папа, скоро ли за ним пошлют, не болен ли он? Люси уклончиво отвечала на эти мучительные вопросы, не желая встревожить сына, велела наконец, подавать на стол и сказала бонне, хотевшей убрать один прибор:
— Оставьте это! Хозяин, может быть, сейчас придет…
После печального обеда Люси нежно обняла сына и послала его спать, говоря, что сама устала и тоже сейчас ляжет в постель, а когда очутилась в своей комнате, начала плакать, опасаясь какого-нибудь несчастья с Шарлем.
Вдруг в дверь постучали и вошедшая бонна передала записку, принесенную посыльным. Люси вскочила с кушетки и быстро распечатала долгожданную записку. Там были всего две строчки, написанные карандашом:
«Если вы хотите получить сведения о Шарле Лефевре, то придите сейчас же на площадь Звезды за заставой. Вам сообщат там все достоверно».
Люси долго колебалась. Что это означало? Была ли это ловушка или действительное уведомление? Откуда оно, от кого? Застава Звезды (де л'Этуаль) — местность пустынная, не опасно ли ей идти туда ночью? Отчего Шарль не пришел сам? Все это было таинственно, но походило на правду из-за отсутствия Шарля. Значит, знали о том, что она ждет. Может быть, кто-нибудь из друзей Шарля хотел предупредить ее об опасности, или о болезни, или о несчастном случае? А вдруг Шарль не мог предупредить ее потому, что болен, ранен, может быть, мертв?
Это соображение испугало Люси, но затем ей пришло в голову другое: не исходило ли это приглашение от какого-нибудь доброжелателя, желавшего показать ей Шарля с другой женщиной? Что если Шарль обманывает ее? Пылкая ирландка вспыхнула при этой мысли и сказала себе, что пойдет непременно и сейчас же.
Поручив Мэри своего сына Андрэ, она отправилась по темным улицам к заставе Звезды. Подходя к этому пустынному в то время месту, она увидела стоявшую там карету и направилась к ней с сильно бьющимся сердцем. Что если она застанет там Шарля с другой?
Когда она подошла к карете, оттуда вышел человек лет сорока, одетый в английский сюртук; он сухо поклонился ей и сказал:
— Идите со мной не теряя ни минуты, если вы хотите видеть своего друга Шарля Лефевра.
— Боже мой! Что случилось с ним? — вскрикнула Люси.
Незнакомец рассказал ей в кратких словах, что Шарль, уличенный в заговоре бонапартистов, вынужден скрываться, соблюдая большую осторожность, чтобы не подвести спрятавших его друзей, и при первой возможности попросил найти в Пасси ту, которую он называет своей женой. Сообщив, что он — друг Шарля по имени маркиз д'Орво, он прибавил, что взял на себя исполнение его просьбы.
— Ведите меня скорее к моему Шарлю! — воскликнула взволнованная Люси.
Маркиз д'Орво пригласил ее сесть в карету, и та сейчас же отправилась в путь.
Через полчаса езды экипаж остановился на темной улице перед запертой дверью, похожей на вход в отель.
— Где мы? — спросила Люси.
— В предместье Сен-Жермен, — ответил ей д'Орво, спрыгивая на землю и громко стуча молотком в дверь.
Последняя приоткрылась, и д'Орво сделал Люси знак войти. Они прошли в сопровождении слуги через большой двор, поднялись на три ступеньки крыльца, и д'Орво ввел Люси в обширный зал с закрытыми ставнями и мебелью, покрытой чехлами. Две свечи слабо освещали огромную комнату.
— Где Шарль? Ведите меня скорее к нему! — сказала Люси.
Маркиз д'Орво сел в кресло, указал другое Люси и, видя ее колебание сесть, шутливо сказал ей:
— Нам надо поговорить. Незачем утомлять себя. Присядьте!
— Но где же Шарль? Где он? — спросила дрожащим голосом Люси, начавшая пугаться этого странного уединения со своим таинственным спутником.
— Вы увидите своего Шарля, когда придет время и если вы будете благоразумны, мое дитя, — ответил ей маркиз д'Орво, небрежно скрестив ноги.
— Вы скрываете от меня правду! С ним случилось что-нибудь важное. Когда пришли арестовать его, он сопротивлялся, защищался, может быть?! Боже мой! Он ранен, может быть, убит?
— Шарль Лефевр совершенно здоров. Успокойтесь, пожалуйста! Вы можете скоро увидеть его… по крайней мере это зависит от вас.
— От меня? Что это значит? Что я могу сделать? Объясните мне!
Люси все еще стояла перед сидевшим д'Орво; вся странная обстановка этого неожиданного разговора крайне взволновала ее; она начала догадываться, что попала в западню, и хотя еще не знала, какая опасность угрожает ей, но приготовилась энергично бороться с нею, скрывая страх.
— Вы не узнаете меня? — иронически спросил д'Орво.
— Нет, я никогда не видала вас.
— Зато я видел вас и скажу вам сейчас, кто я. Восемь или девять лет тому назад вы встретили в Лондоне эмигранта, который нашел вас прелестной и сказал вам это. Помните, это было на вечере у лорда Басерта? Мы еще были одни в маленьком уединенном салоне?
— Да, это я помню. Кажется, этого французского эмигранта звали граф или маркиз Мобрейль?
— Да, граф Мобрейль, маркиз д'Орво. Это был я.
— Чего же вы хотите от меня? Тот короткий, прерванный мной разговор не дает вам никакого права на меня. Зачем вы завлекли меня сюда?
— Я действовал только в ваших интересах и вы сейчас убедитесь в этом.
— Все, что вы говорили мне про Шарля, конечно, неправда. Зачем вы это сделали? Для чего? Что вам надо от меня? Отвечайте, или я уеду.
Люси сделала шаг к двери. Однако Мобрейль спокойно посмотрел ей вслед и произнес:
— Бесполезно уходить! Все двери заперты. Вы должны выслушать меня до конца.
— Значит, вы обманули меня и держите пленницей? Но я англичанка, сестра капитана Элфинстона, храбрейшего из английских офицеров; в нашей семье не знают страха, и, пока я жива, я не дамся вам в руки.
— Успокойтесь, — весело ответил Мобрейль. — Иногда мне приходилось заставлять исчезнуть людей, но не таких прелестных женщин, как вы. Когда вы видели меня у лорда Басерта, я был занят важным проектом освобождения Европы и английского правительства, в частности, от императора Наполеона. Мне не удалось это, но все является вовремя тому, кто умеет ждать. Англия подождала, и теперь ее враг томится на острове Святой Елены. Однако сейчас речь не о нем, а о вас.
Люси содрогнулась от цинизма этого человека, собиравшегося когда-то убить Наполеона; очевидно, он мог быть способен на самые ужасные вещи, и она задрожала при мысли о том, что, может быть, жизнь Шарля в опасности и ее завлекли сюда, чтобы присутствовать при агонии любимого человека.
А тем временем Мобрейль спокойно продолжал:
— Теперь дело не в убийстве, даже не в вашем обольщении, дитя мое. В тот вечер, увидя вашу красоту, я хотел воспользоваться ею, чтобы подействовать на сердце или хоть бы на чувственность Наполеона, желая представить вас ему. Для этого мне нужно было иметь влияние на вас и я начал с любезностей и тех милых предложений, от которых вы так энергично отказались тогда. Вы уже любили Шарля Лефевра?
— Я люблю его до сих пор и только смерть может разлучить меня с ним!
— Дело идет не о смерти, но мне надо предупредить вас, что предполагается разлука ваша с Шарлем Лефевром. Мне кажется, он обвенчался с вами тайно?
— Да, нас соединяет брак, действительный в Англии. Если мы не освятили этот союз здесь формальностями французского закона, то это произошло из боязни сопротивления, которое ожидал встретить Шарль в своей семье. Тем не менее моя жизнь связана с его жизнью; он мой супруг и я уверена в его любви. Поэтому ваши угрозы, как и ваши любовные домогательства, повторяю опять, бессильны разлучить меня с Шарлем; следовательно, этому затеянному вами похищению, этой шутке насчет заговора, принудительной отставки надо положить конец… — И молодая женщина прибавила с повелительным жестом: — Я забуду странность, чтобы не сказать более, вашего поведения со мной, я ничего не скажу Шарлю, только отворите эту дверь и предоставьте мне вернуться домой, где меня ожидают.
— Да точно ли ожидают вас там так нетерпеливо? — насмешливо спросил Мобрейль.
— У меня малютка-сын, Андрэ, которого я оставила на попечение своей прислуги; он может проснуться и позвать меня. Я должна спешить домой; не удерживайте меня долее!
Мобрейль вынул из кармана изящные часы, посмотрел на них и сказал холодным тоном:
— Я не могу возвратить вам свободу раньше пяти — шести часов.
— Почему же, Бог мой?
— О, этот срок необходим хорошему экипажу, чтобы достичь первой почтовой станции, а следовательно, чтобы далеко опередить возможную погоню!
— Что вы хотите сказать? Про какой экипаж, про какую отсрочку толкуете вы? — Люси дрожала, предчувствуя новую опасность, которая не приходила ей в голову. Воспоминание о ребенке промелькнуло у нее в голове. — О, нет! — пробормотала она. — Это невозможно! Это было бы чересчур ужасно!
Между тем Мобрейль продолжал ледяным тоном:
— Я говорил вам сейчас о необходимой разлуке: я предполагал, что вы покинете Шарля Лефевра хотя бы на некоторое время, чтобы последовать за своим ребенком…
Люси вскрикнула, бросилась к Мобрейлю и воскликнула:
— Мой сын! Зачем говорите вы о моем сыне? Где он? Я хочу видеть его!
— Вы увидите его, когда вам будет угодно, но не раньше указанной мной отсрочки.
— Граф, ради Бога… послушайте; я не притворяюсь более сильной, чем есть на самом деле, я перехожу к мольбам. Разве с моим сыном произошло несчастье? Где он?
— В настоящую минуту ваш ребенок — о, доверенный надежным рукам! — не подвергается никакой опасности, могу вам поклясться! Он находится на пути из Парижа в Калэ. Завтра вечером его доставят в порт, а оттуда переправят в Англию.
Подавленная Люси упала в кресло, бормоча: «Сын мой! Вы похитили моего сына… О, это ужасно!» — а потом, снова вскочив на ноги, крикнула Мобрейлю:
— Ведь это неправда? Сознайтесь! Это новая ложь, нарочно выдуманная вами! Вы хотите напугать меня, подвергнуть испытанию! Скажите мне, что мой сын не похищем. Чего вы добиваетесь? Денег?
— Может быть!
Люси с ужасом посмотрела на Мобрейля и сказала упавшим голосом:
— Вы хотите за деньги вернуть мне моего сына? Посмотрим… Сколько вам нужно? Назовите скорее сумму и ведите меня к нему!
— Это нельзя устроить так скоро, — возразил Мобрейль. — Я сейчас объясню вам, в чем дело. Повторяю, что ваш сын не подвергается никакой опасности, что его понадобилось только удалить от вас на несколько часов; но если вы образумитесь, то мы оба отправимся к нему послезавтра или же вы можете поехать одна по данному мною адресу в Англию и там обнимете вашего ребенка.
Люси облегченно вздохнула; в ее сердце проникла слабая надежда. Ее Андрэ не грозила непосредственная опасность, она может найти его! Но какой ценой? Она вздрогнула, вспомнив, что этот низкий Мобрейль, имевший раньше на нее виды, мог потребовать в виде выкупа за малютку любви, которая ужасала ее как преступление и одна мысль о которой казалась ей невыразимо отвратительной. Молодая женщина' не смела ни о чем спрашивать того, кто тиранил ее с таким хладнокровием, и замолчала.
Однако Мобрейль продолжал:
— Так как вы немного образумились и с вами можно поговорить теперь толком, позвольте мне напомнить вам те условия, в каких находитесь вы, ваш ребенок и Шарль Лефевр. Император Наполеон из благодарности к своему другу и верному слуге Лефевру, храброму генералу, пожаловав его титулом герцога Данцигского, назначил ему прекрасное обеспечение в виде двух миллионов франков дохода, постоянного и неотъемлемого, верное богатство. Ведь вам это известно не так ли?
Люси пролепетала чуть слышно в ответ:
— Я не вижу, какое отношение может иметь это богатство маршала ко мне и моему сыну.
— Мы сейчас дойдем до этого, — ответил Мобрейль. — Этим императорским майоратом не могут распоряжаться по произволу ни маршал, ни его жена, герцогиня Данцигская. По закону он переходит по мужской линии от одного наследника к другому навсегда, то есть после маршала Лефевра — к его сыну Шарлю, а после Шарля — к его внуку, вашему сыну Андрэ… при одном условии, однако, если ребенок будет признан законным сыном Шарля Лефевра. Вы слышали? Вы поняли ясно?
— Да! Но к чему вы клоните?
— К тому, что для этого нужно или чтобы Шарль Лефевр женился на вас и признал прижитого от вас ребенка, или же… — Мобрейль не договорил и внезапно задал вопрос: — Как вы думаете, Шарль Лефевр расположен к женитьбе на вас и к признанию вашего сына?
— Его намерения неизвестны мне.
— Но я знаю их, — сказал Мобрейль. — Пока будут живы его отец и мать, не может быть речи о браке между вами; после них Шарль получит в наследство большое состояние; он будет иметь прекрасное положение при дворе потому, что его величество Людовик Восемнадцатый оказывает большой почет этому сыну маршала империи, чуждому всякого бонапартистского влияния и предубеждения и, по-видимому, приверженцу законной монархии. Таким образом, весьма сомнительно, чтобы вы когда-нибудь стали законной женой Шарля Лефевра, а ваш сын Андрэ — наследником майората.
— С меня и моего сына будет достаточно привязанности Шарля Лефевра, и если его положение помешает ему впоследствии относиться ко мне как к законной жене, то оно всегда позволит Шарлю доставить его сыну материальное обеспечение. На этот счет я спокойна.
— Не спорю, — согласился Мобрейль, — но люди, принимающие в вас участие, смотрят на ваше положение иначе… Ведь Шарль Лефевр сильно привязан к своему ребенку?
— О да, он обожает Андрэ!
— Тем лучше! Я сказал вам, что ваш сын предоставлен попечению моих друзей, которые увезли его в Англию, но вы еще не знаете, с какой целью. Мне хочется составить счастье этого мальчика и ваше собственное. Ввиду того, что Шарль Лефевр, по вашим словам, сильно привязан к своему сыну, я думаю, что у него хватит смелости пойти наперекор недовольству своего отца и даже гневу своей матери, грозной супруги маршала, и он женится на вас, когда узнает…
Мобрейль остановился.
— Договаривайте! — воскликнула растерявшаяся Люси. — Почему принимаете вы участие во мне и моем ребенке? Почему вам хочется, чтобы Шарль женился на мне?
— О, это очень просто! Я вовсе не добиваюсь того, чтобы он женился на вас; мне нужно только, чтобы он признал законным сыном вашего мальчика, который тогда сделается наследником маршала.
— Но это зависит от воли Шарля, а также и от благосклонности его родителей. Я тут ни при чем. Я не позволю себе требовать от него усыновления своего ребенка и в то же время недоумеваю, что заставляет вас действовать таким образом, как будто в вашу пользу.
— Я говорю с вами откровенно. Вам нет надобности не доверять мне. Нужно только, чтобы вы содействовали немного моему плану, представляющему бесспорные выгоды для вас и вашего сына. Вот в двух словах, чего я от вас хочу: так как вы можете сделаться женой Шарля Лефевра лишь путем преодоления трудностей, распрей, борьбы и, пожалуй, судебного процесса, с чем вы, бесспорно, согласны, то слишком ли больно было бы вам, если бы он дал свое имя женщине своего звания, своей среды, которой не отвергли бы маршал Лефевр и герцогиня?
У Люси вырвался жест удивления, и она воскликнула:
— Как! Вы собираетесь женить Шарля на другой женщине и хотите, чтобы я содействовала этому?
— Да! О, конечно, не прямо! Вы не станете вмешиваться ни во что, и когда Шарль сообщит вам о своей женитьбе, вы избавите его от упреков, сцен и тому подобного. Не лишним было бы даже, если бы вы согласились помочь ему или, по крайней мере, облегчить первые шаги его к союзу, согласному с общественными требованиями.
— Что вы говорите? Вы хотите, чтобы я сама толкнула Шарля в объятия другой женщины? Но это невозможно! Это чудовищно!
— Это действительно жертва, но, во-первых, никто не обязывает Шарля Лефевра быть верным своей жене. После женитьбы он сможет вернуться к вам…
— Дележ! Это было бы еще отвратительнее!
— В данную минуту дело идет не о том, что вам более по душе, но об участи вашего сына. Если вы желаете получить его обратно, если Шарль Лефевр любит этого мальчика и желает ему счастья, то нечего делать! Надо подчиниться моей воле!
— Чего же вы требуете? — замирающим голосом спросила Люси.
— Чтобы вы дали совет Шарлю Лефевру жениться на молодой особе, с которой его познакомят и которая представляет для него одну из самых приличных партий.
— А как зовут эту особу? Кто она такая? — стала допытываться трепещущая Люси.
— Это моя сестра, — просто ответил Мобрейль, — молодая женщина, превосходная во всех отношениях, вдова одного итальянского маркиза. Она замечательно красива, очень умна; Шарль Лефевр найдет в ней настоящий клад. Вдобавок маркиза Люперкати по моим советам согласится формально усыновить маленького Андрэ.
— Моего сына? Этой женщине сделаться его матерью! О, никогда… никогда!
— В таком случае, — возразил Мобрейль, поднимаясь с места, — мне, к сожалению, пора проститься с вами. Вы останетесь здесь в течение указанного мною срока. — Затем, взявшись за ручку двери, он обернулся и прибавил сухим тоном: — Когда наступит час вашего освобождения, слуга проводит вас до кареты, в которой вы приехали сюда. Вы вполне успеете еще поразмыслить и дать мне ответ. Но когда вы покинете этот дом, карета доставит вас на место, которое не позволит вам дознаться, куда вы были привезены. Тогда будет слишком поздно! Я сам уеду в Англию и вы никогда не увидите более своего ребенка! Поразмыслите же хорошенько.
С воплем отчаяния Люси рухнула на паркет, пока Мобрейль открывал и запирал дверь, за которой скрылся.
IV
А между тем накануне этого происшествия с Люси случилось следующее.
Чтобы успокоить тревогу герцогини, ла Виолетт покинул бал в самом разгаре и отправился в Пасси, где, как ему было известно, Шарль Лефевр имел тайную квартиру. Старый служака не колебался разыскивать молодого человека у его возлюбленной, так как, сообщив отставному тамбурмажору адрес ее домика, Шарль позволил ему явиться туда в случае крайней надобности.
Подойдя к скромному жилищу, ла Виолетт увидал, что одно из окон еще освещено. Он постучал как можно осторожнее концом трости в наружный ставень одного из темных окон нижнего этажа, и сейчас же приотворился решетчатый ставень освещенного окна на втором этаже, и мягкий женский голос спросил;
— Что такое? Это ты, Шарль?
Ла Виолетт, умерив свой громовой бас насколько мог, мягко произнес:
— Я пришел узнать, не здесь ли господин Шарль Лефевр.
В освещенной раме окна показался женский силуэт, и тот же музыкальный голос продолжал:
— А зачем он вам нужен? Разве с ним случилось что-нибудь?
Старый солдат стал в тупик.
Он опасался совершить бестактность и навлечь неприятности на Шарля Лефевра. Он тотчас же подумал, что Шарль, красивый молодой кавалер, имел право позабавиться, что, пожалуй, у него могли быть две-три возлюбленных и потому стоило ли поднимать тревогу в этом мирном убежище, где ничего не знали о его шалостях на стороне?
Если Шарля не было в этом доме, где ла Виолетт рассчитывал застать его, то, значит, он коротал вечер у другой красотки или замешкался на приятельской пирушке. А быть может, он уже сам явился, хотя и опоздав, к матери, пока он рыскал тут, в Пасси? Ла Виолетт подумал, что будет благоразумнее ничего не говорить, избегая всякого переполоха, а завтра объясниться с Шарлем, оправдать свой нескромный приход сюда тревогами материнского сердца герцогини. Ведь совсем напрасно усиливать и подтверждать беспокойство молодой женщины, которая не ложилась спать, поджидая вертопраха, шатавшегося черт знает где.
Однако смущенное молчание старого ветерана озадачило Люси и она заговорила опять в испуге:
— Видели ли вы сегодня Шарля? Он не болен по крайней мере? Успокойте меня, прошу вас. Не оставляйте в неизвестности! Если его постигло несчастье, скажите мне, не скрывайте ничего! Где бы он ни находился, я поспешу к нему всюду.
— Я позволил себе прийти сюда именно по той причине, что не видал сегодня господина Шарля Лефевра. Мне нужно видеть его по служебным делам.
— Но ведь Шарль уже не занимает никакой должности. Что хотели вы сообщить ему?
— Кажется, — пробормотал ла Виолетт, который был не мастер лгать, — дело идет о новом назначении для него или о важной командировке. До свидания! — И во избежание дальнейших расспросов, добряк тамбурмажор сделал полуоборот, помахивая своей тростью с какой-то нерешительностью, явно говорившей о его тревожном настроении.
Он медленно добрался пешком до особняка на Вандомской площади, тогда как после его ухода загородный домик снова погрузился в тишину, а плотно закрытый решетчатый ставень опять пропускал тусклый свет, от которого веяло тоской ожидания и почти погребальной грустью.
Когда ла Виолетт вернулся домой, было уже очень поздно. Он расспросил привратника, вернулся ли Шарль Лефевр, и, узнав, что того еще не было, счел за лучшее не расстраивать еще сильнее бедную герцогиню, которая сидела с несколькими запоздалыми гостями. Ла Виолетт решил, что она могла успокоить себя мыслью, что ее сын ночует в Пасси, в каком-то месте, как будто известном ему, ла Виолетту, а потому было лучше оставить ее в этом заблуждении до утра, когда еще успеется открыть ей истину. Ввиду всего этого почтенный ветеран улегся спать очень не в духе.
На другой день он опять отправился с утра в Пасси, где без труда нашел знакомый домик. Все окна в нем были распахнуты. Две служанки суетились в комнатах, таскали воду, подметали полы, проветривали домик, а в саду, делая из песка каравайчики с помощью деревянного ведерка, играл маленький мальчик с длинными, необычайно шелковистыми локонами, с кротким, задумчивым лицом.
Ла Виолетт не решился расспрашивать прислугу; он обождал немного, а потом, видя, что молодая служанка удалилась из сада с ведром воды в руке, приблизился к садовой решетке и потихоньку позвал:
— Мальчик! Эй, мой дружочек!
Удивленный ребенок поднял голову и стал с любопытством смотреть на великана добродушного вида, который улыбался ему, поглаживая седую эспаньолку.
— Не бойся, малютка! Тебя окликает друг твоего отца. Скажи мне, дома ли твой папа Шарль?
— Моего папы нет дома, но он придет, — ответил ребенок и, бросив свои песочные караваи, побежал на террасу с криком: — Мама! Мама!
— Я думаю, мне лучше уйти, — сказал сам себе тамбурмажор. — Незачем пугать во второй раз хозяйку.
И он стремительно завернул за угол улицы, так что когда Люси, встревоженная зовом сына, бросилась в сад, то не увидала там никого. Она стала спрашивать об этом человеке, добивавшемся поговорить с тем, кого она называла своим мужем, но ее старания были безуспешны. Уже во второй раз незнакомец приходил справляться таким образом. Что происходило со вчерашнего дня? Шарль отсутствовал дома, потому что и вчера ночью, и сегодня утром приходили искать его в этом уединенном убежище, неизвестном никому. На минуту у Люси мелькнула мысль о заговоре, об аресте, о каком-нибудь политическом событии; она предпочитала это предположение другому — раздражающей мысли, которая появляется всегда в часы ожидания и одиночества, а именно мысли о женщине, которая удерживала у себя любимого человека.
И вот тогда Люси поднялась вновь в свою обсерваторию на втором этаже и провела там долгий, томительный день, прежде чем получила подозрительнее послание, которое должно было завлечь ее в западню, расставленную Мобрейлем.
Ла Виолетт, хотя и дважды потерпел неудачу, все же не оставлял своих розысков, будучи уверен в том, что застанет-таки Шарля в его укромном убежище. Так как и вечером на другой день молодой Лефевр не вернулся в родительский дом, то, успокоив герцогиню уверением, будто ее сын поехал с друзьями за город, о чем говорил ему заранее, но что вылетело у него из головы — чистая беда: от старости слабеет память! — тамбурмажор в третий раз отправился в Пасси.
— Право, я становлюсь жителем этой деревни! — сказал он про себя, со свистом рассекая воздух тростью. — Кончится тем, что меня будут все знать в этой стране дикарей. Но если и эту ночь наш Шарль не ночевал в своем гнезде, значит, с ним случилось что-нибудь неладное. Невозможно, чтобы он не показывался без причины трое суток подряд ни у своей матери, ни у этой женщины, к которой, по-видимому, юноша питает сильную привязанность. Как может он пропадать таким образом, не предупредив заранее своих близких и заставляя их томиться неизвестностью? О, мне надо раскрыть это дело! Я расспрошу хозяйку домика. Может быть, она сообщит мне сведения, которые наведут меня на след…
Было около десяти часов вечера, когда старик приблизился к жилищу Люси. Он ожидал по-вчерашнему увидеть свет, проникавший сквозь решетчатые ставни. Ему живо представлялось, как на его зов в полуоткрытом окне покажется белокурая голова, а потом стройная фигура молодой женщины в светлом пеньюаре и нежный голос ответит на этот раз: «Шарль здесь!» Но, подойдя к воротам, он остановился почти в изумлении: домик был совершенно темен и безмолвен и производил какое-то успокаивающее впечатление.
«Черт возьми! — подумал ветеран. — Наши голубки, должно быть, мирно спят. Стоит ли тревожить их? Я полагаю, что моя миссия исполнена. Вчера дожидались и бодрствовали; сегодня спят, значит, ждать некого, Шарль здесь. Все благополучно. Поспешим успокоить герцогиню!»
Ла Виолетту оставалось только удалиться, но в нем проснулся инстинкт старого вояки, привычного к засадам, ночным тревогам и разведкам, и заставил его пройтись мимо спящего дома, насторожив чуткий слух. Старик говорил себе, что если бы случайно он услышал голос Шарля, разговаривавшего со своей подругой, он убедился бы тогда в его возвращении и мог бы, не кривя душой, сообщить герцогине утешительные вести о ее сыне. С этой целью он приблизился к окнам нижнего этажа, которые выходили из кухни и сеней, после чего, прижавшись к стене, стал прислушиваться и уловил чье-то хриплое дыхание, долетавшее из нижних комнат.
— Там храпят люди, — сказал себе тамбурмажор, однако ради успокоения совести нагнулся еще ниже, припал ухом к перекладинам кухонного окна и прислушался внимательнее прежнего, затаив дыхание, после чего, минуту спустя, пробормотал: — Это как будто ненатуральный сон; храп похож на ворчанье или, скорее, нет, это иное! Мне не раз случалось слышать вот точно такие звуки в Испании, в склепах монастырей, взятых приступом, и в Польше, во дворах сожженных домов. Это хрипенье людей, не добитых до смерти. Однако что за чепуха лезет мне в голову! В этом домике спят мирным сном, а их несколько тяжелый храп производит на меня впечатление чего-то… О, как легко разыгрывается фантазия у человека ночью и какие глупости мерещатся ему тогда! В потемках прямо глупеешь! Это смешно! Однако у ворот я как будто вижу следы колес, затоптанную землю…
Ла Виолетт поспешно направился к саду и толкнул решетчатую калитку; она подалась, и старик очутился в саду.
— Как странно! — пробормотал он. — Калитка не заперта! Ну, что же, войдем… я хочу посмотреть… хочу убедиться, что тут не произошло ничего серьезного!
Различив в темноте террасу, он поднялся по ее ступеням. Дверь в сени была распахнута настежь, но дорогу преграждали два опрокинутых соломенных стула в прихожей, и ла Виолетт, подняв их, продолжал двигаться вперед ощупью, а затем сказал про себя:
— Надо подать голос! Я крадусь, словно вор! Сам-то я не боюсь, но здешние обитатели, услыхав мои шаги, могут испугаться. Ах, проснутся ли только они! Все спят мертвецким сном. Диковинное дело! Этот дом внушает мне подозрение… Я должен разузнать, должен посмотреть. — И ла Виолетт закричал во все горло: — Есть ли тут кто-нибудь? Я пришел от господина Шарля Лефевра. Отвечайте! Не бойтесь!
Громовой голос замер в пустоте. Ничто не шелохнулось.
Тогда ветеран повторил еще громче:
— Есть ли тут кто-нибудь? Да проснитесь же! К вам пришел друг! — И он прибавил, убедившись вторично в безмолвии: — Да отвечайте наконец! Что вы тут, умерли, что ли? Я ла Виолетт, бывший плац-адъютант, награжденный орденом из рук самого императора. Пусть никто не боится, но подаст голос. Проснитесь, вставайте, иначе я все перебью вдребезги, разнесу, черт побери!
Увы! Единственным ответом вояке служила глубокая тишина и никто из спящих не отозвался на его громогласный призыв. Тогда он завертел своей тростью, раздраженный, встревоженный, и поднял адский шум, способный вызвать переполох даже в госпитале глухонемых. Но дом оставался по-прежнему безмолвным, загадочным жуткой тишиной.
— И нет огня, тысяча дьяволов! — выругался ла Виолетт, после чего двинулся наудачу по темному коридору.
Он шел как слепой, нерешительно ощупывая стены тростью, топая ногой по полу, отыскивая выход. Наконец ему попалась дверь с правой стороны. Слабый свет, проникавший в окно, защищенное решеткой, но без ставня, помог старику осмотреться в помещении, куда он вошел; то была кухня.
«Вот если бы раздобыть огонька!» — подумал ла Виолетт и принялся шарить на очаге, ощупывая все попадавшееся ему под руку, но не находя огнива.
Во время этих поисков его нога споткнулась обо что-то, распростертое на полу. Старик чуть не упал. Он наклонился, протянул руку и оцепенел, нащупав женскую юбку. У его ног валялось что-то… Зловеще неподвижная женщина…
Тамбурмажор отпрянул в испуге к окну и тут, протянув руку, нащупал тело мужчины, по-видимому привязанного к скамье.
— Живы ли вы? — закричал он. — Отвечайте! Не бойтесь ничего: я пришел вам на помощь.
Глухой стон, храпенье, услышанное ла Виолеттом раньше с улицы, вырвались у неподвижной массы, стянутой веревками на лавке.
Перед лицом опасности к ла Виолетту всегда возвращалось самообладание. Поэтому и теперь, когда он начал понимать случившееся и с минуты на минуту ожидал столкнуться с убийцами, у него пропала всякая тревога. Спокойно надев ременную петлю трости на одну из пуговиц сюртука, чтобы освободить руки, и понимая, что у человека, распростертого и связанного на лавке, должен быть заткнут рот, он старался снять повязку, мешавшую тому говорить; он решил, что надо собрать сведения, прежде чем двинуться дальше.
После нескольких ощупываний ла Виолетту удалось вытащить затычку изо рта связанного человека и он поспешил расспросить освобожденного им субъекта.
Хриплым голосом, которым он не владел от ужаса, несчастный пробормотал;
— Помогите! Злодеи, они убили меня! Пить! Я задыхаюсь.
— Я подам тебе пить, — ответил тамбурмажор, — но раньше скажи мне, где у вас огонь… хоть огниво?
— У меня в кармане, — промолвил бедняга весь дрожа.
Ла Виолетт пошарил в указанном месте, взял огниво, ударил по кремню и осмотрелся при свете зажженного фитиля. Он зажег свечу, стоявшую на кухонном столе, и смог наконец сообразить, где находится и что здесь произошло.
Зрелище было потрясающее. На полу валялась женщина с остановившимися глазами и окровавленным лицом, казавшаяся мертвой. На лавке мужчина, которого освободил нежданный избавитель, не смел пошевелиться, будучи по-прежнему неподвижным и распростертым, точно был еще связан. Следов ран на нем не было заметно; он, казалось, только задыхался.
— Что с вами случилось? Далеко ли убийцы? — спросил ла Виолетт.
Пострадавший утвердительно кивнул головой, после чего, протягивая руку к телу, лежавшему на полу, прошептал: «Моя бедная жена!» — с трудом поднялся и бросился к ней.
Женщина открыла закатившиеся глаза, сделала резкий жест, точно стараясь оттолкнуть целовавшего ее мужчину, а потом, энергично приподнявшись и упершись рукой в стену, проворно вскочила на ноги и стала растерянно и с любопытством смотреть на ла Виолетта.
— Кто вы такой? Не из шайки ли тех негодяев?
— Успокойтесь, — ответил тамбурмажор, — я проходил мимо, услышал ваши стоны и подоспел вам на помощь. Расскажите мне скорее, что произошло тут! Вы не опасно ранены?
Женщина провела рукой по лбу и сказал:
— Меня схватили тут, на кухне, трое мужчин, неизвестно как забравшиеся к нам. Один из них ударил меня по голове, и я упала. С того момента я ничего не видела, ничего не слышала. Отчего ты не защитил меня, Пьер? — спросила она мужа.
— Услышав шум, — ответил тот, — я спустился с верхнего этажа, где ждал тебя, чтобы ложиться спать. Те же люди, которые ударили тебя, кинулись ко мне и чуть не задушили, а потом привязали к этой скамье. После этого они ушли, погасив огонь. Вот все, что я знаю.
— Ах, Боже мой, а что с хозяйкой? — спросила служанка, точно внезапно опомнившись.
— А Мэри? А ребенок? — прибавил ее муж, всплеснув руками.
Ла Виолетт не дал им времени ответить на эти вопросы. Он поспешил спросить:
— Но разве Шарля Лефевра не было тут? Не его ли искали убийцы?
— Нет, хозяин не приходил вот уже два дня. Здесь с нами только Мэри и ребенок.
— А эта дама, ваша хозяйка, ведь она белокурая, не так ли? Ведь это ее видел я вчера у окна? — продолжал тамбурмажор.
— Надо сказать вам, — ответила служанка, видимо оправившись, — что хозяина ожидали у нас в доме с третьего дня. Сегодня вечером явился какой-то человек с запиской к хозяйке: должно быть, хозяин вызывал ее к себе. Как бы то ни было, она немедленно собралась и уехала, приказав нам хорошенько стеречь дом, а Мэри оставила при ребенке.
— Значит, ваша хозяйка не возвращалась? Ну, а эта Мэри и маленький мальчик… Где же они?
— Мэри с ребенком легли спать в своих комнатах. Это наверху.
— Поднимемся скорее к ним! — предложил ла Виолетт. — Мне, видите ли, кажется странным, что убийцы приходили сюда только с целью заткнуть вам рты и пришибить вас. Показывайте мне дорогу!
Старый ветеран взял свечу в левую руку, а в правую трость, и все они трое поднялись по внутренней лестнице.
Приблизившись к дверям детской, они ясно расслышали рыдания и глухой зов. Тогда тамбурмажор проворно распахнул дверь комнаты, откуда неслись эти зловещие звуки, и нашел привязанную к кровати, с заткнутым фуляром ртом молодую англичанку-бонну. Ла Виолетт вытащил платок у нее изо рта, и Мэри тотчас в испуге воскликнула:
— Андрэ? Что случилось с Андрэ?
Она хотела встать, но из-за волнения упала на кровать, откинув на подушку голову, и лихорадочным жестом указала на дверь смежной комнаты, распахнутую настежь. Ла Виолетт стремительно бросился туда и, водя по всем углам мерцающим светом свечи, напрасно искал ребенка.
Его постелька была смята, одна из подушек валялась на полу; одеяла исчезли. Очевидно, ребенка схватили и унесли сонного, завернув в них. Он не успел издать ни малейшего крика.
Трое слуг охали и стонали, причем сильнейшее отчаяние выказывала молоденькая бонна. Ла Виолетт не стал мешкать, выслушивая их жалобы, и поспешно спросил:
— Вы не можете дать мне никакого указания? Вы не запомнили нападавших на вас людей?
Кухарка с мужем ответили отрицательно, а Мэри расплакалась, не будучи в силах вымолвить ни слова.
— Итак, — продолжал тамбурмажор, как будто рассуждая про себя, — сюда проникли злоумышленники, чтобы похитить ребенка по имени Андрэ, вероятно, сына Шарля Лефевра. С какой целью совершено похищение, спрашивается. Впрочем, этим вопросом мы займемся потом. С другой стороны, мать, которой следовало находиться тут, неожиданно исчезла. Это опять весьма странно!
Ветеран покачивался с озабоченным видом в своей обычной манере размышлять, разбирал факты, присоединял одно показание к другому.
Исчезновение матери поставило его в тупик. Молодую женщину, вероятно, удалили из дома с помощью хитрости, чтобы без помехи овладеть ребенком. Слуги упоминали о письме. Но почему же она так скоро согласилась покинуть дом, оставить сына на слуг, пожалуй, нерадивых? Она откликнулась на зов без колебаний. Очевидно, бедная женщина ничего не опасалась. Пожалуй, за нею прислал Шарль.
Но Шарль Лефевр, отсутствие которого было необъяснимым, не мог устроить похищение своего сына. Значит, письмо было от неизвестного, от этих таинственных похитителей; людям, совершившим это злодейство, было известно, что отец и мать отсутствовали.
«Тут какая-то западня, — сказал себе ла Виолетт. — Но с какой целью? Это довольно трудно разгадать, и я недоумеваю, каким образом посвятить мне герцогиню в столь удивительные происшествия, потому что я не могу ничего понять в этом деле, которое кажется мне весьма мрачным уже и теперь».
В эту минуту на пустынной улице послышался стук колес.
— Как будто подъезжают сюда, — заметил тамбурмажор.
Слуга и его жена, прижимаясь в испуге друг к другу, а также молоденькая англичанка, вставшая наконец с постели, обступили ла Виолетта, точно ища у него защиты.
— Полно! Не бойтесь! — ободрял их старый ворчун. — У меня трость, а в случае надобности и мои пистолеты. Вдобавок мало вероятно, чтобы люди, совершившие преступление, вернулись сюда, словно позабыли тут что-нибудь. Подождем! Слышите? Калитка отворяется… Шаги в саду.
— О, Боже мой, это они1 — воскликнул слуга, забившись в юбки своей жены.
В этот момент показалась женщина с распущенными волосами, с ужасом во взоре и закричала еще с порога:
— Андрэ! Где Андрэ? Где мой Андрэ?
По позам молоденькой англичанки и обоих слуг бедная мать поняла постигшее ее ужасное несчастье и вместе с тем с удивлением и страхом уставилась на великана с палкой.
— Успокойтесь, — поспешил он сказать. — Я друг Шарля Лефевра, старый солдат его отца. Это я, ла Виолетт, услыхав стоны, явился на помощь вашим людям. Я вижу, что у вас украли ребенка. Но придите в себя и дайте мне нужные сведения; мы разыщем малютку!
— О, благодарю вас! Вы говорите, что мы найдем моего Андрэ? Вам известно, где он находится? Говорите, прошу вас!
— Я не знаю пока ничего, но если вы доверяете мне, то расскажите, как все произошло, то есть зачем вы ушли из дома, облегчив тем задачу людей, которые похитили вашего сына и, очевидно, знали о вашем отсутствии.
Люси прерывающимся от волнения голосом вкратце сообщила ла Виолетту о причине своих волнений. Она рассказала обо всех событиях, вызвавших ее отъезд из дома, и, не входя в подробности ловушки, расставленной Мобрейлем, сообщила только, что путем темных махинаций ее сына, вероятно, спровадили в Англию.
— В Англию? Отвратительная страна! — рявкнул ла Виолетт. — Вы напали на какой-нибудь след? Я хоть и не знаю вас, но ведь пропавший ребенок как-никак внук моего маршала! Канальи-англичане! Уж будьте уверены, что это их работа! Эти чудовища убивают императора медленной смертью. Ну, погоди же! Можете рассчитывать на меня! — обратился он к Люси. — Я сделаю все, чтобы отыскать вашего сына!
— Благодарю вас, — сказала Люси, протягивая ла Виолету руку, — я вижу, что могу всецело положиться на вас!
— И не раскаетесь! Но не можете ли вы дать мне более существенное указание для поисков? Англия велика, да и я недостаточно хорошо знаю ее, чтобы искать так, наобум… Ну-с, куда, по вашему мнению, могли упрятать мальца?
— Не знаю и, судя по всему, никогда не узнаю, что сталось с Андрэ и куда его отправили. Так, по крайней мере, уверял меня маркиз д'Орво.
— А, так вот чья здесь рука замешана! Маркиз д'Орво, граф Мобрейль? Ну, не поздравляю вас! Ведь это известный негодяй, предатель, убийца, вор! Он издевался над императором, хотел продать Вандомскую колонну пруссакам, предложил свои услуги, чтобы убить императора, украл бриллианты императрицы. А, так это Мобрейль украл вашего ребенка? Ну, попадись он мне теперь, придется ему рассчитаться оптом за все! Я к вашим услугам! Если хотите, давайте отправимся в Англию и постараемся вырвать вашего сына из его когтей!
— О да! — воскликнула Люси, которая почувствовала прилив надежды под влиянием энергичной речи старого солдата. — О да, отправимся сейчас же!
— Но не можем же мы пуститься в путь среди глубокой ночи! — ответил ей ла Виолетт. — Необходимо сначала приготовить все для дороги, а кроме того, я хотел бы поговорить кое с кем из влиятельных друзей, которые могут оказать нам немалую помощь. Вот завтра я к вашим услугам. Итак, до завтра?
— До завтра, до завтра! — словно безумная повторяла Люси, с доверием и надеждой пожимая на прощание руки ла Виолетта.
Попрощавшись, старый ворчун ушел, раздумывая по дороге о том, что судьба посылает ему опять такое предприятие, которое по внешнему виду кажется совершенно невозможным и в котором приходится уповать главным образом на Божие милосердие. Но он верил в то, что Бог не оставил без внимания материнскую скорбь, и надеялся на счастливый случай, который даст ему возможность переломать ребра Мобрейлю, если только тот подвернется под удары его дубинки. Ложась спать, он подумал, не следовало ли бы сообщить обо всем этом герцогине, но решение этого вопроса оставил до утра.
V
На следующее утро, посетив герцогиню, ла Виолетт застал ее в сильном волнении. Она рассказала ему, что в это утро маршал Ней должен предстать перед судом и что приняты все меры к тому, чтобы дать ему возможность бежать во время самого процесса. Во всяком случае решено было идти на крайние меры, но вырвать маршала из рук палачей. При этом она добавила, что, конечно, в данном случае рассчитывает и на него, ла Виолетта: пусть он соберет как можно больше друзей и станет с ними около тюрьмы, чтобы в случае чего рискнуть силой освободить маршала. Парижане — великодушный народ; они наверное встанут на их сторону, как только узнают, в чем дело, и не дадут — о, нет! — расстрелять маршала Нея!
Слушая это, ла Виолетт решил, что немыслимо теперь сказать храброй женщине об исчезновении ее сына и похищении внука. Такая весть могла взволновать ее, ослабить ее энергию, а ведь, несомненно, она была душой этого заговора, исход которого в значительной степени зависел от нее. Поэтому он решил промолчать обо всем, а в случае надобности даже солгать. Ведь дело могло зайти гораздо дальше: революции вспыхивают обычно от простой искры, и, кто знает, не превратится ли освобождение Нея в революцию, которая вернет снова былую славу Наполеону? И неужели же ставить на карту такой результат?
Обещав мадам Сан-Жень быть вовремя на месте, ла Виолетт простился и поспешил к Люси, чтобы уведомить ее о внезапном препятствии, мешающем ему исполнить данное вчера обещание и отправиться вместе с ней. Тем не менее он посоветовал ей не ждать его, а двинуться в путь сейчас же, причем добавил, что, как только он сможет, то отправится туда же, и они могут встретиться в гостинице «Король Георг», местонахождение которой он в точности указал Люси.
После безрезультатных попыток уговорить ла Виолетта не отказываться от данного обещания, молодая женщина решила последовать этому совету. Она знала, что ее брат, капитан Эдвард Элфинстон, с которым она порвала всякие отношения со времени бегства во Францию, вернулся в Лондон, и надеялась, что он не откажется помочь ей в поисках. Но она просила точно назначить день встречи с ла Виолетом, и последнему, чтобы как-нибудь избавиться от необходимости, с одной стороны — объяснить ей свое поведение, с другой — не проговориться о затеянном заговоре, пришлось солгать ей, будто Шарль попал в лапы полиции по политическому делу и что его, ла Виолетта, задержка вызывается намерением освободить молодого Лефевра.
Люси не очень беспокоилась о судьбе Шарля, так как ла Виолетт подтвердил, что дело чисто политическое в его арест не будет продолжителен. Молчание Шарля она объясняла строгими мерами предосторожности, принимавшимися бурбонской полицией при ее многочисленных арестах. Поэтому она уехала почти успокоенная, приказав кухарке, ее мужу и бонне передать хозяину, как только он вернется, длинное письмо, в котором объясняла ему все события. Она просила, чтобы Шарль присоединился к ней в Лондоне, куда она отправляется вместе с ла Виолеттом. Вместе с тем она оставила ему адрес гостиницы «Король Георг», где хотела ждать его. Люси не сомневалась, что, получив свободу, Шарль тотчас же отправится в Англию. Она так торопилась увидеться с Андрэ, что не хотела ни на минуту откладывать отъезд. Шарль поймет, почему она решила уехать с такой поспешностью, не постаравшись увидеться с ним; к тому же она даже не знала, куда заключили его. Ее ложное положение мешало ей предпринять в этом отношении какие-либо шаги. Ее встретили бы не особенно ласково, так как она не была законной супругой. Сверх того ла Виолетт уверил ее, что благодаря маршалу Шарль не долго останется под арестом.
Ложь, сочиненная им по поводу отсутствия Шарля, навела его на мысль, что герцогине тоже придется как-нибудь объяснить отсутствие сына и что она не смирится с такой шитой белыми нитками ложью, которой было довольно для Люси. Но как сообщить ей истину в столь критический момент? И, перебирая в уме все, что только можно было вообразить относительно причин исчезновения Шарля, старый ворчун повторял всю дорогу, выразительно вертя своей дубинкой:
— Тысяча чертей и одна ведьма! Ну куда только могло запропаститься это животное?
А между тем тому, кого так невежливо титуловал бывший тамбурмажор, пришлось пережить и на самом деле ряд не совсем обычных приключений.
В день бала, назначенного в доме Лефевров на Вандомской площади, Шарль, обещав матери появиться на балу вовремя и отговорившись тем, что он якобы назначил свидание нескольким друзьям по важному делу, ушел, чтобы провести вечерок с дорогими Люси и Андрэ.
Когда он проходил около Пале-Рояль, к нему вдруг подошел какой-то субъект и отрекомендовался его старым товарищем, виконтом де Тивервалем. Хотя Шарлю лицо Тиверваля показалось совершенно незнакомым, но память подсказывала, что как будто в его классе действительно был такой ученик. Поэтому, не видя причин особенно противиться возобновлению знакомства с этим весьма приличным на вид человеком, Шарль без особенных уговоров согласился посидеть с ним в ближнем кафе.
Там они разговорились и как-то случайно было упомянуто имя Наполеона.
— Черт возьми! — воскликнул виконт. — Завтра бонапартистов постигнет жестокий удар! Ведь вы знаете — я служу в министерстве иностранных дел и имею возможность читать из первых рук приходящие депеши. Ну, так вот: только пришла телеграмма с сенсационным известием, что Наполеон помешался там, на острове, и в припадке безумия перерезал себе горло. Завтра это известие будет опубликовано.
— Боже, какое несчастье! — с волнением произнес Шарль.
— Несчастье? — переспросил виконт де Тиверваль. — Разве вы играете на бирже или, чего доброго, вы бонапартист?
— На бирже я не играю и по убеждениям я роялист, — ответил Шарль, — но мои родители очень привязаны к Наполеону, и это известие страшно поразит их. Сегодня они как раз дают большой бал, и как им будет неприятно узнать, что в этот же день умер тот, кого они так любили! Однако, — прервал он сам себя, — я с вами заговорился. Очень рад был возобновить с вами знакомство! — И с этими словами Шарль распрощался с виконтом и вышел из кафе, чтобы взять извозчика.
Однако в тот момент, когда он собирался окликнуть извозчика, чья-то тяжелая рука легла на его плечо. Шарль оглянулся и увидал перед собой незнакомца подозрительного вида, говорившего с ним с самым вызывающим видом:
— Вы сейчас сказали этому господину, что Бонапарт умер? Это неправда!
— Я не говорил, что Наполеон умер. Мне сообщили это известие, и я не могу проверить его, но во всяком случае я не позволю вам говорить со мной таким тоном!
— Мне следовало бы нарвать вам уши, чтобы вы знали, как распространять ложные известия, возбуждающие страсти.
— Я ни в каком случае не разжигаю страстей и вам не придется нарвать мне уши. Полученное известие очень серьезно. Несомненно, что оно глубоко взволновало вас, и только ради этого я извиняю вашу резкость; этим вы только доказываете, что в данный момент вы не владеете собой. Поэтому отправляйтесь своею дорогой, а я пойду своей.
— Я не требую от вас извинений, — снова гневно заговорил незнакомец. — Меня зовут маркиз д'Орво, граф де Мобрейль. Я враг этого негодяя Бонапарта. Вы же, по-видимому, относитесь сочувственно к нему, как можно было судить по тону, каким вы передавали известие. Вы принадлежите к тем негодяям-бонапартистам, наглости которых мы не потерпим долее.
— Вы ошибаетесь, — возразил все еще сдержанно Шарль, — я не принадлежу к числу партизанов Наполеона и считаю, что наш король делает все возможное для счастья своего народа, и я вполне доволен данной населению хартией. Но я — сын маршала империи и поэтому требую, чтобы вы немедленно же взяли обратно оскорбительные выражения, сказанные вами по адресу тех, кто служил низложенному императору.
— Я ничего не возьму обратно, — сказал Мобрейль, — но так как вы защищаете негодяев-бонапартистов, то мы можем решить спор с оружием в руках, а пока…
С этими словами граф взмахнул хлыстом и хотел ударить им Шарля. Но молодой Лефевр вырвал хлыст из рук Мобрейля и крикнул ему:
— Вы нахал и забияка. Требую удовлетворения за нанесенное мне оскорбление!
— Пожалуйста, хоть сейчас! — ответил тот. — Благоволите проследовать обратно в кафе! Там найдется пара добрых шпаг, и мы можем быстро покончить с нашим делом.
Действительно, в конторке буфетчика нашлась пара дуэльных рапир, и дуэлянты, окруженные собравшимися вокруг них посетителями кафе, привыкшими к подобным столкновениям между роялистами и бонапартистами, принялись отыскивать удобное место. Один из присутствующих предложил им воспользоваться для этого бильярдом, и это предложение было принято. В один миг противники сняли верхнее платье и со шпагами в руках вскарабкались на бильярд.
Посетители кафе из деликатности вышли в соседнюю комнату и оттуда стали следить за поединком.
Виконт де Тиверваль и один из его друзей подошли к Шарлю и предложили свои услуги в качестве секундантов. Двое других посетителей стали на сторону Мобрейля.
Рапиры скрестились, и поединок начался. Шарль, несмотря на молодость, далеко не отличался в искусстве фехтования. Его противник довольствовался тем, что отражал его удары, стараясь утомить Шарля.
После целого ряда схваток, когда атаки Шарля стали уже слабее, Мобрейль яростно напал на него и через минуту его рапира пронзила грудь Шарля.
Последний выпустил из рук рапиру и зашатался. Поддерживаемый виконтом де Тивервалем и другим секундантом, он спустился с бильярда и был перенесен на один из диванов кафе. Находившийся среди присутствующих врач сделал первую перевязку, а затем распорядился, чтобы раненого немедленно же отвезли домой.
Шарль Лефевр слабеющим голосом прошептал Ти-вервалю:
— Отвезите меня к матери на Вандомскую площадь. Но пусть примут предосторожности, в особенности…
Он не докончил фразу, потеряв сознание.
У него едва хватило сил дать этот адрес. Ему не хотелось, чтобы его повезли к нему в дом в таком виде. — Люси и маленький Андрэ были бы слишком испуганы, увидев его раненым.
Виконт де Тиверваль с готовностью предложил проводить раненого. К тому же он, по-видимому, был единственным лицом, который знал его. Его противник поспешил скрыться.
Послали за каретой и раненого с большими предосторожностями перенесли в нее. Кучер наклонился, чтобы спросить адрес, и виконт почти шепотом сказал ему, куда ехать. Он не хотел, чтобы собравшаяся вокруг кареты толпа посторонних людей узнала имя и адрес раненого.
Карета покатила, а посетители кафе возвратились к своим столикам, чтобы продолжать прерванные партии в карты и домино. Подобные поединки между политическими противниками были не редкостью и обыкновенно лишь на короткое время привлекали внимание любопытных. Кроме того, предполагали, что рана не опасна и раненый принадлежал к числу ярых бонапартистов.
VI
Когда Шарль Лефевр очнулся от забытья, в которое впал, когда его несли в карету, то в первый момент подумал, что бредит в приступе лихорадки. Он увидел, что находится в элегантно обставленной комнате и лежит на громадной чужой постели. Около него стояла молодая брюнетка в изящном утреннем туалете, которая обратилась к нему нежным голосом:
— Хорошо ли вы спали? Лучше ли вам? — Заметив, что раненый с удивлением осматривается по сторонам, она прибавила: — Лежите спокойно и не волнуйтесь! Доктор сказал, что вы скоро выздоровеете, но только вам нужен абсолютный покой!
— Но где же я, скажите, ради Бога? Кто вы такая?
— Вы у добрых друзей. Скоро все объяснится, а пока выпейте вот это лекарство! — И молодая женщина, сверкая ослепительной красотой, грациозно поднесла ему какое-то питье, в котором, наверное, был опий, так как Шарль снова сразу же уснул.
Когда он вторично проснулся, то долго не мог прийти в полное сознание. Он уже не спал, но еще не бодрствовал, так как у него не было ясного представления о действительности. Далекое и близкое — все перепуталось в его голове, и фигуры Наполеона, Людовика XVIII, императора Александра как-то фантастически правдоподобно смешались с образами матери, Люси и маленького Андрэ.
И вдруг из этого хаоса впечатлений вынырнуло лицо той очаровательной, кроткой мадонны, которая говорила с ним таким ласковым голосом, подносила питье, обещала быстрое выздоровление. Почему ее нет здесь с ним? О, она, наверное, придет — он это чувствовал!
Мало-помалу сознание крепло и прояснялось. Тогда ему опять пришли на ум странность и таинственность случившегося. Почему он здесь? Кто хозяева этого помещения? Почему они взяли его к себе, а не отвезли, как он просил, к матери?
В соседней комнате послышался шепот двух человек. Шарль стал прислушиваться, надеясь уловить из этого разговора хоть какое-нибудь объяснение случившегося. Но разобрать слова ему не удалось, а напряжение настолько утомило его, что он снова впал в тяжелое оцепенение.
Вдруг скрипнула дверь и на пороге комнаты появилась вчерашняя незнакомка. Шарль прикрыл глаза, притворяясь спящим, чтобы иметь возможность без помехи отдаваться радостному созерцанию этого милого образа. Его уже влекло к ней, влекло сильно и сладостно…
Молодая женщина подняла штору, и в комнату хлынул ослепительно яркий солнечный день. Затем она подошла к постели и посмотрела на раненого.
Шарль открыл глаза и сделал вид, будто только что проснулся. Молодая женщина сказала ему: «С добрым утром», — спросила, как он провел ночь и осведомилась, не нужно ли ему чего-нибудь.
— О, нет! Ничего! Только видеть вас, только слышать мелодию вашего голоса! — ответил Шарль, жадно впиваясь взором в свою хорошенькую сиделку, которая, видимо, была очень приятно тронута комплиментом, звучавшим в его ответе. Но она все-таки укоризненно покачала головой и сказала, что ему нельзя так много говорить, так как доктор поставил это условием выздоровления.
— Если вы запрещаете мне говорить, — ответил ей Шарль, — то дайте по крайней мере возможность хоть видеть вас! О, не уходите, умоляю вас!
— Я не ухожу, — успокоила его незнакомка, — но только будьте рассудительны и помолчите!
Она подсела к нему на кровать и в течение целого часа Шарль мог наслаждаться созерцанием незнакомки, которая с какой-то непонятной силой все больше и больше захватывала его душу. Затем она ушла, обещав вскоре вернуться, и Шарль снова впал в полусонное забытье, пытаясь разобраться в странности и необъяснимости своего положения.
К вечеру, после посещения доктора, отметившего улучшение в здоровье и распорядившегося относительно диеты и нескольких перевязок, Шарль выразил желание сообщить некоторые сведения о себе лицам, которые, как он сказал своей обольстительной сиделке, должны быть сильно обеспокоены его отсутствием.
Молодая женщина попросила продиктовать ей письмо и, взяв перо и бумагу, с грациозной любезностью предложила себя в секретари.
Шарль колебался. Он не хотел давать адрес и имя Люси. И тем не менее ему очень хотелось известить как-нибудь и успокоить подругу. Следовало также предупредить и мать, которой он вместе с тем не хотел говорить всю правду. Само собой разумеется, герцогиня была не из тех женщин, которые способны упасть в обморок при одном виде обнаженного клинка, но, узнав о том, что он ранен, она, вероятно, приедет, чтобы отвезти его к себе на Вандомскую площадь. И тогда прощай светлое явление, прощай ангел-хранитель у его постели! Он, может быть, никогда в таком случае не узнает имени незнакомки и роман окончится, не успев начаться… Да, но все-таки нужно предупредить мать и сообщить часть истины Люси, не пугая ее. Кроме того, желая сообщить всем, кто будут обеспокоены его отсутствием, Шарль в то же время хотел насколько возможно продлить свое пребывание в гостеприимном доме. Ему так было хорошо и он хотел остаться. Подумав, Лефевр продиктовал своей прекрасной сиделке короткую записочку к ла Виолетту, в которой извещал верного тамбурмажора о случившейся дуэли и полученной ране, которая вскоре будет излечена, и попросил его осторожно предупредить о случившемся Люси и мать.
Взяв перо, чтобы подписаться под письмом, Шарль подумал, что следовало бы дать ла Виолетту свой адрес. Но когда он сказал об этом своей сиделке, та, отрицательно покачав головой, улыбаясь, ответила ему: — Вы обещали мне, что будете меньше говорить. Так зачем же вы затрудняете себя вопросами, на которые я не могу вам ответить? Прошу вас, ограничьтесь тем, что ваше письмо будет отправлено по адресу, но не пытайтесь далее узнавать, кто я и где вы находитесь. Верьте мне и будьте уверены, что вскоре все это разъяснится.
И снова молодой человек принялся ломать голову необъяснимыми вопросами. К чему молодой женщине таиться от него? Кто мог привезти его к ней? Знала ли она, кто он такой? Девушка она или замужем? Но если она замужем, то где же ее муж? Может быть, она жила самостоятельной, независимой жизнью? Но к чему же тогда эта игра в прятки?
Он терялся в предположениях, но не подвигался ни на волос далее.
В течение трех дней в закрытой и тихой комнате происходили все те же сцены. Лихорадка прошла, Шарль становился с каждым днем сильнее и в продолжительных разговорах с молодой женщиной старался разузнать что-нибудь о ее положении и о том, где он находится. Но его собеседница постоянно отвечала улыбкой и отрицательным покачиванием головой. Все чего он добился, это что ее зовут Лидией и что она еще не замужем.
Несмотря на эти неоткровенные ответы, Шарль несколько раз делал движение, как бы желая схватить руку женщины и поднести ее к своим губам. Но Лидия мягко уклонялась и говорила, что если он не хочет выздороветь, то ему только стоит постоянно так ворочаться и двигаться в кровати.
— Мое единственное желание действительно только и состоит в том, чтобы оставаться так с вами вечно, — отвечал Шарль.
Молодая женщина принимала при этом возмущенный вид.
Наконец Шарль не выдержал и начал говорить ей о своей любви, клянясь, что сорвет все перевязки и истечет кровью, если она не согласиться выслушать его.
— Вы безумец, — ответила она, — вы опять начинаете бредить и мне опять придется ухаживать за вами! Неужели вы хотите, чтобы я снова не спала ночи из-за вас?
Шарль обещал быть благоразумным и не делать никаких попыток к объяснению, чтобы не волновать себя. Лидия снова стала весела и дружески распрощалась с ним, послав ему воздушный поцелуй.
Мало-помалу молодой человек приобрел благосклонность своей сиделки и уже можно было предвидеть, что между ними не замедлит возникнуть полная интимность, как только силы больного вполне окрепнут. Тем не менее ему не удалось раскрыть тайну его хозяйки. Ее прекрасные глаза оставались мягкими и нежными, но непроницаемыми. Лидия по-прежнему оставалась загадкой, и мрак, среди которого все это время жил Шарль, до сих пор не рассеялся. Но настоящее не внушало ему никаких опасений. Однако ему все-таки хотелось разгадать тайну, он не мог оставаться вечно в этом непроницаемом мраке.
Прошла приблизительно неделя и Шарль уже настолько окреп, что мог передвигаться кое-как по комнате. Он решил ускорить ход событий и, снова объяснившись в любви, настаивал, чтобы Лидия снизошла к его мольбам. Лидия ответила, что подумает, и прибавила, что если она будет принадлежать ему, то он также должен быть весь безраздельно ее.
Она ушла, поставив ему на прощание как бы ультиматум:
— Если вы свободны, как свободна я, друг мой, то я буду вашей. В противном случае я постараюсь вытравить из своего сердца воспоминания об очаровательных днях, проведенных вместе с вами.
Эти слова заставили Шарля глубоко задуматься.
Конечно, Лидия была очаровательна, и окружающая ее тайна придавала ей особенно манящий ореол, Но разве мог он забыть ради случайной любовной авантюры свою нежную Люси? А его ребенок? Его Андрэ? То были узы, какие нельзя рвать ради какой-нибудь авантюры, о которой он, быть может, через несколько дней забудет. Его поединок, рана, перенесение в этот неизвестный ему дом, таинственное присутствие очаровательной хозяйки, — все это, конечно, носило известный пикантный оттенок. Шарль был признателен за все заботы о нем и хотел доказать, что он не был неблагодарным. Лидия казалась богатой и независимой. Он не знал, как ему отблагодарить ее за причиненные хлопоты. И, конечно, другого выхода не было, как только отблагодарить ее дружбой и доказательством своей привязанности. Но это отдавало романом, романом приключений. Неужели он мог отдаться романтическим увлечениям и забыть действительность? Как бы то ни было, но действительность имеет также свои прелести.
С Люси у него тоже началось с романа, но продолжительность связи, появление Андрэ придало ей более серьезный характер. Имел ли он право вырвать целую страницу своей жизни? Нет, это было невозможно, и Шарль говорил себе, что как только поправится, немедленно же вернется в объятия Люси и к своему Андрэ.
По-видимому, у него было достаточно обширное сердце, чтобы там еще было место для Лидии. Но имел ли он право обманывать таким образом эту женщину, которая выказала столько заботливости по отношению к нему во время его болезни? Он готов был принести ради нее какие угодно жертвы, но в границах законности; он решил предупредить ее, что не может вполне отдаться ей, но если она хочет и любит его, то должна примириться с тем, что его привязанность к ней будет делиться между нею и той, которая является матерью его ребенка.
Случай для объяснений представился вскоре, когда доктор предписал Шарлю прокатиться по городу, чтобы подышать свежим воздухом. Но, к его удивлению, Лидия, выслушав его признание, не выказала ни малейшего возмущения; она только отвернулась и украдкой провела платком по глазам, словно желая смахнуть набежавшую слезу. Шарль заметил это движение, и в его сердце сладкой мукой отдалась мысль, что Лидия любит его и оплакивает невозможность совместного счастья — невозможность, вставшую перед ней вместе с вестью о его несвободе.
Перед тем, как сесть в карету, Лидия спросила молодого человека, действительно ли он желает, чтобы она поехала вместе с ним, и не предпочитает ли он проехаться в одиночестве? Затем она спросила, не позволит ли он, чтобы она наметила его маршрут.
Шарль, удивленный тем ударением, которое она сделала на последних словах, ответил, что он всецело полагается на нее. Он не понимал — что значат эти остатки таинственности, которую она вносит даже в прогулку? Ведь теперь, раз он выезжает на улицу, ему все равно придется узнать, в какой части города и в каком именно доме ему был дан приют. А это уже было половиной пути к разрешению всех остальных недоумений.
Садясь в карету, Шарль пытался ориентироваться. Он находился во дворе большого, красивого дома, но в какой части Парижа помещался последний — на это не было ни малейших намеков.
Лидия села рядом с ним, опустила шторки окон, и карета покатилась, громыхая по мостовой.
— Мы отправляемся в Булонский лес, друг мой, — сказала Лидия.
— О, нет, нет! Только не туда! — перебив ее, воскликнул Шарль — он боялся встретить Люси, которая любила подолгу гулять там с Андрэ.
Но Лидия с кроткой настойчивостью продолжала:
— Необходимо слушаться доктора, а доктор велел вам подышать чистым воздухом. Вот когда мы въедем в лес, мы сможем отдернуть шторки и опустить окна. Вы обещали слушаться меня, так позвольте мне делать так, как нужно для вашего здоровья.
Открывая грудь и сердце новым чувствам, Шарль не переставал думать и помнить о Люси и Андрэ. Желание вновь увидеть их росло в нем все сильнее и сильнее.
Когда они покатались в течение получаса по аллеям Булонского леса, Лидия сказала Шарлю, жадно вдыхавшему смолистый запах леса:
— Может быть, у вас имеются в Париже такие люди, которых вам хотелось бы повидать хотя бы издали? Ведь это так легко сделать в карете, где наблюдаешь из-под спущенной шторки, оставаясь сам невидимым? Если хотите, мы можем проехать мимо какого-нибудь маленького домика, где вы оставили друзей, близких… женщину, быть может? О, я не ревнива, да и не имею права отказывать вам в таком удовольствии, которое может ускорить ваше выздоровление!
Когда же смущенный Шарль пробормотал несколько несвязных фраз, в которых говорил что-то вроде того, что когда она с ним, то ему никого не нужно видеть, Лидия сказала:
— Я все-таки хочу, чтобы вы проехали мимо маленького домика улицы де Винь, в Пасен, к которому все время рвется ваша мысль…
— Как? Вы знаете? — окончательно смутившись, пролепетал Шарль.
— Я все знаю, друг мой, и умоляю позволить мне успокоить вас, дав возможность поглядеть на этот домик! — И, склонившись мягким движением к Шарлю, она взяла обеими руками его голову, страстно прижалась на мгновение пламенеющими губами к его лбу и шепнула: — Я хочу, чтобы ты был счастлив!
Шарль замер в восторге. Так, значит, Лидия любит его, она будет принадлежать ему! Значит, блаженство разделенной любви уже сторожит его, уже ожидает в скором времени, быть может, на днях… даже сегодня?
Карета остановилась, и это прервало его радужные мысли. Шарль пригнулся к вновь спущенной шторке, заглянул в оставленную там щель и жадным взглядом впился в фасад так хорошо знакомого ему, полного таких нежных воспоминаний домика. Вдруг он с тревогой обернулся к Лидии и, задыхаясь, крикнул ей:
— Бога ради… Я должен посмотреть. Дом заперт. Что случилось?! Все заперто, никого нет…
Лидия, не говоря ни слова, открыла дверцу, не делая ни малейшей попытки удержать Шарля. Но он еще не оправился от раны и не мог выйти без посторонней помощи из кареты. Видя это, Лидия сказала ему:
— Не хотите ли, чтобы я пошла и узнала, в чем там дело?
— О да, — ответил он, — умоляю вас, сделайте это!
Лидия легко спрыгнула на землю, подошла к дому, осмотрела его со всех сторон, постучала в запертые ставни и подергала за звонок, но никто не откликался. Тогда Лидия, вернувшись, сказала:
— Там никого нет! Надо будет спросить у кого-нибудь из соседей, в чем тут дело. Впрочем, вот там стоит какой-то крестьянин. Хотите, я спрошу его?
— О, да, да! — ответил Шарль. — Я умираю от беспокойства!
Лидия подозвала знаком крестьянина.
— Вы не из этого дома? — спросил Шарль, когда тот подошел.
— Нет, хозяин, я садовник вот из того имения, — он указал пальцем куда-то в сторону. — Да и там-то я недавно: всего месяц.
— Не знаете ли вы случайно, куда делись обитатели этого домика?
— Да слышал я что-то, хозяин. Как-то встретился я со слугой, когда он уезжал с женой и девочкой. Вижу я, что они все что-то хмурятся, спрашиваю, что с ними, а они и говорят, что хозяйка, мол, крадучись куда-то с сыном уехала.
— Боже мой, Боже мой! — простонал Шарль, хватаясь за грудь. — Люси уехала? Что это может значить? И вы больше ничего не знаете? — лихорадочно спросил он. — Не говорили тут вокруг, куда уехала хозяйка?
— Да кому здесь какое дело? — ответил крестьянин. — Каждый себя знает, а до других не больно-то касается. Болтали здесь, правда, что у мужа хозяйки рога длинные, потому что стоит мужу из ворот, как другой молодчик в ворота. Надо полагать, к любовнику она и уехала. Однако прощенья просим, хозяин, там меня работа ждет! — И крестьянин удалился беззаботной походкой.
— Как? Люси бросила меня? Уехала сама и увезла Андрэ? О, Боже мой, Боже мой! Это невозможно! Это невероятно! Я с ума схожу! — бормотал Шарль, бессильно откидываясь в угол кареты почти без чувств. Молодая женщина склонилась над ним, в ее глазах сверкал огонек злобного торжества, и если бы Шарль мог расслышать то, что беззвучно шептали ее губы, он перехватил бы возглас, которым дышало все ее существо:
— Ну теперь-то ты не уйдешь из моих рук!
VII
Здоровье Шарля снова ухудшилось. В течение нескольких дней он не приходил в сознание, мучаясь жесточайшей лихорадкой, в бреду которой имена Люси и Лидии как-то странно перепутывались. Когда же он очнулся, то первое, что он увидал, было лицо молодой женщины, с тревогой склонившейся над ним. Вся ее фигура, улыбка, тихая речь — все было полно такой нежности, такой ласки, что Шарль снова закрыл глаза, боясь, как бы прекрасное видение не скрылось подобно лихорадочно бредовой картине. Но она была с ним, она не отходила от него во все время его более долгого, чем в первый раз, выздоровления, и опять благодаря ее заботам болезнь стала отступать.
Однажды, когда Шарль чувствовал себя довольно сносно, Лидия сказала ему виноватым голосом:
— Не браните меня, мой друг, но ваше положение одно время было настолько опасным, что я должна была известить вашу матушку.
— Мою маму? Что же она сказала? — воскликнул Шарль, подумав, как должна была рассердиться герцогиня, узнав о дуэли и о его нахождении у неизвестной женщины.
Но Лидия поспешила рассеять его беспокойство, которое она сразу угадала. Она сообщила ему, что герцогиня целыми днями просиживала у его кровати и неоднократно выражала удовольствие по поводу хорошего ухода за больным. Затем Лидия заговорила:
— Мой дорогой друг, я знаю, кто вы, но вы еще до сих пор не знаете, кто я. Теперь наступил момент открыться вам. Но сперва ответьте мне совершенно откровенно, так как, смотря по вашему ответу, я скажу вам или всю правду, или только часть.
— Что вы хотите сказать? Вы постоянно говорите загадками.
— Я хочу просить вас, Шарль, ответить мне откровенно, предполагаете ли вы, когда поправитесь, повторить мне, что любите только меня и никого более?
— Неужели вы в этом сомневаетесь? — воскликнул Шарль.
— Да, я сомневаюсь, так как этот самый домик в Пасси, вызвавший у вас такое явное волнение, мне кажется, хранит часть, а может быть, и все ваше сердце.
— О нет! — горячо воскликнул Шарль. — Вы не так истолковали мое удивление и волнение, вызвавшее возврат болезни. Я просто слишком верил той, которая так жестоко обманула меня. Я не мог понять, за что она так поступила со мной. А потом она взяла с собой и моего сына, моего дорогого Андрэ! Неужели я никогда не увижу его? Ведь я так люблю его!
— Не волнуйтесь, Шарль! Я помогу вам найти сына! Ведь это будет не трудно, так как эта женщина, наверное, постаралась отделаться от живого свидетеля мертвой любви. И мы вместе будем любить его… Шарль! Вы сказали, что любите меня, так позвольте мне заменить вашему сыну мать, позвольте мне окружить вас лаской и заботами преданной подруги. Шарль, позвольте мне стать вашей женой!
Больной ответил не сразу. Сильный румянец набежал на его бледные щеки.
— Лидия, милая Лидия! — заговорил он наконец. — Не истолкуйте в дурную сторону мою нерешительность. О, я с восторгом соединил бы наши судьбы в одну, но от нас ли одних зависит это?
— Разве вы связаны с той женщиной более серьезно, чем я думала? — быстро спросила Лидия.
— Нет, дело не в этом, — ответил Шарль. — Правда, мы обвенчаны с ней, но в Англии, по местным законам, и во Франции наш брак считается недействительным. Нет, не ее имел я в виду. Но моя мать? Согласится ли она?
Лидия улыбнулась с торжеством. Она подошла к маленькой двери, замаскированной портьерой, открыла ее и сказала кому-то, кто, очевидно, ждал в соседней комнате: — Не соблаговолите ли, ваша светлость, оказать нам честь пожаловать сюда! Ваш сын хочет обратиться к вам с большой просьбой!
К большому удивлению Шарля Лефевра влетела, как вихрь, герцогиня, шурша длинными юбками. Радость видеть сына почти здоровым она выразила тем, что поправила сильным толчком свою высокую прическу, увенчанную громадной шляпой в форме кабриолета, отделанной на верхушке целой птицей с распущенными крыльями, и воскликнула:
— Ах плутишка! Вот ты и спасен! Поцелуй меня скорее!
Взволнованная и растроганная, она бросилась к молодому человеку, но при этом птица упала на пол.
Герцогиня отбросила ее ударом ноги и, поправив свой шлейф, обратилась к Лидии:
— А вы разве не обнимете меня? Я так довольна теперь, что готова расцеловать целый полк!
Она прижала к своей могучей груди покрасневшую, обрадованную Лидию.
Шарль смотрел, вытаращив глаза, на эту сцену, стараясь понять отношения этих двух женщин друг к другу.
Лидия тихо освободилась из горячего объятия герцогини и сказала Шарлю.
— Друг мой, герцогиня знает, как я сочувствую вам. Я не скрыла от нее наших взаимных чувств. Хотя и не принято, чтобы женщины первые предлагали свою руку жениху, я все-таки откровенно высказала вам свое расположение, на которое вы мне ответили взаимностью. Вы сказали мне, что между нами могло возникнуть единственное препятствие в виде несогласия ваших родителей. Вот теперь вы можете спросить об этом герцогиню. Надеюсь, что ее ответ удовлетворит нас обоих.
— К чему столько разговоров! — воскликнула герцогиня. — Вот все дело в двух словах: когда ты был ранен, гадкий мальчишка… я не знаю даже кем: кажется, при тебе неуважительно отозвались об императоре и твоем отце. Ты хорошо сделал, что дрался, но жаль, что ты не дал хорошего урока своему противнику. Вот если бы на твоем месте был отец! Но теперь все вырождается, с тех пор как у нас нет императора! Теперь не умеют драться! Так вот что я хотела сказать тебе, дружок: когда ты был ранен, маркиза…
Шарль, удивленный еще более, схватил руку Лидии и воскликнул:
— Так вы маркиза?
— Значит, вы ему не сказали, кто вы? — удивилась герцогиня. — Как, Шарль, разве ты не знал маркизы Люперкати? В самом деле, ведь ты был ранен именно в тот вечер, когда я хотела представить ей тебя. Я вижу, что это знакомство состоялось теперь и вы пришли к соглашению.
— О, вполне! — сказала Лидия. — Но позвольте мне объяснить Шарлю положение вещей, которое может показаться ему странным. Вы пожелали, герцогиня, иметь меня своей невесткой и должны были познакомить меня с Шарлем в день дуэли, на данном для этого балу. К несчастью, он не пришел, и, устав ждать, я уехала довольно опечаленная. Когда Шарль был ранен, его перенесли в ближайший к месту поединка дом, а доктор, осмотрев там его рану, разрешил перевезти его к вам. И вот, выходя из вашего дома, я случайно встретила это печальное шествие. Еще раньше я несколько раз видела вашего сына не будучи замечена им, и меня радовала мысль, что когда-нибудь мы будем принадлежать друг другу. Когда я увидела его раненым, мне пришла в голову сумасбродная идея. Я решила избавить вас от горя видеть его умирающим и вернуть его вам только совершенно здоровым. По моему настоянию, благодаря данным мною ложным сведениям Шарля перенесли в этот старый дом, принадлежащий моему отсутствующему родственнику, окружили его здесь необходимой заботой и как только он пришел в сознание, я стала ходить за ним, не называя себя. О, я хорошо ухаживала за ним, уверяю вас!
— Вы были моим ангелом-хранителем! — горячо сказал Шарль, пожимая руку Лидии.
— Да, — сказала герцогиня, — я вижу, что вы отлично поняли друг друга. Но все-таки это была странная мысль: запереть и спрятать моего сына, когда его отлично можно было видеть у меня в доме! Я не совсем понимаю вашу цель, но раз все так удалось — он здоров и влюблен, значит, не о чем и говорить, — закончила герцогиня, от удовольствия хлопнув себя руками по бокам.
— Я не хотела, чтобы Шарль был вынужден называть меня своей невестой. Я хотела, чтобы он стал моим не зная того, что вы предназначаете меня ему в жены. Мне хотелось покорить его сердце, и, кажется, это удалось!
— Да, да! Моя дорогая Лидия, — сказал Шарль. — Я благословляю теперь вашу хитрость!
Герцогиня, очень довольная таким оборотом дела, обратилась к обоим молодым людям:
— Теперь, когда все объяснилось, и маркиза Люперкати, ухаживая за тобой как сестра милосердия, покорила тебя, нужно только сказать отцу и назначить день свадьбы. Мне уже давно хотелось пристроить тебя, сын мой. Имея около себя такую прелестную подругу, ты, должно быть, перестанешь делать глупости. Я буду спокойна на старости лет, что твоей женой будет такая чудная женщина, которая сумела заставить полюбить себя, будучи сестрой милосердия. Ваш поступок, дорогая невестка, наверное, принесет вам счастье.
Все трое решили после этого разговора как можно скорее перевезти Шарля в дом на Вандомской площади, так как теперь ему было уже неудобно оставаться здесь, зная, кто такая маркиза Люперкати: ведь лучше было скрывать все это приключение, чтобы не дать повода к злословию. Было решено говорить, что Шарль, раненный на дуэли и нуждающийся в уходе, оставался это время в одном знакомом семействе. Назначили день перевозки Шарля домой, и радостная герцогиня отправилась к себе, чтобы сообщить мужу об окончательном выздоровлении сына и о его предстоящей свадьбе.
VIII
Как только Шарль получил возможность выйти из дома, он отправился к домику в Пасси: ему хотелось увидеть то скромное жилище, где он провел столько счастливых, тихих часов.
Он в волнении остановился у калитки, открыл двери своим ключом и вошел в дом. Он снова увидел свою комнату, столовую, где столько раз обедал с любимой семьей, при виде же маленькой кроватки Андрэ у него на глазах выступили слезы.
Все было на месте, все прибрано Мобрейлем и его сообщниками, которые скрыли письмо Люси, объяснявшее ее отъезд в Англию. Слуги были отпущены. Не осталось ни малейшего следа борьбы, предшествовавшей похищению ребенка. Никакое сомнение не могло возникнуть в душе Шарля. Ему представилось простое предположение о бегстве Люси. Он напрасно искал слово прощания, объяснения, просьбы о прощении: он не нашел ровно ничего. Люси бежала, как виновная, разлюбившая женщина. Она не взяла с собой ничего из вещей, подаренных Шарлем, пренебрегая воспоминаниями прошлого. Исчез только один браслет с его портретом, который Люси взяла с собой или, может быть, уничтожила.
Шарль сел на кушетку, на которой так часто сидел с Люси, и при воспоминании о прошлом его охватила печаль. Как могла Люси оставить его? Так она не любила его, обманывала его? С кем же, однако? Ведь она жила уединенно, выходила из дома только с ребенком и англичанкой-бонной. Кто же похитил его счастье? Как могли проникнуть сюда? Неужели Люси была так фальшива и скрытна, что до последней минуты скрывала от него новую привязанность, изгнавшую из ее сердца его образ? Как могла женщина лгать до такой степени?
Что побудило ее бежать: страсть или расчет? Если Люси поддалась соблазну богатства, то он должен презирать ее и вырвать из сердца всякое воспоминание о ней. Но, хорошо зная ее, Шарль сомневался, чтобы она поддалась соблазну денег. Может быть, она сделала это, чтобы обеспечить ребенка? Она знала, что Шарль, связанный отношениями с родителями, не может дать ей многое из своих скудных средств, истощаемых к тому же игрой в карты, посещениями приятелей, развлечениями, свойственными молодым людям.
«Может быть, она испугалась бедности, — думал Шарль, — моей смерти или измены? Что сталось бы тогда с ней и ее ребенком? Будучи иностранкой, бросившей родину и семью, она пропала бы в чужой стране. Очень возможно, что ее побег вызван этим страхом, этой неуверенностью в будущем, опасением потерять меня, если я женюсь или увлекусь другой женщиной. Почему же она не поговорила со мной, зачем поступила так грубо, безумно? Вероятно, она побоялась этого объяснения, не посмела сказать мне правду в лицо и воспользовалась первым случаем: моя рана, мое исчезновение дали ей возможность привести в исполнение задуманный план».
Но вскоре мысль о том, что Люси предпочла ему другого возлюбленного, более богатого и щедрого, сменилась в уме Шарля другим предположением — об увлечении Люси другим человеком, более привлекательным, более любезным или казавшимся ей таким. Увлекшись чувством, Люси, конечно, была менее виновна, но эта мысль причиняла Шарлю жгучее страдание, и он никак не мог смириться с тем, что эта женщина, которая принадлежала ему, может находиться в объятиях другого.
Шарль ходил большими шагами по опустевшему дому, открывая двери и шкафы, перерывая ящики, как бы ища какого-нибудь намека на возвращение, сознавая, что у него не хватит сил оттолкнуть недостойную женщину или упрекнуть ее за этот поступок. Он чувствовал, что снова прижмет ее к своей груди с радостью скряги, нашедшего вновь свое потерянное сокровище. Несколько раз ему казалось, точно кто-то ходит за ним, что беглянка тут, где-нибудь поблизости, что стоит только позвать ее, и она немедленно явится на зов. Но пустой дом оглашался лишь шумом его шагов, и надо было примириться с действительностью: Люси исчезла, уехала навсегда, не оставив никакого указания куда, никакого намека на возвращение. Значит, надо было забыть ее и не сожалеть о женщине, так надсмеявшейся над ним, так недостойно бросившей его: это было бы позорно для мужчины.
Шарль старался вооружиться мужеством и, чтобы отвлечь мысли от прошлого, вызвал в памяти образ маркизы Люперкати. Как она любит его! Как трогательно старалась она возбудить любовь, оставаясь неизвестной человеку, предназначенному ей в супруги. Раньше, чем иметь его своим мужем, она желала быть его нежной и чистой подругой. Лидия прекрасна и добра; она быстро заставит его забыть неблагодарную беглянку, и, когда он уйдет из этого дома в последний раз, ничто уже не напомнит ему той, с кем он здесь жил. Присутствие Лидии будет целительным бальзамом для его душевной раны. Глупо было бы колебаться: Люси больше не существовала для него, и он уже упрекал себя за посещение этого дома, за воспоминания о прошлом как за нравственную измену, и говорил себе, что должен теперь думать только о Лидии, жить только мыслью о ней.
Шарль вышел из дома почти успокоенный, удостоверившись собственными глазами в исчезновении Люси. Былая любовь угасла в его сердце; от огня прекрасных глаз маркизы Люперкати вспыхнуло новое пламя, которое должно было озарить отныне всю его жизнь ярким сиянием.
Только воспоминание о маленьком Андрэ мучило Шарля. Но едва ли его мать, несмотря на свою низкую измену, станет долго скрывать его местопребывание от отца и, очевидно, он еще увидит сына. Если же Люси будет упорствовать, то он обратится к могущественным друзьям, к министру полиции, наконец, к самому королю и найдет ребенка, хотя бы для этого понадобилось перерыть все королевство.
Успокоенный этой надеждой на будущее Шарль сел в привезший его сюда экипаж и приказал ехать в старый дом на улице Сен-Доминик, где его ждала Лидия. Надо было вместе делать покупки, посещать ювелиров и портных, готовясь к скорой свадьбе, о которой маршал Лефевр и его жена уже известили парижское общество.
IX
На одной из длинных улиц по соседству с площадью Гренель находилось множество веселых кабачков с заманчивыми беседками. Все вывески носили здесь военный характер; повсюду виднелись изображения различных военных атрибутов, придававшие воинственный вид этой полузагородной местности. Культ Венеры также не был забыт здесь: многочисленные убежища предлагали оплачиваемые ласки влюбчивым воинам.
Этот уголок предместья всецело принадлежал армии. Здесь можно было видеть мундиры и головные уборы всевозможных полков. Местный бульвар походил на двор казармы, где мелькали иногда юбки и время от времени попадались кабачки. Здесь постоянно слышались звуки военных труб, рокот барабанов, ржанье лошадей, сигналы и слова команды, а по вечерам звон шпор, бряцание сабель и другого оружия, лязг лошадиной сбруи.
Первое место среди наиболее посещаемых и любимых кабачков, где охотнее всего собирались стоявшие в окрестностях военные, занимал кабачок «Солдат-Земледелец». Здесь обычно устраивались шумные и веселые обеды при встрече нового прибывшего из провинции полка или проводы отъезжающих товарищей, отвечавших вежливостью на вежливость, заказывая здесь же хороший пунш. Все повышения, все переводы праздновались в кабачке «Солдат-Земледелец».
Но во время процесса маршала Нея оба больших зала кабачка оставались пустынны, молчаливы и мрачны. Причина этого была чисто дисциплинарного характера: по высшему распоряжению на время разбирательства дела гарнизону было запрещено отлучаться из казарм. Бедные заключенные вздыхали за своими окнами, проклиная пэров Франции, прокурора и судей и с нетерпением ждали дня освобождения, чтобы снова навестить любимый кабачок. Все в казармах томились от ожидания конца этого бесконечного процесса, державшего под арестом солдат. Многие, не особенно сокрушаясь об участи маршала, готовы были торопить суд, думая, что если «храбрейшему из храбрых» (таково было прозвище Нея) предстоит быть расстрелянным, то жестоко заставлять его так долго ждать.
Связь с внешним миром имели только караульные солдаты, обозный, ездивший на почту, и курьер, посылаемый в город с рапортами офицерам. Они пользовались при этом случаем, чтобы побывать в кабачке «Солдат-Земледелец» или другом каком-нибудь излюбленном ресторанчике.
Утром первого декабря в кабачке за бутылкой вина сидели два обозных с квартирмейстером военной школы и жаловались на скуку заключения и длительность процесса. Двое сидевших за соседним столом штатских, в которых можно было легко узнать бывших военных, очевидно, вполне разделяли мнение беседовавших и незаметно вмешались в их разговор. Младший из штатских, сидевший против высокого молодца с длинной седой бородкой и большой палкой, сказал, чокаясь стаканом с солдатами:
— Очень досадно, что вы арестованы именно теперь, так как вот этот господин, — он указал на сидевшего против него гиганта, который в виде приветствия несколько раз повернул свою дубинку, — вместе со мной уполномочен пригласить некоторых из вас завтра на хороший» обед.
— Да, на изысканный обед. У меня записаны имена приглашенных, — сказал гигант, вынимая из кармана бумагу. — Вот они: Одри, Буатар, Готье, Пелу…
— Это наши сержанты. Так вы знаете их? — спросил один из солдат.
— Не мы, но тот, кто приглашает их обедать. Вот еще: Арно, Лебрень, Матье и Валабрег…
— Это капралы.
— Не забыты и простые солдаты: Балавуань, Картье, Пти, Сальвини…
— Все старые служаки, — заметил другой солдат.
— Самые старые в полку, — подтвердил гигант, — и они нарочно из любезности выбраны приглашающим.
— А кто же это желает так угостить наших стариков?
— Одна дама, бывшая маркитантка, которая, получив небольшое наследство, желает попотчевать славных ребят, а так как пригласить всех невозможно, то она и выбрала самых старых по службе.
— И совершенно справедливо! — сказал молчавший до сих пор квартирмейстер.
— К несчастью, это не удастся, — вздохнул первый из говоривших солдат. — Однако почему она не отложит эту пирушку, пока кончится наше заключение?
— Это невозможно, — сказал штатский. — Она непременно хочет сделать ее завтра, это ее фантазия, видите ли. Ведь завтра, — прибавил он, понизив голос, — второе декабря!
— Годовщина Аустерлица! — напомнил его спутник.
— День коронации императора, — прибавил гигант, внушительно поворачивая свою дубинку, как бы желая выразить этим особое уважение к двойной славной годовщине.
Квартирмейстер оглянулся вокруг и тихо сказал:
— Я не знаю, ни откуда вы, ни имени того, кто приглашает нас, но, товарищи, я доверяю вам. Мне кажется, что вы тоже служили при том? Мне обидно, тысяча чертей, что я не буду с вами, если завтра вы будете пить за здоровье… вы знаете — чье…
— Да, друзья, — сказал младший из штатских, — мы собираемся праздновать коронование нашего императора, пленника англичан, и день его лучшей победы. Вы можете довериться нам: я — генерал Анрио, а мой товарищ — адъютант ла Виолетт.
— Бывший тамбурмажор первого гренадерского полка, — вставая, отрекомендовался ла Виолетт, взяв на караул дубинкой.
— Мы все за императора! — сказал один из солдат, почтительно чокаясь стаканом с Анрио.
— Так вот, товарищи! Так как нас всех соединяет общее чувство к тому, кого больше нет с нами, так как мы все равно преданы нашему орлу, то знайте, — сказал генерал Анрио, — что дело идет не о простой пирушке в память нашей славной победы. Лицо, поручившее собрать вас, — герцогиня Лефевр.
— Мадам Сан-Жень! О, мы хорошо знаем ее!
— Герцогиня, — продолжал Анрио, — как и все дети Франции, огорчена и возмущена при виде этих бывших эмигрантов, ренегатов империи, изменников, присоединившихся к чужестранцам, которые посылают на казнь маршала Франции, героя нашей армии, неустрашимого Нея, гордость нашей родины!
— И его расстреляют как дезертира, шпиона, как дурного солдата, может быть, уже послезавтра! — сказал ла Виолетт, свирепо ударяя дубинкой по полу.
— И нет средств помешать этой подлости? — спросил один из солдат. — Расстрелять маршала! Это ужасно!
— Нельзя ли устроить его побег? — спросил сержант.
— Можно, — сказал Анрио, — и вы можете, товарищи, сильно помочь нам в этом деле.
— Что надо делать? Говорите, генерал, я отвечаю, как за себя самого, за этих товарищей, — сказал старший из солдат.
— Вы знаете тех сержантов, капралов и рядовых, чьи имена были сейчас прочитаны? Преданы ли они родине? Ненавидят ли Бурбонов и жалеют ли нашего императора?
— Они все служили при нем. Все это старая гвардия!
— Мы так и думали, выбирая их. Эти ветераны назначены нести завтра вечером караул в Люксембурге, — продолжал Анрио. — Они составят особый караул маршала. Двоих или троих из них знает наш друг ла Виолетт. Ему хотелось бы поговорить с ними, предложить им помочь освободить маршала.
— Все они, конечно, будут согласны, но это серьезное дело. Ведь расстреляют, в свою очередь, и их, если бегство маршала откроется.
— Нет, мы приняли меры, — сказал Анрио, — никто из них не пострадает. Им надо будет только вовремя закрыть глаза. Стража может не узнать пленника, бежавшего переодетым.
— А, это другое дело, генерал; я уверен, что ни один из этих молодцов не узнает маршала, если ему удастся ускользнуть. Это решено, теперь вам остается только успокоить наших товарищей.
— Завтра в пять часов, — сказал Анрио, — здесь будут ужинать перед сменой караула, которая происходит в девять часов, так как маршал обедает после приема.
— Не обещаю привести всех, — сказал сержант, — из-за нашего ареста, но пятеро-шестеро найдут способ ускользнуть, остальные же последуют потом за ними. Теперь нам пора вернуться в казармы. Генерал, вы можете вполне положиться на нас!
Последовали рукопожатия, и все шестеро, как бы желая скрепить договор или подтвердить клятву, проговорили вполголоса:
— Да здравствует император!
X
Назначив свидание на следующий день, Анрио расстался со своими новыми товарищами и отпустил также ла Виолетта, сказав ему:
— Итак, решено: до завтра, в пять часов в кабачке «Солдат-Земледелец»!
Ла Виолетт остался один, с недовольным видом вертя дубинку.
— Гм! — проворчал он. — Генерал очень спешит! Он, вероятно, торопится к этой даме, которую взяла под свое покровительство герцогиня. Только бы он не рассказал ей о наших планах! Только бы не оправдались подозрения нашей герцогини! Она поручила мне следить за этой Армандиной, но я не особенно гожусь в полицейские агенты. Хоть я и предубежден против этой женщины, все-таки я не могу допустить, чтобы такой храбрый офицер, как генерал Анрио, дал себя одурачить этому хитрому созданию, принадлежащему к нашим врагам, может быть, подкупленному чужой полицией! Все-таки было бы лучше, если бы генерал остался со мной и пошел дать отчет герцогине о нашем свидании с солдатами.
Ла Виолетт медленными шагами вернулся на Вандомскую площадь и сообщил герцогине о всем происшедшем, умолчав только о поспешности генерала Анрио.
Старый тамбурмажор был серьезно озабочен отношениями этой так называемой Армандины к генералу Анрио. Среди бывших военных, дипломатов и финансистов, принимаемых этой дамой в своем доме, она слыла под именем баронессы Невиль. Вдова штаб-офицера, она жила на пенсию, получаемую из военного министерства, но, несмотря на скромные средства, находила возможность делать приемы и после них удерживала у себя то генерала вроде Анрио, то крупного дипломата, то кого-нибудь из видных банкиров.
Баронессе Невиль было лет тридцать; она была красива и грациозна, имела множество поклонников и, как говорили, не пренебрегала ни одним из них. Она постоянно приобретала новые знакомства и своими стараниями привлечь видных чиновников, недовольных военных и предполагаемых или известных сторонников реставрации Бонапарта успела вызвать основательные подозрения.
Генерал Анрио, казалось, был сильно увлечен ею. Горе, причиненное ему изменой жены Алисы, понемногу улеглось, рана зажила и супруги виделись лишь изредка. Алиса жила одна очень уединенно и сильно постарела. Супруги разошлись совершенно. Анрио был однажды представлен баронессе Армандине Невиль и, скоро увлекшись ею, сделался, как говорили, ее возлюбленным.
Покинув ла Виолетта, он отправился к ней, в се маленький дом на улице д'Антен. Баронесса была одна и приняла его с обычной любезностью. Она прекрасно умела очаровывать и направила сегодня все это умение на генерала Анрио, а он легко поддался всей прелести этого соблазнительного свидания наедине. Пожаловавшись, что не видела его целых два дня, баронесса спросила, чем он так озабочен. Анрио возражал, но она настаивала, что у него есть какая-то забота, какое-то дело, которое занимает его и которое она хотела знать непременно. Говоря далее, она спросила, разве он не любит ее, что скрывает от нее что-то? Ведь у нее нет от него секретов, зачем же они есть у него? Уж не разлюбил ли он ее? Нет? Тогда он должен открыть ей свою душу, она хочет знать его тревоги, его печали. Конечно, они могут быть тайной для света, но не для нее, отказавшейся ради него от стольких блестящих предложений, от стольких старинных друзей, отдалившихся от нее из-за того, что в ее доме властелином стал он, Анрио.
— Я хочу знать, почему сейчас видны эти гадкие морщины и тревога на вашем лице, — кокетливо сказала баронесса, — а если бы будете продолжать скрывать от меня их причину, то я перестану любить вас, совсем перестану.
Анрио уверял ее, что у него нет никакого повода быть печальным, что, напротив, сегодняшний день был для него очень удачным, и мало-помалу с беззаботностью честного человека рассказал ей свой план проникнуть в темницу маршала Нея и избавить его от готовящейся тому участи.
— Только-то? — смеясь, сказала баронесса. — Дело идет только о политике, а вы скрываете это от меня? Это дурно с вашей стороны, друг мой!
— Нет, меня несколько беспокоит только ответственность, лежащая на мне. Ведь, желая спасти от мести Бурбонов «храбрейшего из храбрых», нашего славного маршала Нея, я придумал очень смелый план, и мне нужны друзья или верные сообщники, чтобы привести его в исполнение. А это очень важно!
— Что тут важного? А впрочем, конечно, — мило улыбнулась баронесса, обнимая Анрио, — если бы вы попались, вам пришлось бы отвечать перед судом за ваше дерзкое предприятие. Но надеюсь, что вы останетесь в стороне и никто не будет знать, что вы тут замешаны. Подумайте: заговор для спасения осужденного на смерть! Пусть действуют ваши товарищи, сообщники, а вы лично не принимайте никакого участия: никто не заподозрит тогда вас.
— Вот это-то и беспокоит меня, дорогая Армандина. Возможно, что освобождение маршала Нея пе удастся, да и в случае успеха все равно бедняги, помогавшие делу, простые сержанты, конечно, будут арестованы, преданы военному суду и, вероятно, расстреляны. Вот что мучает меня даже тут, около вас!
— Эти люди знают, на что идут; но вы-то, друг мой, приняли ли вы все предосторожности, чтобы ничто не выдало вас?
Анрио успокоил ее. Он взял на себя только руководство делом, герцогиня Лефевр просила его не рисковать, поберечь себя для другого предприятия — освобождения пленника с острова Святой Елены. Он виделся только с тремя людьми, даже не участвующими в заговоре, простыми посредниками между маршалом и солдатами, так что никакое подозрение не могло коснуться его.
Баронесса успокоилась, развеселилась и перевела разговор на светские анекдоты и сплетни, видимо, не придавая никакого значения сведениям о заговоре. Между прочим она рассказала сенсационную новость дня: о будущей женитьбе сына герцога Данцигского на маркизе Люперкати, о которой говорил уже весь Париж.
— Прелестная женщина эта маркиза и моя хорошая приятельница. Ведь тут целый роман! Шарль Лефевр влюбился в свою невесту не зная, кто она такая, вернее — не зная, что ухаживает за своей будущей женой.
— Может быть, если бы он знал это, он и не влюбился бы в нее, — смеясь, сказал Анрио.
Оба продолжали весело болтать о разных пустяках, забыв и думать о готовившемся бегстве маршала Нея. Уходя от баронессы, Анрио едва вспомнил о том, что разболтал ей.
«Не беда, — легкомысленно подумал он, — баронесса не болтлива, к тому же она любит меня. Она почти не обратила внимания на все, что я рассказал ей; она интересовалась во всем этом деле только мной одним».
Как только он ушел, баронесса поторопилась к письменному столу, где быстро набросала следующую записку.
«Господину префекту полиции. Предупреждаю Вас о существовании военного заговора с целью освободить маршала Нея и устроить его побег из Люксембургской тюрьмы. Стража не надежна. Остерегайтесь. Надеюсь, что, имея верные сведения, как всегда, Вы оцените мои старания сообщать Вам все, что касается спокойствия государства и Вашего учреждения в особенности. Примите уверения и прочее. № 126».
Запечатав письмо, баронесса позвала горничную и приказала немедленно отнести его по адресу, написанному на конверте: «Господину Мартен, рантье. Набережная Люнетт, 8». Это были имя и адрес специального агента, который так принимал частным образом конфиденциальные сообщения префекту полиции от тайных агентов.
Исполнив свою обязанность, баронесса Невиль занялась туалетом, сказав горничной:
— Поеду поздравить маркизу Люперкати с ее свадьбой. Она, должно быть, очень рада: покойный муж не оставил ей средств, чтобы долго носить траур. Маркиз Люперкати был разорен и к тому же скомпрометировал себя с Мюратом. Теперь милая Лидия устроится! Майорат в два миллиона! Вот бы мне что-нибудь в этом роде! Но такие находки попадаются не часто, — закончила она с завистливым вздохом.
Кончая одеваться, прекрасная баронесса думала про себя: «Ну, может быть, королевское правительство, которому я оказала сейчас важнейшую услугу, окажется на этот раз более щедрым, чем обычно».
XI
21 ноября 1815 года должен был начаться в Люксембургском дворце большой политический процесс: палата пэров должна была судить маршала Нея. Были приняты большие предосторожности для безопасности высокою собрания, вся полиция была на ногах. Везде были расставлены патрули, все кафе и кабачки были под надзором, а Люксембургский сад закрыт.
Маршал Удино, преданный Бурбонам, забывший все милости, которыми осыпал его Наполеон и завидовавший маршалу Нею, взялся за исполнение приговора над своим сотоварищем по оружию, знаменитым маршалом Франции, носившим звание «храбрейший из храбрых».
Заседание суда началось в десять часов утра. Публика была допущена лишь по строго контролируемым билетам. В первом ряду зрителей можно было видеть принца Вюртембергского, графа Гольтца, Меттерниха и многих английских генералов в полной форме. Все эти чужестранцы, после падения Наполеона высоко поднявшие головы, истинные властители Франции, у которых Бурбоны были только слугами, явились насладиться агонией своей жертвы, полюбоваться чудовищным зрелищем: герой, причинивший им столько зла, оказался преданным в руки палачей французским собранием, и пэры Франции мстили ему теперь за Англию, Россию, Австрию и Пруссию, за все зло, причиненное им Мишелем Неем. Это было мщение за Аустерлиц, Иену, Фридланд и Москву!
Был прочитан обвинительный акт, протест адвокатов против незаконной поспешности обвинения был оставлен без внимания, и начались продолжительные прения о поведении маршала Нея, обещавшего Бурбонам привезти Наполеона в железной клетке. Потом, овладев им, он перешел на сторону императора и вместе с ним двинулся на Париж.
Ней сказал в свою защиту, что решился присоединиться к Наполеону после заявления Бурмона, что если после возвращения императора король будет вынужден снова покинуть Францию, то он призовет па помощь иностранные войска. Бурмон прибавил, что не следует колебаться между изгнанием и обращением к иноземцам. Как бы велико ни было это зло, оно все же было в глазах роялистов предпочтительнее власти Бонапарта. Поэтому, присоединившись к победоносному орлу императора, он, Ней, не совершил никакой низости; он поднял шпагу не против короля, хотя и покинутого своим народом, а только против иноземцев.
Главный прокурор и президент употребляли все усилия, чтобы спутать защиту и лишить слова ее адвокатов. Защитник Беррье сказал судьям, что Ней думал избавить Францию от гражданской войны, присоединившись к Наполеону, что его побуждением было отнюдь не честолюбие, а единственно любовь к родине. Увы! Его речь была резко и грубо прервана. Второй адвокат, Дюпен, нашел несколько странный аргумент в пользу защиты: по договору с союзниками 20 ноября 1815 года Сарлуи — родина маршала Нея не была частью Франции и таким образом Ней, не принадлежа более к французам, не подлежал суду палаты пэров.
Однако при этих словах маршал Ней встал с места и, прервав речь адвоката, воскликнул:
— Я француз и умру французом!
После этого он вынул из кармана записную книжку, где записывал свои заметки, и прочел громким голосом:
«— До сих пор защита была свободна, теперь ее стали затруднять. Я благодарю своих защитников за все, что они сделали и хотели сделать, но теперь я прошу их прекратить такую неполную защиту. Пусть меня лучше вовсе не защищают, чем иметь только пародию на защиту. Меня обвиняют против законов и не позволяют мне объясниться. Я обращаюсь к Европе и к потомству…»
Президент прервал его, обратившись к защитнику:
— Продолжайте защиту, касаясь только фактов.
Тогда маршал, обратившись к Беррье и Дюпену, повторил:
— Я запрещаю вам говорить, если не будет разрешено говорить свободно!
— Так как маршал желает закончить прения, — сказал главный прокурор, — то мы со своей стороны не сделаем больше никаких замечаний. Итак, я прошу палату применить статьи закона уложения о наказаниях и параграфы закона второго брюмера V-гo года относительно лиц, уличенных в государственной измене и покушении на спокойствие государства.
Настало глубокое молчание.
— Подсудимый, — спросил председатель суда, — не желаете ли вы что-нибудь заметить насчет применения наказания?
— Ровно ничего! — ответил Ней.
— Удалите подсудимого, свидетелей и присутствующих, — распорядился председатель.
Маршал, адвокаты и свидетели покинули зал; трибуны были очищены от публики, и палата пэров приступила к голосованию. Совещание продолжалось долго. Единственный пэр Франции, герцог Виктор де Брольи, ответил «нет» на третий вопрос: «Совершил ли маршал покушение на безопасность государства?» Поименное голосование относительно применения наказания дало следующие результаты: 142 голоса за смертную казнь по военным уставам, то есть за расстрел, 1 голос за смертную казнь по общим уголовным законам, то есть за гильотинирование, 43 голоса за пожизненное изгнание. Пять пэров воздержались от подачи голоса.
В половине двенадцатого ночи в отсутствии подсудимого был вынесен приговор. Он был изложен в следующей форме:
«Во внимание к тому, что предварительным следствием и прениями на суде доказана виновость Мишеля Нея в том, что в ночь с 13-го на 14-е марта 1815 г. он принимал у себя разведчиков узурпатора; что он прочел на площади Лон-ле-Сонье, в департаменте Юра, во главе своей армии, прокламацию, направленную к подстрекательству, к мятежу и к переходу на сторону неприятеля; что он дал немедленно приказ своим войскам присоединиться к узурпатору и произвел это присоединение сам во главе их; что он совершил этим государственную измену и посягательство на безопасность государства, целью каковых было уничтожить или сменить правительство и порядок престолонаследия, — палата, после совещания, объявляет его виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 77-й и следующими свода законов и статьями 1-й и 5-й закона 21-го брюмера V-ro года; вследствие того, применяя упомянутые статьи, палата приговаривает Мишеля Нея, маршала Франции, герцога Эльхингенского, принца Московского, бывшего пэра Франции, к смертной казни и к уплате судебных издержек; палата приказывает, чтобы казнь была совершена в порядке, предписанном декретом 12-го мая 1793 г.».
По требованию генерального прокурора председатель суда прочел дополнительное заявление, гласившее, что «Мишель Ней, кавалер большого креста Почетного легиона, как нарушитель правил чести, исключается из списков ордена».
Пэры Франции один за другим подписали приговор.
Во время этой довольно продолжительной процедуры судьи Мишеля Нея в буфете, устроенном возле зала заседаний, пили шампанское, поздравляя себя с тем, что они еще раз спасли трон и алтарь.
Пока пэры Франции совершали это преступление и беззаконие, — потому что Парижской конвенцией 3 июля 1815 года была объявлена полная амнистия, а трактатом 20 ноября 1815 года было установлено, что ни одно лицо не будет потревожено и не пострадает за свое поведение или за свои политичеекге убеждения во время Ста дней, — ла Виолетт, сговорившийся с солдатами, которые должны были бы нести караул, когда маршала водворили бы в камеру, делал последние приготовления к побегу. Было условлено, что если маршалу вынесут смертный приговор, то его супруга, которой будет разрешено прийти к нему и остаться с ним наедине в его предсмертные минуты, поменяется с ним одеждой. Закутанный в длинную шаль, с опущенной вуалью осужденный мог пройти неузнанным мимо внешней стражи. Трудность была в том, как переодеться вблизи караульных и обмануть бдительность часовых. Однако ла Виолетт взялся устранить эту опасность. Часовые решили содействовать ему, согласившись рискнуть головой, чтобы спасти маршала Франции. В кабачке «Солдат-Земледелец» были сделаны последние распоряжения, и побег Мишеля Нея казался обеспеченным. Между двенадцатью ветеранами, назначенными в караул, не могло найтись предателя.
К несчастью, как мы видели, полиция была предупреждена. Нескромность Анрио, его доверие к баронессе Невиль погубили великолепный план.
Между прочим, было условлено, что ла Виолетт проберется к караульным и как только переодетый маршал пройдет мимо них, то в коридоре, ведущем к выходу, будет заперта дверь, соединяющая его с дворцом. Таким образом беглец успеет выиграть нужное время на тот случай, если бы была поднята тревога. Он вскочит в карету, которая будет ждать его у ворот Люксембургского дворца, и найдет там приготовленную военную форму, что даст ему возможность беспрепятственно покинуть Париж и достичь границы, если только при известии о его побеге не произойдет военное восстание, которое освобожденный маршал тотчас возглавит.
В тот момент, когда ла Виолетт, снова надевший свой адъютантский мундир, собирался подойти к дружественным часовым и проникнуть в караульню, чтобы подождать там маршала при выходе его с заседания, он словно получил внезапный и жестокий удар в спину, не видя на часах у дверей и в караульне ни одного из солдат, которых рассчитывал здесь встретить. Ему показалось, что он бредит, и он остановился против часового, напрасно стараясь его узнать. Действительно, наряд стражи был заменен. Вместо старых воинов, преданных императору и готовых на все, чтобы спасти маршала Нея, вместо тех, кто получил наставление в кабачке «Солдат-Земледелец», ла Виолетт увидал гвардейцев, демонстрировавших своими кокардами, своей осанкой и довольством на лице усердие роялистов и зоркую бдительность, с какой они собирались стеречь арестанта.
— Тысяча патронов! — глухо проворчал тамбурмажор. — Нас предали. О, гром небесный! Если бы мне узнать негодяя… или негодяйку, выдавшую нас!
Он машинально повертел рукой, точно в ней была его трость и он собирался осыпать градом ударов изменника, которого проклинал в душе. Однако он сдержался. Ему пришло голову, что малейшее неосторожное движение может погубить его. Полиция, очевидно, напала на след заговора. Но так как он только что виделся с Анрио, то был уверен, что имена заговорщиков остались неизвестными; ведь в противном случае генерал был бы арестован. Вместе с тем он подумал, что если бы сам он попался, то полиция весьма легко добралась бы до маршала Лефевра, у которого он был доверенным лицом, преданным слугой. Поэтому ла Виолетт сделал усилие и, преодолев тревогу, спросил часового, как будто он нечаянно ошибся дорогой:
— Можно пройти отсюда в зал заседания?
— Ну нет! Ведь вы видите, что вход вон там, о улицы, где толпится в ожидании столько народа.
— Заметив эти двери, я подумал, что вы пропустите товарища.
— Невозможно! Здесь поведут обвиняемого.
— Ну, тогда извините.
Тамбурмажор выбрался на улицу и затерялся в толпе, стоявшей напротив Люксембургского дворца в ожидании приговора. Он потерял всякую надежду, но не уходил, будучи встревожен, расстроен, отчаявшись и напрасно ломая голову над вопросом, каким путем могли обнаружиться связи заговорщиков с людьми, которые были назначены в полицейский караул сегодня ночью и в экзекуционный взвод. Он не мог оторвать взгляд, отвлечь мысли от этой комнаты второго этажа, где находился маршал и откуда ему предстояло выйти только на казнь.
Размышляя о трагическом конце, ожидавшем доблестного солдата, ла Виолетт чувствовал, как у него сжимается сердце, а на глаза набегают слезы.
Пока толпа ожидала постановления палаты пэров, маршала отвели обратно в его камеру, так как приговор надлежало вынести в его отсутствии, и в силу особых распоряжений не спускали с него глаз. За его малейшими движениями следило четверо гвардейцев, тщательно подобранных, переодетых жандармами и заменивших солдат, на которых рассчитывал ла Виолетт.
Маршал сел за стол и ужинал спокойно, с аппетитом, когда дверь камеры отворилась, чтобы пропустить двоих мужчин в черном. То были оба защитника Нея, Беррье и Дюпен, пришедшие проститься с ним. Они нисколько не обманывали себя относительно ожидаемого приговора, находились в большом волнении и пришли, чтобы ободрить осужденного. Однако маршал сам добродушно заметил:
— Вы видите, господа, я подкрепляюсь! Поверьте, что господин Беллар обедает с меньшим аппетитом, чем я.
После этого Ней поблагодарил и обнял своих защитников, так как и сам не сомневался в роковом исходе процесса.
Адвокаты сообщили подзащитному о распространившейся молве, будто его друзья, сторонники императорского режима, подготовили заговор с целью освободить его, что министр Де Каз казался сильно встревоженным, и потому было объявлено, что в случае, если подсудимому вынесут смертный приговор, он будет немедленно приведен в исполнение. Однако Англес, префект полиции, утверждал, что он держится настороже и не допустит никакой попытки к побегу и освобождению арестанта. Маршал Удино прибавил, что на основании сведений, доставленных ему префектом, он сменил взвод, назначенный для охраны осужденного в его последнюю ночь и для совершения казни.
При этом рассказе маршал печально улыбнулся.
— Только бы эта великодушная попытка не стоила жизни никому из храбрецов, вздумавших спасти старого товарища по оружию! — сказал он и прибавил, провожая до дверей камеры Дюпена и Беррье: — Прощайте, господа, прощайте, мои милые защитники, мы встретимся на небесах!
После ухода защитников Ней сел к столу, составил последние распоряжения и потом бросился совершенно одетый на постель, где и заснул.
В три часа утра отворилась дверь и с обычным церемониалом вошел для прочтения приговора Кошн, секретарь палаты пэров.
Маршал крепко спал. Один из стражей тронул его за плечо, Ней приподнялся, сел на койке, а затем, увидав Коши, спросил:
— В чем дело?
— В весьма тяжелой обязанности! — ответил тот и приступил дрожащим голосом к чтению приговора.
Маршал перебил его:
— К делу! Пропустите все формулы, тем более, что текст, который вы мне читаете и который карает лиц, стремящихся прервать порядок престолонасления, был вдобавок составлен для фамилии Бонапарта, — с иронией заметил он.
Секретарь продолжал чтение, произнося нараспев числа, статьи закона.
— Да перейдите же к заключению! — воскликнул Ней, а когда законник произносил торжественные слова: «смертная казнь», он снова прервал его, сказав: — Было бы лучше написать «убийство». Это вышло бы куда больше по-военному!
Секретарь дочитал последние слова приговора: «Казнь последует сегодня же утром, в девять часов».
— Хорошо, — холодно заметил Ней. — Когда угодно, я готов.
Тогда недалекий секретарь в неуместном усердии предложил маршалу свои услуги относительно духовного напутствия, сказав:
— Я могу пригласить священника из церкви Святого Сюльпиция.
Ней сделал жест удивления и досады и воскликнул:
— Не докучайте мне со своими попами! Я предстану перед Богом, как представал перед людьми… Я ничего не страшусь!
Когда чиновник удалился, маршалу пришлось принять графа де Рошшуара, коменданта города Парижа, который сообщил, что ему разрешено повидаться с женой, детьми и духовником.
— Сначала я желаю переговорить с моим нотариусом, — просто ответил маршал, — потом я приму жену и детей. Что же касается духовника, то, пожалуйста, увольте!
Повидавшись с нотариусом, Анри Батарди, и составив духовное завещание, в котором были изложены его предсмертные распоряжения, осужденный принял пришедших к нему жену, четверых сыновей и сестру. То была потрясающая сцена. С громким плачем супруга маршала обняла мужа и упала без чувств к его ногам. Ней поднял жену, поцеловал сыновей и сказал им: «Любите и почитайте свою мать!» Потом он попросил, чтобы его оставили одного, чувствуя потребность в отдыхе, так как ему было нужно напрячь все свои силы для момента казни.
Принцесса Московская в сопровождении своих детей, из которых старшему было двенадцать лет, а самому младшему всего три года, вышла из камеры неверными шагами, вся в слезах. Она через силу добралась до экипажа, а так как кучер ожидал приказания, несчастная женщина пробормотала, снова близкая к обмороку:
— В Тюильри! К королю!
У нее все еще теплилась надежда на королевскую милость.
Дожидаться приема пришлось очень долго. Дежурные объяснили просительнице, что король не принимает никого в такие ранние часы. И супруга маршала ждала терпеливо, на коленях и не переставая молиться, среди караульных гвардейцев и дежурных придворных в этой тихой прихожей. Она все еще молилась о спасении осужденного, тогда как ей следовало уже читать заупокойные молитвы по нем. Устремив тревожный взгляд на дверь королевского кабинета в надежде увидеть выходящего дежурного камергера с вестью, что король готов наконец принять ее, она считала минуты, вынося пытку мучительного ожидания.
Часы пробили половину десятого. Дверь, так долго остававшаяся запертой, наконец отворилась. Принцесса Московская прервала молитвы и выпрямилась, дрожа, томимая тоской, стараясь собраться с силами, подыскивая слова, чтобы умолять Людовика XVIII и вырвать у него слово помилования, когда она падет к его ногам.
Вышел камергер, герцог Дюрас, и приблизился к принцессе торжественной походкой, с печальным видом. Он почтительно поклонился и сказал серьезным тоном:
— Аудиенция, которой вы требуете, была бы теперь бесцельной.
У супруги маршала вырвался глухой вопль. Она хотела заговорить, но силы покинули ее, и она упала на пол. По приказанию герцога Дюраса принцессу вынесли вон и отправили домой в глубоком обмороке.
Пока она ожидала таким образом понапрасну в королевской прихожей высочайшей милости, в которой было отказано заранее, вставала унылая и пасмурная заря четверга 7 декабря.
— Какой противный день! — с улыбкой сказал Ней аббату де Сен-Пьеру, сопровождавшему его на казнь, когда они садились в карету, и, видя, что аббат уступает ему дорогу, прибавил: — Пожалуйста, садитесь; сейчас мне предстоит опередить вас!
Граф де Рошшуар поставил войска, назначенные для охраны места казни, между Обсерваторией и решеткой Люксембургского сада. Сделав эти распоряжения, он явился в Люксембургский дворец и подписал приказ о выпуске осужденного из-под стражи, а потом уже подал сигнал к отъезду. Маршал Ней вышел на крыльцо и твердой походкой направился к поданному экипажу. Священник и двое судей сели с ним в карету, которую тотчас окружили жандармы. Граф де Рошшуар с маркизом де Рошжакленом следовали верхом. Гренадеры и отряд национальной гвардии замыкали кортеж, который направился к решетке Обсерватории. Не доезжая трехсот шагов до садовой решетки, карета остановилась.
С поднятой головой, с прямым взором маршал вышел из экипажа, который тотчас удалился. Вручив несколько луидоров священнику для раздачи бедным, осужденный направился к экзекуционному взводу, который окружали войска, выстроенные побатальонно в каре, и, обратившись к адъютанту Сен-Биасу, спросил, как ему встать. Тот хотел завязать ему глаза и поставить на колени, но маршал, пожав плечами, возразил:
— Разве вы не знаете, что военный не боится смерти?
Граф де Рошшуар верхом на коне наблюдал за порядком и распоряжался казнью.
Ней, стоя в центре каре лицом к экзекуционному взводу, державшему ружья наизготовку, снял шляпу и сказал:
— Французы, я протестую против моего осуждения! Моя честь…
В то момент, когда он произносил эти слова, Биас скомандовал: «Пли!» Грянул залп. Маршал упал ничком, сраженный одиннадцатью пулями из двенадцати.
Тело оставалось некоторое время распростертым на земле, пока секретарь Коши составлял протокол казни.
Полицейские приблизились, точно боясь, чтобы не похитили труп, и громко крикнули: «Да здравствует король!» Голоса на площади, куда оттеснили публику, отозвались там и сям. возгласами: «Да здравствует император!» Тогда полиция кинулась к улице Анфер, откуда как будто в основном доносились эти крики, и произвела несколько арестов, после чего оттеснила любопытных.
Наконец были приняты меры для перевозки тела на кладбище; но полиция, опасаясь скоплений народа и смятения, отложила на два дня погребение, которое состоялось тайком. Расстрелянный Ней все еще внушал страх своим врагам.
Бурбоны видели победу в этом политическом убийстве. На другой день после казни бумаги повысились в цене на бирже, а герцог Веллингтон, живший в Ели-сейском дворце, задал пышный праздник, присутствовать на котором сочла за честь вся аристократия. В ожидании смерти Наполеона гибель маршала Нея была большой радостью для Англии.
XII
План похищения маршала не удался; неведомый предатель выдал намерения заговорщиков. Но если заговор не спас жертву несправедливости, то процесс маршала Нея и его казнь по крайней мере доставили случай многим храбрецам, преданным императору, встретиться между собой и сговориться.
Во время этих переговоров верных сторонников ниспровергнутого властелина пришло два письма, взволновавших ла Виолетта. Первое было от Шарля Лефевра. Он сообщал старику о полученной им ране и просил уведомить о случившемся и успокоить дорогих его сердцу существ, то есть мать и Люси. Второе письмо было прислано Люси из Англии. Она умоляла ла Виолетта приехать к ней в Лондон. Далее молодая женщина писала, что увиделась со своим братом, капитаном Элфинстоном, и что он отправляется в Париж. Капитан хотел повидаться с маршалом Лефевром и его супругой по поводу одного плана, в который он не счел возможным посвятить свою сестру. Люси просила ла Виолетта, чтобы он взял на себя задачу сообщить о предстоящем посещении ее брата, который, выехав из Лондона одновременно с отправкой ее письма, вероятно, должен прибыть в Париж почти тотчас вслед за ним и намерен пуститься в обратный путь немедленно после свидания с маршалом. Люси надеялась, что ла Виолетт согласится сопровождать его.
— Какого черта понадобилось здесь этому англичанину? — ворчал ла Виолетт, читая и перечитывая письмо.
В это время ему доложили, что его желает видеть иностранец. Старик приказал лакею ввести незнакомца и через минуту в комнату вошел капитан Элфинстон.
После первых приветствий и вступительных фраз капитан рассказал ла Виолетту, что он был опасно ранен под Ватерлоо, покинут всеми и близок к смерти. Тогда проходивший мимо человек остановился возле него, осмотрел его рану, велел дать ему напиться и поместить в лазаретную фуру, следовавшую за ним.
— Этот человек, спасший таким образом жизнь английскому офицеру, своему неприятелю, — заключил Элфинстон, — был император Наполеон. И я поклялся в вечной благодарности ему. Теперь он пленник, подвергающийся дурному обращению, может быть, находящийся в смертельной опасности. Я поклялся спасти его! — Когда же тамбурмажор выказал некоторое удивление такому неожиданному великодушию у англичанина, он продолжал: — Вы не станете сомневаться во мне, когда прочтете вот это письмо леди Голлэнд.
Приезжий подал ла Виолетту письмо знатной англичанки, безгранично преданной Наполеону, которая рекомендовала капитана Элфинстона маршалу Лефевру и его супруге.
Убедившись в искренности и преданности этого благородного англичанина, ла Виолетт поспешил отвести его к герцогине.
Там гость открыл, что заказал шашечницу в подарок императору Наполеону. В каждой шашке должны находиться отдельные части письма, сообщавшего пленнику, что к нему спешат на помощь и что преданные друзья намереваются вырвать его из заточения.
Задуманный Элфинстоном план заключался в следующем. В назначенный день — он будет указан императору письменно или устно через лицо, которое специально прибудет из Англии и намекнет в разговоре на шашечницу, — царственный пленник должен притвориться больным и не выходить из дома. Он заручится содействием кого-нибудь из своих приближенных, который переоденется в его платье, и в случае слишком бдительного надзора сможет заставить предположить, что император лег спать или находится у себя в комнате. Так как по той части острова, где могут приставать суда, чтобы запастись пресной водой, могли свободно ходить взад и вперед только китайцы, то Наполеон должен одеться в китайское платье, под которым у него будет матросский костюм. Когда указанное ему судно, привезшее преданных друзей, пристанет к берегу, чтобы запастись водой, среди бочек будет одна, которая послужит средством для побега. При наполнении бочек ее оставят пустой. Император, переодетый китайцем, спрячется поблизости, затем незаметно смешается с толпой людей, занятых снабжением водой, заберется в пустую бочку и будет таким образом доставлен на судно под покровительством надежных лиц. Попав на борт корабля, Наполеон сбросит с себя китайское платье и переодетый моряком дождется отплытия судна, спрятавшись в складской каюте. Очутившись в открытом море, путешественники помчатся со всей возможной скоростью, а затем высадятся в каком-нибудь пункте на американском берегу или в Испании, или в Португалии.
Супруга маршала нашла этот план смелым, но исполнимым и предложила капитану Элфинстону познакомить его с капитаном Лятапи, который, со своей стороны, раз император попадет на борт корабля, мог бы обеспечить ему охрану и десантный корпус. Для этого Лятапи стоило лишь отправиться в Пернамбуко (порт в Бразилии, на берегу Атлантического океана), чтобы собрать там бывших флибустьеров, готовых с радостью поступить к нему на службу.
Капитан Элфинстон заявил, что не задумается пролить кровь до последней капли за великодушного Наполеона, спасшего ему жизнь, и что если его план найдут осуществимым, то надо немедленно попытаться привести его в исполнение. Он попросил герцогиню указать ему нескольких надежных людей среди ее друзей, готовых сопутствовать ему, и супруга маршала назвала ему Анрио, ла Виолетта, Лятапи, Беллара. На следующий день состоялось свидание с этими храбрецами. Они решили, что после необходимых приготовлений и окончательного взаимного уговора отправятся в Англию, где станут выжидать удобную минуту для задуманной экспедиции.
XIII
Маленький Андрэ был унесен полусонным. Он грезил во сне и, не просыпаясь, несколько раз потихоньку звал мать. Эти возгласы прерывались продолжительными вздохами. Он решительно не сознавал, что его утащили с постели среди ночи.
Однако покачивание кареты заставило мальчика открыть глаза. Он посмотрел на двоих мужчин с незнакомыми лицами, склонившихся над ним, слегка вскрикнул, но потом, как в прерванном кошмаре, снова закрыл глаза и заснул опять.
Он окончательно проснулся только светлым утром на большом постоялом дворе, с ужасом взглянул на те же два мужских лица, которые смутно мелькнули перед ним впросонках, сделал движение, точно стараясь освободиться от одеял, в которые был закутан, и крикнул:
— Мама! Мама!
Один из его суровых спутников сказал:
— Сиди смирно! Мы везем тебя к твоей матери, которая доверила тебя нам. Если ты будешь умницей, тебе дадут пирожное!
Окончательно очнувшийся ребенок задрожал, инстинктивно чувствуя опасность, которой подвергался, затем поспешил забиться в угол кареты и просто спросил:
— Где мама? Скоро ли я увижу ее?
— Да, да! Только молчи! — ответил ему незнакомый голос.
Конюхи, почтальон сновали вокруг кареты, занятые запряжкой свежих лошадей, и Мобрейль, сопровождаемый своим слугой и доверенным лицом Этьеном, снова подал маленькому Андрэ знак молчать, боясь, что его расспросы, а, может быть, и крики привлекут непрошеное внимание посторонних.
Наконец экипаж снова тронулся в путь. День был пасмурный и унылый. Ребенок не спал: он смотрел й слушал. Все его маленькое существо как будто сосредоточилось в глубоком внимании. Мальчик старался запомнить каждую подробность этого странного путешествия, которое заставили его совершить. Андрэ думал про себя, что если мамы не окажется в том месте, куда его везут, то он сумеет убежать и найти дорогу домой.
Его спутники, господин и слуга, спали, прислонившись к подушкам экипажа или притворялись спящими. Андрэ смотрел из окна почтовой кареты на убегавшую дорогу.
Справа и слева были видны дома с еще запертыми дверями и окнами, потом полуотворенные дворы ферм с бродившими по ним домашними животными, далее встречные тележки, нагруженные сельскими продуктами, а потом угрюмая равнина, вспаханные поля, полосы, засеянные свеклой и сурепкой, обширные пустоши, над которыми ползли низкие, серые облака. Экипаж долгое время двигался среди возделанных полей, затем появился лесок, по опушке которого пролегала дорога, а через некоторое время экипаж снова запрыгал по мостовой почтового тракта и остановился на большом дворе, куда нырнул с разбега.
Во время остановки мальчик услыхал, что его окликает человек, говоривший с ним раньше.
— Хочешь есть? — сухо спросил ребенка этот таинственный провожатый. — Тебя сейчас накормят.
По его знаку другой мужчина молча вышел из кареты и возвратился через несколько минут с кринкой молока, кроме которой у него были в руках хлеб, холодное мясо и бутылка вина.
Андрэ выпил принесенное молоко. Потом, когда его спутники делили между собой говядину и вино, у дверцы экипажа послышался женский голос:
— Не подать ли вам корзину с провизией в карету или, может быть, вы намерены отобедать в Амьене?
— Подайте корзину, — ответил один из путешественников, тогда как другой, казавшийся господином, прибавил:
— Нам недосуг останавливаться по гостиницам, мы поедим дорогой.
Когда съестные припасы были принесены, экипаж покатил дальше и весь день и всю следующую ночь продолжалась эта быстрая, однообразная езда, прерывавшаяся только остановками на постоялых дворах для смены лошадей, пока наконец на другое утро путники достигли последней гостиницы, и мужчина, отдававший приказания, сказал ребенку:
— Мы сейчас выйдем. Смотри, ничего не говори, если тебя станут расспрашивать. Можешь просто ответить, что меня зовут господин Дюбрейль, что я твой родственник и что мы едем вместе к твоим отцу и матери. Понял? Ничего другого!
— Да, — ответил испуганный мальчик.
Он мысленно допытывался, почему здесь нет его матери и куда заехала она так далеко. Он доискивался причины этого внезапного, неожиданного отъезда, не смел расспрашивать, но с беспокойством всматривался в Дюбрейля, который назвал себя его родственником, и в другого мужчину, совсем не добродушного вида; при этом мальчик ломал голову над вопросом, с какой стати мать передала его, сонного, этим незнакомым людям. К счастью, по беспечности детства, мальчик не испытывал особенного страха. Он был только смущен и встревожен этим торопливым путешествием.
Так как они, по-видимому, достигли конца своего пути, то Дюбрейль поднялся с ребенком в одну из комнат гостиницы. Он велел умыть его, переодеть, а потом, распорядившись, чтобы ему принесли поесть, оставил Андрэ одного и запер его на ключ, предварительно строго запретив мальчику звать к себе кого-нибудь.
Андрэ сначала сидел неподвижно, не смел дотронуться до поданных ему кушаний, а затем принялся плакать, остерегаясь, однако, рыдать слишком громко. Но его слезы мало-помалу иссякли, и Андрэ решил утолить голод. Подкрепившись, он приблизился далее к окну, влез на табурет и выглянул на улицу.
Комната выходила во двор, откуда доносились лошадиное ржание и топот, так часто отдававшиеся в ушах похищенного ребенка с его отъезда из Пасси. За двором простиралась масса черепичных кровель с торчащими трубами и зеленью деревьев; за ними высилась колокольня наподобие мачты, немного дальше — другая; наконец еще дальше, на сером горизонте, перед глазами Андрэ возникли как будто еще другие колокольни, которые были очень тонки и сближены между собой; они стремились к небу и походили на настоящие корабельные мачты, виденные мальчиком на картинках.
Это зрелище рассеяло его грусть, сменившуюся внимательным любопытством. Значит, там стоят корабли? Он увидит реку, большую реку, пожалуй, море, которое было ему знакомо лишь по книгам, сказкам и рассказам о кораблекрушениях. Андрэ почувствовал непреодолимое желание распахнуть окно, чтобы видеть хорошенько и приблизиться глазами к морскому ландшафту, который он угадывал вдали, за черепичными кровлями и колокольнями. Он не смел сделать это. Воспоминание о наставлениях и угрозах Дюбрейля не покидало его, и он терпеливо и, правда, не без любопытства дожидался своего освобождения, думая о том, что, может быть, его поведут гулять в гавань, расположенную совсем близко, и он увидит корабли, матросов, паруса.
Наконец явился Дюбрейль и сказал мальчику, что они сейчас уезжают.
— А мы скоро увидим маму? — спросил Андрэ.
— Да, скоро! Следуй за мной и не говори ничего!
Час спустя Дюбрейль и Андрэ были на борту английского корабля, совершавшего рейсы между Калэ и Дувром Второй спутник, Этьен, исчез.
Мальчик с Дюбрейлем остались теперь вдвоем на пути в Англию, где бедного Андрэ ожидало благополучие или несчастье, смотря по тому, сложатся ли обстоятельства, согласно планам Мобрейля, или же комбинация, задуманная им с сестрой, маркизой Люперкати, относительно ее брака с Шарлем Лефевром и усыновления ребенка, потерпит неудачу.
Высадившись на берег, Андрэ и Мобрейль сели в дилижанс и опять долго ехали среди лугов, полей и деревень из красного кирпича, пока наконец достигли Лондона со стороны Соусуорка.
Поселившись в Лондоне в маленьком домике, половину которого он нанял, Мобрейль ожидал известий от сестры. Он поспешил написать ей сразу по приезде в Калэ и в этом своем письме давал наставления маркизе, советовал ей в особенности наблюдать за тем, чтобы до Шарля Лефевра не доходили ниоткуда письма. Было очень важно как можно дольше, пожалуй, навсегда или хотя бы до свадьбы, оставить его в полном неведении о странном способе, каким была удалена Люси, и о похищении ребенка. Мобрейль между прочим уведомлял сестру, что отправил назад Этьена, которого надо пристроить в домик в Пасси, чтобы иметь возможность удалить всякого подозрительного человека, который пришел бы осведомляться о Шарле, Люси и ребенке, а также для того, чтобы перехватывать письма, которые Люси непременно станет писать туда, полагая, что Шарль вернется на старое пепелище. Мобрейль написал, что в пути все обошлось благополучно, в Англии же маленький Андрэ, состоящий под надзором и защищенный от нескромного любопытства, не мог ни указать никому, откуда он, ни сообщить имя, способное навести на след. Таким образом все устраивалось к лучшему, и маркизе Люперкати оставалось лишь ускорить осуществление плана, то есть свой брак с Шарлем Лефевром и усыновление ребенка, наследника императорского пожалования.
XIV
Прошло около недели после прибытия Мобрейля с ребенком в Лондон, и вдруг случилось событие, расстроившее планы брата маркизы.
Граф любил прогуливаться по Лондону, стараясь использовать свою поездку в интересах тайной полиции Бурбонов, так как надеялся снова попасть в милость, заставить забыть свою опалу и осуждение, которые он навлек на себя кражей императорских бриллиантов. Для этого ему нужно было бы сообщить управлению главной полиции какие-нибудь ценные указания, какие-нибудь сведения о заговорах бонапартистов, затеваемых в Лондоне, преимущественно с целью побега Наполеона или экспедиции для захвата острова Святой Елены.
Поэтому, оставляя Андрэ на попечении домовой хозяйки, миссис Мэри Бедфорд, граф чаще всего посещал рестораны, где собирались французские эмигранты. Он старался завязать с ними знакомство, чтобы получить какое-нибудь указание, которое могло бы навести его на след заговора, а в случае отсутствия такового предполагал даже придумать несуществующий заговор, добровольно взяв на жалованье подставных заговорщиков.
В таверне «Лебедь» он познакомился с бывшим шуаном, выдававшим себя за политического эмигранта. На самом же деле этот обломок шуанства по имени Роберт Ле Камю ускользнул просто от ареста за выпуск и сбыт фальшивых ассигнаций. То был весьма умный человек, и Мобрейль рассчитывал найти в нем полезного и преданного помощника, а потому расспросил его о заговорах, которые затевались в Лондоне с целью освобождения Бонапарта. Вникнув в проекты графа, Камю уверил его, что с небольшими деньгами, предложив солидное угощенье двоим или троим бывшим солдатам империи, скомпрометированным в вспышках военного мятежа в Гренобле, Безансоне, Сомюре, нетрудно составить ядро людей энергичных, предприимчивых, отважных, которые живо предоставят все элементы хорошего и интересного заговора. Но вместе с тем Камю заметил своему новому другу, что опрометчиво сговариваться о подобных планах в публичном месте и что им надо повидаться у него на квартире.
Мобрейль после некоторого колебания согласился на это и повел Камю к себе, и вот тут, несмотря на то, что Мобрейль поднялся в квартиру раньше гостя и велел миссис Мэри Бедфорд увести в свою комнату ребенка, Камю успел увидать маленького Андрэ.
— Кто этот мальчик? — спросил он. — Ваш сын?
С замешательством, не ускользнувшим от проницательною молодца, граф ответил:
— Это родственник, которого мне поручили привезти сюда, к его родителям… французам, поселившимся в Лондоне. На днях я должен отправиться к ним.
С этими словами он увел Камю к себе в комнату. По его требованию туда подали приготовленный на виски грог, возбуждающая теплота которого должна была благоприятствовать развитию дутого заговора, который, будучи раскрыт тотчас после своего возникновения, ускорил бы маркизу д'Орво возврат благосклонности Людовика XVIII.
Гость казался рассеянным во время беседы, а затем, дав слово явиться на другой день со списком нескольких надежных лиц, на которых, по его мнению, можно было рассчитывать, ушел от графа.
Очутившись на улице, Камю сделал вид, будто удаляется быстрыми шагами, а на самом деле остановился за углом и осторожно, крадучись, вернулся к дому и тщательно запомнил его расположение, после чего ушел, на этот раз совсем.
Он поспешил вернуться к себе, в убогий квартал Сохо и здесь, едва успев запереть за собой дверь и зажечь свечу, набросился на три-четыре измятых газеты, валявшиеся на столе, и стал жадно отыскивать что-то в объявлениях, прочитанных им раньше.
С некоторого времени старый шуан, у которого кончились все средства, перехватывал по нескольку шиллингов у собутыльников в таверне или просто у знакомых, чтобы помещать в газетах объявления, в которых предлагал услуги как преподаватель французского языка.
Камю тщательно просмотрел многочисленные предложения, которыми пестрели газетные столбцы, а затем вдруг вскрикнул от радости и, водя пальцем по строчкам найденного им отрывка, забормотал:
— Ну, а что если это тот самый ребенок? Тысяча фунтов стерлингов! Какова пожива!
Затем он снова схватил газету, придвинул к себе свечу и чуть не по складам, смакуя каждое слово, прочел:
«Тысяча фунтов стерлингов тому, кто может доставить по прилагаемому адресу ребенка от девяти до десяти лет по имени Андрэ, француза, белокурого, с белым цветом лица, голубыми глазами, ростом 1 метр 25 сантиметров, одетого в короткие брюки и темно-синюю куртку. Половина вознаграждения тому, кто может навести на след ребенка или верно указать, в какой город Англии он отвезен. Сообщения адресовать письменно на имя Джона ван Гольборна, гостиница «Король Георг».
Камю схватился за голову и промолвил:
— Этот француз Дюбрейль смахивает на злодея. Он предлагает мне состряпать заговор, политическую авантюру. Но, может быть, он явился сюда совсем по другому делу. Во Франции, очевидно, живет семья, разыскивающая пропавшего ребенка. А не того ли, который сегодня случайно попался мне на глаза? Вот что необходимо выяснить. Ба, завтра я займусь этой историей.
И, задув свечку, Камю заснул мирным сном. Ему приснилось, что он получил тысячу фунтов стерлингов и значительно улучшил состояние как своего костюма, так и желудка, голодавшего столько недель, столько месяцев, можно сказать, столько лет!
Рано утром шуан поднялся и отправился в квартал, куда его привел накануне Мобрейль. Он без труда нашел дом и расположился поблизости в надежде увидать старуху, которой Мобрейль при его появлении велел увести к себе в комнату мальчика, очевидно, чтобы скрыть его от гостя и уклониться от расспросов.
Ожидание было очень долгим, однако все же дверь приоткрылась и оттуда выглянула старуха с половой щеткой в руках, Камю подошел к ней и спросил:
— Не вы ли мать того мальчика, который подружился с моим сынком, маленьким Чарли?
— Нет, — ответила старуха, — я вдовею уже более двадцати лет, а мой сын умер давным-давно. Он работал в ланкаширских рудниках и был страшный пьяница, как и его покойный батюшка! Но маленький мальчик, про которого вы говорите, должно быть, сынишка соседки, миссис Джексон. Через два дома дальше!
— Благодарю вас, — ответил шуан, — я вижу, что ошибся. Между тем мне сказали, что у вас есть юноша, скорее мальчик лет двенадцати.
Старуха подозрительно посмотрела на говорившего и, вслушавшись в его акцент, спросила:
— А вы француз? Вероятно, вы говорите о маленьком французе?
Глаза шуана загорелись надеждой и радостью.
— Да, да, — торопливо ответил он. — Вы угадали, я француз и разыскиваю родственника по имени Андрэ; он должен быть здесь с моим кузеном, высоким, хорошо одетым господином. Где мой Андрэ? Я хочу поцеловать его!
— Он наверху, — ответила миссис Бедфорд, опираясь на свою метлу. — Но у меня формальный приказ никого не допускать к нему.
— Не допускать меня? Так Андрэ живет в заключении? Или он болен? Однако еще только вчера меня послал сюда один из моих друзей.
— Да, мой жилец вчера принял одного гостя, но это был первый. Что ж, если вы его родственник, я пойду разбужу его; может быть, он вас и примет. — И старушка медленно стала подниматься по лестнице.
Камю рассуждал. Если Дюбрейль придет, что он скажет ему? Как объяснит свое присутствие и розыски? Очевидно, что ребенок, за которого было обещано двадцать пять тысяч франков награды, здесь, но, конечно, тот, у кого он находится, никому не отдаст его. Значит, придется пустить в дело хитрость. Поэтому Камю догнал миссис Бедфорд на лестнице и сказал ей:
— Не будите так рано моего родственника, я приду потом. И не говорите ему, что я был; пусть это будет ему сюрпризом. Он будет так доволен, что, конечно, даст вам на чай, да и я прибавлю вам тоже. Итак, ни слова ему! До свиданья!
Камю исчез, а удивленная старуха пожалела, что рассказала ему о маленьком французе. От жильца она никогда не слыхала ни о каком родственнике. Чувствуя что-то неладное, она решила молчать об этом любопытном незнакомце и закрыть дверь перед его носом, если он придет еще раз. И почему он не захотел назвать себя, как каждый порядочный человек?
Камю поспешно отправился в один из закоулков Сохо, находившийся поблизости от его квартиры. Там он вошел в комнату, где отдыхали два субъекта, одетые в лохмотья и, как видно, еще не протрезвевшие со вчерашнего дня.
— Ну, живее! Джек! Филипп! — крикнул Камю, расталкивая их. — Вставать! Лентяи, пьяницы, лежебоки!
Оба молодца открыли глаза, потянулись, сладко зевнули, и Джек пробормотал сонным голосом:
— В чем дело? Дайте нам спать!
— Спать некогда, — крикнул Камю, — когда каждый может заработать по крайней мере по пяти фунтов на брата.
Пораженные крупной суммой, оба проснулись окончательно:
— Что надо делать? — спросил Филипп.
— Вставайте, одевайтесь и будьте готовы следовать за мной.
— Так по пяти фунтов на каждого? Это верно? — спросил Джек.
— Да, а может быть, и больше, если я буду доволен.
В одну минуту оба молодца были готовы.
Камю спросил:
— Есть у вас деньги?
— Если вы подняли нас только за этим, то мы покажем вам хорошую английскую монету, — сказал Джек, вставая в угрожающую позу бокса.
— Только пока маленький аванс, товарищи! Всего около дюжины шиллингов на несколько часов, чтобы прилично одеться для того дела, которое я предлагаю вам. Нужны шляпы и сюртуки, такие, чтобы вас могли принять за почтенных полицейских агентов, явившихся для ареста.
Джек и Филипп переглянулись, улыбаясь, и первый воскликнул:
— Так бы и говорили сразу! Денег у нас нет, потому что вчера мы знатно отпраздновали отбытие на тот свет одного товарища, Джона Партриджа, который так глупо попался, стянув на десять тысяч фунтов бриллиантов.
— Он зачем-то чересчур сильно помял горло ювелиру, — деловито заметил Филипп, — он был слишком энергичен, бедняжка Джон. Вчера его повесили, вот почему мы теперь на бобах. Впрочем, ведь если нет денег, то есть кредит и добрые знакомые. Не сходить ли нам к Гарри Стону? Как ты полагаешь, Джек?
— Это закладчик в Гей-Маркете? — спросил Камю.
— Именно! У него найдутся подходящие костюмы, ол уступит нам их недорого. У меня, кстати, есть часы, они пойдут Гарри Стону вместо залога.
— Поспешите же одеться подходящим образом, — сказал Камю, и все трое направились к старьевщику закладчику Гарри Стону.
В лавке последнего они нашли запас всевозможного платья. Камю сам выбрал из кучи старья сюртук, мундир егеря и плащ, которые могли сойти за полицейскую форму. Сапоги с отворотами и две шляпы довершили переодевание. Камю разглядел еще две серебряных петлицы с пряжкой и положил их в карман.
Договорившись со старьевщиком, согласившимся отпустить вещи на день под залог часов, оцененных в полсоверена, Джек и Филипп переоделись в задней комнате лавки. Затем Камю повел их за собой, избегая людных улиц. За несколько шагов от того дома, где должны были находиться Мобрейль и Андрэ, Камю пригласил своих сообщников в узкую, темную таверну, где спросил три стакана виски с горячей водой. Пока готовили питье, Камю велел Джеку и Филиппу надеть на свои шляпы заранее приготовленные галуны — отличительный признак агентов полиции в Сити. Филипп как более представительный был снабжен и пряжкой, означающей высший чин.
Поглощая виски, Камю, еще дорогой ознакомивший ложных агентов с их ролью, указал им дом, говоря:
— Вы явитесь от имени короля и принца-регента. Отстранив старуху, которую там увидите, вы подниметесь на первый этаж, где найдете человека и ребенка, о которых я говорил. Ты, Джек, потребуешь документы у француза по имени Дюбрейль и затянешь как можно дольше свой допрос. Тем временем Филипп уведет ребенка в соседнюю комнату под предлогом отдельного допроса. Затем он спустится с ним с лестницы, я буду ждать у дверей, и мы как можно скорее скроемся вместе с ребенком.
— А что делать мне с этим французом? — спросил Джек.
— Ты постарайся присоединиться к нам так, чтобы тебя не преследовали и в особенности не догнали.
— А если малый начнет брыкаться, потребует ребенка, последует за мной?
— Что ж, товарищ, ты, я думаю, еще не забыл искусство бокса, которое так прекрасно знал, судя по твоему сломанному носу? Дай ему хороший удар в глаз по всем правилам искусства и, не обращая внимания на крики старухи, улепетывай во все лопатки. Вечером встретимся на берегу Темзы, в таверне «Королевская щука».
— Ладно, — сказал Филипп, — я уже чувствую себя полицейским не хуже самого шерифа. Пойдем, что ли, Джек?
Оба вышли из таверны, и Камю видел с порога, как они вошли в дом.
Через четверть часа Камю с угла соседней улицы к своей неописуемой радости увидел Филиппа, тащившего отбивавшегося ребенка. Джек был внутри дома, очевидно, еще занимаясь Дюбрейлем.
Итак, дело удалось! Тысяча фунтов была в руках, оставалось только явиться по указанному адресу — в гостиницу «Король Георг», чтобы получить от публиковавшего лица обещанную награду.
Однако Камю затруднялся вести по шумным лондонским улицам, к тому же днем, отбивавшегося ребенка. Это могло показаться подозрительным. Да и разумно ли было явиться в гостиницу, где можно было встретить у лица, поместившего публикацию, офицера полиции, который мог спросить, как и где найден ребенок. Проделка могла открыться, и тогда Джека и Филиппа задержат, во-первых, за присвоение полицейского звания, во-вторых, за похищение ребенка и, наконец, как профессиональных воров, кем они и были в действительности.
Конечно, Дюбрейль имел свои причины похитить и скрывать ребенка. Может быть, имея мальчика в руках, можно было договориться с ним? Ведь обещанная тысяча по объявлению казалась Камю теперь недостаточной суммой. Почем знать, какие расчеты могли быть связаны с этим ребенком?
Все это заставляло Камю действовать крайне осторожно. Незачем было спешить идти за наградой в гостиницу «Король Георг». Прежде всего надо было отнести обратно вещи к старьевщику, затем пойти в таверну «Королевская щука» на свидание с Джеком. Тем временем можно будет собрать справки. Не следовало ничего сообщать обоим помощникам; крайняя осторожность была необходима и с ними.
Решив так, Камю направился в лавочку Гарри Стона. Мале-нький Андрэ, запыхавшийся, оглушенный неожиданным вторжением овладевших им людей, твердил по-французски:
— Я хочу к маме! Вы знаете, где мама? Пустите меня, я не хочу быть у вас, хочу к маме!
Камю успокоил его, обещав свести к матери и сказав, что если он спокойно пойдет по улице, будет умницей, то сегодня же увидит мать, а без этого его отведут обратно к тому господину, который держал его в комнате. Эта угроза подействовала. Мальчик перестал плакать и послушно последовал за своим спутником по улицам Лондона.
Придя к старьевщику, Камю попросил его хорошенько присмотреть за ребенком, пока он сходит недалеко по очень важному делу. Филиппа он отправил пока в ближайшую таверну выпить грога, обещая зайти за ним и вместе отправиться потом в харчевню «Королевская щука».
Устроив все это, Камю поторопился в гостиницу «Король Георг», указанную в объявлении. Однако там его ждал неприятный сюрприз.
XV
Люси Элфинстон торопливо отправилась в путь, послав последний призыв ла Виолетту, в котором напомнила ему обещание присоединиться к ней в Лондоне, как только будет окончено важное дело, удерживавшее его в Париже.
В Лондоне, как было установлено, она остановилась в гостинице «Король Георг» и затем поехала к своему брату, капитану Элфинстону. Брат с сестрой не виделись многие годы, и сначала их свидание было холодно и натянуто. Люси едва удалось вызвать улыбку на суровом лице брата, но наконец лед был сломан и она, рыдая, бросилась в его объятия.
Она описала брату счастливую жизнь с Шарлем, потом своего маленького сына, затем двойную катастрофу, которая постигла ее: арест Шарля и похищение ребенка, с самой низкой целью увезенного одним негодяем в Лондон.
Капитан был растроган и обещал сестре помочь ей в поисках сына, а узнав имя похитителя, горячо воскликнул:
— Как? Это негодяй Мобрейль? А, раскается он во всех своих подлостях, если мне удастся поймать его! Это величайший враг императора Наполеона!
Сестра заметила уважение, прозвучавшее в голосе капитана при имени Наполеона, и продолжала:
— Я думаю, мой муж — ведь ты знаешь, что перед отъездом отсюда мы были обвенчаны нашим приходским пастором, — был арестован по подозрению в желании снова возвести на трон Наполеона.
— Это удивляет меня! — сказал капитан. — У меня есть некоторые сведения о твоем муже. Сын славного маршала и глубоко преданной императору женщины, он всегда слишком увлекался светской рассеянной жизнью и, не занимаясь политикой, никогда не был из наших.
— Как из ваших? — удивленно спросила Люси.
— Да. Хотя я и англичанин, но осуждаю плен императора и краснею за Англию при мысли о страданиях Наполеона. Я возмущен коварством по отношению к такому человеку, герою, надеявшемуся на гостеприимство Англии. Не скрою от тебя, что в настоящее время я занят со своими друзьями планами освобождения узника острова Святой Елены.
— Берегись! Если об этом узнают, ты будешь жестоко наказан Что будет со мной? Ведь если я потеряю тебя, то мне не на кого будет надеяться, чтобы найти сына.
— Успокойся, Люси, я покину Лондон вовремя. Ведь предпринимая кое-что в пользу Наполеона, я плачу только свой долг: я остался раненый, умирающий на поле битвы при Ватерлоо и непременно погиб бы, если бы проезжавший мимо император не приказал взять меня на одну из своих повозок. Он спас мне жизнь, и я готов пожертвовать ею за его свободу. Я, конечно, не стану подвергать тебя опасности в связи с моим отъездом на остров Святой Елены. Займемся же прежде всего тобой и ребенком. Есть ли у тебя хоть какой-нибудь след, чтобы искать его?
— Никакого! Этот Мобрейль только уведомил меня, что увезет ребенка в Англию, если я не соглашусь содействовать ему.
— Попробуем взять хитростью и поймать Мобрейля в ловушку. Отправимся теперь вместе к моему поверенному, адвокату Эндрью, у которого хранится мое завещание, сделанное в твою пользу, так как я все-таки не забыл тебя, Люси!
Брат и сестра вместе поехали к адвокату Эндрью. Тот подробно расспросил Люси Элфинстон о всех обстоятельствах похищения ее сына, а затем набросал несколько строк на листке бумаги и, протянув его капитану, сказал:
— Поместите это в двух-трех газетах, наиболее распространенных в Лондоне, и ждите: ответ, вероятно, не заставит себя ждать.
Это было объявление о тысяче фунтов награды за приведенного ребенка, приметы которого были указаны. Делая это, капитан рассчитывал, что прибытие в Лондон маленького француза при несколько таинственных условиях могло возбудить любопытство слуг в гостиницах, а крупная сумма за сообщение сведений должна была довершить дело.
Действительно, уже на второй день Люси получила следующее письмо:
«Известно, где находится отыскиваемый ребенок. Он в одной из окружающих Лондон деревень. Если хотите видеть его, то надо прийти в девять часов вечера к Лондонскому мосту. Карета отвезет к ребенку».
Люси стала просить брата поехать с ней в указанное место. Капитан удивился неточности сообщаемых сведений, но обрадованная Люси заметила ему, что, может быть, писавший не мог сам отдать ребенка или не желал делиться с кем-нибудь наградой.
Было решено явиться вечером на указанное место. Но напрасно капитан и Люси терпеливо ждали там до девяти часов и много дольше: никто не пришел. Разочарованные, вернулись они в гостиницу «Король Георг», а так как было поздно, то капитан простился с Люси до завтра.
Опечаленная Люси уже хотела лечь в постель, когда служанка передала ей новую записку:
«Невозможно было явиться в назначенный час. Ребенок в большой опасности. Надо прийти немедленно к Лондонскому мосту; оттуда проводят к нему».
Люси не знала, что делать. Она поспешила сесть в карету и поехала на квартиру брата. Но там ей сказали, что капитан Элфинстон только что уехал, предупредив, что дома ночевать не будет, так как отправляется на ужин к своим друзьям, где часто оставался и раньше. Люси спросила адрес. Оказалось, что это на другом конце Лондона в предместье Пэлтрон, на Гринвичской дороге.
Люси боялась потерять так много времени и вторично упустить случай увидеть сына, а потому решила ехать одна к Лондонскому мосту.
Едва она отпустила свой экипаж и сделала несколько шагов по мосту, как к ней подошел плохо одетый субъект и спросил, не живет ли она в гостинице «Король Георг».
— Да, — ответила она. — Это вы написали в гостиницу?
Ее голос дрожал от волнения и страха при виде подозрительного незнакомца, обратившегося к ней.
— Да, и я готов проводить вас, добрая госпожа. Вы одна?
— Одна, — сказала Люси. — Отчего, если вы знаете, где ребенок, вы не сообщили мне его адрес? Почему не были вы здесь в назначенный час?
— Это было невозможно, — ответил незнакомец, — Тысяча фунтов у вас с собой?
— Да, — подумав, сказала Люси, так как побоялась, что в случае отрицательного ответа он не захочет проводить ее к сыну.
— Тогда идите за мной! Мы придем через четверть часа.
— Вы писали, что мальчик в одной из окрестных деревень!
— Его взяли оттуда, поэтому и не удалось первое свидание. Дитя здорово и ждет вас.
— Пойдемте, пойдемте скорее! — воскликнула Люси.
Незнакомец пошел вперед по узким улицам южного квартала. После многочисленных поворотов, пройдя через мрачные дворы, мимо каких-то притонов, они остановились перед низким домом с закрытыми ставнями, сквозь щели которых струился свет. Незнакомец постучал три раза, и дверь открылась.
— Входите и не бойтесь, добрая госпожа! — сказал незнакомец, пропуская Люси вперед.
Люси колебалась. Место было очень подозрительно, и ей почудились в плохо освещенной комнате какие-то мрачные фигуры. Однако отступать было поздно. Может быть, ее уже не выпустят отсюда, побоятся не получить обещанные деньги. Но желание увидеть сына превозмогло страх: она вошла. Дверь закрылась за ней, и тотчас же подошла старая женщина и сказала:
— Садитесь и ничего не бойтесь, поговорим по душам. Не хотите ли выпить хорошего джина?
Старуха налила полстакана из бутылки, стоявшей на столе, и протянула его Люси.
— Нет, благодарю, я не хочу пить, — ответила та. — Ведь меня обещали проводить к ребенку, которого я ищу и за которого обещана хорошая награда, — обернулась она к своему проводнику. — Где он? Я хочу видеть его!
В глубине комнаты поднялись из-за стола два человека и один из них сказал ей:
— За него обещана тысяча фунтов. Где они?
Люси начала понимать, что попала в ловушку, и что, может быть, ее жизнь в опасности. Но она твердо сказала:
— Если ребенок у вас, вы получите деньги, но понятно, что с такими людьми, как вы, надо принимать предосторожности. Вы получите деньги, только когда отдадите мальчика, в гостинице «Король Георг», где вы сумели найти меня.
— А кто поручится нам, что, получив ребенка, вы не выдадите нас полиции там, в гостинице, в центре Лондона? Нет, не заплатив денег, вы не получите ребенка.
Люси теряла голову, с ужасом думая о том, в какие руки попал ее маленький Андрэ.
— Умоляю вас, господа, не мучьте меня! — умоляюще воскликнула она. — Вы получите в точности то, что обещано, но позвольте мне взглянуть на мальчика, обнять его! Потом вы можете послать за деньгами в гостиницу или к капитану Элфинстону.
— Дело не в этом. Если вы даете тысячу фунтов за ребенка, значит, он нужен вам. Может быть, вы никогда и не видали его и вам годится первый попавшийся мальчуган? Магги, — обернулся к старухе говоривший, — покажи-ка барыне своего питомца.
Старуха открыла дверь и крикнула:
— Виль! Поди-ка взглянуть на прекрасную даму!
Из темного чулана вышел ужасный рыжий мальчишка с заспанными глазами и угрюмо прижался к старухе.
— Годится вам такой? — спросил молодец, толкнув к Люси оборвыша.
— Я не знаю этого ребенка, — отшатнулась та, — это не тот, которого я ищу. Пустите меня, здесь ошибка.
— Вы не желаете его? А он отлично разыграл бы вам сына или брата за скромное вознаграждение. Однако не даром же мы беспокоились: давайте нам деньги!
Люси достала из кармана деньги и протянула их говорившему с ней оборванцу. Сейчас же подскочили двое других и подняли спор из-за этих денег, в который вмешались и старуха с рыжим мальчишкой.
— Теперь я заплатила вам, — сказала Люси, — откройте же дверь и выпустите меня.
— Не сейчас еще! Должно быть, вам дорог тот ребенок, если вы предлагаете за него такие деньги.
— Это мой сын! — воскликнула Люси. — Сжальтесь надо мной! Я так жестоко страдаю! Я дала вам все деньги, бывшие при мне, и дам вам еще, если кто-нибудь проводит меня до гостиницы, но, молю вас, не держите меня больше! Отпустите меня!
Игравший, как видно, роль начальника, сказал своим товарищам:
— Дело-то, кажется, выгодное. Если вы завтра не напьетесь и не станете болтать по всем тавернам, так мы еще выручим кое-что от этой барыни и ее знакомых. Она говорила о каком-то капитане Элфинстоне. Где живет этот ваш капитан? — обратился он к Люси.
Та сказала его адрес, прибавив, что, если с нею случится что-нибудь дурное, капитан сумеет отплатить им, отдав их в руки полиции.
Все трое рассмеялись.
— Мы боимся полиции только когда она нас поймает, — заявил начальник. — Вот что, сударыня: за вашу свободу вы должны отдать нам обещанную тысячу фунтов. Или возьмите воспитанника Магги; он — бедный сирота, которого держат из милости. Это принесет вам счастье! А впрочем, пока подумайте на свободе! Завтра мы повидаем вашего капитана и, может быть, дело уладится. Магги, отведи мадам в ее спальню!
Старуха открыла дверь в чулан, откуда вышел мальчишка, и сказала дрожавшей Люси:
— Пожалуйте! Желаю вам хороших снов! Здесь тихо, вы не услышите никакого шума в доме.
— Я не хочу туда! Я хочу уйти отсюда! На помощь! Ко мне! Убивают! — закричала Люси.
К ней подскочили три человека; один зажал ей рот рукой, двое других отнесли в темную комнату и бросили на отвратительную постель. Главарь шайки внес свечу, осветившую ужасный чулан, и сказал:
— Стены здесь толстые, никто не услышит вас. Все-таки мы не желаем иметь дело с полицией. Если вы будете кричать и звать на помощь — берегитесь! У нас есть здесь Том, который не стесняется: он пристукнет вас, если вы не замолчите! — Он посторонился, чтобы показать рослого молодца с огромными руками, способными задушить быка, а затем продолжал: — Вы останетесь здесь, а завтра, когда мы получим деньги от капитана, мы вас выпустим. Ну, спите спокойно и будьте умницей! Доброй ночи!
Он запер дверь, оставив полубесчувственную Люси во власти самых ужасных дум. Наконец, измученная душой и телом, она упала ничком на грязную постель и забылась в тяжелом сне.
XVI
В это самое время Камю явился в гостиницу «Король Георг» и спросил лицо, поместившее объявление в газетах, под именем Джона В. Служащий гостиницы, к которому он обратился, подозрительно посмотрел на него и произнес:
— Сейчас вам дадут ответ. Пройдемте в приемную!
Камю колебался: ему не понравилась такая официальность. Но отступать было поздно и потому он вошел. Едва он сделал несколько шагов, как к нему подошел один из трех присутствующих здесь людей, коснулся его белой палочкой и сказал: «Я вас арестую». Это был полицейский.
Вот как случилось, что Камю попал в руки полиции.
Под влиянием какого-то смутного предчувствия капитан Элфинстон не остался ночевать в Чарлтоне, а после ужина вернулся в Лондон и зашел в гостиницу «Король Георг» справиться о сестре. Узнав, что ее нет дома, он сильно встревожился, а рано утром, после бессонной от беспокойства ночи сделал заявление в полицию и настоял, чтобы два агента были посланы дежурить в гостинице. Он предвидел, что если Люси попала в какую-нибудь западню, то или она даст о себе знать, или люди, захватившие ее, явятся за сведениями на ее счет.
И правда, бродяги, задержавшие Люси, поспешили за справками к капитану; они собирались сказать ему, что его спрашивает дама, искавшая ребенка, и просит захватить с собой тысячу фунтов награды.
Однако они не дождались капитана, который провел весь день в гостинице «Король Георг» в ожидании сведений о сестре или появления захвативших ее людей, и таким образом Камю, пришедший за справками, был арестован вместо них.
Допрос Камю, конечно, не дал никаких сведений о Люси. Он сказал только, что разыскиваемый по объявлению ребенок находится в верном месте, которое он готов указать, если его освободят и дадут маленькую награду.
Имея старые счеты с полицией, Камю был осторожен и на все расспросы Элфинстона отвечал лишь, что хотел оказать услугу родителям ребенка, прочитав объявление о нем, и ровно ничего не знает ни о каком-либо свидании на Лондонском мосту, ни о какой молодой женщине. Когда его хотели отвести в тюрьму, он решился сказать, где ребенок, уведенный от Мобрейля, если ему дадут хотя бы небольшое вознаграждение по усмотрению капитана. Последний согласился и в сопровождении полицейского агента отправился к старьевщику Гарри Стону. Здесь он строго сказал:
— У вас ребенок? Выдайте его сейчас же или вы будете арестованы.
— Чего вы хотите от меня, господа? — воскликнул испуганный закладчик. — У меня нет никакого ребенка, вы можете искать у меня повсюду, где хотите.
Он открыл настежь обе двери в свое помещение, показав обе лавки, в которые складывал товар и все то, что приносили ему лондонские воры.
— Правда, — прибавил он, — вчера один знакомый поручил мне присмотреть за каким-то мальчиком…
— Сообщите приметы этого ребенка, — приказал капитан.
Старьевщик сделал подробное описание Андрэ.
— Это он! — воскликнул Элфинстон. — Где он? Что ты сделал с ним, негодяй?!
— Ничего не могу сказать нам. Ребенок находился в соседней комнате и пока я был занят с покупателями, шалун убежал, разбив вот это оконное стекло, за которое, я надеюсь, вы заплатите мне. — Старьевщик показал разбитое в окне стекло и продолжал: — Когда господин, поручивший мне ребенка и отлучившийся по своему делу с какими-то почтенными торговцами нашего квартала, узнал о бегстве мальчика, он пришел в ярость и убежал искать его.
— Он возвращался сюда?
— Нет, я больше никого не видел. Клянусь вам Евангелием! Вы можете поверить мне, я честный человек, плачу все налоги и все мои документы в исправности.
— Нелегко будет бедной Люси найти сына на лондонских улицах! — проговорил капитан. — Кто знает? Может быть, он умирает теперь с голода или уведен какими-нибудь бродячими акробатами? Где-то сама моя бедная сестра? Как найти ее?
Между тем полицейский агент, сделав по обязанности службы быстрый обыск обеих лавок, сказал капитану:
— Ничего! Здесь нет ребенка. Что делать теперь?
— Увы, делать нечего! — ответил Элфинстон.
Опечаленный, вернулся капитан в гостиницу «Король Георг», где с нетерпением ждал его Камюс. Последний сильно удивился, узнав об исчезновении мальчика. Задерживать его теперь не было оснований, так как он рассказал, что, прочитав объявление, он вспомнил, что видел подходящего ребенка, разыскал его и выпросил на несколько часов у приютивших его людей, затем действительно отвел его к старьевщику, где оставил до тех пор, пока найдет его родителей, боясь передать ребенка людям, не имеющим на него прав, может быть, не способным дать обещанную награду.
— Вот почему я пришел сюда, в гостиницу, один, — закончил свои показания Камю.
Пришлось отпустить его, причем Элфинстон дал ему несколько монет, обещая хорошее вознаграждение за каждое сведение о пропавшем снова мальчике.
Возвращаясь домой, капитан увидел двух оборванцев у двери, как бы подстерегающих кого-то, и ему пришла в голову мысль, не имеют ли эти люди отношение к исчезновению сестры и ее ребенка. Капитан небрежно прошел мимо своего дома и остановился в нескольких шагах под навесом ближней лавки.
Через несколько минут он увидел, как из его дома показался такой же подозрительный субъект, подошел к ожидавшим и знаками показал им, что не нашел кого-то или чего-то не получил. Все трое медленно удалились, не заметив капитана. Он пошел за ними, видел, как они вошли в одну таверну, тотчас же отправился домой и узнал, что его два раза спрашивал человек, присланный какой-то дамой с важными известиями. Тогда Элфинстон быстро вернулся к таверне и скоро заметил тех же троих человек; они были несколько навеселе и направились к Темзе. Перейдя ее, они дорогой зашли еще в одну таверну и вышли оттуда еще веселее и непринужденнее, не обращая никакого внимания на окружающее, так что капитан мог вполне незаметно следить за ними.
Они углубились в массу темных, кривых и узких переулков, кишевших толпой оборванных женщин и детей, среди которых капитану было трудно остаться незамеченным, и его легко могли оскорбить, обокрасть, а, пожалуй, и убить. Он уже не сомневался, что его сестра, а может быть, и маленький Андрэ, скрыты в каком-нибудь из домов этого ужасного квартала. Но как проникнуть в притон, куда они попали? Вдруг ему пришло в голову прикинуться пьяным, пользуясь тем почтением, которое в Англии питают к пьяницам. Джентльмен, который не мог бы никогда безопасно пройти известный квартал, например Уайтчепел, может вполне спокойно прогуливаться там, если он находится под влиянием винных паров, и его будут даже охотно оберегать и проводят.
Пройдя два-три переулка и не видя людей, которых он потерял из вида, капитан, чтобы казаться совсем пьяным, начал громко распевать популярную песенку, сопровождая пение выразительными жестами.
Отвратительные старухи, сидевшие на ступенях, с трубками в зубах, смотрели на него с улыбкой; молодые женщины, поблекшие и увядающие, заигрывали с ним сквозь пыльные окошки; несколько почтенных мазуриков, отдыхавших от ночных трудов на скамье около одного из притонов, весело переглянулись при виде его. Проходя мимо грязной таверны, где двое матросов пили джин, Элфинстон, покачиваясь, вошел туда и, заикаясь, спросил:
— Не желаете ли вы, господа, выпить за мое здоровье?
Сначала на него посмотрели подозрительно, а потом согласились. Выпили по-приятельски, расстались друзьями, крепко пожав друг другу руки, и капитан, шатаясь, отправился дальше.
Все это было замечено, и население квартала почувствовало симпатию к джентльмену, решив, что под влиянием джина и виски он сбился с дороги. К тому же у таких пьяниц едва ли есть много в карманах, чтобы возник соблазн обокрасть их.
Увидев в одном из переулков мальчишку, рывшегося в канаве и собиравшего там обрезки железа и черепки, капитан спросил его, не видал ли он троих его товарищей, бывших в веселом настроении и ушедших в эту сторону.
— Это, верно, Том, папаша Милл и Вилли? Они пошли домой.
— Куда это домой? — спросил капитан с тревожно забившимся сердцем.
— Туда! — показал мальчик на лачужку с закрытыми ставнями, которая казалась необитаемой.
Элфинстон решил искать повсюду, несмотря ни на что, а потому постучал в ставень.
Дверь открылась и на пороге показалась старуха. Это была Мэгги.
— Кто вы и что вам надо? — грубо спросила она.
Капитану послышался через стену как будто какой-то стон, как будто чей-то женский голос звал на помощь. Он узнал голос Люси и, оттолкнув старуху, бросился в комнату, крича:
— Это я! Я здесь! Я, Эдвард!
Радостный крик прозвучал в ответ сквозь перегородку.
Элфинстон хотел выломать дверь, как вдруг из задней комнаты прибежали с угрожающим видом три человека. К счастью, у Элфинстона были с собой пистолеты, и он направил их на вошедших, крикнув:
— Первый, кто тронется с места, будет убит! Боксер Том, наступавший со свирепым видом, подался назад, говоря:
— К чему столько шума? Если вы пришли за молодой дамой, мы отдадим вам ее. Вы, должно быть, капитан Элфинстон, за которым мы гонялись сегодня целое утро?
— Да, это я, негодяй! Сейчас же приведите молодую женщину, которой вы завладели, а не то я мигом размозжу вам головы! Видите, у меня в распоряжении четыре заряда.
Он снова навел пистолеты на компанию, и та попятилась к внутренним дверям.
— Мэгги, выпусти даму! — сказал один. — Пусть она скажет, как хорошо с ней обходились мы все!
Когда дверь готова была открыться, капитан заметил какое-то движение среди оборванцев и, как человек хладнокровный и осторожный, понял их намерения. Если бы освобожденная Люси радостно бросилась к нему, негодяи воспользовались бы этой минутой, и тогда он и Люси очутились бы в их власти и, может быть, не вышли бы отсюда живыми.
Капитан бросился к двери, вышиб ее ударом ноги и, обернувшись к противникам лицом, крикнул Люси:
— Держись за мной и выходи!
Едва стоя на ногах, Люси показалась на пороге.
— Скорее выходи на улицу и жди меня! — крикнул капитан.
Люси тихо направилась к наружной двери.
Элфинстон, не спуская пистолетов с неподвижных фигур в комнате, пятясь задом, дошел до двери, захлопнул ее за собой ударом ноги, схватил на руки Люси выскочил на улицу. Он торопливо прошел мимо грязной толпы, удивленно глазевшей на него. Проститутки квартала узнали его, но, считая его еще более опьяневшим, думали, что он подхватил в каком-нибудь кабаке эту несчастную женщину для забавы. Это заслужило ему только новое одобрение разгульной толпы. Милый джентльмен умел, как видно, позабавиться! Ему чуть-чуть не устроили овацию уличные мальчишки и отвратительные мегеры квартала.
Видя, что Люси не в состоянии выговорить ни одного слова, Элфинстон кое-как довел ее до ближайшей лавочки и попросил у сидевшей за прилавком торговки позволения отдохнуть здесь минутку, так как дама больна и должна немного оправиться.
Торговка с большим участием отнеслась к Люси, провела ее в свою комнату, дала ей воды и ушла, прибавив, что приготовит ей сейчас горячий чай.
Люси освежила лицо и спросила умирающим голосом брата:
— Где Андрэ? Узнал ты что-нибудь о нем?
Капитан знаком ответил, что нет. Люси, очевидно, поняв это, вдруг разразилась леденящим душу хохотом, а потом, как сноп, рухнула на землю.
Лавочница вошла с чашкой горячего чая. С помощью капитана она попыталась заставить бедную женщину проглотить хоть несколько, капель, но это не удалось ей — зубы Люси были крепко стиснуты, лицо сведено судорогой, глаза остановились в тупой неподвижности, и по временам из ее горла вырывался какой-то хрип, напоминающий стон умирающего животного.
Капитан пробормотал: «Боже мой! Бедная женщина сошла с ума!» — и скорбно посмотрел на сестру, которая рвала на себе платье, отталкивала всех, приближавшихся к ней, и кричала:
— Где мой ребенок? Дайте мне моего Андрэ!
XVII
На острове Святой Елены дни текли монотонно и скучно. Суровость плена еще усилилась для Наполеона с прибытием нового губернатора, Хадсона Лоу, того самого тюремщика, который печальной славой Связан с бессмертием Наполеона.
Хадсон Лоу был полицейским офицером, исполнявшим в Италии всевозможные поручения сомнительного качества — поручения, называвшиеся «дипломатическими», но бывшие по существу явно сыскного характера; по крайней мере на острове Капри он играл роль прямого шпиона. Ему было около сорока пяти лет; сухой, длинный, он казался олицетворением тех карикатур, которыми любят изображать сынов Альбиона. Рыжий, веснушчатый, с густыми ресницами, из-под которых выглядывал, словно из засады, злобный, косой взгляд, он был отвратителен как по внешности, так и по своим внутренним свойствам.
На Наполеона вид Лоу производил настолько отталкивающее впечатление, что он не мог, бывало, допить кофе и с брезгливостью отталкивал от себя чашку, если во время утреннего завтрака к нему входил губернатор.
Лоу, разумеется, получил от правительства строжайшую инструкцию, обусловливавшую его отношение к пленнику, но 'едва ли в эту инструкцию входило предписание мелочно, недостойно изводить царственного пленника придирками и ограничениями. Можно с уверенностью сказать, что он преувеличил до возможных границ свои полномочия.
Правда, находятся и такие историки, которые утверждают, будто из них обоих настоящей жертвой был не Наполеон, а Лоу, так как Наполеон сделал все, чтобы отравить своему тюремщику пребывание на острове. Надо признаться, что в этом имеется доля истины. Но все-таки причиной этого был не кто иной, как сам Лоу.
Достаточно было очень немногого, чтобы между ними могли установиться приличные отношения. Если бы только Лоу, не отступая от данной ему инструкции (имевшей целью предупредить сношения Наполеона с внешним миром и малейшую попытку к бегству), проявлял по отношению к пленнику известное уважение к его несчастью, почтение к его славному прошлому, то Наполеон не позволил бы себе отягощать участь того, кто только исполнял свой долг. Но этот грубый, неотесанный англичанин с первого момента подчеркивал, что он не знает ни в прошлом, ни в настоящем никакого императора Наполеона, а для него вообще существует только «генерал Бонапарт». Когда генерал Бертран обращался к губернатору с каким-либо ходатайством, то, естественно, называл своего повелителя «императором Наполеоном». Однако Лоу возвращал бумаги обратно с пометкой, что на острове Святой Елены по официальным сведениям, не значится никого, носящего фамилию «Наполеон», и что ему неизвестно, чтобы в данный момент кто-нибудь из государей находился вне пределов своего государства.
Подобное издевательство дурного тона, разумеется, выводило Наполеона из себя. Но губернатор не остановился на этом; он проявлял немалую изобретательность во всевозможных оскорбительных ограничениях. Так, например, он поставил условием, чтобы во время поездок Наполеона верхом его сопровождал английский офицер. Это заставило императора отказаться от верховой езды, а из-за недостатка движений и развилась та болезнь, которая свела Наполеона в могилу.
А между тем у Лоу не было никаких мотивов для личной вражды к императору, и все придирки можно приписать только его тупости и ограниченности, которая заставляла тюремщика преувеличивать до размеров карикатуры данные ему инструкции.
Хадсон Лоу был женат, и в противоположность молчаливому, угрюмому мужу леди Лоу была очень живой женщиной с несколько поблекшими прелестями, но с очень любезным, кокетливым характером. Ей было уже тридцать пять лет: подобно большинству англичанок, она была покрыта розовой сыпью, ее внешность представляла только «печальные остатки былой роскоши», но рядом с мужем и она казалась чуть не красавицей.
Общество Плантэшн-Хауз, как звали дом губернатора, состояло, кроме леди Лоу, еще из леди Малколм, маленькой, горбатой, уродливой, но очень остроумной женщины, подвижной и забавной, затем из леди Бинхэм и миссис Уингарт, жены генерал-квартирмейстера. Вместе с комиссарами, посланными Францией, Россией и Австрией, это было все официальное общество.
Этими комиссарами были: от России — граф Бальмин, от Австрии — барон Штюрмер, а от французского короля — чудаковатый маркиз де Моншеню. Из них только барон Штюрмер был женат, и красота и грация его супруги вносили много оживления в тоскливые вечера у губернатора.
Главными гостями в Лонгвуде были: генерал граф Бертран и его семья, граф и графиня де Монтолон, граф де Ла Сказ и генерал барон Гурго. Они составляли главный штаб изгнанника.
Кроме того, там обитали еще более низкие по рангу, но не менее преданные товарищи по изгнанию. Маршан, первый камердинер императора; Франческо Киприани, его метрдотель, и низшие служащие — егеря, лакеи, повара и т. д. — Пьерон, Сен-Дени, Новера, братья Аршамбо, Сантини, Руссо, Чентелини, Жозефин.
Все они жили поблизости друг от друга. Зачастую им не хватало элементарнейшего комфорта и удобств. Если помещение самого Наполеона было относительно сносным, то его приближенным приходилось жить так тесно, что, например, молодой Ла Сказ, живший с отцом в чуланчике, раздеваясь, должен был нагибаться и почти ползком пробираться на кровать — единственную у обоих! — до того были низки потолки! В первое время императору приходилось выходить после обеда, чтобы дать возможность своим офицерам пообедать в той комнате, из которой он только что вышел.
Солнце жестоко раскаляло черепицы Лонгвуда, поэтому там стояла невыносимая жара. Однажды, когда Наполеон пожаловался губернатору на эту духоту и пожалел, что вокруг домика нет деревьев, чтобы закрывать его своей тенью, Лоу ответил со злобной улыбкой:
— Не беспокойтесь! Деревья будут посажены!
Он хотел намекнуть этим, что пребывание императора в плену будет бесконечным.
Расходы на пищевое довольствие были огромными. Опубликованные цифры поистине приводили в изумление. «Неоднократно критиковались расходы на вино на острове Святой Елены. Однако последние были искусственно преувеличены, хотя, правда, императора окружало очень много лиц, и он приглашал к своему столу офицеров 53-го пехотного полка, стоявшего на острове Святой Елены, лично же он обычно довольствовался четвертью бутылки шамбертэна, разведенного водой.
К тому же, чтобы составить представление о том, сколько стоила жизнь на этом проклятом острове, достаточно почитать донесения комиссаров держав. Например, барон Штюрмер оставил нам интересные сведения на этот счет. Он жаловался князю Меттерниху на недостаточность получаемого жалованья и в письме к князю говорит дословно следующее:
«Расходы в первый год моего пребывания здесь достигли суммы в 4 470 фунтов стерлингов (около 40 000 рублей по тогдашнему курсу), причем я не задавал ни балов, ни обедов; только четыре раза во все это время за моим столом присутствовало 12 человек. А ведь я не расходовался на туалеты, так как взял с собой запас всего необходимого».
Говядина и зерно стоили колоссальных денег. Мешок ячменя стоил 30 шиллингов (около 14 рублей), баранина — около 7 рублей фунт. Квартирные цены соответствовали этому. За довольно-таки убогую хижину в деревне барон Штюрмер платил 158 фунтов стерлингов (около 1 500 рублей) в год!
Понятно, что из-за такой дороговизны Наполеону стоило больших денег прокормить свою свиту. Суммы, назначенной английским правительством на содержание пленника, было недостаточно и приходилось отправлять в лом императорское серебро. Вся посуда, что Наполеон привез с собой из массивного серебра, была сломана и переплавлена. Бертран выручил за это серебро около 200 тысяч рублей, что позволило изгнаннику чаще получать к столу свежую говядину и овощи.
Вот те «пиршества и лукулловы обеды», из-за которых роялистские писатели в свое время поднимали такой шум!
В обычные дни Наполеон обедал на маленьком столике в своей комнате. По воскресеньям он обычно собирал за обедом всех своих офицеров, с большим добродушием и даже веселостью председательствовал на этих семейных обедах, и можно было подумать, что он так же доволен своим существованием, как и тогда, когда задавал в Тюильри пышные пиры для королей и принцесс.
Покинутый, оставшийся без армии, без денег, брошенный как пленник на африканском утесе, не имея никакой надежды когда-либо вернуть утраченную власть, Наполеон оставался по-прежнему императором, и ничто не могло убить в нем царственное величие, торжествовавшее над всеми невзгодами, и никто из окружавших его близких лиц никогда не позволял себе отказывать ему в том почтении и уважении, к которому он привык во время своего царствования. В жалкий домишко в Лонгвуде, где водилось столько крыс, что по ночам они грызли обувь, к Наполеону входили с таким почтением, с такими же придворными реверансами, как и тогда, когда он во главе четырехсоттысячной армии победоносно переправлялся через Неман. Блеск, окружавший прежде его личность, не тускнел и теперь, Так солнце, скрывшись за горизонтом, все еще продолжает окрашивать золотом багрянца закатное небо.
И пленником Наполеон продолжал носить все тот же бессмертный серый редингот. В особенно торжественные дни он надевал зеленую стрелковую форму, всю изношенную, белые чулки и обычно держал в руках шляпу-треуголку. На груди у него красовался орден Почетного легиона, в руке была табакерка, которую он нервно сжимал и из которой время от времени брал понюшку табака.
В обычные дни на прогулки он надевал простой нанковый или пикейный белый костюм, который делал его похожим на плантатора.
Он подолгу диктовал мемуары, вечером слушал чтение, главным образом театральных классических пьес Расина, Корнеля, Мольера. Иногда он играл в шахматы с Монтолоном и на бильярде с Гурго.
Но все маленькое общество, ютившееся поблизости от Лонгвуда, не всегда было в добром согласии. Очень редко бывает, чтобы пленники в конце концов не перессорились и не возненавидели друг друга. Наполеон очень страдал от этих беспрестанных раздоров, хотя и старался делать вид, будто не замечает их.
Главной причиной этих ссор была особа императора, к которой каждый из окружающих хотел стать как можно ближе. Бертран ревновал императора к Монтолону, Монтолон — к Гурго. Вскоре в это вмешались еще и женщины, и тогда страсти окончательно разгорелись.
Около Наполеона жило всего две женщины — графиня Бертран и графиня де Монтолон. Первая, родом англичанка, была очень нежной, любящей женщиной, питавшей в душе настоящий культ императора. Но ее выводило из себя, почему Наполеон с особенным вниманием относился к услугам графини де Монтолон, и обе женщины вскоре возненавидели друг друга.
Однажды вечером Наполеон, как и всегда, отправился прогуляться около дома. В грустной задумчивости тихой, неслышной походкой проходил он мимо группы каменных деревьев, как вдруг оттуда до него донесся хорошо знакомый голос Гурго, умолявшего, казалось, кого-то о чем-то очень важном.
Наполеон любил вникать в мелкие секреты свои к приближенных, а здесь это вдобавок служило ему некоторым развлечением. Поэтому он остановился и стал прислушиваться, и то, что он услышал, произвело на него очень сильное впечатление и он так рассердился, что готов был вмешаться в разговор.
— Выслушайте меня, графиня, — сказал Гурго. — Я не мог остаться равнодушным к чарам вашего взгляда, к прелести вашего голоса, к очарованию всего вашего существа! Я..
— Генерал! — мягко перебил его нежный голос, в котором Наполеон узнал голос графини де Монтолон. — Генерал, я уже говорила вам, что мне бесконечно льстит то внимание, которым вы почтили меня, я тронута тем, что внушила вам любовь, потому что ведь, не правда ли, то, что вы чувствуете ко мне, есть любовь?
— О да, графиня, самая искренняя, глубокая любовь! — страстно ответил Гурго.
— Хорошо! Вы любите меня. Конечно, я ни в чем не могу считать себя ответственной за эту страсть, так как никогда не поощряла ее; но мы живем здесь, дорогой барон, так близко друг от друга, мы постоянно находимся в таком тесном общении, что это обстоятельство в связи с монотонностью жизни способно было вызвать в вас чувство. Вы воображаете, будто любите меня, но эта мнимая любовь разгорелась в вас только благодаря нашей изолированности, благодаря тому, что мы живем здесь, как Робинзоны, что мы брошены на маленький утес, и от остального мира нас отделяют океаны. Но стоит вам вступить на палубу парохода, отправляющегося в Европу, и вся ваша страсть моментально испарится!
— Ах, графиня! — скорбным голосом ответил Гурго. — Не смейтесь над тем глубоким и властным чувством, которым мое сердце переполнилось к вам! Я старый солдат, вся моя жизнь прошла на полях сражения; до сих пор я и не знал, что значат слова «женщина» и «любовь». Разве всем нам было время заниматься сердечными делами? Нашей возлюбленной была слава, и император быстрым маршем вел нас в погоню за нею, не оставляя времени, чтобы сказать женщине «люблю», чтобы попытаться завоевать ее любовь!
— Так, значит, я ваша первая любовь? — иронически спросила графиня.
— Да, графиня, — серьезно ответил Гурго, — до сих пор вся моя страсть сосредоточивалась на двух дорогих существах: на императоре и старушке-матери. Долгое время мне и в голову не приходила мысль, что на свете существуют другие люди, которых стоит любить, ради которых можно страдать. Но ныне — увы! Я увидал, как я ошибался! В мою жизнь вмешалась третья личность, и я надеюсь не показаться вам святотатцем по отношению к императору или непочтительным сыном к матери, если скажу, что эта третья личность — вы, графиня, — заставила меня обратить на нее всю силу любви, предназначавшуюся прежде двум первым…
— И к тому же я здесь вообще почти единственная женщина…
— Умоляю вас, не издевайтесь надо мной! В вашем присутствии я и без того чувствую себя так, как чувствует себя новобранец в присутствии генерала. Я весь дрожу и сам понимаю, что должен производить на вас странное впечатление. Не будьте безжалостны! Ведь все, чего я прошу у вас, — это позволения молчаливо обожать вас, и я ничего не ищу, кроме возможности время от времени говорить вам, что я люблю вас!
— Но подумайте, барон, — язвительно ответила ему графиня де Монтолон, — ведь ваше объяснение, в сущности, имеет в виду нечто очень простое, а именно: вы хотите, чтобы я вместе с вами обманывала графа де Монтолона! Полноте, как вам не стыдно! Разве это порядочно по отношению к товарищу по ссылке, почти по оружию!
— Любовь не считается с этим, графиня, — ответил смущенным тоном генерал. — Если я и пожелал отбить вас у вашего супруга, то потому, что мне показалось, будто вы не испытываете к нему особенно нежных чувств. Да и вы сами понимаете, что ваш муж — просто ширма для вас.
— Что вы хотите сказать этим, барон? — гневно спросила графиня.
— Я хочу сказать этим, что, отвергая мою любовь и пользуясь для этой цели именем мужа, вы не достаточно искренни с собой.
— Генерал, я не позволю…
— Я обойдусь и без вашего позволения, чтобы сказать вам прямо в лицо, что у вас другие желания, другая любовь… О, вы честолюбивы, графиня!
— Я запрещаю вам…
— Дайте мне сперва закончить! Ведь этот разговор будет у нас последним, так как я вытравлю из сердца эту любовь и скрою ее главным образом от вас! Но не пытайтесь обмануть проницательность любящего человека: если бы между нами был только ваш муж, то, может быть, вы и не отвергли бы меня, но я боюсь, что между нами стоит…
— Кто? Договаривайте! Я не позволю вам изобретать разные глупости, равно оскорбительные для моего мужа, как и непочтительные по отношению к тому, на кого вы намекаете!
— Я не называл императора…
В этот момент послышался шум шагов; это шли английские часовые, чтобы встать, как и всегда, на караул около дома императора.
Наполеон, взволнованный и озабоченный, бросился к себе и заперся в своей комнате.
XVIII
Настал канун свадьбы Шарля с Лидией. Маркиза Люперкати окончила свой туалет, собираясь сделать несколько визитов и потом отправиться к исповеди, что было необходимо ввиду церемонии, назначенной на следующий день.
Она, сияя от счастья, осматривалась со всех сторон в зеркало. Наконец-то она была у цели! Теперь уже ничто не в состоянии было помешать ее браку с Шарлем Лефевром, браку, который должен был положить конец ее сомнительному существованию авантюристки. Она войдет, наконец, в круг высшей аристократии и займет подобающее ей место!
Все удалось на славу. Герцогиня Лефевр, очарованная, с полным доверием отнеслась к ней. Ее рассказы о всех бедствиях, перенесенных ею, о страшном горе, испытанном ею, когда она узнала, что ее муж погиб с оружием в руках на поле сражения, о громадном наследстве, оставшемся после мужа, но конфискованном правительством Неаполя, — все это было принято вполне на веру. Наконец, согласно обещаниям ее брата Мобрейля, часть громадного наследства и майората, которые перейдут к Шарлю Лефевру' и его сыну, достанется в один прекрасный день ей, а для того, чтобы это было так, ей надо сделать лишь следующее: надо признать ребенка Шарля и дать умереть второму мужу, здоровье которого стало очень хрупким после тяжелой раны и болезни. И тогда она останется богатой вдовой, носящей одну из лучших фамилий империи. Красивая, изящная, ловкая, она получит тогда возможность пожить в свое удовольствие!
Таким образом это развращенное существо с поразительным хладнокровием мечтало о скорой, преждевременной кончине этого юного раненого, у изголовья которого она играла комедию любви.
Она не испытывала ни угрызений совести, ни страха: все ей удавалось. Она удивлялась, что нет известий от брата, отправившегося в Англию, но верила в хитрость, смелость и изворотливость Мобрейля и была уверена, что он явится к назначенному дню.
Предстояло еще покончить с одним деликатным пунктом — с усыновлением ребенка, прижитого Шарлем Лефевром от Люси Элфинстон.
Этот ребенок не мог иметь своей законной матерью Лидию, если маркиз Люперкати, ее первый муж, был жив в момент его рождения. Поэтому Мобрейль посоветовал ей позаботиться о составлении нотариального акта, в котором на основании показаний свидетелей было бы указано, что смерть маркиза произошла раньше, чем это было в действительности. Все было сделано, и маркиз Люперкати был признан скончавшимся в такой год, когда он не мог быть отцом ребенка. Теперь было уже не трудно выдать Андрэ за сына Лидии и Шарля, а если относительно этого и не было документов, то факт объяснялся теми смутами в Неаполе, при которых зачастую погибали и более важные бумаги.
Следовательно, все было подготовлено, и потому Лидию нисколько не тревожило отсутствие брата. Он сам говорил, что в данный момент присутствие Андрэ совершенно не нужно, а достаточно было, чтобы его имя было упомянуто в брачном акте. Таким образом никакое препятствие не грозило помешать ей стать на следующий день женой Шарля Лефевра, наследника титула и состояния герцога Данцигского.
Маркиза уже собиралась выйти из дома, как в комнату вошла горничная и доложила ей:
— Какой-то плохо одетый человек желает поговорить с вами, ваше сиятельство!
— Наверное, какой-нибудь попрошайка? К чему вы впустили его?
— Его хотели прогнать, но, судя по разговору, это не простой человек, хотя у него и ясно звучит иностранный акцент. Он заявил, что вы, ваше сиятельство, будете в восторге увидеть его; поэтому швейцар подумал, что лучше, пожалуй, доложить!
— Он называл какое-нибудь имя? Может быть, он пришел с письмом? Его послал кто-нибудь из моих хороших знакомых?
— Нет, ваше сиятельство; он только сказал, что вы будете очень рады увидать его, если узнаете, что он пришел от Андреа и был в Сорренто в день Святого Петра.
Маркиза Люперкати смертельно побледнела; ее лицо передернулось. Она вся задрожала и еле-еле смогла пробормотать прерывающимся голосом:
— Он сказал «Андреа»? Сорренто? День Святого Петра? Боже мой! Но это невозможно!
Горничная с изумлением смотрела на волнение хозяйки.
Между тем Лидия упала в кресло и взволнованно сказала:
— Впустите его, раз он пришел от Андреа!
Горничная ушла, оставив маркизу в состоянии безграничного ужаса. Ее глаза в тупом остолбенении уставились на ковер, а губы шептали:
— Он! Он!
Вдали послышался шум шагов. Лидия овладела собой и в приливе энергии подумала: «Это невозможно! Наверное, какой-нибудь авантюрист вздумал воспользоваться его именем!»
Дверь открылась, и горничная, введя посетителя, удалилась по знаку маркизы. Незнакомец и Лидия остались одни; они молчали, вглядываясь друг в друга.
Посетитель был стройным, еще довольно не старым человеком с энергичным лицом и густой черной бородой. Он взволнованно мял шляпу в руках, и на его обнаженном лбу виднелся страшный рубец, шедший через всю голову до самых глаз. Его нос был совершенно рассечен — вероятно, ударом сабли или копья, — и это так искажало лицо, что, будучи прежде по всем признакам красавцем, теперь он был ужасен и отвратителен.
Маркиза в ужасе отпрянула, увидав это лицо, сплошь изрубленное сабельными ударами, но в это же время первоначальное чувство отвращения мало-помалу отходило на задний план, и всю ее охватывало чувство величайшей радости, спокойствия и восторга. Она уже не боялась. Первоначальное чувство ужаса за свою судьбу исчезло. Тоном дамы, потревоженной во время совершения туалета, она нетерпеливо сказала посетителю:
— Кто вы такой и что вам нужно от меня?
Незнакомец поднял голову и посмотрел Лидии прямо в лицо. Снова дрожь пробежала по телу молодой женщины, и снова в ней ожили прежние страхи: хотя сабля или копье и обезобразили до неузнаваемости это лицо, но глаза не потеряли ничего в выразительности и остроте взгляда, переполнившего сердце Лидии отчаянием.
Посетитель долго всматривался в лицо Лидии, не говоря ни слова, и наконец сказал:
— Так, значит, вы не узнаете меня? Неужели же я до такой степени изменился?
— Нет, нет, я не знаю вас, — пролепетала Лидия. — Но вы пугаете меня. Уйдите отсюда или я позову людей.
— О нет, не зовите, маркиза! Вы раскаетесь, что замешали третьих лиц в наше дело! О, раз вы не хотите признать меня, так я сам назову себя! Или я действительно так уж неузнаваем? Но ведь вам передали, что с вами хотят говорить от имени Андреа, бывшего в Сорренто в день Святого Петра. Следовательно, раз вам назвали имя вашего мужа, место и день венчания, то вы могли бы догадаться, кто тот, что желает видеть вас? Да ну же, Лидия, неужели все это серьезно? Неужели же я должен назвать себя? Неужели ты не видишь и без того, что я — Андреа, маркиз Люперкати, твой муж!
Лидия вскрикнула, протянула вперед руки, словно желая оттолкнуть от себя того, кто вдруг появился подобно мертвецу, восставшему из могилы, а затем, бросившись в кресло и закрыв лицо руками, пробормотала:
— Это неправда. Вы лжете. Мой муж умер!
— Я не только не умер, но надеюсь даже вновь начать подле вас прежнюю жизнь.
— Нет, нет! Это невозможно! — вскрикнула Лидия. — Я не знаю вас. Вы не муж мне. Маркиз Люперкати убит в сражении… на дуэли, уж не знаю…
— Скажите лучше, маркиза, что меня сочли умершим! Во всяком случае смею уверить вас, что именно я имею честь быть вашим супругом!
Лидия быстро оправилась. Она вспомнила, что для признания маленького Андрэ ее родным сыном она подстроила так, что официально смерть ее мужа произошла уже давно, и потому твердо сказала:
— Маркиз Люперкати умер уже давным-давно, вместе с Мюратом!
— О нет, маркиза! Со времени сражения при Толентино, на которое вы, вероятно, намекаете и где и в самом деле бросили меня полумертвым, я испытал много всевозможных приключений, и надо приписать истинному чуду, если я еще живу на этом свете. Но об этом речь еще впереди. А в данный момент нам с вами первым делом следует обсудить вопрос, как нам устроиться с вами в дальнейшем.
— Что вы хотите сказать этим?
— Я прибыл в Париж два дня тому назад, причем, должен сознаться, мои средства были сильно на исходе. Ну так вот, совершенно случайно я забрел в церковь, где хотел поставить свечу за успех тех предприятий, ради которых я прибыл сюда. В этой церкви шли громадные приготовления к какому-то торжеству, которое должно состояться завтра. Я спросил у сторожа, какое именно торжество, и узнал, что завтра моя собственная супруга собирается выйти замуж от живого мужа!
— Бросьте эти шутки! — сказала ему Лидия, успевшая тем временем вернуть все хладнокровие. — Вы мошенник, самозванец или просто сумасшедший! Мой муж, маркиз Люперкати, умер.
— Он жив!
— Нет, он умер!
В этот момент кто-то постучался в дверь; вошла горничная с какой-то бумагой в руках и доложила:
— Вот эту бумагу принес клерк от нотариуса, который просит подписать на обозначенном крестиком месте.
Маркиза взяла бумагу, быстро пробежала ее взглядом и твердой рукой подписала, а затем, отдав подписанную бумагу горничной, обратилась снова к посетителю. Теперь на ее губах играла торжествующая улыбка. Ведь бумага, которую она только что подписала, была нотариальным свидетельством на основании показаний семи свидетелей смерти маркиза Люперкати.
— Итак, вы говорили, — сказала Лидия, — что претендуете быть маркизом Люперкати, моим мужем.
— Ну да, Боже мой, я претендую на это и, если понадобиться, сумею доказать! Я заставлю признать себя вашим супругом и докажу, что я не умер, как думают, ни в сражении при Толентино, ни на дуэли.
— Это будет немножко затруднительно для вас! Бумага, которую я только что подписала, устанавливает с полнейшей юридической достоверностью, что вы умерли, и притом гораздо раньше, чем вы предполагаете.
— Вы с ума сошли? — сказал ее посетитель, не совсем понимая смысл сказанных маркизой слов.
— Нет, если кто и сошел с ума, так это вы!! Рекомендую вам сначала подумать, прежде чем спускаться на решительный шаг в этом отношении.
— Берегитесь!
— Берегитесь лучше вы сами! Вы только подумайте, на что вы решаетесь! Вы заявляете, будто являетесь моим мужем, маркизом Люперкати, в смерти которого — официально удостоверенной — никто не сомневается. Но ведь если бы вы были моим мужем, я сейчас же узнала бы вас! У меня живет старый слуга, который отлично знает моего мужа. Я прикажу позвать его, и вы увидите, что, подобно мне, он скажет, что вы либо самозванец, либо сумасшедший!
Маркиза позвонила и сказала появившейся горничной, чтобы позвали кучера Беппо.
В то время как горничная исполняла данное ей приказание, маркиз Люперкати сказал взволнованным голосом:
— Да ну же, Лидия, одумайся! Конечно, я понимаю сам, что раны изменили мое лицо до неузнаваемости.
В самом начале сражения меня сбили с лошади, и по мне пронесся целый эскадрон. Удар копья в щеку довершил то, что начали копыта лошадей и сабля кавалериста, схватившегося со мной врукопашную. Другие раны я получил при совершенно особых обстоятельствах, последовавших за трагическими приключениями. Но ведь ты, Лидия, моя жена, ты любила меня, ты не можешь долго упорствовать, что угнетает и пугает меня, так как я боюсь определить настоящую причину этого!
Лидия ничего не отвечала. Она нетерпеливо топала ногой по ковру, ожидая прихода кучера-итальянца, которого велела позвать.
Между тем Люперкати продолжал еще более глухим и прерывистым голосом:
— Я понимаю, что по первому взгляду меня довольно трудно признать. Но мой голос, те доказательства, которые я привел, должны были бы убедить вас. Вам их мало — я приведу другие. Признаться, не ожидал я такой встречи! Я рассчитывал, что натолкнусь на удивление, недоверие, но не мог предположить, что вы дойдете до того, что откажетесь от меня, несмотря на все доказательства! Лидия, умоляю вас, не мучьте меня долее! Лидия! Но вы молчите?
Последовала короткая пауза.
Затем Люперкати снова начал:
— Если бы вы знали, как мне плохо жилось с королем Мюратом! Я потом расскажу вам все, но теперь самое важное, чтобы вы признали меня. О, Лидия, дайте мне это утешение и радость! Я понимаю, — прибавил он после новой паузы, — что явился в дурной момент. Вы были уверены в моей смерти, полюбили другого и вот теперь уже совсем собрались выйти за него замуж! О, я не обвиняю вас, Лидия! Вы чувствовали себя свободной! Но случаю было угодно, чтобы я узнал о вашей свадьбе накануне ее празднования. Что было бы, если бы я сделал это открытие несколькими днями позже?
— Тогда вас выставил бы за дверь мой муж, а теперь я должна поручить сделать это слугам!
В дверь постучали и вошел кучер. Это был приземистый бритый человек с хитрым и зверским лицом. Узнав его, маркиз Люперкати воскликнул:
— А, Беппо! Мой старый, верный Беппо!
Кучер был удивлен, что какой-то незнакомец называет его по имени, и взглянул на маркизу, слово ожидая от нее приказаний.
— Узнаете вы этого человека? — спросила Лидия.
— Нет, ваше сиятельство, — ответил кучер.
— Как, Беппо, ты не узнаешь меня? — с ужасом сказал маркиз. — Ты не узнаешь своего хозяина, маркиза Андреа? Ведь ты вез меня, когда я отправлялся к королю Иоахиму. Ты правил нашей славной парой, Кастором и Поллуксом. Неужели ты не помнишь, Беппо, мой славный Беппо?
— Я очень хорошо помню Кастора и Поллукса, — спокойно ответил Беппо, — это были дивные лошади! И господина маркиза я тоже отлично помню. Но признать вас своим прежним хозяином — извините — не могу!
— Хорошо, Беппо, можете уйти! — сказала маркиза.
— Нет, Беппо, подожди еще, умоляю тебя! Дай мне поговорить с тобой, дай оживить воспоминания! — взмолился маркиз.
Но, повинуясь новому повелительному жесту Лидии, кучер вышел и закрыл за собой дверь.
— Ну-с, вот видите, — сказала Лидия, — этот старый слуга, который великолепно знал покойного маркиза, моего мужа, не признал вас так же, как и я. Так бросьте играть комедию, которая может стать для вас опасной!
— Но ведь я-то узнал его, маркиза, я называл ему имена его лошадей, ссылался на поездку к королю Иоахиму…
— Удивительное дело! Кто же в Неаполе не знал имен лошадей такого важного господина, такого выдающегося человека, как покойный маркиз Люперкати?! Каждый авантюрист, собирающийся разыграть комедию, обыкновенно предварительно раздобывает подобные сведения, но они ровно ничего не могут доказать. Вы можете много чего порассказать про Беппо и его лошадей, но все это не заставит признать в вас маркиза Люперкати ни меня, ни… французское правительство!
Маркиз был окончательно сбит с толку и не знал, что ответить. Вдруг он зашатался и чуть не упал.
— Что с вами? — спросила Лидия сурово, — Это, вероятно, новая комедия, которую вы пытаетесь разыграть? Предупреждаю вас, что у меня нет времени любоваться вашими артистическими талантами. Я должна выехать из дома, а потому прошу вас уйти!
— Да, да! — пробормотал несчастный. — Я уйду, но приду опять. Да, я уйду теперь, потому что не чувствую себя достаточно сильным, чтобы продолжать доказывать свое существование особе, которая, видимо, не хочет признать его. Это трудная задача, а в особенности для человека, который два дня ничего не ел. Простите, маркиза, я на одну минуту присяду, у меня закружилась голова. — И маркиз Люперкати в полном изнеможении опустился на стул.
Лидия злобно посмотрела на него и, вызвав звонком горничную, сказала ей:
— Проводите этого господина на кухню, дайте ему там поесть, а когда он отдохнет, то посадите в карету и велите отвезти туда, куда он прикажет.
Она поспешно вышла, тогда как тот, кто именовал себя маркизом Люперкати, бормотал, пытаясь встать со стула: «Лидия! Маркиза! На минутку! Бога ради, еще одно слово! Клянусь вам, я ваш муж!»
XIX
Маркиз Люперкати отказался последовать за горничной на кухню, куда его так нагло отослала та, которая была его женой. Он был страшно голоден, он чувствовал, что не в состоянии владеть собой, что не мог бы пройти мимо уставленного блюдами стола, что способен, словно голодный пес, наброситься на кушанья. Но он не мог, не хотел принимать подачки от женщины, которая отказывалась признать в кем супруга и ставила его в положение нищего, мошенника, паразита, которого следовало бы отдать в руки полиции, но которого из жалости, из брезгливого сострадания кормят, чтобы презрительно прогнать потом.
Поэтому когда горничная передавала кухарке приказание маркизы дать поесть ее странному гостю, Люперкати собрал остаток сил и поспешно выскользнул на улицу, чтобы не сдаться в самый последний м и не уступить чувству голода.
Он пошел по улице куда глаза глядят, погрузившись в грустные думы. Он забыл даже голод, вспоминая отдельные моменты свидания с женой. Так, значит, она не захотела признать его! О, теперь не могло быть сомнений, что эта некогда столь любимая им Лидия — просто злая и безжалостная лгунья. Разумеется, он страшно изменился. Война, ссылка, тюрьма, нищета и лишения докончили то, что начали страшные раны от лошадиных копыт и сабельных ударов. Конечно, узнать его было трудно. Но голос, манеры, взгляд — все это у него нисколько не изменилось, и если бы Лидия не преследовала особую цель, если бы она хотела его возвращения, то она признала бы его. Ну, не сразу — так она дала бы ему возможность представить неопровержимые доказательства, подождала бы с подписанием того ужасного документа, который непонятным для маркиза образом делал его официальным покойником, мертвецом в глазах властей. Но Лидия не стала ждать, она оттолкнула его, выгнала с оскорблениями и угрозами.
Он вспомнил о свадьбе, назначенной на завтрашний день. Господи, это так понятно! Не имея столько времени от него вестей, считая его мертвым, его жена могла забыть его, полюбить другого, жаждать соединения с новым предметом своей страсти. Но неужели же чувство долга не должно было подсказать ей, что раз возможны хоть какие-либо сомнения в ее вдовстве, то она должна сначала устранить их, сначала проверить — не официально, а перед самой собой — свои права на второй брак. Но она довольствуется только чисто внешними формальностями. А совесть… Э, да есть ли совесть у этой мерзкой женщины?
Маркиз вспомнил выражение глаз Лидии во время разговора с ним. Чувствовался только один безумный страх: как бы пришельцу не удалось доказать свое тождество с маркизом Люперкати! И в то же время мысль перенесла его к тем временам, когда он задавал в Неаполе блестящие празднества. Он был тогда молод, красив, богат, занимал видное положение. Какой любовью окружала его тогда Лидия, как часто во время веселых балов в их неапольском палаццо он ловил на себе ее влажный, томный взгляд, как обвивала она потом своими точеными руками его шею, как говорила ему слова любви, казавшиеся музыкой, нежной, сладкой музыкой с ритмом поцелуев! Неужели и тогда она лгала ему, неужели и тогда вся ее любовь была только комедией?
Да, так оно и было! И Люперкати чувствовал, что это жестокое свидание одним ударом лишало его Лидии и в настоящем и в прошлом.
Он очнулся уже на мосту, через который проходил совершенно машинально. Он остановился и оперся на перила. Внизу катились сероватые волны Сены, которые, казалось, говорили ему: «Приди к нам, страдалец! Приди к нам, так уставший и измучившийся! В наших объятиях ты найдешь отдых, покой и забвенье! Мягко охватим мы тебя, мягко, заботливо окутаем, покроем лаской, и под душными поцелуями наших струй смолкнут страдания и все — и настоящее, и прошлое отлетят далеко-далеко от твоей исстрадавшейся души! Немножко энергии, маленький прыжок — и ты сразу будешь излечен, утешен, спасен… О, приди же к нам, меланхолический путешественник жизни, приди! Ты найдешь у нас ее сестру — добрую, нежную смерть! Так приди же, приди!»
Люперкати сделал резкое движение, вцепившись в перила. Еще момент — и он сделал бы свое последнее в жизни движение…
Вдруг послышались звук труб и отчетливый топог копыт — невдалеке проходил полк.
Люперкати гордо выпрямился, словно безумный, осмотрелся по сторонам, вытер грязным рукавом пот, набежавший на лоб, и пробормотал:
— Нет, нет! Солдат не должен кончать жизнь самоубийством. В итальянской армии генерал Бонапарт так выражался в своей прокламации: «Солдат, убивающий себя, ничем не лучше дезертира. Каждый должен отбыть в жизни свою воинскую повинность!» Я еще не отбыл ее, я буду жить!
Маркиз торопливо бежал от искушения; стараясь не слушать призывный голос волн, он поспешил перейти через мост, углубился в сеть мелких переулочков, вившихся в то время около Тюильри, дошел до улицы Сент-Оноре и пошел по ней.
Перед каким-то модным магазином стояла карета, в которой сидела хорошенькая и кокетливая дама; на тротуаре стоял мужчина с военной осанкой, прощаясь с нею.
Люперкати не обратил особенного внимания на мужчину, но вдруг услыхал, как дама, высунувшись из окна кареты и обращаясь к своему собеседнику уже откланявшемуся ей и собиравшемуся идти своей дорогой, крикнула:
— Генерал Анрио! Генерал Анрио! Я подумала, что завтра вам лучше не приходить, а придете послезавтра в тот же час!
— Слушаюсь, баронесса! Значит, до послезавтра! — ответил генерал.
Баронесса де Невиль знаком своей крошечной руки окончательно простилась с влюбленным генералом, и пара добрых лошадей быстро помчала ее домой, а генерал Анрио, провожавший баронессу в различные магазины, где она делала покупки, направился пешком к Вандомской площади. Герцогиня Лефевр ждала его, и он предпочитал, чтобы его не видели в обществе баронессы де Невиль, против которой милая мадам Сан-Жень была сильно предубеждена — несправедливо, конечно, как думал Анрио, но непреклонно.
Маркиз Люперкати, услыхав имя Анрио, сделал жест сильного удивления, побежал за генералом, обогнал его, посмотрел ему в лицо и пробормотал:
— Ну, конечно, это он! Он не узнает меня. Может быть, Лидия не так уж виновата? Я действительно стал неузнаваем!
Тем временем Анрио, остановившись, искоса поглядел на этого подозрительного незнакомца, осмелившегося так нагло заглядывать ему прямо в лицо.
— Анрио! Неужели ты не узнаешь меня? — спросил Люперкати, вплотную подходя к генералу.
— Абсолютно нет! — сухо отрезал генерал, недовольный тем, что его так фамильярно называет по имени какой-то проходимец, и при этом покраснел и оглянулся в сторону кареты баронессы — ему было бы очень совестно, если бы она могла видеть его в таком далеко не блестящем обществе.
— Анрио! Вспомни походы на немцев и австрийцев, которые мы совершили вместе! Вспомни, как мы бесстрашно неслись всегда вперед за нашим орлом Наполеоном! Мы почти всегда были вместе, и лишь двенадцатый год разделил нас. Ты остался во Франции, а я в штабе Мюрата совершил поход и отступление из этой ужасной России.
— Так значит, вы…
— Люперкати, маркиз Люперкати, из генерального штаба Мюрата!
— Ах, старый товарищ! Так вот где пришлось мне найти тебя! Ну, поцелуй же меня скорее! Но мне говорили, будто ты умер?
— Разве мы, старая гвардия, умираем! — весело сказал Люперкати и сейчас же прибавил: — Вот только порою… от голода!
— Что ты говоришь, товарищ!
— Говорю, что вот уже два дня ничего не ел, так что ты бесконечно обязал бы меня, если бы покормил!
— Скорей, товарищ, пойдем, в этот ресторан и вели себе подать все, что хочешь. А за десертом, когда ты насытишься, ты расскажешь мне о своих несчастиях, как это ты оказался живым, когда все считали тебя мертвым, и что с тобой сталось с тех пор, как мы расстались. Как случилось, что я встречаю тебя в таком ужасном виде. Пойдем! Ба! Герцогиня подождет!
Анрио привел старого боевого товарища в ближайший ресторан, и Люперкати, удовлетворив аппетит, рассказал ему свою историю, тесно связанную с историей осужденного на смерть короля Мюрата, который хотел с оружием в руках вновь овладеть своим королевством.
XX
Мюрат, неаполитанский король и зять Наполеона, отличался подобно многим другим неблагодарностью. Желая спасти свой трои, которым он был обязан Наполеону, он последовал примеру Бернадотта, однако, оказался не столь счастливым, как этот ловкий и пронырливый предатель, и потерял корону и жизнь.
Ему нельзя отказать в героизме; в противоположность Бернадотту, он раскаялся в том, что изменил своему родственнику и поднял оружие против родной страны. В 1815 году он воевал за Наполеона с австрийцами, но был разбит. Его храбрость должна была уступить силе и числу, да к тому же его неаполитанцы сражались на редкость плохо.
Под стенами Капуи у него было меньше двенадцати тысяч человек. Англичане грозили бомбардировать Неаполь и добились от королевы Каролины капитуляции и сдачи флота. Мюрат был окончательно побежден и вернулся в Неаполь 18 мая. Королева Каролина, которая настойчиво отговаривала его прежде от объявления войны Австрии, теперь накинулась на него с жестокими упреками. Тогда Мюрат скорбно сказал ей:
— Не удивляйтесь, что видите меня живым, я сделал все что мог, чтобы умереть.
Когда Мюрат пытался вступить в переговоры с Австрией, то ему резко ответили (через его посла, герцога де Галло), что завоевание Неаполитанского королевства кончено, что короля Иоахима более не существует.
Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, Мюрат отказался продолжать борьбу и уполномочил двух генералов вступить в переговоры с победителями и с уполномоченным от Англии.
Лишенный трона, Мюрат решил предложить свою шпагу и свою доблесть Наполеону и уехал во Францию в сопровождении немногих верных друзей, среди которых был и маркиз Люперкати. Неаполитанскую королеву посадили на английский корабль и во время переезда на корабль около ее лодки теснились наполненные неаполитанской чернью лодчонки, причем чернь осыпала королеву руганью, оскорблениями и пела непристойные песни про нее.
Королеву Каролину перевезли в Триест, а Мюрат прибыл во Францию, где укрылся в Каннах, в гостинице под вывеской «Три голубя». Оттуда он написал Наполеону, объявляя ему о своем возвращении во Францию и желании предложить свою шпагу к его услугам.
Император любил Мюрата: геройство последнего было в глазах Наполеона большим извинением за измену и он был готов простить ему предательство. Он понимал, что Мюрат потерял королевство только потому, что решился помочь ему. Но он не чувствовал себя достаточно сильным в тот период, получивший в истории название «Ста дней», чтобы поставить во главе армии человека, еще недавно поднимавшего оружие против Франции. Он велел передать Мюрату через Фушэ, чтобы он обождал развития событий и продолжал жить инкогнито на юге Франции, причем обещал после первого же сражения (это должно было быть сражение при Ватерлоо), встав тверже на ноги благодаря победе, поручать ему командование армией, которая вернет Неаполь.
Мюрат стал ждать в Каннах. Его терзала страшная меланхолия. Он узнал, что королева Каролина переехала в Триест, и, не зная, что она уступила в данном случае силе, подумал, что она изменила ему. Получив это известие, он испытал страшные страдания и воскликнул:
— Я все перенес: потерю королевства, потерю всего состояния! Но видеть, как мне изменяет мать моих детей, которая предпочитает лучше отдаться под покровительство моих врагов, чем соединиться со мной… нет! Я не перенесу удара судьбы! Есть ли на свете человек несчастнее меня! Я не увижу больше жены! Я никогда больше не увижу детей!
Последовавшие далее политические катастрофы дали Мюрату новую пищу для жалоб на судьбу. Ватерлоо, въезд союзников в Париж, отречение Наполеона, его отъезд в Рошфор и в вечную ссылку, — все отнимало малейшую надежду на то, что Мюрату удастся вернуть трон с помощью французской армии.
Вскоре ему пришлось даже опасаться за свою жизнь. На юге свирепствовали роялистские восторги. Дикие банды рыскали по стране, убивая, грабя и насилуя во имя престола и алтаря.
Мюрат, написавший лорду Эксмоту, командующему морскими силами англичан в Средиземном море, чтобы получить пропуск, не добился от него ответа. В то же время полицейский комиссар в Тулоне, по имени Жоликлерк, очень преданный Мюрату, сообщил ему, что отдан приказ о его аресте.
Мюрат решил бежать. Он хотел отправиться в Париж морем, потому что путешествие через Францию показалось ему слишком опасным. Друзья зафрахтовали для него корабль, но в тот момент, когда Мюрат собирался сесть в лодку, чтобы отправиться на корабль, банда роялистов-убийц овладела этим кораблем и заставила направить его в Гавр.
Мюрат, оставшись один на берегу, видел, как удаляется его последняя надежда. У него оставалось только пятьсот наполеондоров, зашитых в пояс; при нем были, кроме того, его отвага и его пистолеты.
Он и не подумал вернуться в гостиницу, где его, без сомнения, подстерегали, а решил пуститься на удачу по стране, чтобы найти ночлег в первой попавшейся деревушке.
XXI
Медленными шагами, сгорбленный и одетый в лохмотья, внушая всем прохожим сострадание, король Мюрат поднимался по холму среди оливковых деревьев и виноградных лоз. Ему удалось через посланного из порта переслать словечко Люперкати и нескольким друзьям, оставшимся в Тулоне, и известить их о своем бегстве.
Из-за нехватки денег, а главное — из-за отсутствия моральной поддержки, ему пришлось отказаться от своего первоначального плана: сесть на корабль в Гавре.
Его друзья — Боннафу и герцог де Рока-Романа, а также и его конюх остались в Тулоне, подыскивая подходящее судно, чтобы зафрахтовать его. Они, в свою очередь, дали ему знать, что им удалось найти шведское судно, на капитана которого можно положиться, что они уже договорились с ним, что судно войдет в одну из бухт Тулона и в назначенный день и час к берегу пристанет шлюпка и заберет короля. Переодетый крестьянином-виноделом, Мюрат должен был подняться на один из утесов и ожидать прибытия шлюпки.
К сожалению, шведы-матросы очень плохо владели местным наречием и не сумели найти условленный утес. Наступила ночь. Мюрат тщетно ждал, стоя на утесе, но шлюпка не показывалась. Тогда, отчаявшись, Мюрат сошел на берег, разбитый, измученный, потерявший надежду когда бы то ни было увидеть жену, детей и свое королевство. Он стал взбираться наугад по крутой тропинке, вившейся среди виноградников, падал от усталости и голода, но тем не менее не решался остановиться в видневшейся поблизости деревушке, боясь, что его узнают. Он пробирался к маленькой, одиноко стоявшей избушке, на пороге которой виднелся женский силуэт.
Мюрат колебался: ведь этим шагом он ставил свою жизнь на карту. Он знал, то вокруг рыскали партизанские отряды, что его голова была оценена, что за поимку его или даже указание его местопребывания была обещана крупная награда. Кроме того, носились слухи, что при нем имеются большие ценности. Тех же, кого не прельщала денежная награда, воодушевляли политические идеи, пламя приверженности королю. Мюрат буквально со всех сторон был окружен препятствиями и западнями, а потому долго колебался перед тем, как решился подойти к старухе, стоявшей на пороге избы.
Женщина, в свою очередь, недоверчиво оглядела его и спросила, откуда и куда он идет. Король ответил, что работал в виноградниках поблизости Ольюля, но был вынужден отказаться от места, так как у него заболел брат в Тулоне, куда он и держит путь, да, к сожалению, заплутался, устал и не в силах идти дальше ранее следующего утра, а потому нельзя ли его за плату приютить на эту ночь и накормить его ужином.
Старушка окинула его приветливым взглядом, пригласила войти и усадила за накрытый уже стол, причем пояснила:
— Это я мужа поджидаю; он сейчас должен вернуться с поля. Но это ничего не значит. Кушайте на доброе здоровье, а когда он вернется, я вам обоим приготовлю яичницу.
Мюрат не заставил себя просить и молча принялся за еду. Он обладал завидным аппетитом, испортить который не в силах были никакие превратности судьбы. Подкрепившись, он снова почувствовал прилив бодрости, энергии и хорошего расположения духа. Хозяйка с удовольствием смотрела, как он ест; открытое честное лицо короля Мюрата обладало свойством располагать к себе всех с первого же взгляда.
Послышались шаги, старушка быстро вышла навстречу мужу и в нескольких словах рассказала о случившемся.
Услышав шепот, Мюрат отложил хлеб и быстро поднес руки к груди, нащупывая пистолеты: он решил защищаться до последнего.
Крестьянин остановился на пороге, оглядывая своего нежданного гостя; вдруг он быстро подошел к королю, кинув жене по пути: «Ну готовь же скорее яичницу!» — после чего, еще раз внимательно вглядевшись в посетителя, почтительно снял шапку и сказал взволнованным голосом:
— Я старый солдат. Вы можете положиться на меня, государь. Ведь вы король Иоахим? Я служил под вашей командой. Не бойтесь, государь! Здесь вы в полной безопасности, все равно, что у себя во дворце. Мой дом к вашим услугам!
Хозяйка растерянно ахнула и от неожиданности выпустила из рук блюдо с яичницей. Старый солдат достал заветную бутылочку вина и собирался разлить его по кружкам, как вдруг послышался какой-то подозрительный шум со стороны виноградников. Хозяин поспешно вышел, но тотчас же, вернувшись обратно, сказал:
— Государь, спрячьтесь скорее! Вас ищут!
Наступила темная ночь; Мюрат в сопровождении хозяина вышел из дома и спрятался в винограднике у дома. Несколько мгновений спустя шумная толпа окружила избушку. Раздавались громкие проклятия, угрозы, крики. Королю грозили смертью.
Два часа продолжались поиски возбужденной толпы; два долгих часа Мюрат с минуты на минуту с трепетом ожидал быть найденным… Однако ночь, укрывшие его лозы не выдали его, и раздосадованная неудачей толпа ушла ни с чем. Мюрат мог наконец вздохнуть свободно и немного поспать.
На следующий день после полудня он был уже в Тулоне, где нашел своих друзей. Они были в отчаянии от неудачи, постигшей их накануне, но все же им удалось найти другое подходящее судно, на котором Мюрат отбыл на Корсику. Во время перехода разразилась отчаянная гроза; утлое суденышко кидало из стороны в сторону. Их обогнало большое судно, направлявшееся к Бастии; когда они поравнялись, то Мюрат предложил капитану взять их на борт и доставить на Корсику, но бедно одетые люди не внушили доверия капитану, он отказался выполнить просьбу Мюрата, и судно вскоре скрылось из глаз. Наконец, хотя и с большими препятствиями и злоключениями, но суденышко все же вошло в порт Бастии. Там должна была состояться встреча короля с маркизом Люперкати.
Он послал своего адъютанта в Неаполь, чтобы узнать о настроении толпы. Зная о победе Наполеона и о восстановлении его власти, Мюрат надеялся и на благоприятный поворот колеса его личной фортуны.
Люперкати приложил все старания, но, к несчастью, он попал в сети, расставленные министрами Фердинанда IV, короля Соединенной Сицилии. Его уверили в том, что народ с раздражением ожидает возвращения Бурбонов, его уговорили передать Мюрату, что его верные вассалы все станут за него горой как один человек, лишь только он появится перед ними. Ему передали ложные письма, в которых говорилось о беспокойном настроении страны, в особенности же в Калабрии, где — по уверениям — неминуемо должен был вспыхнуть мятеж при первом же известии о высадке низвергнутого короля. Как наиболее подходящее место для высадки указывали порт Пиццо в Калабрии.
Мюрату так же, как и Люперкати, было неведомо, что жители Пиццо очень страдали под французским владычеством и из-за этого затаили глухую вражду против короля Иоахима, точно так же, как они не знали и того, что Фердинанд IV хорошо и всесторонне обсудил со своими министрами условия этой высадки и что в порту ожидал появления короля жандармский капитан Грегорио Трентакапили, бывший бандит, поклявшийся, что если население отнесется благоприятно к высадке Мюрата, то он берется собственноручно снести ему голову раньше, чем его нога коснется калабрийской почвы.
Трентакапили была обещана награда в пять тысяч дукатов, если он арестует Мюрата, но шепотом дали ему понять, что эта награда достигнет пятнадцати тысяч дукатов, если король найдет смерть в своем рискованном предприятии.
Доверчивый Люперкати отправился на Корсику и передал вероломные письма. На основании этих-то сведений и составил король Иоахим свой злополучный план.
Довольно теплый прием корсиканцев окрылил его надеждой и побудил держать путь на Пиццо, где, как уверяли, его ожидала встреча, полная энтузиазма.
XXII
В это фатальное путешествие Мюрат пустился из Аяччо. У него были друзья среди корсиканского гарнизона. Когда маленькая флотилия с королем во главе вышла в море, комендант цитадели не мог не заметить бегства, как не мог помешать своим канонирам стрелять по удалявшимся судам; но канониры, солидарные со своим начальством, брали неверный прицел, благодаря чему ни одно судно не получило повреждения. Таким образом Мюрат, веря в свою счастливую звезду и будучи снова опьянен возродившимися надеждами, смело пустился в путь. Он по-прежнему был бесстрашен; для его смелой души опасность как бы вовсе не существовала; он как бы бросал одновременно вызов и хозяевам порта, и самому морю, далеко не безопасному в дни равноденствня.
Его флотилия была очень невелика: она состояла лишь из пяти фелюг и небольшого корабля, экипаж не насчитывал двухсот с небольшим человек. Во главе стоял некто Барбара, находившийся на королевском судне. Его помощниками были начальник команды Курран, капитан Эттофи, офицеры Модден, Джакометти, Семадеи и Медори.
Путешествие было крайне бурным и рискованным: маленькой флотилии угрожали поочередно и береговые пушки Сардинии, и разразившаяся внезапно буря, и разъяренные морские волны. Наконец на седьмой день достигли мыса Паола. Разыгралась новая буря. Мотивируя тем, что огонь, горевший на носу фелюги короля и служивший маяком для всей остальной флотилии, может привлечь внимание врагов, Барбара велел погасить его. Маленькие суда отстали и растерялись в эту бурную ночь, и когда поутру фелюга Мюрата стала на якорь в Сен-Люсидо, остальных судов не оказалось. Сперва их поджидали, потом пустились на поиски, наконец разыскали судно, бывшее под командой Куррана.
Мюрат, поджидая товарищей, провел ночь на суше, проклиная бурю и препятствия, но твердо уповая на удачу и верность окружающих и обещая им, что через неделю их ждут торжественный въезд в Неаполь, восторженная встреча с цветами и радостными возгласами толпы.
Мюрат падал от усталости; желая показать экипажу пример мужества и выносливости, он во время пути не покидал палубы. Поэтому лишь только он успел завернуться в широкий плащ и лечь на песок, как тотчас же погрузился в крепчайший сон. Но предварительно с чувством посмотрел на медальон, который носил на груди, и внимательно перечел письмо. Это были портрет королевы Каролины и ее последнее письмо на Корсику. Королева, по-видимому, не знала о его проекте и просила, чтобы он приехал к ней в Триест. Но король прекрасно знал о врожденной гордости своей супруги и потому, понимая, что может сохранить ее любовь лишь при условии возвращения короны, не хотел предстать перед ней низвергнутым королем, беглецом, изгнанником.
Одним из главнейших мотивов этой рискованной попытки было желание триумфально вернуться вместе с супругой в Неаполь. Он зашел уже слишком далеко, отступать было поздно. Несмотря на то, что начало сложилось крайне неудачно, что он растерял почти весь свой флот и даже при всей своей доверчивости почувствовал некоторое сомнение в ближайших помощниках, он все же ни на одно мгновение не пал духом, и ему даже в голову не пришла мысль просить убежища в Испании или в Австрии, в Триесте. Напротив, Мюрат еще сильнее заковался в броню энергии и мог бы воскликнуть как Аякс: «Я вопреки богам останусь победителем!»
Буря пронеслась, небо разъяснилось, заблестели звезды; в воздухе разливался аромат апельсиновых рощ, мирты и сосны. Солдаты собрались вокруг костров, беседуя и заканчивая ужин; потом огни погасли, голоса умолкли, все погрузилось в глубокий сон. Пока Мюрат и его спутники отдыхали, по другую сторону бухты происходило совещание главнейших заправил, которым доверился Мюрат. Тут были Барбара, Курран и два-три предателя, подкупленные Медичи, министром Фердинанда IV, замыслившего свержение короля и устранение его верных соратников при высадке в Пиццо. Совещание происходило в котловине, служившей некогда пристанищем таможенным солдатам.
Барбара, вынужденный оставаться после высадки на сушу при короле, сослался на страшную усталость и скрылся в палатке. Его поведение показалось Люперкати более чем подозрительным, начиная с той минуты, когда начальник эскадры велел погасить огни фелюги, из-за чего отстали и растерялись все остальные суда. С тех пор Люперкати зорко следил за Барбарой. Ему показалось, что лишь только они сошли на землю, как Барбара послал куда-то одного из матросов с неизвестным поручением. Маркиз даже спросил об этом у Барбары; последний с легкой заминкой ответил, что, опасаясь близкого полицейского или таможенного поста, послал матроса на разведку. Люперкати не удовлетворился этим ответом. Его подозрения ничуть не рассеялись, а, наоборот, усилились, и он решил подежурить и убедиться в том, действительно ли вернется посланный из разведки или же нет. Для этого маркиз спрятался за большие ящики с провиантом и стал терпеливо ждать.
Около десяти часов Люперкати заметил со своего поста, как из палатки Барбары вынырнула какая-то тень и направилась к утесам. Он тоже вышел из своей засады и последовал за этим ночным пешеходом; последний так уверенно шел по незнакомой местности неприятельской страны, что ясно было, что у него есть твердо намеченная цель. Мысль об измене все больше утверждалась у Люперкати. Но что он мог предпринять? Поднять тревогу и поставить лагерь на ноги? Разбудить короля? Схватить этого человека? Все эти меры были более чем рискованы. Может быть, дело шло о простом дезертирстве. Поэтому Люперкати счел за лучшее самому проследить за незнакомцем и в точности узнать его намерения.
Остановившись на этом решении, маркиз осторожно последовал за тенью, прилагая все старания, чтобы не произвести ни малейшего шороха. Добравшись до вершины холма, он остановился на мгновение. Площадка была довольно велика и надо было обезопасить себя на тот случай, если бы незнакомцу пришло в голову оглянуться. Но к своему крайнему изумлению, он увидел, как последний достал из-под плаща фонарь, зажег его и, светя перед собой, снова пустился в путь. Этого времени было достаточно: маркиз узнал, что это был Барбара, который шел к какой-то твердо намеченной цели.
Сомнений не было: начальник эскадры, человек, которому Мюрат вверил свою жизнь и корону, а также жизнь всех смельчаков, отстаивавших его права, — этот самый человек направлялся теперь к его злейшим врагам с целью предать его, спящего, и, быть может, привести с собой вооруженных людей.
В первое мгновение Люперкати решил немедленно застрелить изменника, но мысль, что он своим выстрелом предупредит врагов, заставила его отказаться от этого намерения. Кроме того, он был бы лишен возможности узнать замыслы Барбары.
Поэтому маркиз решился на более опасное и трудное: он решился проследить за Барбарой до конца, выслушать переговоры и в том случае, если Барбара выдаст врагам место якорной стоянки Мюрата, поспешить вернуться тем же путем раньше предателя и предупредить короля и верных ему людей.
Люперкати рассудил, что ему хватит времени, чтобы вернуться даже в том случае, если его постигнет неудача и он будет замечен врагами. Лишь бы ему удалось добежать до вершины холма, а там он уже сумеет выстрелами и криком поднять тревогу в лагере короля и побудить его к немедленному бегству.
Итак, Люперкати бесстрашно последовал за Барбарой. Море шумело, и поднялся ветер, что значительно облегчало его задачу, так как заглушало шаги.
Приблизительно после получасовой ходьбы Барбара внезапно свернул в сторону, и несколько мгновений спустя свет фонаря погас и он сам исчез, словно сквозь землю провалился. Вокруг снова воцарилась глубокая, зловещая тьма.
Люперкати осторожно двинулся в том направлении, где в последний раз мелькнул свет фонаря, и вскоре нашел крутую, узенькую каменистую тропинку, спускавшуюся к морю. Стараясь изо всех сил не произвести шума, Люперкати стал осторожно спускаться по тропинке. Когда он стал уже совершенно ясно различать шум прибоя о прибрежные камни, до него одновременно донесся и звук оживленно беседующих голосов.
Маркиз опасался продолжать свой путь, чтобы внезапно не оказаться на виду у собравшихся, но, с другой стороны, ему было необходимо слышать все, что будет говориться этими злоумышленниками, и узнать те планы, которые они строили против своей жертвы — Мюрата. С громадными усилиями ему удалось добраться до выступа большого утеса, прикрывавшего нижнюю часть тропинки, и приникнуть к нему ухом.
Разговаривающих было человек пять-шесть. Не вызывало сомнений, что среди них находился Курран. Его легко можно было узнать по характерному, резкому и отчетливому голосу, покрывавшему все остальные.
— Все уже условлено, — сказал он, — завтра после снятия с якоря, я отделюсь от Мюрата, и уже ничто не будет в состоянии снова соединить нас.
Вмешался незнакомый голос:
— Что касается меня, то я отвечаю за своих молодцов: они слушаются меня беспрекословно. Я скажу им, что Мюрат отказался от своих планов, и они тотчас же согласятся вернуться со мной на Корсику.
Говорили и другие заговорщики, но их слова Люперкати не удалось разобрать. Может быть, причиной тому был внезапно поднявшийся ветер, а может быть, просто потому, что они дальше сидели. Поэтому он решил вернуться обратно и предупредить Мюрата о злобных замыслах окружающих. Но подниматься было еще труднее, чем спускаться; несмотря на крайнюю осторожность Люперкати, у него под рукой оторвалась глыба утеса, сбила его и с шумом скатилась вниз, увлекая его вслед за собой. Все это произошло так быстро, что Люперкати не успел ни удержаться, ни уцепиться. Мгновение спустя он разбитый и окровавленный лежал уже в котловине, служившей местом сборища заговорщиков.
Угрожающие возгласы раздались вокруг распростертого Люперкати. Его схватили, грубо поставили на ноги, приставили ко лбу дуло пистолета, а к груди кинжал.
— Это Люперкати, — сказал Барбара. — Ты шпионишь за нами, негодяй?
— Ему необходимо вырезать язык, — предложил Джакометти, — таким образом ему ничего не удастся передать!
— Выколем ему глаза, — прибавил Моддеи, — пока он не разглядел нас!
Заговорщики расхохотались и стали совещаться.
— Нет, — вмешался Барбара, — зачем излишние убийства! Вспомните, что вы королевские слуги, и настоящего — заметьте! — короля, его величества короля Фердинанда. Мы люди чести и правосудия и не должны прибегать к мерам бандитов.
Послышался ропот недовольства. Моддеи и Джакометти ближе подходили именно к последней категории, и их жестокие души были разочарованы тем, что у них отнимали добычу.
Но Барбара остался непреклонен.
— Он изменник! — сказал он, указывая на Люперкати, которого успели уже связать и засунуть в рот платок. — Да, он изменник, который хочет смуты в государстве и низвержения короля Фердинанда. Для наказания подобных государственных преступников в Неаполе существуют суд и тюрьмы. Нам же не годится превращаться в палачей. Твоя фелюга, Моддеи, идет прямо на Неаполь, — обратился он к одному из присутствующих, — в таком случае возьми маркиза Люперкати на свое судно и сдай его законной власти! Ты будешь щедро вознагражден. Теперь нам нужно спешить. Я вернусь обратно в лагерь, где легко могут обнаружить мое отсутствие; если Люперкати промолчал о нем уходя, — добавил он, — я вернусь, и мы немедленно снимемся с якоря. Там я разберусь, предупрежден ли король Мюрат или нет. Разойдемся же и поступим так, как было решено. За наградой дело не станет. К общему списку ваших заслуг вы можете присоединить сегодняшнюю ночь и ту добычу, которую она предоставила нам. Смелей, друзья! До Неаполя! А ты, Моддеи, гляди в оба за своим пленником!
Все заговорщики разошлись. Люперкати перетащили на фелюгу Моддеи, которая немедленно пустилась в путь. Барбара же направился к лагерю. Там. все было тихо и мирно. Ясно, что Люперкати не успел предупредить короля.
Барбара тихо пробрался в свою импровизированную палатку и начал мечтать о тех почестях и наградах, которые ожидали его за выдачу королю Фердинанду того, кто был королем неаполитанским и собирался снова утвердиться в своих правах.
На рассвете он подал сигнал к отплытию. Вдали виднелась фелюга Куррана. Увидев ее, Мюрат громко вскрикнул от радости.
— Она уже нашлась! — сказал он. — Значит, и другие не замедлят отыскаться. Скорее, товарищи! Победа за нами!
Король продолжал слепо верить в свою счастливую звезду.
Целый день флотилия, под командой Барбары медленно двигалась вперед: Мюрат все еще надеялся, что суда найдутся и подойдут. Но его надежды не оправдались, горизонт был чист, ни один парус не появился.
Двое офицеров, находившихся на судне Куррана, капитан Перписс и лейтенант Мультедо, притворились больными и просили пересадить их на королевскую фелюгу, так как там находился врач. Курран не решился отказать им. Перейдя на королевское судно, офицеры тотчас же явились к Мюрату и высказали свои подозрения относительно командира судна, распространяющего среди экипажа слух о том, что Мюрат будто бы отказался от своих планов идти в Пиццо и что поэтому следует повернуть в сторону Корсики.
Мюрат тотчас же вызвал Куррана, напомнил ему о тех благодеяниях, которыми он был осыпан им, взывал к его верности, его храбрости и чести солдата и, не упоминая о том, что ему известно о той смуте, которую последний сеет среди вверенных ему людей, умолял не покидать его и не изменять ему.
Курран клялся и божился, что он верен королю и не покинет его до самой смерти. Когда он снова перешел на свое судно, то король, благодаря офицеров за донесение, уверял их, в свою очередь, что Курран не изменит и останется верным до конца.
Капитан Перписс вовсе не разделял оптимизма короля, но не решился противоречить ему. С наступлением же ночи он спустился с королевского судна и, доплыв до фелюги Куррана, связал между собой оба судна корабельным канатом. Таким образом судно Куррана не могло незаметно отделиться от королевской фелюги. Однако единомышленник Барбара предусмотрел эту хитрость и, не долго думая, собственноручно перерубил канат, после чего подошел к рулю и сменил направление на Корсику, предоставив Мюрату идти на верную гибель.
На заре, уже почти достигнув неаполитанских берегов, Мюрат увидел, что он покинут и предан своими приближенными. Весь ужас его положения внезапно открылся ему. Несколько мгновений он не в силах был шелохнуться, до такой степени он был ошеломлен, потом он взглянул на ничтожную горсточку людей, толпившихся на палубе и со страхом и трепетом оглядывавших опустевший морской простор. По щеке короля медленно скатилась горькая слеза, быть может, единственная в его жизни. Он прошептал с тоской: «Жена! Дети! Мои солдаты» — но тотчас же, словно устыдившись минутной слабости, быстрым движением обнажил шпагу и воскликнул:
— Товарищи, нас только двадцать шесть! Но двадцать шесть храбрецов стоят большего, чем тысяча трусов. Мы достаточно смелы, чтобы завладеть землями, небрежно охраняемыми сбирами Фердинанда, тем более что за нас стоят народное сердце и любовь моих солдат, которые не замедлят присоединиться к нам, а вместе с вами, мои храбрецы, это составит доблестную армию. Вперед же, друзья! Вперед, нас ждет победа!
Когда он несколько успокоился от порыва экзальтации, то друзья и доброжелатели приложили все старания, чтобы уговорить его отказаться, пока не поздно, от этого гибельного предприятия: стоило лишь повернуть руль на Триест, где его ожидало верное убежище, так как австрийский король предлагал ему охранную грамоту. Находившийся на судне преданный Мюрату офицер Франческетти был послан к Мюрату с письменными официальными предложениями от имени короля. В нем предлагалось Мюрату поселиться в Австрии в любой местности, в Богемии или Моравии, с тем, чтобы жить обыкновенным гражданином, подчиняясь существующим законам страны. Так как его супруга, королева, поселилась под именем графини Линона, то предлагалось и королю принять титул и имя графа Линона.
Франческетти вполголоса перечислял в каюте короля все преимущества хорошего отношения к нему австрийского императора перед суровым режимом и условиями, поставленными англичанами Наполеону. Наконец он указал на то, что то, что можно было еще предпринять при наличии двухсот пятидесяти человек, немыслимо осуществить с ничтожной горсткой в два десятка человек.
Мюрата поколебали все эти трезвые доводы; он стал уже внимать голосу рассудка и велел повернуть на Триест, где его ожидала более или менее спокойная жизнь среди своей семьи. Но Барбара заявил, что не имеет больше ни воды, ни провианта и что поэтому необходимо зайти в Пиццо, чтобы пополнить запасы. Кроме того, королевская фелюга так — по его словам — пострадала от непогоды, что пришла в полную негодность для совершения новых рейсов и что потому необходимо подыскать другое судно. Негодяй ни за что не желал выпустить из рук лакомую добычу; он взялся за то, чтобы вовлечь короля в бездну, и твердо старался довести свой план до конца.
Так как его объяснения носили вполне правдоподобный характер, то друзья короля не решились оспаривать его. Тем не менее было решено, что король не станет обращаться с воззванием к населению и не сойдет с фелюги, предоставив Барбаре поиск необходимого судна.
Но, оставшись в одиночестве, Мюрат стал думать о королеве Каролине. Нет, он не мог предстать перед нею уничтоженным, развенчанным, лишенным обаятельного ореола могущества и короны. Что за встреча ожидала его? И снова сомнения охватили его душу. Раз необходима остановка в Пиццо и Барбара говорит, что имеет там друзей, то, по всей вероятности, весть о его прибытии разнесется вокруг и воодушевит его приверженцев. На что ему, собственно, целое войско? Быть может, его доверчивое появление среди маленького, исключительно почетного эскорта еще скорее и сильнее расположит к нему население Пиццо? Ему невольно приходило на память возвращение Наполеона с острова Эльба, встреченного с восторгом большинством населения Франции.
Ведь достаточно же было Наполеону лишь появиться перед толпой, чтобы одинаково увлечь и штатских, и военных? Встретившись с высланным против него полком, он лишь раскрыл свою могучую грудь и сказал: «Воины, решитесь ли вы стрелять по своему императору?» — и тотчас же, словно по волшебству, опустились все ружья как одно, раздались громкие приветственные, восторженные возгласы, замелькали е воздухе шляпы, раздался ликующий звон колоколов, и, расправив свои могучие крылья, царственный орел направил полет к вековым стенам собора Парижской Богоматери.
Почему бы счастью не улыбнуться и ему? Его рыцарская душа воодушевлялась силой опасности, и все благие советы друзей уже успели померкнуть в его представлении. Даже мысль о королеве Каролине поблекла и отошла на задний план. Нет, теперь Мюрата воодушевляли и подталкивали страсть к риску, безумная отвага, любовь и погоня за славой, все те пружины, что побуждали его с хлыстом в руке кидаться на эскадрон австрийских гусар, на английских карабинеров и казаков. Нет, он не желал отступать. Вся его душа возмущалась и властно кричала: «Вперед!» Нет, он не сдастся постыдно, без боя!
— Ах, — вздохнул он, — будь здесь Люперкати, он не покинул бы меня! Но что с ним сталось? В этом кроется кое-что неясное для меня; но в чем я твердо уверен, так это в том, что, где бы он в данное время ни был, он, наверное, работает мне на пользу. Верно, он решил отправиться вперед и вербует мне теперь партизан. Может быть, он даже здесь уже намекнул кому-нибудь о своих планах?
Мюрат поспешно вышел из каюты, призвал Барбару и с полной доверчивостью и восторженностью, чуть не подсказывая ответ, осведомился о Люперкати.
Загадочная улыбка зазмеилась на губах Барбара, и он произнес:
— Я не хотел говорить об этом, так как многие партизаны вашего величества высказались против этого предприятия; ведь большинство стоит за то, чтобы держать путь на Триест и отказаться от осуществления нашего заветного плана. Но маркиз Люперкати, один из ваших преданнейших сторонников, опасаясь, что вы послушаетесь этих гибельных советов и действительно откажетесь от начатого предприятия, на которое он возлагает большие надежды, покинул вчера вечером лагерь и отправился внутрь страны, чтобы подготовить население к скорому прибытию вашего величества.
— О, храбрый, верный Люперкати! — растроганно прошептал Мюрат. — Но куда же именно он направился!
— На Пиццо, государь. У маркиза, как и у меня, там есть друзья. Кроме того, маркиз должен позаботиться о заготовке кокард и флагов для торжественной встречи вашего величества.
— Прекрасно придумано! — заметил король. — Но успеет ли он добраться сушей до Пиццо раньше нас?
— О, без сомнения! Маркиз прекрасно знает страну. Кроме того, он обещал подать условный сигнал: простой костер, который не привлечет к себе ничьего внимания. Сперва должен вспыхнуть один костер на вершине утеса, потом второй и наконец третий — треугольник из костров. Да вот, глядите, как раз вспыхнул первый из них! — И Барбара с этими словами передал королю подзорную трубу.
Мюрат быстро схватил ее и, поглядев на нее с минуту, воскликнул:
— А, в самом деле! О, мой верный, мой преданный Люперкати!
— Предупреждаю вас, государь, между нами условлено, что если встретится какая-либо серьезная и неотвратимая помеха, способная задержать нашу высадку, то в таком случае вместо трех огней появится лишь один, да и тот вскоре будет потушен.
Король снова схватился за подзорную трубу и воскликнул:
— Пламя продолжает гореть, ровное и могучее! Дым прямым столбом взвивается к небу. Ах, — радостно вскрикнул он, помолчав немного, — вот вспыхнул и второй костер!
— Вы правы, государь! — сказал Барбара, внимательно вглядевшись в горизонт, — значит, и третий сигнал не замедлит вспыхнуть. Я принужден теперь оставить вас, ваше величество, и заняться подготовкой к высадке. Мужайтесь, государь! Близок час победы; завтра, на заре, вы будете уже среди своих верноподданных и с честью вступите в свое государство!
Часть ночи Мюрат лихорадочно провел за наблюдением условных огней: они горели все так же ясно, все так же ровно.
Встав на заре, Мюрат собрал всех своих единомышленников и осыпал их щедрыми наградами. Все они получили повышения, чины, назначения и должности, так как он смотрел на завоевание своего государства как на свершившийся уже факт. Он обратил внимание на то, что личный адъютант, Натали, одет в штатское платье, и спросил о причине, на что Натали отговорился неимением соответствующей формы.
— Это не причина, — резко ответил Мюрат, — не так должен быть одет главнокомандующий, сопутствующий своему королю при его въезде в государство! — И, недовольно передернув плечами, Мюрат отвернулся от офицера.
Он велел тщательно выбрить себя, надел парадную полковничью форму, высокие ботфорты, треуголку, украшенную черной шелковой петлицей, к которой прикрепил бриллиантовую нить, состоявшую из двадцати двух бриллиантов. За шарф он засунул два пистолета и прицепил саблю с драгоценной рукояткой.
Было девять часов утра. Трагическое утро 8 октября 1815 года было великолепно. Пронесшаяся гроза очистила воздух, небо было синее и море спокойно. Убедившись в том, что все готово, король обратился к Барбаре:
— Правьте к берегу, адмирал!
Он накануне наградил негодяя, хладнокровно ведшего его к гибели, чином адмирала.
Вслед за этим он, сияющий и возбужденный, обратился к своим офицерам и сказал:
— Друзья мои, следуйте за мной, следуйте за вашим королем!
Он первый вступил на землю, сияющий, высоко подняв голову, готовый раскланиваться с восторженно встречающей его толпой, которая рисовалась его разгоряченному воображению; ему уже чудились громкие приветственные крики: «Да здравствует наш король Мюрат!»
XXIII
Маленький порт Пиццо построен на выдающейся части мыса; город весь расположен на горе. Там виднелись маленькая церковь, казарма, ряд разбросанных рыбачьих избушек. Надо всеми этими жалкими строениями горделиво высился грандиозный замок с четырьмя бастионами, служившими во время испанского владычества цитаделью и одновременно с тем тюрьмой. Вот и весь Пиццо, если не считать площади, с которой открывался дивный вид на все окрестности.
Сойдя на землю, Мюрат, обнажил саблю и крикнул: «Вперед, друзья! Вперед!» — но, сообразив, что этот воинственный вид не подходит к образу мирного монарха, возвращающегося после короткого отсутствия в среду своих верноподданных, поспешил вложить саблю в ножны и предложил всем присутствующим немедленно же последовать его примеру.
Маленький отряд последовал за королем. Все стали взбираться по крутой тропинке, ведшей к площади. Несколько рыбаков, занятых починкой снастей и старых баркасов, смотрели с любопытством на эту группу высадившихся людей. Их лица не выражали ни преданности, ни ненависти; на них отчетливо читались лишь любопытство и полнейшее безразличие. Точно так же они не выражали намерения ни присоединиться к шествию, ни препятствовать ему.
Франческетти решил подать сигнал восторженным возгласом, чтобы известить жителей о прибытии короля. Поэтому он почтительно обнажил голову и, махая шляпой, крикнул: «Да здравствует король Иоахим! Да здравствует наш король!». Весь маленький отряд поддержал этот возглас, продолжая восхождение. Но рыбаки остались по-прежнему безучастны. Они невозмутимо продолжали свои занятия, не выказывая ни малейшего интереса к личности прибывшего и словно не понимая даже, в чью собственно честь раздаются эти приветствия.
Наконец Мюрат вместе со своими двадцатью шестью приверженцами достиг площади. Было десять часов утра. День был праздничный, базарный, и потому вся площадь была густо усеяна народом. Несомненно, все собравшиеся видели с площади прибытке королевской фелюги и высадку короля, однако же, ничто не выдавало ни интереса, ни волнения толпы. Правда, не замечалось и ненависти — одно удивление читалось на лицах окружающих. Все сторонились и освобождали проход, но на несколько вопросов, заданных Франческетти, никто и словом не отозвался.
Однако Мюрат не падал духом; он продолжал потрясать шляпой, раскланиваться и восклицать:
— Я ваш король! Или вы не узнаете меня? Полноте, дети, следуйте за мной! Ведь я Мюрат!
Кортеж продолжал шествие по площади, направляясь к зданию морских казарм. Там был выстроен взвод солдат; пятнадцать человек канониров, береговых стражников составляли караул; они еще носили форму мюратистов.
— О, здесь я нахожусь среди друзей! — радостно произнес Мюрат. — Ведь это мои солдаты!
Он направился к ним с простертыми руками. Он оставался верен себе, его не покинули в эту решительную минуту ни его оптимизм, ни экзальтированность натуры, ни презрение к опасности, ни свойственная ему уверенность в достижении самого невозможного, так как до сих пор все ему было возможно и достижимо. Хотя встреча на площади была далеко не из ободряющих, но Мюрат тем не менее, увидев своих бывших солдат, снова воспрял духом.
Солдаты были выстроены, чтобы идти в церковь. Мюрат подошел к ним и, откидывая плащ, как это делал Наполеон, произнес:
— Узнаете ли вы своего короля? Воины Мюрата, решитесь ли вы стрелять в своего монарха?
Солдаты вовсе и не собирались стрелять. Они просто взялись по обыкновению за ружья, готовясь двинуться в путь и, перейдя площадь, идти в церковь.
Удивленный сержант подошел к Мюрату и почтительно промолвил:
— Так это вы король Мюрат? Вы меня произвели некогда в капитаны, а теперь я снова низведен в сержанты. Но я не забыл того, что вы сделали для меня, и готов повиноваться вам, если вы действительно превратились снова в короля!
Мюрат склонил голову. Этот ответ и условность предложения услуг как нельзя более наглядно показали ему все безрассудство его предприятия.
Площадь опустела. Горожане спрятались по домам, а приезжие крестьяне и торговцы спешно убирали и увязывали свои товары. Все спешили скрыться, предчувствуя возможность смуты и кровопролития.
Мюрат остановился среди опустевшей площади и жестом, полным глубокой тоски, провел рукой по лбу, покрытому каплями пота. Этот неустрашимый человек впервые почувствовал приступ ужаса и отчаяния. Он понял в это мгновение, что погиб, что его партия проиграна, но вместе с тем понял и то, что он слишком далеко зашел, чтобы отступать.
— Вперед, друзья, вперед! — промолвил он и, обернувшись к встретившимся канонирам, скомандовал им следовать за собой.
Но никто не двинулся.
В это мгновение к нему подошли двое молодых людей из города Монтелеоне, расположенного выше Пиццо, и один из них сказал:
— Государь, оставьте Пиццо! Вы окружены врагами. Не откладывайте, не теряйте ни минуты, потому что вас предали! Вблизи находится город Молтелеоне, укройтесь в нем; мы проводим вас до него и поможем скрыться; верьте, что, выйдя отсюда, вы спасетесь, если же вы остановитесь здесь, то тем самым погубите себя!
Мюрат начал догадываться о возможности предательства и измены, хотя был и далек от мысли о западне, устроенной ему советниками Фердинанда IV, заверившими его в расположении к нему населения Пиццо и готовности встретить его с распростертыми объятиями. Не подозревал он и об измене Барбары; он все еще был уверен в том, что Барбара сказал ему правду и что Люперкати работал на его пользу и прилагал все старания, чтобы расположить к нему народ.
Однако здравый смысл подсказывал Мюрату, что нужно послушаться доброго совета и, пока не поздно, укрыться в Монтелеоне, а уже оттуда постараться пробраться в Неаполь. Поэтому он дал знак идти на Монтелеоне.
Все двинулись в путь, но горная тропинка была очень крута, Мюрат вскоре устал и запыхался, и ему потребовался отдых. Тщетно уговаривали его друзья не задерживаться и продолжать путь; Мюрат желая выгадать еще несколько мгновений отдыха, предложил дождаться приближения небольшой группы людей, показавшихся на другом склоне холма.
— Подождемте, друзья мои! — сказал он. — Вот идут к нам мои храбрые канониры; еще несколько мгновений — и они будут здесь. — Франческетти навел подзорную трубу и увидел, что хотя канониры и были в этой группе, но большую ее часть составляли рыбаки и крестьяне, вооруженные косами, вилами и ружьями. Кроме того, чувствовалось, что эта возбужденная разношерстная толпа настроена крайне неприязненно. Чувствуя недоброе, но не желая пугать короля, Франческетти стал умолять его идти, говоря, что канониры успеют присоединиться к его отряду в Монтелеоне.
Но на короля словно нашло затмение: он упрямо твердил, что не тронется с места до прибытия канониров, и на мольбы Франческетти отказаться от этой мысли жестко заявил, что требует от своих подданных послушания и повиновения, а не советов. Офицеры были в отчаянии; Франческетти молча смирился с монаршей волей. Один из офицеров сказал, обращаясь к Мюрату:
— Ваша воля будет исполнена, государь, но, вероятно, вам скоро придется убедиться в том, что мы умеем не только повиноваться, но и умирать за своего короля.
Однако Мюрат остался глух и продолжал поджидать в лице канониров… своих палачей.
В то самое время, когда король со своим отрядом стал подниматься по холму, из одного из домов в нижней части города вышел сильно вооруженный человек крайне отталкивающей внешности и стал собирать вокруг себя толпу рыбаков, торговцев и матросов, зовя их за собой. Это был Трентакапилли, тот самый, что поклялся убить Мюрата, если только последний попытается ступить на землю Пиццо.
Трентакапилли собрал вокруг себя завзятых бездельников, сорвиголов и бывших бандитов, которым было море по колено. Он уверял их, что они получат крупные награды, если им удастся изловить низвергнутого и приговоренного к смерти Иоахима Мюрата, голова которого была оценена на вес золота. Этого заявления было достаточно для того, чтобы воодушевить все эту алчную, беспринципную толпу. Трентакапилли встал во главе своей шайки, и они кинулись вслед за беглецами по дороге в Монтелеоне и вскоре достигли того места, где король отдыхал. Трентакапилли был одет в жандармскую форму, которая сильно походила на полковничью форму пехоты Мюрата.
Увидев его, король радостно встал и пошел навстречу, думая иметь дело с одним из своих партизан. Тщетно друзья короля пытались остановить его; Мюрат ничего не хотел слушать и обратился к толпе, вооруженной вилами и палками, с такими словами:
— Друзья мои, я ваш король Иоахим! Ведь вы узнаете меня, не правда ли? Вы все слышали обо мне. Ведь не поднимете же вы оружия против своего монарха? Я высадился в Калабрии не для того, чтобы причинить вам зло. Я иду в Монтелеоне.
Но толпа упорно и зловеще молчала, и так как, судя по ее настроению, трудно было дождаться радостных возгласов: «Да здравствует король Иоахим!» — то несчастный, внезапно прозревший венценосец добавил: — Не бойтесь меня, я иду в Монтелеоне просить содействия местных властей в моем дальнейшем путешествии в Триест… там меня ожидает семья. Я не успел объяснить все это в Пиццо. У меня есть охранная грамота короля Фердинанда… она требует уважения к себе. Проводите же меня в Монтелеоне… или если сочтете это более подходящим, то вернитесь к себе. Ваш король Иоахим вернулся к вам как друг, он имеет право на ваше уважение и гостеприимство…
Но тут речь короля была прервана глухим ропотом толпы, и руки, вооруженные косами и вилами, угрожающе потянулись к нему. Франческетти подошел к Трентакапилли и спросил его, кто он такой.
— Я капитан жандармского корпуса, — ответил спрошенный, — и мне поручено арестовать и вас, и вашего короля, и всех ваших друзей и всех вас препроводить обратно в Пиццо. Следуйте за мною!
— Мы и в Пиццо не пойдем, и за вами не последуем, — ответил Франческетти, — если же вы не повернете сейчас же обратно, то я вас застрелю! — И с этими словами Франческетти навел на бандита дуло пистолета.
Друзья Мюрата тоже поспешно схватились за оружие, и посыпались советы:
— Государь, прикажите дать залп! Мы быстро осадим и рассеем всю эту толпу каналий! Государь, прикажите только — и мы с оружием в руках проложим вам путь до самого Монтелеоне!
— Это было бы гибелью, достойной короля, — задумчиво прошептал Мюрат. — Но раз я пришел для мирного завоевания своего государства, то имею ли я право проливать кровь своих подданных?
Увы, так изменяются под давлением обстоятельств самые мужественные характеры и слабеют самые закаленные, испытанные натуры.
Весьма вероятно, что, послушайся Мюрат благоразумного совета своих друзей, он был бы спасен; все они были безгранично преданы ему и защищали бы его жизнь до последней капли крови. Но неустрашимый, прославленный воин упорно остался при своем великодушном решении не проливать кровь своих подданных.
Это было как нельзя больше на руку Трентакапилли, который устроил засаду и открыл огонь, лишь только король со своим маленьким отрядом двинулся в дальнейший путь. Пользуясь минутным замешательством врага, Трентакапилли скомандовал окружить маленький отряд. Но Франческетти удалось увести короля; они побежали по крутому обрыву к морю, теряя по пути одежду и оружие, а за ними, словно стая гончих, с криком и гамом неслась шайка Трентакапилли.
Это были ужасные минуты, полные невыразимого трагизма. Франческетти, не теряя присутствия духа, бежал с королем к тому выступу мыса, где по уговору должен был поджидать их на всякий случай Барбара с королевской фелюгой. Там они были бы спасены, так как фелюга имела несколько орудий, способных быстро рассеять всю эту толпу. Наконец, они могли бы тотчас же сняться с якоря и уйти от преследований.
Но фелюги на условленном месте не оказалось. Верный своему коварному замыслу, Барбара уже давно ушел, отняв у короля и его друзей последнюю надежду на спасение и предоставив его на растерзание озлобленной шайке, мчавшейся по их пятам с грозным ревом: «Смерть Мюрату!» — повторяемым на все лады. Толпа преследователей увеличилась присоединившимися рыбаками и крестьянами, а площадь вся была усеяна народом, с кровожадным нетерпением и любопытством следившим за исходом этой дикой травли.
На берегу был врезавшийся в землю баркас. Мюрат с друзьями кинулся к нему. Но, к несчастью, баркас очень глубоко врезался в песок, вытащить его было крайне трудно. Они напрягали все силы, но он туго поддавался. Они тем не менее не теряли надежды и, подбодряя друг друга, делали нечеловеческие усилия, подхлестываемые зловещим ревом бегущей толпы.
Еще несколько мгновений — и они были бы спасены! Но судьба была против: толпа скатилась на них с горы, словно поток бушующей лавы, окружила их в одно мгновение ока, смяла. Сопротивляться было немыслимо. Они были побеждены. Понимая всю безвыходность своего положения, они предложили сдать свое оружие, но разъяренная толпа, среди которой находилось много женщин, не желала помиловать их.
Франческетти, капитан Лафрани, Бьанки, лейтенант Паскалини, сержанты Франчески и Джорани, а также первый слуга короля Арман, все эти преданные люди, защищавшие короля до последней возможности, были убиты, избиты, искалечены или схвачены преследователями. Капитан Перписс, подставивший грудь под отчаянный удар, предназначенный королю, замертво пал к ногам последнего. Одна из озверевших женщин, за неимением оружия, сняла с ноги башмак и, перегнувшись через труп Перписса, ожесточенно колотила им по лицу короля. Остальные тоже наносили удары и доканчивали раненых. Двадцать рук ухватились за короля, сорвали и изодрали одежду, рвали волосы; женщины озлобленно плевали ему в лицо и старались выдрать усы.
Мать известного казненного бандита особенно злобно измывалась и глумилась над несчастным королем, коля его ножом и крича при этом:
— Ты убил моих троих сыновей!
Мюрат был преисполнен достоинства и величия в эту ужасные минуты. Он твердым голосом повторил своим палачам:
— Я ваш король и ваш пленник! Вы не имеете права убивать меня. Кроме того, вы гораздо больше выиграете, выдав меня живым, нежели мертвым.
Но страх ужасной смерти и малодушие стали мало-помалу одолевать даже и этого закаленного, неустрашимого человека и побудили его быстрым, инстинктивным движением предложить выкуп в виде кошелька с золотом мельнику, собиравшемуся раскроить ему череп топором.
Мюрат был уже на волосок от смерти, когда вмешался великодушный испанец, дон Франческо Алькала, администратор королевских поместий, окружающих Пиццо. Он пользовался в стране большим почетом и влиянием. Поэтому когда он обратился к толпе, уговаривая не убивать Мюрата, а предоставить на суд Фердинанда живым, когда он заявил, что прибегнувшие к самосуду будут жестоко наказаны верховной властью, а за предоставление пленника живым получат, наоборот, крупные награды, толпа несколько утихла и смирилась. Алькала воспользовался этим мгновением, чтобы окружить короля и его уцелевших друзей верными людьми и повести их впереди Трентакапилли, который из-за своей тучности не мог поспеть за толпой и лишь теперь, запыхавшись, появился у подножия холма, тщательно обыскал короля и его друзей, освободил их от всего, имевшего мало-мальскую ценность, и препроводил их в крепостные казематы.
Камера, предоставленная Мюрату, была не что иное, как свиной хлев со следами и запахом этих животных. Пол был покрыт густым слоем навозного перегноя, в котором так же, как и на липких стенах, копошились черви, а свет проходил сквозь маленькое слуховое оконце под крышей.
Таков был предпоследний приют самого блестящего воина, какого только видела Европа в эти героические времена, воина, славные подвиги и баснословное удальство которого объясняют его громкую и рыцарскую известность.
Плен был тяжел для Мюрата и его товарищей, потому что этих несчастных покрывали многочисленные раны; жажда и лихорадка присоединились к ужасам тюрьмы и к горечи поражения. Скорчившись на навозе и нечистотах, они хранили мертвое молчание, тогда как за тюремными стенами раздавались крики ярости. Целую ночь брань, проклятия и угрозы беспрерывно доносились до заключенных. Трентакапилли, сидя в таверне внизу эспланады, пил вино со своими разбойниками и обещал им двойную награду, если удастся покончить с Мюратом в его заточении. Этот негодяй не хотел уступать никому постыдное преимущество избавить Фердинанда от грозного короля Иоахима.
XXIV
Несколько дней спустя собралась чрезвычайная судебная комиссия. Генерал Нунцианти в качестве губернатора Пиццо был командирован для надзора за царственным пленником; ему же было поручено распорядиться казнью, если комиссия, созданная для суда над Мюратом, вынесет подсудимому смертный приговор, как это и можно было предвидеть.
С командировкой этого генерала тянули несколько дней. Неаполитанский двор как будто надеялся, что народный бунт избавит короля Фердинанда IV от его соперника.
Тюрьма в Пиццо была плохо защищена; это было простое место заключения, где никогда не скапливалось много преступников и куда попадали провинившиеся рыбаки или пойманные контрабандисты. Достаточно было натиска возбужденной толпы, чтобы взломать ее ворота. Оттягивая командировку генерала и заседания судебной комиссии, которой предстояло судить Мюрата, может быть, рассчитывали, что жалкая темница, недостаточно охраняемая военной силой, не устоит против нападения шайки злодеев, разгоряченной подстрекательствами и посулами Трентакапилли, причем король падет под ударами разъяренной черни!
Однако люди, устроившие отвратительную западню, куда попал Мюрат, ошиблись в расчетах. Боязнь ли суровой кары за разбой и самосуд, смутное ли уважение к бывшему королю, низвергнутому с престола и попавшему в плен, образумили население Пиццо, только местное простонародье осталось глухим к преступным внушениям Трентакапилли, и Мюрат не был потревожен в своем заточении.
Он отказался предстать перед судебной комиссией. До последней минуты он надеялся, что его только доставят под сильной охраной к австрийской границе и здесь передадут императорским властям в соответствии с формальным пропуском, полученным им для проезда в Триест. Мюрат говорил себе, что в конце концов, так как он не воевал и произвел высадку без пролития крови, королю Фердинанду будет, пожалуй, легко избавить его от всякой военной экзекуции; с другой стороны, он рассчитывал, что если ему не позволят воспользоваться пропуском для проезда в Триест, то разрешат по крайней мере уехать на английском корабле, крейсирующем в этих водах. Стоило ему попасть на борт такого судна, чтобы его жизнь под охраной английского флага не подверглась ни малейшей опасности. Может быть, подобно Наполеону, его отвезли бы пленником на какой-нибудь отдаленный остров, и он заранее мирился даже с этой безотрадной перспективой.
Мюрат выказывал большую беззаботность и спокойствие духа в те несколько дней, который прошли между его высадкой и заседанием военной комиссии.
Когда капитан Стратти явился к нему в тюрьму, которая не была уже отвратительной ямой, бывшим стойлом, зловонным и кишащим червями, но одной из комнат замка. Мюрат, судя по торжественному и серьезному виду вошедшего, подумал, что получен приказ о его отправке, который и будет сейчас объявлен. Но капитан с величайшими предосторожностями, почти дрожащий и сконфуженный, сообщил, что пленник предан суду и комиссия ожидает его.
При всей своей храбрости Мюрат был сильно удивлен, и трепет пробежал у него по телу; он понял, что враги не простили его и что скоро пробьет его последний час.
— Капитан, — сказал сдавленным голосом заключенный, — я пропал! Приказ явиться на суд, принесенный вами, равносилен смертному приговору! — Потом, проведя рукой по лбу, он оправился и прибавил более спокойным тоном: — Капитан, передайте председателю, что я отказываюсь явиться в суд; пусть его состав судит меня заочно! Мне нечего отвечать этим господам. Я вижу в них не судей, а палачей. Идите, исполняйте, что предписывает вам долг, и не откажитесь также передать слова несчастного государя.
Сильно взволнованный капитан Стратти вернулся на заседание. Комиссия тотчас решила послать обвиняемому защитника по собственному выбору. Эта обязанность была возложена на капитана Староче. Тот, в слезах, предстал перед королем, сообщил, что назначен его защитником, и просил Мюрата дать ему какие-нибудь сведения для защитительной речи, подавая надежду если не на оправдание, то хотя бы на смягчение кары.
— Приказываю вам, синьор Староче, — возразил король, — не говорить ни слова в мою защиту! Перед палачами не защищаются!
После адвоката явился допрашивать обвиняемого докладчик комиссии, и когда он приступил к делу по установленному порядку, осведомляясь об имени, возрасте и звании подсудимого, тот резко ответил:
— Я Иоахим Мюрат, король Обеих Сицилии! Ступайте вон! Запрещаю вам чинить мне допрос.
После этого Мюрат остался один в тюрьме. От него удалили всех преданных ему людей: Франческетти, Натали и его камердинера Армана. Четверо офицеров стерегли пленника, не спуская с него взора. Пока происходили совещания комиссии, Мюрат разговаривал со своими караульными, вспоминая прошлое, описывая им эпизоды великих битв, в которых он много раз безрассудно рисковал жизнью. Он рассказал без хвастовства, почти добродушно, о некоторых своих подвигах, сделавших из него Ахилла новой «Илиады», которой недоставало своего Гомера.
Слушая этот биографический рассказ, похожий на героическое завещание, офицеры не могли удержаться от слез. Они пытались подать королю кое-какие советы, кое-какие смутные надежды, но тот, спросив имена лиц, вошедших в состав королевской комиссии, сказал, качая головой:
— Мне нечего ждать от них пощады, господа; кроме председателя, выбранного, конечно, сознательно из моих заклятых врагов, остальные судьи — сплошь офицеры, осыпанные моими милостями, служившие мне верой и правдой, как они по крайней мере уверяли, пока я был на троне. Раз они согласились меня судить, значит, эти люди решились безграничной угодливостью и безусловной строгостью заслужить прощение себе за былую дружбу, которой я почтил их, и за ту преданность ко мне, которую они всегда изображали. Следовательно, я должен приготовиться к смерти. Благодарю вас, господа, за то, что вы скрасили мои последние минуты. Теперь позвольте мне внимательно выслушать секретаря; кажется, эти шаги в коридоре возвещают о его приходе.
В самом деле дверь тюрьмы отворилась, и вошел секретарь, сопровождаемый стражей. В руках у него была бумага, и он с легким поклоном приступил к чтению приговора.
Мюрат, машинально поднявшийся при шуме шагов, снова сел и с гордым, спокойным, презрительным видом, расположившись в кресле, точно он сидел на своем троне в Неаполе, выслушивая адрес какого-нибудь судебного корпуса или принимая депутацию от какого-либо города, выслушал до конца это чтение, причем у него не дрогнул ни один мускул в лице.
Последние слова приговора отличались ужасным лаконизмом: назначена смертная казнь, исполнение которой должно произойти безотлагательно.
Пленнику предоставили всего четверть часа, чтобы он приготовился предстать перед Всевышним.
Согласно закону, секретарь спросил осужденного, не желает ли он сказать что-нибудь относительно применения наказания.
— Я прошу, чтобы мне дали поговорить несколько минут с моими друзьями Франческетти и Натали, — сказал Мюрат.
— Это невозможно, — ответил секретарь, — мне дозволено допустить к вам только духовника.
Пока ходили за священником, Мюрат выразил желание написать жене и твердым почерком начертал следующие строки:
«Дорогая Каролина! Наступил мой последний час; через несколько секунд я перестану жить, а ты лишишься супруга. Не забывай его никогда; моя жизнь не была запятнана никакой несправедливостью! Прощай, мой Ахилл, прощай, моя Летиция, прощай, мой Люсьен, прощай, моя Луиза! Покажите себя достойными своего отца, милые дети! Я покидаю вас лишенными королевства, лишенными имущества, посреди многочисленных врагов; покажите, что вы стоите выше несчастья! Помните о том, кто вы и кем были; не проклинайте мою смерть; заявляю, что наиболее тяжелым в последние минуты моей жизни для меня является необходимость умереть вдали от моих детей».
Когда король окончил свое предсмертное письмо и передал его капитану Стратти, явился священник Масдеа, чтобы исповедовать его. Мюрат принял духовника почтительно, но сказал ему:
— Нет, нет! Я не хочу исповедоваться, потому что не совершил греха.
Священник настаивал, а затем, воспользовавшись смятением и грустью этих последних минут, вынудил у осужденного несколько слов исповеди и дал краткое отпущение грехов. Чтобы показать, как успешно выполнил он свою миссию, Масдеа умолял короля написать на клочке бумаги подтверждение своей исповеди.
— Хорошо, — сказал Мюрат, — так и быть, напишу в угоду вам!
И он поспешно набросал:
«Я умираю добрым христианином, готовясь исполнить волю Божию».
Капитан Стратти, отвернувшись, чтобы скрыть слезы, доложил тогда королю:
— Ваше величество, пора!
— Хорошо, я готов! Я следую за вами, капитан, — ответил Мюрат.
Короля вывели на эспланаду. У него слегка потемнело в глазах, когда он очутился на открытом воздухе и ярком солнце. Взвод из двенадцати солдат с заряженными ружьями был выстроен лицом к замку в ожидании осужденного. Мюрат спокойно осведомился, где ему встать, и ему указали стену возле лестницы замка, где было поставлено кресло. Увидев его, король сказал презрительным тоном, что умрет стоя. Тогда ему предложили завязать глаза и повернуться спиной к экзекуционному взводу. Мюрат, пожимая плечами, возразил:
— Я много раз видел смерть лицом к лицу и сумею не опустить перед нею взора до моей последней минуты.
Место, выбранное для казни, было чрезвычайно тесно. Солдат выстроили в три шеренги, и ружейные дула почти касались груди осужденного. Стоя перед ними с поднятой головой и гордым, спокойным взором, Мюрат сказал:
— Солдаты, исполните свой долг! Стреляйте в сердце! Пощадите мое лицо!
Потом своим громким, повелительным голосом, которым он давал сигнал к атаке на русских или австрийцев, он скомандовал: «Пли!»
Грянул залп, и в облаке порохового дыма Мюрат показался по-прежнему стоящим с прижатой к груди рукой. Можно было подумать, что он невредим. Затем вдруг его высокая фигура склонилась и рухнула наземь: короля Иоахима Мюрата не стало!
Царственные останки уложили в убогий гроб, который с наступлением сумерек понесли на кладбище. Дорогой носильщики уронили свою ношу, и кое-как сколоченные доски рассыпались. Гроб раскрылся и окровавленный труп короля предстал взорам испуганных солдат. Шесть пуль пробили грудь казненного, одна пронзила правую щеку, изуродовав благородное воинственное лицо. Гроб снова сколотили на скорую руку и бросили в общую могилу. Неаполитанские Бурбоны успокоились. Вся европейская реакция ликовала. Священный союз покончил разом с зятем Наполеона; все ожидали, что английские палачи разделаются в свою очередь с императором Наполеоном, но те жестоко затягивали свое мучительство. Хадсон Лоу оказался безжалостнее Трентакапилли и короля Фердинанда.
Дикая и шумная радость поднялась во всех европейских дворах при известии о казни Мюрата. Страх перед Наполеоном, заточенным на пустынном острове, заставлял смотреть на смерть бывшего короля Обеих Сицилий как на устранение грозной опасности. Разве нельзя было опасаться, что в случае бегства императора с острова Святой Елены он нашел бы твердую опору в своем зяте, даже и лишенном Неаполитанского королевства? Имя Мюрата было по-прежнему окружено ореолом славы в глазах бывших солдат империи. Его гибель отнимала лишний шанс у бонапартистской реставрации.
Английский посланник Уильям Коурт, поздравляя Фердинанда IV на другой день после казни, прибавил:
— Англии следовало бы взять пример с вашего величества. Мы безумцы, что не велели расстрелять другого негодяя.
«Другой негодяй» — это был император Наполеон.
XXV
Маркиз Люперкати, приведенный на борт фелюги Моддеи, где его втолкнули и бросили в глубь трюма, после трудного и мучительного плавания высадился ночью в Неаполе. Его отвели в замок Сент-Эльм и поместили в одну из самых мрачных камер старинной государственной тюрьмы.
После нескольких дней заточения маркиз, раны которого зажили, удивленный тем, что к нему не идут с допросом ни комиссар, ни секретарь, счел себя уже забытым в своей темнице. Относительно неудачной попытки, сделанной Мюратом, у него не было сомнения. Измена Барбары заставляла предвидеть заранее неблагоприятный исход. Тем не менее Люперкати был далек от мысли, что неаполитанский король будет предан военному суду, приговорен к расстрелу и казнен. Он думал, что правительство Фердинанда IV, не заботясь о судьбе товарища Мюрата и, вероятно, опасаясь публичного процесса, способного воскресить усердие и чувства преданности ниспровергнутому королю в стране, постарается удержать его в заточении, изолированным от живого мира, заживо погребенным.
Мысль о побеге, являющаяся первым долгом у арестанта, обреченного на продолжительное тюремное заключение, не замедлила возникнуть в голове маркиза, и ему оставалось только подготовить свой побег. Вдобавок это занятие обещало развлечь узника, который от недостатка света и отсутствия книг испытывал гнетущую скуку и чувствовал, что тупеет в своем одиночестве, что в его голове образуется какая-то пустота. Подготовка к бегству обещала новую пищу его энергии, восстановление крепости его мышц, и потому он принялся за дело.
Исследовав по всем направлениям свою тюрьму, маркиз убедился, что бегство через окошечко с перепиленными предварительно железными перекладинами оказывается самым удобным. Люперкати в былое время посещал замок Сент-Эльм, был приблизительно знаком с его конструкцией и планом и решил, что отведенная ему камера должна быть расположена в восточной части замка. Выползши из окна, он должен был бы спуститься на дорогу ночного дозора, откуда, если бы удалось ловко избежать встречи с часовыми, легко было бы добраться до морского берега.
С помощью ножки железной кровати, отвинченной и замененной камнем из стены для того, чтобы постель сохраняла нормальный вид, маркиз принялся за нижний край окошечка с целью обнажить его. Разламывая острым железом кладку стены, он подбирал щебень и мусор и выбрасывал его за окно. Благодаря этому узник убедился, что под окнами и даже поблизости нет часового — ведь иначе шум падения щебня и пыль, вылетавшая из окошечка, давно надоумили бы солдат, что у них над головами, в тюремной стене, творится что-то неладное, и они, конечно, тотчас подняли бы тревогу.
Медленно, терпеливо, настойчиво трудился маркиз целые недели. Наконец между камнями показался узкий просвет и нижняя часть окошечка совершенно очистилась от цемента. Стоило только столкнуть камни, как получилось бы отверстие, в которое можно было пролезть.
Маркизу оставили одежду, отобрав только оружие и деньги. На нем был между прочим длинный шерстяной кушак, обмотанный вокруг талии. Он разрезал его на узкие полосы и сплел из них нечто вроде очень крепкой веревки с узлами; в нее он всунул поперек в некоторых местах вытащенные из гнезд перекладины решетки, так что они служили ступенями воздушной лестницы. Потом, при наступлении ночи, к счастью безлунной, Люперкати влез на стул и надавил на камень. Тот вывалился наружу, глухо стукнувшись о землю.
Узник, насторожив слух, выжидал… Но нет! Ничто не шелохнулось, ни один часовой не крикнул «К оружию!», ночь оставалась безмолвной и спокойной.
— С Богом! — промолвил маркиз и, привязав конец своей импровизированной лестницы к кровати, вделанной в стену, выбросил веревку за окно и стал по ней скользить вниз, хватаясь руками за перекладины. Он благополучно удержался в своем очень быстром спуске и уцепился за последнюю перекладину приблизительно в восьми футах от земли. Он рискнул отпустить лестницу и упал на землю, однако поднялся невредимым и очутился, как предвидел, на пути дозора.
Люперкати осмотрелся, напрягая слух, стараясь уловить шум в форте, а также звуки, доносившиеся с моря. До него не доходило никаких подозрительных отголосков, но зато перед ним высилась огромная стена, и хотя у него в руках был кусок железа, заостренный в виде рогатины, но стена была так толста, что пробить ее удалось бы лишь после долгой работы. Вместе с тем невозможно было подняться на эту гладкую каменную ограду.
На маркиза напало отчаяние. Неужели он так долго боролся, работал, надеялся лишь ради того, чтобы разбиться здесь о непреодолимую преграду? Оставаясь в этом узком проходе, он непременно будет схвачен и водворен в другую камеру, откуда выйдет, вероятно, только на тюремный двор, чтобы быть расстрелянным. Ведь с наступлением рассвета стража заметит разломанное окно и бегство узника будет обнаружено. Требовалось непременно отыскать выход и рискнуть скорее получить пулю часового, чем попасться, как крысе, в ловушку.
Размахивая заостренной железной полосой, неслышно крадучись вдоль стены, Люперкати медленно двигался в восточном направлении к морю. Там он надеялся найти подземный выход из крепости, амбразуру для пушки, какое-нибудь отверстие, через которое можно было бы выбраться на волю и достичь морского берега, и внезапно наткнулся на будку, где спал часовой.
Маркиз тихо подошел к спящему, взял у него ружье и задумался, как ему поступить. Покончить с этим беззащитным человеком было рискованно: он мог поднять тревогу, прежде чем испустит дух. Не лучше ли продолжать свой путь в потемках? Но куда он приведет? Вероятно, к караулу. Маркизу казалось, что до него уже доносятся голоса караульных. Надо было на что-нибудь решиться. К счастью, он увидел плащ часового, висевший в будке. Тогда он набросил его и поднял капюшон, после чего удалился с ружьем на плече, точно был наряжен в караул. Таким образом Люперкати приблизился к полуосвещенной караульне, где большинство солдат спало. Двое из них разговаривали между собой у порога. Когда маркиз, закутанный в плащ, поравнялся с ними, один из них крикнул ему:
— Это ты, Джузеппе? Тебя нарядили караулить мост?
— Да, — лаконично ответил беглец и направился к подъемному мосту, где ожидал своей смены часовой.
При виде подходившего к нему Люперкати этот человек проворно схватил стоявшее возле него ружье и, взяв на караул, беспечно пошел навстречу своему мнимому товарищу, причем сообщил ему:
— Пароль «Аннибал Арно». Смелее, товарищ! Ведь тебе придется стоять на часах до четырех часов утра!
С этими словами солдат удалился, не обращая больше внимания на нового часового, сменившего его без капрала, с той вольностью и беззаботностью, которые сделались традиционными на этих мелких внутренних караулах. Несмотря на усилия, Мюрату решительно не удалось ввести ничего, кроме подобия дисциплины, среди неаполитанских солдат.
Очутившись на подъемном мосту, который не был поднят, Люперкати снова задумался. На время он избежал опасности, но остановиться на этом было невозможно: необходимо было бежать, и весь вопрос был лишь в том, как сделать это. Пред ним открылась дорога, ведущая к морю: там были спасение, свобода, жизнь.
Тогда маркиз придумал снять с себя солдатский плащ, набросить его на один из столбов моста и прислонить к нему ружье, как будто часовой держит его «к ноге». Издали эту группу можно было принять в ночной темноте за караульного, в неподвижной позе стерегущего мост. Устроив это, беглец на четвереньках, ползком выбрался на дорогу: он был свободен.
Маркиз побежал к берегу в надежде найти какую-нибудь лодку, на которой он мог бы пуститься в открытое море, где постарался бы попасть на рыболовное судно и достичь на нем Сардинии. Там ему было бы легко дождаться окончательного спасения. Но он тотчас сообразил, что не в состоянии осуществить этот план за неимением денег: ведь никто из моряков не принял бы в нем бескорыстного участия. Таким образом, ему приходилось поневоле возвратиться в Неаполь, где у него были друзья, и просить у них помощи, денег и приюта.
Маркиз обогнул прибрежные утесы, миновал форт Сент-Эльм и явился в город. Он вспомнил об одной женщине, служившей у него в доме, а теперь державшей таверну вблизи Портичи, двинулся в путь по направлению к нему и добрался туда незадолго до рассвета. На его стук открылось окно, откуда выглянула женщина, спросившая, что ему надо. Маркиз назвался заблудившимся путешественником и попросил ночлега, чтобы отдохнуть. Хозяйка, успокоенная видом этого одинокого странника, спустилась вниз, отворила ему и осветила фонарем его лицо.
— Ты не узнаешь меня, моя добрая Екатерина? — спросил Люперкати.
При звуке его голоса женщина вздогнула и пробормотала:
— Возможно ли, Пресвятая Владычица! Да ведь это голос синьора маркиза Люперкати!
— Да, это я, Екатерина! В прежнее время, живя у меня, ты была верной и преданной служанкой, я же старался быть тебе добрым господином, так как знал твою привязанность ко мне. Теперь я пришел просить у тебя приюта. Моя голова оценена… Спаси меня, и ты получишь щедрую награду, когда я избавлюсь от всякой опасности.
— Я и так готова помочь вам, — ответила Екатерина. — Мне неизвестно, какого рода опасность привела вас сюда, но мой дом к вашим услугам. Тут вам нечего бояться… если только вы не из шайки этого негодяя Мюрата, расстрелянного на прошлой неделе.
— Что ты говоришь?… Король расстрелян?
— Как же, в Пиццо; так ему и надо! Но ваши дела не касаются меня! Советую вам, однако, если вы из тех, которые явились в Калабрию с Мюратом, не заикаться о том здесь, потому что мой муж стоит горой за нашего доброго короля Фердинанда и убил бы вас без сожалений, узнав, что вы причастны к недавним смутам.
— Успокойся, я не назову своего имени. Вдобавок шрам так изуродовал мое лицо, что и ты сама не узнала меня.
— Этого недостаточно! Но мы переговорим с вами завтра. Вам нужен отдых; вы, вероятно, пришли издалека. Ложитесь спать! Я принесу вам ужин в постель; только не шевелитесь, пока я не проведаю вас поутру!
Они потихоньку поднялись по лестнице на чердак, где находилась убогая постель. Хозяйка указала на нее гостю со словами:
— Я в отчаянии, что не могу устроить вас лучше; но никто не должен догадываться о вашем присутствии здесь, пока я не смогу доставить вам средства к побегу. Ложитесь, не стучите. Я вернусь без огня, с едою.
Через несколько минут Люперкати с аппетитом жевал хлеб и грыз итальянскую колбасу, принесенную ему Екатериной. Он собирался уже заснуть после скудного ужина, как вдруг до него донесся шум, точно внизу поднялась ссора.
Маркиз подошел к дверям чердака и прислушался. Действительно, там происходила перебранка. Екатерина спорила с человеком, который кричал, шумел, ругался. Очевидно, хозяин таверны проснувшись, услышав тихий говор, шаги по своей подозрительности напал на жену, а из-за ее запирательства пришел в бешенство. Вдруг до Люперкати ясно донесся глухой стук, точно вызванный падением на пол человеческого тела, и в то же время раздался голос, кричавший во всю мочь:
— Эй, товарищи, сюда! Кто-то спрятан у нас в доме! Должно быть, разбойник!
Лестница заскрипела под грузными шагами; это муж Екатерины поднимался к убежищу беглеца.
Маркиз поискал глазами выход, слуховое окно, какую-нибудь дверь, но не нашел ничего. Начиналась заря, и в щели чердака проникали полоски слабого света. Благодаря этому Люперкати заметил в углу зазубренную косу, давно валявшуюся там. Он проворно схватил это ржавое железо, и хотя оно представляло собой плохое оружие, но все же было можно попытаться отстоять им свою жизнь и, пожалуй, проложить себе дорогу. Затем, распахнув дверь чердака, он показался вверху лестницы крича:
— Что там такое? Чего от меня хотят?
К нему бросился человек свирепого вида, размахивая огромным ножом. Люперкати едва успел отразить удар, который готовились нанести ему снизу вверх, и ударил нападавшего по голове своей косой. Хозяин упал навзничь, но маркиз удар нанес с такой силой, что потерял равновесие и скатился с крутой лестницы через поверженного им противника. Падая, он ударился о косу, выпавшую у него из рук, и почувствовал, что отслоилась кожа на лбу и завесила ему лицо.
Обливаясь кровью, маркиз встал и побрел в ту комнату, откуда еще недавно доносился до него громкий спор, а теперь там слышалось лишь какое-то глухое хрипение. Он нашел здесь Екатерину еле живой. Она, с трудом переводя дух, сказала ему:
— Спасайтесь! Спасайтесь! Муж поднял тревогу, и через минуту соседи нагрянут к нам в дом. Пушка с форта Сент-Эльма подала сигнал. Теперь в городе известно о побеге важного преступника. Я скоро умру, но мне хочется перед смертью спасти вам жизнь. — Женщина поднесла руку к животу и прибавила ослабевшим голосом: — Идите в ту дверь, выходящую в поле. В садовой конюшне вы найдете двух лошадей. Выбирайте любую из них и скачите во всю прыть. Я постараюсь сбить ваших врагов с настоящего следа. Да хранят вас Господь Бог и Пресвятая Дева!
— Благодарю, моя добрая Екатерина, — сказал Люперкати. — Но поедем со мной! Не оставайся в жертву этим злодеям!
— Нет, я еле жива. Ведь мне предстояло сделаться матерью. Я чувствую, что через несколько часов меня и моего малютки не станет на свете. Уезжайте сами! Ах, что же это я? Вы покушали, но не отдохнули. Вам понадобится пристанище, а денег у вас, пожалуй, нет. Вот два золотых дуката, возьмите их; это все, что я имею при себе. Они пригодятся вам, во всяком случае, на то, чтобы получить приют и пропитание. Спешите, однако! Я слышу стук, в дверь. Это соседи, которых созвал мой муж. Отправляйтесь сейчас прямо в Сорренто, откуда вы можете отплыть в Корсику.
Ободрив Екатерину несколькими словами надежды относительно ее самой и будущего ребенка, Люперкати направился к конюшне, выбрал одну из лошадей и взнуздал ее, после чего, захватив под мышку седло и стремена и помчавшись галопом, тотчас скрылся из вида.
После довольно продолжительной скачки маркиз позволил себе остановку, чтобы обтереть лицо, смоченное потом и кровью, и сделал временную перевязку. Обвязав платком порезанный лоб, он несколько остановил кровь, потом оседлал лошадь и направился в Кастелламаре. Здесь он нашел доктора, и тот перевязал ему рану.
Но как только он пустился дальше, в Сорренто, так услыхал за собою топот копыт. Предполагая, что его нагоняет безобидный путешественник, маркиз замедлил аллюр своего коня, будучи не прочь встретить попутчика, потому что в некоторых местах разбойники дерзко нападали на одиноких путников. Однако же, догнавший его человек яростно крикнул ему:
— А, попался, конокрад, негодяй, пришедший зарезать меня сегодня ночью, злодей, из-за которого я едва не убил мою бедную жену, мою милую Екатерину! — И хозяин таверны кинулся на Люперкати.
Но он плохо рассчитал наскок, поскольку еще не успел оправиться от удара косой и падения у лестницы, поэтому не усидел в седле и свалился наземь.
Маркиз проворно спрыгнул с лошади и, схватив противника, старался вырвать из его рук пистолет, который тот зарядил при приближении. Между ними завязалась борьба, но она была неравной: муж Екатерины, здоровенный крестьянин, оказался сильнее маркиза, и перевес клонился уже на его сторону, когда Люперкати, напрягая последние силы, сумел освободиться и тотчас, направив на него пистолет, спустил курок. Выстрел грянул… Екатерина осталась вдовой.
Тогда маркиз стал соображать, что ему следует воспользоваться этим обстоятельством, которое едва не приняло для него крайне трагический оборот. Он наклонился над убитым, снял с него платье, потом разделся сам и надел на себя одежду мертвеца, после чего не без труда натянул на труп свой собственный костюм. Потом беглец хлестнул лошадь, помогшую ему бежать, и та поскакала галопом вдогонку за другой лошадью, своей товаркой по конюшне, убежавшей обратно при виде гибели хозяина. Обе они помчались по знакомой дороге к постоялому двору, к своим яслям.
Тем временем Люперкати оттащил в сторону от проезжего тракта мертвое тело, прислонил его к бугру, и тут ему пришла в голову мысль выдать эти бренные останки за свои собственные. Среди нескольких бумаг, лежавших у него в карманах и не отобранных тюремным начальством, сохранилась записная книжечка с карандашом. Маркиз вырвал из нее листок и написал на нем следующие строки:
«Я бежал из форта Сент-Эльм, но, очутившись без средств, без друзей, без надежды, узнав о трагическом конце короля Мюрата, не будучи в силах влачить дольше горькое существование, добровольно лишаю себя жизни на дороге в Сорренто. Маркиз Андреа Люперкати».
Сделав это, он положил разряженный пистолет возле убитого, сказав про себя:
— Если только бедная Екатерина не заговорит, — а этой несчастной женщины, вероятно, уже нет теперь в живых, — то этот труп отлично может сойти хоть на некоторое время за труп маркиза Люперкати. Пуля раздробила челюсть этого бешеного неаполитанца, так что даже его вдове было бы трудно признать в нем своего мужа. Итак, Люперкати умер. Да здравствует… Но как же меня зовут с настоящей минуты? Екатерина не сочла нужным сообщить мне имя своего супруга! — Порывшись в карманах надетого им платья, маркиз нашел в нем нож, на рукоятке которого была вырезана надпись: «Джакопо Тоди», и пробормотал: — Ладно! Пусть я превращусь в Джакопо Тоди! Смотри, Джакопо, играй искуснее свою роль, чтобы не дать ожить для сбиров Фердинанда Четвертого бедному маркизу Люперкати, так плачевно окончившему свои дни на живописной дороге в Сорренто, где восхитительно протекал мой медовый месяц с Лидией… которая, конечно, давно считает меня умершим и будет очень счастлива, когда увидит меня в живых и любящим ее по-прежнему. Но где-то сейчас моя Лидия? Увижу ли я ее когда-нибудь?
Мечтая о жене, которую он надеялся разыскать, Люперкати, переодетый крестьянином, без помех достиг Сорренто. Там ему удалось найти корабль, который доставил его в Корсику. Оттуда, как он сообщил генералу Анрио в конце своего рассказа, ему представилась возможность переправиться во Францию, но, к несчастью, тут его дела не пошли успешно.
— Ну, — спросил Анрио, внимательно выслушав это повествование, — что же будет с тобой теперь?
— Не знаю…
— А твоя жена? Она считает тебя мертвым. Ты не знаешь…
— Все знаю: она готовится вступить во второй брак, выходит замуж за сына маршала Лефевра.
— И ты хочешь помешать этому браку? — осведомился Анрио.
— Я вправе препятствовать незаконному союзу, не так ли?
— И да, и нет. Ты жив и не жив. Ах, это ужасно запутанное положение! Что могу я сделать для тебя, старый товарищ?
— Пока ничего. Я должен сначала повидаться с Лидией. Прошу тебя об одном: не говори ничего, притворяйся ничего не знающим… будто тебе неизвестно, что я жив, что Лидия — моя жена. Ты обещаешь мне хранить тайну? Да? Ну, до скорого свидания, мой друг!
Озабоченный рассказанным ему приключением, Анрио собирался уже, вопреки данному совету, открыть все супруге маршала Лефевра, как вдруг в тот момент, когда он направился к особняку на Вандомской площади, двое мужчин подошли к нему и пригласили немедленно следовать за ними.
Удивленный, он повиновался. Подъехал фиакр, и Анрио отвезли в Консьержери, где он был немедленно посажен в тюрьму.
XXVI
Тихий вечер спускался на Лондон, приглушая его шум, и глубокое оцепенение овладевало опустевшим Сити. Крупные артерии всемирной торговли, улицы по соседству с Биржей, где сосредоточиваются финансовые операции целого света, принимали вид опустошенных дорог после междоусобной войны: всюду были заперты ставни, закрытые окна, безлюдные тротуары. Надо всем этим нависли тяжелая атмосфера, насыщенная дымом и всевозможными испарениями, и угрюмое затишье.
В то же время подобно пчелиному рою, вылетевшему из опустевшего улья, полчища приказчиков, клерков, служащих, купцов и банкиров устремились по всем дорогам во всевозможных экипажах к западным кварталам Лондона, просторным, прохладным, тенистым, к зеленеющим пригородным коттеджам, к особнякам близ Ричмонда, к домашнему уюту и семьям.
В эти вечерние часы какое-то маленькое, слабосильное существо плелось нога за ногу мимо собора Святого Павла, вздрагивая от испуга, тараща удивленные глаза, пробираясь по стенке, боязливо ежась и останавливаясь в нерешительности на перекрестках.
То был маленький Андрэ: он бежал из лавки старьевщика Гарри Стона и шел наудачу, не зная, где приклонить голову, куда деваться. Им руководило одно желание — уйти от людей, завладевших им, и он спрашивал себя: сколько понадобится ему дней и ночей, чтобы добраться до матери, ожидавшей его, как он был уверен, в маленьком домике в Пасси.
Пробираясь тайком между бесконечными рядами угрюмых стен, мимо запертых решетчатых ворот, ставней и закрытых наглухо дверей, мальчик вспоминал приветливое жилище, где текли дни его детства под охраной матери. В его воображении воскресала зеленая лужайка в саду, где он лепил каравайчики из песка. Все это заманчиво улыбалось ребенку, звало его к себе, но вместе с тем уходило куда-то прочь, в туманную даль.
Однако мальчик не смущался этим.
Со счастливым оптимизмом невинности Андрэ надеялся, что ему дадут где-нибудь приют и укажут до. рогу к матери.
Когда он проходил мимо одного полицейского поста, возвращавшийся со службы агент заговорил с ним и спросил, куда он идет.
— Домой! — не растерявшись, ответил мальчик.
— Прощайте! — добродушно крикнул ему вдогонку полисмен.
Эта встреча встревожила Андрэ. Он инстинктивно страшился лишиться свободы, что помешало бы ему разыскивать мать, и потому стал осторожнее. Приближаясь к Темзе, он почувствовал большую усталость. Ему хотелось есть, пить, и он понял, что не может идти не останавливаясь, но нуждается в подкреплении сил и отдыхе. Все его денежные ресурсы составляли деньги, полученные в былое время на покупку лакомств и бумажных солдатиков для вырезания, то было его недельное жалованье: двадцать су, выданные ему матерью. Не зная ценности денег, Андрэ считал себя богачом, обладая этой суммой, но не решался показать свое богатство.
Между тем голод давал себя чувствовать, и горло у него пересохло. Мальчик увидел бар, где соблазнительно красовались напитки в стеклянных бутылках, а сандвичи дразнили аппетит; но он не смел войти. Бродя в мучительной нерешительности вокруг заманчивых ресторанчиков, ребенок встретил девочку-подростка, худую, бледную, с красивыми белокурыми локонами и грустным лицом. Она держала в руке цветы и как будто подстерегала выход покупателей.
— Чем вы торгуете? — спросила она Андрэ. — Где ваш товар?
Мальчику сначала пришла мысль не отвечать и удалиться. Однако кроткий вид девочки, ее нежный голос и ясные голубые глаза, вся ее убогая внешность успокоили его.
— Я ничего не продаю, — сказал он, — я прогуливаюсь. Но мне хотелось бы съесть сандвичи и выпить чего-нибудь… смородинной воды.
— Тут нет смородинной воды: это ресторан. Здесь можно получить только пиво, джин и спиртные напитки. Но, если пожелаете, я отведу вас в одно место, где вы можете поесть пирожков и выпить смородиновки. Согласны?
— Согласен, — ответил Андрэ и тотчас прибавил: — Как тебя зовут?
— Анни, — ответила цветочница, — а вас?
— Андрэ.
— Вы не лондонец, — заметила девочка, — потому что говорите с акцентом. Не из Уэльса ли вы?
— Я издалека, — ответил мальчик важничая, но не считая нужным открывать свое французское происхождение. — А ты чем занимаешься? — продолжал он.
— Я? Продаю цветы, — печально ответила девочка, — а также пляшу. Я хожу по вечерам в бары поблизости от Уайтчепела и там, когда посетители напьются, они заставляют меня плясать и дают мне деньги. Но какие попадаются иногда злые люди, если бы вы знали! Они колотят меня, заставляя плясать еще, когда я падаю от изнеможения. Но часто с ними бывают и добрые господа, ужасно щедрые, которые дарят мне по шиллингу, и по два. Они дают такую большую сумму за побои, но это случается редко. Зато уж я мигом одеваюсь, чтобы улизнуть!
— Как? — воскликнул Андрэ, тараща на нее глаза. — Ты одеваешься?
— В таверне, в барах, в угоду публике, которая пьет и приглашает девочек-подростков как я, надо плясать совсем голой на столе… О, это запрещено, и если бы нагрянул шериф, то все попали бы в тюрьму! Но это-то и нравится господам, тогда торговля идет бойче. Ах, вот мы и пришли к месту, где можно съесть пирожки и выпить смородиновый сок. Вы войдете?
Андрэ остолбенел. Мысль о том, что эта девочка, такая хрупкая, грациозная, нежная, раздевалась донага перед мужчинами, потрясла и испугала его. В своей невинности он не подумал ни о чем непристойном, скорее почувствовал страх. Рассказ Анни вызвал у него представление о мучениях, о пытке. Он понял только одно: ее били, когда пьяным людям приходила охота потешить себя видом чужих страданий.
Анни потащила своего юного друга в лавочку, где торговали сластями. На прилавке стояли тарелки с пирожными, а за ними, на хрустальной этажерке, бутылки с разными сиропами. Девочка смело потребовала то, что ей было надо, и дети принялись лакомиться. Проголодавшийся Андрэ жадно набросился на пирожки, Анни выказала больше сдержанности. Освежившись большим стаканом содовой воды со смородиновым сиропом, мальчик вытащил из кармана французскую монету в двадцать су и подал ее лавочнику. Тот посмотрел, покачал головою и сказал только:
— Не годится.
Андрэ был ошеломлен. Здесь отказывались брать его деньги? Это случилось с ним в первый раз. По воскресеньям и когда в школе не было занятий, он постоянно покупал себе лакомства в ларьках под открытым небом, и торговцы всегда принимали его деньги.
Мальчик бросил вопросительный взгляд на свою товарку. Та взяла монету, возвращенную кондитером, покачала головой и сказала в свою очередь: «Не годится!» — а потом, поняв, что у Андрэ не было других денег, сжалившись над его замешательством и начиная догадываться, что рядом с ней маленький иностранец, маленький, одинокий француз, заброшенный на чужбину, она спокойно вынула из кармана шиллинг и подала его торговцу.
Тот бросил монету на прилавок, потом рассмотрел ее и убрал в кассу, после чего с добродушной улыбкой дал шесть пенсов сдачи, говоря:
— В добрый час! Вот что значит иметь запасные деньги!
Дети вышли из лавочки. Пристыженный Андрэ хотел сказать Анни, что его родители имеют средства и, конечно, заплатят ей, но та не дала ему на это времени.
— Малютка, — сказала она, выпрямляясь, потому что ей шел четырнадцатый год и как по годам, так и по росту она оказалась старше своего товарища, — значит, у вас нет английских денег? Откуда вы? Чем занимаетесь? Вы не работаете? Какое ваше ремесло? Расскажите-ка мне! Я вам сказала, кто я такая. Слава Богу, у меня был вчера очень счастливый вечер, я долго плясала, как рассказывала вам…
— И тебя отколотили? — перебил Андрэ.
— Конечно! Да еще как больно! Если бы видели! У меня руки все в синяках и два пореза ножом на бедре. Ножом полоснул меня матрос, но зато и подарил два шиллинга. Ведь вы видели, что у меня был шиллинг, — с гордостью прибавила она. — О, я хорошо припрятала его… я отдала старухе только один… она ничего не заметила, зато я смогла заплатить за пирожное и содовую воду у кондитера, — самодовольно заключила Анни.
Андрэ вздрогнул, услышав о порезах ножа, вознаграждением за которые он сейчас воспользовался сам того не зная, и почувствовал к своей товарке жалость, смешанную с уважением. Но о какой старухе упоминала она, от которой понадобилось спрятать шиллинг? Убедившись в необыкновенном уме и других достоинствах Анни, Андрэ не колебался более рассказать ей свою историю или по крайней мере то, что ему было известно о самом себе. Он предложил ей сесть с ним рядом на камень на берегу реки. Анни согласилась, и они спустились к Темзе и уселись на берегу.
Андрэ и Анни провели таким образом больше двух часов, рассказывая друг другу свои приключения; потом, когда стемнело, надо было подумать о ночлеге. Анни спросила мальчика, есть ли у него ночной приют, и на отрицательный ответ сказала:
— Пойдемте со мной, я сведу вас к миссис Грэби — туда же, где живу и я сама.
— Куда это? — спросил Андрэ.
— В Сохо. Пойдемте, вы скажете, что хотите работать, продавать газеты, булавки, вообще кормиться чем-нибудь. Миссис Грэби найдет вам занятие, пока отыщутся ваши родители; значит, вы получите честный заработок на пропитание и ночлег. Поторопимся, Андрэ, потому что надо возвращаться домой не позже десяти часов.
Они направились в Сохо, и вскоре Анни ввела мальчика в мрачный зал с низким потолком, где на старом расшатанном диване сидела миссис Грэби. Она была окружена грудами белья разного качества и занималась спарыванием вензелей, гербов, монограмм и цифр, украшавших столовое белье, салфетки, простыни и куски материи, наваленные вокруг нее.
— Ну, что? Пришла, бродяга! — закричала она при виде входящей Анни. — Как ты смеешь приходить так поздно? Хорош ли по крайней мере сегодня заработок?
Девочка подала ей шиллинг с несколькими пенсами.
— Недурно! Но завтра надо принести столько же! — проворчала старуха.
Анни вздрогнула, вспоминая, какою ценой достались ей эти два шиллинга; значит, опять надо плясать раздетой, получая побои!
— А кто этот маленький баловник? — спросила Грэби, всматриваясь в Андрэ.
— Товарищ, торгующий газетами, — ответила Анни, — но он бросил свою работу и хотел бы, чтобы вы доставили ему на несколько дней какой-нибудь заработок!
Старуха посмотрела на мальчика и сказала:
— Он должен быть довольно ловким, потому что очень тонок. Ведь ты ловок, мальчуган? Ну-ка, попрыгай, чтобы я смогла судить.
— Прыгайте же, — промолвила Анни, подталкивая Андрэ.
Тот не сумел противиться требованиям благодетельной дамы, которая могла доставить ему ночлег и, пожалуй, заработок, пропитание и возможность свидеться с матерью, так как, по словам Анни, на поездку во Францию нужно было много-много денег, и принялся прыгать.
— Очень хорошо! Очень хорошо! — одобрила его хозяйка. — Этот мальчик может пригодиться мистеру Тэркею. — Старуха поднялась с дивана и, пробираясь между грудами наваленного вокруг белья и материй, направилась в соседнюю комнату, открыла дверь и крикнула: — Мистер Тэркей! Придите посмотреть нового ученика! Сделайте одолжение.
На пороге показался дряхлый старик с седеющими бакенбардами, в черной бархатной шапочке, в золотых очках и белом галстуке; он стал рассматривать ребенка с зоркостью оценщика, определяющего стоимость вещи, и наконец сказал:
— Маленький проказник кажется мне вполне подходящим, и если это Анни подцепила его, то могу ее поздравить. Мы попробуем заняться им с сегодняшней же ночи. Ведь ты хотел бы, мой дружок, поскорее пристроиться к делу, чтобы честно зарабатывать себе пропитание и выказать свои таланты прыгуна, не так ли?
Андрэ мотнул головой с удивленным видом.
Истолковав этот неопределенный жест как знак согласия, мистер Тэркей улыбнулся и, обращаясь к хозяйке, сказал:
— Дайте ему поужинать и выспаться. Я приду за ним в три часа утра. Доброго вечера, миссис Грэби, мне надо окончить сегодня весьма спешную работу! прошу извинения!
И Тэркей, затворив дверь своего помещения, пошел в комнату, одновременно служившую ему кабинетом и спальней, и здесь принялся за прерванное занятие, состоявшее в данный момент в промывке мелких билетов английского банка, чтобы заменить скромные, выставленные на них цифры десятком или сотней фунтов стерлингов.
Тэркей был когда-то профессором химии в Оксфордском университете, но был уволен из-за привычки вставать по ночам и обходить дортауры, обшаривая шкафы учащихся и присваивая себе хранившиеся там драгоценности: часы, кольца, печати и тому подобное, которые он сбывал лондонским скупщикам краденых вещей. С той поры он влачил жалкое существование, стараясь использовать свои таланты химика, занимаясь изготовлением фальшивых ассигнаций с помощью выскабливания и промывки кислотами.
После довольно продолжительного заточения в королевских тюрьмах Тэркей встретил миссис Трэби, которая совмещала профессию гадальщицы на картах и мелкой ростовщицы с профессией сводни, и вступил с ней в товарищество. Грэби основала в убогом доме в Сохо подобие убежища или сиротского приюта для бедных девочек и мальчиков. Она приучала их к различным ремеслам, например, к шитью, как гласила учебная программа, но на самом деле пятеро или шестеро детей, находившихся на ее попечении, занимались преимущественно воровством по ресторанам, где предлагали посетителям цветы, газеты и норовили стащить салфетку, скатерть, прибор, — все, что попадется под руку. Добыча приносилась к Грэби, она спарывала метки с украденного белья, а Тэркей в своей лаборатории, бывшей кухне, плавил все драгоценные металлы и составлял реактивы для удаления следов монограмм, вензелей, клейм или прочих меток, могущих послужить для опознания украденных вещей.
Андрэ, утомленный ходьбой по лондонским улицам, спросил свою подругу, нельзя ли поскорее лечь спать и, подкрепившись ломтиком говядины и стаканом портера, которым хозяйка радушно угостила его, пошел с Анни в каморку, где были разостланы на голом полу тюфяки.
Там уже лежали пять или шесть маленьких детей, и от этих убогих лож, предназначенных для отдыха несчастных существ, надорванных физически и нравственно, подымался едкий запах. Дыхание спящих детей смешивалось в этой зараженной атмосфере.
Андрэ чуть не упал в обморок, войдя в эту зловонную конуру. Но он устал, а заботливая Анни ободряла его, держа за руку. Этим она придала ему силы и мужество и указала ему матрас возле дверей, откуда проникало немного свежего воздуха, после чего легла рядом с ним. Затем оба они, пожелав друг другу спокойной ночи, заснули успокоенные, невинные, почти счастливые.
XXVII
Случайно подслушав разговор между графиней де Монтолон и Гурго, Наполеон ушел к себе в комнату и не захотел больше никого видеть. Он заперся, попросив Новеррана принести ему том театральных пьес Вольтера, чтобы почитать перед сном.
Читая по привычке вслух, император останавливался порой, задумывался и мысленно переносился к временам своего блеска, в Сен-Клу, когда великий трагик Тальма играл перед коронованными особами и королевскими высочествами. Затем, взявшись снова за книгу, царственный пленник продолжал чтение, но слова стали вдруг расплываться у него перед глазами, внимание рассеивалось, думы летели далеко.
— Что такое со мной сегодня? — дивился Наполеон. — Неужели случайно услышанный разговор мог так подействовать на меня? Что мне, в сущности, за дело до ухаживания Гурго за этой Монтолон, которая кажется, впрочем, женщиной осторожной и весьма неглупой. Что мне за дело до их любовной канители? Или, точнее, какой интерес может заключаться для меня в том, будет ли этот старый дуралей Гурго вознагражден за свою любовь, или же Монтолон останется самой безупречной из супруг? Ведь здесь мы не в Сен-Клу, и в конце концов мои товарищи по изгнанию вправе искать себе развлечений!
Наполеон опять взял отложенную в сторону книгу, как будто желая заставить себя сосредоточиться на произведениях любимого поэта, но «Эдип» не занимал его больше. Незаметно отдавшись новым мыслям, он прибавил про себя:
— Монтолон не следовало бы уступать домогательствам Гурго; он добрый слуга, преданный, надежный и душа нараспашку, но — черт возьми! — эта женщина не для него!
Позвав камердинера, император собрался ложиться спать, а когда лег, то приказал Новеррану подать с комода портфель, после чего отпустил слугу жестом руки. Открыв портфель, Наполеон разложил вынутые из него бумаги на одеяле и отыскал одну заметку, которую отделил от прочих, тогда как остальные тщательно убрал на место.
Он с большим вниманием читал и перечитывал исписанный листок. То была краткая заметка о графине де Монтолон. Жизнь этой красавицы изобиловала приключениями. Монтолон был в генеральских чинах; он доблестно служил в республиканских армиях, имел почетную саблю и 18 брюмера был одним из помощников Бонапарта. Из-за полученной раны и расстроенного здоровья ему пришлось оставить военную службу. Тогда он вступил на дипломатическое поприще в звании камергера императора. Монтолон небезуспешно выполнил несколько важных поручений. Находясь в Германии, генерал познакомился с одной дамой, которая завладела им и на которой он вздумал жениться. Для этого требовалось разрешение императора. Однако вместо ожидаемого согласия Монтолон получил приказ прекратить всякие предварительные переговоры с означенной особой, которая была дважды разведена.
Мелкие германские дворы обнаруживали большую щепетильность на этот счет, и Наполеон, отказываясь дать просимое разрешение, считался только с желаниями монарха, при дворе которого был аккредитован граф де Монтолон.
Однако, будучи по-прежнему влюбленным и решив обойти это препятствие, Монтолон вздумал обратиться с новой просьбой к императору, будто по поводу его женитьбы на племяннице президента Сегье. Наполеон, очень любивший графа, дал свое согласие. Свадьба была отпразднована, и только после церемонии узнали в Тюильри, что мнимая племянница президента Сегье и дважды разведенная жена, на которой собирался жениться раньше Монтолон, было одно и то же лицо.
Дипломат впал в немилость, но Наполеон не мог долго сердиться на Монтолона и вскоре разрешил ему представить графиню ко двору.
Перечитав заметку, содержавшую главные биографические данные графини де Монтолон, император задумался, и странная улыбка заблуждала у него по лицу. Очевидно, его осенило нечто вроде откровения, Слушая страстные признания Гурго, изливавшего свои чувства к графине, он испытывал непонятную досаду. Ему казалось, что генерал забывается. Отказ графини обрадовал его; он остался доволен отпором этой женщины одному из его приближенных, и когда, задетый за живое ее неприступностью, Гурго позволил себе намекнуть, что если графиня сопротивлялась, то не из любви к мужу, не из уважения к супружеской верности, но потому, что она метила выше и как будто желала подарить свою любовь тому, кто для всех этих изгнанников по-прежнему и неизменно оставался императором, властелином, богом, Наполеон скорее удивился, чем был рассержен. Он были благодарен за добродетельную защиту этой статс-дамы печального Лонгвудского двора, а в то же время его уму представились смутная возможность, любовная гипотеза, и он не отогнал их прочь.
Наполеону в то время было сорок семь лет. Он отличался крепостью, подвижностью, несмотря на развивавшуюся тучность, и жил на острове Святой Елены почти в полном воздержании. Хотя в его натуре никогда не преобладала страстность, однако он любил женщин. Чаще всего он мало церемонился с ними и так же стремительно одерживал победы в любви, как и на поле брани. Поэтому, устремив свои помыслы на графиню де Монтолон, он уже мечтал о безотлагательном и полном обладании ею. До сих пор Наполеон почти не обращал внимания на жену своего слуги, но теперь, благодаря ухаживанию Гурго, с удовольствием припомнил черты, фигуру, манеры графини. Перед ним мелькали ее позы, взгляды, улыбка, когда ей случалось внезапно встретиться с ним. В таких случаях, не нарушая подобающего уважения, молодая женщина всегда высказывала ему какое-то восторженное сочувствие, которое можно было принять за поощрение любви.
«Почему она раньше не дала мне понять, что я не безразличен ей как мужчина? — спросил себя Наполеон. — Она знает, что я не могу, не должен заискивать перед женщинами! Женщина, какова бы она ни была, к которой я обращался прежде, поневоле считала нужным ответить мне взаимностью, уступить; но тогда я был императором, который повелевает и которому повинуются. Здесь же, лишенный могущества и славы, я хочу и должен быть любим преимущественно как мужчина. Следовательно, я не вправе ничего сказать, я даже не могу намекнуть женщине из моих приближенных, что ее любовь пришлась бы очень кстати и что я был бы весьма счастлив убедиться в ней…»
Император прервал размышления. Он понюхал табак, потом, с нетерпением ворочаясь в постели, как человек, удрученный докучливыми воспоминаниями или неприятными заботами, продолжал рассуждать сам с собой:
«Графиня де Монтолон умна, даже несколько хитра; однако ее ответ Гурго был прям, откровенен, почти циничен. Когда тот сказал, что она отвергает его не из боязни нарушить супружескую верность, а потому, что любит другое лицо, здесь, на острове, графиня ответила так, что отняла всякую надежду у своего обожателя, если только он не рискнет соперничать со мной. Так как графиня не знала, что я могу услышать ее, то это признание было искренним, и я должен видеть в нем выражение ее истинных чувств… — На минуту задумавшись, император продолжал разбор своих мыслей и колебаний. — Нужно ли мне дать понять графине, что я знаю о случившемся между ней и Гурго? Если я вызову ее признание, не опасаясь, что она уступит мне только из подчинения, к чему это приведет?»
Родилась новая тревога, последовала новая щепотка табака.
«Я создам себе нравственную обязанность, — продолжал размышлять дальше Наполеон. — Положение, конечно, будет приятным в первое время, но потом связь может превратиться в стеснительную обузу. Ведь здесь не то, что во Франции, в Париже, где суета и множество дел мешали каждой женщине подчинить меня своей власти, удержать в объятиях. На этом острове я не смогу уклоняться от свиданий наедине, от встреч, от упрашиваний; я сделаюсь пленником вдвойне. Правда, что если в пору своего могущества я избегал женского господства, подчинения женским причудам, то здесь я меньше рискую, когда поддамся слабости. На этой каторге женщина не злоупотребит свою властью надо мной. О, теперь можно безопасно позволить ей покомандовать немножко! Это внесет разнообразие в мою жизнь, рассеет меня».
Но далее смутная мысль поддаться женщине, уступить ей частицу власти до такой степени противоречила состоянию духа Наполеона, постаревшего, ниспровергнутого, находившегося под тщательным надзором английских тюремщиков, что он тотчас отказался от нее.
— К счастью, мы не занимаемся здесь политикой, — сказал он себе, — нам не нужно ни подготовлять трактаты, ни осуществлять грандиозные планы. Я живу наподобие фермера Соединенных Штатов, каким мне хотелось бы сделаться. Скука опасна, тирания англичан мешает мне прогуливаться, выходить, когда я хочу, ездить верхом. Если я поддамся этому мрачному бездействию, то умру от сплина, английской болезни. Может быть, Монтолон внесет в мое существование немного веселья, неожиданности. Я чувствовал себя здоровее в Бриаре, когда пользовался обществом Бетси, хорошенькой, белокурой хохотуньи!
Император улыбнулся, вспомнив милую девочку, с которой он играл в жмурки в саду Бэлкомбов, и продолжал:
— Дружба женщины может придать веселый вид этой скале, цветок любви, расцветший среди этих бесплодных глыб, будет веселить глаза. Ей-Богу! Мне кажется, сама судьба привела меня к этим деревьям, под сенью которых графиня Монтолон делала свои признания. Я был бы большим дураком, если бы, зная то, что знаю теперь, не извлек из этого пользы и не насладился ароматом этого красивого европейского цветка, перенесенного в тропическую теплицу.
Он улыбнулся, произнося эту цветистую фразу, и мысленно увидел, что графиня приблизилась и поцеловала его.
— С завтрашнего дня я стану наблюдать за графиней Монтолон, и если случай будет благоприятствовать нам обоим, то что же может удержать нас от наслаждения? Пусть будет что будет!
Наполеон был фаталистом даже в любви.
— Он загасил свечу и мирно заснул, грезя, вероятно, о предстоящей победе над красавицей Монтолон.
Нужно заметить, что Наполеон ни на одно мгновение не подумал о графе Монтолоне, о преданном ему генерале, который бросил все и последовал за ним на остров Святой Елены. В мозгу этого чудовищного человека не было места для мыслей, которые шли бы вразрез с его повелительным эгоизмом; он любил генерала Монтолона, признавал его заслуги, но ему даже в голову не приходило, что он совершает злой и бесчестный поступок, отнимая у него жену. Его мог остановить только страх пред затруднениями и неудобствами, но так как угрызения совести были неизвестны ему, то он видел впереди одни удовольствия от того, что у него будет любовница, красивая и умная женщина, какой была графиня Монтолон.
XXVIII
Несколько дней спустя после того, как Наполеон случайно услышал разговор и принял решение, ему удалось остаться наедине с графиней Монтолон. Он, как всегда, сразу завел с нею разговор относительно лиц, которые составляли его свиту, стал поддразнивать ее насчет любви, которую она внушила бедному Гурго, и вскоре она уже призналась ему в своих чувствах. С этого момента падение графини Монтолон зависело только от удобного случая. Столь же быстро изменилось ее обращение с окружающими, и появилось какое-то нервное отношение к своему мужу.
С болью в сердце подметил эту перемену Гурго и начал внимательно следить за императором и графиней Монтолон. Он старался открыть в их глазах, в их жестах что-нибудь, что указывало бы на их близость. Сам он тоже изменился и относился ко всем придирчиво и враждебно. Не будучи в состоянии напасть на действительного виновника своего горя, он придирался ко всем, кто находился вблизи него, и, раз оставшись наедине с генералом Монтолоном, грубо обратился к нему:
— Вы, кажется, ничего не замечаете?
— Я не совсем понимаю вас, барон, — холодно ответил тот.
Это спокойствие окончательно вывело из себя отверженного любовника, и он воскликнул:
— Ваша жена — пустая кокетка. Разве вы не замечаете, как она ведет себя? Неужели вам нужно увидеть ее в объятиях императора, чтобы убедиться в ее неверности?
Монтолон побледнел, но, сдержав волнение, произнес:
— Я решительно ничего не понимаю из ваших слов, барон. Вы позволяете себе намеки, которые в одно и то же время порочат мое имя и оскорбляют императора. Я не знаю, что вы хотите сказать, но вы должны будете ответить мне за эти слова.
Гурго пожал плечами и сказал:
— Я хочу сказать, что ваша жена старается завязать любовную интрижку с Наполеоном. Может быть, вы хотите, чтобы я открыл вам всю истину? Тем хуже для вас! Вы хотите потребовать у меня удовлетворения, я готов хоть сейчас!
Монтолон пристально взглянул в лицо Гурго и ответил:
— Будем откровенны! Я не хочу, чтобы в нашей дуэли были замешаны чьи-нибудь имена. Пусть другие думают, что причиной дуэли было другое обстоятельство. Придумаем какой-нибудь предлог, хотя бы следующий: вы в присутствии посторонних заявите, что спасли жизнь императору под Монтро, я же опровергну это. Дуэль станет неизбежной. Согласны?
— Согласен, — ответил взбешенный Гурго, — но имейте в виду, что эта дуэль не помешает вам быть обманутым. Я хотел только предупредить вас, так как мы были с вами товарищами и нас обоих удерживают здесь одинаковые обязанности. Вы не хотите слушать меня, тем хуже для вас! Прощайте! Скоро вы получите вести обо мне.
— А вы услышите обо мне, — ответил ему Монтолон, все еще сохраняя полное хладнокровие.
— Я убью этого рогоносца, — удаляясь проворчал Гурго.
Императору вскоре уже сообщили о ссоре, происшедшей между двумя его приближенными. Монтолон, слепо доверяя своей жене, сообщил ей истинную причину ссоры и выразил мнение, что старый барон, по-видимому, рехнулся. Графиня согласилась с мнением мужа и добавила, что Гурго, по всей вероятности, говорит это потому, что не встретил с ее стороны сочувствия к своей любви. В то же время она попыталась отговорить мужа от поединка. Она сказала, что, конечно, Гурго был виновен и заслуживал наказания, но какие последствия могут быть от этой дуэли? Они живут окруженные врагами, под неприязненным оком губернатора Хадсона Лоу. Все, что может повредить Наполеону во мнении Европы, сообщается в Англию с добавлением разных комментариев. Нужно постараться избежать этой дуэли, которая только запятнает ее честное имя и повредит императору. Монтолон возразил, что не сомневается в ее чести, но у Гурго было злое намерение поссорить его с императором, и он должен быть наказан за это. Кроме того, когда у таких старых солдат, как он и барон, возникает разногласие, то единственным средством решить спор является дуэль.
— Я сейчас попрошу Берто быть моим секундантом. Надеюсь, он не откажет мне в этой услуге, — сказал он в заключение.
В то время как генерал шел к дому, где жил Берто, его жена поспешила к императору и через Маршана попросила немедленно принять ее. Удивленный и обеспокоенный этим неожиданным требованием, император решил оказать самый холодный прием той женщине, которая всего лишь несколько часов назад стала его любовницей. Но при первых же словах молодой женщины он пришел в неистовство и решительно заявил, что употребит всю свою власть против Гурго.
— Будьте на время моим секретарем и напишите, что я вам продиктую! — сказал он графине и выпрямился, причем его глаза метали искры, а сам он сердито шагал по комнате, стуча каблуками.
Посреди комнаты находился стол, за которым и заняла место графиня Монтолон с пером в руке. Наполеон продиктовал:
— «Господин барон Гурго! Я очень огорчен тем, что состояние Вашего здоровья требует Вашего немедленного возвращения в Европу вследствие того, что здешний климат плохо сказывается на Вас. Болезнь печени, которой Вы уже давно страдаете, требует Вашего немедленного возвращения во Францию. Вы еще молоды, у Вас есть способности и Вы сможете еще устроить свою карьеру. Желаю Вам всякого счастья Примите уверения в моем к Вам расположении!»
На этом император остановился, а так как графиня продолжала ожидать, то он сухо сказал:
— Добавлять больше нечего.
Затем, взяв из рук молодой женщины перо, он наклонился и написал: «Нап». Перо, прорвав бумагу, не закончило подпись и вычертило какой-то странный зигзаг.
После этого император-узник сухо произнес:
— Потрудитесь немедленно же отнести это письмо барону Гурго и сообщите своему супругу, что он не смеет покинуть свою комнату, пока я не получу ответа, то есть пока не станет известно, что барон отправился во Францию. — Затем он с улыбкой прибавил: — Это распоряжение, конечно, не относится к вам. Вы свободно можете находиться где вам заблагорассудится. Я всегда буду рад видеть вас у себя! — и галантно поцеловал графине руку.
Гурго, получив это письмо, чуть не помешался от неожиданности. Он читал и перечитывал письмо, хватаясь то за голову, то ударяя себя в грудь кулаком.
Все рушилось вокруг него: он полюбил женщину, но она не захотела ответить ему взаимностью. До сих пор у него все же было удовольствие видеть ее и разговаривать с нею. Кроме того, он надеялся на изменчивость чувств женщины и думал, что, может быть, впоследствии она полюбит его. Теперь же между нею и им будет непреодолимая преграда из волн океана. А ее глупый муж, ревность которого он хотел возбудить, как станет он торжествовать теперь свою победу! Ведь поле битвы оставалось за ним, и он будет продолжать оставаться слепым, будет нести с покорностью свою долю. Но это было ничто в сравнении с ударом, который он получил от императора.
Гурго чувствовал, как его глаза застилают слезы. Горе от мысли о том, что император неправильно понял его, было сильнее, чем само унижение отставки. Ему было обидно сознавать, что император не любит его более, и это сильнее всего удручало. Так, значит, его отставили, он оказался плохим слугой, которого понадобилось выгнать? Что оставалось ему теперь предпринять? Он хотел помешать Наполеону попасть в сети честолюбивой женщины; конечно, он был неправ, вмешиваясь не в свое дело, но ведь в нем говорила ревность! Наполеон должен был понять и простить человека, действовавшего под влиянием слепой страсти. Однако хотя император был неправ, поступил с ним жестоко, все-таки его воля священна. Выказать непокорность по отношению к нему он не мог, а потому решил, что возвратится во Францию. Усилием воли поборов себя и взяв перо, он написал:
«Ваше Величество! Ваше распоряжение будет исполнено; я уеду отсюда. Но в этот момент я испытываю огромное страдание при мысли, что мне приходится расстаться с тем, кому я посвятил всю жизнь, все силы. Эта мысль угнетает меня, но в своем несчастье я смею надеяться, что Вы, Государь, сохраните в своей памяти воспоминание о моей службе, о моей привязанности к Вам, что наконец, потеряв Ваше расположение, я не потерял все-таки Вашего уважения. Вы отнесетесь справедливо к моим чувствам и причине моего отъезда. Соблаговолите, Ваше Величество, принять мой привет и пожелания Вам всякого счастья. Пожалейте о моей участи и, вспоминая обо мне, скажите, что у меня есть по крайней мере сердце».
Написав это письмо, бедняга барон откинулся в кресле и заплакал. Итак, он должен покинуть этот негостеприимный остров, эту голую скалу! Он увидит в скором времени своих родных и друзей, увидит дорогую ему Францию! Но все-таки эта мысль нисколько не утешала его.
В день своего отъезда Гурго получил записку с просьбой прийти вечером к месту, которое называлось «источником» и где любил иногда сидеть и мечтать Наполеон. Сильно заинтригованный барон ломал голову над тем, кто мог назначить ему свидание. Посланный мог только сказать ему, что об этом просит его какой-то англичанин со своим другом, желающим видеть его по поручению маршала Лефевра.
— Посланный от маршала? Это очень странно! Хорошо, скажи, что я приду, — ответил Гурго посланному, но направляясь к себе домой, раздумывал: «Не скрывается ли какая-нибудь ловушка под этим свиданием? Впрочем, увидим… А если хотят лишить меня жизни, то этим окажут мне только услугу, так как я буду счастлив оставить свои кости на этом проклятом острове, где уже похоронено мое сердце».
XXIX
По тенистой аллее около элегантного коттеджа в окрестностях Лондона прогуливалась молодая женщина с голубыми грустными глазами и распущенными волосами. По временам она внезапно останавливалась и тогда кончиком зонтика машинально чертила буквы, которые всегда складывались в одно имя: «Андрэ».
На повороте аллеи сидел какой-то пожилой человек с красным лицом; при одном из приближений молодой женщины этот человек повернулся к ней и произнес:
— Отличная сегодня погода, миссис Люси.
— Да, доктор, — ответила молодая женщина, — здесь чудно сегодня, и прогулка очень нравится мне.
— Я счастлив, миссис Люси, что вам нравится у меня жизни, то этим окажут мне только услугу, так по устройству считается одним из лучших в Англии, и я могу смело, не хвастаясь, утверждать это.
Молодая женщина, в которой читатель, конечно, уже узнал несчастную Люси, сошедшую с ума после исчезновения сына и которую ее брат перевез в санаторий доктора Блэксмиса, остановилась и продолжала разговор:
— Доктор, я хотела бы с вами поговорить.
— Пожалуйста, миссис Люси! Может быть, вы не довольны здешним комфортом? Или, может быть, вам надоедает болтовня вашей горничной. Или у вас есть какое-нибудь желание, которое, может быть, восстановит ваш аппетит? Вы кушаете очень мало, а между тем вам необходимо питаться как следует, иначе вы долго не восстановите силы.
— Благодарю вас, доктор, но я не хочу есть, — ответила молодая женщина. — Я хотела спросить вас, когда привезут мне моего Андрэ?
Доктор нервным движением скомкал газету, находившуюся у него в руках, и сказал:
— Это удивительно! Я думал, вы уже поправились, и вот опять приходится начинать все сначала! Потерпите, дорогая миссис Люси, я уже сказал вам, что вы скоро увидите своего мальчика. Пойдемте на кухню! Я покажу вам дивные бараньи котлетки, которые будут подавать вам утром и вечером.
Взяв под руку Люси, доктор нежно и осторожно повел ее к коттеджу.
— Вы ведете меня к моему Андрэ, не правда ли, доктор? — проговорила Люси. — Пойдемте же скорее к нему!
И она в приливе материнской любви бегом бросилась к коттеджу, преследуемая запыхавшимся доктором. На пороге дома ее встретила высокая женщина с костлявым, лоснящимся лицом и, обхватив ее, проговорила:
— Куда вы так стремительно бежите, моя дорогая? Успокойтесь, доктор запретил вам резкие движения.
— Где мой Андрэ? Я хочу видеть Андрэ! — пролепетала бедная больная.
Миссис Арабелла, как звали сиделку, пожала плечами и довольно грубо ответила:
— Идите за мной, я покажу вам, где находится Андрэ.
Она провела Люси в вестибюль. Там ее встретила другая сиделка и увлекла внутрь заведения, откуда неслись дикие вопли, крики и пение. В то же время к дому приблизился и доктор.
— Решительно она неизлечима! — сказал он.
— Миссис Люси Элфинстон, — ответила сиделка, — совершенно не хочет подчиняться установленному для нее режиму, и, мне кажется, мы с ней никогда не добьемся благих результатов.
— Хорошо еще, что брат аккуратно вносит за нее плату, — сказал доктор. — Но, впрочем, я хотел поговорить с тобой совсем о другом. Сегодня я получил от некоего мистера Тэркея письмо; он просит меня принять в наше заведение мальчика, рассудок которого несколько помутился и который нуждается в самом тщательном уходе.
— Ты назначил плату за пансион? — спросила Арабелла, которая заведовала счетами больницы и приходилась, кроме того, сестрой доктору. — Ты знаешь, Том, что с детьми гораздо больше хлопот, чем со взрослыми, так как они никогда не сидят смирно в комнате и носятся как угорелые повсюду.
— Я обо всем это подумал, — ответил врач, — но мистер Тэркей, по-видимому, не постоит за деньгами. Он должен приехать сегодня с мальчиком, и тогда мы условимся относительно цены.
— А принял ли ты в расчет, что на некоторых больных вид детей действует угнетающе, так как вызывает в них тяжелые воспоминания? Вот, например, как раз теперь эта бедная миссис Люси требует все время, чтобы ей возвратили ее ребенка; не произведет ли на нее вид маленького мальчика слишком тяжелое впечатление?
— Все это я предвидел, дорогая сестра, — ответил доктор. — Но не сама ли ты сказала, что за миссис Люси вносится плата самым регулярным образом, и какой будет от того вред, если она продолжит у нас пребывание?
— Как ты думаешь, — спросила Арабелла, — этот мальчик будет находиться у нас один или с ним будет кто-нибудь?
— Не думаю, так как об этом мистер Тэркей ничего не упоминает. Я знаю только, что они должны приехать с первой почтой, и вот теперь как раз слышатся колокольчики почтового экипажа. Пойдем скорее навстречу!
Почтенный мистер Тэркей, которого мы уже встречали у миссис Грэби, где он обнаружил свои химические таланты на банковских билетах, явился в сопровождении мальчика — Андрэ, сына Люси.
Тэркей, соблазнившись способностями мальчика проделывать всевозможные прыжки, решил использовать его в своих целях, но при первом же предложении перепрыгнуть высокую стену (Тэркей рассчитывал таким путем совершить кражу в одном намеченном доме), Андрэ наотрез отказался и сказал, что если Тэркей будет настаивать, то он закричит, а так как время было слишком раннее и мальчик мог обратить на себя внимание полиции, то почтенному оксфордскому химику пришлось отказаться от мысли использовать прыгуна для своего дела.
Он отвел мальчика опять к миссис Грэби, и та в течение нескольких недель заставляла Андрэ выдергивать нитки из меток, причем не позволяла ему ни на минуту оторвать глаза от работы. Единственным его утешением являлась беседа с Анни, которая находилась там же на чердаке, где и он, вместе с прочими нищими, которых миссис Грэби каждое утро выгоняла на улицу. Во время этих длинных бесед они обменивались разными признаниями, причем Андрэ рассказывал Анни о своей матери, которая, по его мнению, непременно в один прекрасный день явится за ним. Он только боялся, что мать не найдет его здесь, на чердаке, и потому решил как-нибудь бежать отсюда. Он решил притвориться, будто готов служить Тэркею в качестве помощника и, когда тот прикажет ему перепрыгнуть стену, он выполнит это, но, затем, очутившись в доме, позовет людей и предупредит их об опасности. Тогда, может быть, люди из сострадания и благодарности к нему помогут ему отыскать мать. Однако Тэркей в течение нескольких месяцев не появлялся у миссис Грэби, так как гостил в одном из учреждений короля Георга, куда он попал, желая разменять фальшивый билет. Возвратившись из Нью-гэйтской тюрьмы, почтенный Тэркей увидел мальчика и сказал:
— Так как ты, маленький негодяй, не хочешь прыгать, то скоро я дам тебе другую работу.
Эта угроза напугала Андрэ, и он стал — увы, тщетно — ломать голову, какой род новой работы предстоит ему. Но тем не менее он принял решение, что как только он очутится на улице, то при первой же возможности попытается вернуть свободу.
Через несколько дней Тэркей, гладко выбритый и одетый в самый шикарный костюм, приказал Андрэ следовать за ним.
Мальчик едва успел мельком поцеловать Анни и, сев с Тэркеем в дилижанс, покатил к учреждению доктора Блэксмиса, где их, как уже мы знаем, ожидал сам хозяин.
Доктор ласково потрепал Андрэ рукой по щеке и проговорил:
— Не бойтесь, молодой человек, вам здесь будет недурно. Пансионеры для нас все равно как наши дети.
Андрэ, который еще по дороге из Лондона имел разговор с Тэркеем, стоял в смущении перед доктором и только беспомощно повторял: «Да! да!» Он чувствовал на себе взгляд Тэркея и содрогался при воспоминании о наставлениях, которые были сделаны ему.
— Теперь Арабелла отведет мальчика в спальню, где он может отдохнуть с дороги, — сказал доктор Блэксмис, — а вы, мистер Тэркей, потрудитесь дать мне сведения о мальчике.
— Мальчика зовут Джон Прайс, — спокойно ответил Тэркей, — ему одиннадцать лет и он родился в Булонь-сюр-мер.
— А, — заметил доктор, — так он почти француз?
— Да, он даже плохо говорит по-английски, хотя понимает недурно.
— О, у нас здесь есть немало пансионеров, которые говорят по-французски.
— Это будет очено приятно! — сказал Тэркей, вежливо раскланиваясь.
— А теперь, — проговорил доктор почесывая переносицу, — на чье имя должен я написать расписку в получении денег?
— Расписку?
— Ну, да, расписку в получении двадцати фунтов стерлингов, так как, по нашим правилам, деньги за пансион и лечение должны быть внесены за два месяца вперед.
Тэркей очень любезно улыбнулся и почтительно сказал:
— Конечно, вы совершенно правы, господин доктор. К несчастью… — И он стал рыться в карманах.
Доктор Блэксмис тотчас же принял строгий вид и проговорил:
— Так я жду! Двадцать фунтов! Знаете, эта сумма не так уж велика.
— К несчастью, — ответил Тэркей, — я так поспешно уехал из Лондона…
— Ах, вы забыли кошелек? — саркастически сказал доктор. — Ну, уж извините… — И доктор направился было в другую комнату, чтобы распорядиться не выдавать мальчику чай и сандвичи, которыми пошла угощать его Арабелла.
Однако Тэркей успел схватить его за рукав и произнес:
. — Виноват, у меня есть с собой бумажник! — В ту же минуту он вытащил из кармана огромный бумажник, набитый банковскими билетами, и продолжал: — К сожалению, как я уже имел честь сообщить вам, я уехал слишком поспешно из. Лондона и не успел запастись мелочью.
Лицо доктора разом просветлело, и он с изысканной вежливостью ответил:
— Ну, это не важно, я дам вам сдачи.
— У меня нет других билетов как по пятьдесят фунтов, — продолжал Тэркей, после чего вынул из бумажника пачку и небрежно бросил на стол бумажку в пятьдесят фунтов.
— Я сейчас разменяю вам, — поспешно сказал Блэксмис, как будто боялся, что тот уйдет не заплатив, после чего, открыв ящик бюро и начав быстро отсчитывать золото, заявил: — К сожалению, у меня здесь не хватает. Позвольте мне на минуту оставить вас! Я сейчас возьму еще денег у сестры.
— Пожалуйста, — ответил Тэркей.
Он успел заметить в столе доктора несколько банковских билетов крупного достоинства и, оставшись один в комнате, не теряя ни секунды открыл ящик, вынул оттуда билеты, а на их место положил те, которые лежали у него в бумажнике, и снова все запер.
Когда доктор возвратился, Тэркей сказал ему:
— Извините меня, что я причинил вам столько беспокойства, но у меня в бумажнике нашлось еще два билета по десять фунтов, и таким образом я могу заплатить вам не меняя крупных денег.
— Ах, это очень приятно, — ответил доктор, — иначе мне пришлось бы совершенно остаться без мелочи.
Уплатив доктору его же деньгами, Тэркей вдруг заторопился, говоря, что хотел бы уехать сразу обратно в Лондон. Блэксмис и его сестра вышли в сад проводить его и взяли с него обещание возвратиться к ним как можно скорее.
— О, да, — ответил Тэркей, — я буду у вас в самом непродолжительном времени, — и при этом он как-то загадочно улыбнулся.
XXX
В полумиле от санатория доктора Блэксмиса находилась гостиница, куда почтовая карета постоянно заезжала за письмами и где кучер охотно выпивал с путешественниками стакан эля.
Тэркей сошел у гостиницы и предложил кучеру распить с ним бутылку пива, а затем приказал подать три стакана виски, чтобы чокнуться перед отъездом с кондуктором и кучером. Выпив виски, Тэркей вдруг сделал страдающую физиономию, начал стонать и охать, говоря, что его отравили. Между тем сигнал к отъезду был уже подан и кучер стал торопить Тэркея отправляться в путь. Однако «химик» вместо того, чтобы садиться в карету, упал в кресло, стал еще более громко стонать, и казалось, что он вот-вот скончается. Он наотрез отказался ехать и просил послать за доктором.
Кондуктор и кучер, видя, что никакие уговоры не помогут, почтительно распрощались с ним и отправились в дальнейший путь. Когда стук лошадиных копыт смолк в отдалении и хозяин гостиницы окончательно собрался идти за врачом, Тэркей глубоко вздохнул и сказал:
— Пожалуйста, не беспокойтесь, мой друг! Мне, кажется, становится лучше. Если вы приготовите мне кусок ростбифа и подадите бутылку эля, то я, вероятно, совсем поправлюсь.
Хозяин, обрадованный тем, что ему не придется хлопотать с умирающим, выказал полную готовность сделать обед и принес пива.
Пообедав, Тэркей спросил, когда поедет следующая почтовая карета в Лондон.
— О, — ответил хозяин, — раньше завтрашнего утра никакой кареты не будет.
— Отлично, — сказал Тэркей, — тогда, может быть, вы будете добры приготовить мне холодный ужин и комнату с приличной постелью.
— У вас будут и то, и другое, — ответил хозяин, обрадованный и польщенный тем, что у него остановился такой щедрый гость.
В ожидании ужина Тэркей решил совершить маленькую прогулку и спросил хозяина, как пройти поближе к санаторию доктора Блэксмиса, с которым он давно знаком, но у которого ему никогда не приходилось бывать.
— Это очень недалеко отсюда, — ответил хозяин, — минут двадцать, тридцать ходьбы.
Однако, выйдя из дома, Тэркей не пошел к санаторию, так как хотя он и обещал доктору возвратиться в скором времени, но скромно умолчал, что нанесет визит сегодняшней ночью.
План, выработанный им, был очень прост. Предыдущая кража у доктора убедила его, что в санатории не только есть хорошее белье, но хранятся также довольно крупная сумма денег и драгоценности, принадлежащие больным. Сидя в Ньюгэйте, Тэркей выработал план действий, и ему нужен был только помощник, ловкий и смышленый мальчик. Его выбор остановился опять на Андрэ, и поэтому, едва очутившись на свободе, «химик» немедленно приступил к осуществлению своей мечты, решив ввести Андрэ в санаторий в качестве пансионера.
Тэркей разбудил Андрэ утром около четырех часов, потому что дилижанс уезжал уже в пять часов. В тот момент, когда мальчик и Тэркей подходили к двери чердака, Андрэ, проходя мимо Анни, быстро наклонился и поцеловал девочку. Та от этого прикосновения проснулась.
Тэркей в это время осторожно открывал дверь и поэтому не мог видеть, что происходило у него за спиной.
— Я каждый вечер буду в Холборне у той кондитерской, где мы однажды ели пирожки, — успела шепнуть Анни.
— Я приду, — ответил мальчик.
Очутившись на улице, Тэркей и Андрэ некоторое время молча шагали вдоль набережной Темзы, и только у Вестминстерского моста «химик» остановился и сказал:
— Если ты будешь выполнять в точности мои приказания, я не сделаю тебе никакого вреда, если же нет… — И Тэркей вынул из кармана огромный нож.
— Я буду во всем повиноваться вам, — ответил мальчик.
— Слушай же, что нужно делать. Я отвезу тебя к моим друзьям, которые держат пансион. Тебе там будет очень хорошо. Ты будешь вкусно есть и пить, будешь спать на мягкой чистой кровати, но только не вздумай обманывать меня. Ты понял?
— Да!
— Когда наступит ночь, ты притворишься, будто спишь. Когда же пробьет три часа, ты встанешь и пройдешь до двери, которая выходит в сад и которую на ночь запирают на замок. Ты легко найдешь эту дверь, потому что она находится в конце коридора, ведущего в столовую. Ты понял?
— Да!
— Когда ты найдешь эту дверь, то откроешь ее и затем опять вернешься к себе в постель. Если на другой день тебя станут спрашивать, ты скажешь, что ничего не слыхал, что ты всю ночь спал. Если же тебя случайно увидят в коридоре, когда ты пойдешь открывать дверь, то объяснишь, что у тебя ночью случаются галлюцинации и ты иногда блуждаешь по дому. В этом пансионе все больные подвержены разным галлюцинациям, и потому твое заявление не покажется подозрительным. Ни в коем случае не говори, что действовал по моему наущению, потому что тогда тебя непременно посадят в тюрьму.
Тэркей для поощрения похлопал мальчика по щеке, и так как они находились недалеко от станции почтовых дилижансов, то «химик» зашел в портерную и там угостил Андрэ горячим грогом.
Несмотря на то, что в пути Тэркей еще не раз повторял мальчику свои наставления, когда настала ночь, его вдруг охватило беспокойство, сумеет ли этот ребенок выполнить свою роль.
— Я думаю все-таки, что все кончится благополучно, — решил он оптимистически, — Часа в три я буду в санатории, а в пять уже поеду в Лондон. Оттуда сейчас же на пароход, который отвезет меня в Антверпен или во Францию, куда-нибудь в Турень, которую называют цветущим садом Франции, и тогда с тем капиталом, который получу сегодня у доктора, я смогу начать жизнь честного человека. Мне не нужно будет больше иметь дело с ворами и полицией. А жизнь в деревне, мирное сельское существование уже давно влекло меня к себе.
Тэркей вернулся к себе в гостиницу, плотно поужинал и, так как идти еще было рано, прилег отдохнуть.
XXXI
Отведенная в свою комнату Люси мало-помалу успокоилась и впала в обычное апатичное состояние. Сиделка принесла ей баранью котлетку, в магическое действие которой так верил содержатель санатория, и, несмотря на ее отказ, ее заставили все-таки поесть, после чего она откинулась в кресло и, по-видимому, заснула.
Сиделка тихо удалилась из комнаты, и Люси осталась одна, продолжая неподвижно сидеть в кресле, хотя и без сна.
Когда настал вечер и на дворе зажглись фонари, пансионеры друг за другом пошли по двору, направляясь в столовую к ужину. Машинально Люси встала у окна и смотрела на эти давно знакомые примелькавшиеся ей лица, и вдруг душераздирающий крик вырвался у нее. Она порывисто высунулась из окна и дико крикнула:
— Андрэ! Андрэ! Сын мой!
Она не могла продолжать, так как в ту же минуту дверь открылась и в комнату кинулась сиделка, которая силой оттащила ее от окна. Пришедший доктор решил, что с Люси случился ее обычный припадок, и приказал дать ей на следующий день двойную порцию бараньих котлет. Затем, так как больная впала в забытье, он вернулся к другим больным, сидевшим за столом, и, обратив внимание на бледность мальчика, только что привезенного Тэркеем, распорядился, чтобы ему тоже утром подали две котлеты.
Когда настал час сна, одна из сиделок взяла за руку Андрэ и повела его в комнату, предназначенную для него. Тут стояли четыре кровати, но так как малолетних пансионеров не было, то Андрэ пришлось ночевать одному.
Мальчику показалось страшно и неуютно в большой пустынной комнате, где он должен был провести одинокую ночь. Кроме того, он был потрясен тем, что ему показалось, будто он слышал голос матери, звавшей его по имени. Эта мысль, что где-то тут находится его мать, сверлила его мозг и беспокоила его, доведя его до наивысшего напряжения. Бой часов перевел его мысли на другие вещи. Он вспомнил о приказании Тэркея и своим детским умом попытался проникнуть в планы «химика». Зачем ему нужно ночью проникнуть в этот дом? Наверное, за всем этим скрывается какая-нибудь низкая махинация. Все существо Андрэ возмущалось против навязанной ему Тэркеем роли, но в то же время он боялся ослушаться приказания. Вдруг одно соображение заставило его встрепенуться. Ведь если Тэркей из сада может проникнуть через заднюю дверь в дом, то он, в свою очередь, может воспользоваться ею, чтобы получить свободу!
Решив уйти, Андрэ стал тихо одеваться и затем так же осторожно вышел из комнаты в коридор. Ориентироваться впотьмах ему было нетрудно. Он нашел дверь, нащупал задвижку и, перешагнув через порог, опрометью бросился бежать. Через минуту он остановился и прислушался. Кругом все было тихо.
— Тэркея, кажется, здесь нет, — сказал Андрэ про себя. — Значит, мне нечего бояться, и завтра я буду в Лондоне.
Счастливый и радостный, он быстро зашагал по дороге. Когда он проходил мимо какого-то большого дома стоявшего на краю дороги, то при свете фонаря, висевшего на стене, ему показалось, что к нему приближается Тэркей. Андрэ испугался и мгновенно прыгнул в канаву. Мальчик был на волосок от гибели, так как на дороге действительно был Тэркей, шедший в полном вооружении на свою работу.
На рассвете Андрэ пришел в Лондон, увидел на дороге человека, коловшего булыжник, и спросил его, как пройти на Холборн-стрит. Рабочий с удивлением взглянул на ребенка и спросил его, откуда он идет. Андрэ было смутился от этого вопроса, но затем живо нашелся и сказал, что он заблудился, а теперь возвращается к родителям. Рабочий удовлетворился этим ответом и объяснил, как пройти на Холборн-стрит, предупредив, что предстоит еще добрых два часа пути.
Андрэ снова бодро зашагал по дороге, но его уже сильно мучил голод, и потому он остановился около гостиницы, у порога которой сидело несколько человек, выпивавших и закусывавших. Никто не обратил внимания на подошедшего мальчика, за исключением какого-то пожилого человека, который, обратившись к своему спутнику, сказал по-французски:
— Посмотрите на этого мальчика! Что, если это — тот самый, которого мы ищем? Ведь ничего мудреного тут нет. Бывает, что человек ищет за тридевять земель то, что у него под рукою.
Андрэ не стал слушать далее. Охваченный страхом, он бросился бежать и вскоре скрылся в одной из красивых улиц пригорода. Он остановился только тогда, когда окончательно почувствовал себя в безопасности, но так как у него буквально подкашивались ноги, то он опустился на землю и вскоре заснул мертвым сном.
Открыв глаза, мальчик увидел подле себя какого-то мирного крестьянина, который сидел и ел хлеб с кусочками мяса. Андрэ с жадностью взглянул на еду. Крестьянин заметил этот взгляд и дал ему ломоть хлеба и кусок мяса, а когда Андрэ кончил есть, сказал ему:
— А теперь пойдем со мною!
— Куда!
— Это ты потом узнаешь! — ответил крестьянин, а так как мальчик попытался ускользнуть, то он поймал его и сказал: — Ты пойдешь со мною в полицейское бюро. Ты мне кажешься подозрительным. Там выяснят, кто ты. Пойдем!
Час спустя мальчик и полицейский агент, которого Андрэ принял за крестьянина, уже входили в полицейское бюро.
XXXII
Двое путников встретившихся Андрэ по дороге и обративших на него внимание, были ла Виолетт и капитан Эдвард Элфинстон.
После казни маршала Нея ла Виолетт поспешил в Лондон и пустился на розыски Люси. В гостинице «Король Георг», где он думал найти ее, ему сказали, что молодая женщина после потери ребенка пережила нервное потрясение и помещена теперь своим братом в санаторий, а куда именно — это мог бы сообщить ее брат. Ла Виолетт попросил адрес капитана Эдварда Элфинстона и отправился к нему. Капитан принял старого солдата и немедленно согласился проводить его в санаторий, где находилась Люси.
По дороге они остановились на короткое время около маленькой гостиницы и здесь повстречали Андрэ, которого так тщетно искал ла Виолетт.
В санатории, куда они приехали днем, царил полный беспорядок. Все калитки и ворота были распахнуты настежь. По двору сновали какие-то люди, одетые в черное, а посредине стоял сухощавый господин в треуголке и, опираясь на высокую трость, допрашивал доктора Блэксмиса, который, отирая со лба пот, отвечал громким голосом, поминутно призывая в свидетели сестру, стоявшую тут же с поджатыми губами. Господин в треуголке, который был местным судьей, повернулся к пришедшим и сухо спросил их:
— Кто вы такие и по какому поводу явились сюда? Капитан Элфинстон назвал себя и потребовал объяснения, по какому поводу подвергают их допросу.
Судья смягчился и коротко объяснил им, что ночью неизвестными ворами в санатории была совершена кража. Капитан, сделав вид, что это дело мало интересует его, спросил о здоровье его сестры.
— К сожалению, — ответил доктор, — я не могу показать вам вашу бедную сестру.
— Что вы хотите сказать? — спросил со страхом капитан.
— Представьте себе, — объяснил врач, — вчера к нам привели сюда мальчика по имени Джон Прайс, ваша сестра приняла его за своего сына, стала звать его и кричать, а сегодня ночью исчезла неизвестно куда.
— Моя сестра исчезла! — в ужасе воскликнул капитан, и то же самое сделал ла Виолетт.
— Да, она бежала, — повторил доктор. — Она бежала за этим мальчиком, который оставил дверь открытой и тем самым позволил ворам проникнуть в наш дом.
— Я думал, господа, — сказал судья, — что, может быть, вы приехали сообщить нам, где находится больная, так как у меня есть все основания подозревать, что она последовала за мальчиком, принадлежащим к воровской шайке, и, может быть, теперь находится в их обществе.
— Нам ничего не известно, — ответил капитан, — и мы еще до сих пор не можем прийти в себя от изумления. Ребенок тоже неизвестен нам. Мне интересно было бы только знать, действительно ли моя сестра приняла мальчика за своего сына?
— Несомненно, — ответил доктор. — Мне говорили, что, судя по ее крикам, по той страсти, с которой она рвалась к ребенку, можно было действительно подумать, что это был ее ребенок. Кроме того, вечером, беседуя с сиделкой, она высказала ей свою уверенность в том, что это ее сын и что она хочет непременно встретиться с ним, даже если для этого она должна была бы сломать каменную стену. Мне кажется, она окончательно помешалась, — заключил доктор.
Элфинстон спросил судью, могут ли они уйти (они торопились пуститься в погоню за беглянкой). Судья попросил их подтвердить, что им неизвестен мальчик по имени Джон Прайс, а также что они ничего не могут сообщить об обстоятельствах кражи.
Выйдя из санатория, ла Виолетт и капитан сели в карету и отправились в обратный путь. Теперь они были уверены, что мальчик, встретившийся им на дороге, был не кто иной, как Андрэ, и что Люси, увидев его, узнала в нем своего сына.
С тяжелым сердцем возвратились они в Лондон. Случай давал им возможность найти Андрэ, но они пропустили его и теперь, может быть, навсегда потеряли мальчика. Кто мог сказать им, где он находится? Кто мог бы навести их на след ребенка, затерявшегося в Лондоне?
XXXIII
На разборе дел полицейского судьи в Мальборо-стрит всегда присутствовала специальная публика, состоящая из родственников и товарищей бродяг, против которых выставляются разные обвинения. Только изредка попадались здесь лица честных торговцев, мелких горожан и ремесленников, которые положительно терялись в толпе людей с печатью порока на лице. Попадавшиеся здесь почтенные люди принадлежали к разным религиозным обществам, цель которых — вырывать из когтей греха заблудших; они брали последних к себе в качестве слуг, учеников или подмастерьев. Судья каждый раз перед произнесением приговора спрашивал, не желает ли кто-нибудь взять на поруки преступника и позаботиться о его исправлении. Добродетельные горожане в одно и то же время делали доброе дело и за самую сходную цену находили себе помощников в делах.
Они просто брали на себя обязательство перед судом давать преступнику помещение, стол, а также и религиозное воспитание. Мальчикам, кроме того, предоставлялось изучение какого-либо ремесла, дающего возможность зарабатывать хлеб, а девочкам, по достижении известного возраста, предлагалось подходящее замужество. Ни о каком вознаграждении не было и речи. Пища, помещение и кое-какое платье, смотря по времени года, составляли всю плату за работу преступника. При малейшем проступке, хотя бы ничтожном воровстве, даже при одном выражении неудовольствия учителем виновный подвергался заключению и усиленным работам.
На следующий же день после кражи, совершенной Тэркеем у доктора Блэксмиса, и предшествовавшего этому бегству сына Люси из санатория, бедняга мальчик в числе других малолетних бродяг и преступников стоял перед судьей на Мальборо-стрит.
Полицейский агент, доставивший Андрэ, доложил, что нашел мальчика на улице голодным, не могущим дать никаких указаний о своем местопребывании, никаких объяснений. Агент просил применить к нему постановление закона и выдать полагающееся в таких случаях вознаграждение за избавление общества от будущего вредного его члена.
Судья напрасно пытался добиться чего-нибудь от Андрэ. Мальчик заупрямился; он больше не плакал, но испуганно покорился неизбежному. Так как у судьи было много таких же малолетних преступников, то он не мог уделить много времени допросу и, продиктовав писцу имя ребенка и место, где он был взят, обратился к присутствующим с обычным вопросом:
— Не желает ли кто-нибудь взять на попечение ребенка?
— Я желаю взять его с разрешения вашей милости, — раздался грубый голос среди присутствовавших.
— Подойдите! — сказал сторож.
Вышел толстый субъект с загорелыми руками и беспорядочной бородой, очень похожий на какого-нибудь пирата.
— Вы соглашаетесь взять здесь присутствующего ребенка? — спросил судья. — Как ваше имя? Ваше звание? Вы обязуетесь кормить, одевать и воспитывать его в духе религии?
— Да, ваша милость, — ответил спрашиваемый. — Меня зовут Джон Бзтлер, я капитан судна «Воробей», отплывающего к Капу. Мы остановимся у острова Святой Елены, где нам надо сдать кое-какие товары и припасы. Если позволите, я возьму с собой мальчика юнгой и сделаю из него хорошего моряка для службы во флоте ее величества.
— Хорошо, капитан Бэтлер. Распишитесь и получите ребенка. Вы отвечаете за него в течение восьми лет, так как ему на вид лет двенадцать или четырнадцать. Идите, капитан, небо благословит вас за доброе дело! Сторож, зови следующего! — распорядился судья.
Андрэ спокойно, не говоря ни слова, последовал за капитаном. Мальчик был в таком подавленном состоянии от неудач своей жизни, что ему было безразлично, куда бы ни идти, лишь бы иметь пристанище.
— Теперь мы отправимся на корабль, мальчуган, и ты познакомишься с ним и со своими будущими товарищами, — сказал Бэтлер. — Однако, я думаю, что тебя едва ли угощали там, где ты сегодня ночевал, а потому хочу предложить тебе кусок ростбифа и кружку пива. Ты не прочь, а?
Андрэ утвердительно кивнул головой. Несмотря на свирепый вид, у капитана Бэтлера была добрая душа, и мальчик почувствовал это и ободрился. Он решил слушаться своего нового хозяина и угождать ему. Кто знает, может быть, со временем он все расскажет ему, и тот пожалеет его и даже поможет ему. Может быть, капитан отвезет его на своем корабле во Францию, где он найдет мать. Андрэ казалось, что он легко отыщет маленький домик в Пасси, свой навеки потерянный рай, о котором он так часто вспоминал.
Капитан Бэтлер радовался аппетиту, с которым ребенок уничтожал кусок ростбифа и пил свое пиво, и, подкрепив его таким образом, сказал Андрэ:
— Ну, мальчик, нам нечего болтаться здесь, тебе пора на судно. Но сначала хорошенько выслушай меня! Мне еще надо устроить кое-какие дела на берегу, повидать своих друзей, и ты на время будешь предоставлен сам себе. Я освободил тебя от когтей полиции, которая сделала бы из тебя арестанта или мошенника; ведь в ее руках скорее сделаешься вором или убийцей, чем порядочным моряком. Ну, так вот: я не побегу за тобой, если ты вздумаешь скрыться от меня, но берегись: тебя заберут снова и ты можешь попасть на этот раз к кому-нибудь хуже Джона Бэтлера. Подумай: ты умен, как кажется, но, должно быть, порядочно упрям; я наблюдал за тобой у судьи; ты ничего не хотел говорить там. Дело твое, малый, береги свои секреты, мне их незачем знать. Мне от тебя нужно только, чтобы ты был послушен на службе, а в свободные часы оживлен и весел. Это необходимо на корабле, особенно в твои годы. Ты увидишь новые интересные страны, а кроме того, тебе везет, малый: мы пристанем у острова Святой Елены, и ты сможешь увидеть там великого Наполеона. Ты что-нибудь слышал о нем? — Ребенок утвердительно кивнул головой. — Так вот, видишь ли, это не всякому удается. Многие готовы были бы потратить большие деньги, чтобы повидать императора. С нами едет со своим другом один почтенный капитан именно ради того, чтобы посмотреть на пленника. Ну, мальчик, допивай свою кружку, да и пойдем! Кстати, помни: я привык называть всех своих юнг именем Нэд; к этому я привык еще с молодости.
Андрэ чувствовал себя отлично в обществе Бэтлера. Подходя к Темзе, он вдруг вскрикнул и сказал капитану: «Позвольте мне отойти на минуту, я сейчас!» — и, не дожидаясь позволения, бросился к молодой девушке, предлагавшей прохожим букетики цветов.
Это была Анни!
Лицо Андрэ просияло от радости при виде девушки, которая была так добра к нему и которую он уже не надеялся увидеть еще раз, Анни также узнала своего маленького друга-француза. Они обнялись и засыпали друг друга вопросами. В это время подошел Бэтлер и спросил Андрэ:
— Ты знаешь эту маленькую нищенку? Ну, прощайся с нею: сегодня вечером, с отливом, мы отправляемся в море.
Услышав это, дети принялись плакать, испуганные этой новой разлукой, возвещенной Бэтлером.
— Андрэ, я не забуду тебя, — сказала Анни. — Если ты вернешься в Лондон, то найдешь меня здесь же, продающей цветы. Сегодня день святого Валентина; каждый год в это время я буду ждать тебя здесь.
— Моя дорогая Анни, ведь из путешествий возвращаются. Капитан снова привезет меня в Англию, и, если я найду свою мать и буду счастлив, обещаю тебе, что я сделаю счастливой и тебя. Если только я буду иметь возможность, то буду здесь, на мосту Темзы, в день святого Валентина. Постой… ведь можно писать друг другу, если не удастся видеться. Ты умеешь читать?
— Нет, — печально сказала Анни, — я не умею ни читать, ни писать.
— Ничего, кто-нибудь напишет за тебя, а может быть, ты научишься. Вот куда надо писать ко мне; Пасси, близ Парижа, улица Винь; мое имя — Андрэ Лефевр. Ты запомнишь хорошо эти названия?
— О да! — сказала Анни и повторила адрес.
— Там живет моя мама, — продолжал Андрэ. — Я запишу тебе адрес на бумаге. — Он вынул из кармана карандаш, на котором перламутром было выложено его имя, и записал на клочке бумаги, бывшей у Анни, чтобы заворачивать букеты, свой полный адрес, а потом, протянул ей свой карандаш, сказал: — Береги его на память обо мне. Посмотри, на нем мое имя, там написано «Андрэ».
— Ну, дети, поцелуйтесь в последний раз и в дорогу, мальчуган! — сказал капитан. — Я вижу своих торговцев и пассажиров, мне надо подойти к ним.
Он повел Андрэ к навесу, где были сложены приготовленные для погрузки тюки товаров, и оставил там мальчика со своим помощником; последний презрительно посмотрел на Андрэ и больше не обращал на него внимания за все время погрузки.
Вечером мальчика отвели на борт судна, где уже находились пассажиры. Капитан Бэтлер дал ему полный костюм юнги и показал его место в артели, состоявшей из восьми человек, где он должен был есть. Этим окончилась вся церемония водворения на судне нового юнги. Андрэ составлял отныне часть экипажа судна «Воробей», готовящегося сняться с якоря и отправиться к мысу Доброй Надежды с остановкой у острова Святой Елены.
Когда начался отлив, корабль «Воробей» с распущенными парусами весело тронулся в путь.
На палубе судна стояли два человека, глядя на исчезавший в вечернем тумане Лондон и тихо разговаривая между собой. Они совершенно не походили друг на друга: один был широкоплечий, с рыжими бакенбардами англичанин, другой — высокий, худощавый человек с седой, длинной бородой и тяжелой дубинкой в руке. Это были капитан Элфинстон и ла Виолетт, плывшие к острову Святой Елены и совещавшиеся о своем смелом предприятии. Вспоминая бедную Люси, которую им пришлось покинуть, и ее ребенка, которого не удалось найти, они были подавлены и огорчены. Капитан вздохнул, сжимая руку ла Виолет та, и произнес:
— Мы должны забыть свои личные горести, чтобы думать лишь о нашем деле. Теперь мы не принадлежим себе, товарищ! Уезжая, я дал своему поверенному инструкции продолжать розыски Люси и помочь ей в случае успеха, может быть, излечить ее в мое отсутствие. Я распорядился и на случай каких-нибудь сведений о ребенке. Все, что только возможно, я сделал, и моя совесть спокойна. Теперь мы пойдем туда, куда призывает нас долг, и да поможет нам Бог!
«Воробей» несся по волнам на широко распущенных парусах, как легкая морская птица…
XXXIV
Свадьба Шарля Лефевра и маркизы Люперкати была отложена. Герцогиня объяснила это парижскому обществу неуместностью свадебных празднеств в то время, когда товарищ военной славы ее мужа, маршал Ней, пал под выстрелами взвода солдат, приговоренный к казни. В сущности же причина задержки свадьбы была иная. Маркиза Люперкати снова виделась со своим мужем, и последний старался договориться с той, которая называла себя его вдовой. Лидия боялась скандала и старалась выиграть время. Она два раза приняла у себя тайно маркиза и упросила его подождать, пока она освободится от своего обещания Шарлю Лефевру, уверив его, что все скоро устроится к их взаимному благополучию. Люперкати согласился пока молчать и слыть мертвым. Маркиза постаралась воспользоваться отсрочкой. Она с нетерпением ждала братa, но Мобрейль вернулся из Лондона взбешенный, потеряв след Люси, сошедшей с ума, и маленького Андрэ, украденного у него, несмотря на все предосторожности. Не могло быть больше речи об этом ребенке, как наследнике майората; нельзя было заставить Шарля признать его в день свадьбы, так как он исчез бесследно.
Это был настоящий крах, полное крушение! Такие находки попадаются нечасто, нелегко найти доходы в два миллиона! Конечно, влюбленный Шарль все-таки женится, но что будет с майоратом? Трудно будет отделаться от законного наследника, от его собственного ребенка, маленького Андрэ! Лидия, конечно, тоже может иметь ребенка, но будет ли он жить? По мошенническому плану Мобрейля, если Андрэ был бы признан законным сыном Шарля Лефевра и наследником майората, дело можно было свести к простому его исчезновению, что, по привычке к такого рода вещам, не представляло никакого труда для Мобрейля: можно было пустить в ход яд или симулировать несчастный случай. Он быстро нашел бы средство сделать сестру вдовой и наследницей Шарля и Андрэ. Отсутствие ребенка меняло дело. Нельзя было предложить Шарлю признать постороннего ребенка, что же до Андрэ, то единственным препятствием являлась мать. Правда, ее можно было бы скрыть, задержать в Англии до совершения брака. Но где она теперь? Не вынырнет ли она неожиданно, чтобы помешать свадьбе? Все рушилось в руках Мобрейля: приходилось все начинать с начала!
Мобрейль горячо рассказывал сестре о своих неудачах в Лондоне, не замечая, как равнодушно относится маркиза к гибели вместе задуманного преступного плана.
— Итак, — закончил он, — мы проиграли дело, и теперь я не вижу особой надобности тебе выходить за Лефевра. Какую выгоду может дать теперь этот брак?
— Хотя бы ту, что я докажу возможность для меня выйти замуж, — спокойно заметила маркиза.
— Что такое? Не сошла ли ты с ума?
— Нет, к сожалению, я в здравом рассудке.
— Объяснись! Что ты влюблена, что ли, в этого болвана Лефевра?
— Успокойся! Нисколько! Ты думаешь, что единственное препятствие моему браку с Лефевром — исчезновение сына моего жениха и невозможность поэтому признать его моим?
— Конечно! Это он, исчезнув, лишает нас двух миллионого дохода!
— Дело не в этом; препятствие теперь другое. Если бы мы и нашли мальчика, все-таки я не могла бы стать женой Шарля.
— Что же могло бы помешать этому?
— Закон, только закон. Собираются отменить развод, и этот вопрос будет вотирован раньше моего вторичного замужества.
— Что тебе до этого за дело?
— Большое, так как я — не вдова: Люперкати жив! Мобрейль с проклятием вскочил со стула. Лидия рассказала ему о свидании с мужем и об опасности, грозившей ей из-за воскресения того, кого она считала мертвым и погребенным. Мобрейль согласился с нею, что ей надо принимать у себя Люперкати, чтобы не испугать его и не потерять из виду, причем добавил, что, так как маркиз сильно изменился, а в Италии имеются доказательства его смерти, то бояться было бы нечего, если бы он согласился молчать.
— В случае надобности его можно угомонить, — заключил с циничным жестом Мобрейль.
— Что же ты посоветуешь мне? — спросила маркиза.
— Если о твоей свадьбе известно в свете и Шарль Лефевр, представляющий собой хорошую партию, тебе не противен…
— Нисколько, я к нему, кажется, уже привыкла.
— Не особенно привыкай! Мало ли что может случиться? Ребенок еще может найтись. Во всяком случае изменять первоначальный план не следует. Выходи за Шарля и, став его женой, приучи его к мысли взять какого-нибудь ребенка взамен своего потерянного сына; ребенка мы выберем хилого и тщедушного, такого, чтобы его преждевременный конец не возбудил особых сожалений… Понимаешь?
— Да. А что делать с маркизом?
— Предложи ему, если он согласен продолжать свою роль покойника, достаточные средства, чтобы спокойно жить в тишине, оставаясь безмолвным, как могила, где по-настоящему ему и следует давно быть.
— Хорошо. А если он откажется?
— Тогда будет уже мое дело. Итак, сестрица, выходи замуж! Это тем более необходимо, что от твоей свадьбы с Лефевром зависит не только твое благополучие, но и моя безопасность. Я забыл было об этом, когда советовал отказаться от этого брака. Дело в том, что, будучи в Лондоне, я сильно нуждался в деньгах и выдал несколько обязательств, подписав их…
— Моим именем? — перебила Лидия.
— Нет, именем твоего будущего мужа, Шарля Лефевра. Тогда я считал твою свадьбу делом решенным, — спокойно пояснил Мобрейль. — Впрочем, у нас еще два месяца впереди. К этому времени, когда эти векселя будут представлены ко взысканию, ты уже будешь обвенчана, и, конечно, из любви к тебе твой муж заплатит нужную сумму или попросит своего отца, маршала Лефевра, заплатить ее.
— А если он откажет?
— Что ж, тогда будут судить за подлог его шурина, а Шарль Лефевр — человек благоразумный и очень дорожит своим блестящим положением при дворе; он совершенно разошелся со своим отцом и приверженцами Бонапарта. Он не захочет скандала и, конечно, заплатит по векселям. Все дело в том, чтобы тебе обвенчаться с ним. Отделывайся скорее от Люперкати! А впрочем, в случае его сопротивления я обещаю избавить тебя от этого бывшего твоего мужа; только сначала надо действовать добром. Ведь он совершенно разорен и, вероятно, оставит нас в покое, если ему дадут небольшую ренту, которая даст ему возможность спокойно жить где-нибудь, хотя бы в Италии, и умереть на этот раз уже без всякого несвоевременного воскресения из мертвых. Нам нужно от него одно: чтобы ты считалась вдовой и могла снова выйти замуж.
Брат и сестра расстались, и Лидия послала записку своему мужу, прося его зайти к ней.
Люперкати явился почти немедленно. Его любовь к жене вспыхнула теперь с новой силой, и он страдал от ее равнодушия больше, чем от нищеты и своего печального положения. Его удручала потеря этой когда-то боготворимой женщины, такой прекрасной и соблазнительной, больше, чем потеря своего бывшего богатства.
Лидия быстро оценила свою власть над маркизом и передала ему предложение, подсказанное Мобрейлем, со все возрастающим доверием. Люперкати слушал ее, дрожа от волнения; слезы катились по израненному лицу, и дыхание прерывалось в груди, когда он ответил ей:
— Итак, Лидия, ты узнала меня, но не хочешь больше любить? Ты отказываешься вести прежнюю жизнь и хочешь принадлежать другому? Ну нет, этого не будет!
— Но, мой друг, — сказала Лидия, — я говорю вам, что между нами все кончено и не может быть и речи о начале новой жизни. Вы знаете, что я скоро выхожу замуж. Считая вас мертвым, я была свободна и отдала свое сердце другому: не могу же я теперь взять свое слово обратно! Между нами все кончено! Зная вас, я не думаю, чтобы вы захотели злоупотребить моим странным положением жены-вдовы, о котором знаю только я одна! У меня, вы знаете, нет никакого состояния, но я все-таки предлагаю вам скромную ренту, которую будет платить мой будущий муж.
— Я не хочу ее, я не желаю этого! Таких денег мне не надо! — с негодованием крикнул Люперкати.
— Дайте мне кончить. Я хочу, чтобы вы не нуждались и могли жить спокойно в каком-нибудь убежище, которое выберете сами. Вы сражались, как достойный солдат, вас преследовали, травили, вы были в плену. Вам нужны отдых и покой. Все это я в состоянии доставить вам. Чего еще вы хотите?
— Я хочу быть опять твоим мужем, хочу снова иметь тебя своей женой!
— Но ведь это немыслимо! Если мы возобновим наше супружество, то это будет ад, а не жизнь! Или вы не замечаете, какой вы окружены бедностью, нуждою? Этот старый дом, принадлежащий моему брату, описан, и если я не сумею обернуться с теми деньгами, которыми располагаю для свадебных приготовлений, если мне не удастся выкупить его, то меня неминуемо ждет выселение! Все эти старые, выцветшие вещи, уже давно вышедшие из моды, будут описаны приставом и назначены на продажу с молотка, а на дверях появится судебная повестка, возвещающая о разорении той, кто носила имя маркизы Люперкати. Неужели вы были бы способны вести со мной такой ужасный образ жизни? Имеете ли вы возможность приобрести капитал? Ваши имения конфискованы, и вы сами приговорены к смерти в трех государствах. Жизнь во Франции для вас немыслима: вы обязательно привлечете к себе внимание полиции; вы участник заговора и вконец скомпрометировали себя с этим изменником…
— Я верой и правдой служил королю Мюрату, — строго прервал маркиз. — Все храбрые и верные слуги короля — кто бы они ни были — воздадут мне должное и защитят меня.
— Э, полноте! Вся Европа дышит ненавистью и страхом к тем, кто служили узурпатору. Ваше безрассудное участие в предприятии Мюрата и присутствие в этой шайке инсургентов, пытавшихся поднять мятеж в Неаполитанском королевстве, послужат великолепным предлогом для изгнания, и не подлежит ни малейшему сомнению, что французское правительство не замедлит воспользоваться им. Что же тогда станется с нами? И куда мы денемся, изгнанные и разоренные дотла? Что же, мы пойдем нищенствовать по большим дорогам, рискуя быть остановленными и посаженными в тюрьму? Я-то ведь не причастна политике! Я женщина, и мне совершенно безразличны и ваш пресловутый король Мюрат, и все ваши подвиги «чести и веры». Я молода, люблю жизнь и имею полное право на роскошь и то положение в обществе, к которому привыкла с пеленок. Можете ли вы предоставить мне все это? Если «да», то прекрасно: я ничего не имею против того, чтобы снова вступить в права вашей жены; если же — как я полагаю — вы и сами-то стеснены до последней крайности, то что же мне делать с вами?
Люперкати склонил голову, как обвиняемый, которого изобличают на суде в позорных и бесчестных поступках, и тихо промолвил:
— Вы правы, я беден; очень беден.
— А кроме того, повторяю, вы поставлены в такое исключительное положение, что ваша общепризнанная и установленная смерть является вашей единственной защитой и спасением. Благодаря этому вы можете где-нибудь скромно и незаметно дотянуть свою жизнь до конца. Но какое же вы имеете право посягать на мою жизнь? Вы умерли для всех и, значит, умерли и для меня!
Люперкати выпрямился в сильнейшем негодовании и с глазами, налитыми кровью, угрожающе шагнул к Лидии, воскликнув:
— Ты будешь моей!
— Никогда! Уходите! И не смейте больше возвращаться сюда!
— Ты будешь моей женой, или я убью тебя! — И, не дожидаясь ответа перепуганной маркизы, он вышел, но остановился в дверях, глядя на нее через плечо, и кинул сквозь зубы: — Завтра вечером я вернусь за тобой. Мы уедем вместе, а не то — берегись!
Лидия без сил опустилась в кресло и прошептала в ужасе:
— Нет, довольно! На этот раз он должен умереть «на самом деле», как говорит мой брат.
XXXV
По большой дороге то ускоряя, то замедляя шаг шла Люси, убежавшая из заведения доктора Блэксмиса. Она жила одной мыслью, одним желанием: снова увидеть того ребенка, которого она заметила в окно и в котором узнала Андрэ. Моральная встряска, испытанная ею при виде ребенка, долгая ходьба и свежий утренний воздух, казалось, внезапно излечили ее. Она еще не вполне пришла в себя, но вместе с тем ее теперь нельзя было назвать и сумасшедшей. Туман еще окутывал ее разум; ее мысли были неясны и непоследовательны, она с трудом связывала их в общую нить. В особенности же ей изменяли воспоминания. Она словно в разбитом, затуманенном зеркале отыскивала отражение самой себя и своей прошлой жизни.
В ее памяти вставали кое-какие факты и эпизоды, равно как и некоторые лица. Она отчетливо представляла себе Шарля и Андрэ, причем последний неотступно стоял перед ее внутренним взором, Она видела его личико то смеющимся, то испуганным и мучилась вопросом: почему она не с Шарлем, не дома? И почему ее ребенок не с нею? Невольная мысль, как доказательство ее выздоровления, тотчас же возникала в ее мозгу: действительно ли она, будучи больной, видела в окне заведения своего Андрэ, или же это было не что иное, как галлюцинация, плод ее расстроенного воображения? Это сомнение до такой степени замучило ее, что она была вынуждена остановиться и схватиться за голову, стараясь разрешить этот мучительный вопрос! Да, это был он! Галлюцинациям тут не было места! Эта уверенность подбодрила Люси и придала ей силы продолжать дальнейший путь. Она не знала, каким путем шел ребенок, и, идя наугад, подходила уже к предместьям Лондона, но была твердо уверена в том, что встретит своего Андрэ.
Усталось и голод заставили Люси остановиться в одной из придорожных гостиниц. Ее странный вид и блуждающий взгляд обратили на себя внимание хозяев последней, и, заметив это, она поспешила расплатиться из той мелочи, что по правилам санатория доктора Блэксмиса оставалась на руках у больных для их мелких нужд, и, забрав купленную провизию, поспешила убежать как вспугнутая серна.
— Это сумасшедшая! — сказал хозяин, но Люси, обернувшись, крикнула в ответ:
— Вы ошибаетесь! Я не сумасшедшая, а несчастная. Однако этот случай заставил ее призадуматься.
Ее мозг заработал в другом направлении, она поняла, что ей надо следить за собой и ничем, ни словом, ни жестом не привлекать на себя постороннего внимания, чтобы не быть остановленной полицией и отправленной снова в дом для сумасшедших.
Вблизи протекал ручей. Люси подошла к нему и, воспользовавшись им, как зеркалом, распустила свои роскошные волосы, после чего уложила их на голове в красивую прическу, а затем наклонилась над ручьем и, улыбаясь, стала любоваться своим отражением. В ней снова проснулись женственность и присущая ей кокетливость.
— А вы очень хороши! — раздалось вдруг за ее спиной. — Бога ради не шевелитесь, останьтесь в той же позе еще на несколько секунд.
Однако Люси, вспыхнув, уже успела вскочить и собиралась убежать, увидев элегантно одетого господина с альбомом и карандашом в руках.
— Не бойтесь! — снова услышала она. — Быть может, я был нескромен, но вы так очаровательны в этой непривычной обстановке, за своим утренним туалетом, что я не мог удержаться от желания сделать с вас эскиз, который послужит мне потом для большой картины. Простите, я до сих пор еще не представился вам! Я Филипп Трэлаунэй, придворный художник. Позвольте мне, умоляю вас, докончить начатый эскиз!
Люси была более чем сконфужена, но, преодолев смущение, вежливо сказала:
— Мне очень неловко, что вы застали меня за туалетом, по, если вам это так необходимо, то кончайте свой эскиз. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня, кто я такая!
Филипп Трэлаунэй с любопытством взглянул на молодую женщину и подумал:
«Наверное, авантюристка! Я уверен, что она сейчас начнет плести какую-нибудь невероятную историю. Э, не все ли мне равно, лишь бы мне только окончить эскиз. Право, стоит того: она очаровательна!» — и он снова принялся за работу.
Когда он окончил и показал набросок Люси, то она невольно вскрикнула от восхищенья:
— О, какая прелесть! Вы польстили мне, я вовсе не так хороша!
— Ничуть, дитя мое! — ответил художник. — Вы даже лучше. Впрочем, через несколько месяцев вы можете полюбоваться собой в законченной картине, которая будет изображать пикник. Она будет выставлена в Лондоне. Благодарю вас, моя прелестная модель. Скажите, не могу ли я сделать для вас что-нибудь? Позвольте предложить вам пока гинею.
Но Люси в это мгновение снова овладел припадок безумия. Она схватилась за голову и с отчаянием воскликнула:
— Я хочу только одного Андрэ! Моего дорогого Андрэ!
Художник захлопнул альбом и, незаметно опуская золотой в кармашек Люси, подумал:
«Ну, так и есть. Несчастная, покинутая девушка, разыскивающая своего обольстителя по имени Андрэ».
Он с грустью взглянул на молодую женщину и, сев в поджидавший его поблизости экипаж, вскоре скрылся в густом облаке пыли по направлению к Лондону.
Люси простояла еще несколько мгновений словно в столбняке. Наконец ее возбуждение улеглось и мысли пришли в порядок.
«Надо идти, идти, — подумала она, — ведь я должна отыскать сына!»
К вечеру она уже входила в столицу, и по мере того как углублялась в город, в ее мозгу восстанавливалась нить последовательных воспоминаний. Через неделю она разыскала гостиницу «Король Георг».
Хозяин последней очень удивился, увидев ее. Он рассказал ей, что капитан Элфинстон, узнав о ее бегстве из заведения для умалишенных, разыскивал ее, но так как был вынужден уехать во Францию, то и отплыл, надеясь, что и она отправилась туда же. Но вместе с тем он просил послать ему весть во Францию, если его сестра разыщется. Сопровождавший его француз по имени ла Виолетт оставил адрес: дом маршала Лефевра на Вандомской площади.
Люси при этом имени залилась горчайшими слезами. Воспоминание о Шарле больно ударило ее по сердцу. Она подумала, что никогда не будет в силах отправиться на Вандомскую площадь к госпоже Лефевр и никогда не решится узнавать у нее о Шарле. Отчаяние и сознание полного одиночества охватили ее. И брат уехал, и ла Виолетт, который должен был приехать за нею в Лондон… Как-то она справится одна-одинешенька с поисками Андрэ?
Она решила ехать во Францию. Может быть, Шарль объяснит ей причину своего непонятного молчания. Она разыщет его. Раз ее брат на континенте, то он, несомненно, поможет ей. Она несколько раз писала Шарлю в маленький домик в Пасси, между тем в ответ не было от него ни одного письма. Это пугало Люси. Почему он не писал ей в гостиницу «Король Георг»? Во всем этом было что-то непонятное, таинственное, погружавшее несчастную женщину в бездонную пучину тоски и отчаяния.
Она прошла в свою бывшую комнату и взяла сундук с вещами, в котором находилась некоторая сумма денег, взятых ею с собой из Пасси. Отдохнув, она сказала хозяину, что решила отправиться во Францию. Она не могла бы долго оставаться в Англии, так как ей этого не позволили бы средства, но все же она осталась еще на два дня, чтобы еще раз обежать в своих поисках Лондон. Остатки душевной болезни заставляли ее верить в чудо, в счастливый случай, благодаря которому она найдет своего Андрэ. И с этой несбыточной надеждой она бродила по улицам, жадно всматриваясь в лица прохожих.
В первый день она вернулась к себе усталая, но несколько более спокойная: поиски Андрэ и надежда но внезапную встречу с ним придавали ей энергию, вливали в нее бодрящую жизненную струю.
Она уснула с твердым намерением продолжить на следующий день поиски в другой части города.
XXXVI
Утомленная предыдущими поисками, Люси проснулась довольно поздно. Она спустилась в столовую, предупредила о скором отъезде и после легкого завтрака снова наудачу пустилась в попеки.
Спустившись к Темзе, она заметила молоденькую девушку, почти ребенка, продававшую цветы. Люси очень любила цветы, и ей пришла в голову фантазия купить себе букет, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить свои последние минуты в Лондоне. Она подошла к молодой девушке, купила у нее букет, но, расплачиваясь, заметила, что у нее очень грустное личико, и обратилась к ней с состраданием, свойственным тем, кто сам страдает:
— Что с вами, дитя мое? Вы несчастливы?
— О, да! — ответила цветочница. — Скажите, не ошибаюсь ли я: мне кажется, что вы, судя по выговору, француженка?
— Да, я француженка, — ответила Люси, — или, вернее сказать, так долго жила во Франции, что потеряла выговор своей родной страны; ведь я родилась в Дублине. Но почему это интересует вас, дитя?
— Думаете ли вы вернуться во Францию?
— Обязательно, не далее как завтра же.
— О, какое счастье! Не согласитесь ли вы исполнить одно поручение?
Люси, изумленно взглянув на нее, сказала:
— Это довольно странная просьба, ко у вас такое огорченное лицо, что я готова сделать вам хоть что-нибудь приятное. В чем дело?
— Мне хотелось бы переслать во Францию букет. Может быть, тот, кому он предназначается, никогда не получит его и даже никогда не узнает, от кого он, но одна мысль о том, что мой букет будет в доме его родителей, доставит мне большую радость.
— Это верно ваш возлюбленный?
— О, нет! Это один маленький француз. Он уехал к себе, но обещал мне вернуться, когда вырастет и будет свободен.
— Это обещания влюбленных! — вздохнула Люси. — К сожалению, их редко исполняют.
— А я твердо уверена в его слове. Уезжая, он оставил мне вещицу на память; вот и мне хочется теперь отправить ему букет.
— А вы знаете его имя и адрес?
— О, разумеется! Его имя написано вот на этом карандашике, который он мне дал. — И с этими словами молоденькая девушка, которая была не кто иная, как Анни, достала карандашик, полученный ею от Андрэ, и протянула его Люси, причем сказала: — Взгляните! Видите, здесь написано: «Андрэ»?…
Люси громко вскрикнула и схватила карандаш: она узнала его, это был тот самый серебряный карандашик, который она сама подарила однажды Андрэ. Она, как святыню, поднесла его к губам, а потом, схвативши Анни за руку, быстро спросила:
— Откуда у вас этот карандаш? Кто дал вам его? Отвечайте скорее!
— Я же сказала вам, что это от него, от самого Андрэ, молоденького француза, которому я хотела переслать букет!
— Где же он? Когда вы видели его? — вскрикнула Люси вне себя.
— Он уехал во Францию, а потом отправится на корабле на остров Святой Елены.
— О Господи! — простонала Люси. — Я опоздала! — И горькие слезы покатились у нее по щекам. — Послушайте, дитя мое, — обратилась она снова к Анни, — дал ли вам этот мальчик свой адрес во Франции?
— Разумеется, раз я просила вас передать ему букет, или, вернее, передать его в дом его родителей, чтобы они могли написать ему в порт Святой Елены. Ведь, зная об этом букете, он догадается, что я думаю о нем!
— Где этот адрес? — повелительно сказала Люси.
— Вот он, — ответила Анни, вынимая из-за корсажа сложенный листок бумаги.
Люси развернула его дрожащими руками и, прочитав, громко вскрикнула от радости:
— Это он! Это несомненно он! О, моя дорогая, расскажите мне все, что вы знаете о нем!
Анни подробно рассказала ей о встрече с Андрэ и их дружбе, о взаимных обещаниях, о том, что с ним случилось в то время, как он жил у старухи миссис Грэби и во время пребывания в заведении доктора Блэксмиса.
— О, какое счастье! — воскликнула Люси. — Значит, я видела действительно его! Значит, я не грезила и совсем поправилась!
И она снова попросила Анни продолжать ее рассказ. Ей хотелось знать, что сталось с Андрэ после бегства из заведения. Анни сказала, что видела его в последний раз перед отплытием во Францию, когда Андрэ дал ей свой адрес и карандашик и сказал, что отправляется на судне капитана Бэтлера.
— Где же теперь этот капитан? — живо спросила Люси.
Но Анни не знала этого; ей только было известно, что он отправлялся к острову Святой Елены.
— Святой Елены! — прошептала Люси. — Туда же должен идти и мой брат. Я должна немедленно отправиться во Францию, и если мой брат еще не отплыл, то я поеду вместе с ним и постараюсь разыскать моего мальчика и вернуть его. — Говоря это, она горячо поцеловала Анни и растроганно добавила: — Я не знаю, дитя мое, условий вашей жизни, не знаю ваших родителей, но знайте, что если вам понадобятся помощь и дружеская поддержка, то вы смело можете всегда обратиться за этим ко мне. Вернувшись во Францию, я всегда буду готова отблагодарить вас за вашу заботу о моем сыне.
Анни в раздумье грустно поникла головкой.
— Ах, — вздохнула она, молитвенно складывая руки и глядя с мольбой на Люси, — возьмите меня с собой, умоляю вас! Я буду вам самой преданной служанкой; я готова питаться чем попало, лишь бы вы позволили мне следовать за вами и помочь вам разыскать Андрэ.
— Но ваши родители…
— Я сирота, живу у одной старухи, которая посылает меня продавать цветы. Я ненавижу ее! Вы окажете мне благодеяние, избавив меня от нее.
— Ну, пусть же будет по-вашему, — сказала подумавши Люси. — Пойдемте со мной в гостиницу; мне нужно позаботиться о вашей одежде.
— О, как я счастлива! — радостно воскликнула Анни, а затем выбрала два букета, один из них предложила Люси, другой оставила себе, потом подбежала к старому нищему, сидевшему у стены, и, кинув ему на колени остальные цветы, сказала: — Возьмите эти цветы, дядюшка Мэтью, и продайте их! Я отдаю их вам с условием, что вы пройдете к миссис Грэби и скажете ей, что я больше не вернусь к ней и что я очень, очень счастлива!
После этого Анни вернулась к поджидавшей ее Люси, и они обе отправились в гостиницу «Король Георг»,
XXXVII
Наступил день так долго откладываемого брака вдовы маркиза Люперкати с Шарлем Лефевром. Шарль с каждым днем влюблялся все сильнее и сильнее. Он приложил все старания, чтобы устранить многочисленные препятствия, и это ему наконец удалось. В этот самый день был заключен между ними гражданский брак, а через день должен был состояться и церковный в приходе невесты, Сен-Тома д'Акэн.
В это утро невеста долго разговаривала со своим братом, графом де Мобрейлем, взявшимся отвести от нее крупную опасность.
Люперкати успел уже несколько раз явиться в дом Лидии и настойчиво требовал личного свидания. Маркиза каждый раз принимала его, следуя советам брата, который говорил, что не нужно раздражать его отказами, так как это может повести к нежелательным последствиям и вызвать со стороны маркиза крупнейший скандал.
Лидия в жизни была довольно талантливой актрисой и до сих пор неизменно уверяла мужа, что в глубине души ничуть не изменилась к нему и сохранила прежнюю нежность и привязанность, но что, несмотря на это, не имеет достаточно силы воли и характера, чтобы открыто заявить перед всем высшим светом, с нетерпением ожидавшим ее брака с Шарлем Лефевром, что ее муж жив, и потому ее брак не может состояться. Но при этом она убаюкивала маркиза надеждой, что если он смирится и ничем не проявит себя, соглашаясь сойти за мертвого, каковым он официально и значился, то, быть может, наступит день, когда она согласится бежать с ним в полную безвестности новую, замкнутую, скромную жизнь с воскресшими воспоминаниями о первых днях блаженства, испытанного ими в свое время, при вступлении в брак.
Люперкати слушал эти лживые обещания со смешанным чувством радости и горечи. В глубине души у него теплилась слабая надежда на то, что Лидия способна осуществить свои планы и позже бежать с ним, но в то же время он прекрасно сознавал, что она стоит за заключение нового брака, что она ни за что не желает отказаться от него и с удивительным бесстыдством и наглостью морочит все общество, выдавая себя за вдову, хотя прекрасно знает, что ее муж жив и невредим и имеет слабость по-прежнему любить ее.
Однако же он почему-то ощущал некоторое умиротворение и соглашался до сих пор молчать о своем существовании. Но накануне брачной церемонии он потребовал от Лидии нового свидания, на что она скрепя сердце вынуждена была согласиться.
Приближение рокового дня, когда его жена должна была сделаться супругой другого, донельзя измучило и взвинтило нервы Люперкати и заставило его потребовать от жены, чтобы она обязательно назначила ему свидание между днем гражданского брака и днем церковного венчания. Он предоставил ей выбор места тайного свидания, но потребовал, чтобы она принадлежала ему, ставя это условием его молчания, в противном же случае грозился вызвать небывалый скандал, явившись в церковь как раз во время брачной церемонии и открыто, громогласно обличить свою жену в сознательном двумужестве.
Лидия возмущалась и протестовала, стараясь отговорить своего мужа от этой мысли, но все было напрасно — он твердо стоял на своем.
Видя, что никакие уговоры не помогают и желая выгадать время, Лидия обещала, что назначит ему завтра место свидания и ответит через посланного.
Это обещание несколько успокоило Люперкати; он ушел, пригрозив еще раз на прощание, что в случае, если его жена не сдержит завтра своего обещания, он обязательно со скандалом расстроит ее предполагающийся брак, а так как высший свет никогда не простит ей подобного скандала и она навеки погубит себя в его глазах, то он советовал ей хорошенько поразмыслить, а не действовать очертя голову.
Лидия поспешила передать этот разговор своему брату и попросила его совета.
— Да это какой-то сумасшедший! Животное какое-то! — воскликнул граф. — Какое несчастье, что он не убит! Ведь посадили же его австрийцы в тюрьму, как же они не сумели уберечь его там? О, надо во что бы то ни стало выйти из этого рокового тупика!
— Найди выход! — молила Лидия.
Мобрейль стал нервно ходить по комнате, ломая голову над этой задачей. Его суровое лицо приняло еще более жесткое, злобное выражение. Наконец он холодно улыбнулся и торжествующим тоном произнес:
— Нашел! Тебе необходимо идти на это свидание.
— Что ты говоришь? — ужаснулась Лидия. — Ты, по-видимому, совсем не знаешь Люперкати; он крайне несдержанный! Кроме того, он уверяет, что любит меня больше прежнего. Если я явлюсь на это свидание, то мне придется подчиниться его требованиям, а этого я совершенно не могу допустить!
— Это и не требуется! — спокойно ответил Мобрейль. — Хотя и говорят, что цель оправдывает средства, но в данном случае я нахожу это излишним; надо только заманить твоего мужа на это свидание, а явиться на него может и другая личность…
— Не понимаю.
— Однако это очень просто: вместо тебя в назначенном месте встречу его я с Этьеном. Это довольно солидный компаньон.
— Ага, начинаю понимать! Ты пригрозишь ему, заставишь молчать, потребуешь, чтобы он оставил меня в покое и уехал отсюда!
— Вот именно. Я выскажу ему все это и надеюсь, что добьюсь благоприятных результатов.
— Но согласится ли он?
— Я думаю предложить ему довольно значительную сумму денег, — конечно, ты предоставишь ее в мое распоряжение — с тем условием, чтобы он отказался всецело и навсегда от каких бы то ни было прав на тебя, и заставлю его подписать бумагу, в которой будет сказано, что он действительно лично знал маркиза Люперкати и участвовал с ним в восстании Мюрата, но что маркиз был смертельно ранен в схватке в Пиццо, что дало ему идею выдать себя за умершего маркиза и вернуться во Францию, с тем чтобы пользоваться от тебя путем вымогательства денежной поддержкой. Кстати сказать, ведь по дороге в Сорренто был подобран труп, одетый в платье маркиза, и в его карманах были найдены документы, подтверждающие личность убитого. Так что на этот счет не может быть затруднения. Таким образом, когда я заручусь распиской и подписью этого воскресшего мертвеца, то он не будет уже в состоянии вредить тебе и нарушать твой покой.
— Прекрасно задумано! — одобрила Лидия. — Но если он откажется от этой сделки?
— А если он откажется, то Этьен заставит его навеки позабыть, что некогда жил маркиз Люперкати, — ответил граф, мрачно улыбаясь.
Лидия, невольно вздрогнув, произнесла:
— Неужели вы его…
— Увидим! — холодно прервал Мобрейль. — Все зависит от обстоятельств. Теперь все дело за тем, чтобы назначить ему место свидания и чтобы он пришел туда без тени подозрения, а искренне надеясь на то, что ты согласилась еще хоть раз, хоть на час принадлежать ему. Место должно быть выбрано укромное, в котором мы с Этьеном могли бы без помехи и стеснения поставить ему наши условия. Ну-с, Лидия, за дело: пиши записку!
Лидия тотчас же села за письменный столик и взялась за перо.
— Надо так составить, — сказал Мобрейль, — чтобы не было, во-первых, лишних слов, а кроме того, чтобы эта записка не могла скомпрометировать тебя, если она случайно попадет в чужие руки. Начни так: «Придите сегодня в одиннадцать часов вечера». Ах, черт возьми, надо же выбрать место! Необходимо, чтобы оно было достаточно отдаленное, чтобы, если раздадутся крики, они не привлекли ничьего внимания. Но вместе с тем, дабы не возбудить подозрений Люперкати, необходимо, чтобы это было закрытое помещение. Если ты назначишь ему свидание на чистом воздухе, то он сразу поймет, что здесь что-то не так. Нам нужен дом… комната… Но где найти ее?
Мобрейль снова быстро зашагал по комнате, стараясь подыскать необходимое.
— Я нашла! — вдруг вскрикнула Лидия. — Именно то, что нам требуется: пустой дом! Помнишь тот дом в Пасси, где жил Шарль с англичанкой? Ну, тот, откуда мы взяли ребенка и разогнали слуг…
Мобрейль громко расхохотался и воскликнул:
— То есть это удивительно! Только женщины способны находить такие подходящие места для любовных свиданий! Милая моя сестричка, ты совершенно права: это именно то, что нам требуется. Ключи у тебя? Дай мне их! Ну, кончай же свою любовную записку! Пиши: «Приходите в Пасси»… Как называется улица?
— Улица де Винь. Дом окружен решеткой, а по бокам посажены тополя.
— Великолепно! Так и напиши, а потом запечатай и тотчас же пошли по данному Люперкати адресу, на улицу Сент-Оноре, я же, со своей стороны, приготовлюсь к встрече с твоим мужем!
Сказавши это, Мобрейль поцеловал руку сестры и ушел, очень довольный тем, что он нашел способ заключить брак Лидии и одновременно с этим покончить с тем, что он называл неприятной семейной историей.
Получив записку, Люперкати в первое мгновение просиял от счастья, но, перечитав внимательнее, подумал, что его обожаемая Лидия уступила, очевидно, под влиянием страха скандала. Записка была коротка и возмутительно суха. Ясно, что она разлюбила его и ее согласие на свидание было вынужденным согласием мученицы и жертвы.
Маркиз задал себе вопрос: благородно и порядочно ли с его стороны принять от нее подобную жертву? Мучаясь мыслью, что любимая им женщина скоро будет принадлежать другому, он потребовал этого свиданья с целью унизить, покарать изменившую ему женщину. Но теперь, когда она уступила, он стыдился своего поступка и глубоко сожалел, что предъявил ей такие тяжелые требования. Он решил, что почувствует себя спокойнее, если не воспользуется вынужденным согласием Лидии, которая неминуемо почувствовала бы к нему отвращение и ужас после этого насилия. Да и что отрадного могло бы представить для него это неразделенное обладание? Он пойдет на это свиданье, увидит ее еще один раз, услышит звук ее голоса, побеседует с нею, как говорят у постели умирающего с теми дорогими нам существами, с которыми нам предстоит расстаться навеки, а потом исчезнет с ее пути, и она больше никогда не услышит о нем… Он будем безгранично страдать, но зато у него будет утешение, что он не оскорбил той, которую горячо любил; это даст ему возможность надеяться, что она сохранит в своем сердце хоть немного сожаления и симпатии к нему, а может быть, и раскаяния… Да, он пойдет в Пасси, в обозначенный в записке дом, но только для того, чтобы сказать:
— Я любил тебя, люблю тебя и теперь в доказательство не прошу от тебя ничего, ничего, кроме последнего «прости»!
Порешив на этом, Люперкати отправился в Пасси. Он пошел пешком, так как состояние его кошелька не позволяло ему взять экипаж; между тем ему хотелось прийти засветло, чтобы знать, когда наступит время свиданья, куда ему идти. Он довольно легко разыскал дом, обозначенный в письме. Окна были раскрыты, а между тем никто в них не показывался.
«Лидия, верно, услала куда-нибудь людей, — подумал он, — и устроилась, чтобы нам быть одним. Итак, до вечера! Теперь я уже знаю дорогу».
Он пришел в Отэйль, зашел в гостиницу и велел подать себе вина, хлеба и сыра.
«Скромная трапеза! — грустно улыбнувшись, подумал он, — но те, кто идут на последнее свиданье, напоминающее собой вечную разлуку, обязаны поститься; ведь, умерщвляя свою душу, поневоле умерщвляешь и свою плоть».
XXXVIII
Люси сразу же по возвращении во Францию отправилась с Анни в Пасси. Она вернулась взволнованная, но довольная тем, что видит родной ей дом. Занавески на окнах были задернуты, и дом казался нежилым, но Люси не удивилась этому. Она подумала, что Шарль, вероятно, распустил прислугу, но надеялась, что кто-нибудь из них догадался, может быть, оставить какой-нибудь адрес или указание. Надо было посмотреть.
Она спокойно и доверчиво вставила ключ в замок и открыла дверь. Анни с удивлением и некоторым беспокойством шла за нею. Она очень быстро освоилась с переменой своего положения и казалась очень милой и почти элегантной в одежде, купленной для нее ее новой благодетельницей.
Люси нашла дом в большом беспорядке и запустении, ничто не указывало на то, что Шарль посещал этот дом, как не нашлось и адреса хотя бы одного из отпущенных слуг. Обойдя все комнаты и твердо убедившись в этом, Люси опустилась в кресло и глубоко задумалась. Для нее было полной загадкой упорное молчание Шарля, то, что он не ответил ни на одно из ее писем, тогда как так легко было написать в гостиницу «Король Георг». Что с ним? Куда он девался? Он точно сквозь землю провалился.
Политическое событие, о котором говорил ей ла Виолетт, и процесс, касающийся Шарля, должны быть уже закончены. Перед своим поступлением в лечебницу она разговаривала с братом о политическом движении во Франции, и брат сказал ей, что не было никаких значительных арестов, а жизнью поплатился лишь один маршал Ней, который был казнен.
Люси необходимо было разгадать эту тайну, но помочь ей в этом мог лишь один Шарль. Следовательно, было необходимо снова написать ему, так как она непременно хотела видеть его.
Предполагая даже, что он разлюбил ее и хотел с нею расстаться (это подозрение невольно зародилось в душе Люси), и то надо было думать, что он не мог отказать ей в личном свидании и последнем объяснении. И наиболее подходящим местом для этого тяжкого объяснения являлся, конечно, тот дом, где она провела с Шарлем столько счастливых лет. Пусть он вернется хоть на несколько минут в их прежнее счастливое гнездышко. Он не посмеет отказать в этой просьбе той женщине, которую некогда горячо любил. Наконец, если он так изменился к ней, Люси, то неужели можно допустить мысль, что он был бы способен охладеть вместе с тем и к Андрэ? Нет, он обязательно придет, хотя бы для того, чтобы услышать о ребенке.
Люси поспешила написать Шарлю записку, в которой сообщала о своем возвращении и умоляла его прийти хоть на несколько мгновений. Она сообщала, что дело идет о розыске ее сына, что она знает место, куда увезен их ребенок, но что только он, отец, может с помощью своих связей и друзей вернуть его матери.
Окончив записку, Люси задумалась над тем, кто доставит ее по назначению? Необходим был верный человек, но откуда взять его? У нее мелькнула было мысль об Анни, но так же быстро прошла, как и пришла: Анни не говорила по-французски, мыслимо ли было пустить ее одну по незнакомым улицам Парижа? Поэтому Люси решила лично отнести это письмо в дом госпожи Лефевр. Ее никто не знал, значит, она могла расспрашивать прислугу без всякого стеснения.
Но так как Шарль мог тотчас же по получении ее письма отправиться в Пасси и, может быть, даже опередить ее, то она решила оставить Анни дома, чтобы она могла задержать Шарля и сказать, что Люси скоро придет обратно.
Анни обещала в точности исполнить полученные приказания, но просила Люси скорее вернуться обратно, так как ей будет очень жутко одной в пустом доме. Люси успокоила ее, поцеловала на прощанье и ушла.
Ей пришлось идти пешком до самой заставы, где она наконец нашла экипаж и велела везти себя на Вандомскую площадь.
Доехав до красивого дома, в котором жила герцогиня Данцигская, она вышла из кареты, не без внутренней дрожи подошла к внушительного вида швейцару и передала ему письмо, сказав:
— Для господина Шарля Лефевра, очень важное!
Говоря это, она с тревогой всматривалась в лицо швейцара, думая: «Если Шарля нет, если он в тюрьме или болен, если он даже умер, то я и без слов пойму все по одному виду этого человека».
Но швейцар с равнодушным видом взял письмо и ответил:
— Молодой хозяин получит ваше письмо не скоро, так как сейчас же после торжества он уезжает в свои поместья.
— А, так он уезжает? — дрожа переспросила Люси.
— Ну, да, — ответил тот, — как же иначе? Ведь у господ так уже принято, чтобы после свадьбы уезжать куда-нибудь. Если вам очень к спеху, так лучше всего отправьте свое письмо по почте, адресовав его в Комбо. Там молодой хозяин собирается провести медовый месяц.
Люси почувствовала при этих словах, что вот-вот на нее опять найдет приступ сумасшествия. Боясь показать швейцару свое отчаяние, ужас и боль, она чуть не стремглав бросилась в карету, приказав извозчику отвезти ее в Пасси.
По дороге она кое-как справилась с охватившим ее волнением и сумела заставить себя разобраться в создавшемся положении. Словно перед нею вдруг отдернули занавес, и истина, так долго скрываемая от нее, вдруг предстала во всей своей трагической обнаженности. Теперь все понятно! Все поведение Шарля легко объясняется этим браком! Он хотел просить ее, но не имел силы или смелости сделать это открыто; он внезапно скрылся и заставил уехать также и ее. И невольно она спрашивала себя: не был ли Шарль сообщником негодяев, похитивших ее сына? Она вспомнила свой разговор с Мобрейлем, вспомнила, как тот требовал от нее, чтобы она отступилась от Шарля и от Андрэ. Неужели же эта наглая махинация доведена действительно до этих пределов подлости?
Люси даже вздрогнула от мысли, что ее сына похитили с целью облегчить возможность брака Шарля с неведомой ей соперницей, но, вспомнив рассказы Анни, решила, что Шарль не мог ни с какой стороны быть замешан в историю похищения ее сына. Значит, дело тут было в чем-то другом.
Но очевидным фактом была женитьба Шарля. На ком он женился? В сущности, это мало касалось ее, но, вероятно, от него скрыли похищение Андрэ, Что же, приходилось заставить смолкнуть стоны сердца и выдвинуть вперед нежность матери, приходилось думать не о потерянных навсегда радостях любви, а о счастье сына. Значит, надо написать Шарлю, сообщить ему обо всем, заставить принять участие в розысках пропавшего Андрэ.
Люси сейчас же взялась за перо и написала следующее письмо:
«Шарль! Я не упрекаю тебя ни в чем. Я знаю, что ты уже не любишь меня более и что другая владеет ныне и твоим именем, и твоим сердцем! Но я была в таком отчаянии. Тебя не было со мной, когда я узнала, что нашего дорогого Андрэ похитили какие-то негодяи. Не дожидаясь тебя, я бросилась искать его; ведь меня уверили, будто ты сидишь в тюрьме! К сожалению, все мои поиски остались без результата. Андрэ будет навсегда потерян для нас, если ты не займешься его розысками. Его отправили на остров Святой Елены — вот что мне удалось узнать. Я вернулась в Париж, чтобы вместе о тобой продолжать розыски, но здесь узнала печальную новость… Шарль! Если ты и разлюбил, забыл меня, то, наверное, все еще любишь нашего Андрэ; ты не оставишь его на этом далеком острове и вернешь его мне! Я верю в это! Прощай, будь счастлив! Люси».
Она вышла вместе с Анни, чтобы отправить письмо. Это было почти путешествием — пришлось идти в самый центр города.
После отправки письма Люси и Анни зашли в гостиницу и пообедали там; была уже ночь, когда они наконец вернулись домой. Люси, заметив, что девушка боится и все спрашивает, не водятся ли здесь поблизости разбойники, сказала ей:
— Мы запремся в комнате наверху. К тому же у нас под рукой будут пистолеты, и если кто-нибудь вздумает забраться в дом, то станем стрелять: это испугает воров и привлечет внимание соседей. Так что ты не бойся, Анни! Да и эта местность очень тихая; здесь никогда не слышно ни о каких разбоях.
Люси и молодая девушка улеглись спать и вскоре заснули. Вдруг среди глубокой ночи их разбудил какой-то шум, похожий на то, как если бы кто-нибудь пытался забраться в дом. Анни проснулась, прислушалась и, толкая Люси, шепнула:
— Кто-то ломится к нам!
Та проснулась и тоже прислушалась. Она ясно слышала тяжелые мужские шаги в нижнем этаже.
— Это Шарль! — весело воскликнула Люси.
Но тут же она подумала, что он еще не мог получить ее письмо; если записка, оставленная у швейцара, даже и попала случайно в его руки, то он не стал бы бродить по нижнему этажу, а поднялся бы наверх, позвал бы ее, а не стал бы так без толку бродить по комнатам.
Люси прижалась к дрожавшей Анни и сказала:
— Боже мой! Что еще за несчастье ждет нас теперь? Что могло понадобиться здесь человеку глубокой ночью? Что делать? Может быть, позвать на помощь?
Анни шепнула Люси:
— А пистолеты?
— Да, да! Но давай прислушаемся. Может быть, лучше будет не поднимать тревоги. Если это обыкновенный жулик, то он найдет дом необитаемым и спокойно уйдет, выбрав себе что-нибудь из вещей. Молчи, дорогая моя крошка, и не бойся! Главное — не будем двигаться, чтобы не выдать своего присутствия!
Люси осторожно встала и села на кровать; Анни последовала ее примеру. Они стали прислушиваться и ждать событий.
Прошло около часа. Люси стала успокаиваться: рассудок говорил ей, что если это и мазурик, то какой-то необыкновенный, так как он в течение часа методически прохаживался из столовой в гостиную и обратно. Может быть, он просто поджидал сообщников? Да, в таком случае все-таки лучше подождать еще и не выдавать своего присутствия.
Вдруг, словно в ответ на ее мысли, послышался шум шагов с улицы, и в дом вошли два человека. Они резко распахнули дверь, прошли в вестибюль, и вскоре оттуда раздался шум голосов: там, видимо, разыгрывалась какая-то ссора. Люси опустилась на пол, приложила ухо к паркету и стала прислушиваться.
— Это западня! — возмущался какой-то голос. — Но берегитесь, негодяи! Хоть я и без оружия, но наставлю вам таких синяков, так расцарапаю лицо, что вас все равно найдут и повесят.
Послышался другой голос, показавшийся Люси страшно знакомым:
— Ты умрешь, если не подпишешь эту бумагу!
— Нет, я не подпишу! — ответил первый — тот, кто кричал о расставленной ему западне.
— Тогда нам остается только одно. Ты не выйдешь живым отсюда! — возразил второй голос. — Или согласись добром, или готовься к смерти!
— Когда вы убьете меня, — сказал первый, — то меня станут искать и найдут вас. И тогда берегитесь — полиция поинтересуется, с какой целью заманили в этот покинутый дом и убили маркиза Люперкати! — За этими словами последовала пауза, после которой голос продолжал: — Да, негодяи, мне неизвестно, кто вы такие, но я отлично знаю, что вы стараетесь за плату, предложенную вам моей распутницей-женой, этой негодяйкой, голова которой скатится на эшафот вместе с вашими!
Голос, казавшийся знакомым Люси, возразил:
— Вы ошибаетесь, дружочек! Во-первых, пока еще абсолютно не доказано, что вы и на самом деле маркиз Люперкати. Официально известно, что бедный маркиз умер давным-давно в Италии. Бумага, которую мы предлагаем вам подписать, содержит в себе только ваше подтверждение смерти маркиза Люперкати. Но как бы вы ни выдавали себя за покойного маркиза, а это ни к чему не приведет. Если же мы твердо намерены так или иначе устранить вас, то делаем это исходя из того, что всегда найдется злонамеренный человек, готовый принять на веру самую лживую басню, чтобы иметь возможность порочить благородное семейство. Чтобы обезопасить себя от этого, мы решили либо добиться вашей подписи, либо стереть вас с лица земли. Да ну же, подписывайте! Довольно ломаться! Это ни к чему не приведет!
— Я не подпишу! — энергично ответил тот, кто назвал себя маркизом Люперкати.
— Ну, что же, раз вы не хотите подписать, то придется лишить вас возможности когда-либо в жизни злоупотреблять именем Люперкати! Этьен, — прибавил говоривший, обращаясь к своему соучастнику, — приготовь-ка веревку! Скрути мне этого молодца, и, если он откажется подписать окончательно, тогда мы придушим его!
Этьен достал из кармана веревку и подошел к маркизу. Но тот инстинктивно отступил к стене и воскликнул:
— Мой труп доведет вас до эшафота!
— Твой труп, — возразил иронический голос, — на этот раз будет засыпан порядочным количеством земли, чтобы ты не мог еще раз потревожить нас из могилы! Выслушай меня и пойми же наконец свое положение и свою выгоду. Никому и в голову не придет искать тебя в этом доме, уже покинутом и нежилом, в этом саду, уже давно не возделываемом, и пройдут долгие годы, пока случайно не дороются до твоего иссохшего скелета. Твой труп зарастет травой, цветами; может быть, даже какое-нибудь деревцо примется на этом месте. Никогда — слышишь ли? — никогда не откроют того, что произойдет здесь. Подумай над этим, пока не поздно! Этьен, веревку!
Этьен ловким движением накинул свое лассо на шею маркиза. Последний хотел вывернуться, но Этьен затянул узел, и Люперкати задыхаясь сделал инстинктивное движение рукой.
— Ослабь, Этьен! — скомандовал второй голос.
Люперкати мог теперь перевести дух и крикнул:
— Вы убийцы, негодяи! Я не подпишу, и никакая сила в мире не будет в состоянии заставить меня отказаться от того, что я — маркиз Андреа Люперкати!
— Ну, так пеняй же на самого себя! — ответил ему голос.
В его бешеных интонациях Люси снова почувствовала что-то страшно знакомое: ведь и с ней кто-то говорил совершенно таким же образом… Ну, конечно! Это… это… это Мобрейль!
Она поборола свое волнение и робость, схватила пистолет, подбежала к окну и, высунувшись на улицу, выстрелила, закричав:
— Помогите! Убивают! Помогите!
Почти сейчас же выходная дверь хлопнула и на улице послышался шум чьих-то быстро удалявшихся шагов. Люперкати был спасен!
XXXIX
Пистолетный выстрел, обративший в бегство убийц и освободивший маркиза Люперкати, поразил последнего не менее, чем произведенное перед тем нападение. Он не мог понять, кто мог прийти ему на помощь в такой критический момент, и хотел собственными глазами увидеть этого таинственного спасителя. Поэтому он поднялся по лестнице на верхний этаж, закричав:
— Кто бы ни были вы, пришедшие ко мне на помощь, ответьте: где вы?
— Мы здесь! — ответила ему Люси, одеваясь на скорую руку.
— У вас есть свет? — спросил Люперкати.
Люси принялась зажигать лампу, и, когда маркиз вошел в комнату, она не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть при виде изборожденного рубцами лица Люперкати.
— Не бойтесь, — сказал тот, — я-то не убийца! Но как могло случиться, что вы очутились здесь?
— Это мой дом, — ответила ему молодая женщина. — А вот вы скажите, каким образом вы забрались в чужой дом и что значит ваше присутствие здесь? Что вам нужно у меня?
— Тут безусловно какая-то тайна, — ответил Люперкати. — Но разве я не в доме маркизы Лидии Люперкати?
— Нет! Меня зовут Люси Элфинстон.
— И вы не знаете этой дамы?
— Я даже никогда не слыхала этого имени!
— Это ужасно странно! — пробормотал маркиз. — Я маркиз Люперкати!
— Вероятно, родственник этой дамы?
— Ее муж!
Люси даже вскрикнула от удивления — таким непонятным показалось ей, что муж явился к ней в дом искать свою жену.
— Видите ли, — сказал маркиз, — было бы слишком долго, если бы я стал рассказывать вам свою историю и приводить те основания, в силу которых я явился к вам в дом. Скажу только, что свидание здесь назначила мне жена, я и думал, что этот дом принадлежит ей или кому-нибудь из ее знакомых. Вижу, что я ошибался на этот счег. Во всяком случае ясно только одно, что в этом доме моя жена рассчитывала устроить мне западню. Но почему именно в этом доме? Почему именно у вас подстроили мне эту западню, когда вы даже не знакомы с моей женой?
— Ничего не могу сказать вам на это, — ответила Люси. — Я не только не знаю этой женщины, но и вообще только что вернулась после продолжительного отсутствия.
— Ах, так вас не было здесь? Это уже начало некоторого объяснения! Очевидно, было известно, что дом покинут, однако о вашем возвращении эти господа еще не были осведомлены. Но все-таки мало ли покинутых домов? Почему выбран именно ваш дом?
— Отчасти это понятно. Мой отъезд в Англию был вызван надеждой разыскать ребенка, похищенного у меня тем самым негодяем, который только что собирался лишить вас жизни. Я узнала его по голосу; это граф де Мобрейль.
— Мобрейль! — вскрикнул маркиз. — Так это был Мобрейль, брат моей жены, маркизы Лидии Люперкати!
— Ее брат? Но тогда здесь безусловно должна быть какая-то связь!
— Разберемся, — сказал Люперкати. — Что вы знаете о графе де Мобрейль?
— Я знаю только, что он грозил мне похищением моего сына и что это похищение удалось ему. Ночью, во время моего отсутствия, он забрался сюда и похитил маленького Андрэ.
— Но для чего ему это было нужно?
— Он затеял подлую махинацию. Мобрейль хотел воспользоваться моим ребенком для того, чтобы устроить нужный ему брак. Как и что — это я не могла себе уяснить. Но он хотел во что бы то ни стало женить моего друга, моего мужа по английским законам, отца моего ненаглядного Андрэ, на другой женщине.
— Вы знаете имя этой женщины?
— Нет, маркиз.
— А этот брак уже состоялся?
Люси залилась слезами и ответила:
— К сожалению, да, маркиз! Сегодня!
— Сегодня! — вздрогнув, воскликнул Люперкати. — Вы уверены в том, что вы говорите?
— Увы, совершенно уверена, маркиз! Я была сегодня в доме родителей моего мужа Шарля Лефевра и узнала от швейцара, что он сегодня утром женился на другой.
— Шарль Лефевр! Боже мой! — воскликнул Люперкати. — Теперь все ясно, все понятно! Ведь та самая маркиза Лидия, о которой я говорил вам, которая хотела убить меня… Разве вы сами все еще не догадываетесь? Разве вы не поняли уже, что на ней-то и женил Мобрейль вашего мужа?
Люси отчаянно вскрикнула и с ужасом заговорила, схватив маркиза за руки:
— Я все еще сомневалась, я все еще надеялась, что тут какая-то ошибка. Неужели же все кончено? Неужели же бедный Андрэ навсегда потерян для меня?
— Как знать? — мрачно ответил ей маркиз. — Но, — сказал он после короткой паузы, — замешан ли сам Шарль Лефевр в этом заговоре? Находится ли он в курсе всех ухищрений Мобрейля и его достойной сестрицы?
— Я ничего не знаю, маркиз. Я еще не видала Шарля и не получала от него писем.
— И вы даже не пытались увидать его, потребовать от него объяснений?
— Но ведь я уже сказала вам, что мне пришлось сломя голову броситься в Англию на поиски сына, и я вернулась только сегодня.
— Ну что же! — сказал Люперкати. — Возможно, что еще не все потеряно ни для меня, ни для вас! Скоро и для нас взойдет солнце!
После этого он обратился к Люси с просьбой снабдить его оружием, а затем, попросив молодую женщину быть готовой последовать за ним, когда это окажется нужным, осторожно, на цыпочках вышел из дома.
Едва-едва занимался день, когда маркиз добрался до улицы Сен-Доминик, где находился дом Лидии Люперкати. Она еще жила там в ожидании церковного брака, но благодаря совершению гражданского обряда венчания официально именовалась уже женой Шарля Лефевра. Последний сейчас же после гражданского брака отправился в Комбо, чтобы подготовить там все к торжественному приему гостей и пребыванию с женой после венчания в церкви.
Люперкати прошел вдоль стены дома, дошел до места, где выпавшие кирпичи давали некоторую опору для ног, и с помощью свисавших сучьев деревьев кое-как взобрался на вершину стены, а затем осторожно соскочил в сад и внимательно огляделся по сторонам.
Весь дом был погружен во мрак, и только в комнате Лидии горел огонь. Маркиз взглянул на окна ее комнаты, и в его глазах засверкал огонь бешенства и мести, когда он пробормотал:
— Ну же, вперед! Тут не может быть никаких колебаний и размышлений! То, что я собираюсь сделать, вполне правильно и справедливо!
Затем, стиснув курок пистолета, взятого у Люси, он направился к балкону.
Стеклянная дверь была закрыта. Маркиз прошел вдоль балкона и осторожно постучал в окно.
Не прошло нескольких секунд, как занавеска поднялась и у окна появилась Лидия со свечкой в руках. Она приложила лицо к стеклу, чтобы разглядеть, кто это стучится к ней так поздно, узнала мужа и, слабо вскрикнув, снова опустила занавеску.
Люперкати снова еще настойчивее постучал в окно. Оно открылось.
— Что вам нужно? — спросила Лидия. — Не подходите, или я позову людей!
— Я подойду, но вы никого не позовете, потому что стоит вам раскрыть рот, и вы будете трупом! — И с этими словами он прицелился в Лидию. Та отскочила назад, а маркиз вошел в комнату и, положив пистолет около себя на камин, сказал жене: — Вы не ждали меня? Положим, я слишком часто воскресаю из мертвых! На этот раз вы считали меня окончательно, бесповоротно мертвым, но подосланным вами убийцам не удалось затеянное дело. Теперь я здесь, теперь ваш черед дрожать за свою жизнь!
— Уйдите сейчас же, или я крикну людей!
— Еще раз повторяю вам, что стоит вам раскрыть рот, чтобы крикнуть, и вас не будет больше на свете. Ну, а если вам даже и удастся позвонить, как вы сейчас было собрались, так знаете ли вы, кто придет на этот звонок? Придут жандармы, полиция, потому что я сумею оповестить весь мир, как маркиза Люперкати подстраивает ловушки в покинутых домах и посылает туда убийц, готовых освободить ее от мешающего ей мужа! Не беспокойтесь, у меня имеются два свидетеля, и один из них тот, кто спас меня от рук убийц. Вы хорошо знаете его: это мать украденного вами ребенка, жена вашего мужа, Шарля Лефевра!
Лидия смутилась и едва пролепетала:
— На что вы намекаете? Ведь не будете же вы продолжать настаивать на своих смешных претензиях. Раз вы здесь, значит, вы дали подписку, что не имеете ничего общего с моим покойным мужем.
— Нет, я никакой подписки не давал! Я отказался дать вашему достойному братцу те гарантии, которых он требовал у меня, я являюсь по-прежнему маркизом Люперкати; вы по-прежнему моя жена, и ваша свадьба с Шарлем Лефевром нуль, полнейший нуль, и больше ничего! Но этот нуль чреват для вас опасными последствиями: во-первых, вы можете подвергнуться преследованию за двоемужество, а во-вторых — за покушение на убийство, чему, повторяю, у меня имеются свидетели!
Лидия схватилась за голову и пробормотала:
— Что же вам нужно от меня? Я полагаюсь на ваше великодушие. Подумайте Андреа! Ведь я верила в вашу смерть, считала себя вправе распоряжаться и сердцем, и рукой! Сжальтесь надо мной, Андреа! Вспомните, как когда-то вы любили меня! Дайте мне пожить так, как я давно уже мечтаю. Поверьте, что я буду заботиться о вас и вы никогда не будете ни в чем нуждаться! Но не разрушайте моего счастья, и я буду благословлять вас до конца своих дней!
Люперкати, пожав плечами, произнес:
— Не пытайтесь смягчить меня! Теперь слишком поздно нежничать! Разве вы не видите, что я явился затем, чтобы мстить и карать?
Лидия в ужасе упала на колени и крикнула:
— Вы хотите убить меня?
— Я не убийца, — ответил маркиз, покачав головой. — Разумеется, вы заслуживали бы того, чтобы умереть от моей руки, но я предпочитаю другую месть: вы отправитесь со мной сейчас же в Пасси к той женщине, у которой вы украли ребенка и мужа, и признаетесь ей во всех своих подлых махинациях.
— А если я не захочу, если я не пойду за вами? — крикнула Лидия. — Вот еще тоже! Я У себя дома! Я крикну слуг, и они выпроводят вас. Скандала я не боюсь; можете поддерживать свои претензии судом…
— Но вы забываете, что тут дело идет не только о скандале: раз вам будет предъявлено обвинение в похищении ребенка, в подлоге документов, в соучастии в покушении на убийство, то вас ждут тюрьма, заключение с ворами, убийцами и проститутками! Ну-с, — он протянул руку к звонку, собираясь позвонить, — еще одна минута промедления, и позвоню уже я, позвоню, чтобы сюда прислали полицию!
— Я иду, иду! — пробормотала Лидия, одеваясь на скорую руку. — Но как же мы выберемся из дома?
— Я только что заметил в саду лестницу. С помощью ее мы перелезем через стену. Ну, в дорогу, в дорогу!
Лидия была окончательно подавлена, смущена, сбита с толку. Она пассивно подчинялась ему, когда он помогал ей перелезать, пассивно следовала за ним, когда он потащил ее к улице дю-Бак, где находилась станция и вскоре должен был отправиться первый дилижанс.
Через три четверти часа Лидия и маркиз появились в домике Люси Элфинстон.
Маркиз потребовал, чтобы Лидия подробно рассказала Люси о цели той махинации, которая была затеяна, чтобы женить на ней Шарля Лефевра, а затем сказал:
— Ну, а теперь мы все отправимся в замок Комбо!
— Господи, это еще зачем? — в ужасе спросила Лидия.
— Для того чтобы вы могли повторить этот же самый рассказ в присутствии того, кто считает себя вашим мужем, то есть перед Шарлем Лефевром!
— Нет, вы не можете требовать от меня это! Этого никогда не будет! — в последнем порыве энергии вскрикнула Лидия.
Но маркиз был неумолим, и Лидии пришлось уступить.
Вскоре Люперкати, Люси, маркиза и Анни, которую Люси не хотела оставить одну дома, направились в дилижансе к замку Комбо.
Они прибыли туда к концу дня. Шарль усиленно хлопотал над приготовлениями к празднованию церковного брака. Он лично руководил устройством триумфальных арок, обитых цветными тканями и увешанных гирляндами цветов, как вдруг перед ним появилась эта странная компания. В первый момент он не мог сказать от удивления ни слова — до того его поразило, что Лидия явилась в обществе Люси Элфинстон!
Люперкати попросил Шарля уделить ему несколько минут для разговора, и вскоре все они были уже в гостиной, двери которой тщательно заперли.
Люси плакала и десятки раз порывалась обнять Шарля, но не решалась сделать это, а он в свою очередь с волнением и вновь пробудившейся страстью смотрел на ее милое, честное личико.
Разговор был краток, но очень трагичен. Люперкати назвал себя, рассказал, как полюбил и женился на Лидии в Сорренто, как его замертво подняли на поле сражения, как он попал в тюрьму, убежал оттуда, скитался с Мюратом, снова попал в тюрьму и снова бежал. Он рассказал, как вернулся во Францию, как случайно узнал о готовящейся свадьбе своей жены, и сообщил всю историю своих переговоров с Лидией, которые закончились попыткой убить его в доме Люси Элфинстон.
Тут Шарль не выдержал и крикнул Лидии:
— Да скажите же хоть слово! Скажите, что это ложь! Уверьте меня, что все это неправда!
Но Лидия только опустила голову и ничего не ответила.
Люперкати продолжал свое обличение. Он рассказал, что случилось с Люси, как у нее украли ребенка. Тогда Шарль бросился к Люси, схватил ее в объятия и прерывающимся от сдерживаемых рыданий голосом крикнул:
— Как, Люси! Наш сын исчез? Но ведь я был уверен, что это ты увезла его, что ты покинула меня, изменила мне!
Люси ничего не ответила. Она рыдая обняла Шарля, и они замерли в долгом объятии.
— Сударыня, — сказал Люперкати, обращаясь к Лидии, — зло, причиненное вами этим честным, любящим друг друга людям, отчасти исправлено. Теперь Шарль Лефевр знает, что вы за женщина и какое развращенное существо он хотел назвать своей женой. Следовательно, моя роль кончена, и мне остается только сойти со сцены. Вы больше никогда не услышите обо мне, но если страсть слишком ослепила Шарля Лефевра, то он может освятить завтра церковным обрядом ваш брак, потому что меня уже не будет на свете окончательно! Но если он прозрел, то ему ничего не будет стоить расторгнуть гражданский брак, так как в момент его заключения я был еще жив!
Затем Люперкати бросился вон из гостиной, побежал парком, добежал до пруда, снял шляпу, достал пистолет из кармана и спустил курок, прижав дуло к виску.
Он рухнул прямо на свежую, усеянную душистыми цветами траву. Желтая ромашка вдруг окрасилась синевато-красным цветом и стала мрачной, задумчивой, грустной.
Теперь Лидия фактически стала вдовой, но Шарль, державший за руку Люси, нисколько не собирался воспользоваться этим.
Показав жестом Лидии на окровавленный труп ее мужа, он сказал ей:
— Вот дело ваших рук! Ступайте, и чтобы я никогда больше ничего не слышал о вас! Завтра же мы с отцом отправимся к министру юстиции и добьемся уничтожения заключенного вчера брачного договора. Прощайте! Постарайтесь в будущем искупить добродетельной жизнью все то зло, в котором вы погрязли!
В то время как заказанная Шарлем карета увозила Лидию Люперкати в город, Люси, склонившись к нему, шепнула ему:
— Мой Шарль! Теперь мы должны разыскать Андрэ! Ведь ты отпустишь меня, правда? Я должна съездить за ним на остров Святой Елены!
— Я не отпущу тебя, дорогая моя Люси, а сам отправлюсь вместе с тобой. И мы найдем нашего Андрэ, клянусь тебе!
— Я отложила свою поездку туда на неделю, чтобы обождать твоего ответа, но теперь…
— Теперь мы отправимся вместе и сейчас же! — сказал Шарль, целуя ее.
ХХХХ
Гурго, несмотря на полученное им предписание уехать во Францию, все-таки отправился на свидание. Там он нашел тех людей, о которых его уведомляли. Они представились ему как капитан Эдвард Элфинстон, британский подданный, и адъютант ла Виолетт, бывший тамбурмажор императорской армии.
Гурго, пожав руки этих верных сторонников императора, спросил у них, что привело их сюда на остров. Они без утайки рассказали Гурго, что их цель — организация бегства Наполеона. Гурго не стал скрывать от них все трудности, связанные с подобным предприятием, и объяснил им, какие предосторожности были приняты для того, чтобы предупредить всякую попытку к бегству. Наверно, об их прибытии уже доложено губернатору, за ними будут следить, а их кораблю будет немедленно предписано удалиться из Джеймстауна.
— Все затруднения уже предусмотрены, — ответил капитан Элфинстон, — и мы хотели только узнать от вас, не воспротивится ли кто-нибудь из окружающих императора людей нашему плану?
— Мне кажется, — ответил Гурго, — что если ваш план разумен и выполним, то каждый из нас горячо поддержит его!
— Мы рассчитываем на хитрость: мы спрячем императора в бочку и переправим его на корабль под видом пресной воды. Если даже это и всплывет наружу, то у нас найдется достаточно вооруженных людей и артиллерийских орудий, чтобы отстоять императора.
— Какими силами располагаете вы?
— Тот корабль, на котором мы прибыли сейчас, вообще не вооружен, но мы просто явились на рекогносцировку. Зато в Пернамбуко находится храбрец — капитан Лятапи, а с ним муж госпожи Фурэ, Беллар.
— Ах, вот как! — улыбнулся Гурго. — Муж Белилоты, этой очаровательной и забавной женщины, которую генерал Бонапарт увез с собой в Египет и которая следовала за ним всю египетскую кампанию в гусарском мундире? Неужели она все еще любит императора? Да, сказать по правде, Наполеон смотрит на женщин только как на объект наслаждения, а между тем они не раз проявляли по отношению к нему чудеса самоотверженности!
При этих словах Гурго скорбно улыбнулся, подумав о прекрасной графине де Монтолон и об изгнании, которое постигло его за попытку завоевать ее любовь.
Капитан Элфинстон рассказал далее Гурго, что капитан Лятапи наберет в Пернамбуко пять тысяч флибустьеров, что несколько корсарских кораблей будут крейсировать в виду острова Святой Елены, чтобы в случае погони за императором английских судов отрезать им путь. В случае открытого сражения благодаря численности и храбрости экипажа, а также большой поворотливости легких и послушных рулю корсарских судов победа, безусловно, останется за ними.
Гурго внимательно выслушал отважный проект капитана Элфинстона, а затем, взвешивая каждое слово, сказал:
— Да, ваш замысел отличается благородством и отвагой, друзья мои, и я готов присоединиться к вам, хотя и собираюсь вернуться в Европу…
— Простите! — перебил его Элфинстон. — Мы сильно рассчитываем на ваш отъезд в Европу, так как вы сможете доставить инструкции императора его друзьям; вы повидаетесь с маршалом Лефевром и старыми офицерами императора, оставшимися верными ему; вы будете иметь возможность сражаться вместе с нами. Вы должны уехать в Европу!
— В самом деле, — ответил генерал, — мне было бы трудно оставаться на острове, так как император настойчиво предложил мне вернуться на родину для поправления здоровья!
— Но еще до отъезда вы можете оказать нам громадную услугу, — сказал Элфинстон, — предупредив императора о нашем прибытии и наших намерениях.
Гурго пожал руки обоим смельчакам и обещал немедленно заняться этим делом. Их свидание было назначено на следующий день, когда генералу надо было отправляться во Францию.
Гурго действительно сейчас же отправился в Лонгвуд и попросил доложить о себе императору. Наполеон в первый момент хотел ответить отказом — он предполагал, что Гурго собирается настаивать на разрешении остаться на острове, ждал упреков, протеста, но в конце концов все-таки решился повидаться с Гурго — он не мог отказать в последней просьбе человеку, когда-то так много сделавшему для него.
Свидание Наполеона с Гурго было окончательным и решительным. Но когда генерал подробно рассказал Наполеону о проекте бегства, затеянном двумя смельчаками, император в силу какой-то жестокой фантазии порывисто распахнул двери в соседнюю комнату и сказал:
— Войдите к нам, графиня, мы нуждаемся в ваших советах. Вы разумная женщина и можете помочь нам.
Затем он ввел графиню в комнату, к великому смущению Гурго, который краснел, бледнел, мялся, но так и не мог пересказать графине то, что только сообщил императору.
Тогда сам Наполеон принялся рассказывать графине, в чем дело, и с обычной краткой деловитостью посвятил ее в суть проекта.
— Так вот, — закончил он, — теперь взвесьте все это и скажите, как нам быть. Я придаю большое значение вашему мнению, так как вы намного превосходите женщин чисто мужским складом ума. Вы слышали, что мне предлагают. Вы знаете, что французы не забыли своего императора и жаждут его возвращения на трон. С помощью смельчаков-флибустьеров мне удастся добраться до французских вод, а там меня примут с распростертыми объятиями, так как народ устал от нетерпимого и фанатично настроенного правительства Бурбонов. Они не сдержали ни одного из своих обещаний. Когда они поднимали против меня южан, то уверяли их, будто воинская повинность будет уничтожена, а налоги облегчены. Но, к счастью для Франции, воинская повинность до сих пор существует там так же, как и в мои времена, а налоги неимоверно возросли. Поэтому не вызывает сомнения, что стоит мне ступить на землю Франции, как батальоны начнут формироваться сами собой. Так кажется мне. Теперь скажите же, графиня, что вы думаете обо всем этом? Не бойтесь, говорите совершенно откровенно!
Графиня Монтолон, бывшая действительно очень умной женщиной, быстро взвесила в уме все шансы этого проекта и главным образом все выгоды и невыгоды его лично для нее самой. Она понимала, что это предприятие может удасться, что корона может еще засиять на склоне лет на челе Наполеона. Понимала она и то, что бегство с такого далекого острова произведет сильное впечатление на умы, что французы, обожающие геройство и смелость, способны пойти за императором уже в силу той легендарности, которой он будет окружен после такой дерзкой выходки. Но что выгадает она сама от этого?
Только недавно в ее жизни произошла громадная перемена, и настолько же, насколько ранее она жаждала возвращения во Францию, возможности уехать с этого угрюмого, дикого, нездорового острова, теперь она боялась этого возвращения. Император стал для нее не только господином и повелителем: он стал ее возлюбленным, и на этом уединенном острове она была почти императрицей. Но если он вернется к былой жизни походов и приключений, если он в конце концов вновь воссядет на трон, то разве слава и опасности не отвлекут его взора от нее? Станет ли Наполеон считаться с какой-то любовницей, когда ринется по пути славы, который должен привести его с острова Святой Елены в Тюильри? Наполеон был не из тех мужчин, которые подчиняются власти женщины.
Значит, все ее счастье зависело только от пребывания Наполеона на острове.
Пораздумав над этим, она торопливо заговорила:
— Ваше величество, если бы дело касалось только вашей личной участи, то я стала бы горячо советовать вам пуститься в это предприятие. Но если я дрожу за вашу жизнь, то дрожу также и за вашу славу…
— Что вы хотите сказать этим? — быстро спросил ее Наполеон, нахмурив лоб.
— Предположите, ваше величество, что, несмотря на все меры предосторожности, на всю храбрость и преданность, вам не удастся пробиться через море! Представьте себе, что вы попадете в руки англичан. Что они сделают с вами? Они будут судить вас военным судом, и это даст возможность Хадсону Лоу выместить на вас всю свою жестокость.
— Да, вы правы, — сказал Наполеон, который вдруг стал очень мрачным. — Со мной обойдутся так же, как с Мюратом. В эту игру мне играть не стоит.
— Нет, ваше величество, вам нужно подождать, пока Франция, утомленная правлением Бурбонов, сама призовет вас. Вы должны покинуть остров Святой Елены, но в сопровождении громадной французской эскадры; вы должны быть желанным гостем во Франции; она сама должна молить вас вернуться! А потом, подумайте о своем сыне. Пока вы остаетесь здесь, его права на престол в случае падения Бурбонов остаются незыблемыми и можно с уверенностью сказать, что когда-нибудь на троне Франции воцарится император Наполеон Второй. Но если вы убежите из плена и снова с оружием в руках возникнете перед Европой, то, как знать, на какие крайности пустятся коалиционные монархи! Нет, ваше величество, во имя короны, во имя жизни вашего сына заклинаю вас отказаться от этого плана!
— Вы правы, графиня, — сказал Наполеон. — Я знаю, что будущее принадлежит мне и что пытки, которым подвергают меня здесь англичане, не пройдут бесследно. Будущее отомстит за меня, французы с криками восторга будут приветствовать моих потомков… Я должен страдать и умереть на этой скале: это будет первой ступенью трона будущих Наполеонов!
— Отлично сказано, ваше величество!
— Нет! — с силой продолжал Наполеон. — Я не должен бежать как заурядный авантюрист. Гурго, поблагодарите от меня этих храбрецов! Скажите им, что я не хочу нового кровопролития ради меня. Пусть они вернутся на родину и скажут всем тем, кто остался мне верным, что император отказывается вернуться во Францию иначе как в качестве признанного всем народом повелителя, которого сам народ с криками торжества внесет на руках во дворец. Но в качестве вождя шайки флибустьеров, с помощью корсаров — нет, так он не вернется!
— Я понял, ваше величество, — сказал Гурго. — Я передам им ваше решение. Вы желаете видеть их?
— Нет, нет! — сказал Наполеон. — Повсюду найдутся предатели, и эти герои только рискуют скомпрометировать себя свиданием со мной. Скажите им просто, Гурго, что я благодарю их, а сами возвращайтесь в Европу и объявите там всем и каждому, что Наполеон оставит остров Святой Елены только императором!
Он пожал руку Гурго, показывая ему этим, что аудиенция закончена.
В то время как барон возвращался к Элфинстону и ла Виолетту, чтобы сообщить им о результатах разговора с Наполеоном, графиня де Монтолон, бросившись в объятья императора, шепнула ему:
— Ваше величество! Вы хорошо поступили! Вы всегда и во всем остаетесь великим, как мир!
— 10 — Наследник великой Франции
В этих романах описывается жизнь Наполеона в изгнании на острове Святой Елены — притеснения английского коменданта, уход из жизни людей, близких Бонапарту, смерть самого императора. Несчастливой была и судьба его сына — он рос без отца, лишенный любви матери, умер двадцатилетним. Любовь его также закончилась трагически…
Рассказывается также о гибели зятя Наполеона — короля Мюрата, о казни маршала Нея, о зловещей красавице маркизе Люперкати, о любви и ненависти, преданности и предательстве…
Часть первая СЕКРЕТАРЬ ФРАНЦ
I
Стоя в своем большом рабочем кабинете в Шенбруннском дворце, австрийский император, отпуская министра Меттерниха успокаивающим жестом, с улыбкой сказал ему:
— Вы можете успокоить Европу. Я хорошо знаю опасность, грозящую ей от частого повторения имени Наполеона. Моя дочь Мария Луиза сама поняла, что не может иметь более ничего общего с тем, кто носит это имя, и предпочла стать герцогиней Пармской. Что же касается моего внука Франца Иосифа Карла, то сообщите повсюду, что он отныне австрийский принц. Он должен навсегда забыть, что когда-то носил имя Наполеона!
— Хорошо, государь! — ответил Меттерних. — Вы даете доказательство высокой мудрости. Не следует, чтобы призрак Наполеона смущал спокойствие держав. Слава Богу, этот кошмар кончен! Священный союз даровал миру покой и безопасность. Человек, одинаково опасный для всех государей, томится на далеком острове, откуда не может скрыться… Надо, чтобы в сердце его сына исчезло все французское. Как вы решили, он должен стать принцем вашего императорского дома и его ранг — сразу же за эрцгерцогами, но его будущее и честолюбие должны ограничиться этим. Ваш внук не должен знать ничего, кроме Вены и этого дворца. Я понял ваше желание. — Меттерних откланялся и хотел выйти, но остановился и прибавил: — Ваше величество, вы обратили внимание на то, что теперь, когда ваш внук лишен титула герцога Пармского, предоставленного ему сначала, он не имеет никакого официального титула?
— Герцог Пармский не существует, — сказал император, — мой внук не может занять никакой, хотя бы самый ничтожный, престол Европы. Этого требует осторожность. Он мог бы тогда, пожалуй, снова принять имя своего отца, то самое имя, которое не должно больше раздаваться в Европе ни в ушах государей, ни в ушах народов.
— Я точно такого же мнения, но вы, ваше величество, не сообщили мне, каким именем я должен называть вашего внука, объявляя ваше решение дворам Европы.
— Правда! — задумчиво сказал император франц. — Я хотел было дать ему звание герцога Медлингского по имени бывшей резиденции маркграфов австрийских, но подумал, что лучше дать ему новое имя. Пусть он носит титул герцога Рейхштадтского по имени местности, данной ему мной во владение.
— Европа завтра же узнает о принятом вами решении. Я оповещу все дворы о вновь основанном герцогстве и о титуле Франца Иосифа Карла, герцога Рейхштадтского, — сказал, окончательно откланиваясь, Меттерних.
Когда он ушел, император открыл дверь в соседнюю комнату и позвал:
— Поди сюда, Франц!
В кабинет вбежал белокурый, кудрявый мальчик с голубыми глазами, с открытым, веселым взглядом. Это был Наполеон II. Император сел в кресло и привлек к себе ребенка. При лукавом австрийском дворе, где была крайне жива ненависть к его отцу, мальчик встретил ласку только у деда. Он ласкался к нему и бежал играть около его кабинета. Император привязался в свою очередь к маленькому изгнаннику, болтал с ним, старался развивать его ум и обращался с ним как со своим сыном.
— Как ты играл? — спросил император, гладя внука по белокурой кудрявой головке.
— В солдатики, — ответил маленький Наполеон.
— Один?
— Нет, дедушка, с Вильгельмом, моим пажем. Он такой милый. Но когда я был в Париже, у меня было Много пажей, не правда ли, дедушка?
— Да, — сказал император, — но здесь надо довольствоваться одним.
— О, мы с Вильгельмом хорошие товарищи! Но скажи мне, дедушка, правда, что в Париже я был королем? Меня звали королем Римским, да?
— Да, там именно так называли тебя, — несколько смутился император. — А кто сказал тебе об этом?
— Вильгельм, дедушка.
«Надо будет побранить Вильгельма, — подумал император, — пусть он не болтает лишнего!»
— Объясни мне, что это значит! — продолжал ребенок. — Рим — ведь это город? Я был его королем, да?
— Когда ты будешь постарше, тебе объяснят это, а теперь я скажу тебе, что я, император австрийский, ношу также титул Иерусалимского короля — это очень далекий город, который ты знаешь по Священной истории, — но не имею над ним никакой власти. Вот и ты был таким же королем Римским, как я — король Иерусалимский.
— Так, дедушка, — задумчиво сказал мальчик. — А теперь я больше не король Римский?
— Нет, дитя мое. Если тебя интересуют титулы, то запомни тот, который ты будешь непременно носить. Мы с моим министром решили, что ты получишь в свое владение большое, прекрасное поместье, и по его имени ты впредь будешь называться герцогом Рейхштадтским!
— А ведь у меня было прежде другое имя. Меня звали раньше Наполеоном.
— Это имя ты не должен ни носить, ни даже произносить. Это я запрещаю тебе! — строго сказал император.
Впечатлительный ребенок отодвинулся, почти готовый заплакать.
Император раскаялся в своей суровости и мягко сказал:
— Ну, будь умником! Смотри, сейчас придет капитан Форести давать тебе урок. Иди к нему! Поцелуй меня и слушайся хорошенько учителя!
Ребенок успокоился и пошел к капитану Форести, которому было поручено его воспитание под руководством графа Морица Дитриха Штейна.
Штат сына Наполеона состоял из его воспитателя, двух гувернеров, двух почетных придворных дам под руководством графини Монтескыо, которая так любила своего питомца, что пожелала сопровождать его в изгнание.
В товарищи маленькому герцогу был дан сын одного из слуг Марии Луизы, маленький француз Эмиль Гоберо, который при определении на службу к принцу получил немецкое имя Вильгельм. Он был на два года старше принца, от своей матери знал многое относительно прошлого Наполеона II и передавал это своему молодому господину. Он же открыл ему его императорское и французское происхождение. Молодой принц был неистощим на вопросы, когда дело шло о Франции и Наполеоне, но никто при дворе не подозревал, что он обладает подробными сведениями на этот счет.
Однажды, когда генерал Соммарива рассказывал при нем о знаменитых полководцах и называл Веллингтона, эрцгерцога Карла, Блюхера, мальчик неожиданно перебил его:
— А я знаю одного полководца, о котором вы не упомянули; он был выше всех этих генералов и разбил их всех!
— Кто же это? — спросил удивленный генерал.
— Мой отец! — воскликнул мальчик, убегая и оставив всех придворных совершенно смущенными.
Последнее вытекало из того, что было получено строжайшее приказание всем оставлять юного принца в полном неведении о Наполеоне и его царствовании. Нужно было, чтобы герцог Рейхштадтский стал и остался навсегда германским принцем. Европа не могла быть спокойна при виде этого подрастающего юноши, носившего самое страшное в истории имя. Необходимо было превратить его в немца ради всемирного спокойствия. Его воспитание носило воинственный характер, из него намеревались сделать отличного австрийского генерала, способного, может быть, впоследствии вести германские войска против солдат Франции.
Но как тщательно ни скрывали от него историю Наполеона, он жадно разыскивал мельчайшие подробности жизни великого человека, чья кровь текла в его жилах. Все, что ему удавалось узнавать отрывками, украдкой, все пробуждало в нем гордость быть сыном Наполеона. Эта гордость происхождения от великого императора, одна тень которого наполняла трепетом венский дворец, придавала молодому герцогу Рейхштадтскому особый отпечаток нравственной силы и преимущества перед другими эрцгерцогами, которых этикет ставил впереди него. Хотя ему были известны и старательно указаны заблуждения, слабости, даже преступления того, кого называли Бонапартом, в душе мальчика возник настоящий культ обожания пленника-отца, поддерживаемый общим страхом окружающих перед ним и глубоким состраданием к его печальной участи на пустынном, отдаленном острове. Никто не подозревал, как глубоко судьба бывшего императора Франции занимала нынешнего австрийского принца. Под его белым мундиром и германскими орденами билось сердце истого француза. Герцог Рейхштадтский оставался Наполеоном II.
II
Для Шарля и Люси началась счастливая жизнь.
Своей нежностью, ласками и заботами Шарль старался изгнать из памяти молодой женщины все, что она вынесла в долгие месяцы страданий и горя. Счастливая Люси получила от Шарля обещание, что тотчас по возвращении с острова Святой Елены вместе с Андрэ он откроет матери историю своей любви. Может быть, герцогиня согласится обнять своего внука. Ведь Люси несомненно заслуживала уважения и доверия семьи Шарля своими несчастьями и безупречным поведением. Присутствие найденного ребенка должно дать еще один повод к прощению и привязанности со стороны матери Шарля.
Герцогиня Данцигская, мечтавшая о блестящей партии для своего сына, в первую минуту досады на двойной скандал, вызванный в обществе расстройством брака ее сына с Лидией и самоубийством маркиза Люперкати, не хотела ничего слушать. Однако Шарль надеялся, что ее гнев скоро остынет. Правда, его родители с упрямством выскочек непременно желали, чтобы сын привел в их семью невестку-аристократку. Но Шарль рассчитывал, что мать признает его связь, будет тронута красотой и скромностью Люси и согласится принять ее с ребенком, несмотря на незаконность его рождения и этого союза.
Люси смотрела теперь спокойнее на будущее и торопила отъезд на остров Святой Елены, боясь, что корабль, привезший ее сына, может уйти от острова куда-нибудь в дальний порт. Следовало торопиться, чтобы снова не потерять из вида след ребенка.
Отъезд был решен; корабль к мысу Доброй Надежды отплывал на днях. Надо было сесть на него в Саутгэмптоне.
Бедная Анни очень тосковала оттого, что было невозможно уехать с Андрэ. Ее поместили в хороший пансион близ Нейи. Ее утешало только то, что ее благодетельница едет за Андрэ, привезет его и они скоро увидятся.
Чтобы смягчить разлуку и весело провести последний день вместе, Шарль вздумал совершить прогулку в Сен-Клу, а оттуда заехать пообедать на Елисейские поля, в одном из оживленных ресторанчиков, разными скромными развлечениями привлекавших ту публику, которая избегала шумного Пале-Рояля.
День прошел очень приятно. Анни бегала по лугам в Сен-Клу и засыпала Люси букетами. Завтракали на свежем воздухе, а вечером, как собирались, отправились обедать на Елисейские поля. Когда все шли пешком по аллее, Анни заметила темную фигуру закутанной в кружевную шаль женщины, которая, казалось, преследовала Шарля и Люси. Впечатлительная девочка вздрогнула, точно при виде врага или при приближении опасности, видя настойчивость, с которой эта таинственная фигура следила за ее покровительницей.
Каждый раз как встревоженная девочка оглядывалась, она замечала, что эта женщина в черном, так настойчиво следовавшая по пятам за интересовавшими ее лицами, отскакивала в сторону, стараясь скрыться за деревьями. Очевидно, она не хотела быть замеченной, опасаясь, что ее узнают.
Анни хотела уже спросить Люси, заметила ли она женщину в черном, как вдруг последняя неожиданно свернула в аллею Вдов. Анни вздохнула свободнее, как бы избавившись от тяжести, и решилась не тревожить Люси: может быть, это преследование было простой случайностью… Вероятно, эту женщину в черном они больше не встретят, так как ей трудно было бы в толпе снова найти преследуемых раньше людей, к тому же они вошли в ресторан, и едва ли женщина придет искать их туда.
Сели за стол, и обед был весел, насколько мог быть ввиду близкой разлуки. Время шло и уже стали собираться домой. Было душно, слышались раскаты грома вдали, надвигалась гроза. Надо было добраться домой заранее.
В то время, когда все трое поднялись было с места, чтобы вернуться на улицу Сент-Онорэ, где Шарль временно поместил Люси, избегая печальных воспоминаний домика в Пасси, один из слуг подал Шарлю записку, сказав, что ждут ответа.
Шарль прочел записку и, видимо, смутился, казалось, не зная что ответить, Он вертел в руках записку, рассматривая почерк, бумагу, адрес.
— Ничего серьезного, вероятно? — спросила Люси, удивленная смущением Шарля.
— Ровно ничего, — ответил он, притворяясь спокойным и пряча записку в карман. — Это просто просьба о помощи.
— Какой-нибудь несчастный?
— Да, тот, кто пишет, не из счастливых. Впрочем, записка не подписана. Кажется, почерк знаком мне.
— Если кто-нибудь страдает, может быть, надо ответить, Шарль; это принесет счастье нашему путешествию.
— Просят прийти меня самого, недалеко, два шага отсюда, к тому киоску, где итальянцы продают «счастье» и засахаренные фрукты.
— Надо пойти, Шарль, а мы с Анни подождем тебя, слушая этих музыкантов-немцев. Поди узнай, чего от тебя хотят, только не оставайся долго.
— Хорошо, пусть моя совесть будет спокойна! — сказал Шарль, вставая с места. — Не уходите отсюда, я сейчас вернусь.
Шарль ушел, а Люси стала слушать музыкантов, игравших под навесом ресторана. Анни опять почудилась черная женская фигура со зловещим взглядом, но она подумала, что ей показалось.
Музыканты кончили свою пьесу. Глава странствующего оркестра ходил среди посетителей со шляпой, и в нее сыпались мелкие монеты.
Шарль не возвращался, однако Люси не беспокоилась. К ней подошел маленький итальянец в блузе и бархатных панталонах, в остроконечной шляпе с лентами и сказал ей:
— Господин, бывший с вами, попросил меня сказать вам, чтобы вы шли домой и что он придет туда к вам. Он просил еще передать вам этот засахаренный апельсин. Я исполнил его поручение. До свидания, приятного вечера!
Маленький итальянец исчез между деревьями аллеи.
Удивленная, но все еще спокойная, Люси поднялась с места и сказала:
— Пойдем домой, Анни. Шарль догонит нас. Его задержал тот, кто просил помощи. Он боится, чтобы нас не застала гроза. Пойдем, может быть, мы встретим его дорогой.
Обе вышли из зала. Люси небрежно положила в свой ридикюль засахаренный апельсин, который был оставлен маленьким итальянцем около нее на блюдечке.
Начался дождь. Они прибавили шагу и быстро достигли гостиницы на углу улиц Сент-Оноре и Миромениль, в которой Шарль нанял помещение для них. Между тем гроза разразилась со страшной силой.
Засверкала молния, гром загремел чаще, потоки воды заструились по крышам и по улице.
«Хорошо, если Шарль успел скрыться где-нибудь!» — подумала Люси. Она отослала спать Анни, утомленную прогулкой. Хотя гроза действовала тяжело на нервы Люси, но зато давала простое объяснение отсутствия Шарля: этот ливень застал его, вероятно, во время разговора, извозчиков поблизости не было, и он просто зашел в одно из кафе Елисейских полей, тут не было ничего удивительного. Так как завтра надо было рано встать по случаю отъезда в пансион Анни, а оттуда ехать в Гавр, чтобы отплыть в Саутгэмптон, Люси решила последовать примеру Анни и, не дожидаясь Шарля, лечь спать. Прибирая кое-какие мелочи на туалете, она вынула из ридикюля апельсин, принесенный итальянцем, и положила его на комод, собираясь съесть его поутру. Затем она занялась своим ночным туалетом, после чего легла в постель и скоро крепко уснула.
Ей снилось, что она плывет среди яркого света при звуках невидимой музыки, на украшенной цветами лодке вдоль прекрасных берегов и пристает к тенистому острову, где посреди цветов играет ребенок, к которому пламенно рвалось ее сердце, а именно ее сын, ее Андрэ! Она хочет обнять, расцеловать его, прижать к своей груди. Но корабль медленно отдаляется, так как ему не удается пристать к берегу, куда стремится вся ее душа. Наконец ей кажется, что она сошла с приставшего корабля, обнимает сына, горячо целует его.
Люси проснулась, разбуженная легким шумом и светом мерцающей свечи в высоком медном подсвечнике. Над ней склонился Шарль и нежно поцеловал ее в лоб.
Обрадованная его возвращением, Люси не потребовала от него никаких объяснений и только спросила, не промок ли он во время грозы.
— Нет, я спрятался от ливня, — растерянно ответил чем-то озабоченный Шарль, однако полусонная Люси не заметила его состояния и ничуть не встревожилась.
Шарль увидел на комоде засахаренный апельсин и подумал:
«Вот это очень кстати! Мне так хочется пить. У меня, кажется, лихорадка, — и он с жадностью стал есть сочный плод, думая про себя: — Как вкусно, как сочно! Люси хорошо сделала, что купила этот апельсин. Верно, она и Анни ели эти фрукты, продаваемые на открытом воздухе на Елисейских полях, и оставили мне мою долю. Как мило, что подумали обо мне!»
Люси снова заснула и не слышала, как Шарль восхищался, лакомясь этим засахаренным плодом.
Очень рано утром слуга по отданному ему приказанию разбудил путешественников. Им была заказана почтовая карета, и почтальон уже дожидался на улице.
Люси встала, разбудила Анни и обе поторопились одеться. Багаж был уже готов, и слуга снес чемоданы вниз, чтобы привязать их позади экипажа.
— Вставай, лентяй! — весело сказала Люси Шарлю. — Мы уже готовы, а ты еще не вставал!
Однако Шарль казался погруженным в забытье и едва пробормотал:
— Я очень устал. Меня страшно клонит ко сну, не могу преодолеть дремоту. Веки смыкаются, и такая тяжесть во всем теле…
— Это вчерашняя гроза виновата. Ты, должно быть, простудился.
— Ничего, только мне надо еще немного отдохнуть. Час, другой поспать и все пройдет.
— Хорошо! Вот что мы сделаем: так как надо отвезти Анни в пансион, то я отправлюсь с ней вперед, а ты приедешь прямо в пансион часа через два.
— Хорошо, хорошо! — сказал слабым голосом Шарль. — Но теперь я совсем не в состоянии двигаться.
— Поторопимся же, Анни! — произнесла Люси. — Мы возьмем карету в Саблонвилль, а ты, Шарль, привези багаж Анни. Пока отдохни, ведь сейчас в пансионе ты не нужен.
Таким образом дело было решено, и Люси с Анни поехали.
Прибыв в Саблонвилль, они направились в пансион сестер Куро, «учениц госпожи Кампань», как гласили объявления. В этот известный пансион принимались дочери чиновников, богатых буржуа. Воспитание там давалось тщательное, и директрисы, сестры Куро, гордились тем, что «стилизировали» своих воспитанниц, делая их изящными дамами, умеющими держать себя в обществе, а также прекрасными хозяйками, в совершенстве знакомыми с кулинарным искусством.
Анни горько плакала из-за того, что ей нужно было остаться в этом мрачном доме, среди незнакомых людей. Старшая из сестер была высокая особа с тонкими губами и худощавым лицом, в чепце из рюшей, отделанном лентами; младшая была невысока и горбата, с остроконечным носом, в очках, из-за которого блестели маленькие, серые, бегающие по сторонам глаза, точно постоянно— высматривавшие какой-нибудь проступок или провинность… Обе эти фигуры не были в состоянии успокоить девочку или внушить ей расположение к пансиону, основанному по методе знаменитой воспитательницы эпохи первой империи.
Люси старалась успокоить Анни, и та, в угоду ей, глотала свои слезы и пыталась казаться довольной честью быть принятой в число учениц известного пансиона. Люси обещала ей возможно скорее вернуться обратно с острова Святой Елены, и только это обещание и надежда на то, что Люси вернется не одна, а привезет с собою Андрэ, так что тогда опять все будут вместе, несколько утешали Анни и успокаивали ее наболевшее сердечко.
Час окончательной разлуки приближался. Люси, глядя на часы, осведомлялась, не приехала ли почтовая карета. Наконец, получив в третий раз отрицательный ответ, она подумала:
«Верно, Шарль заснул крепче, чем ожидал, а его не разбудили. Впрочем, и хорошо сделали! Пусть он отдохнет получше. Мы приедем в Мант попозже, вот и все. Подожду еще. Шарль, конечно, скоро приедет сюда»…
К ней подошла младшая из сестер Куро и сказала, что ее племянница Анни Элфинстон, будучи принята в число воспитанниц заведения, должна подчиняться его правилам и немедленно разделить занятия своих подруг. Сейчас начинался урок грации и манер; ей надо было сейчас же распрощаться и принять в нем участие.
Анни, рыдая, бросилась в объятия Люси и с тяжелым сердцем и полными слез глазами, под сенью горба Куро-младшей последовала с нею на урок, который давал важный старичок-эмигрант, заслуженный профессор манер и хорошего тона. Люси осталась одна в приемной и стала рассеянно глядеть на римские профили, нарисованные карандашом, и акварельные пейзажи, украшавшие стены комнаты и свидетельствовавшие, что изящные искусства процветали в пансионе.
Люси считала минуты, спрашивая себя, хорошо ли Шарль знал адрес пансиона, не сбился ли он с дороги, разыскивая его в Нельи.
Настал полдень, раздался звонок, возвещавший завтрак. Вошла прислуга и доложила, что почтовая карета приехала.
Обрадованная Люси поспешила к выходу. Она думала увидеть Шарля в окно кареты, улыбающегося и просящего прощения за то, что он запоздал, но… карета была пуста!
Пораженная Люси стала расспрашивать почтальона. Тот заявил, что получил приказание отвезти ее назад, в гостиницу на улице Миромениль. Больше он ничего не знал: с ним говорил хозяин гостиницы, приказавший оставить здесь багаж, привязанный позади кареты, чемодан и саквояж с вещами Анни. К удивлению Люси, их собственный багаж оказался снятым.
Она не знала, что думать. Самое лучшее было, оставив багаж Анни, ехать поскорее в свою гостиницу, и она так и сделала. Дорогой озабоченная Люси ломала голову над тем, что могло задержать их путешествие, прибыв же в гостиницу, быстро вошла в комнату и нашла там Шарля в постели изнеможденного, с изменившимся лицом, слабого еще более, чем утром. Она бросилась к нему, спрашивая, что с ним.
— У меня все горит в груди, — сказал больной, — и голова очень тяжела, тяжела… Меня мучит жажда и страшно хочется спать.
Его голова тяжело опустилась на подушку.
— Надо скорее послать за доктором! — сказала испуганная Люси и тотчас приказала слуге: — Бегите, приведите врача!
Она дала больному выпить чашку липового чая, на всякий случай поданного хозяином гостиницы.
— Теперь мне жжет меньше, — сказал Шарль все более слабеющим голосом, — но сильно хочется спать! — и он снова упал на подушки, так как слабость все увеличивалась.
Явился доктор. Он вообще небрежно относился к пациентам из гостиниц, не признавая их выгодной для себя практикой; ведь часто, получив некоторое облегчение, эти кочующие пациенты уезжали и пользовались потом услугами своего доктора, получавшего всю выгоду от их болезней, тогда как врач, лечивший их в гостинице, оставался лишь со скромным вознаграждением. Поэтому и теперь он очень поверхностно отнесся к Шарлю. Пощупав его пульс, посмотрев его язык и поставив диагноз желудочного расстройства, он прописал диету и слабительное и ушел, не заботясь больше о состоянии больного, хотя оно даже на вид представлялось серьезным. Однако так как Люси попросила его прийти еще раз, то он обещал побывать вечером.
Когда он пришел во второй раз, он увидел, что состояние Шарля ухудшилось. Дыхание стало сухим и прерывистым, ощущение жжения усилилось, началась рвота, все его тело стало холодным, лихорадка сменилась холодным потом.
Доктор покачал головой и серьезнее осмотрел больного.
— Странно! — сказал он. — Можно подумать… — Он подозрительно взглянул на Люси и резко спросил: — Что вы ели вчера?
Люси назвала все кушанья, которые ел Шарль.
— Больше ничего? — подозрительно спросил доктор.
— Ничего. К тому же, я и девочка, которая, надеюсь, теперь здорова, мы обе ели то же самое.
— Странно! — сказал доктор. — Я ничего не понимаю. Однако, — прибавил он, внимательно исследуя рвоту больного, — видны как будто следы… следы…
Он колебался докончить фразу.
Тогда Шарль приподнялся и сказал:
— Следы яда, доктор, не правда ли?
— Ну да! Рвота подозрительна: этот пот, это жжение, сонливость. Все это признаки отравления каким-нибудь растительным ядом или наркотическим средством — табаком, беленой, дурманом…
— Но эта женщина не могла отравить меня! — пробормотал Шарль.
— Какая женщина? — быстро спросила Люси, наклоняясь над ним.
— Я ничего не ел и не пил с нею, — продолжал Шарль, отирая капли пота, — нельзя же отравить одним взглядом, ненавистью. Ядовитый, злобный взгляд не может передать свой яд; тут нужно что-нибудь большее. Отравить меня эта женщина не могла, хотя она и способна на это…
— Кто она? — крикнула Люси. — Назови женщину, которую ты подозреваешь, хотя бы только для того, чтобы отвести подозрение от тех, кто готовы отдать свою жизнь взамен твоей.
От нее не укрылись недоверчивые взгляды доктора, который и теперь тоже, сидя за столом за писанием рецепта, поминутно поднимал свой взгляд на Люси, не теряя ее из вида.
Шарль с трудом приподнялся на локте и сказал:
— Эта женщина, милая Люси, эта ужасная женщина — Лидия…
— Маркиза Люперкати?!
— Да. Это она написала мне вчера в ресторан на Елисейских полях. Она попросила у меня последнего свидания перед своим отъездом в Италию. Узнав о моем путешествии, она попросила меня увидеться с нею в последний раз, намекая, что, оставшись без всяких средств, она рассчитывает на мое великодушие. Я не мог отказать ей и уверен, что ты сама посоветовала бы мне дать ей ту сравнительно скромную сумму, которую она просила у меня, чтобы поехать на родину мужа, потребовать свои конфискованные имения и заинтересовать своей судьбой короля Фердинанда…
— Конечно, милый Шарль, я не виню тебя. Следовало только предупредить меня. Ты слышал, что сказал доктор? Кто тебе дал яд? Откуда он? От нее?
— Я не знаю! Клянусь тебе, что я ничего не пил и не ел с этой женщиной. Может быть, она отравила меня, заставив меня вдыхать что-либо ядовитое?
— Нет, это яд желудочный, — сказал доктор. — Это похоже на какой-нибудь из растительных ядов, употреблявшихся при итальянском дворе, вроде знаменитой «аква тофаны», избавлявшей Священную Коллегию от неугодных кардиналов. Во всяком случае надо принять как можно скорее вот это лекарство. Завтра я зайду опять. — Он положил на комод написанный рецепт противоядия и, заметив лежавшую там апельсиновую корку, спросил: — Что это?
— Апельсин, который я ел вчера вечером, вернувшись домой, — сказал Шарль.
Доктор вертел в руках засохшую корку апельсина, разглядывал и нюхал ее, а затем спросил больного:
— Где вы его купили?
— Я не покупал его, а нашел здесь, придя домой. Я с удовольствием съел его, он был очень сочен и приятен на вкус.
— Он был взят здесь, в гостинице?
— Я не знаю.
— Но ведь этот апельсин куплен тобой, мой друг, — подойдя к доктору, сказала Шарлю Люси. — Разве ты не помнишь? Ты послал его мне с маленьким итальянцем, а я принесла его сюда, не думая, что он может быть опасным и отравленным. Ведь только ты ел его…
Шарль, побледнев, воскликнул:
— Боже мой! Как ужасна испорченность этой женщины! Я не покупал и не посылал тебе апельсин, Люси. Откуда ты взяла его?
— Говорю тебе, что его принес маленький итальянец. Он сказал, что его послал ты, и прибавил, что ты не велел ждать.
— Ложь, ужасная ложь! Теперь я все понимаю! Этого итальянца послала Лидия! Она ждала меня около итальянского киоска. Меня отравила эта женщина, я умираю из-за нее!
— Сейчас же пошлите за противоядием и держите больного в тепле. Завтра утром мы посмотрим — сказал доктор, после чего вышел, качая головой, с самым неутешительным видом.
На следующее утро положение Шарля стало безнадежным. Противоядие принесло мало пользы, и доктор не скрывал больше опасности.
В краткую минуту облегчения Шарль сжал пылающую руку Люси слабеющей, влажной рукой и тихо сказал ей:
— Моя бедная Люси, хорошо, что ввиду путешествия я сделал свои распоряжения у нотариуса. Ты не будешь нуждаться, когда меня не станет. — Люси громко зарыдала, но Шарль продолжал слабеющим голосом: — Надо все-таки осуществить наши планы. Это путешествие на остров Святой Елены ты совершишь одна. Ты найдешь нашего сына. Впоследствии он будет богат. Сделай из него честного человека и хорошего сына; пусть он заменит тебе меня. Скажи ему, когда он вырастет, как я любил его, как смерть помешала мне ехать за ним. Скажи ему… — Однако предсмертная агония прервала его слова. Наступал конец. Он открыл на мгновение глаза и прошептал: — Мама! Позовите мою мать!
Вслед затем голова несчастного откинулась на подушки, а тело стало холодеть… Смертный час настал.
Герцогиня, за которой Люси тотчас же послала, приехала, когда Шарль уже был мертв. Она могла только опуститься на колени у тела сына и прочитать краткую молитву.
Люси отошла в сторону, не желая мешать горю матери; когда герцогиня выходила, то она почтительно поклонилась ей. Та сухо ответила на поклон и бросила на Люси гневный взгляд; она считала ее ответственной за смерть сына. Материнское горе часто бывает несправедливо.
III
В одно утро Наполеон встретил своего доктора Барри очень благосклонно. Врач стал говорить с ним не о его здоровье, так как Наполеон был совершенно здоров в этот день, а о новостях, сообщенных ему хозяином дома Киприани. Продавая прохладительные напитки матросам, прибывшим с мыса Доброй Надежды на корабле «Воробей», который остановился у острова Святой Елены, Киприани ухитрился достать несколько английских и итальянских газет, взятых в гавани Лиссабона.
В одной из газет было напечатано о решении австрийского императора по поводу сына Наполеона, лишавшим его наследства матери, герцогини Пармской.
— Я вовсе не сержусь на это решение, принятое моим тестем, — сказал император своему врачу. — Моему сыну лучше быть простым дворянином со средствами для поддержки в свете своего почетного звания, чем государем мелкого итальянского княжества. — Он взял большую щепотку табака, после чего пробормотал, кладя ногу на ногу: — Пожалуй, императрица огорчена, что сын не наследует ей, но я вовсе не печалюсь о том! Я не принадлежу по рождению к знати, доктор, и во мне было так мало дворянского, что это не идет в счет. С какой стати щеголять моему сыну пустыми титулами? Вместе с моим именем я доставил ему самый блестящий герб во вселенной. Пусть он хранит это наследие и опасается только потерять его, чтобы облечься в какую-нибудь смешную ливрею обветшалых монархий.
— Я полагал, — заметил доктор, — что вы принадлежите к старинному итальянскому роду.
Император расхохотался.
— Да, меня всегда старались выставить потомком подеста, итальянского градоправителя, — ответил он, — даже государем Византийской империи, латинских Бонапартов или Каламеносов по-гречески, более или менее порфирородных Константинов; иные утверждали, будто я внук Железной Маски, старшего брата Людовика Четырнадцатого, но все эти выдумки превзошла работа моего дражайшего тестя. — Наполеон взял новую щепотку табака и с насмешливой улыбкой стал рассказывать дальше: — Представьте себе, что император Франц, крайне дорожащий генеалогией и древностью рода, непременно хотел доказать, будто я происхожу по прямой линии от одного из древних правителей Тревизы. Слышали вы о том?
— Как же: это было перед бракосочетанием вашего величества с эрцгерцогиней.
— Да, ему вздумалось положить в свадебную корзинку дочери огромный сверток старых пергаментов, более или менее апокрифических. Целый полк архивариусов, секретарей, палеографов, писцов и стряпчих был занят тем, чтобы наводить справки насчет старинных знатных титулов. Императору Францу показалось, что он открыл у меня предка, некогда состоявшего подеста Тревизы, и он написал мне конфиденциальное письмо, спрашивая, желаю ли я опубликовать результат этих важных изысканий, облеченных в официальную форму. Я наотрез отказался принять участие в подобном фарсе и прибавил, что мне приятнее остаться сыном честного человека, простого корсиканского адвоката, чем каким-то правнучатым племянником безвестного тирана древней Италии. Я сам явился основателем династии. Вдобавок мною было представлено доказательство моей принадлежности к мелкому дворянству, достаточное и необходимое — до революции — для поступления в военное училище в Бриенне. Мой тестюшка не простил мне такого вольнодумства, — продолжал Наполеон, — и, поверьте, если я очутился на этом острове, чтобы умереть здесь медленной смертью, это вышло из-за того, что я не захотел подчиниться причудам отца моей жены. Какого-то Наполеона, какого-то Бонапарта можно сжить со света при содействии англичан, но с потомком тревизского тирана не поступили бы так бесцеремонно; со мной обращались бы тогда как с важным лицом, а не как со злодеем и авантюристом. Пожалуй, я напрасно отказался от участия в этой комедии, достойной мольеровского «Мещанина во дворянстве», но будущее подтвердит, что я был прав и что династия Наполеонов, вышедшая из народа, может возвратиться только к народу! — Император поднялся и, словно увлекшись новым воспоминанием, с живостью воскликнул, схватив собеседника за пуговицу фрака: — Представьте себе, доктор, что в мою родословную хотели включить даже святого! Откопали какого-то Бонавентуру Бонапарта, который жил и умер в монастыре в благоухании святости. Бедный инок был совершенно безвестен; глубочайшие знатоки агиографии не ведали ни его имени, ни подвигов благочестия. Вдруг — разумеется, после декрета, увенчавшего мою голову короной Франции, — услужливое духовенство вспомнило оного Бонавентуру Бонапарта с его многочисленными достоинствами, замечательными добродетелями делами милосердия. С похвальной поспешностью был поднят вопрос о том, чтобы причислить его к лику святых. Папа был тогда в моих руках и не отказал бы мне ни в чем, но разве не сказали бы впоследствии, что я злоупотребил своей властью ради включения святого угодника в свою родословную?
Разговор продолжался бы, потому что Наполеон был в духе и расположен к откровенности, но пришел лакей с докладом, что доктора требуют к губернатору. Откланявшись Наполеону, Барри О'Мира отправился к Хадсону Лоу.
— Однако вы долго беседовали сегодня поутру с генералом Бонапартом! — язвительно заметил губернатор, устремляя на доктора подозрительный взгляд.
— Да, ваше превосходительство, мы разговаривали о различных предметах.
— Каков же был предмет вашего разговора?
О'Мира закусил губу, а потом ответил:
— Наша беседа с генералом Бонапартом вращалась около воспоминаний и анекдотов, не представляющих никакой важности для английского правительства.
— Все, сказанное генералом Бонапартом, может казаться вам незначительным, но имеющим значение в моих глазах. Я один в состоянии судить о важности столь продолжительного разговора с узником. Потрудитесь немедленно передать все слова, которыми вы обменялись в Лонгвуде!
— Ваше превосходительство, — с твердостью ответил О'Мира, — если Наполеон не даст мне прямого разрешения повторить вам то, что он говорил, я не стану заниматься ремеслом доносчика.
— Это ваша обязанность, — резко возразил Лоу. — Вы должны передавать мне все, что составляет предмет ваших разговоров с генералом Бонапартом. Если вы не сделаете этого, то берегитесь! Вам запретят всякие отношения с ним, кроме тех, которые требуются вашей профессией, да и те будут происходить под контролем офицера.
— Да ведь вы предлагаете мне ни более ни менее как роль шпиона. Не рассчитывайте на такую гнусность с моей стороны!
Хадсон Лоу с удивлением посмотрел на этого ничтожного военного врача, который осмеливался сопротивляться ему и не соглашался шпионить за своим пациентом.
О'Мира между тем твердо продолжал:
— Неужели вы, назначив меня состоять при Наполеоне, думали навязать мне презренную и отвратительную роль, предоставляемую в тюрьмах самым закоренелым преступникам, которые за какую-нибудь милость выдают своих товарищей по заточению? Нет, я не буду ни доносчиком, ни шпионом!
— Шпионом! Вы думаете оскорбить меня, употребляя это выражение? Берегитесь, однако! Вы нарушаете уважение к первому лицу на острове — представителю британского правительства… Уходите отсюда, уходите!
С пеной у рта, размахивая кулаками направо и налево, точно стараясь поразить невидимого врага, Лоу находился все утро в неописуемой ярости. Причиной его раздражения вовсе не был разговор, который мог происходить между Наполеоном и его врачом, а нечто иное. От одного из солдат, прежде служивших под его началом на Капри, он получил такие сведения о Киприани, метрдотеле Наполеона, которые сделали для него этого Киприани крайне опасным. Дело состояло в том, что этот метрдотель императора состоял агентом французской полиции на Капри в 1808 году, в то самое время, когда там служил и сам Лоу, и что именно он обнаружил организованный последним заговор с целью умертвить брата Наполеона, Жозефа, бывшего в то время неаполитанским королем. Правда, этот заговор не удался благодаря одной молодой девушке, которую хотел подкупить некто Моска, капитан неаполитанской армии, чтобы она провела его к королю. Девушка догадалась о намерениях Моски и сообщила свои догадки Киприани. Хотя арестованный Моски и не выдал имени Хадсона Лоу, организатора заговора, тем не менее последний опасался теперь, что Киприани, пожалуй, знает истину и откроет ее Наполеону.
Однако это было не единственное преступление Лоу. Когда Киприани посвятил в известную ему тайну заговора неаполитанского комиссара полиции, своего родственника Соличетти, Лоу при пособничестве одного субъекта по имени Висконти, приехавшего специально с Капри и соорудившего адскую машину, попытался погубить Соличетти. Это покушение по счастливой случайности прошло благополучно для Соличетти, хотя его дом превратился в груду развалин, под которым погибла одна из его дочерей. Висконти был схвачен и расстрелян, а его отец, приговоренный к пожизненному тюремному заключению, выдал Киприани, что как покушение на жизнь короля Жозефа, так и взрыв дома Соличетти были задуманы Хадсоном Лоу, губернатором Капри, который дал на это деньги и нужные инструкции.
Но Соличетти все-таки стал жертвой Лоу. С течением времени он сделался министром полиции короля Жозефа, а потом, при Мюрате, организовал национальную гвардию в Неаполе. И вот однажды он был приглашен на официальный обед, затеянный не без соучастия Хадсона Лоу, а на другой день, 23 декабря 1809 года, внезапно скончался, по всей вероятности, отравленный. Киприани, сильно потрясенный внезапной смертью своего покровителя и родственника, не замедлил обвинить Лоу в этом новом преступлении.
После подобных событий не удивительно, что появление на острове Святой Елены храброго корсиканца сильно подействовало на Хадсона Лоу, этого тюремщика Наполеона.
Вдобавок он узнал, что другой корсиканец, по имени Сантини, хвастался, что при первом удобном случае всадит пулю в голову губернатора. Крайне трусливый, Лоу испугался теперь соглашения между Сантини и Киприани, а потому решил избавиться от последнего, Он надеялся, что доктор О'Мира, из страха или в расчете на повышение по службе, награды, примет участие в его планах, однако ошибся в своих расчетах.
Лоу заперся на целый день в кабинете, принялся составлять донесения, прочитывать полицейские заметки, отмечать бумаги, исписанные грубым почерком доносчиков.
На острове, между прочим, жил бедный негр-невольник по имени Тоби. Встречая его несколько раз, Наполеон ласково разговаривал с ним и наконец приказал Бертрану выплатить за него Капской компании требуемую сумму, чтобы выкупить старика из неволи. Тоби обожал Наполеона и называл его на своем наивном языке Бонн. Завидев императора во время кратких прогулок, негр издавал радостные восклицания, подносил ему орхидеи, сорванные им в расщелинах скал, дарил также птичьи перья ярких цветов и не знал, каким образом выразить свое почтение и привязанность царственному изгнаннику.
Между тем агент Капской компании, согласно воле Хадсона Лоу, не принял предложения о выкупе несчастного негра. Безжалостные палачи старались лишить императора даже нравственного удовлетворения, которое доставил бы ему этот выкуп.
По донесениям полиции, Киприани часто заходил в хижину Тоби и разговаривал с последним, потешаясь над его образным первобытным языком.
— Моя свобода, — говорил старик негр, — моя следовать всегда за Бонн. Моя остаться здесь, чтобы его видеть; моя уехать, если его уехать. Не надо свобода, когда Бони всегда пленник. Моя хочет свобода, чтобы следовать за Бони, когда французы призовут его назад, сделают из него великого начальника, великого императора.
Через несколько дней после разговора О'Мира с Наполеоном Киприани по привычке зашел в хижину негра, когда возвращался домой, закупив провизию. Тоби встретил его с восторгом и обещал угостить на славу. Недавно негру случилось оказать кое-какие мелкие услуги экипажу судна, зашедшего в порт, и в награду за это один из матросов принес ему четверть племпудинга, который и лежал на столе. Гость попросил старика приготовить ему чай, причем у него самого оказался при себе отличный ром. Друзья с аппетитом полакомились пирогом и запили его горячим грогом, после чего расстались, пожелав друг другу доброго здоровья.
На другой день у Киприани обнаружилось воспаление кишок, и болезнь быстро приняла опасный оборот. Призванный доктор О'Мира пустил больному кровь, сделал горячую ванну, однако неведомый недуг не поддавался лечению. Метрдотель дошел до крайней слабости и был близок к смерти.
Весть о его болезни чрезвычайно огорчила императора. Он часто посылал справляться о здоровье своего слуги, а когда услышал, что тот впал в беспамятство, то спросил свой мундир и собрался идти проведать умирающего.
— Я думаю, — сказал Наполеон, — что мое посещение Киприани даст благодательный толчок его натуре. Много раз на поле сражения стоило мне только приблизиться к раненым, чтобы у них хватало силы подняться и добрести до перевязочного пункта.
Однако в тот момент, когда император готовился выйти из дома в полной парадной форме, чтобы навестить умирающего слугу, ему доложили, что Киприани скончался.
Похороны состоялись на другой день. Генерал Бертран, граф Монтолон и весь остальной штат императора провожали тело до места погребения; к погребальному шествию присоединились также обитатели острова Святой Елены и офицеры 66-го полка. Наполеон в своем мундире полковника стрелков, в маленькой треуголке и орденской ленте, надеваемой им лишь в торжественных случаях, проводил гроб до границы, дальше которой ему не позволялось ходить одному. Тут он остановился и сказал растроганным голосом:
— Прощай, мой бедный Киприани! Англичане не разрешают мне отдать тебе последний долг до конца… Прощай!
Потом он долго неподвижно стоял, скрестив руки на груди, провожая взором процессию, которая извивалась по крутым склонам скал, спускаясь в долину, где верного слугу ожидало место последнего успокоения.
Хадсон Лоу также смотрел на погребальный кортеж из окон своего дома, и довольная, злобная улыбка освещала его отвратительное лицо: теперь ему нечего было опасаться разоблачений бывшего полицейского агента с острова Капри.
Весьма возможно, у него явилось также соображение о том, что яд, так успешно сделавший свое дело, мог бы оказать ему ту же услугу, избавив его от более важного и более опасного пленника. Но нет! Что сказал бы Священный союз? Как приняло бы британское правительство весть о смерти Наполеона, приписанной отравлению? Быть может, втайне его поступок был бы одобрен, но чтобы снять с себя подозрение, английское правительство, наверное, предало бы его суду и, пожалуй, казнило бы его. Значит, о том не подобало и думать.
Впрочем, согласно получаемым донесениям, император Наполеон был неизлечимо болен. Значит, было благоразумнее предоставить все времени, а пока, насколько возможно, не сокращать мученичества царственного узника.
Вечером после похорон Киприани губернатору донесли, что негр Тоби был найден мертвым в своей хижине.
— А я только что собирался подписать разрешение генералу Бертрану получить квитанцию за сумму выкупа этого чернокожего, — сказал Лоу. — Теперь в этом нет больше надобности. Нужно уведомить генерала Бертрана, чтобы он взял обратно из казначейства внесенные им деньги.
IV
Судно «Воробей» уже успело нагрузиться; его капитан по имени Бэтлер, видимо, готовился поднять якорь и даже сообщил флотским офицерам и негоциантам, собравшимся в «Адмиралтейской» гостинице, в порту Джеймстауна, что намерен вскоре поднять паруса и отплыть обратно в Англию, с заходом в Пернамбуко, где ему предстояло захватить груз.
На судне было два странных пассажира-купца; это были люди молчаливые, и они редко появлялись мельком в «Адмиралтейской» гостинице. Когда кто-нибудь высказывал удивление по поводу того, что они так редко съезжают на берег и сидят все время взаперти по своим каютам, капитан Бэтлер отвечал, что эти двое купцов, озабоченные своими торговыми операциями, вероятно, находят мало удовольствия на суше, что они усиленно заняты счетами и спешат уехать поскорее, так что даже торопили совершение формальностей, относившихся к их коммерческим сделкам на острове Святой Елены, чтобы не задерживать отплытия судна.
— Поверите ли, — сказал по этому поводу капитан Бэтлер небольшой компании пехотных офицеров, прихлебывая грог на веранде ресторана, — я до сих пор не смог убедить этих двоих джентльменов даже прогуляться по острову и посмотреть его достопримечательности… то есть сделать попытку увидеть его главную достопримечательность. Вы, конечно, понимаете меня, господа?
— Должно быть, вы хотите сказать, — заметил один из офицеров, — что ваши коммерсанты не захотели увидеть генерала Бонапарта?
— Вот именно. Очевидно, это даже не приходило им в голову. Признаюсь, однако, что я сам был бы не прочь перед возвращением в Англию увидеть хотя бы кончик носа или угол шляпы знаменитого пленника, о котором столько говорят в Европе…
— Если желаете, — любезным тоном сказал собеседник капитана, — то я могу доставить вам это удовольствие. Завтра я стою на карауле в Лонгвуде. Приходите к четырем часам вечера на перекресток дороги, ведущей к Пуншевой чаше Дьявола. Знаете, к тому высокому пику, который поднимается над Лонгвудом. Оттуда вам будет легко увидеть Наполеона, совершающего предобеденную прогулку пешком вокруг своего дома…
— А разве меня пропустят?
— Вы можете миновать первую цепь караульных; я сделаю распоряжения на этот счет; но не доходите до второго ряда стражи, для этого вам понадобился бы пропуск от губернатора.
— Благодарю вас. С меня будет достаточно увидать пленника хотя бы издали. Ах, кстати: могу я привести с собой моих двух пассажиров?
— К этому нет никаких препятствий.
— Я полагаю, что они согласятся пойти со мной, В компании прогулка будет приятнее. Дорогой мы позавтракаем. Я захвачу с собой съестных припасов и своего юнгу, который зачерпнет нам воды из источника. Это будет настоящий пикник! Премного обязан вам, поручик! Еще стаканчик грога?
— С удовольствием, — ответил поручик, придвигая свой стакан. — Ах, вот что: не забудьте, что вам нужно выйти за линии караульных в окрестностях Лонгвуда до заката солнца, иначе вы рискуете быть подстреленным из-за деревьев.
— Благодарю за совет, поручик, мы будем сообразовываться с ним.
Вскоре после этого капитан Бэтлер вернулся к себе на судно и тотчас же посвятил в план затеянной прогулки своих пассажиров-купцов, которые были не кто иные, как ла Виолетт и Эдвард Элфинстон. Они очень обрадовались. Увидеть императора хотя бы издали было их самым заветным желанием. Ради безопасности и сообразуясь с советами Гурго они избегали до сих пор приближаться к императорской резиденции. Но так как отплытие корабля было неизбежно, а предложение поручика внушало им полное доверие, то они и решили воспользоваться им.
Они решили отправиться на другой день втроем в Лонгвуд. Из предосторожности они не хотели брать с собой никого из судового экипажа, кроме малолетнего юнги, которого капитан Бэтлер прозвал Нэдом. Последнему было вменено в обязанность нести провизию, ходить за водой и прислуживать во время привала, который они собирались устроить под тенью какого-нибудь бананового дерева на Лонгвудской дороге.
Путешественники вышли из порта поутру, желая воспользоваться часами свежести, чтобы одолеть склоны утесов, пройти половину подъема по плоскогорью к полудню и позавтракать тут в тени. Нэд тащился за ними, сгибаясь под тяжестью ноши, состоявшей из довольно обильного запаса съестного.
Заметив усталость ребенка, ла Виолетт сказал ему:
— Дай-ка мне это сюда, мальчуган. Ты еще перебьешь нам бутылки дорогой.
И он взвалил тяжелую сеть на свои могучие плечи.
Экскурсанты начали подъем в очень томительную погоду, среди туманов, чередовавшихся со жгучим зноем. Остров Святой Елены состоит сплошь из цепей высоких круглых гор. Его пики, достигающие местами высоты 2400–3000 метров, разделены узкими и глубокими оврагами. Он представляет собой весь не что иное, как ряд пропастей и обрывистых вершин. Пик Дианы высочайший во всем хребте с его отрогами. К счастью, в этой скалистой пустыне попадались оазисы, благодатные зеленеющие уголки с деревьями и цветами, где глаз отдыхал от общего бесплодия. Обитаемый вид придавали угрюмому острову только Плантэшн-Хауз, жилище губернатора, Бриар, жилище семейства Бэлкомб, Сэнди-Бэй (Песчаная Бухта) и некоторые другие тенистые места, поросшие лесом.
Лонгвуд, где стоял дом Наполеона, представлял собой обширное плоскогорье. Единственной растительностью там были низкорослые каучуковые кустарники с узкими листьями, дававшими мало тени. Плоскогорье было безводно и открыто влажному юго-восточному ветру, нагонявшему беспрерывные туманы и частые дожди, которые делали скользкой глинистую почву. Изменения температуры происходили здесь внезапно и часто. Эти резкие переходы от жары к холоду и обратно, действуя на кровеносные сосуды, вызывали болезни печени и кишок. Хотя с первого взгляда Лонгвуд казался здоровым по своему высокому положению, однако ни губернаторы острова Святой Елены, ни агенты Индийской компании, которым отводили эту резиденцию на лето, никогда не соглашались жить там из-за ее нездоровых свойств.
Англия и тут нашла средство сделать более тягостным заточение Наполеона на этом проклятом острове, отведя ему для жительства именно Лонгвуд. Хадсону Лоу незачем было мечтать об отраве, которая, будучи дана узнику, не оставила бы следов: пребывания в Лонгвуде было достаточно, чтобы в недолгий срок избавить Англию от великого пленника, так как приходские местные книги подтверждают, что лишь немногие переживали там сорокапятилетний возраст, погибая главным образом от болезней печени и дизентерии.
Ла Виолетт и Элфинстон в обществе капитана Бэтлера и в сопровождении маленького юнги Нэда поднимались по скалистым уступам, которые вели к Лонгвуду; печально окидывали они взорами угрюмую местность, где перед ними внезапно вставали стены утесов, замыкавшие горизонт, заслонявшие свет и преграждавшие доступ свежему воздуху.
— Это прямо какой-то крепостной двор! — воскликнул капитан Элфинстон.
— Или скорее тюремный! — подхватил ла Виолетт. — Ах, как должен стариться наш император в такой яме! А он еще отказывается бежать отсюда при нашем содействии! Впрочем, это из-за сына. Как он любит его! Бедный маленький Римский король! Он теперь — пленник беломундирников, как его отец — пленник красномундирников. После всего этого, право, не хочется быть ни французом, ни мужчиной, никем! Черт возьми, какой позор для Франции, что она терпит подобные вещи! По-видимому, в ней перевелся мужской пол!
Старый тамбурмажор сопровождал свою негодующую речь взмахами трости, от которых пострадало немало каучуковых кустарников, попадавшихся ему под руку. Почтенному ветерану было необходимо сорвать на чем-нибудь сердце при мысли об императоре, заточенном в эту скалистую тюрьму, тогда как его сын, маленький кудрявый король, чах в раззолоченной клетке в стенах венского дворца.
— Успокойтесь, — сказал наконец ла Виолетту Элфинстон, — этак вы перебьете все наши бутылки, и нам придется утолять жажду одной водицей из горных родников!
— Вы правы, — промолвил старик, опуская трость, — что толку в бессильном гневе! Ах, если бы мне попались все эти негодяи, которые предали, мучили императора! Однако, чтобы не разбить полных бутылок, не приступить ли нам к их осушению?…
— Вот это дело! — одобрил капитан Бэтлер. — I А тут как раз и тенистое местечко, покрытое мхом, с маленьким источником, сочащимся между скал… Наше капское вино освежится в ледяных струях, и мы угостимся на славу! Эй, Нэд, поворачивайся, накрывай стол!
Тамбурмажор положил на землю сетку с провизией, юнга вынул стаканы, поставил бутылки с вином в расщелину скалы, под струю холодной воды, и стал прислуживать экскурсантам.
После завтрака было решено отдохнуть в тени, так как Наполеона можно было увидеть во время его кратковременной прогулки пешком лишь около четырех часов вечера. Пока трое товарищей отдыхали на мху, освежаемом родником, под сенью скалы, поросшей каучуковыми кустарниками, юнга воспользовался часом свободы. После долгих месяцев, проведенных в междупалубном помещении корабля, он не помнил себя от радости при виде солнца и деревьев, был опьянен чистым воздухом, очарован пением птиц в кустарниках и незаметно удалился от импровизированного бивуака, где трое взрослых, валяясь на траве, отдавались чарам сна, приятного и необходимого в жаркие часы дня в тропических странах.
Мальчик шел без цели по каменистой тропинке, огибавшей утес, и достиг обширной равнины, где белели палатки. Солдаты варили тут пищу, чистили оружие, играли в мяч, ударяя по нему палками. Юнга смотрел на них издали, но, заметив на опушке рощицы караульного в красном мундире, удалился, боясь выговора. Ему хотелось вернуться назад, однако он ошибся тропинкой… Немного испуганный, опасаясь гнева капитана Бэтлера, Нэд ускорил шаги. Тропинка вела под гору и расширялась. Мальчик вышел на прогалину с черной будкой и барьером, выкрашенным в белую краску и преграждавшим дорогу, со свободным пространством справа и слева для проезда верхом. Юнга — это был Андрэ — смело миновал это заграждение и вступил на участок, который был хорошо возделан. Тут попадались неровные аллеи, местами подстриженные деревья, купы каучуковых кустарников и терновника, посаженных посреди зеленых полян. Юнга подавался дальше, обливаясь потом, встревоженный мыслью о капитане, который непременно разбранит его за самовольную отлучку.
Через некоторое время у него защемило сердце: а вдруг капитан со своими товарищами повернет назад и переправится на свое судно «Воробей»? Что, если он не поспеет к отплытию? Что с ним будет тогда на этом острове, где у него нет ни единого знакомого человека? Каким образом вернется он отсюда в Европу!
Положим, Андрэ не боялся больше одиночества и беззащитности. Обстоятельства перевоспитали его, и он чувствовал себя способным выпутаться из беды собственными силами. Но ему хотелось возвратиться в Англию, а оттуда во Францию. Андрэ постоянно думал о своей доброй, кроткой, ласковой матери. Она постоянно вспоминалась ему — миловидная, белокурая, с большими голубыми глазами, с улыбкой на лице. Он не забыл материнских объятий и был уверен, что найдет свою мать. Он говорил себе, что вырастет здоровым и сильным, сделается мужчиной, закаленным путешествиями, опытным матросом, который ничего не боится. Тогда под охраной своего звания матроса королевского флота, не опасаясь больше попасть в когти какого-нибудь мистера Тэркея, хотевшего сделать из него жулика, не боясь, что его удержат в воровском притоне вроде приюта миссис Грэби или арестуют за бродяжничество, он будет наводить справки между двумя плаваниями, осведомляться по всем местам и наконец отыщет свою мать.
Андрэ снова вспомнил Анни, которую он также сильно хотел увидеть. Сколько они порассказали бы теперь друг другу о своих приключениях! Как-то поживает бедная девочка? Неужели по-прежнему продает букеты у входа в винные погребки? Поджидала ли она его, согласно своему обещанию, в Холборне и что подумала, когда он не пришел? Ведь девочки не понимают, что такое мореплавание. Анни воображала, что можно вернуться со Святой Елены так же скоро, как из Гринвича. Если капитан отправится в Пернамбуко, то Бог весть когда еще увидишь Лондонский мост и Анни с ее лотком, нагруженным цветами, у лавки пирожника, где они так славно угощались лимонадом!
Андрэ скрыл от капитана Бэтлера все, что касалось его детства, и свое похищение зловещей ночью тем гадким человеком. Он сообщил только, что его родители жили на материке и что он со временем увидится с ними. Капитан уверил его, что поможет ему в этих розысках, когда мальчик подготовится к плаванию в торговом флоте, после чего будет принят на военный корабль. Значит, ему надо было держаться капитана, вернуться на судно и отплыть в Европу.
При мысли о том, что он рискует остаться здесь, покинутый на этом острове, Андрэ почувствовал, что мужество оставляет его, а из глаз у него текут слезы. Однако он не уступал малодушию, будучи наделен ранней энергией и твердой волей.
Мальчик торопливо двигался по дороге, которая все расширялась и становилась красивее, напоминая почти садовую аллею. Вдруг на повороте этой аллеи он увидел убогий дом, низкий и как будто обитаемый, а в нескольких шагах оттуда довольно полного мужчину в нанковом костюме и соломенной шляпе. Этот человек медленно шел ему навстречу, как будто погруженный в глубокое раздумье. Иногда он останавливался и, вынув из кармана табакерку, брал из нее щепотку табака, а потом направлялся дальше, словно не замечая окружающих предметов. При виде этого господина юнга, собиравшийся уже зайти в дом, чтобы спросить, как ему добраться до порта, решил подойти к нему.
Гуляющий остановился, как делал уже несколько раз, после чего сел на камень и стал вытирать платком вспотевший лоб. Мальчик приблизился, не замеченный им, и спросил по-английски:
— Извините, ведет ли эта дорога к морю… в порт, где стоит на якоре судно «Воробей»?
Наполеон с удивлением посмотрел на подростка, заговорившего с ним так бесцеремонно, и спросил на плохом английском языке:
— Кто ты, мальчуган?
— Нэд, юнга с корабля «Воробей».
— Английское судно?
— Да… капитан Бэтлер…
Император вздрогнул. Это имя было знакомо ему, оно принадлежало одному из тех храбрецов, которые жертвовали собой для его освобождения. Он с любопытством посмотрел на мальчика и спросил опять:
— Кем же ты прислан сюда? Капитан Бэтлер дал тебе какое-нибудь поручение ко мне? Надо быть осторожным, дитя мое; я не должен получать никакого письма, никакого уведомления, никакого предмета без ведома губернатора. Если ты попадешься, тебя накажут.
— У меня нет никакого письма к вам, никакого поручения, — со смехом возразил Андрэ. — Я не знаю вас. Но так как вы кажетесь хорошим человеком, то не примете ли от меня вот этот, сорванный мною, цветок? Это все, что я могу вам дать.
Наполеон улыбнулся наивности маленького матроса и с удовольствием взял из его рук орхидею. Он пошарил в кармане, отыскивая монету, но карман оказался пустым, и император, сделав гримасу, сказал:
— Тебе не везет, мальчик! Мой камердинер Маршан забыл положить мне денег.
— Что же за беда? — возразил Андрэ. — Ведь я не нищий. Я молодой матрос с судна «Воробей»; мне ничего не надо, как только узнать дорогу отсюда в порт.
. — Ей-Богу, — ответил император, — я не в меньшем затруднении, чем ты. Мне совсем незнакомы эти дороги, — прибавил он со вздохом, — хотя я живу довольно давно на этом острове. Постой, однако! Сейчас из этого дома, который я занимаю, должен прийти кто-нибудь. Тогда тебе укажут, как добраться до гавани… — Наполеон внимательно рассматривал стоявшего перед ним смелого мальчика и наконец вполголоса пробормотал по-французски: — Мой сын приблизительно таких же лет. Когда-то я увижу его вновь? Боже мой! Придется ли мне обнять его, прежде чем умереть на этом острове?
И его светлые глаза подернулись слезами.
Удивленный тем, что он слышит французскую речь, Андрэ с большим интересом пригляделся к этому джентльмену в нанковой паре, который казался таким огорченным, и спросил его на своем родном языке:
— Вы плачете? Не я ли это опечалил вас?
Наполеон вздрогнул, услышав, что юнга говорит по-французски. Он поспешно провел рукой по влажным глазам и с улыбкой тихонько ущипнул его за ухо, говоря:
— Значит, ты понимаешь по-французски, маленький проказник? Однако ты — англичанин?
— Нет, я родился во Франции, в Париже. Только я служу юнгой на корабле английского флота.
— Вот как? А твои родители?
— Мои родители во Франции. Я увижусь с ними по возвращении в Европу, — ответил Андрэ, который не хотел посвящать этого незнакомого господина ни в свои приключения, ни в свои ранние горести.
— Твои родители будут очень счастливы, — со вздохом пробормотал император. — Величайшее утешение для человека иметь возможность сказать в конце жизни: «Сыновняя рука закроет мне глаза», А чем занимается твой отец? — продолжал Наполеон, оправившись и стараясь рассеяться от осаждавших его дум невинным разговором со свежим человеком, попавшимся ему.
— Мой отец — сын военного, — уклончиво ответил Андрэ, — одного из солдат Наполеона.
— Неужели? — с улыбкой подхватил император. — Так, значит, твой дед служил Наполеону? А знаешь ли ты Наполеона? Слыхал ли ты о нем?
— Да. Я знаю, что он живет на этом острове. Но я никогда не видел его. Он вовсе не бывает в гавани.
— Не потому, чтобы не имел к тому охоты, — со смехом подхватил пленник, а затем прибавил, с умилением глядя на юнгу: — Дитя мое, я очень рад, что встретился и поговорил с тобой. У меня также есть сын твоих лет, похожий на тебя. Он живет в Вене, взаперти. Я никогда не получаю от него писем. Неизвестно, что готовит тебе будущее. Так как твой дед служил Наполеону, то когда ты увидишься с ним, покажи ему вот это. Он объяснит тебе, кто изображен на этом портрете. — И, вынув из кармана серебряную табакерку, из которой он нюхал табак, с крышкой, украшенной его портретом — довольно схожею миниатюрой, — император подал ее Андрэ, сказав: — Возьми это на память! Ты подарил мне цветок, и я должен оставить тебе что-нибудь в знак нашей встречи. Храни всю жизнь этот портрет! Он мой. Если когда-нибудь судьба приведет тебя в Вену, то покажи его любому старому солдату и спроси, как тебе добраться до сына этого человека. С этим портретом ты будешь допущен к моему сыну и скажешь ему, что встретил на острове Святой Елены его отца, который был очень несчастлив, и… — Волнение душило Наполеона, но он поспешно закончил: — Тогда мой сын наградит тебя, отблагодарит. Прощай, дитя мое! Так как ты француз, хотя и служишь в английском флоте, то думай о своем отечестве, помни всегда Францию!
Угнетаемый мыслью о сыне и желая остаться наедине с самим собой, чтобы погрузиться в свои горькие размышления, Наполеон поспешил уйти прочь от Андрэ, несколько удивленного и не понимавшего хорошо печали этого господина в нанковом костюме, который подарил ему красивую табакерку, украшенную портретом, изображавшим человека в темно-зеленом мундире, с золотыми эполетами и. орденской лентой через плечо. Однако шум шагов поблизости и голоса заставили императора остановиться. На некотором расстоянии, на повороте тропинки, показалось трое людей, точно так же удивленных.
— Вот он! Вот он! — воскликнул один из них.
— Нэд стоит возле него, — продолжал другой. — Что он там делает, плутишка?
Третий, самый высокий, с длинной седеющей эспаньолкой, быстро вращавший своей тростью, неподвижно остановился, вытянувшись в струнку, и, взяв под козырек, громко крикнул:
— Да здравствует император!
Его два спутника бросились к нему, чтобы заставить его молчать, и с беспокойством озирались по сторонам, точно боясь, чтобы какой-нибудь английский караульный не услыхал этого — мятежного крика, вырвавшегося из груди ла Виолетта. Однако нагроможденные со всех сторон скалы заглушили этот звонкий возглас, и лишь дикое эхо пропастей подхватило восторженное приветствие старого солдата.
Растроганный и довольный император жестом поблагодарил неведомых друзей, которые в его одиночестве и безотрадном изгнании приветствовали павшее величие кликом былой славы и торжества, а затем, избегая навлечь беду на этих отважных сподвижников, а на себя самого подозрение в том, что он поощряет изъявления запретной верности, направился по тропинке обратно в Лонгвуд и вскоре исчез за крутым поворотом.
Когда трое товарищей, восхищенные тем, что повидали императора, и обрадованные удачей своей опасной затеи, спускались к морю, обмениваясь впечатлениями, Андрэ, спрятав на груди табакерку с портретом, говорил себе, в удивлении и восторге: «Значит, этот полный мужчина, такой добродушный и плакавший, говоря о своем сыне, и есть Наполеон? О, когда я вырасту и разыщу свою маму, то поеду в Вену, где постараюсь, как он мне велел, добраться до его сына, чтобы показать ему портрет. Но я не отдам принцу своего подарка, нет! Он мой: я буду хранить его всю жизнь.
V
Лонгвуд пустел: Киприани умер; Гурго уехал в Европу; Сантини был выслан ввиду его обострявшейся экзальтации, граничившей с безумием. Он только и твердил, что прострелит голову Хадсону Лоу. Графиня де Монталон также пожелала вернуться во Францию, ссылаясь на расстроенное здоровье. Весьма вероятно, что и властный характер этой особы сделал невозможным ее дальнейшее пребывание при маленьком дворе на острове Святой Елены. Наконец, по приказу губернатора, был вынужден покинуть свою должность агента-поставщика Бэлкомб, великодушный англичанин, встретивший с особым радушием Наполеона по его прибытии в изгнание. Он пришел в слезах, со своими обеими дочерьми проститься с императором.
Расстроенный Наполеон, стараясь скрыть свою печаль по поводу этого отъезда, принялся шалить с Бетси Бэлкомб, как в то счастливое время, когда еще он был здоров, и, рассчитывая на кратковременность своей ссылки, он жил в Бриаре и играл в жмурки с маленькой проказницей.
Знаменитому изгнаннику угрожало почти полное одиночество. В то же время строгости английского губернатора становились все нестерпимее, оскорбления — беспрерывнее. Хадсон Лоу следил за успехами болезни своего пленника и как будто из утонченной жестокости ускорял ход недуга, поддерживая Наполеона в состоянии вечного раздражения и гнева. Смерть принцессы Шарлотты, которой предстояло сделаться королевой Англии и которая, благоволя к ниспровергнутому императору, обещала даже по достижении трона обращаться с ним как с государем, а не как с пленным авантюристом, — окончательно повергла изгнанника в глубокое уныние. Когда по вечерам на его жилище спускались густые тени, он погружался в зловещее уныние, уже чувствуя дыхание смерти. Когда ему снова предложили план побега, Наполеон отверг его еще решительнее прежнего.
Капитан Элфинстон с ла Виолеттом побывали в Пернамбуко, виделись с капитаном Лятапи, окруженным флибустьерами, которые рвались к отплытию на остров Святой Елены, мечтая в случае надобности сразиться с английским крейсером, чтобы вырвать даже вооруженной силой царственного пленника из рук его тюремщиков. Оба заговорщика вернулись на судне капитана Бэтлера обратно в Джеймстаун и имели тайное свидание с Бертраном. Переговоры, начатые с Гурго, возобновились. Флибустьеры были подготовлены, успех побега не оставлял сомнений. Бертран вторично изложил Наполеону задуманный план. В назначенный момент хорошо вооруженные два корсарских судна капитана Лятапи должны были очутиться поблизости острова с четырьмястами флибустьерами на каждом из них. Как Элфинстон и ла Виолетт объясняли раньше Гурго, под предлогом необходимости запастись пресной водой в маленькой бухте острова будут выгружены бочки. Наполеон запрется у себя в спальне, сказавшись больным, а потом потихоньку выйдет, и его проведут по тропинке к месту водоснабжения. Там он спрячется в пустую бочку и будет доставлен на борт одного из корсарских кораблей. В случае открытия его бегства капитан Лятапи распорядится так, чтобы корабль с беглецом ускользнул, тогда как другой задержит суда, высланные за ним в погоню. План был соблазнителен и весьма исполним; но Наполеон еще раз поблагодарил своих добровольных избавителей и отказался.
— Передайте этим великодушным гражданам, — ответил он Бертрану, — что я благодарю их за усердие, но их затея — чистое безумие. Я должен умереть на этом острове, или пусть Франция посылает сюда за мной. Я не могу скрыться отсюда как беглый. Я должен покинуть остров Святой Елены явно или по приказу английского правительства, вернувшегося к чувствам гуманности и справедливости, которые в былое время я оказывал ему, или по торжественному требованию Франции, которая снова пожелала бы поставить меня во главе своих войск и доверить мне правление. Передайте также этим людям, что их предложение доставить меня в Соединенные Штаты под защитой этих храбрых флибустьеров способно соблазнить всякого другого, кроме того, кто видел у своих ног всю Европу. Что мне делать в Соединенных Штатах? Там я буду скоро забыт. Ей-Богу, лучше оставаться на этой скале; она привлекает взоры всего света, короли со своих тронов смотрят на нее с тревогой. Будущее, пожалуй, отомстит за меня! Ах, если бы вместо Соединенных Штатов мне предложили надежный приют в Англии, может быть, я измерил бы свое решение1 На английской земле, в виду берегов Франции, нельзя предвидеть все случайности, все шансы, которые могли бы представиться, но я должен остаться здесь, если вы не можете мне предложить или почетный приют в Англии, или… — Наполеон прохаживался большими шагами во время этой речи. Он вдруг посмотрел на портрет своего сына и сказал: — Мое мучение, Бертран, послужит венцом моему сыну! Передайте все это двум великодушным друзьям, рискующим жизнью, чтобы увезти меня отсюда. Я благодарю их и остаюсь при своем отказе!
Бертран вернулся к капитану Элфинстону с его товарищем и сообщил им твердое, окончательное решение императора. Заговорщики не стали настаивать, они удалились, удрученные, потому что посвятили этому предприятию свою жизнь, которая с этих пор показалась им бесцельной.
— Теперь нам здесь нечего больше делать, — сказал Элфинстон ла Виолетту. — Надо решиться на отплытие в Европу. Более продолжительное пребывание на этом острове, пожалуй, внушило бы подозрение губернатору. У меня же нет ни малейшей охоты познакомиться с понтонами — плавучими тюрьмами, где столько ваших соотечественников томилось в неволе.
По настоянию обоих товарищей капитан Бэтлер поднял якорь. На этот раз они окончательно возвращались в Англию, утратив всякую надежду поколебать решимость Наполеона. Дорогой Элфинстон и ла Виолетт несколько раз заговаривали на палубе с маленьким юнгой Нэдом, а на мелкие услуги с его стороны угощали его ромом или виски. Но этим ограничивались все их сношения с ребенком Люси, которого они не смогли угадать под скромной одеждой матроса в то время, как корабль «Воробей» скользил по лазурным гребням волн.
Между тем ежедневные притеснения Хадсона Лоу продолжались. Положение становилось все более и более невыносимым для Наполеона и его товарищей. Когда они уговаривали императора обратиться к Европe с мемуаром по этому поводу, он, сознавая бесполезность всяких жалоб, которые только радовали его врагов, но не обнаруживали их вражды, отвечал:
— Надо переносить эту муку и покорно подниматься на нашу Голгофу, господа! К несправедливости, к насилию Англия и государи, одобряющие ее недостойное обращение с нами, присоединяют обиду, медленные пытки. Если я был для них так вреден, почему не отделались они от меня? Нескольких пуль в сердце или в голову было бы достаточно для этого. В подобном преступлении обнаружилась бы хотя какая-нибудь энергия… Ах, мне известно, что ссылаются на то, будто я пользуюсь весьма достаточным содержанием на мой стол и вино. Если бы не вы с вашими женами, я не согласился бы получать здесь ничего, кроме пайка простого солдата. Каким образом европейские государи могут допускать в моем лице осквернение священного характера верховной власти? Разве они не видят, что убивают его своими руками на этом острове? Я входил победителем в их столицы; если бы я действовал в их духе, что было бы с ними? Все они называли меня своим братом, и я был им по выбору народов, по санкции победы, по характеру религии, по союзам их политики и крови… Неужели они думают, что здравый смысл народов не оценит их морали? Чего ожидают они от своих действий? Во всяком случае — заявите эти жалобы, господа! Пусть Европа узнает о них и возмутится. Но жаловаться мне — значит уронить свое достоинство и сан. Я приказываю или молчу.
Строгости Хадсона Лоу удвоились с той поры, как он был наведен на след заговора, имевшего целью побег Наполеона Им была захвачена и тщательно осмотрена шашечница, посланная Элфинстоном и содержавшая в себе план бегства. Однако последний был совсем неразборчив и не содержал в себе ни имен заговорщиков, ни способов доступа к острову Святой Елены. Таким образом губернатор ограничился тем, что усилил надзор и увеличил оскорбительные предосторожности.
Положение сделалось настолько невыносимым, что одно время приближенные Наполеона опасались, как бы он не прибег к самоубийству. Когда врач стал ободрять его, как будто стараясь предотвратить мысль о добровольной смерти, император с твердостью ответил ему, что человек более выказывает истинное мужество, перенося несчастья и преодолевая бедствия, чем избавляясь от жизни.
— Самоубийство — поступок, достойный разорившегося мота, игрока, спустившего все, — прибавил Наполеон, — и доказывает только недостаток энергии и терпения. Успокойтесь, доктор, я не посягну на свою жизнь. Но для меня было бы благодеянием, если бы британское правительство положило ей конец.
Мрачное желание императора не замедлило исполниться, хотя и косвенным путем. Последнее оскорбление со стороны Хадсона Лоу заключалось в том, что он отнял у него врача О'Мира, который пользовался большим доверием Наполеона. После того как О'Мира отказался играть роль шпиона, губернатору вздумалось навязать пленнику врача по своему выбору, некоего доктора Бакстера. Однако Наполеон отказался принять его. С той поры губернатор не получал уже бюллетеней о здоровье пленника.
Хотя Наполеон не согласился обратиться с новой жалобой к Европе, однако он позволил Бертрану и своим остальным товарищам послать письмо с изложением обид и просьб изгнанников генерал-адъютанту Томасу Риду. Оскорбленный донельзя тем, что у него отняли врача, которому он доверял, император сделал собственноручную приписку к этому посланию:
«Пусть сообщат принцу-регенту о поведении моего убийцы, чтобы он был примерно наказан. Если принц не сделает этого, то моя смерть ляжет пятном позора на английский царствующий дом».
Барон Штормер, комиссар австрийского правительства на острове Святой Елены, в донесении князю Меттерниху так оценил действия Хадсона Лоу:
«Чем более вникаешь в поведение губернатора, тем более недоумеваешь, как могли английские министры так ошибиться на его счет. Если требовался простой тюремщик, то его было можно найти; но английская нация ревниво оберегает свою репутацию великодушия и справедливости, приобретенную по праву в тысяче других случаев, и если она придает какую-либо цену суду истории, то ей нельзя было сделать худший выбор. В Англии множество людей честных, порядочных и неподкупных, но было бы муд. рено найти в ней более бестактного, сумасбродного и отталкивающего, чем Лоу».
Этот отзыв одного из союзников Англии доказывает, что не одно французское пристрастие клеймит в этом губернаторе презренного тюремщика и обре-кает его на осуждение потомков.
Между тем, когда стали обнаруживаться предосудительные поступки Хадсона Лоу в отношении его пленника, уже в общественном мнении происходила благоприятная реакция. Множество англичан протестовало, открыто изъявляя свое неодобрение.
Состояние здоровья Наполеона, получив огласку (Гурго, как и пассажиры корабля «Воробей», содействовали распространению истины на этот счет в Европе), привлекло некоторое сочувствие общества к знаменитому пленнику. Папа Пий VII написал союзным монархам, собравшимся на конгресс в Ахене, следующее послание:
«Наполеон очень несчастлив. Мы забыли его прегрешения. Церковь никогда не должна забывать оказанные им услуги. Знать, что этот злосчастный страдает, — уже мука для нас. Мы не желаем и не можем желать увеличения постигших его бед. Наоборот, мы от глубины сердца желаем, чтобы ему облегчили страдания и сделали жизнь более сносной».
Папа закончил это свое послание предложением союзникам дать Наполеону убежище в Риме, около его матери.
Со своей стороны, мать великого императора, Летиция, передала союзным государям через кардинала Феша следующее трогательное письмо:
«Ваши Величества! Мать, огорченная до последних пределов, давно надеялась, что Ваши милости вернут ей ее покой. Не может быть, чтобы пленение императора Наполеона не давало Вам основания справиться о его состоянии и чтобы Ваши великодушие, положение и воспоминания о былых событиях не возбудили у Вас мысли об освобождении государя, который когда-то пользовался Вашими вниманием и интересом. Неужели же Вы дадите сгинуть в ссылке государю, который, доверившись в приливе великодушия своим врагам, отдался в их руки? Мой сын мог бы просить убежища у австрийского императора, своего тестя; он мог бы вручить свою судьбу в руки великодушного русского императора, бывшего когда-то его другом; он мог бы укрыться у прусского короля, который при виде несчастья императора вспомнил бы о прежнем союзе. Но неужели Англия должна была наказать его за то доверие, которое он выказал по отношению к ней?
Императора Наполеона больше нечего бояться, он слишком болен. Но если бы он и был здоров, если бы снова Провидение вложило в его руки все те средства, какими он когда-то располагал, он все-таки не пошел бы на гражданскую войну.
Ваши Величества! Я мать, и жизнь сына для меня дороже собственной жизни. Простите ради моей скорби ту смелость, с которой я обращаюсь к Вам. Во имя Всеблагого прикажите прекратить мучения моего сына, дайте ему свободу!»
Письмо заканчивалось следующей категорической просьбой: «Если монархи не сочтут возможным возвращение Наполеона в Европу, то пусть они по крайней мере разрешат его матери разделить плен с ним на острове Святой Елены».
На это письмо не последовало никакого ответа. Презрительным молчанием матери было отказано поселиться около умирающего сына…
Король Жером тоже тщетно молил принца-регента Англии о разрешении посетить больного брата в сопровождении своей жены и сына. «Основания, священные и уважаемые всем человечеством, будут, без сомнения, приняты во внимание также и Вами, Ваше Королевское Высочество», — так заканчивал он свое письмо, в котором просил как о милости того, что разрешается родственникам самых страшных злодеев и преступников — свидания с арестантом. Но принц-регент вместо резолюции написал на письме: «Не к чему!»
Тем временем Хадсон Лоу в своем домашнем кругу выказывал все большую и большую радость. Он приказал подавать ему особые бюллетени о ходе болезни императора; читал и перечитывал их со все возрастающим чувством удовлетворения, покачивая головой и радостно потирая руки. Вот что говорит один из бюллетеней:
«Вчера Бонапарт принял очень горячую ванну, что страшно ослабило его. Его ноги раздулись; в конечностях он ощущает сильный холод. Его пульс, делавший прежде 55 ударов, теперь еще замедлился. Циркуляция крови все замедляется, и следствием этого и явился отек ног».
Ненависть отличается своего рода ясновидением, В то время как близкие считали Наполеона только расхворавшимся, Хадсон Лоу не ошибался, предугадывая, что все кончено и что эта болезнь — предсмертная агония.
Утром 2 апреля 1821 года император почувствовал первый приступ обострения и понял, что агония уже началась. Он встал рано утром и отправился прогуляться в сад. Но вскоре Монтолон застал его сидящим на траве, причем Наполеон держался за грудь и сказал:
— Я чувствую страшную тошноту и спазмы. Это вестник близящейся смерти, известие о которой трубным звуком отдастся в ушах всего человечества! — И он попытался улыбнуться.
В тот же день поднялась сильная рвота.
Окружающие понимали всю опасность, грозившую великому человеку, и 17 марта Монтолон написал принцессе Боргезе:
«Он, видимо, тает с каждым днем; у него ужасная слабость, он не может без посторонней помощи даже пройтись по комнате. К болезни печени прибавилась какая-то другая, одинаково гибельная на этом острове. Его внутренности сильно поражены, желудок выбрасывает вон все, что получает. Император не может есть ни мяса, ни хлеба, ни овощей. Его питание поддерживается только бульоном и желе. Император рассчитывает на Вас, Ваше Высочество, что Вы оповестите влиятельных англичан о действительном состоянии его здоровья. Он умирает без врачебной помощи на этой ужасной скале. Его агония ужасна».
Это письмо должно было пройти через руки Хадсона Лоу. Но губернатор отказался отправить его под тем предлогом, что там говорилось о каком-то императоре, тогда как он, отлично осведомленный о происходящем на острове Святой Елены, не знает о присутствии такового на острове, а потому не может переслать в Европу документ, способный обмануть общественное мнение и заставить его поверить, будто на острове держат в плену какого-то императора! Эта плоская ирония доставила много удовольствия самому Хадсону Лоу.
Так как он постарался устроиться так, чтобы его ответ с этой мотивировкой стал известен императору, то он не мог отказать себе в удовольствии побродить около Лонгвуда, надеясь увидать в окно Наполеона и полюбоваться его возмущением. Мало того: Лоу сделал вид, будто считает болезнь императора простой комедией, затеянной с целью усыпить бдительность британских властей и бежать. Поэтому он настаивал, чтобы Наполеона не теряли ни на минуту из вида.
Монтолон, желавший прежде всего не отягощать последних минут императора, подавил свое бешенство и предложил следующий способ контроля: он приоткрывал окно в тот момент, когда Наполеона переносили с кровати на кровать.
Тогда в окно показывалась бледная рожа Хадсона Лоу, и он, этот палач, впивался взглядом в императора, на челе которого уже явственно виднелась печать смерти. Губы англичанина складывались в отвратительную усмешку, и он уходил, высчитывая про себя, сколько часов еще может пройти до окончательной развязки страданий несчастного узника.
VI
Дни Наполеона были сочтены. К физическим страданиям прибавились нравственные — на нем очень тяжело отозвался отъезд в Европу графини де Монтолон.
Хотя графиня и не забрала императора в свои руки, но сумела стать ему приятной, и ее присутствие смягчало для него горечь ссылки. Однако сама она, будучи страшной кокеткой и капризной по натуре, вскоре почувствовала, что связь с императором надоела ей, и кончила тем, что стала находить слишком тесным тот круг, в котором она могла разыгрывать императрицу. Она нисколько не раскаивалась, что посоветовала Наполеону отказаться от его проектов бегства, так как ей было бы совершенно не на руку, чтобы он с оружием в руках решился на реставрацию империи. Но она надеялась, что Европа вскоре смягчится, что пленнику острова разрешат переменить этот утес на более удобное жительство где-нибудь в Англии или Италии или же что ему вновь отдадут королевство на острове Эльба. И она в мечтах видела себя разделяющей власть с ничтожным королем Эльбы, носящим великое, громкое имя «Наполеон», а потому она мирилась со скукой на острове Святой Елены, надеялась на быстрое освобождение.
К несчастью для честолюбивой графини, дела повернулись так, что ей пришлось окончательно расстаться со своими надеждами.
Вследствие жалоб, посланных в Европу товарищами по плену императора, и заметок, напечатанных генералом Гурго в нескольких европейских журналах, будто императоры России и Франции склоняются к смягчению участи Наполеона, безжалостное правительство Англии в лице лорда Кастелрея и министра колоний Басерта созвало в Ахене конференцию для протеста против подобных слухов. Результатом ее был меморандум, в котором высказывался твердый взгляд всех правительств по-прежнему считать Наполеона только нарушителем общественного мира, бунтовщиком, «индивидом, в котором сосредоточилась вся французская революция». До Ватерлоо Бонапарт был только мятежником, внушавшим опасения державам, а после поражения — стал бродягой, атаманом шайки разбойников; его бегство с острова Эльба доказало, что, пока он жив, мир в Европе ничем не гарантирован, а потому не только не могло быть речи о каком-нибудь ослаблении надзора за ним и уничтожении его изоляции, но союзные монархи, наоборот, твердо решили довести строгость содержания Бонапарта до последних пределов, дабы уничтожить всякую возможность нового его бегства.
К меморандуму было приложено следующее изложение взглядов русского правительства, протестовавшего против приписывания императору Александру намерения облегчить участь Наполеона:
«Сообразно со всем этим Российское правительство считает основными положениями своего взгляда, от которых никоим образом отступлено быть не может, нижеследующее:
что Наполеон, поставив себя своим поведением вне покровительства законов, этим самым обрек себя сам постигшей его участи, и отныне всякие меры предосторожности, принимаемые против него, всецело зависят от взгляда и усмотрения союзных государей;
что меры предосторожности, принятые на основании инструкции лорда Басерта Хадсоном Лоу против Наполеона, одобряются всеми союзными монархами, пленником которых считается оный Наполеон Бонапарт;
что всякая корреспонденция или попытки непосредственного сообщения с Наполеоном Бонапартом со стороны членов его семейства или других лиц, предпринимаемые помимо контроля английского правительства, будут рассматриваемы в качестве покушений против общественной безопасности».
Этот меморандум и протокол ратифицировали меры изоляции, принятые Англией, и притеснения Хадсона Лоу. Отныне нравственную ответственность за издевательства над плененным орлом несла уже не одна Англия, а все монархи, подписавшие протокол Ахенского конгресса.
Лорд Басерт, препровождая эти бумаги Хадсону Лоу, написал последнему нижеследующее:
«Предлагаю Вам довести до сведения генерала Бонапарта содержание этих документов, дабы он был осведомлен, как смотрят союзные монархи на его пребывание на острове Святой Елены, и чтобы он знал, насколько оные монархи согласны с необходимостью всех тех суровых мер, которые к нему применены».
Когда результат Ахенского конгресса стал известен на острове Святой Елены, то маленькой колонией овладело полное отчаяние. Теперь ссылка превращалась в вечное заключение, остров стал безысходной тюрьмой, могилой.
Графиня де Монтолон, разочаровавшись в своих надеждах и понимая, что ее честолюбию не суждено получить удовлетворение, на которое она рассчитывала, быстро охладела к Наполеону и объявила ему о своем намерении вернуться в Европу для того, чтобы, как она говорила, заняться воспитанием детей.
Неизвестно, понял ли Наполеон, что эта женщина Уже не любила его больше, или — вернее — она никогда не любила его, а только надеялась на хотя бы частичный возврат его былого могущества, но он не стал Удерживать ее.
Распущенная, легкомысленная, беззаботная и честолюбивая, графиня де Монтолон подумала, что в Европе ее положение спутницы Наполеона по ссылке привлечет к ней большое внимание и ей удастся с большим успехом использовать остатки своей красоты и молодости, чем в унылой изолированности мрачной скалы. Она уехала, оставив мужа очень удивленным, а Наполеона очень огорченным ее отъездом.
— Эта женщина сеяла розы на моей могиле, — меланхолично твердил теперь император, — со времени же ее отъезда там остались только шипы!
В его здоровье наступил резкий поворот к худшему. Он погрузился в мрачные воспоминания о прошлом, раскаивался в сделанных им политических ошибках.
— В особенности печально повлиял на мою судьбу мой второй брак, — сказал он Бертрану. — Я был глупцом, веря в святость семейных уз. Я думал, что император Франц добрый человек, но это просто недоумок, превратившийся, сам не сознавая этого, в простую игрушку Меттерниха. Я сделал бы гораздо лучше, если бы после Ваграма разделил его корону между эрцгерцогом Карлом и великим герцогом Вартбургским. Главное же — мне следовало вернуть Венгрии ее независимость; ведь это повлекло бы за собой важные последствия. Вот ошибки, и вот их результат.
Бертран пытался доказать императору, что он действовал так, как казалось наилучшим при данных обстоятельствах, что он всегда имел в виду только благо империи. Но Наполеон покачал в ответ головой и промолвил:
— Нет, нет, маршал, у трона имеется свой особенный яд. Как только воссядешь на него, так тебя охватывает бред. Только и думаешь о том, как бы стать тем, что теперь называют «законным монархом», заимствуешь у них принципы, образ действий, причуды… Да, вино власти ударило мне в голову! Когда я возвращаюсь мыслью ко всем ошибкам, сделанным мною прежде и навлекшим на Францию союзных монархов и Бурбонов, я не нахожу себе места от угрызений совести.
Бертран попытался утешить его.
Однако Наполеон, улыбаясь, ответил ему:
— Вы правы, маршал! Не стоит вспоминать об этом: только огорчаешься, раздражаешься… Лучше поговорим, — при этом на его глазах показались слезы, — о моих первых любовных приключениях.
В последние минуты жизни Наполеона Хадсон Лоу нанес ему последнее оскорбление. Так как император не выходил больше из дома, то губернатор решил послать к нему одного из своих агентов.
До сих пор все письменные сношения с императором велись через Бертрана, исполнявшего функции «обер-гофмаршала императорского дворца». Теперь Хадсон Лоу командировал к Наполеону конного офицера, который должен был лично вручить ему пакет.
Но камердинер императора, Маршан, заявил посланному, что письмо должно быть вручено сначала обер-гофмаршалу Бертрану. Офицер настаивал на том, чтобы его пропустили. Тогда Наполеон категорически заявил, что не позволит англичанину нарушить неприкосновенность его жилища.
— Я лучше умру на этой кровати, — прибавил он с энергией, — до последнего вздоха защищая достоинство нашей особы! — Он приказал зарядить пистолеты, обнажил шпагу — шпагу Маренго и Аустерлица — и, приказав окружавшим его вооружиться, прибавил: — Я убью первого англичанина, который перейдет через порог этой комнаты; будем защищаться до самой смерти.
Офицер вернулся, чтобы сообщить Хадсону Лоу о сопротивлении пленника. Тогда губернатор вскочил на лошадь и поехал сам в Лонгвуд в сопровождении всего своего штаба.
Прибыв туда, он велел позвать Маршана и де Монтолона и объявил им, что всякий, оказавший ему сопротивление, будет сослан на каторгу. Но те ответили ему, что повинуются приказаниям только одного императора и потому не позволят никому силой ворваться в его апартаменты.
Тогда один из офицеров по приказанию губернатора постучал в дверь к Наполеону. Ему не открыли. Наполеон спокойно вооружился пистолетом, готовый стрелять при первой попытке офицера силой ворваться к нему в комнату. Он был очень воодушевлен: казалось, будто он готовится к сражению.
— Пусть-ка Хадсон Лоу сунется сюда, — громко сказал он, — я ему всажу пулю в башку! Потом убьют и меня, ну, что же! Я умру, как солдат, а это всегда было моим желанием!
Видя такую решимость пленника, Хадсон Лоу вновь сел на лошадь и уехал не солоно хлебавши в свой дом.
Это было последней попыткой нанести императору оскорбление: вскоре смерть избавила его от всяких издевательств.
В начале 1821 года до острова дошла весть о смерти сестры императора Элизы.
— Сестра показывает мне дорогу, — сказал Наполеон, — приходится идти за нею следом!
Теперь он уже не строил никаких иллюзий относительно своего состояния. Однажды он захотел подышать свежим воздухом и совершил маленькую прогулку, но от свежего воздуха упал в обморок, так что его пришлось на руках отнести домой и уложить в кровать.
Это была последняя прогулка Наполеона. Лечить его стал новый доктор Антомарки. Рвота все учащалась, никаких надежд на выздоровление царственного узника уже не могло быть. Но он держался молодцом и, несмотря на сильные страдания, с поразительной ясностью ума отдал следующие инструкции доктору Антомарки:
— Дорогой доктор, я хочу, чтобы после моей смерти именно вы вскрыли мой труп. Обещайте мне, что ни один английский врач не коснется меня рукой.
— Ваше величество, я сделаю все возможное, чтобы исполнить вашу просьбу.
— Если же вам во что бы то ни стало понадобится помощник, то я разрешаю вам воспользоваться для этой цели единственно только услугами доктора Арно. Я хочу, чтобы вы вынули мое сердце, положили его в винный спирт и отвезли его к герцогине Пармской, моей дорогой Марии Луизе.
Монтолон, присутствовавший при этом, невольно сделал жест отчаяния (по счастью, последний ускользнул от внимания Наполеона) и подумал: «Какое странное желание! Завещать свое сердце той, которая только и делала, что попирала его ногами, всячески издевалась над ним! Воображаю, какую гримасу скорчит герцогиня, когда ей с помпой доставят последний подарок Наполеона! Куда она денет его? Может быть, поставит около своей постели? Едва ли это придется по вкусу ее сердечному другу — генералу Нейппергу!»
— Скажите моей дорогой Марии Луизе, — продолжал император, до последнего вздоха не терявший веры в жену, — что я глубоко любил ее до самой могилы… — Он остановился и долгим, скорбным взглядом посмотрел на портрет императрицы, приделанный к его кровати, а затем продолжал: — Да! Вот еще что! Прошу вас, доктор, хорошенько исследовать мой желудок и составить подробный отчет о его состоянии. Этот отчет надо послать моему сыну. Неперестающая рвота заставляет меня думать, что у меня болен главным образом желудок, и я склонен предполагать, что это — следствие тех же самых ран в кишках, которые свели в могилу и моего отца.
Доктор Антомарки сделал жест, как бы желая показать, что сейчас он лишен возможности поставить диагноз.
Наполеон продолжал:
— Когда меня не будет на свете, отправьтесь в Рим, разыщите там мою мать и родных и расскажите им все, что знаете о моей жизни, болезни и смерти на этом печальном утесе. Скажите им, что великий Наполеон испустил дух в самом жалком состоянии, лишенный самого необходимого, покинутый почти всеми, предоставленный самому себе и своей былой славе.
После этого император упал на кровать, окончательно истощенный этим длинным разговором.
В продолжение двух-трех дней, пока продолжалась агония, Наполеон сохранял все свои умственные силы, всю ясность ума. Он жаловался, что пониже левого соска чувствует острую боль, словно там всажен нож, который колет его при всяком движении. Эти страдания заставили его вновь повторить доктору свои распоряжения.
— Смотрите, не забудьте о том, что я вас просил, — сказал он, — исследуйте как должно мой желудок, потому что уже давно мне говорили, что желудочные страдания наследственны в нашем роду. Пусть хоть удастся спасти моего сына от этой ужасной болезни! — Воспоминания о сыне вырвали у него нечто вроде скорбного стона, а затем он продолжал: — Вот вы увидите моего сына, доктор; так осмотрите его хорошенько, скажите ему, что надо делать, чтобы уберечься от этих ужасных страданий, которые сводят меня в могилу. Это последняя услуга, которой я жду от вас!
В этот момент вошел камердинер Наполеона и сказал, что на небе появилась комета.
— Комета! — вскрикнул император, приподнимаясь с кровати. — Комета предвещала смерть Цезарю — эта явилась предвестницей моей кончины!
— Не верьте, ваше величество, подобным толкованиям! Вы еще увидите Францию; скорее блуждающая звезда указывает нам дорогу к ней, — ответил ему Маршан.
— Нет, сын мой, — ответил больной, снова успокоившийся. — Я, быть может, еще увижу Францию и Париж, но только мертвым, и французы будут иметь возможность почтить уже не меня, а мои бренные останки! — Затем, повернувшись к окружавшим его, он продолжал: — Я умираю, друзья мои. Вы вернетесь в Европу. Не забывайте никогда, что вы разделяли мое изгнание; оставайтесь верными моей памяти, не делайте ничего такого, что могло бы оскорбить ее. Весьма возможно, что вам не позволят отвезти мое тело в Европу. Тогда похороните его под двумя ивами, посаженными у подножия водоема, который я так любил. — Затем он обратился к Монтолону: — Напишите заранее под мою диктовку извещение о моей смерти английскому губернатору, чтобы оно было составлено так, как я того хочу. Пишите! — Монтолон с полными слез глазами взял перо и приготовился записывать. — Так вот: «Господин губернатор! Император Наполеон скончался»… Оставьте место для числа, которое вы потом поставите! «Скончался такого-то числа, сего месяца, после продолжительной и тяжелой болезни, о чем и имею честь известить Вас».
Это было 4 мая. Больше Наполеон уже ничего не диктовал в своей жизни. Но и в этом последнем распоряжении сказалась его неутомимая забота о поддержании его императорского достоинства: он боялся, как бы после его смерти ему не отказали в императорском титуле, лишением которого его вечно дразнили англичане, и потому постарался сам составить ту форму, в которую, по его мнению, следовало облечь официальное извещение.
В этот день над островом разразилась страшная буря. Казалось, что вся природа содрогалась в сильнейших конвульсиях, отмечая смерть Наполеона, вулкана, который потухал, ослепительной звезды, погасавшей для вечной ночи.
Утром 5 мая 1821 года доктор Арно послал Хадсону Лоу следующую записку:
«Он умирает. Монтолон просит меня не отходить от него, желая, чтобы он при мне испустил дух».
Приближенные Наполеона стояли на коленях около его кровати — маленькой железной кровати Аустерлица. В пять часов вечера Наполеон, уже не дышавший, а хрипевший, слегка приподнялся на кровати и пробормотал:
— Франция! Армия! Авангард!
Затем он снова упал на подушки.
Солнце заходило за горизонт; пушка крепости известила гарнизон о заходе солнца. Император Наполеон был мертв.
Доктора 66-го английского полка сейчас же явились, чтобы констатировать смерть. Повинуясь последней воле императора, доктор Арно помогал доктору Антомарки произвести вскрытие. Последнее показало, что смерть последовала не от ран в кишках, как предполагал Наполеон, а от раковой опухоли, разрушившей часть стенок желудка. Катастрофа могла бы наступить гораздо быстрее, если бы печень, сильно расширившаяся и разросшаяся в этом ужасном климате, не закупорила на некоторое время отверстие, которое должно было вызвать смерть.
Хадсон Лоу получил почти одновременно официальное извещение от Монтолона (продиктованное Наполеоном) и записку доктора Арно. В первый момент губернатор словно с ума сошел от радости. Он прыгал по всему кабинету, вскакивал на стулья, взбирался на кресла и подбрасывал на воздух свою шляпу с плюмажем. Затем, словно одержимый, он бросился вон из кабинета, побежал в конюшни, приказал оседлать лошадей и, наполовину одетый (на нем были обыденный мундир и парадная шляпа), проехал через Джеймстаун, крича всем встречным:
— Он умер! Он умер!
Даже смерть не могла смирить жестокость Хадсона Лоу. Он отказал в разрешении набальзамировать тело, не позволил вынуть сердце и послать его Марии Луизе, как того желал Наполеон. В сущности, он был прав: сердце Наполеона не было подходящим подарком для любовницы Нейпперга, но действовал так не по деликатности, а только из желания в чем можно пойти наперекор желаниям Наполеона. Единственное, что он разрешил, — это снять маску с лица покойного.
Но и в могиле великого Наполеона преследовала злоба англичан. Он был похоронен в им самим избранном месте под двумя ивами у родника, свежую воду которого он любил пить при жизни. Его тело было заключено в тройную оболочку олова, свинца и красного дерева.
Из-за надписи над могилой между Хадсоном Лоу и Монтолоном возникла целая ссора. Губернатор требовал, чтобы там фигурировало только имя «Бонапарт», Монтолон же хотел, чтобы там было написано: «Наполеон, родился в Аяччо 15 августа 1769 г., умер на острове Святой Елены 5 мая 1821 г. в возрасте 52 лет».
Спор грозил затянуться на целую вечность. В результате — над могилой не сделали никакой надписи, что впоследствии вызвало у Ламартина следующие строки: «Здесь покоится… Имени нет? Так спросите у мира это имя!»
Воинские почести были отданы моряками, 66-м пехотным полком и артиллерией. Граф Монтолон и генерал Бертран держали гробовой покров. Госпожа Бертран шла за гробом со всем семейством, а сзади, чтобы показать, что Англия и в могиле не упускает своего пленника из вида, шествовал с еле сдерживаемой радостью в лице Хадсон Лоу.
Впрочем, это было последним торжеством жестокого тюремщика. Его функции кончились. Через некоторое время он вернулся в Европу. Все с презрением сторонились его; его избегали и ненавидели даже на родине. Он умер в 1840 году, пытаясь оправдать свое мерзкое поведение на острове Святой Елены изданием в свет полных ненависти и лжи мемуаров, которые были по достоинству оценены историей.
VII
15 августа 1821 года, в день рождения Наполеона, замок Комбо с утра принял праздничный вид. По всем аллеям бегали младшие садовники, развешивая от дерева к дереву цветочные гирлянды, образовывавшие то букву «Н», то орла, то знамя, в котором синие, белые и красные цветы были расположены в порядке цветов имперского флага. Рабочие приносили доски и жерди, из которых надо было построить триумфальную арку, вечером иллюминованную лампионами. Другие рабочие располагали лампионы группами по три штуки среди гирлянд, причем цвета лампионов в каждой группе опять-таки были синий, белый, красный. Все площадки были выровнены и посыпаны песком; на большой лужайке были раскинуты две палатки. Одна была предназначена для народного пиршества под председательством маршала Лефевра и его жены, другая — для танцев. Для последней цели были приглашены два оркестра музыки.
Внутри замка тоже шли усиленная чистка и уборка. Ведь это было единственным праздником, который справлялся по традициям замка Комбо даже и после того, как старого Лефевра и его верную подругу жизни постигла тяжкая утрата. После смерти Шарля они жили очень уединенно, оба, казалось, в равной степени жаждали вечного успокоения, и их удерживала только одна мысль, одна надежда: как бы повидать еще раз перед смертью своего императора, который испытывал страшные пытки на нездоровом, убийственном острове Святой Елены. Уже много-много раз, усевшись в уголке у камина, маршал Лефевр и его жена уносились мыслью на остров. Что-то поделывает император? Здоров ли он? Кончилось ли то нездоровье, о котором поговаривали? Может быть, ему стало хуже?
О пленнике не было никаких новостей. Последние лица, прибывшие с острова — капитан Элфинстон, ла Виолетт и барон Гурго — уверяли, что Наполеон никогда не согласится бежать с острова. Он говорил, что для этого сама Франция должна явиться за ним, что он может вернуться во Францию только в качестве государя, призванного своими подданными.
— Ведь ты помнишь, — как-то сказал Лефевр своей жене, — что рассказывал нам наш славный ла Виолетт? Хотя император не потерял ясности суждения, но он уже не склонен более кидаться в такие авантюры, как прежде. Ла Виолетту даже не пришлось поговорить с ним о наших проектах; государь отказался от смелого замысла. А ведь прежде — в Египте, например, и в двадцати других местах — он машинально обдумывал все детали и по мановению руки приводил в исполнение и не такие дела. Вот, например, его отъезд из России с Коленкуром, как только он узнал о заговоре генерала Мале. Нет, император отказался от всяких честолюбивых замыслов, его карьера кончена, но он думает о сыне.
— Так вот ради сына-то ему и следовало бы попытаться вырваться с этого ужасного острова, — возразила ему мадам Сан-Жень, — чтобы поселиться если не во Франции, так где-нибудь в другом более тихом и здоровом месте.
— Нет, жена, он идет более верной дорогой! Наш император думает, что самым верным и надежным путем для обеспечения трона за его сыном будет не пытаться завоевать опять корону, а спокойно умереть, поскольку ненависть и злоба смолкнут и исчезнут все страхи, которые вызывало уже одно его существование. Раз он умрет, то все ошибки, странности, даже преступления — потому что у него на совести найдутся и таковые, — все будет забыто, и одно переживет его — это его гений, его слава. Из его могилы изойдет свет, который озарит чело юного Римского короля, и, может быть, только благодаря ему мы увидим царствование Наполеона Второго.
— Ты говоришь так, как будто император уже умер! — воскликнула Екатерина Лефевр, — надеюсь, что ты не получил никаких дурных известий?
— Нет, известий я не получил, но у меня дурное предчувствие. Мне кажется, что мы в последний раз чтим его празднеством в Кюмбо. Поэтому-то я и хочу, чтобы этот последний раз отличался особенной пышностью и весельем.
— Не очень-то идет нам веселье на ум после смерти бедняжки Шарля! — ответила Екатерина. — Как грустно видеть танцующими всех этих молодых людей и вспоминать, что наш Шарль бывал самым оживленным, самым веселым кавалером на наших балах и что его уже нет с нами… Ведь пятнадцатого августа наш Шарль обычно так веселился! Как он, бывало, чокался с крестьянами, как разговаривал со стариками, как кружил молодых девушек! Он был душой нашего праздника, и что бы мы ни делали, а его нам всегда будет не хватать. Ну, да что делать! Постараемся справить как можно лучше и достойнее праздник нашего императора! — И, договаривая последние слова, Екатерина вытерла слезы.
Приготовления были организованы очень широко, маршал не хотел лишать своих гостей ни одного развлечения и забавы, и когда настало утро пятнадцатого августа, то он первый вскочил с кровати, как во времена своей юности, чтобы лично руководить салютом из артиллерийских орудий маленьких медных пушечек, установленных на балконе.
Зазвонили церковные колокола, и у ворот замка приступили к раздаче всем нуждающимся денег и съестных припасов. В девять часов утра маршал и его жена отправились в ландо в церковь, сопровождаемые всеми домочадцами.
После обедни в замке было предложено угощение, потом устроены игры для молодых людей и девушек и традиционный осмотр апартаментов.
Маршал с женой находились в большом центральном салоне, принимая и встречая любезными приветствиями своих гостей. Против входной двери находился большой портрет императора в лавровом венке, порфире и со скипетром в руке. Большинство посетителей, поздоровавшись с герцогом и герцогиней Данцигскими, кланялись портрету.
В другом конце комнаты помещался еще портрет Наполеона. Здесь он был изображен в своем обычном сером сюртуке и треуголке, рассматривающим в бинокль неприятельские позиции. Это было настоящим портретом популярного героя, и здесь он казался ближе и милее сердцу, чем величественный цезарь в порфире.
День прошел, не принеся с собою ничего особенного. Около четырех часов были накрыты столы, и маршал, в конце долгого пиршества, обойдя под руку с женой столы, остановился в центре и, высоко подняв наполненный вином бокал, воскликнул:
— За Францию, друзья мои! За всю былую славу и за того, кого мы никогда не забудем!
Со всех столов раздался громкий крик: «Да здравствует император!» Крестьяне чокались между собой, и послышались голоса старых солдат, напевавших боевые песни.
Уже началась иллюминация, были зажжены трехцветные лампионы, вызывая в памяти трехцветное им ператорское знамя, когда вдруг к маршалу подошел смущенный ла Виолетт и произнес:
— Там какой-то человек хочет говорить с вами. Он говорит, что должен сообщить вам важную новость. Боюсь даже догадываться, маршал!
— Что это может быть? Откуда этот человек?
— Кажется, это один из ваших старых слуг, которого вы пристроили в полицейскую префектуру. Мне он не захотел сказать, что ему надо; он только сообщил, что новость, которую он принес, очень важна и что он может передать ее только лично вам.
— Хорошо. Я сейчас приду, — сказал Лефевр.
Полный мрачных предчувствий, он отправился в вестибюль замка, где его и в самом-деле ждал один из старых слуг, старый солдат, которого он пристроил в префектуру сторожем при кабинете префекта.
— Ах, господин маршал! — сказал ему этот человек. — Я не забыл, чем я вам обязан — ведь это вы пристроили меня на место! Я и подумал, что вам первому следовало бы узнать о важном известии, только что полученном в полицейской префектуре и еще неизвестном никому, за исключением бывших там в это время троих чиновников. Ну, а так как сегодня у меня свободный день, то я и примчался сюда.
— Да что это за новость? — перебил его разглагольствования маршал. — Она действительно так важна?
— Да, господин маршал: император Наполеон; скончался на острове Святой Елены пятого мая нынешнего года в пять часов вечера.
Лефевр схватился за грудь, словно получив жестокий удар в сердце.
— Бедный император! — сказал он, а через некоторое время прибавил: — Но почему же раньше ничего не было известно?
— Кажется, — ответил тот, — англичане задержали на целый месяц все суда, чтобы успеть принять все меры, которые казались необходимыми их правительству при этих обстоятельствах.
— Весьма возможно, — ответил маршал, — я узнаю в этом подлость этих палачей! Наконец-то наш бедный император вырвался из их рук и на самом деле вкусил впервые полный отдых, в котором нуждался уже давно! Поди скажи, чтобы тебе дали поесть и попить, а потом тебе укажут комнату, потому что ты, должно быть, сильно устал от долгого пути. Да и невозможно в такую темь возвращаться в Париж. А мне надо исполнить другую обязанность теперь. Ты видишь, мы празднуем день рождения нашего императора! День радости придется превратить в день скорби. До свидания, друг мой и спасибо тебе! — Затем Лефевр выбежал на балкон и громким голосом, которым, бывало, в пылу сражений отдавал команду своим гренадерам, крикнул: — Тише! Слушайте все!
От столов поднялся какой-то недоумевающий гул. Несколько охмелевших крестьян, не понимая, в чем дело, запротестовали против этого нарушения их непринужденных бесед. Но кое-кто уже разглядел маршала и узнал его голос. Послышались крики:
— Тише, тише! Маршал хочет говорить!
Тогда все собрались под балконом, Лефевр напряг все свои силы и заговорил:
— Друзья мои, прекратите свои забавы, песни и шутки! Страшное несчастье поразило нашу страну. Императора Наполеона нет более в живых. Измученный англичанами, он умер в пытках на острове Святой Елены!
Глухой ропот пронесся по толпе; по лицам крестьян было видно, как поразила и омрачила их души эта новость. Они не могли понять, как мог умереть Наполеон, и все еще надеялись, что он внезапно появится среди них, вернется с острова Святой Елены, как вернулся с Эльбы. Эта смерть, о которой им сообщали, казалась невероятной, неправдоподобной.
Лефевр продолжал:
— Наполеон умер! Пусть память о нем, о его славе, о его гении вечно будет жить в вас! Вы, солдаты, делившие с ним геройские подвиги, вы, крестьяне, познавшие благодетельность его забот о стране, — вы все передадите ваши воспоминания детям и внукам, и на протяжении веков Франция привыкнет прославлять не только Наполеона, но и тех, которые были его солдатами, его друзьями! — Он остановился и потом прибавил, словно желая окончить свою печальную речь ободряющим возгласом: — Наполеон умер! Да здравствует Франция!
Вдруг из массы смущенных, растерянных, подавленных слушателей раздался чей-то ясный, отчетливый, громкий голос, который крикнул:
— Наполеон умер! Да здравствует Наполеон! — И после короткой паузы этот же голос прибавил: — Французы! Давайте единодушно воскликнем все: «Да здравствует император Наполеон Второй!» Император умер! Да здравствует император!
Лефевр ушел с женой в свои комнаты, предоставив толпе расходиться и тушить лампионы.
— Ну вот, — сказал он, закрывая глаза рукой, — вот и настал день траура, которого мы так боялись!
— Да, — пробормотала в ответ Екатерина, — императора больше нет в живых! Как же можем после этого жить на свете мы! Ах, бедный друг мой! Наша роль на земле кончилась. Теперь пора уйти со сцены и нам обоим. К чему нам влачить наши жалкие дни, когда у нас нет ни надежды, ни утешения?
— Вы не правы, если говорите так, — послышался сзади них чей-то грубый голос.
Лефевр и его жена обернулись и увидели перед собой ла Виолетта.
— Ах, это ты? — сказал герцог Данцигский. — Что нужно, мой милый?
— Нужно, чтобы вы не отчаивались так! Да, император умер, но его имя живет. Вы забыли о его сыне? Это я кричал сейчас: «Да здравствует Наполеон Второй!»
Оба старика задумчиво переглянулись и обменялись меланхолическим взглядом.
— Ты хорошо делаешь, ла Виолетт, что хочешь сохранить последнюю надежду, и ты гораздо ближе нас к последним мыслям императора. Но, быть может, твоим надеждам придется разбиться о суровую действительность. Вот ты кричал сейчас: «Да здравствует Наполеон Второй!». Но суждено ли царствовать Наполеону Второму? Сможет ли он быть императором?
Отпустив дружелюбным жестом старого солдата, маршал и его жена досидели вечер, придавленные тяжестью воспоминаний и со скорбью думая, что никогда, никогда более они ни увидят великого императора, сиянием славы которого все еще была озарена их душа.
VIII
Смерть Шарля так потрясла нервную систему Люси, что она снова впала в душевную болезнь, граничащую с сумасшествием. Она проводила в полнейшем одиночестве целые часы, шепча бессвязные фразы, в которых постоянно повторялись имена Шарля и Андрэ.
Шарль Лефевр оставил ей по духовному завещанию довольно крупный капитал, который вполне обеспечивал ее жизнь. Часть этого капитала предназначалась Андрэ в том случае, если бы удалось разыскать его.
Хотя вначале маршал и его супруга были очень настроены против Люси, считая ее виновной в трагической гибели их сына, но со временем их отношение к ней несколько смягчилось. Они свято исполнили последнюю волю Шарля и беспрекословно выдали определенный капитал, завещанный Люси и ее сыну. Кроме того, Люси была помещена ими в одну из лучших общин сестер милосердия, где она нашла самый лучший уход и попечение, и герцогиня от времени до времени посылала ла Виолетта справляться о ее здоровье.
Анни закончила свое воспитание и вышла из пансиона сестер Курс Она выросла в очень изящную и грациозную молодую девушку, в совершенстве владевшую французским и английским языками и обладавшую прекрасными манерами. Случись теперь миссис Грэби или мистеру Тэркею повстречаться с ней, они, наверное, не узнали бы в этой изящной аристократической девушке своей бывшей воспитанницы, маленькой продавщицы цветов, плясавшей перед пьяными матросами в жалких тавернах Сити.
Анни ни на минуту не забывала временного товарища злосчастных дней своей юности и свято помнила взаимное обещание, которым они обменялись: любить и помнить друг друга и сделать все, что от них будет зависеть, чтобы встретиться впоследствии.
Есть натуры, сохраняющие на всю свою жизнь первые душевные впечатления. Они всю жизнь свято хранят неизгладимые воспоминания своей первой, юной любви. Время берет свое, сердце неизбежно предъявляет свои права, зарождаются иные привязанности, но тем не менее первое чувство всегда остается живо в этих цельных, избранных душах. И это воспоминание преследует их всю жизнь, то радуя, то огорчая попеременно. Оно насквозь пропитывает ду, шу, как дивный аромат.
Таким именно чувством любила Анни Андрэ: хотя она не видела его с момента разлуки, но он продолжал существовать в ее воображении словно призрак, не имеющий никаких реальных форм; воспоминание о нем неугасимым пламенем горело в ее сердце, и она постоянно повторяла клятву, данную в лачужке миссис Грэби: любить одного лишь Андрэ и принадлежать и духом, и телом лишь ему одному. Она почти утратила надежду встретиться с ним, но тем не менее решилась твердо держаться своих обетов.
Окончив воспитание в пансионе, Анни вернулась к Люси. Они зачастую проводили долгие часы в томительном молчании. Глубоко сидя в своем кресле, Люси казалась воплощением скорби. Анни же напряженно следила за больной, стараясь уловить на ее лице и в потухшем взоре хоть мимолетный отблеск оживления и интереса к окружающей жизни.
Проходил месяц за месяцем, а душевное состояние Люси не улучшалось. Но мало-помалу, благодаря неутомимому и самоотверженному уходу Анни, Люси понемногу вошла в мелкие дела повседневной жизни, начала интересоваться и расспрашивать Анни о годах, проведенных ею в пансионе госпожи Куро, о ее вкусах и впечатлениях. Она никогда не спрашивала ни о Шарле, ни об Андрэ, но осведомилась несколько раз о госпоже Лефевр. Память возвращалась к ней медленно и неровно, а какими-то скачками: то внезапно вспомнит что-то, то вдруг снова образуется пробел. Она лихорадочно цеплялась за отдельное услышанное или сказанное ею самой слово и благодаря ему восстанавливала целые эпизоды своей жизни вплоть до страшного крушения всего ее прошлого.
Анни сообщила ей о посещениях ла Виолетта, о том участии и интересе к Люси, которые он выказывал в своих расспросах, и о твердой уверенности в ее выздоровлении, которую он неизменно выражал при этом. Люси заинтересовалась этим известием и выразила желание повидать ла Виолетта в первый же его приход. Анни исполнила ее желание, и лишь только пришел ла Виолетт, тотчас же привела его к Люси. После обмена первыми незначительными фразами ла Виолетт, желая пробудить сознание и интерес Люси, спросил, знает ли она что-нибудь о своем брате, капитане Эдварде Элфинстоне. Люси вздрогнула при этом неожиданном вопросе, словно разбуженная от глубокого сна, ее лицо оживилось, тусклые, безжизненные глаза вдруг загорелись живым, сознательным огнем, и она воскликнула:
— Мой брат? О да! Мне очень, очень хотелось бы повидать его! Там, в Англии, нас разъединили. Может быть, он знает что-нибудь о моем сыне? О моем Андрэ? Ведь его украли у меня!
Ла Виолетт, грустно кивнув головой, произнес:
— Ваш брат и я — мы сделали все зависящее от нас, чтобы найти вашего ребенка, но, к несчастью, потерпели полную неудачу. К тому же, как вы, верно, помните, нам не хватало вашей помощи.
— Да, да, я помню. Лечебница… доктор… И мой сын, мой Андрэ, которого я увидела там, в лечебнице, и которого не имела возможности схватить, унести, вернуть себе обратно! О, если бы мне только удалось тогда догнать его на дороге, когда я убежала из лечебницы, то, ручаюсь вам, никто не сумел бы вырвать его вторично из моих объятий!
Ла Виолетт одобрительно кивнул головой, а Анни, перегнувшись через кресло Люси, сделала ему знак: «Обратите внимание, ее память возвращается».
Люси между тем взволнованно продолжала:
— Что произошло после этого? Не помню. Точно пропасть в мозгу. Но брат должен знать. Имел ли он потом какие-нибудь сведения обо мне и о ребенке?
— К сожалению, никаких! Все наши поиски оказались тщетными, а тут нам пришлось как раз отправиться в плавание…
— Моего сына тоже увезли на корабле. Вы это знаете? Нет? Я тоже должна была пуститься в путь, вместе с… — Люси замолчала: по-видимому, она вспомнила Шарля. Она вздохнула, провела рукой по лбу, словно отгоняя тяжелую мысль, и продолжала: — Я собиралась ехать к нему на остров Святой Елены…
Ла Виолетт подскочил на месте.
— Что вы говорите? — воскликнул он. — Что она говорит? — обратился он к Анни, словно ожидая от нее более ясного ответа.
— Андрэ был увезен на остров Святой Елены, на судне, которое называлось «Воробей», — ответила Анни.
— Капитан Бэтлер… — добавила Люси, внимательно вслушиваясь в разговор.
Ла Виолетт вскочил со своего места и собирался сделать то, что он всегда проделывал в критические моменты жизни: покрутить в воздухе своей палкой; но, не найдя ее под рукой, он схватил стул и, к великому изумлению обеих женщин, закрутил его в воздухе. Проделав это, он поставил стул на место и произнес прерывающимся от волнения голосом:
— Ах, черт возьми! Вы сказали: «Воробей»? Ах, это — чудный бриг. Его капитан — Бэтлер, славный малый, держал путь на остров Святой Елены. Мы — ваш брат и я — были на его судне. Как же, как же! Святая Елена! Вот-то дыра! Голые скалы, солнце, туманы и ни капли воды! Мы пристали к берегу для торговых сношений, а кроме того, с целью навестить друга… больного друга, которого теперь нет в живых… — Ла Виолетт умолк и грустно потупился, словно сдерживая подступившее рыдание. — Мы целых пятнадцать месяцев прожили на этом судне, — снова начал он, — все путешествовали от острова Святой Елены к Пернамбуко и обратно, а потом вернулись в Лондон. И вы говорите, на этом «Воробье» находился ваш сын? Тот самый мальчуган, которого мы так деятельно разыскивали повсюду? А он, оказывается, был все время тут же, у нас под носом! Ах мы болваны, ротозеи! Да как же мы проглядели его? Правда, мы никогда в жизни не видали его, но все же это — непростительная ошибка! — И ла Виолетт наказал себя сильным ударом кулака в грудь, а затем продолжал: — Но скажите, почему, собственно, он очутился на нашем судне? — спросил он.
— Он был вытребован капитаном Бэтлером у полиции, так как бедняжку собирались судить как бродягу. Капитан взял его на борт в качестве юнги.
— Это был юнга! Ах, тысяча чертей! Блондинчик с голубыми глазами, такой красавчик! Да это же он! Пари держу, что это — наш «бой», юнга капитана. Это был Нэд…
— Нэд? — с разочарованием переспросила Люси. — Нет, его звали Андрэ.
— Андрэ или Нэд, это безразлично: суть в том, что юнга на «Воробье» был несомненно вашим сыном, а мы выпустили его из рук. Ах, чтобы меня черт побрал!
Ла Виотлетт снова поискал свою палку и, не найдя ее, снова завертел в воздухе стулом, словно срывая на нем свое раздражение.
— Если вы так уверены в том, что Андрэ и Нэд — одно и то же лицо, — промолвила Анни, — то, насколько мне кажется, будет довольно легко разыскать его; необходимо только справиться в Лондоне о судне «Воробей» и о капитане Бэтлере…
— Легко сказать! — ответил ла Виолетт. — Времени прошло немало; Бог весть, может быть, и капитан Бэтлер бросил свою службу, и само судно вышло из употребления. А может статься, что капитан уже давно покоится на дне морском с гирей, привязанной к ногам. Ведь так хоронят большинство моряков… — Однако, заметив тяжелое впечатление, которое он произвел на женщин своими мрачными предположениями, ла Виолетт спохватился и постарался хоть несколько обнадежить их, для чего бодрым тоном добавил: — Все это ничего не значит; я все-таки твердо убежден, что мы разыщем вашего сына! И уж на этот раз он не проскочит у нас сквозь пальцы. Нет, шалишь! Достаточно и одного раза! Теперь-то уж я сразу узнаю его! Полноте, не надо унывать. Ручаюсь вам, что мы разыщем его. Мне даже так и мерещится, что я держу его за ухо, как это делал, бывало, император, когда он был нами доволен.
— Необходимо поехать в Лондон и справиться о капитане Бэтлере, — сказала Люси.
— Совершенно согласен с вами, — ответил ла Виолетт.
— Вы поедете с нами? — спросила Люси.
— Хорошо ли вам предпринимать такое путешествие? — с беспокойством вмешалась Анни. — Не лучше ли мне одной поехать с господином ла Виолеттом?
— Нет, я непременно хочу ехать, — твердо заявила Люси. — Не беспокойтесь, друзья мои, я буду сильна и вынослива. Надежда найти сына придала мне силы и крепость. Я чувствую себя совсем здоровой и нормальной, — добавила она.
Анни и ла Виолетту пришлось уступить ее непоколебимому желанию.
Несколько дней спустя они все трое прибыли в Англию и тотчас же поспешили навести справки о капитане Бэтлере и судне «Воробей».
Сведения были не из утешительных: капитан давно бросил морскую службу и жил в одном из северных городов, что же касается до его корабля, то он был продан и в настоящее время находился у берегов Исландии, где шла ловля трески. Прежний экипаж разбрелся в разные стороны, и юнга по имени Нэд не числился на судне, да и не мог числиться, так как он уже давно вышел из возраста юнги.
Все трое вернулись в гостиницу крайне обескураженные, теряясь в догадках, куда теперь направить свои поиски.
На столе салона гостиницы, где они дожидались обеда, лежали альбомы и иллюстрированные журналы.
Анни машинально взяла один из них и стала рассеянно просматривать его. Вдруг она громко вскрикнула от изумления:
— О, мамочка, взгляните скорее! Ведь это вылитый ваш портрет!
Ла Виолетт, подошедший взглянуть, в свою очередь заметил:
— А ведь в самом деле! Удивительное сходство! Да посмотрите же сами!
Люси неохотно подошла к столу. Это действительно был вылитый ее портрет. Она была одета пастушкой и была одним из действующих лиц большой картины, носящей название «Пикник». В журнале был воспроизведен снимок с картины известного придворного художника, сэра Филиппа Трэлаунэя, наделавшей много шума. Картина изображала группу молодежи: пастушков и пастушек на фоне чудного пейзажа. Одна из пастушек протягивала пастушку корзину роз. Пастушка была вылитая Люси, а пастушку сэр Филипп придал свои собственные черты.
Это поразительное сходство обоих лиц заставило Люси внезапно вспомнить в мельчайших подробностях свою встречу в лесу с художником, их разговор и эскиз, который он наскоро набросал с нее в свой альбом. Люси рассказала ла Виолетту и Анни об этом эпизоде, и было решено пройти после завтрака в Национальную галерею, где был выставлен оригинал картины, и полюбоваться ею. Люси протестовала против этого проекта, все ее мысли были обращены на розыски корабля «Воробей», но Анни так умоляла ее пройти в галерею, что она не решилась отказать ей.
Картина Трэлаунэя занимала самое видное место в галерее. Это действительно было выдающееся произведение как по силе творчества, так и по технике. Когда маленькая группа остановилась перед картиной, подошел один из служителей галереи, с предложением своих услуг. Ла Виолетт хотел было уже отказаться от его предложения, но последняя фраза служителя остановила его внимание. Он сказал:
— Иностранцы очень интересуются этой картиной, в особенности же с тех пор, как здесь побывал этот молодой моряк. Вы, вероятно, читали об этом в газетах?
— Какой моряк? — дрожащим голосом переспросила Люси, быстро подходя к служителю. — И что с ним произошло?…
— Если позволите, — ответил служитель, — я охотно расскажу все это. Каждый дает, что хочет. Обыкновенно шиллинг, но случай стоит того. — И, став в позу, служитель начал заученным тоном: — Леди и джентльмены, обращаю ваше просвещенное внимание на выдающееся произведение кисти сэра Филиппа Трэлаунэя, художника его величества, члена королевской академии и профессора живописи. Эта картина носит название «Пикник» и изображает игры и развлечения молодых пастушков и пастушек. Обратите внимание на живость изображения, на сочность кисти и на прозрачность воздуха. Пастушок, стоящий у ручья, представляет собою портрет самого художника…
— Все это прекрасно, — перебил его ла Виолетт, — но при чем же здесь молодой моряк?
— Сейчас узнаете! — невозмутимо продолжал служитель. — Дело касается молодой пастушки, протягивающей пастушку корзину роз и случайно с натуры зарисованной художником в лесу. Один молодой моряк — гардемарин королевского флота — явился сюда с неделю тому назад (Люси страшно побледнела и впилась взором в лицо рассказчика). Он казался как бы вне себя и явился, держа в руках журнал со снимком с этой картины. Он подбежал к самой картине стал сравнивать снимок с оригиналом, потом вдруг громко вскрикнул: «Это моя мать! Моя родная мать Люси!» — и залился слезами. Но что случилось с этой леди? Ей, кажется, дурно?
Люси при последних словах служителя упала на руки Анни, шепча задыхающимся голосом:
— Это он!.. Мой сын, Андрэ…
Вокруг стали собираться любопытные. Ла Виолетт помог Анни довести Люси до дивана, а затем, предоставив ее заботам молодой девушки, вернулся к изумленному служителю и сказал ему:
— Вот что, любезный, расскажите-ка вы мне толком об этом моряке. Вы говорите, что он узнал в этой пастушке свою мать? Дело в том, что художник нарисовал его изображение с той самой леди, которой сделалось дурно при вашем рассказе. Она действительно имеет сына, моряка, которого давно потеряла из вида. Что вы можете сказать об этом моряке?
— То, что эта история наделала много шума. Моряк отправился к сэру Трэлаунэю и стал расспрашивать о его модели. Однако сэр Филипп был очень мало осведомлен на этот счет. Он встретил однажды утром молодую женщину в лесу, нарисовал с нее эскиз, но ему было неизвестно ни кто она, ни откуда она шла, ни куда. Вот все, что он мог сказать моряку.
— Благодарю вас, друг мой, — сказал ла Виолетт, — возьмите себе за труды полкроны и скажите: не знаете ли вы имени этого моряка и названия судна, на котором он служит? Где можно найти его?
Но служитель не мог ничего прибавить к своему рассказу и посоветовал обратиться непосредственно к художнику, который, может быть, был более осведомлен на этот счет.
— Впрочем, — добавил он, — если желаете, то зайдите в другой раз, я расспрошу самого моряка.
— А он бывает здесь? — быстро спросил ла Виолетт.
— А как же! Ежедневно, около полудня. Да вон, глядите, — с живостью сказал служитель, указывая на вход, — вот как раз и он!
В зал действительно вошел молодой моряк и быстрыми шагами направился к картине «Пикник».
В зале началось сильное движение: увидев входящего, Люси кинулась ему навстречу и замерла у него на груди, крепко обвив руками его шею, смеясь и плача одновременно и прерывисто шепча:
— Андрэ! Мой ненаглядный! Дитя мое! Наконец-то ты со мною! Наконец-то я снова нашла тебя! О, поцелуй меня, мой Андрэ, мой сын, мое счастье!
После первых взрывов волнения ла Виолетт поспешил увести свое маленькое общество от любопытных взглядов тесно обступившей толпы, посоветовав скорее вернуться к себе, в гостиницу, где будет гораздо удобнее продолжать начатый разговор.
Все четверо немедленно направились к выходу, сопровождаемые служителем, который обдумывал заключительный аккорд к своему новому повествованию:
«Трогательная встреча матери и сына у знаменитой картины придворного художника сэра Трэлаунэя «Пикник».
Анни же, радуясь счастью Люси, ощущала вместе с тем некоторое беспокойство.
«Он не взглянул на меня! — думала она. — Узнал ли он меня? Для меня Андрэ — все тот же Андрэ, но что я для него: та же Анни или нет?»
IX
На некотором расстоянии от юго-западного предместья Вены находится императорский дворец Шенбрунн. На том месте, где высится в настоящее время вокзал Южных железных дорог, в 1830 году стояла гостиница, куда собирались в праздничные дни студенты и зажиточные горожане, чтобы провести за кружкой пива часок-другой на свежем воздухе. Публики собралось много. Приманкой служил большой сад с развесистыми липами, под сенью которых были разбросаны маленькие столики, а также чудесное пиво, великолепная ветчина и сосиски, прославленные, хрустящие венские хлебцы и наконец оркестр, Под музыку которого, молодежь задавала балы. Эта гостиница называлась «Роза». Ее держал отставной солдат, совершивший итальянскую кампанию и дравшийся вместе с немцами против французов. У него были жена и дочь, хорошенькая Эльза, белокурая, голубоглазая, с ямочками на свежих щечках. Когда Эльза появлялась на пороге гостиницы, то казалась живым олицетворением ее вывески.
У нее было много поклонников, но никто из них не мог похвастаться ее предпочтением. Всем было известно, что она выйдет за того из них, которому посчастливится добиться высокого поста сторожа при одной из калиток императорского дворца Шенбрунн.
Мечтой всей жизни почтенного Фрица Мюллера, отца Эльзы, было получить место королевского привратника. Но — увы! — этому не суждено было осуществиться, и он уже отказался от счастья надеть на себя чудный зеленый костюм, украшенный серебряными галунами. Одно время Мюллер надеялся на то, что ему удастся сделать королевским привратником своего сына, но — увы! — таковой вовсе и не родился, и у Мюллеров была лишь одна дочь. Тогда трактирщик перенес все свои надежды и упования на будущего зятя, который должен был во что бы то ни стало добиться высокого положения императорского сторожа.
Все молодые ухажеры Эльзы были предупреждены: тот, кто хотел получить ее в жены, должен был сперва получить место. Многие были совершенно обескуражены подобной перспективой, но Мюллер упорно стоял на своем: его зять обязательно должен был быть привратником императорского замка. Выдав дочь замуж, он намеревался продать свою гостиницу и лишь изредка возвращаться сюда, чтобы выпить кружку пива да выкурить трубочку, глядя со спокойным сердцем на сторожку напротив, где на крылечке будет сидеть его красавица Эльза с толстеньким малюткой на руках.
Изо всех ухажеров только трое молодых людей согласились попытать счастье получить желаемое место, а вместе с ним и руку Эльзы.
Первый из них, Альберт Вейс, был сыном столяра. Это был ловкий, крайне способный парень, золотые руки. Он ради шутки мастерил и потом дарил местным красавицам такие хитрые, секретные шкатулочки, что все кругом изумлялись.
Второй, Фридрих Блум, студент богословия и племянник священника, был бледный, худощавый молодой человек, не имевший ни малейшей склонности к духовному званию. Он жил у Мюллера.
Наконец, третий, Карл Линдер, был здоровый и крепкий молодец, по ремеслу слесарь. Он задался целью доказать всем окружающим, что при доброй воле и свойственной ему энергии сумеет сжать в своих мощных руках, словно в клещах, и красивую дочку трактирщика, и ключ императорской сторожки.
Эльза была порядочной кокеткой и очень ловко водила за нос всех троих, смеясь, лукавя и оттягивая время, когда они уж слишком настойчиво просили ее о свидании. Она играла ими, как шарами, давая легкий, мимолетный перевес то одному, то другому, то третьему. Мюллер же думал приблизительно так: «Главноуправляющий обещал мне место. Но кто получит его? Тот, кто подойдет главноуправляющему, обязательно подойдет и мне. Но вот вопрос: подойдет ли он Эльзе? Пусть уж лучше она выскажется тогда, когда место будет уже назначено одному из троих!»
Однажды вечером, когда Мюллер велел уже внести обратно столы и закрыть калитку, к воротам подъехал экипаж, из которого вышла молодая, элегантная дама с уверенной и повелительной осанкой и спросила, не может ли она получить обед и комнату. Трактирщик поспешил раскланяться до земли и попросил посетительницу пройти в лучшую комнату, пока ей приготовят обед. После этого Мюллер хотел указать кучеру на конюшню, но последний резко ответил:
— Мне уплачено, и я уезжаю. Будьте здоровы!
Трактирщик был крайне удивлен подобным оборотом и невольно задал себе вопрос: «Чего ради эта дама-аристократка заехала одна-одинешенька в мою гостиницу и что ей здесь нужно?»
Он дал себе слово зорко присматривать за подозрительной незнакомкой.
«Эге, — решил он наконец, — это, наверное, любовное свидание. Верно, сейчас явится любезный, оттого и карету поторопились спровадить. Им хватит и одного экипажа завтра поутру, чтобы вернуться в Вену. Так-с! Ну, надо идти поторопить жену и дочку. Дамочка, по-видимому, из балованных, ей, должно быть, не легко угодить. Она, кажется, уже начинает выходить из терпения».
Вскоре весь дом был поднят на ноги; слуги и служанки бегали по всем направлениям, нося и приготовляя то одно, то другое, а жена и дочка хозяина хлопотали на кухне.
Когда все приготовления были закончены, Мюллер, держа колпак в руке, почтительно подошел к посетительнице и доложил:
— Графиня, обед подан.
Он титуловал так свою посетительницу наудачу, полагаясь исключительно на свой наметанный глаз.
— Разве вы знаете меня? — спросила Дама, садясь за стол.
— Как же, графиня! — пробормотал Мюллер, не желая сознаться в своем незнании.
— Это изумляет меня, — заметила дама. — Не служили ли вы в Милане или, может быть, в Неаполе?
— Вот именно, графиня! Я служил в Италии, — ответил Мюллер и мысленно добавил: «В шестом стрелковом и десятом гусарском».
— Ага, — несколько натянуто промолвила дама, — значит, вы узнали меня?
— Немедленно, графиня!
Незнакомка быстро поднялась с места и, подойдя к Мюллеру, промолвила вполголоса:
— Прошу вас никому ни одним словом не обмолвиться о том, что графиня Наполеона Камерата остановилась у вас. Даже если вам назовут меня и спросят, тут ли я, вы должны ответить отрицательно. Слышите? Обещаете ли вы мне это?
— Будьте покойны, графиня, клянусь, что я исполню ваше желание.
— Я полагаюсь на вас. Ну-с, а теперь, когда я несколько успокоилась — признаюсь, что я немало удивилась вашим словам, — я воздам должное вашему обеду.
В это мгновение в комнате появилась Эльза с дымящимся блюдом в руках.
— Кто эта хорошенькая девушка? — спросила графиня Камерата.
— Это моя дочь Эльза, графиня.
— Прехорошенькая! Когда ее свадьба?
— Надеюсь, что скоро. Это зависит от господина главноуправляющего дворцом, который обещал предоставить моему зятю место сторожа.
Графиня перестала есть и с видимым интересом прислушивалась к болтовне хозяина гостиницы.
— Вот как? — промолвила она. — Ваш зять будет сторожем при дворце?
— Я надеюсь, что так, гафиня.
— Дай Бог, чтобы это было скорее в таком случае! — воскликнула графиня, но, словно не докончив своей фразы, быстро перевела на другое, сказав: — Подавайте следующее!
Мюллер поспешил на кухню, а Эльза осталась при графине.
— Я слышала, дитя мое, — сказала последняя, — что вы собираетесь стать женой одного из сторожей дворца? Вам действительно хочется жить в Шенбрунне?
— О да, графиня! — ответила девушка. — Я так свыклась с этой мыслью, что иначе и представить себе не могу свою дальнейшую жизнь. Я так люблю этот старый парк, его развесистые липы и хорошенькие домики сторожей.
— Вы совершенно правы, дитя мое. Такая спокойная, семейная, скромная жизнь способна дать наибольшее счастье, и многие из тех, кому завидуют люди вашего круга, многие из тех, кого я лично знаю, были бы счастливы возможности поменяться своей жизнью с вами. Но это невозможно! Впрочем, — добавила она, переменив тон, — нужно уметь приноравливаться ко всем обстоятельствам и быть готовым ко всему… Дайте-ка этого холодного пирога в ожидании жаркого, за которым пошел ваш отец. — Графиня с большим аппетитом принялась за пирог, а когда появился Мюллер, неся блюдо с фазаном, она промолвила: — Ваша дочь пришла как раз вовремя, а то для нее не осталось бы места. Это что? Фазан? А что, скажите, здесь много дичи в окрестностях?
— О да, графиня! В Шенбрунне чудная охота!
— А, здесь охотятся? А есть здесь кто-нибудь из свиты его величества?
— Конечно, графиня.
— Кто именно? — быстро спросила графиня.
— Да эрцгерцог Франц, тот, которого называют герцогом Рейхштадтским. Сын этого негодяя Наполеона.
Графиня перестала есть и сидела, низко склонив голову, погруженная в свои думы. У нее вертелось на языке много вопросов, но она не решалась задать их.
— Ага, принц здесь? — сказала она после довольно продолжительного молчания. — Он охотится… Значит, он в хорошем настроении. Тем лучше!
«Я поспела как раз вовремя!» — подумала она.
Наскоро закончив свой обед, графиня поднялась к себе в сопровождении Эльзы и обратилась к ней:
— Скажите, милая, отсюда, из ваших окон, видно когда эрцгерцог Франц отправляется на охоту или когда он возвращается с нее?
— Еще бы! — ответила Эльза. — Мы видим его очень часто. Он очень красивый молодой человек! И вот уж кто не боится женщин!
Графиня ничего не ответила, но, войдя в свою комнату, заперлась на ключ и, упав на колени перед висевшим на стене распятием, погрузилась в горячую молитву.
«Боже мой, — молилась она. — Ты знаешь, как я люблю герцога Рейхштадтского, как мне хочется сделать его преемником великого человека, вернуть ему украденный у него один из лучших тронов Европы. Я хочу, чтобы он утвердился во всех своих правах, и ради этого охотно принесу себя в жертву и откажусь от его любви, если я недостойна быть любимой им. Господи, Боже мой, я откажусь от всех своих надежд и желаний, пожертвую всеми своими грезами, даруй мне только одну милость, чтобы он жил! Пусть даже он никогда не будет императором, только бы он жил! Позволь мне явиться вовремя, чтобы расстроить этот ужасный договор».
Влюбленная и очень религиозная графиня Камерата провела еще целый час в молитве и обдумывании предстоящего ей на другой день подвига спасения. Склонившись перед Распятием, она молила Создателя о счастье и долголетии того, кто нес на своих еще слабых плечах тяжелое наследие Наполеона.
X
Юность сына Наполеона была трудовой и суровой. Наибольшее внимание обращалось на изучение немецкого языка. Мальчик долго сопротивлялся, инстинктивно чуждаясь постороннего языка, как бы уничтожавшего его французское происхождение, долго отказывался от немецких уроков, но наконец должен был покориться и кончить тем, что стал понимать и говорить на этом языке как на французском. Его характер закалялся, он стал спокойным, энергичным юношей, не выносившим неправды. Он отказывался читать, сказки и учить басни, говоря, что «все это ложь, на что она?» Он любил природу и уединение. На одном из холмов Шенбрунна был построен деревенский домик шале, прозванный тирольским. Это было любимое место занятий молодого принца; там он читал, размышлял, беседовал со своими профессорами, играл со своим товарищем, Эмилем Гоберо, называвшимся здесь Вильгельмом, сыном слуги его матери Марии Луизы.
Прочитав «Робинзона Крузо», Наполеон Франц вообразил себя в тирольском домике на «необитаемом острове» и с увлечением занялся изготовлением всяких домашних орудий и принадлежностей. Он выстроил себе маленькую хижину, достал попугая и даже собственноручно устроил зонтик. Все эти его произведения собраны в тирольском домике, получившем название «Павильон герцога Рейхштадтского».
Его учили математике, истории, черчению карт, топографии. Он подарил своему деду в день рождения очень точную карту окрестностей Вены собственной работы. Не забыты были курсы фортификации и военной архитектуры. Молодой принц блистательно выдержал экзамен в присутствии профессоров академии. Французская и иностранная литература были в совершенстве изучены юношей. Его воспитатель Форести удивлялся его критическому и проницательному взгляду на людей и события.
Положение молодого человека при этом чуждом ему дворе, полном врагов его отца, было натянуто и печально и приучило его быть замкнутым в себе, скрывать свои впечатления и чувства. Принц стал недоверчив, мрачен, подозрителен, до крайности осторожен, умел молчать о своем пламенно любимом отце, но тщательно и тайно отыскивал книги о войнах империи и с жадностью читал их.
Однако молодость требовала своего, и любовь рано овладела сердцем и душой юноши. У него было много любовных похождений, на которые воспитатели охотно закрывали глаза. Герцог Рейхштадтский был строго оберегаем от всего, что касалось славы и гения его отца, но ему была предоставлена относительно большая свобода во всех развлечениях такого шумного, полного удовольствий города, как Вена. Следуя тайным инструкциям, воспитатели не только не мешали, но почти способствовали похождениям молодого принца и его отношениям с хорошенькими женщинами города. Они следовали методу восточных владык, прибегавших иногда к злоупотреблению удовольствиями и к избытку наслаждений как средству избавиться от какого-нибудь опасного врага.
На первом же придворном балу, где он появился официально в своем звании эрцгерцога, сын Наполеона имел громадный успех, и тогда же у него завязалось несколько интрижек, на которые воспитатели обратили очень мало внимания.
Но юношей скоро овладело преждевременное утомление, пресыщение сделало свое дело. Он стал испытывать томительную скуку среди тех удовольствий, в которые бросился сначала со всем пылом молодости. Явилась жажда чего-нибудь нового, необыкновенного, которое трудно было бы встретить в императорских салонах.
Вспомнив таинственные приключения Гарун-аль-Рашида и его визиря на улицах Багдада, герцог вздумал бродить со своим товарищем Вильгельмом вдоль венских улиц, ища таинственных приключений, забывая двор и все, что напоминало его. Одевшись студентом, без всякого признака своего высокого звания, он выходил из дома то днем, то ночью, чаще всего по вечерам, в то время, когда жители Вены прогуливались на Пратере, заменяющем здесь Булонский лес Парижа.
Сначала воспитатели принца посылали следить за ним полицейских агентов, но, не видя ничего подозрительного, мало-помалу ослабили надзор и перестали наблюдать за ним. Меттерних отдал распоряжение не мешать приключениям молодого принца по тех пор, пока ему не вздумается ходить на студенческие собрания и вмешиваться в политику. Полиция должна была смотреть сквозь пальцы на все похождения юноши и вступиться только в том случае, когда ему будет грозить опасность или вздумается уронить свое царственное достоинство.
В таких прогулках молодой герцог Рейхштадтский называл себя просто Францем.
Однажды в тихий, прекрасный вечер, когда все жители Вены устремились на свежий воздух, принц со своим товарищем блуждал по тенистым аллеям. Расположившись за одним из столиков, среди публики, пившей пиво или кофе под звуки многочисленных оркестров, он заметил молодую девушку в сопровождении старой дамы. Красота и скромность этой незнакомки произвели на него сильное впечатление. Обе женщины были одеты очень скромно и по виду, казалось, принадлежали к числу небогатых горожан.
Молодой герцог решил незаметно следить за ними, когда они пойдут домой, и сделать это настолько осторожно, чтобы не смутить и не испугать их. Мать с дочерью поднялись в верхнюю часть города, и герцог видел, как они вошли в скромный и почтенный на вид небольшой дом близ моста через Дунай. Надо было навести о них справки. Около дома находилась парикмахерская. Принц вошел туда и, пока помадили и причесывали его белокурые, длинные волосы, узнал от болтливого парикмахера то, что хотел знать.
— Эта вдова офицера, — сказал он, — живет здесь уже несколько недель со своей хорошенькой дочерью, которую зовут Лизбет. Они прибыли из Праги: мать — чтобы хлопотать о пенсии, а дочь — чтобы найти себе какое-нибудь место при дворе или в каком-нибудь учреждении. Говорят, что отец девушки служил одно время при эрцгерцоге Фридрихе-Карле. Мать носит имя фон Лангздорф и имеет даже какой-то титул, но скрывает его, так как титул и бедность плохо уживаются вместе, — закончил разговорчивый парикмахер, снимая салфетку с плеч клиента.
Принц был причесан и узнал то, что хотел. Не обратив, по-видимому, никакого внимания на болтовню, он расплатился, вышел из парикмахерской, веселый, вернулся к своему товарищу и радостно объявил ему:
— Я знаю ее имя и звание. Теперь, Вильгельм тебе надо устроить это знакомство, найти способ быть принятым у них.
Оба они стали придумывать этот способ. Самым простым принцу показалось выдать себя за секретаря эрцгерцога Фридриха-Карла. Он мог знать таким образом о деле вдовы и обещать ей свою помощь, а это открывало путь смелому поклоннику.
Когда молодые люди вернулись во дворец, давно не появлявшаяся улыбка освещала бледное лицо юного герцога; он был оживлен и весел, точно переродился. Он поспешно написал письмо в условленном смысле, и Вильгельм должен был отнести его по адресу и доложить о посещении секретаря, господина Франца.
Герцог Рейхштадтский плохо спал эту ночь: образ Лизбет смущал его покой чудными грезами, и рано утром он позвал к себе полусонного Вильгельма. Последнему едва удалось доказать ему, что невозможно явиться к двум порядочным женщинам чуть не на рассвете. Наконец он убедил нетерпеливого принца дождаться хотя бы времени обеда.
Когда настал желанный час, герцог увлек Вильгельма под руку к заветному дому и остался ждать его возвращения с бьющимся сердцем, стараясь угадать, как примут Вильгельма и какой ответ он принесет ему. Посланный явился через четверть часа и рассказал герцогу следующее.
Он видел только пожилую даму, которая приняла его очень любезно. Она рассказала ему о своем печальном положении и, казалось, была не особенно удивлена участием секретаря эрцгерцога. Она пустилась в похвалы своему мужу, описала его заслуги по службе, несправедливости, выпавшие на его долю, его смерть при трагических обстоятельствах, а также препятствия, которые могли встретить ее прошение в канцелярии. Главным затруднением для успеха ее просьбы являлось то, что полковник Лангздорф внезапно подал в отставку из-за ссоры с одним из командиров, с которым дрался на дуэли. В этом поединке он и получил рану, от которой потом умер. Таким образом, полковник оказывался виновным в том, что в частном споре потерял жизнь, которая принадлежала родине и государю. Однако вдова надеялась на справедливость: ее муж был жертвой дурного обращения, почти насилия генерала, и она могла доказать это в случае надобности.
Вильгельм ответил, что секретарь эрцгерцога рассмотрит дело подробно, но ему, конечно, придется просить указаний у нее лично. Вдова поспешно согласилась принять секретаря — своего незнакомого покровителя.
— Теперь путь открыт, — сказал Вильгельм, — остается воспользоваться им.
Герцог Рейхштадтский, не теряя времени, с сильно бьющимся сердцем, легкой походкой стал подниматься по лестнице заветного дома.
Госпожа Лангздорф очень любезно приняла представителя эрцгерцога. Она снова повторила свою историю, прибавив, что дело тем серьезнее, что вражда генерала, погубившего ее мужа, не прекратилась и теперь. Она решилась на полное признание и сообщила, что, будучи еще простым адъютантом, этот офицер питал к ней такую пылкую страсть, что она не сумела противиться ей. Родители выдали ее тогда замуж за лейтенанта Лангздорфа. Генерал захотел возобновить с ней прежние отношения, но она с негодованием отвергла это, любя мужа и не желая изменять ему. Тогда генерал объявил, что считает Лизбет своей дочерью, а не ребенком полковника. Напрасно возражала бедная женщина против такого заявления и умоляла генерала молчать о ее прежней любви к нему, но тот с беспощадной жестокостью бросил в лицо полковнику прошлое его жены, о котором тот не подозревал. Дуэль стала неизбежной. Полковник, вынужденный подать в отставку, чтобы драться с высшим по чину, был убит и оставил семью без всяких средств. Вдова обратилась к императору и эрцгерцогу, испрашивая себе пенсию, на которую имел право ее муж, а дочери — место при дворе, обещанные еще при жизни ее отца.
Герцог Рейхштадтский, тронутый этим рассказом, обещал свое полное содействие, уверив вдову, что пользуется некоторым влиянием на эрцгерцога. Та благодарила его горячо и, как видно, думала, что свидание окончено. Но молодой секретарь спросил не будет ли он иметь честь познакомиться с ее дочерью. Вдова как будто колебалась; глядя в лицо юноши, она наконец сказала:
— Я верю вам, вы имеете такой откровенный внушающий доверие вид. Мы две одинокие, беззащитные женщины, у нас только и есть наша незапятнанная честь, и я надеюсь, что, если я разрешу вам бывать у нас, чтобы мы могли быть в курсе дел и давать вам нужные указания, вы не заставите меня раскаяться в своем доверии. Я познакомлю вас с дочерью, и, может быть, сострадание к ней побудит вас усерднее хлопотать о нас.
Она позвала свою дочь, и Лизбет не замедлила узнать в посетителе молодого студента, внимательно смотревшего на нее во время прогулки на Пратере. Она покраснела, и ее голос несколько дрожал, когда она благодарила его за участие и сказала, что ее мать и она будут всегда рады видеть его у себя.
Герцог старался поставить официальное знакомство на более дружескую ногу и неожиданно предложил сопровождать их на прогулку. Они отказались, но Лизбет прибавила:
— Если моя мать позволит, то мы можем пойти вместе на Пратер в воскресенье, после обеда, и проведем там несколько часов на свежем воздухе, под деревьями. Может быть, мы встретим там кого-нибудь из друзей отца, которые могут подтвердить вам нашу историю, и вы охотнее будете помогать нам.
Молодой принц решился наконец откланяться н уйти.
В воскресенье он встретил обеих дам на указанном месте, предложил им зайти в кафе, и скоро их знакомство приняло самый дружелюбный, интимный характер.
Такие встречи продолжались целый месяц. Несмотря на то, что разговор большей частью шел о деле, о пенсии, об ожиданиях вдовы полковника, молодая девушка давно угадала чувства милого, любезного юноши.
Молодой герцог решил ускорить ход событий. Он отправился к своему дяде, эрцгерцогу Карлу, который очень любил его, рассказать ему о прошении вдовы, в которой принимал участие, и просил его дать благоприятный ответ.
Эрцгерцог потребовал к себе дело, рассмотрел бумаги и сказал племяннику несколько дней спустя:
— Я исполню твою просьбу. Действительно полковник Лангздорф потерял право на милость императора, оскорбил высшее по чину лицо и подал в отставку из-за дуэли. Но так как ты интересуешься этой семьей и, кроме того, я нашел в бумагах доказательство того, что виновником дуэли был не полковник, а сам генерал, то я устроил вдове разрешение на пенсию в обычном порядке. Что касается дочери, то для нее я нашел место лектрисы при дворе, сначала второй, а через месяц и первой. Можешь сообщить хорошие вести своим протеже.
Герцог Рейхштадтский горячо поблагодарил дядю и радостно помчался в предместье Асперн, и, конечно, принесенная весть об успехе дела была встречена там с восторгом.
Благодарность — вернейший путь к любви. Лизбет, и без того неравнодушная к красивому «секретарю», чувствовала все более и более сильную привязанность к нему еще за то, что он доставил ей возможность служить при дворе и обеспечил существование ее матери, и у нее часто возникало желание увидеть его.
Однако со времени ее поступления на место ей ни разу не пришлось встретить во дворце молодого секретаря, и это удивляло ее. Однако ведь он служил при дворе… Или он забыл ее? Почему он не нашел до сих пор способа увидеть ее, говорить с ней, если его чувства были больше чем простое сочувствие?
Она решилась наконец в одно из своих свободных воскресений пойти на Пратер одна, надеясь встретить там «секретаря». Но ее ожидание оказалось тщетным: она нигде не могла увидеть бледное, красивое лицо того, кто уже занял прочное место в ее сердце. Она печально вернулась во дворец и старалась отвлечь свои мысли от интересовавшего ее юноши, взяв в руки первую попавшуюся книгу. Последняя оказалась придворным журналом, где были помещены генеалогия, родство и свойство придворных лиц, и прежде всего императорского, королевского дома, и были приложены портреты членов царственной семьи. Рассеянно просматривая эти портреты, Лизбет встретила среди них изображение молодого человека с надписью: «Эрцгерцог Франц-Иосиф, герцог Рейхштадтский, внук Его Величества».
«Как этот портрет похож на него! — подумала она. — Его глаза, его рот, его черты! Точно портрет его брата! О, я буду беречь эту книгу. Глядя на этот портрет, я буду думать, что он сам около меня».
Но проходили дни, а желанная встреча все не устраивалась.
Лизбет считала, что ее чудный, светлый сон любви и счастья навсегда и безвозвратно канул в вечность, и вдруг однажды получила записку, подписанную именем Франца, где он сообщал ей, что только что вернулся из отъезда, и просил прийти на Пратер, на обычное место их встреч.
Лизбет с радостью сказала себе: «Он не забыл меня! Может быть, он не знает, как я люблю его!» — и, конечно, поспешила исполнить просьбу своего Франца.
Свидание состоялось. На этот раз молодые люди были одни и могли говорить без помехи. Они делились своими впечатлениями, желаниями, мечтами. Расставаясь, когда уже стемнело, влюбленные обменялись первым поцелуем, взаимно считая, что это является залогом их помолвки.
Герцог весь отдался этой свежей и чистой любви. Его опьяняло чувство этой девушки, не знавшей его звания, считавшей его бедным, скромным служащим. Он давно разглядел все расчеты честолюбия, тщеславия и выгоды, скрывавшиеся в глубине его лестных успехов среди дамского общества при дворе. Ведь герцогу Рейхштадтскому могла предстоять самая блестящая участь! Он мог занять со временем престол Франции. Может быть, со смертью эрцгерцогов австрийский трон перейдет к нему, внуку нынешнего императора… Молодой принц не мог не видеть, как все эти преимущества действовали на женские сердца и как пуста, тщеславна и лжива была та любовь, которую в изобилии расточали ему дамы придворного круга.
Возвращаясь мыслью к скромной лектрисе, любившей его, не зная, кто он, и не ожидая короны взамен своей любви, юноша грустно говорил про себя:
— Пусть она никогда не знает этого! Пусть она любит только Франца, скромного секретаря придворной канцелярии!
Часть вторая УЗНИК ШЕНБРУННА
I
В одной из темных, извилистых улиц центра Парижа, на углу улицы Мандар, находилось маленькое кафе, посетителями которого были окрестные мелкие торговцы и служащие. Несмотря на свое громкое название «Прогресс», это заведение нисколько не изменило старых традиций, по крайней мере в отношении следов мух на грязных и рваных обоях, паутины по углам и слоев копоти и пыли на сводах потолка. Это было скромное и почтенное кафе с патриархальными нравами, где истребляли прохладительное питье, где никто не возвышал голоса, где читали газеты, играли в карты и домино, где всегда царили мир и спокойствие.
То и другое всецело воплощались в лице благодушного существа, постоянно помещавшегося среди чашек и ложек на прилавке, около длинного ряда бокалов, приготовленных для лимонада и других напитков. Это был Картуш, или попросту Туш, домашний кот владелицы кафе, смотревший своими блестящими фосфорическими глазами на все окружающее с невозмутимым спокойствием и равнодушием.
Владелица Туша восседала между чашками с сахаром и бутылками коньяка с таким же величавым и невозмутимым видом, как и ее кот. Мадам Морен уже несколько лет вдовела. После смерти мужа она хотела было в порыве горя продать кафе, но этому воспротивились все клиенты, и она, покорившись общему желанию, осталась сидеть за конторкой на своем бархатном табурете.
Больше всех посетителей настаивал на этом некто Арман Лартиг. Восточного происхождения, но рано приехавший в Париж, он служил когда-то военным и участвовал в походе в Испанию при Бурбонах. Это был веселый малый, хороший товарищ, по ремеслу живописец-декоратор; он обещал хозяйке кафе обширную клиентуру среди рабочих-маляров, с которыми, как он говорил, ему постоянно приходилось иметь дело.
Хозяйка кафе охотно приняла предложение, и действительно ее тихое заведение наполнялось по утрам шумной, веселой толпой молодежи. Говор и оживление сменили спокойную тишину, царствовавшую до сих пор в кафе и дававшую повод хозяйке говорить:
— Мое кафе — это настоящий салон!
Обычные клиенты, собиравшиеся несколько позже поиграть в домино и на бильярде, опустошая пивные кружки, не имели ничего общего с малярами, но и тут появились новые лица благодаря Лартигу: это были врачи, профессора, отставные военные, несколько состоятельных рантье.
— Это все мои клиенты или их друзья, — говорил Лартиг. — Если мы будем довольны, то зайдем и завтра…
Доходы увеличивались, и хозяйка всецело положилась на Лартига. Он начал с того, что переменил название кафе. Оно называлось просто «Кафе Морен», но раз Морен умер, то, конечно, не мог больше держать кафе. Лартиг отклонил также прозвание «Кафе Юности», предложенное хозяйкой, находя, что оно отпугнет клиентов солидных, иногда самых выгодных, и предложил дать кафе название «Прогресс».
— Это будет понятно для всех в наше время, когда началась борьба отживающего режима с новыми течениями жизни… — пояснил Лартиг.
— Так вы занимаетесь политикой? — удивилась госпожа Морен. — Я и не подозревала об этом. Впрочем, это дело ваше.
Лартиг рассмеялся и сказал:
— Вот что, мамаша Морен: когда я скажу вам: «Подите, мадам Морен, вас спрашивают!», тогда уже вы не вмешивайтесь больше в наши разговоры, а идите подальше, в кухню или в спальню, пока вас не позовут обратно. Видите ли, нам иногда надо побыть одним; но будьте покойны: мы не скомпрометируем вас. Мы все знаем друг друга, и когда собираемся говорить о том, что нас интересует, то будьте уверены, что ничье лишнее ухо не услышит того, что не надо.
— Несчастные! Вы хотите составлять заговоры у меня!
— Да, среди пенатов покойного Морена. Он, кажется, был ретроград, он никогда не говорил ни слова, однако неизвестно, что он думал.
— То, что надо, господин Арман: он был за правительство.
— И мы, мы тоже за правительство, но за будущее правительство. До свидания, мамаша Морен! Прежде всего продолжайте смотреть на нас как на добрых малых, приходящих к вам сыграть свою партию и поболтать о своих делишках после трудового дня.
И Лартиг, распрощавшись, вернулся к своему делу — торопить рабочих и следить за ходом исполняемой работы.
Кафе «Прогресс» скоро сделалось одним из тех таинственных и страшных впоследствии мест, где готовилось и зрело великое, грозное политическое движение 1830 года.
Из осколков бывших масонских лож, из остатков политических партий вроде карбонариев, проповедовавших самые передовые идеи, образовалось общество под девизом: «Помогай себе сам — Небо тебе поможет», поставившее себе целью покончить с Бурбонами. Оно образовало в Париже сотни мелких центров во всех кварталах города, похожих на готовые к извержению вулканы. Кафе «Прогресс» стало одним из таких мелких вулканов. С того дня, как Карл X, тупой, ограниченный король, плохо сознававший, что рискует своим троном, а пожалуй, и жизнью, осмелился явиться перед национальным собранием и отказать в принятии знаменитого адреса, подписанного 221 смелым депутатом, была открыто объявлена война между дворцом и городом.
Можно сказать, что революция 1830 года, которой было суждено окончиться в три дня, началась 18 марта 1830 года, когда король ответил на поданный ему адрес, что он «объявил свое решение в речи, произнесенной им при открытии сессии, что его намерения непоколебимы и что в интересах своего народа он не может отказаться от них».
С марта до июля народ собирался сопротивляться. Было решено послать в собрание тех 221 депутата, которые подписали адрес, с добавлением еще известного числа либеральных депутатов.
Среди вождей движения выделялись в то время Казимир Перье, Жак Лафит, Одран де Пюираво, Дюпен Старший и некоторые другие.
В умах молодежи происходило большое брожение. Учебные заведения развивали либерализм в пользу республики. Этим в особенности отличалась Политехническая школа, гордившаяся своим вмешательством в дела отечества в 1814 году. Там влечение и симпатия к республике смешивались с обожанием Наполеона. В мастерских также бродило недовольство: Бурбонам не могли простить их возвращение с казаками и смотрели на них как на ненавистных средневековых баронов. Предместья были проникнуты славными воспоминаниями об империи. «Если король умрет, — говорилось там, — то тогда надо идти в Вену и привести сюда обратно Наполеона Второго».
Но вся молодежь и все политические партии не значили бы ничего без кружка людей, управлявших прессой.
Когда Карл X и его министры потеряли всякую надежду на управление Францией, в конституционной хартии был найден пункт четырнадцатый, который, по объяснению королевских юристов, позволял издание указов; таким образом можно было обуздать и сдерживать печать.
Король осведомился у Полиньяка, первого министра, какими силами он может располагать, чтобы обеспечить исполнение указов. Тот ответил, что может в несколько часов собрать в Париже до 18 000 человек.
— Этой армии нужен начальник, — сказал король.
После некоторого обсуждения выбор пал на герцога Рагузского, негодяя Мармона, изменившего Наполеону и продавшего родину накануне капитуляции Парижа. Тому старому изменнику было поручено с помощью силы образумить парижан в случае протеста против указов.
В понедельник, 26 июля, проснувшись поутру, Париж узнал, что государственный переворот начался, Первыми, конечно, узнали об этом журналисты. Между ними был Арман Каррель, один из редакторов газеты «Насьональ». Узнав содержание указов, сотрудники этой газеты хотели собраться для совещания у известного адвоката Дюпена, однако он отказался от этой чести, закрыв перед ними дверь своего кабинета.
Собрание состоялось вечером в помещении редакции газеты «Насьональ», и там было решено подать протест. Тотчас же один маленький, проворный человечек потребовал молчания и прочел текст протеста, отредактированного им. Это был один из редакторов газеты «Насьональ», Адольф Тьер. Он прочел свою бумагу. Немного поспорили, а потом утвердили ее. Пока молодой автор протеста принимал поздравления, многие спокойные и более благоразумные люди хотели под шумок пробраться к дверям. Однако Тьер, заметив это, воскликнул:
— Одну минуту! Не уходите! Удержите их! Здесь нужны подписи. Надо подписываться!
Беглецы сконфуженно остановились.
Тьер вскочил на стол, расплескивая чернила на зеленый ковер редакции.
— Под этим протестом, — крикнул он, — нужны… — Он остановился, оглядел окружающих и резко добавил: — Нужны головы, господа.
Спрыгнув на пол, он схватил перо и первый подписал: «Тьер». Рядом с ним подписался Арман Каррель. Остальные подписались за ними, как бараны, по бараны, понимающие, что стоят на пороге бойни.
На другой день Мармон принял командование и приготовился бороться с возмущением. Еще не раздалось ни одного выстрела, но на всех перекрестках были поставлены отряды. Группы безработных бродили по улицам. В предместьях еще не знали, что решено в городе.
Казимир Перье был недоволен тоном протеста и нашел его слишком революционным. Тьер, первый подписавшийся, требуя «голов» внизу протеста, сел в экипаж и поспешил скрыться в деревне, подальше от Парижа. Многие последовали его благоразумному примеру.
В сущности, новоизданные королевские указы угрожали только печати. Можно было рассчитывать, что рабочая масса не обратит особого внимания на то, что ее не касалось. Но толпа вообще легко увлекается примером отдельного лица, часто не разбирая, за что, собственно, она стоит.
Когда узнали, что подлый Мармон стал мясником Карла X, гнев народа проснулся. Не очень ясно понимали, за кого дрались, но против кого — это понимали все: против Мармона, негодного Мармона! Раздались крики: «Долой указы! Долой герцога Рагузского! Долой министров!» Мальчишки, слыша крики: «Да здравствует хартия!», прибавляли: «И ее высокое семейство!». Никто не знал, кому, собственно, кричат «виват!». Тем не менее народ отлично понимал, что надо было кого-то выгнать из Франции и из Парижа и что этот кто-то — Карл X вместе с ненавистным герцогом Рагузским.
Первые выстрелы последовали при попытке полицейских комиссаров произвести 44 ареста лиц, подписавших протест Тьера. Однако привести в исполнение эти аресты не удалось частично из-за восстания, частично из-за отсутствия обвиняемых. Единственный арестованный был отпущен комиссаром на свободу, причем тот сам просил защиты от разъяренного населения.
Везде возвышались баррикады, везде оружие было наготове. В общем беспорядке совершенно затерялись вожди восстания, никто и нигде не распоряжался. Только кое-где виднелись признаки организации работ. Например, на улице Мандар бросались в глаза две особенно удачно устроенные баррикады. Они состояли из пригодных для того материалов: матрацов, подушек и прочего. Тут же были приготовлены бочки с водой и песок для тушения пожара. Многие удивлялись этому произведению уличной боевой организации.
— Как все это хорошо! Как удобно! — сказал один профессор живописи, рассматривая эту баррикаду.
— Готово к бою, дружище! — ответил ему чей-то звучный голос.
Он принадлежал высокому малому в широкополой шляпе артиста, в куртке с отворотами и трехцветном поясе, за который были заткнуты пистолеты; длинная сабля волочилась за ним по пятам. Это был весельчак Арман Лартиг в полном вооружении.
Кафе «Прогресс» сделалось главным центром сопротивления Парижа. Лартиг целый день бродил по улицам от одной группы к другой, смеясь, передавая приятные известия, предсказывая победу, обнимая всех встречных женщин, говоря им: «То во имя республики, гражданка!»
Ничего решительного не появлялось пока с обеих сторон.
Наконец Мармон решил подавить восстание одним ударом.
В это время у Казимира Перье, вождя парламентской оппозиции, собрались депутаты. Он в это время очень походил на кота, видящего рыб в бассейне: ему хотелось бы достать их, но он боится воды. Власть была так близко от него, правда, не для себя лично, но все-таки было очень лестно владеть троном. Достанет ли кот соблазнительную рыбку или промахнется? Если он ошибется и корона выскользнет из его рук? Что тогда будет с ним? Жизнь Казимира Перье была поставлена на карту.
Этот осторожный человек председательствовал в собрании и старался как-нибудь оттянуть решительный момент, а для этого указал, что необходимо до начала дела собрать кое-какие дополнительные сведения.
— Разве вы не понимаете, — сказал он, — какой опасный элемент мы тревожим? Какая ответственность ляжет на нас? Ведь это ужасно! Мы погибнем, если выйдем из границ законности, мы потеряем очень выгодное положение!
А между тем неразумные, пылкие люди давали убивать себя на улицах. Нужна была кровь, красных и синих, чтобы белое знамя стало знаменем нации, знаменем трехцветным, которое революция и Наполеон торжественно пронесли по всему миру.
II
Между тем в то время, когда Париж сделался полем битвы, король Карл X в Сен-Клу продолжал чрезвычайно заботливо сохранять царственный церемониал. Все мелочи этикета строго соблюдались. Все окружавшие его лица, желавшие объяснить ему истинное политическое положение страны, встречал только улыбку и холодный отпор.
Король говорил им:
— Господа, вы преувеличиваете важность затруднений. Так бывает всегда, при всех режимах, среди населения такого большого города, особенно в такое горячее время, как теперь. Герцог Рагузский должен восстановить и поддерживать порядок. Он прекрасно справился с возложенной на него задачей.
Одному из придворных, хотевших во что бы то ни стало внушить королю всю важность и опасность вспыхнувшего восстания, Карл X ответил суровым тоном:
— Вернитесь в Париж и скажите там, что король твердо решил не поступаться ни единой прерогативой монархизма!
Сказав это, Карл X, игравший в это время в вист, снова взял карты в руки, и игра продолжалась как ни в чем не бывало.
А тем временем восстание с неукротимой силой разрасталось в Париже. Инсургенты стали хозяевами всех стратегических пунктов столицы. На Лувр напала банда из 300 инсургентов, которыми командовали банкир Мишель Гудшо и молодой студент Политехнической школы.
Швейцарцы, охранявшие Лувр, отбросили осаждавших первым залпом, но перед вторым остановились в нерешительности: им вспомнилось 10 августа 1792 года. Инсургенты отодвинулись назад и остановились, не зная в первый момент, что предпринять. Наступила полная тишина, но вдруг ее прорезал раздавшийся откуда-то сверху звонкий голос, кричавший:
— Да здравствует хартия! Да здравствует свобода!
Этот голос принадлежал уличному мальчишке — ведь во всякой революции парижские гамены играли немаловажную роль! — который втихомолку подобрался в колоннаде. Но швейцарцы в первый момент подумали, что народ незаметным образом сбоку пробрался в Лувр и зашел им с тыла, а потому в припадке панического страха они побросали оружие и амуницию, бросились бежать с криком: «Спасайся, кто может!», промчались по галереям, коридорам, лестницам, бесконечным дворам Лувра и в полубезумии добежали до площади Карусель.
Сейчас же сзади них послышались тяжелые шаги осаждавших. Знак, поданный мальчиком, был понят. Инсургенты действительно ворвались на этот раз в Лувр. Они выламывали двери, выбивали засовы, кричали, стреляли из ружей, так что собравшаяся на улице толпа подумала, что Лувр теперь опять во власти народа. Все это окончательно деморализовало резервный батальон Мармона, расположенный для охраны во дворе Тюильри. Солдаты со страхом поглядывали друг на друга и говорили:
— Парижане овладели Лувром, а это самая прочная твердыня в городе. Мы пропали.
В тот же момент, словно желая еще увеличить их подавленность, маршал Мармон приказал им отступать, и дворец Тюильри был быстро эвакуирован.
Не успели последние солдаты выбраться оттуда, направляясь, согласно приказу герцога Рагузского, к Елисейским полям, как на вершине башенки древнего дворца Валуа появилось гордое трехцветное знамя, знамя Революции и Наполеона, поднятое там тремя горожанами — Жубером, Томасом и Гиньяром. Законная монархия снова была уничтожена во Франции!
Во время сражения произошли такие события, которые совершенно изменили характер восстания. Это гигантское тело вооруженного народа не имело головы, и ему дали таковую. По мере того как обстоятельства складывались все благоприятнее и к повстанцам стекалось все больше и больше вооруженных горожан, туда же бросились депутаты, ученые, писатели, которые разнесли среди инсургентов следующее радостное известие.
29 июля у банкира Лафита происходило заседание депутатов национального собрания, на котором он объявил, что необходимо взять в свои руки управление делами страны, чтобы поддержать и ободрить восставший народ. Он предложил, между прочим, избрать вождя восстановленной национальной гвардии. У всех на устах было имя Лафайета, в числе немногих дворян боровшегося в Великую французскую революцию за права народа, и ему предложили стать главным вождем всего восстания. Тогда последний встал и сказал:
— Во исполнение воли моих сограждан я принимаю на себя командование национальной гвардией. Старое имя тысяча семьсот восемьдесят девятого года может оказаться очень полезным в тех важных событиях, которые мы переживаем. Раз на нас нападают со всех сторон, то мы должны защищаться. Генерал Лафайет будет и в семьдесят три года таким же, каким он был в тридцать два!
Тогда Бетен де Во воскликнул:
— Если мы не можем обрести вновь доблестного мэра Парижа тысяча семьсот восемьдесят девятого года, знаменитого Байи, то будем, по крайней мере, рады, что у нас имеется его достославный начальник национальной гвардии!
Затем была избрана национальная комиссия из пяти членов, чтобы следить за защитой, продовольствием и безопасностью столицы.
С улицы послышался какой-то глухой шум: собравшаяся там толпа хотела узнать, согласился ли Лафайет принять командование национальной гвардией.
Командование войсками собрание постановило возложить на генерала Жерара.
Но тут со двора и улицы послышались ружейные выстрелы. Члены собрания кинулись к окнам и увидали, что вокруг дома Лафита виднеется серая масса войск. Все заметались по комнате с криками: «Мы погибли! Нас предали!» Перед глазами этих трусливых буржуа, превратившихся в инсургентов, уже мелькали картины военного суда, расстрела. Толстяки бросились к боковым дверям, которые оказались слишком узкими для их кругленьких животиков, прятались за кресла, выпрыгивали из окон в сад, раздавливая своей тяжестью вороха роз, гераней и гелиотропов. А человек пять из наиболее храбрых защитников отечества забрались в «кабинет задумчивости». Было довольно-таки трудно извлечь их оттуда, когда все выяснилось. Они не хотели слушать никаких объяснений и только визжали, что не хотят идти на виселицу или на расстрел.
В комнате остался на своем месте только сам Лафит со своим секретарем де ла Гардом, которому он сказал:
— Раз суешься в политику, то надо сначала убедиться, хорошо ли владеешь ногами! — И он указал на свою больную ногу, которая мешала ему сдвинуться с места и таким образом заставила его оказаться храбрее всех.
К нему-то и обратилась группа офицеров 5-го и 53-го пехотных полков, желавших переговорить с собранием. Эти офицеры явились от имени своих товарищей предложить свои услуги революции.
Они стояли на Вандомской площади, когда их окружила толпа горожан, состоявшая главным образом из стариков, женщин, молоденьких девушек и детей, которые умоляли их не стрелять в народ. Сначала солдаты пытались остаться глухими к этим мольбам, но по мере того, как толпа все увеличивалась и эта просьба повторялась все более и более юными и беззащитными губами, они стали колебаться и подумывать о том, справедливо ли требовать от них, солдат, чтобы они вносили ужасы смерти в ряды этой мирной толпы, требовавшей у навязанного ей правительства только того, на что она имела несомненное право? К тому же они падали от усталости и голода. Со вчерашнего дня их не кормили, и стояла ужасная жара. Тогда лавочники и живущие по соседству горожане принесли им еду и питье. Женщины помогали солдатам скинуть оружие и амуницию, чтобы отдохнуть и с полным удобством утолить голод и жажду. Дисциплина все таяла, солдаты все смягчались. Наконец они категорически заявили, что ни в коем случае не пойдут против народа.
Узнав, что в доме Лафита происходит как раз собрание членов временного правительства, офицеры этих полков решили не противиться воле солдат и присоединиться к восставшим. Один из младших офицеров, отряженный парламентом к барону Жерару, только что назначенному командиром восставших военных сил, явился с известием, что Жерар согласился принять их в состав своих войск. Тогда эти части двинулись к дому Лафита и вызвали тот переполох, который мы уже описывали выше.
Мало-помалу все объяснилось: члены собрания стали вылезать из-за спинок кресел, возвращаться из сада, даже засевшие в «кабинете задумчивости» в конце концов вняли голосу рассудка и горделиво вернулись в зал собрания.
Тогда Лафит с великолепным хладнокровием заявил:
— Господа! Заседание продолжается!
Эти два полка, перешедшие на сторону инсургентов, окончательно решили победу. Теперь уже нечего было больше бороться — надо было пожинать кровавую жатву.
Разумеется, все голоштанные смельчаки, все дети народа, рисковавшие своей жизнью за трехцветное знамя, должны были быть исключены из участия в разделе. Они были хороши для черной работы, для пашни, для посева, но когда дело доходило до жатвы посеянного ими, то их роль считалась оконченной. Тогда из-за надежных прикрытий, словно тараканы, выползали толстобрюхие буржуа, которые требовали не своей части во вновь освобожденной Франции, а всю ее целиком!
III
Во время сражения у одной из баррикад около улицы Монторгелль, где перестрелка отличалась особенным оживлением, можно было видеть двух инсургентов, которые, помимо особенного жара, вносили в бой техническое знание и совершенно выдающуюся компетентность.
Эта баррикада находилась около угла улицы Мандар. Она, как мы уже. говорили, была очень искусно построена Лартигом из карет, насыпанных землей и поваленных на бок, из всякого тряпья, матрасов, булыжника, каменных плит. Около нее шла канавка, из которой вынули весь камень, но зато насыпали туда битого стекла и железных обрезков, чтобы сделать ее совершенно непроходимой.
Внутри этой импровизированной крепости царила суровая дисциплина. Начальником ее был пожилой, воинственного вида мужчина, нацепивший на старый выцветший мундир империи командорский крест Почетного легиона. Его почтительно называли «генералом».
Это был генерал Анрио, постаревший, осунувшийся, ослабевший, но воодушевившийся, возбужденный, обретший прежние силы и энергию, преследуя двойную цель, для достижения которой требовалось три дня напряжения всех моральных и физических сил. Он только что отсидел несколько лет в заключения, но в каком заключении! Его обвинили в устройстве заговора, имевшего целью возвращение Наполеона с острова Святой Елены, и ему уже грозил военный суд, когда вдруг его сочли сошедшим с ума и заключили в Шарантонский дом для сумасшедших. Его друзья во главе с маршалом Лефевром вступились за него, доказывая, что Анрио в полном разуме и его несправедливо держать в доме для сумасшедших. Но полицейский префект ответил им:
— Если вы действительно расположены к генералу Анрио, то никогда не поднимайте этого вопроса. Если его признают нормальным и действовавшим в состоянии полного разумения, то его, правда, выпустят из Шарантона, где его сторожами являются только доктора, но выпустят для того, чтобы заключить в военную тюрьму и отдать под суд. Хотите вы, чтобы генерала Анрио расстреляли? — улыбаясь, добавил он. — Нет? Ну, в таком случае оставьте всякие хлопоты и ждите. Быть может, когда-нибудь и для него тоже пробьет час монаршей милости!
Час монаршей милости не торопился с наступлением, но во вторник 26 июля 1830 года, узнав, что делается в Париже, Анрио, которому, в сущности, жилось в Шарантоне далеко не так плохо, так как сторожами и надзирателями там служили старые императорские солдаты, с помощью привратника ушел из больницы. Он уже неоднократно совершал таким образом маленькие прогулки и на его отсутствие закрывали глаза. Он давал слово вернуться вечером, а слово генерала было священным. Ни разу не было случая, чтобы генерал Анрио не вернулся в назначенный срок. Но в этот вечер он не вернулся в лечебницу!
— Арестовали его или он попросту убежал? — пробормотал привратник, который одинаково дрожал как за свое место, так и за своего больного.
Регулярные отлучки генерала и без того частенько интересовали его. Он думал, что Анрио пользовался этими отлучками для того, чтобы навестить кого-нибудь из старых товарищей, поговорить с ними об императоре Наполеоне, его сыне и шансах на реставрацию Бонапартов. Раза два-три он даже выслеживал генерала, но не видел, чтобы тот говорил с кем-нибудь. Анрио обыкновенно останавливался около элегантного домика в квартале Мадлен и проводил там долгие часы, поджидая и выслеживая кого-то. Но по всем признакам это все-таки не было ни политическим, ни любовным свиданием, так как генерал ни разу не проник в дом. Однажды, когда около подъезда остановилась карета, глаза Анрио загорелись пламенной страстью, в которой читались скорее злоба и ненависть, чем любовь. Кто был в этой карете — служитель не видал, но он вообразил целую историю и, рассказывая ее в своем кругу, говорил, будто генерал Анрио влюблен в несвободную женщину, все старается повидать предмет своей страсти, но это никак не удается ему.
Таким образом отлучки генерала были самыми невинными, но в больницу во вторник вечером он все-таки не вернулся. Прошла среда — его все не было. Как ни дрожал служитель за свое место, но волей-неволей пришлось подать рапорт директору заведения о случившемся.
Отправляясь к директору, несчастный пробормотал:
— Этот рапорт повлечет за собой для меня увольнение, а следовательно — и голодную смерть. Куда я денусь в этом возрасте, на что я гожусь и кто возьмет меня на службу? Эх, генерал, генерал! Не следовало ему так поступать со мной! Ведь я всегда делал ему всяческие поблажки!
После некоторого колебания служитель постучался и вошел в кабинет.
— Это вы, Борно? — спросил директор, стоявший перед зеркалом и старательно изучавший свое лицо. — Что нового?
— Ничего особенного, господин директор. Есть тут одна новость, так она здесь в рапорте прописана. Вот. — И, дрожа всем телом, служитель протянул бумажку.
— Сегодня у меня нет времени читать рапорты, — ответил директор.
— Ну что же, так я приду завтра, — пробормотал тот, с радостью подумав, что, быть может, генерал Анрио все-таки явится: ведь не захочет же он подвести человека, не сделавшего ему ничего, кроме хорошего! Ведь, может быть, он просто заболел?
— И завтра у меня не будет времени тоже! — ответил директор, делая в воздухе веселый пируэт. — Ах, Борно, вы этого не понимаете! Вы, кажется, просто старый шуан, и вам нет никакого дела до того, что теперь происходит в Париже. Ведь Карла Десятого выставляют вон! — И он пробормотал:
Когда старик-король в безумии своем Смеется над законом и народом…Услыхав эти две строчки из последней песенки Беранже, Борно с удивлением поднял голову, всмотрелся в директора и тут только заметил кое-что, ускользнувшее от него вначале. Правда, на директоре все еще были чиновничий сюртук и бюрократические баки, но на голове красовалась каскетка с трехцветной кокардой, на сюртуке виднелась амуниция, в руках было ружье солдатского образца. Борно при виде этого не мог отделаться от изумления.
— Да, да, вот как обстоят дела, Борно! — продолжал директор. — Я ухожу от вас, так как сыт по горло госпиталем. Надеюсь, что все вы здесь пожалеете о моем уходе, но если сегодня меня не убьют, то я вернусь повидаться с вами после взятия Тюильри, потому что мы идем брать этот дворец. До свидания, Борно! — И, оставляя служителя в полном остолбенении, директор прошел мимо него церемониальным шагом и вышел из кабинета, насвистывая военный марш.
— Чем только это все кончится! — пробормотал служитель, возвращаясь к себе в каморку.
Генерал Анрио примкнул к инсургентам потому, что хотел отомстить Бурбонам, потому что любил свободу, потому что его сердце оставалось молодым. И его кровь с юношеской энергией забурлила в жилах, когда он увидел восставшей из праха старую трехцветную кокарду; он надеялся, что восстание примет значительный размах и вызовет неминуемое низвержение Карла X, чтобы заменить Бурбонов другим государем со звучным, милым, дорогим большинству французов именем Наполеона II.
Кроме того, Анрио хотел отомстить и за себя лично. Его предали, и теперь он знал, кто именно. Он долго рылся в памяти, перебирая всех, кто мог бы предать его, но простой случай открыл ему, кто известил полицию о составленном им заговоре, чтобы с помощью капитана Лятапи выкрасть Наполеона с острова Святой Елены и доставить его если не в Европу; сразу, то по крайней мере хоть в Америку, где можно было бы при благоприятном случае подумать и о продолжении дела.
Разумеется, ему не называли доносчиков. Его неожиданно арестовали, допросили и отвели в тюрьму, где продержали в одиночной камере несколько месяцев в ожидании суда. Однажды за ним явились, посадили в закрытую карету и отвезли в какой-то приморский город, которого он не знал. Там его опять заперли в одиночную камеру и держали, как сообщил сторож, в распоряжении морского префекта.
Так прошли долгие месяцы; Анрио не только не имел ни малейшего соприкосновения с внешним миром, но оттуда к нему даже не доходило никаких известий, и он не знал, что происходит с его близкими.
И вот однажды к нему в камеру вошел тюремный смотритель и заявил, чтобы он приготовился к посещению тюремного инспектора, который объезжает тюрьмы и будет вскоре у них, чтобы проверить, достаточно ли хорошо в отношении питания и гигиены содержатся арестанты. Генерал Анрио спросил, не могут ли ему дать бумагу и перо, чтобы составить прошение на имя инспектора. Ему принесли желаемое и снова оставили одного.
Анрио подготовил длинный протест против своего ареста и требовал суда. В то же время он требовал от королевского правительства, чтобы ему дали очную ставку с доносчиком, дабы он, Анрио, мог уличить его в заведомой лжи и опровергнуть обвинения.
Инспектор был очень влиятельным и добросовестным чиновником, но ему надоели вечные, повторявшиеся почти в одних и тех же выражениях прошения и протесты политических арестантов, требовавших регулярного следствия и суда — двух вещей, которых именно и не желало правительство Бурбонов. Случаю было угодно, чтобы в прошлом генералу Анрио пришлось встречаться с инспектором, и последний сильно изумился, встретив его в камере морской префектуры. Они поговорили о прошлом, о своих прежних общих знакомых — к громадному удовольствию инспектора, который думал, что таким образом удастся избежать обычных протестов, требования суда и т. п.
Анрио очень часто встречал молодого чиновника у баронессы де Невиль, и потому его первой мыслью было узнать, как поживает эта дама. Ведь он так давно не видел ее; ведь так давно уже его доводило до полного отчаяния воспоминание о тех чарующих вечерах, которые он проводил вместе с хорошенькой женщиной. Он умирал от желания спросить у инспектора: «Ну, а баронесса Невиль? Что с ней? Как она поживает!» — но каждый раз этот вопрос замирал у него на устах.
Во время своего свидания под арестом Анрио привык никому не доверять и во всех видеть шпионов. Теперь и этот инспектор внушал ему некоторое беспокойство. Ведь прежде они так часто разговаривали с полной откровенностью! Уж не послужила ли причиной его ареста именно эта откровенность? Поэтому, когда, вспоминая прошлое, чиновник коснулся вечеров у баронессы Невиль, Анрио ни звуком не ответил на это, как если бы баронесса была ему совершенно незнакома.
— Ах, так вы все еще имеете зуб против этой миленькой баронессы? — весело продолжил чиновник в ответ на холодное молчание Анрио. — Конечно, я вполне понимаю это и очень извиняюсь, что вызвал в вашей душе это неприятное воспоминание.
Анрио был очень поражен этой странной фразой и произнес:
— Я надеюсь, что вы не хотите сказать мне этим что-нибудь обидное?
— Что вы, помилуйте! Ни как человек, ни как официальное лицо, я никогда не позволил бы себе оскорблять узника. Я очень извиняюсь, что назвал в вашем присутствии имя того человека, который послужил причиной постигшей вас участи.
Анрио побледнел, как смерть, все его тело задрожало, он провел платком по лбу, стирая ледяной пот, выступивший на висках; он боялся понять слова инспектора, несмотря на всю их трагическую ясность.
— Простите, — сказал он, видя, что инспектор собирается встать и уйти. — Бога ради, еще одно слово! Неужели ваши слова относятся к баронессе Невиль, у которой мы с вами так часто встречались?
— А к кому же другому могли они относиться? Послушайте, генерал, неужели вы еще сомневаетесь, по чьей милости попали на хлеба его величества?
— Да нет же, я ничего не знаю, а мне так хотелось бы знать это! Умоляю вас, скажите мне это!
— Я и так сказал вам более чем достаточно, генерал! Вы не поняли моих слов, но раз вы были так дружны с баронессой Невиль, то я не понимаю, как могли вы не знать, что она является самой ревностной и энергичной шпионкой полиции его величества!
— О, Боже мой! — простонал Анрио, хватаясь за грудь.
— Я понимаю, вы надеялись, — продолжал инспектор, — что в силу той дружбы, которая вас связывала, баронесса пощадит вас, забудет о своих обязанностях? Но ведь и ее дружба имела целью только выведать у вас секреты. И вы, и я, и все остальные, посещавшие ее салон, были для баронессы только объектом наблюдения, и стоило нам уйти, как она бросалась в свой кабинет, чтобы немедленно написать своей белой, хорошенькой ручкой точное донесение префекту полиции обо всем узнанном.
— Негодяйка! — пробормотал Анрио. — О, если бы мне удалось добраться до нее!
— И что же тогда? Полноте, бедный мой генерал! Эта змея вывернулась бы, убедила бы вас, что тут просто недоразумение, и вы были бы по-прежнему, если не больше еще, во власти ее чар. Подумайте хотя бы вот еще о чем: она пользуется таким влиянием в министерстве полиции, ее услуги настолько ценятся там, что стоило бы ей потребовать вашего освобождения, и вас немедленно выпустили бы, — тем более, что после смерти Наполеона значительная часть опасений отпадает. Но, как видите, эта милочка и думать не захотела об этом. Однако не беспокойтесь! Когда я вернусь в Париж, то увижу ее, расскажу ей, как вы страдаете в заключении, и уговорю ее похлопотать о вашем освобождении.
— Нет, нет! — быстро прервал его генерал. — Я не хочу быть обязанным ей ничем! Так, значит, товарищи были правы, предупреждая меня, а я был просто слепцом, идиотом! О, я наказан по заслугам. Но погодите! Стоит мне когда-нибудь выбраться отсюда. О, я отомщу за себя, поверьте мне!
— Бога ради, успокойтесь, генерал! Я в отчаянии, что заговорил с вами об этом. Если бы я только знал… Вы ничего более не хотите узнать от меня? Тогда разрешите мне откланяться вам и продолжать инспекцию далее! — с этими словами чиновник вежливо откланялся генералу и вышел, от души раскаиваясь, что выболтал арестанту то, что тому совершенно не следовало знать.
Впоследствии, когда в силу неизвестных ему причин генерала перевели в Шарантон, у Анрио была одна только мысль: наказать предавшую его женщину. Для этого надо было найти ее, застать врасплох и вырвать у нее признание в ее подлости. И ради этой мести он и бродил, как настоящий сумасшедший, вокруг дома баронессы, надеясь на случай, который поможет ему застать изменницу одну. Но этого случая ему не представлялось. Баронесса никогда не показывалась на улице одна, без сопровождения кого-нибудь из мужчин. С другой стороны, Анрио не мог попросить ее, чтобы она сама назначила ему свидание: теперь он уже не сомневался, что она постарается окончательно лишить его возможности когда-нибудь отомстить ей и единственным результатом будут только наказание и увольнение доброго служителя, разрешавшего ему отлучки из Шарантона.
Но при грохоте пушек, раздавшемся над Парижем, при шуме оружия и начале битв генерал сейчас же решил сразу осуществить две мечты своей старости: низвергнуть Бурбонов, восстановить трехцветное знамя вместе с династией Бонапартов и по мере возможности наказать баронессу, тайную шпионку полиции.
Полный этих надежд, он и явился на баррикаду улицы Мандар, где Лартиг и другие завсегдатаи кафе «Прогресс» немедленно поручили ему командовать ею.
Позаботившись о необходимых мерах для защиты этого важного стратегического пункта инсургентов, генерал Анрио послал Лартига в дом маршала Лефевра с запиской. Маршала не было на свете уже несколько лет, его жена, сильно постаревшая, удалилась в свои поместья. Анрио знал, что ла Виолетт остался в Париже в качестве управляющего домом и всеми делами Екатерины Лефевр, и надеялся, что Лартиг разыщет его и приведет в кафе. Он очень рассчитывал, что ла Виолетт не откажется прийти, так как в записке сообщил ему, что он нужен для выполнения смелого предприятия.
Лартиг вернулся без ла Виолетта: последнего не было дома, так как он неизвестно куда девался. Анрио улыбнулся, не сомневаясь, какой причиной была вызвана эта прогулка ла Виолетта.
— Он из наших, — сказал он. — Ла Виолетт похож на хорошую кавалерийскую лошадь: стоит ему заслышать звук трубы, как он уже тут как тут. Наверное, он вертится там, где кипит бой! Только бы он получил мое письмо, а тогда он уже примчится!
Действительно, к вечеру около баррикады появился и ла Виолетт. Он был одет в штатское платье, но весь его вид говорил о воинственности его намерений. На черном сюртуке красовался орден, собственноручно прикрепленный когда-то к его груди императором Наполеоном.
Оба старых друга сердечно расцеловались. Анрио, словно помещик, показывающий свои хозяйственные строения посетителю, повел ла Виолетта по баррикаде, показывая все уголки этой импровизированной крепостицы. Проверив, находятся ли все защитники на своих местах, достаточно ли у них боевых патронов и оружия, Анрио увел своего приятеля в кафе «Прогресс», чтобы сообщить, в чем было то дело, из-за которого он вызывал его.
Ружейный огонь затихал. Повстанцы были уже победителями в центре Парижа. Тюильри с минуты на минуту должен был перейти в руки народа. Говорили, что Мармон отступает, что войска присоединяются к народу и что в городской ратуше уже было торжественно объявлено о низвержении короля. Все эти известия переполняли энергией храбрых защитников свободы и права и вносили деморализацию в ряды роялистских войск.
Анрио шепотом сообщил ла Виолетту о задуманном им проекте. Тот молчаливо слушал, изредка покачивая головой. Когда же генерал кончил, ожидая мнения ла Виолетта, последний не ответил ничего.
— Ты не одобряешь этого? — спросил Анрио.
— Не могу сказать это.
— Значит, одобряешь?
— Не вполне.
— Но ты все-таки должен прийти к какому-нибудь решению и высказаться либо за, либо против!
— Это очень трудно, очень трудно!
— Как, ты знаешь преступление и отказываешься покарать его?!
— Да ведь это — женщина, генерал! Вы только подумайте — женщина!
— Это не женщина, а чудовище!
— Это ничего не значит. Чудовища женского рода не все равно, что чудовища мужского рода.
— Ты отказываешься? Ну, что же! Так я пойду один. Но окажи мне последнюю услугу, потому что завтра меня, наверное, убьют.
— Что вы хотите, генерал? Я готов повиноваться вам, но потребуйте от меня чего-нибудь не столь ужасного.
— В мое отсутствие здесь может произойти серьезная стычка с правительственными войсками, а ведь я отвечаю за людей, выбравших меня своим начальником. Поэтому уходя я должен поручить командование надежному человеку, и этим человеком я назначаю тебя.
— Но согласятся ли на это остальные?
— Раз я представлю тебя им — да. Ну, теперь пойдем!
Они вышли из кафу, и по приказанию генерала мальчишка-барабанщик дал сигнал к сбору. Сейчас же со всех концов сбежались мужественные защитники баррикады улицы Мандар.
Анрио в нескольких словах объявил им, что счел нужным произвести рекогносцировку за пределами квартала, чтобы узнать, как идут дела на отдаленных баррикадах и не пора ли двигаться вперед. В ответ на это раздалось недовольное ворчание, так как инсургенты не любили покидать свои кварталы; им казалось, что они будут в меньшей безопасности на чужих улицах, и они предпочитали умирать у порогов своих дверей. Генерал поспешил прибавить, что каждый, кто не желает следовать за ним, совершенно свободен в своих действиях. Если найдется кто-нибудь, кто выразит согласие сопровождать его, он с удовольствием возьмет его с собой, не найдется — все равно он отправится один.
— Я пойду с вами, генерал! — заявил Лартиг.
— Принято. Ну, а теперь, — продолжал Анрио, — на время моего отсутствия, прошу вас, граждане, признать своим начальником товарища ла Виолетта, бывшего адъютантом в Великой армии. Это храбрец, каких мало, и я не могу доверить баррикаду лучшему человеку. Повинуйтесь гражданину ла Виолетту так же, как если бы это был сам я. А теперь, товарищи, отправляйтесь каждый на свой пост, и да здравствует свобода!
Инсургенты вернулись на укрепления, а ла Виолетт, пожав руку Анрио, сейчас же удалившемуся с Лартигом, отправился в уголок между двумя домами, откуда можно было наблюдать за всем, что делалось вне и внутри баррикады. Усевшись там и закурив трубку, он погрузился в глубокое раздумье, причем сквозь зубы у него вырывались отдельные фразы:
— Бедный Анрио! Недаром его заперли в Шарантоне. Да и есть с чего сойти с ума! Пропустят ли его сквозь баррикады? Ну, а если ему удастся сделать все это? Как мне быть? Ведь начальником баррикады стал теперь я. Так неужели позволить ему здесь заниматься сведением личных счетов?
Он задумался, его трубка гасла, он снова раскуривал ее.
Ночь окончательно воцарилась над Парижем, кидая странные тени на груды камней, дерева, матрасов, высившихся среди и вокруг него, и в безмолвии жуткой тишины изредка раздавался от баррикады к баррикаде окрик:
— Часовые, слу-у-ша-а-ай!
IV
Ночь кончалась. Вскоре Париж, протирая заспанные глаза, вновь должен был взяться за оружие. Сквозь сумрачные силуэты домов уже белело небо.
Со стороны улицы Монмартр послышался шум чьих-то шагов. Ла Виолетт, как раз обходивший баррикаду, насторожился, затем вскарабкался на один из редутов и увидел на улице три таинственные тени, молчаливо двигавшиеся к баррикаде, Он громко окликнул их:
— Кто идет?
— Это мы: Лартиг и начальник.
— Стой! Обождите, пока вас не признают!
— Так это ты, ла Виолетт? — сказал Анрио, узнав голос друга. — Пожалуйста, не поднимай на ноги' весь народ. Это я с гражданином Лартигом и третьей особой, за которую я отвечаю. Пропусти нас!
Ла Виолетт провел их на баррикаду и, не говоря ни слова, но по-прежнему мрачно покачивая головой, пошел вслед за ними в кафе «Прогресс».
Курительная комната была погружена во мрак; на конторке, в том месте, где обыкновенно почивал кот Туш, раскинув свое откормленное тело среди груд сахара и графинов с коньяком, мирно мурлыкая и изредка поблескивая Фосфорически сверкавшими зрачками, горел ночник. Кота не было — этот эгоист, потревоженный громкими криками и волнением, царившим в последние дни среди посетителей кафе, бежал неизвестно куда!
На бильярде, накрывшись чехлом, спали с громким храпом и присвистом два инсургента. Повсюду — на скамьях, диванчиках, на составленных табуретках и стульях — виднелись спящие, беспокойно ворочавшиеся из-за неудобства своего ложа. Во всех углах виднелось оружие. Острый запах поднимался от всех этих потных, усталых тел, заполнявших кафе.
— Нам лучше подняться в верхний этаж, — сказал Анрио и, вытащив из кармана огарок, которым он предусмотрительно запасся, зажег его о пламя ночника. Затем, обращаясь к третьему человеку, пришедшему с ним и Лартигом под покровом широкого плаща и бывшему по всем признакам женщиной, он сказал: — Проходите вперед! Ла Виолетт, иди и ты с нами!
Они прошли в комнату, единственным украшением которой были кровать и два старых кресла. Тут Анрио вставил огарок в стоявший здесь подсвечник и, указывая на кресла и кровать, сказал глухим голосом:
— Садитесь!
Лартиг и ла Виолетт сели, женщина же оставалась стоять, казалось, что она ничего не видела и не слышала.
Анрио повторил еще громче:
— Садитесь, я вам говорю!
Женщина безмолвно села в одно из кресел.
Тогда Анрио заговорил голосом, в котором звучало с трудом сдерживаемое бешенство:
— Друзья мои, мы собрались тут словно на военный совет. Но позвольте мне сначала познакомить вас с тем, чего я жду от вас: я жду от вас суда над этой женщиной, которая молчаливо сидит перед вами, обдумывая, как бы ей ухитриться сбежать от нас, чтобы на досуге снова заняться своим ремеслом — шпионством и предательством! Но горе нам, если ей удастся убежать!
Женщина вздрогнула — это доказывало, что она слышала и поняла.
Анрио продолжал, оставаясь стоять в позе прокурора:
— Эту женщину, друзья мои, зовут баронессой де Невиль. Она очень красива, очень любезна, но еще более обольстительна и опасна. Сколько наших друзей, сколько великодушных, смелых умов, сколько героев святой свободы погибло, обезглавлено, отправлено на каторжные работы благодаря ей! Тюрьмы переполнены ее жертвами, а могилы громко вопиют об отомщении. Во всех смелых заговорах, бывших обнаруженными, несмотря на полную их тайну, эта женщина была предшественницей и помощницей палача.
Дрожь негодования пробежала по телу Лартига, ла Виолетт не мог удержаться, чтобы не выругаться:
— Негодяйка!
Анрио продолжал:
— Как видите, она даже и не отпирается. Но это было бы трудно, потому что она знает, что от меня не скрылась ни одна из ее подлостей. О, вы, конечно, станете смеяться над моим безумием, но я должен исповедаться вам во всем откровенно. По воле рока мне пришлось встретить это чудовище на своем жизненном пути. Я дал увлечь себя ее улыбочками, грациозной томностью ее манер, ее обещаниями. Она вообще заводила знакомства с офицерами императорской армии, притворялась, будто разделяет их сожаления, их надежды, и все это только для того, чтобы доносить обо всем этом полиции! Я уже сказал вам, что многим из наших это уже стоило головы. Мне лично пощадили жизнь, но для того, чтобы подвергнуть еще более ужасной пытке. Ты знаешь обо всем, ла Виолетт, но я должен рассказать это также и Лартигу, чтобы он мог представить, до какой степени простирается подлость этой женщины. Буду краток; ведь близится день, когда долг призовет нас к защите баррикад. Я уже говорил вам, что влюбился в эту женщину, как школьник; и вот я увлекся до того, что выдал ей тайну, которая не принадлежала только мне одному. Был составлен заговор с целью освободить императора Наполеона из заточения на острове Святой Елены. Не называя имен главных заговорщиков — ведь ты был в их числе, ла Виолетт! — я своей проклятой болтливостью навел эту женщину на след этого заговора, а этого было достаточно для того, чтобы о нем узнала Англия и предупредила всякую возможность привести план в исполнение. Меня арестовали, а затем, после долгого заключения, перевели в Шарантон. Меня держали в качестве сумасшедшего, меня, Анрио, старого солдата, у которого не было другого безумия, кроме безумия любить эту женщину! Благодаря случайности мне удалось бежать. В первый момент я думал только о возможности сражаться за народное дело, умереть за благо нации, и потому-то я прибежал на эту баррикаду и принял командование над нею. Но тем временем я успел подумать и решил, что эта женщина должна быть наказана, что моей рукой с нее должна быть сорвана маска! Я хотел сам произнести над нею приговор и привести его в исполнение, но решил возложить это на вас. Друзья мои, я жду вашего решения и приговора!
— Мое мнение таково, что она заслуживает пули! — сказал Лартиг.
— Ну, а ты, ла Виолетт? — спросил Анрио.
— Мне тоже кажется, что эта женщина изрядная каналья, — ответил тот, — и я думаю, что для общества не будет большой потерей, если ее отправить с пулей в голове на суд всех тех, кто убит по ее милости. Погибло много жертв, более ценных, чем ее жизнь. Однако — как бы там ни было — я понимаю сражение, я понимаю убийство в пылу боя, но убить так, спокойно, по здравом размышлении… И кого? Не мужчину, взятого с оружием в руках, а женщину? О, тут есть нечто ужасное!
— Подумай, ла Виолетт, о том, что она сама без всякого колебания обрекала на смерть свои жертвы!
— Да пусть она ответит что-нибудь на все эти обвинения! — сказал ла Виолетт. — Раз мы судьи, а она обвиняемая, она имеет право говорить, защищаться. Ну-с, сударыня, вы слышали? Можете вы что-нибудь возразить на все сказанное здесь?
Баронесса де Невиль откинула вуаль; присутствующие увидали ее бледное, но спокойное лицо и насмешливую, презрительную улыбку.
— Мне нечего сказать, — ответила она. — Ко мне ворвались силой, схватили меня и заставили идти во имя власти инсургентов, которую я отрицаю. Эти господа грозили прострелить мне голову, если я воспротивлюсь им или вздумаю убежать. Я повиновалась, последовала за вами. Вы инсургенты, а это значит разбойники/Сила на вашей стороне — делайте со мной все что хотите. Но, я надеюсь, вы недолго останетесь безнаказанными. Из Руана, Лиля, Орлеана — со всех сторон спешат войска; Париж будет окружен тесным кольцом штыков и пушек, вы не продержитесь долго, ваши баррикады будут развеяны по ветру, и те из вас, которые уцелеют после приступа, отправятся на эшафот да на виселицу. О, вы можете убить меня — ведь вы храбры, когда вас много против одной беззащитной женщины! Но погодите, я буду отомщена! Так чего же вы колеблетесь? Ведь у меня нет оружия! Так делайте скорей ваше дело — вы привыкли быть палачами! — Она обвела всех троих смелым, бесстрашным взглядом, и они почувствовали себя смущенными тем холодным пламенем, которым она сыпала на них из своих глаз. — Но только, — продолжала она, — я прошу у вас одной милости: когда вы станете убивать меня, постарайтесь, чтобы мое лицо осталось нетронутым: ведь можно отлично убить, выстрелив в сердце. Избавьте меня от срама быть обезображенной; я не хочу показаться слишком некрасивой после смерти. Это кокетство женщины — пусть! Но это ее последняя просьба, а последние просьбы всегда исполняют!
Все трое переглянулись в полнейшей нерешительности. Хладнокровие;и ироническое спокойствие этой женщины связывали их и останавливали в решимости выполнить свое трагическое намерение. Из всех троих более всех был взволнован Анрио. Когда баронесса откинула вуаль и генерал увидал ее лицо, любимое им когда-то, он не мог удержаться от невольной дрожи. Неужели жизнь замрет на этих прелестных чертах? Его сердце порывисто забилось. Но он напряг всю силу воли, чтобы стряхнуть с себя гнет чар баронессы, грозивших снова овладеть им, и заговорил с энергией и страстностью пловца, теряющего силы и делающего последние усилия, чтобы выплыть из засасывающего омута:
— Еще одно слово, друзья мои! Я хочу окончательно раскрыть перед вами всю глубину подлости и предательства этой женщины. В тот момент, когда мы с Лартигом, взяв с соседней баррикады несколько граждан для обыска, проникли в помещение этой женщины, она пыталась уничтожить и сжечь компрометирующие ее бумаги. Мне удалось выхватить у нее клочок одного из писем. Вот оно! — Анрио достал из кармана клочок обгоревшей бумаги и поднес его к свечке, чтобы еще раз проглядеть его содержание. Это — заявление баронессы де Невиль австрийской полиции; ведь эта негодяйка состоит в сношениях с полицией всей Европы. Дело касается заговора, который напоминает мне то, что когда-то пытались сделать мы с тобой, помнишь, ла Виолетт? Несколько молодых людей, членов одного из собраний парижских карбонариев, поддерживаемые карбонариями Ломбардии, решили при первом же успехе настоящей революции отправиться в Вену, чтобы добиться свидания с сыном Наполеона. Шпионка называет главной руководительницей этого графиню Наполеону Камерату. В Шенбрунне, добившись свидания с тем, кого там называют герцогом Рейхштадтским, они попытаются возбудить в нем уважение к славному прошлому династии Наполеонов и уговорить бежать с ними, чтобы занять трон, который станет вакантным, как только мы прогоним Бурбонов.
— Великолепная идея! — воскликнул ла Виолетт.
— Имя Наполеона дорого всем патриотам, — сказал Лартиг, хлопнув себя по лбу, словно он только что сделал великое открытие. — Мне и в голову это не приходило, ей-Богу! Что же, если республика пока еще невозможна, если мы еще не созрели для того, чтобы установить народоправие, то сын императора все-таки лучше всякого другого. Да и потом, кого «другого» можно было бы избрать?
— От этого проекта приходится отказаться, друзья мои, — сказал Анрио. — Теперь Австрия уже предупреждена, и полиция сторожит Шенбруннский дворец, так что сыну Наполеона, с которого не спускают взора, не удастся бежать во Францию. Эта женщина, разузнав все, касавшееся заговора, поспешила известить князя Меттерниха. Письмо, схваченное нами, показывает, что все сведения уже отправлены ранее и что это письмо предполагалось отправить сейчас же, как только восстановится порядок в Франции.
— А в этом письме, — перебил его ла Виолетт, — не содержится никаких новых указаний или разоблачений?
— Имеется нечто новенькое, и вы можете теперь окончательно составить себе мнение о том, какая предательская душонка у этой женщины! Она писала это письмо австрийскому канцлеру только для того, чтобы сообщить имя молодого человека, взявшего на себя самую трудную часть миссии — добиться возможности увидаться с сыном императора! А ведь этот молодой человек любил ее, она тоже шептала ему слова страсти, опутывала цепью своих чар. И этого-то человека она хотела обречь ужасам австрийской каторги! Хорошо, что я успел перехватить письмо, и оно не дойдет по назначению.
— А как зовут этого молодого героя?
— Андрэ Лефевр!
— Андрэ? Андрэ Лефевр? Это его она выдала? А, негодяйка! — зарычал ла Виолетт, бросаясь на баронессу со сжатыми кулаками, словно собираясь ударить ее. Но он сдержался и обратился к Анрио: — Вы правы, генерал, эта женщина не заслуживает ни малейшего снисхождения. Ее необходимо раздавить, как давят злокозненных гадов. Господи, какое несчастье! А ведь герцогиня так просила меня следить за пареньком! Какое счастье, что вы вовремя распутали сеть, которой эта негодяйка оплела бедного мальчика. Да я-то чего смотрел? Я себе разгуливаю с ружьем по баррикадам, а он, не говоря мне ни слова, затеял освободить сына моего императора! А я-то считал его таким тихоньким! Ведь он жил, что твоя красная девица. Другие с такими средствами — ведь у него двенадцать тысяч ливров годового дохода! — кутят напропалую, а он только и делал, что рылся в книгах. Ведь он собирался сделаться адвокатом — странная идея для внука герцога Данцигского! Ну, да ладно. Все хорошо, что хорошо кончается! Вам, генерал, удалось предотвратить удар, и теперь нужно обезвредить эту гадину. Поэтому, раз вы спрашиваете мое мнение, то я стою за смерть!
— Ваше мнение, Лартиг? — холодно спросил Анрио.
— Смерть!
— Два голоса за смерть, я присоединяюсь. Итак, — обратился Анрио к баронессе, — вы единогласно осуждены на смерть. Желаете еще что-нибудь прибавить?
— Ничего, кроме того, что я только что говорила вам. Вы не судьи, вы просто убийцы, присвоившие себе не принадлежащие вам полномочия. К чему было проделывать всю эту комедию? Довольно проволочек! Чем скорее вы избавите меня от вашего присутствия, тем лучше! Но скажу вам вот еще что: вы ошибаетесь, если думаете, что перехватили письмо; вам в руки попала только копия! Я всегда пишу письма в нескольких экземплярах, чтобы гарантировать себя от их пропажи. Следовательно, можете радоваться: ваш дружок Андрэ Лефевр будет немедленно узнан и арестован, как только прибудет в Вену. Вы никогда не увидите его: если он не умер на эшафоте, то для света он уже не живет больше: из тайников венских крепостей никто не выходит на свет!
— Негодяйка! — зарычал ла Виолетт. — Неужели правда, товарищи, то, что она говорит? Но нет, я должен во что бы то ни стало спасти Андрэ! Его мать, его бабушка, герцогиня Данцигская, и славная девушка, которую зовут Анни и которая быстро заставит его забыть эту подлую женщину, никогда не простят мне, если я не вырву Андрэ из рук полиции. Как только окажется возможным, я сейчас же кинусь в Вену. Но сначала нужно покончить с этой дрянью. К расстрелу ее!
— Одну минуту, — сказал Лартиг, — мы должны соблюдать установленные формы. День еще не наступил, а ночью не казнят. Значит, мы должны обождать восхода солнца. Кроме того, надо сообщить товарищам по баррикаде, в чем дело; они вполне согласятся с правильностью нашего приговора и выделят из своей среды несколько человек для приведения его в исполнение. Мы не убийцы, как уверяет эта женщина, а действительно судьи, правосудие же не прячется во тьму ночи! Так обождем дня!
Анрио согласился с правильностью этого замечания и предложил Лартигу и ла Виолетту вернуться на баррикаду, добавив, что сам останется настороже подле осужденной и позовет их, когда настанет минута для исполнения их решения.
Они ушли. Анрио остался с глазу на глаз с баронессой. Он пересел на кровать и погрузился в глубокую задумчивость.
Вдруг протяжный вздох, скорее похожий на мучительный стон, заставил его поднять голову. Перед ним была уже не та отважная, решительная, энергичная женщина, которая с надменным цинизмом только что смеялась над судом и судьями. Казалось, что только теперь баронесса поняла, насколько серьезно ее положение, и на ее побледневшем, скорбном, осунувшемся лице виднелась сложная игра страха, раскаяния, жажды жизни. Из ее глаз крупными каплями стекали слезы, которые она вытирала украдкой, словно стыдясь своей слабости. Анрио заметил это и вздрогнул от острой боли под влиянием сразу нахлынувших на него воспоминаний.
Вдруг баронесса вскочила с кресла, страдальчески простерла в воздух руки и крикнула:
— Я умираю! Задыхаюсь. Бога ради, воздуха, дайте мне воздуха!
Анрио инстинктивно подскочил к ней и спросил:
— Что с вами?
— Я задыхаюсь. Я не могу вздохнуть! Мне не хватает воздуха! — И резким движением баронесса дернула за корсаж платья, обнажая шею и часть бело-розовой груди.
Вид ее скрытых прелестей окончательно смутил Анрио. Он хотел отвернуться, хотел броситься к баронессе, но овладел собой и резко отскочил обратно к кровати. Это не ускользнуло от внимания баронессы.
— Анрио! Анрио! — умирающим голосом воскликнула она. — Неужели правда, что вы решили позволить этим людям убить меня? Анрио, я видела, что на мгновение в вашем сердце шевельнулось сострадание, вы хотели подойти ко мне, чтобы помочь мне, но сейчас же отпрянули. Неужели я внушаю вам теперь одно отвращение? А ведь вы любили меня, Анрио! Так неужели же вы даже не помните теперь об этом!
— Несчастная! Не смейте профанировать священное слово «любовь»! Разве между мной и вами была любовь? С вашей стороны были только измена и предательство…
— Пощадите меня, друг мой, не отягощайте и без того трудной минуты! Я не сознавала, что делала; я была вовлечена в это недостойное дело, чувствовала себя очень несчастной, но не могла ничего сделать. Анрио, сжальтесь надо мной!
— А вы сжалились надо мной, когда выдали меня, когда бросили меня в одиночную камеру, когда захотели навсегда отделаться от меня, запрятав меня в дом для сумасшедших?
— Анрио! Анрио, выслушайте меня! Две минуты внимания — Бога ради! Ведь говорю же, что я была не вольна в своих действиях. О, вы не можете себе представить, как ужасно находиться во власти полиции, которая в любой момент может потребовать чего угодно!
— Почему же вы были в ее власти?
— У меня в прошлом были прегрешения. О, очень незначительные, но такие, которых общество никогда не прощает. Полиции было известно мое прошлое, меня шантажировали, грозили все раскрыть, и из малодушия слабой женщины я стала ее верной рабой. О, моя верность была только на деле, но не в душе! Я плакала, отчаивалась, проклинала, но не могла не повиноваться. Меня нельзя не простить! О, я не прошу пощады — я знаю, что вынесенный приговор нельзя отменить! Но я хочу умереть спокойно, хочу быть прощенной! Анрио, ведь и я любила тебя! Верь! Ведь это — слова умирающей. Я молю тебя только о прощении. Неужели ты откажешь мне в этом? Неужели скажешь, что никогда не любил меня?
Медленно, томно, сладострастно изгибаясь, баронесса встала и постепенно двигалась к Анрио. Ее взгляд чаровал его, молил, возбуждал желание. Вот его уже коснулось влажное, горячее дыхание ее уст; вот уже совсем близко от него в гнездышке кружев белеет ее дивное тело… Голова Анрио закружилась, он не мог говорить, не мог думать — все бурным ураганом крутилось в мыслях. Баррикада, зал со спящими инсургентами, ла Виолетт, Лартиг, революция, Бурбоны — все было забыто, все, словно по мановению волшебного жезла, стерлось из памяти…
А баронесса все говорила, и нежной, страстной любовной песенкой звучал в мозгу Анрио этот голос, раздвигая грани настоящего, закрывая непроницаемой завесой будущее и увлекая обратно в прошлое. Он видел себя опять молодым, полным сил и энергии генералом, сидящим в маленьком уютном салоне у ног нежно любимой женщины… Кто сказал, что он не можег быть счастлив с нею? Разве она не прежняя? Разве она не так же красива, разве она не с прежней грацией влюбленной кошки ластится к нему?
А баронесса все учащала и учащала свои томные вздохи, свой трепет, вздрагивания, еще более обнажавшие тело. Она видела, что Анрио теряет голову, и спешила завершить победу. Быстрым прыжком она очутилась около двери, захлопнула задвижку и кинулась на Анрио, опрокинула его на подушки, прижалась губами к его лицу, обхватила его руками и покрыла неистовыми ласками. Горячая волна подхватила Анрио и унесла далеко, далеко в судорожном трепете страсти.
Когда он очнулся, первое, что встретили его глаза, это — твердый, пытливый, властный взгляд баронессы. Она вплотную придвинулась к нему лицом и шепнула капризным тоном любовницы, заранее уверенной, что не встретит, не может встретить отказа:
— Ну, а теперь, мой друг, ты не дашь меня убить этим людям?
— Нет, нет! Это невозможно… теперь! — пробормотал Анрио.
— Ты поговоришь с ними и отошлешь их.
— Да… я поговорю… Я скажу им. Вот только что мне сказать им?
Баронесса вздрогнула. Неосторожным оборотом речи она толкнула Анрио навстречу сознанию, которое могло разорвать всю ее хитро сплетенную есть обольщения. Раздумье могло парализовать действие ее чар, сознание ответственности перед товарищами заставит Анрио изменить согласию освободить ее. Надо было во что бы то ни стало не дать ему одуматься, прийти в себя; было необходимо увлечь его стремительностью натиска, пока он еще не освободился от расслабляющей томности пережитых минут страсти. Ни умолять, ни льстить, ни убеждать не следовало; надо было действовать.
— Скорей! Скорей! — сказала она, увлекая его за руку к двери. — Бежим, скроемся от них! Спаси меня!
— Да, ты права, — пассивно ответил Анрио. — Бежим, пока они еще не пришли! Скорее! — повторил он за нею, смутно испытывая какое-то раскаяние.
Баронесса остановилась на мгновение у дверей и прислушалась: внизу все было тихо. Они тихо спустились по лестнице, бесшумно скользнули через нижнюю комнату и вышли на двор. Солнце уже начинало окрашивать восток розовыми полосками; надо было спешить: еще несколько минут — и будет слишком поздно.
На улице Анрио вышел из своей подавленности и обрел способность мыслить и рассуждать. Он ужаснулся глубине своего падения, но чувствовал себя слишком порабощенным, чтобы думать о чем-либо другом, кроме бегства.
Они без всякой помехи дошли до улицы Монмартр, где около улицы Монторгейль находилась передовая баррикада той секции инсургентов, главная квартира которых помещалась в кафе «Прогресс». Баронесса Невиль вздрогнула: около двенадцати человек инсургентов в разнообразных позах дремало на земле, положив около себя ружья, на часах стоял хмурого вида инсургент, который сейчас же подошел к прохожим.
— Я провожу эту даму за баррикаду и сейчас же вернусь, — сказал Анрио.
— Берегитесь, гражданин. Я слышал в той стороне, за улицей Монмартр, какой-то подозрительный шум шагов и тихое «бряцание оружия: там, должно быть, подвигаются солдаты.
— О, мне недалеко! Я только провожу гражданку до улицы Фоссэ-Монмартр, где она живет.
— Желаю удачи, гражданин! Да не забудьте, когда будете возвращаться, крикнуть издали «Друг», чтобы вас еще не подстрелили, чего доброго. А то эти молодцы не видели, как вы выходили, и спросонок могут угостить вас пулей.
— Спасибо за предупреждение, гражданин! — ответил Анрио, выходя за баррикаду и увлекая за собой свою спутницу.
Теперь оба они были на улице Монмартр, совершенно пустынной и тихой в этот час. Они прошли несколько шагов, направляясь к улице Фоссэ-Монмартр, которая, по сведениям Анрио, была свободна от баррикад. Этим путем баронесса Невиль могла добраться до улицы Фоссэ-Монмартр и перебраться в спокойные кварталы.
Когда они собирались заворачивать на Фоссэ, Анрио вдруг остановился и прислушался: вдали ясно слышался характерный шум осторожно двигавшихся войск, из которого по временам выделялся звон штыка, неосторожно стукнувшегося обо что-то твердое.
— Тут в двух шагах солдаты! — сказал Анрио. — Часовой был прав. Надо быть осторожными.
Не отвечая ему ничего, баронесса вдруг пригнулась, несколькими скачками приблизилась к улице Фоссэ-Монмартр, бросилась бежать и закричала, широко раскинув руки:
— Ко мне! Сюда! Ко мне!
Солдаты, удивленные появлением в такой ранний час на улице женщины, судя по платью, видимо принадлежавшей к высшему обществу, расступились и указали ей на капитана, который уже спешил ей навстречу, чтобы спросить, что она делает на улице между двумя цепями ружейного огня.
— Там! Там! — вместо ответа сказала баронесса, лихорадочно показывая рукой на улицу, с которой прибежала. — Там стоит человек. Это вождь инсургентов, один из самых опасных. Убейте его, и тогда вы легко овладеете баррикадой!
Капитан сейчас же приказал четверым солдатам отправиться по указанному баронессой направлению, а сам обратился к последней со следующим замечанием:
— Благоволите последовать за мной! Вы должны разъяснить нам кое-что странное в вашем поведении.
Баронесса де Невиль весело и спокойно последовала за офицером; теперь ей уже нечего было бояться.
А генерал Анрио все продолжал стоять на том же месте, где она покинула его. Как? Она, не сказав ему ни слова на прощанье, убежала к врагам? Но ведь она должна была понять, что своим криком она обрекает его на смерть? И все-таки… Боже, Боже! До чего он наивен, до чего он легковерен! Как мог он поверить, что у этой змеи, у этой до мозга костей испорченной женщины способно было шевельнуться чувство раскаяния. Сумасшедший! Да, его место действительно в Шарантоне…
Осторожное позвякивание оружия заставило Анрио вздрогнуть, обернуться и на время забыть свое самобичевание: сзади него двигался небольшой отряд солдат, видимо подкрадывавшийся к нему. Опасность вернула Анрио все хладнокровие — ведь он был всего в нескольких шагах от улицы Мандар. Ему стоило только припуститься бегом, добраться до первой баррикады, и он будет спасен. Но он подумал, что на передовом посту инсургентов находится всего каких-нибудь двадцать полусонных людей. С этой стороны не предвидели возможности атаки, и неожиданность могла бы вызвать панику и позволить войскам зайти в тыл главным силам инсургентов. Надо было во что бы то ни стало предупредить это. И, забыв про все в мире, про измены баронессы, про свое разбитое существование и крушение целого мира надежд, Анрио думал теперь только о том, как бы спасти народ и его дело. Он достал пистолет, выстрелил наудачу в приближавшихся солдат и громким голосом закричал:
— К оружию, граждане!
Сейчас же на баррикаде показались вооруженные инсургенты, которые, завидев приближавшихся солдат, стали стрелять по ним. Те остановились и стали отвечать на выстрелы. Это дало возможность подбежать инсургентам с других баррикад и общими силами отразить внезапную атаку. Улицы наполнились дымом, мостовые обагрились кровью, с обеих сторон так и валились убитые. Одним из первых пал генерал Анрио, пронзенный пулями с обеих сторон. Он умер, кровью искупив то страшное злодеяние против божественной справедливости, которое совершил, способствуя бегству баронессы Невиль и избавив ее от заслуженной казни.
А та в свою очередь весь день, пока шел бой, непрерывно справлялась, удалось ли убить генерала Анрио. Но никто не мог ответить ей, этот день был последним днем владычества Бурбонов — правительств венным войскам пришлось отступить с большими потерями.
Главнокомандующий королевскими войсками, маршал Мармон, увидал наконец, что продолжать далее борьбу немыслимо, что можно сражаться с инсургентами, но не с народом. Пока еще была надежда, что восстание охватило только отдельные слои, можно было надеяться подавить беспорядки. Теперь же не приходилось строить иллюзии — народ не хотел навязанных ему Бурбонов и изгонял их. Поэтому Мармон издал приказ, в котором предписывал войскам немедленно прекратить всякие столкновения с народом и направить все свое внимание на безопасность короля и его близких.
Со своей стороны наследник престола, легкомысленно не отдававший себе отчета в действительных размерах народной решимости, издал совершенно противоположный приказ, в котором поздравлял правительственные войска с несуществовавшими победами над инсургентами и предписывал продолжать борьбу со всей строгостью и беспощадностью. Он вручил этот приказ генералу Талону для прочтения его по войсковым частям, но Талон указал наследнику на уже опубликованный приказ герцога Рагузского. Наследник пришел в неописуемую ярость и бросился искать Мармона. Он встретил его в приемном зале в ожидании аудиенции короля.
При виде его наследник окончательно потерял всякое самообладание. Он швырнул об пол каскетку и резким тоном приказал Мармону следовать за ним в соседний салон. Не успела захлопнуться за ними дверь, как там раздался шум страшной ссоры. Наследник грозил и ругался далеко не по-королевски. Обеспокоенный этим, дежурный офицер приоткрыл дверь. Маршал Мармон пулей вылетел из салона, преследуемый наследником, который с пеной у рта кричал ему:
— Отдайте вашу шпагу!
Мармон вручил свою шпагу взбешенному принцу.
Тот схватил ее, пытался сломать о колено, но порезал себе руки. При виде текущей крови он начал реветь и сквозь рыдания крикнул:
— Ко мне! Помогите! Стража!
Гвардейцы охраны бросились на Мармона со штынами наперевес, один из них даже кольнул его штыком, после чего Мармона арестовали.
Тогда досужие кумушки разнесли по дворцу страшную новость: измена пробралась в самый дворец, маршал Мармон покушался убить принца и изранил его. С криками: «Спасайся, кто может!» храбрые защитники короля бросились в разные стороны из дворца.
Король, которому поспешили сообщить о ссоре наследника с маршалом, поспешил к Мармону, чтобы успокоить последнего, и сказал ему:
— Мой сын был немножко резок с вами, господин маршал.
— «Немножко резок»! — печально повторил предатель Мармон, для которого настал час возмездия. — И это вы, ваше величество, называете «немножко резким»? Неужели так должно обращаться с человеком, который ради вас пожертвовал больше чем своей жизнью — своей честью!
Карл X уговорил все-таки Мармона принять командование над личной охраной короля. Тот согласился, но при условии немедленного прекращения пролития народной крови. Вскоре все семейство Карла X под сильным эскортом покинуло замок Сен-Клу, покинуло чтобы уже больше никогда не вернуться туда…
V
На следующий день после своего прибытия в гостиницу «Роза» графиня Камерата проснулась очень рано. Она достала из привезенного с собой сундука костюм амазонки и одела его, а затем, сунув за пояс пару пистолетов, огляделась в зеркале и нашла, что теперь одета совершенно.
Графиня Наполеона Камерата, дочь Элизы Бонапарт, принцесса Беччоки, была племянницей Наполеона и страшно гордилась этим родством. В силу странной игры природы у нее было совершенно мужское лицо — да и какое еще! — она была точной копией самого Наполеона! Иногда, забавляясь, принцесса одевалась в серый сюртук и традиционную треуголку императора, и тогда она была до того похожа на Наполеона, что сам он мог бы спутать ее с собой.
Выйдя замуж за графа Камерату, представителя одной из знатнейших итальянских фамилий, из которого она сделала просто игрушку своих экстравагантных капризов, графиня в один прекрасный день задалась целью вернуть герцогу Рейхштадтскому трон его отца. Лично она не знала герцога; она знала только, что он умен и добр и что венцы были влюблены в юного принца. Она окружила себя в своем венецианском дворце исключительно такими слугами, которые были преданы Наполеону или Мюрату, и рассчитывала на их помощь в тот момент, когда пробьет час взяться за исполнение своего проекта.
Она подумала, что этот час пробил, когда узнала об июльских событиях, и сейчас же направилась в Вену. Но для политической деятельности графине Камерате не хватило ни ума, ни хладнокровия. Перед отъездом из Венеции она дала роскошный обед, во время которого разболтала присутствующим часть своего проекта.
Среди этих присутствующих был Уильям Басерт, родственник знаменитого врага Наполеона, английского министра колоний, молодой человек, казавшийся занятым только развлечениями и светской жизнью. Сэр Уильям пылал чисто семейной ненавистью ко всему, что носило имя Наполеона, и потому сейчас же принялся действовать, чтобы парализовать попытку вернуть на французский трон нового Наполеона. Не посоветовавшись ни с кем, он секретным письмом известил английское министерство иностранных дел о полученных им сведениях и сам немедленно поехал в Вену, чтобы поговорить с князем Меттернихом и лордом Коулеем, английским посланником при венском дворе.
Около самой Вены, в одной из гостиниц, сэр Уильям увидал во дворе знакомую карету графини Камераты. Басерт навел справки, узнал, что графиня расхворалась и хочет отдохнуть здесь несколько дней, и сейчас же решил тоже остановиться в этой гостинице. Не желая быть замеченным графиней, он послал курьера к Меттерниху и Коулею с письмом, в котором просил их немедленно прибыть в гостиницу «Роза». В вечеру перед гостиницей остановилась почтовая карета, из которой вышли два человека: это были Меттерних и Коулей. Они приказали провести их к путешественнику, прибывшему этим утром.
Графиня Камерата, заметив прибывших через окно, задрожала от испуга. Она узнала Меттерниха и не могла допустить мысли, чтобы всесильный вельможа приехал в эту скромную гостиницу для собственного удовольствия. Очевидно, он получил сведения о ее прибытии и ее замыслах и явился вместе — разумеется — с начальником полиции (она не знала в лицо лорда Коулея), чтобы арестовать ее. Тогда, не зная, что делать от ужаса, графиня схватила самые компрометирующие бумаги, бросилась в верхний этаж и заперлась в первом попавшемся пустом номере, думая: «Сюда не придут искать меня. Когда они уйдут, то я тайком сбегу и не стану дожидаться ответа принца. Самое лучшее будет, пожалуй, сейчас же направиться в сторону Шенбрунна и поселиться где-нибудь поблизости. Может быть, мне представится возможность повидаться с несчастным пленником!»
Вдруг она услыхала шаги по коридору; видимо, направлялись в сторону ее помещения. Она заметалась по комнате, стараясь найти место, где можно было бы спрятаться, и заметила в глубине комнаты довольно большой альков с выдвижной перегородкой. Она поспешно забралась туда, задвинула перегородку, оставив только небольшую щель, через которую мог бы проходить воздух для дыхания.
Действительно в комнату вошли три человека, в которых графиня Камерата, к своему величайшему изумлению, признала Уильяма Басерта, князя Меггер — ниха и третьего неизвестного ей, прибывшего вместе с Меттернихом. Что нужно было этому незначительному белобрысому англичанину здесь, да еще в обществе Меттерниха?
Они расселись, и князь Меттерних сказал Басерту:
— Мы решили с лордом Коулеем приехать сюда как можно скорее, так как, судя по вашему письму, дело очень важно.
— Очень важно, князь.
— Вы не облечены никакой специальной миссией от нашего правительства? — спросил лорд Коулей.
— Нет, милорд, я действую на собственный страх и риск. Впрочем, должен предупредить, что во время своего пребывания в Венеции я был уполномочен министерством иностранных дел иметь особое наблюдение за всеми членами семьи генерала Бонапарта. Эту часть поручения я выполнил вполне, так как мои агенты доносили мне обо всем, что происходило при разных дворах, где играли какую-нибудь роль близкие к покойному Бонапарту люди. Мною было установлено наблюдение также и за пармским двором, где, как, вероятно, известно вам обоим, царило величайшее уныние ввиду смерти первого министра, генерала Нейпперга, смерти, которая погрузила в особую печаль эрцгерцогиню Марию Луизу.
— Да, да, это известно нам, — перебил его князь Меттерних, — но герцогство Парма не внушает нам вообще никаких беспокойств.
— Но вам известно не все, — флегматично продолжал Басерт. — В Венеции недавно был проездом один из моих друзей, де Бомбель, человек уже немолодой, но все еще довольно приятной наружности, уверяю вас. Так вот этот самый Бомбель направился к пармскому двору, чтобы взять на себя те же самые функции, которые прежде исполнял граф Нейпперг.
— Те же самые функции? — улыбаясь, переспросил Меттерних.
— Как я уже имел честь сообщить вам, ваше сиятельство, господин де Бомбель должен заменить графа Нейпперга во всех отношениях… Итак, как я уже упоминал, Бомбель — мой друг; поэтому я знаю от него решительно все, что там происходит, и знаю, что эрцгерцогиня Мария Луиза собирается предпринять небольшое путешествие…
— Путешествие? — с удивлением вскрикнул Меттерних.
— Да. Через несколько дней ее высочество будет здесь. Она желает повидаться со своим сыном.
— Уж не хочет ли она представить ему господина де Бомбеля? — спросил лорд Коулей с холодной иронией.
— Я глубоко признателен вам, милорд, — ответил Меттерних, — за доставленные вами сведения. Не могу не поздравить ваше правительство с таким ревностным слугой, как вы, и со своей стороны представлю его величеству императору доклад о вашей ловкости и преданности интересам всей Европы.
— О, благодарю вас, князь, — ответил Басерт, — но я не заслуживаю никакой награды, так как в данном случае похож на собаку, которая охотится сама по себе, не обращая внимания на своего хозяина.
— Вы охотитесь?
— Да, — надменно сказал Басерт. — Я ненавижу всех Наполеонов всеми силами души и поклялся вести до конца своих дней самую ожесточенную борьбу против них. Человечество до тех пор не будет в состоянии свободно вздохнуть, пока из этого проклятого рода будет жить хоть один отпрыск!
Уильям Басерт произнес эти слова крайне экзальтированно; взгляд его голубых глаз был жесток и холоден, как сталь, а зубы крепко стиснуты. Он напоминал одного из фанатиков прежнего времени, одного из тех людей, которые ради идеи, поддержки известного культа или выполнения клятвы, данной грозным божествам, не останавливались ни перед чем и пользовались для достижения своей цели всеми средствами без исключения вплоть до кинжала и яда.
— Этим предупреждением мы, вероятно, обязаны вашей ненависти к роду Бонапарта? — спросил Меттерних своим бесцветным, холодным тоном. — Мы крайне обязаны этой ненависти…
— Они, вероятно, причинили вам какое-нибудь зло, эти Наполеоны? — мягко спросил лорд Коулей. — Вы лично слишком молоды, чтобы пострадать от этого бандита. Вы не могли знать чудовище, от которого мы избавили всю Европу. Вы были еще ребенком, когда он наконец испустил последний вздох и успокоил этим весь мир; ведь даже будучи пленным и умирающим, он все же заставлял всех беспокоиться и ежеминутно трепетать. Но, благодаря Богу, теперь мы уже избавлены от него!..
— Если бы он причинил зло лично мне или кому-либо из моей семьи, то я питал бы к нему меньшую ненависть! — ответил с дикой энергией молодой фанатик. — Моя ненависть не перенеслась бы, наверное, ни на его потомство, ни на его родню… Нет, милорд, я ненавижу Наполеона за тот двойственный дух победы и демагогии, который был так пагубен для всего человечества, для всех наций. Наполеон утвердил и продолжил принципы революции во всех умах и во всех событиях. Своими войнами, победами и эфемерными расширениями территории он на целое столетие одурманил тех, кто считались его подданными, и их потомков… И много-много позже, памятуя о своем великом победителе, французы рискнут бросить Европе вызов и нарушить международный мир, так мудро установленный на Венском конгрессе. Эти победы были призрачны и рассеялись, как дым; их материальное значение тоже исчезло навсегда, но они прочны своим моральным авторитетом. Своей жизнью и фантасмагорией своего царствования Наполеон распространил по всему земному шару пропаганду отвратительных принципов — если можно так выразиться — тех философов-вольнодумцев, противорелигиозных писателей и атеистов-ученых, которых породила Франция восемнадцатого века. Он задержал нормальное развитие, производительность и обогащение Англии континентальной блокадой; это, положим, наносный, временный ущерб. Но много серьезнее этого то, что он посеял по всему миру, как отраву, твердо укоренившееся и все возрастающее с годами возмущение масс и их сопротивление законной власти, что неминуемо воспрепятствует расцвету и укреплению монархий. И не пройдет и столетия, как Европа превратится не в страну казаков, австрийцев и англичан, как он предсказал, но всемирную республику… Все троны поколеблены и минированы наполеоновской эпохой. Народы жаждут и требуют провозглашения конституции и лихорадочно ожидают спасителей и героев — иначе говоря, чудовищ, подобных Наполеону…
— Эта опасность еще далека, — сказал Коулей.
— Она близка, милорд! Наполеон по всему свету от края до края пронес окровавленное знамя революции. Он внушил народам идеи сопротивления законной власти; он доказал, что можно безнаказанно и дерзко приближаться к божественному началу и нечистыми руками святотатственно касаться алтаря и престола. Он унизил и уронил дворянство, награждая без разбору титулами своего собственного производства людей самого низкого происхождения; некоторые из представителей этих имен более чем оскорбительны для других национальностей, так как они служат отголоском шумихи сражений; иные же из них оскорбляют монархов и узурпируют их прерогативы, как бы подчеркивая территориальное значение победы Наполеона.
— Надо сознаться, — заметил Меттерних, — что этот негодяй позволил себе распорядиться нашими владениями, словно он и в самом деле располагал ими по своему исконному праву. Не создал ли он принца Эсслингского, герцога Ауэрштадтского, герцога Данцигского и прочее, и прочее?
— Англия, к счастью, избежала этого оскорбительного захвата наименований, и ее не коснулась эта пародия на знать, — спокойно сказал лорд Коулей. — Однако молодой человек совершенно прав: каждый истый англичанин обязан ненавидеть не только Бонапарта, на которого очень жаловался сэр Хадсон Лоу в бытность свою губернатором острова Святой Елены, но также всех отпрысков его рода, которые польстились бы на возобновление его происков и похождений или пожелали бы продолжать политику его угроз и смут. Их необходимо остерегаться. Само имя Наполеона зловредно и подстрекающе действует на тех, кто носит его.
— Совершенно верно, милорд! — воскликнул Уильям Басерт, радуясь своей победе над обоими дипломатами. — Пока Бонапарты не переведутся на земле, не будет обеспечен и покой Европы…
— Fie желаете ли вы вогнать в могилу и истребить дотла всех потомков Бонапарта? — спросил не без иронии Меттерних.
— А почему бы нет? — вызывающе спросил фанатик. — Немыслимо допустить, чтобы кто-либо из этих зловредных авантюристов вступил когда бы то ни было на трон Франции или какой бы то ни было трон вообще, — мрачно добавил он, подчеркивая свои слова.
— Но ведь эта опасность весьма проблематична, — медленно произнес князь Меттерних, стараясь не показать вида, что он понял зловещий смысл этого намека. — Ведь ни один из членов семьи Бонапарта не стоит в очереди претендентов. Ни один из них не может мечтать не только о каком бы то ни было троне, но даже и о мелком княжестве…
Меттерних старался этими словами напомнить, что герцог Рейхштадтский, к которому относились угрожающие фразы Басерта, был признан лишенным материнского наследия, вследствие чего от него отходило даже маленькое княжество Пармское.
— Простите, князь, — прервал Басерт, забывая в пылу своей ненависти уважение к канцлеру и то, что за ним по праву остается последнее слово, — вы напрасно так думаете: как вам должно быть известно, среди этих опасных наследников находится один, которого очень деятельно прочат в претенденты. И если от вашей зоркости ускользает вся сила опасности, то не подлежит сомнению, что последние парижские события в состоянии просветить вас на этот счет.
— Советую вам, молодой человек, — строго промолвил канцлер, — воздержаться от выражения своих подозрений и обвинений личности, достойной полного уважения и, кроме того, живущей вне всяких политических движений и дипломатических переворотов. — Сказав это, князь Меттерних нагнулся к лорду Коулею и шепнул: — Мы совершенно спокойны относительно сына Наполеона… Совершенно спокойны!
— Он благоразумен? — спросил вполголоса Коулей.
— Как Соломон, — ответил, улыбнувшись, канцлер. — То есть, конечно, герцог Рейхштадтский молод… Подвержен увлечениям. О, мы предоставляем ему полную свободу наслаждаться своим двадцатилетним возрастом. Так, например, представьте себе, у него завязался роман с одной придворной лектрисой, некоей Лизбет. Очень хорошенькой и к тому же хорошего рода, но вполне незначительной. Ну, что ж, мы закрываем глаза, но всегда готовы вовремя раскрыть их, если только герцогу или девчонке придет фантазия сменить любовную интригу на политическую.
— Вы совершенно правы, князь. Ваш юный герцог опасен лишь по имени, но заставьте его позабыть это имя в утехах, свойственных его возрасту, и покой Европы будет вполне обеспечен. Однако, — добавил несколько суше лорд Коулей, обращаясь к Басерту, — хотя мы отчасти и одобряем высказанные вами взгляды и чувства, мы все же удивляемся, зачем просили нас явиться в эту дальнюю гостиницу? Или, может быть, вы желаете сообщить нам что-нибудь более серьезное и безотлагательное?
— Да, милорд, и я прошу извинения и у вас, и у его сиятельства за то, что не сообщил об этом с самого начала. Но я хотел раскрыть сперва перед вами свое сердце и познакомить вас с мечтами всей моей жизни. Теперь же то, что я должен сообщить вам, сводится к нескольким словам. Вы только что изволили сказать, что интересующая меня личность не занимается ни политикой, ни революцией, ни сменой династий; я с этим вполне согласен; но эта личность имеет неосторожных друзей и смелых сторонников. Поэтому мог составиться заговор относительно этой личности и без ее ведома.
— Заговор? — воскликнул Меттерних.
— Именно заговор, имеющий целью похищение этой самой личности…
— Собираются похитить герцога Рейхштадтского? — произнес Меттерних. — Но кто же это? Кто?
— Заговорщики, съехавшиеся отовсюду понемногу. Они прибыли и еще прибудут из Парижа, Болоньи, Венеции. В проекте принимают участие карбонарии, и они скоро начнут действовать.
— Я действительно получил из Парижа на этот счет несколько полицейских донесений. Какие-то французские авантюристы задались целью провести герцога… что-то в этом роде, если не ошибаюсь… Подробностей не было. Второе донесение, в котором должно было упоминаться имя главного зачинщика, благодаря чему мы могли бы переловить всю компанию, не дошло до меня. Мятежники, по всей вероятности, перехватили корреспонденцию. Впрочем, французы теперь заняты другим, и им вовсе не до того, чтобы искать в Вене короля на свой пустующий трон.
— Об этом помышляют не одни французы. Чтобы далеко не искать, я могу упомянуть о только что прибывшей княгине Наполеоне Камерате, которая считает себя призванной свыше для восстановления императорской династии.
— Разве она покинула Венецию?
— Да, одновременно со мной! Она остановилась в этой же самой гостинице, и если вам угодно, ваше сиятельство, переговорить с нею…
— Нет, это не требуется. Будет гораздо благоразумнее учредить за нею негласный надзор, чтобы расстроить все ее шалые бредни и козни. Благодарю вас за сообщение и считаю долгом сказать, что ни лорд Коулей, ни я не в претензии к вам за причиненное нам беспокойство.
— Я считал, что поступаю правильно, — несколько обиженно произнес Басерт. — Я не хотел терять из виду графиню Камерату. Если бы я попросил у вас, ваше сиятельство, аудиенцию во дворце, то весьма вероятно, что, вернувшись к себе, я нашел бы птичку уже выпорхнувшей. А я слежу за нею с Венеции. В настоящий момент она вышла, и если вы желаете уехать, ваше сиятельство, то я думаю, что это самый подходящий момент, так как она может вернуться с минуты на минуту.
— Пора! — поднялся Меттерних. — Еще раз хвалю вас за рвение и советую продолжать дело так же умно, как оно вами начато. Если вам потребуется сообщить мне что-нибудь по этому поводу, то знайте, что я всегда готов принять вас.
— Вы слишком добры, ваше сиятельство. Но вы не дали мне никаких инструкций? — добавил Уильям, вперяя в Меттерниха свой холодный и черствый взгляд. — Значит, и вы, ваше сиятельство, и вы, милорд, — обратился он к лорду Коулею, — предоставляете мне действовать по моему усмотрению, как я найду лучшим для блага Европы, а также для спокойствия и величия Англии? Повторяю, что нельзя быть ни уверенным в безопасности Австрии, ни спокойным за будущее Англии до тех пор, пока не переведутся Бонапарты, которые не сегодня завтра могут оказаться на троне.
— Довольно эфемерная гипотеза!
— Но она завтра же может быть осуществлена! Во Франции революция. Носятся слухи, что она соглашается на введение незаконной монархии герцога Орлеанского, которого намереваются провозгласить королем под именем Людовика-Филиппа Первого. Это правление может оказаться непродолжительным. Имя Наполеона обладает для французов крайне притягательной и магической силой, и пока будет жив человек, носящий это имя, и пока последнее можно крикнуть во весь голос над только что разрушенными июльскими баррикадами или перед избирательными урнами, до тех пор, повторяю, Европа не может считать себя в безопасности. Что касается Австрии, в частности, то для нее свободно может возобновиться итальянская кампания, и Ломбардия, миланское и венецианское владения могут легко ускользнуть от нас при помощи нового Бонапарта…
— Ну, положим, молодой человек, это довольно невероятные предположения, — заметил лорд Коулей, — но все же кое в чем вы и правы; так, например, действительно несколько беспокойно это громкое имя Наполеона.
— Его носит сын королевы Гортензии! — быстро вмешался Меттерних.
— Но также и герцог Рейхштадтский, князь! — отпарировал Басерт.
— Мне кажется, что мы не понимаем друг друга. Чего вы, собственно, желаете?
— Я желаю события, довольно естественного, хотя вместе с тем несколько ускоренного и упрощенного, но способного освободить Австрию, Англию и всю Европу от опасности возрождения династии Наполеона. По воле роковой случайности или же благодаря неожиданной, преждевременной смерти в царствующих домах легко может изменяться ход законной передачи престолонаследия. Так, например, Людовик Пятнадцатый унаследовал престол деда. Поэтому вполне возможно и естественно предположение, что Людовику-Филиппу может в один прекрасный день унаследовать сын Наполеона, внук нашего императора.
— Полноте! Герцог Рейхштадтский не числится во Франции в ряду претендентов, как не считается и среди наследников Австрии.
— Господа, — с глубоким поклоном сказал Басерт, так как оба его собеседника встали и собирались уходить, — как во Франции, так и в Австрии безопасными претендентами могут считаться лишь мертвые. Запомните мое предсказание: пока будет жив хоть один Наполеон, этот Наполеон свободно может превратиться в короля, императора, президента республики или диктатора. Все это вам кажется пустой химерой? Но позвольте мне остаться при своем мнении! Может быть, настанет день, когда вы будете признательны мне не только за то, что я предвидел эту опасность и предупредил вас о ней, но также и за то — если мне только удастся, — что я отвратил ее или, вернее, искоренил!
Меттерних, ни слова не говоря, окинул Басерта долгим, проницательным взглядом.
Молодой человек стоически выдержал инквизиторский взгляд министра.
Этот обмен двух холодных взглядов создал между ними неведомую, тайную связь и взаимное понимание двух натур, испорченных до мозга костей, и это обстоятельство послужило основанием замысла темного, кровавого преступления.
Меттерних молча вышел из комнаты, увлекая за собой лорда Коулея. Садясь в карету, последний сказал Меттерниху:
— Интересный субъект этот молодой Басерт! Яркие идеи и трезвая голова! А решительности хоть отбавляй! Жаль, что он родился поздно. Он мог бы оказать весьма ценные услуги, если бы его, например, послать на место этого идиота Хадсона Лоу наблюдать за Наполеоном на острове Святой Елены. Он, по всей вероятности, не дал бы тянуться столько времени тому, что называется «мученичеством» Наполеона. Он убил бы в зародыше легенду об утесе. Во всяком случае, поздравляю вас с находкой этого молодого человека. У него очень и очень оригинальные и интересные взгляды.
Меттерних промолчал. Оба погрузились в свои думы, но мысли обоих вертелись вокруг трагического вопроса: приведет ли в исполнение этот Уильям Басерт свой кровавый замысел?
Лишь только они успели уйти, графиня Камерата вышла из своего тайника и с отчаянием воскликнула: — О, негодяи! Они хотят убить его! Но я расстрою их планы! Я предупрежу его, спасу…
Она поднялась к себе и стала наблюдать за слугами. Скоро она заключила, что Басерт обедает в своей комнате. Она последовала его примеру и стала с нетерпением дожидаться наступления ночи. Когда же служанка пришла стлать постель, она уговорила ее продать ей за изрядную сумму ее одежду с тем, чтобы девушка переслала на следующий день вещи графини по указанному адресу в Вене.
Служанка согласилась. Графиня быстро переоделась в одежду служанки и прошла незамеченной за ворота. Басерт, предусмотрительно усевшийся у окна, чтобы наблюдать за всеми входящими и выходящими, не обратил никакого внимания на незначительную служанку, прошмыгнувшую за ворота, по всей вероятности на любовное свидание. Он и не подозревал, что эта служанка — не кто иная, как графиня Камерата, за которой он зорко следил от самой Венеции.
Он спокойно кончил ужинать и лег спать, обдумывая свои мрачные планы, однако спал вполуха, чутко прислушиваясь к тому, что происходит в комнате графини. Но там все было тихо. Лишь на следующее утро он убедился в бегстве графини и понял, что она провела его. Он пришел в ярость, потребовал лошадей и поскакал немедленно к канцлеру, чтобы известить его о бегстве графини и просить содействия полиции для ее розыска.
Графиня Камерата при первой же возможности наняла карету и велела везти себя в гостиницу «Роза». Ей не терпелось скорее увидеть герцога Рейхштадтского и предупредить его о грозящем ему заговоре. Она решила подстеречь его во время прогулки, а если не удастся, то проникнуть каким-нибудь способом во дворец Шенбрунн.
VI
В одном из предместьев Вены, в жалкой лачужке, загроможденной всяким старьем и хламом, изображавшим «товар», с некоторого времени поселилась молодая женщина. Черты ее хранили следы красоты, но ее лицо было крайне измучено и утомлено, и только чудные черные глаза горели ярким, мрачным пламенем.
Лавка принадлежала старьевщику-еврею по имени Мельхиседек. Молодая женщина, поселившаяся у него, по-видимому, знавала лучшие дни, но жизненные бури разбили ее утлый челн и прибили его обломки к затхлой лавчонке старьевщика.
Она прибыла в Вену оборванная, голодная, усталая до последней крайности и упала в изнеможении на одну из скамеек бульвара, где ее задержала полиция. Она отказалась назвать свое имя. Ее продержали несколько дней при полицейском управлении, а потом выпустили, так как за нею не числилось никакой вины, но обязали ее покинуть Вену, если она не имеет своих средств к существованию и не сумеет заручиться заработком.
Она вышла из управления и пошла куда глаза глядят, думая с тоской о том, куда она денется и где найдет приют. Она брела машинально, низко опустив голову. Какой-то маленький, блестящий предмет привлек ее внимание. Она нагнулась и, к своему удивлению, подняла золотое колечко, полувтоптанное в грязь. Молодая женщина поспешила скрыть находку под шалью и, боясь, чтобы у нее не отняли ее сокровище, кинулась в противоположную сторону. Таким образом она добрела до предместья, где обратила внимание на лавку Мельхиседека. Она вошла в нее и предложила купить найденное ею кольцо. Мельхиседек молча взял из ее рук колечко, погладил несколько раз свою седую бороду, тщательно испробовал кольцо кислотами и напильником, после чего, удостоверившись в доброкачественности предлагаемого, вернулся к молодой женщине и, подойдя к ней вплотную, спросил:
— Где украла?
У несчастной вырвался жест возмущения и протеста, в глазах загорелось пламя оскорбленной гордости, ее стан выпрямился от негодования; в этой нищей, преждевременно состарившейся женщине сказались на мгновение то достоинство и благородство, которые были присущи ей в прежние годы.
— За кого вы принимаете меня? — возмутилась она. — Я не украла, а нашла эту вещицу.
— В таком случае, ее необходимо предъявить полиции, — ответил Мельхиседек.
— Но я голодна! Будьте милосердны, купите у меня эту безделушку, это будет добрым делом!
Мельхиседек с любопытством взглянул на женщину, потом подошел к ней, взял за плечи, подвел к окну и стал внимательно глядеть на нее, как оценщик, осматривающий и взвешивающий стоимость товара.
— Вы не здешняя? — сказал он наконец. — Вы хорошо говорите по-немецки, но с акцентом… французским или итальянским…
— Я действительно издалека. Но не все ли вам равно? Сомневаюсь, чтобы вы всегда имели дело исключительно с честными личностями. Ваша лавочка довольно-таки подозрительна, и я думаю, что вас не особенно пленяет мысль привлекать к ней внимание полиции. Но поспешим, я голодна! Сколько вы можете дать мне за это колечко? Если вы не хотите покупать его, то верните его мне, я пойду к другому торговцу.
— Успокойся, дитя мое, — промолвил торговец, поглаживая свою бороду. — Я вовсе не отказываюсь купить ваше колечко, расспрашиваю же вас исключительно в ваших же интересах. Видите ли, я с некоторых пор веду один-одинешенек свою торговлю, — сказал старик дрогнувшим от волнения голосом. — Раньше при мне была моя племянница Рахиль, очень красивая девушка. Она была очень полезна мне в одной из отраслей моей торговли. Дело в том, что я продаю некоторые секретные снадобья, рецепты которых я унаследовал от своих предков. Моими покупателями являются молодые вельможи и дамы, а также и молодящиеся старички. Мое средство возбуждает энергию, жизненность, дает успех в жизни. Главная суть в том, что все эти господа непоколебимо веруют в чудодейственную силу всех этих волшебных баночек и пузырьков, а в подобных случаях это — половина успеха. И вот в этой-то торговле и помогала мне Рахиль. Но в один несчастный день она влюбилась в одного военного и бежала с ним. Я не знаю, где теперь скитается эта несчастная девушка — я уверен в том, что она уже покинута своим обольстителем, глубоко жалею ее и чувствую себя очень-очень одиноким! Хотите заменить Рахиль? Вы, по-видимому, честны, а в торговле это главное. Право, вы не раскаетесь. Вы будете сыты, у вас будет свой угол, два флорина в неделю и процент с проданного вами. Вы согласны?
Молодая женщина подумала и решительно ответила:
— Да почему мне не быть согласной? Можно попробовать, а не подойдет, то я могу и уйти. Вам нужна помощница, а мне — заработок. Попробуем! Но ведь это не мешает вам купить мое кольцо?
— Конечно! — ответил Мельхиседек. — Это будет служить задатком нашего договора. Вот, получайте десять флоринов.
С этими словами старик протянул незнакомке бумажку и получил от нее кольцо.
— А когда вы думаете начать? — спросил он.
— Да немедленно, — ответила молодая женщина, — я только схожу закусить, так как страшно голодна.
— Сберегите ваши деньги, я накормлю вас. У меня есть и мясо, и хлеб, и пиво; вам хватит.
Мельхиседек провел молодую женщину в заднюю часть лавки, где была навалена груда всякого старья. Незнакомка поела и тут же приобрела за шесть флоринов более приличный костюм.
— Выкиньте эти лохмотья! — сказала молодая женщина, указывая старику на скинутую ею одежду.
Однако старик бережно сложил ее тряпки, сказав, что они могут при случае пригодиться кому-нибудь, и прибавил:
— Но ведь я, дитя мое, до сих пор не знаю вашего имени, а между тем мне необходимо внести вас в свои списки, так как полиция может нагрянуть с проверкой.
— Меня зовут Лидией.
— И только?
— Достаточно с вас! — ответила маркиза Люперкати, так как это была она, и с этого же самого дня занялась торговлей старого Мельхиседека.
Торговля была трех родов: во-первых, купля и продажа платья, посуды, старого оружия и всего прочего, во-вторых — отдача денег в рост, чем Мельхиседек занимался с особенной любовью, и наконец торговля тайными средствами, которая приносила ему порядочный доход.
Мельхиседек славился как удивительный знахарь, исцелявший болезни, не поддававшиеся лечению известнейших врачей. Кроме того, его многочисленная и суеверная клиентура твердо верила в магическое действие его приворотных корешков, любовных напитков, омолаживающих средств и тому подобных чудодейственных медикаментов. Перед дверью его лавочки нередко останавливались собственные экипажи, из которых выходили знатные вельможи и нарядные дамы, умолявшие Мельхиседека вернуть им с помощью чар утраченное здоровье или любовь.
Спустя несколько недель Лидия вполне освоилась с торговлей Мельхиседека, и обычные посетители старого еврея, казалось, совершенно забыли об исчезновении Рахили.
Однажды, когда Лидия была в лавке одна, появился молодой человек с худощавым лицом и крайне жестким, неприятным взглядом. Он очень пожалел, что не застал Мельхиседека в лавке, и сказал, что зайдет позже.
— Хозяин не вернется раньше ночи, — сказала Лидия. — Но я пользуюсь его полным доверием. Изложите мне ваше дело, и я скажу вам, можем ли мы вам помочь.
— Это дело довольно трудное, — ответил молодой человек, — но я скажу вам, в чем оно заключается. Одна знакомая мне девушка горячо любит одного молодого человека. Последний, насколько мне кажется, отвечает ей взаимностью, но она не уверена в его чувстве и боится, что не сумеет удержать его любовь. Это — люди совершенно различных кругов и общественного положения. Молодой человек окружен пышными, блестящими дамами, которые дарят ему свое благосклонное внимание; поэтому та молодая девушка, о которой я говорю, боится, что ее скромное положение послужит препятствием в любви между нею и возлюбленным. Между тем ей хочется как можно крепче привязать к себе этого молодого человека.
— Это, вероятно, какая-нибудь молоденькая работница, влюбившаяся в своего хозяина?
— Вот именно. Эта молоденькая работница прослышала о том, что существует на земле старый чародей Мельхиседек, обладающий умением силой своих чар неразрывно соединить двух влюбленных. Правда ли это?
— Сущая правда! — с уверенностью ответила Лидия. — Старый Мельхиседек обладает многими тайными знаниями древних восточных оккультистов и ученых. Он умеет приготовлять различные снадобья, безошибочно действующие на физический и моральный мир человека.
— Я слышал в детстве о старом горном духе, который при помощи «гатшимэна», теперешнего гашиша, побуждал смертных к убийствам. Но мне это не требуется. Я не собираюсь делаться убийцей. Я просто хочу получить возможность успокоить и обрадовать бедную девушку, изнывающую от любви. Мне нужно какое-нибудь приворотное средство.
— О, у нас на этот счет громадный выбор! — с гордостью сказала Лидия, указывая на полку, заставленную различными эликсирами долговечности и любовными напитками.
— Могу я получить один из этих флаконов?
— Конечно, при известной скромности и соответствующей цене.
— О, конечно! — с живостью отозвался молодой человек. — Но, скажите, эти средства можно принимать вполне безболезненно? Они не в состоянии причинить вред?
— Вот именно, что с ними нужно обращаться крайне осторожно. В их состав входят сильнодействующие вещества, поэтому нужно быть крайне осмотрительными и точно придерживаться предписанной дозы приемов.
— Ого! Значит, в их состав входят яды?
— Смертельные! Если их принимать маленькими дозами, то они оздоравливают организм и приносят существенную пользу. Но если проглотить сразу хотя бы половину флакона, то результатом будет смерть. Наступает медленное разрушение организма, которое будет тянуться месяцами, но неизбежно приведет к роковому концу.
— Ага, благодарю вас, я понял. Маленькие дозы дают счастье и здоровье, а большие — смерть… Это именно то, что мне требуется. Благодарю вас за указания; я в точности передам их той особе, которая будет пользоваться этим снадобьем.
Лишь только он вышел. Лидия схватила шаль и последовала за незнакомцем. Он шел очень быстро, не глядя по сторонам, как человек, всецело занятый одной мыслью.
Он прошел часть города и вошел в красивый дом около императорского дворца. Заметив, что он раскланялся с комиссионером, стоявшим на углу, Лидия обратилась к последнему с просьбой сказать имя господина, только что вошедшего в дом, так как ей будто бы хочется обратиться к нему с прошением как к влиятельному лицу.
— Это англичанин, — ответил комиссионер, — некий сэр Уильям Басерт, племянник премьер-министра Англии.
Маркиза Люперкати вздрогнула, услышав это имя. Она знала лорда Басерта и ей было хорошо известно о той ненависти, которую питал министр к Наполеону. Взвесив все это, она сообразила, что может найти выход из своего ужасного положения и извлечь для себя пользу, если ей удастся узнать цель, ради которой приходил сэр Басерт за снадобьем в лавку Мельхиседека.
Тайны богачей — это те же золотые рудники, которыми нужно только уметь пользоваться, и Лидия твердо решила воспользоваться случаем.
Она ничего не сказала Мельхиседеку, ограничившись тем, что ею продано одно из снадобий. Узнав, какое именно, Мельхиседек немедленно спросил Лидию, предупредила ли она покупателя о ядовитых свойствах эликсира и о тех дозах, которыми можно пользоваться.
— Успокойтесь, — ответила с улыбкой Лидия, — этот господин не имеет ни малейшего желания кончать самоубийством; мне кажется, что он взял этот эликсир для того, чтобы вызвать к себе любовь одной молоденькой девушки, которая до этого времени не сдавалась на его мольбы. Надо полагать, он точно отмерит дозу.
— Гм… — проворчал Мельхиседек, — влюбленные бывают подчас крайне неосторожны.
— Не беспокойтесь понапрасну: этот господин — иностранец и, наверное, уедет далеко отсюда со своим приобретением.
— Все это так, но все же было бы лучше, если бы вы дали ему что-нибудь другое, безвредное. Большинство моих препаратов вполне безвредно и производят действительно оздоровляющее действие; но некоторые из них, как, например, то, что вы продали сегодня, — крайне опасны. Боюсь я, Лидия, чтобы ваша сегодняшняя неосторожная продажа не причинила нам массу хлопот и неприятностей! Вы вовсе не знаете этого таинственного покупателя? — снова спросил он, помолчав немного.
Лидия только передернула молча плечами и стала прибирать магазин, не обращая внимания на недовольную воркотню старого Мельхиседека.
— Только бы не пронюхала полиция об этой покупке! — бормотал сквозь зубы старик. — Мало ли что может случиться! Бог Авраама и Иакова, не допусти, чтобы раскрылось, откуда этот иностранец добыл это ядовитое средство!
Чтобы успокоить старика, Лидия сунула ему в руку золотой, полученный ею от незнакомца; но Мельхиседек был так взволнован и напуган, что впервые в жизни остался равнодушен к золоту.
VII
Лизбет заметила, что с некоторых пор на нее очень заглядывается один молодой человек, представленный ко двору английским посланником. Он не пропускал случая приблизиться к ней, улыбнуться. Но вместе с тем в его холодных, жестких глазах не светилось любовного чувства; наоборот, они горели злобным огоньком, как у человека, преследующего зловредную, мстительную цель.
Однажды, находясь одна в зале, примыкающем к классной комнате эрцгерцогини, занятой со своей гувернанткой, молоденькая лектриса увидела вдруг этого англичанина, направлявшегося к ней. Она вздрогнула от неожиданности и, желая избежать этого преследования, сделала вид, что погружена в чтение. Но это не остановило англичанина. Он подошел к ней, раскланялся, представился и спросил, почему она так холодна к нему и враждебна.
Лизбет ответила, что ничего не имеет лично против него, но, что, сознавая свое скромное положение, она не считает себя вправе обращать на себя внимание господ, бывающих при дворе, так как для них есть более подходящее общество среди фрейлин и статс-дам. Желая закончить этот разговор, она встала, ссылаясь на то, что ей надо идти читать эрцгерцогине, но англичанин (это был Басерт), остановил ее, сказав с саркастической усмешкой:
— Ваше положение действительно очень скромно, но мне известно, что вы метите гораздо выше, чем хотите признаться в этом!
— Что вы желаете сказать этим? — воскликнула оскорбленная Лизбет.
— Не сердитесь! — мягко ответил сэр Уильям. — С вами говорит искренний друг, желающий вам только добра. Я знаю, что вы и ваша матушка перенесли много горя и лишений, и радуюсь, что вам удалось получить здесь хорошее место. Вас, верно, удивляет мое вмешательство, но дело в том, что я хочу дать вам добрый совет. У вас есть враги…
— У меня? — воскликнула Лизбет. — Но кто же это? Кому и чем я могла помешать?
— Придворная сфера, — холодно ответил Басерт, — это арена постоянных козней и интриг. Вражда и зависть являются здесь преобладающими чувствами. Ваша молодость и грация создали вокруг вас много завистников и завистниц.
— Простите, но я не вижу причины, почему бы мне стали завидовать. Я исполняю свои обязанности, ни во что не вмешиваюсь и держусь в стороне ото всего.
— Все это так, но тем не менее вы окружены врагами. Вам не могут простить то влияние, которое вы имеете на известную вам личность…
Лизбет покраснела и сконфуженно пробормотала:
— Я не понимаю вас!
— Сейчас объясню, но, прошу вас, будьте со мной так же искренни, как я с вами. Я многое знаю, так как многое уследил, а остальное угадываю. Вы любите!
— Вы не имеете права так говорить со мной! — вспыхнула молодая девушка.
— Простите, но это исключительно в ваших же интересах. Полноте, не отпирайтесь! Разве у вас не было свиданий на Пратере? Если хотите, я назову вам имя молодого человека. Для вас он, кажется, носит имя Франца. Ага, вы убедились теперь, что мне кое-что известно? Может быть, я знаю даже и больше. Я иногда прохожу мимо гостиницы «Роза»…
— Если даже вы действительно следили за мной по неизвестным причинам, все же мне остается непонятным: почему вас интересует жизнь такой незаметной девушки, как я, и мои чувства к неизвестному вам молодому человеку?
— Почему вы думаете, что я не знаю вашего Франца?
— Это он посвятил вас в свои интересы?
— Нет, не он, а придворные толки. Вам, вероятно, известно, что ваш Франц бывает иногда при дворе?
— Да, у него есть должность. Он служит секретарем эрцгерцога Карла. Но я никогда не видела его во дворце.
— А, вы никогда не видели его здесь? Вы знаете его только как секретаря. Я так и думал! — усмехнулся Басерт.
— Вот именно! — в тон ему ответила Лизбет. — Я знаю, что его зовут Францем, что он занимает порядочную должность, и если вы уж так хорошо осведомлены, то могу прибавить не краснея, что люблю его и он отвечает мне взаимностью.
— Вот и прекрасно! С этого надо было начать вместо того, чтобы отпираться. Все это было хорошо известно мне, но, кроме того, я знаю еще кое-что, что и вам было бы нелишне узнать.
— Простите, но я считаю это излишним. Я не хочу слышать от третьего лица то, о чем Франц счел нужным умолчать или скрыть от меня. Когда он найдет нужным открыть мне свое настоящее положение — так как я поняла из ваших слов, что заблуждаюсь на этот счет, — то он сам сделает это тогда и так, как найдет это более удобным. Ведь он, надеюсь, не просил вас быть посредником? В таком случае я подожду его сообщений.
— Нет, Франц не делал меня своим посредником, но тем не менее я считаю своим долгом предупредить вас о тех опасностях, которые возникнут, когда вы узнаете, что, собственно, за личность тот, которого вы называете Францем.
— Вы хотите дать понять, что тут кроется какая-то тайна. Ну, раз вы начали, то я прошу вас продолжать, но предупреждаю вас, что должна сегодня встретиться с тем, о ком вы говорите, и не премину передать ему этот разговор.
— О, пожалуйста, хотя считаю за лучшее — опять-таки в ваших интересах, — чтобы он не знал, что вы узнали его настоящее имя и положение. Это будет в ваших руках лишним козырем…
Лизбет поднялась. Она была страшно бледна; вся кровь отлила от ее щек. Коварные речи англичанина смутили ее душу, пробудили в ее сердце сомнение. Что означала тайна, окутывавшая Франца? Из слов англичанина можно было заключить, что Франц — далеко не тот, кем он казался ей. Любит ли он ее? Не обманывает ли? Она была не в силах больше терпеть эту страшную пытку неизвестностью, ее душа была чересчур смущена, и потому она стала умолять своего собеседника договорить до конца все, что он желал сообщить ей относительно Франца.
— Если вы так настаиваете, — отозвался англичанин, — то я готов подчиниться вашему желанию, но только вам придется пройти со мной в тронный зал.
— Это невозможно! — ответила Лизбет. — Император назначил сегодня прием французского посла, маршала Мэзона, и это будет очень пышный прием; мне там не место, и я не могу идти туда с вами.
— Само собой разумеется, что вы не можете фигурировать при встрече французского посла среди знатных особ, окружающих императора, но я, как вам известно, служу при английском посольстве и пользуюсь свободным входом ко двору. Рядом с тронным залом, где император примет французского посла, есть маленький зал, предназначенный для дипломатического корпуса. Я знаю, что сегодня там никого не будет. Поэтому вы можете пройти туда вместе со мной, и вам, может быть, удастся увидеть кое-что, интересующее вас. Хотите? Поторопитесь. Вот забили барабаны… Это карета посланника въезжает во двор. Через несколько минут начнется прием. Пойдемте! Не теряйте времени, если не желаете пропустить интересное для вас зрелище.
Он схватил молодую девушку за руку.
Лизбет была так потрясена и взволнована всем слышанным, что невольно подчинилась влиянию Басерта и беспрекословно последовала за ним.
Дипломатический зал был действительно пуст. Все собрались в тронном зале, где происходил прием. Между обоими залами были окна, задернутые занавесями; встав у одного из этих окон и слегка отодвинув занавес, можно было свободно наблюдать за всем происходящим в тронном зале.
Сэр Уильям внимательно всмотрелся в людей, заполняющих тронный зал, а потом притянул к себе трепещущую Лизбет и заставил ее тоже смотреть, называя поочередно всех присутствующих и поясняя происхождение.
— Сейчас появится посланник, — сказал он, император уже на троне; рядом с ним помещаются эрцгерцоги; эрцгерцог Карл по правую руку, а остальные по левую…
Лизбет испуганно смотрела на это пышное смешение расшитых мундиров и дамских придворных нарядов, но ничего не могла разобрать в своем смятении. Она было взглянула на мгновение на императора, но тотчас же перевела взгляд на отдельные группы молодых офицеров и членов посольств, стараясь отыскать между ними Франца.
Басерт коснулся ее плеча и промолвил:
— Хорошо ли вы разглядели всех окружающих императора?
— Да, — рассеянно ответила Лизбет, продолжая разыскивать в глубине зала своего возлюбленного.
— Я думаю, что вы не разглядели, — безжалостно промолвил Басерт, — поглядите хорошенько туда, где стоят эрцгерцоги. По левую руку императора! Вглядитесь хорошенько в этого бледного, худощавого молодого человека в форме полковника! Вы не узнаете его?
Лизбет взглянула на этот раз внимательнее.
— Ах, Боже мой, это он! — громко воскликнула она.
Сэр Уильям выпустил из рук занавес и быстро подхватил молодую девушку. Она была в обмороке. Приведя ее в чувство, Басерт довел ее до галереи, усадил в кресло и, низко поклонившись, промолвил:
— Теперь вам известно, кто такой этот Франц. Он носит имя герцога Рейхштадтского и является внуком императора. Берегитесь! Вы успели, как я уже вам сказал, возбудить против себя немало зависти и вражды! Но, к счастью, вы имеете во мне друга и защитника! Ые забудьте же прибегнуть в случае надобности к моей искренней преданности. Имею честь кланяться!
Сказав это, сэр Уильям низко раскланялся и ушел с галереи, оставив молодую девушку в полном одиночестве. Она была ошеломлена и совершенно уничтожена.
— Он — эрцгерцог! Внук императора! — растерянно шептала она. — Ах я несчастная! Погибло мое счастье. Он никогда не будет в состоянии любить меня!
VIII
Герцог Рейхштадтский был удивлен и обеспокоен, не найдя Лизбет в обычный час в комнате, где в течение некоторого времени они обычно встречались. Эта комната находилась в непосредственной близости от дворца Шенбрунн, в гостинице «Роза», куда по тайному соглашению с одним из «женихов» дочери хозяина, студентом Фридрихом, герцог проникал инкогнито.
Молодой богослов, узнав герцога, снабдил его ключом, при помощи которого тот мог проникать в дом, не будучи никем замечен. Он рассчитывал, что благодаря этой услуге ему можно будет навсегда захлопнуть теперь богословские сочинения и Библию и сменить сутану на лосиные рейтузы и нож егеря. Благодаря своему таинственному покровителю он мог получить место, о котором мечтал честолюбивый хозяин гостиницы «Роза».
Герцог ждал долго, но напрасно. Лизбет не приходила. Тогда герцог стал беспокоиться. Может быть, она захворала? Может быть, какое-нибудь распоряжение из дворца заставило ее находиться безотлучно при своей госпоже или она просто-напросто рассердилась, капризничает?
Герцог возвратился сильно не в духе во дворец и довольно сухо ответил Фридриху на его просьбу о месте привратника, что теперь не время заниматься такими пустяками. Бедный Фридрих в смущении вернулся обратно и еще больше огорчился, когда увидел, что столяр, склонившись к Эльзе, ощипывавшей какую-то птицу, что-то тихо шептал ей на ухо. Молодая девушка, не прерывая своего дела, по-видимому, оказывала очень лестное внимание молодому столяру.
Весь вечер герцог, характер которого всегда сильно менялся от внешних причин, казался сильно раздраженным. Слуги были очень удивлены этой переменой; один из них довел об этом до сведения врача, и последний как бы невзначай навестил герцога, чтобы справиться о его здоровье.
— Но у меня ничего не болит, доктор! — ответил Наполеон-Франц.
— Однако же у вас лихорадочное состояние, — возразил доктор, щупая пульс на руке у герцога. — Вам следует лечь в постель и принять успокоительное, которое я сейчас пропишу вас. Вы, вероятно, схватили простуду, прогуливаясь по сырой траве сегодня вечером. Придется полечить вас, ваше высочество! Вам известно, что на меня возложена забота о вашем здоровье. Но нужно признаться, что вы самый капризный больной из всех, которых только мне приходилось лечить.
— Но я же не болен и не хочу быть больным! — ответил принц. — Однако чтобы сделать вам удовольствие, я останусь в комнате и приму прописанное вами лекарство.
На другой день герцог, проснувшись, опять начал доискиваться причины, почему Лизбет не пришла на свидание. Очевидно, с ней что-то произошло, но что именно? Ему хотелось во что бы то ни стало узнать причину.
К несчастью, в его положении, находясь постоянно под надзором, он не мог отлучиться без того, чтобы не вызвать подозрений, а между тем ему хотелось непременно дать знать Лизбет, что он ожидал ее. Поэтому он должен был смириться и ждать вечера.
Как только последний наступил, принц сейчас же после обеда взял книгу и, одетый по своему обыкновению в костюм студента, быстро зашагал по аллеям Шенбрунна.
Обыкновенно, дойдя до площадки парка, он поворачивал обратно и, пройдя вдоль стены, подходил к калитке, ключ от которой у него был всегда с собой, открывал ее и выходил в поле. Там он опять шел вдоль стены до аллеи, выходившей во двор гостиницы, и, если случайно кто-нибудь замечал его, он дружески кланялся, давая понять, что направляется к Фридриху, которого выдавал за своего товарища.
На этот раз, дойдя до аллеи, ведущей к гостинице, принц не пошел обычным путем, а повернул направо и по извилистой дорожке дошел до реки, где немедленно почувствовал себя счастливым, что может идти среди незнакомых ему людей. Он оглядывался по сторонам, рассматривая венских жителей, которые, окончив работу, направлялись в многочисленные портерные и кафе, чтобы выпить стакан пива или чашку кофе со сбитыми сливками — любимый вечерний напиток венцев. Мимоходом принц бросал взор в рестораны, где для развлечения посетителей гремела музыка.
Мимо него проезжали кареты, в которых сидели элегантные парочки, направляясь в театры. Герцог свободно дышал среди этой веселой и беспечной толпы, которая, отложив дневные заботы, думала только о развлечениях.
Так он дошел до квартала Асперн, где жила мать Лизбет. От нее он рассчитывал получить сведения о девушке и в случае нужды рассчитывал послать ее во дворец навести справки.
Не без волнения поднялся принц по лестнице дома, где впервые произошла его встреча с Лизбет. Он вспоминал, как завязалась их дружба, вспомнил свое смущение, когда впервые очутился в присутствии Лизбет и ее матери. Он нежно перебирал в уме все эти воспоминания об обстоятельствах, столь близких и в то же время столь далеких, и с горестью должен был признаться самому себе, что его положение и его великое имя не позволяли ему вкусить тихое счастье, которое он отведал, но которое не могло продолжаться дольше. Он чувствовал, что это счастье будет непременно когда-нибудь разом нарушено.
«Останусь ли я всегда свободным? Позволят ли события продолжать мне любить тайным образом девушку, общественное положение которой сильно отличается от моего? Наверное, — думал он, — полиция проследит и узнает о моей связи! Но, может быть, среди моих тюремщиков найдутся люди, которые поймут, что эта связь не заключает в себе ничего дурного и никакой беды для государства от этого не будет? И тогда, может быть, меня оставят в покое. Сколько времени продолжится такое положение? Не пробил ли уже час нашей разлуки?»
Отсутствие Лизбет, которая до сих пор никогда не пропускала часа свидания, сильно беспокоило принца. Ведь они были окружены врагами и за нею, вероятно, следили так же, как и за ним.
«До сих пор канцлер закрывал глаза, позволяя мне любить девушку. Неужели он решил нарушить наше счастье, которое никому никакого вреда причинить не могло и которое не нарушало его политики? Какое преступление совершаем мы, любя друг друга? Чьи честолюбивые замыслы нарушает наше счастье? Ведь я держусь в стороне от всех политических интриг. Придворные страсти не проникают в мои апартаменты, которые напоминают позолоченную клетку. Мне ничего не сообщают, и я только случайно узнал вчера о том, какие важные события происходят теперь во Франции. Минувшая революция достигла моих ушей только как отдаленное громыхание грома. Я ничего не хочу, как только жить вдали от всех бурь. Я молод и все-таки уже утомлен. Почему мне не позволят жить, как я хочу, — скромно и уединенно, не вспоминая о том, что я сын Наполеона? Все еще боятся моего отца, хотя он лежит уже в могиле. Быть может, боятся также и меня, хотя я только тень своего отца! Неужели ради этого накажут девушку, единственное преступление которой состоит в том, что она предана мне? Значит, хотят, чтобы я был совершенно одиноким на земном шаре? Постарались убрать от меня все, что могло так или иначе быть приятно мне, что могло вдохнуть в меня бодрость духа, зажечь снова мое сердце, которое стало холодно ко всему, за исключением одной Лизбет».
И с судорожно сжатыми руками молодой человек в отчаянии прошептал:
— Боже, как я несчастлив! Каким бременем является для меня имя, которое я ношу! Зачем Небо не дало мне возможности родиться простым смертным? Зачем я в действительности не тот, за кого принимает меня Лизбет, студент Франц, состоящий на службе в канцелярии эрцгерцога? Но все равно! Теперь мне нужно узнать истину! Если какое-нибудь несчастье угрожает Лизбет, я сумею показать себя, я сумею действовать и хоть частица силы моего отца, вероятно, проявится тогда у меня! Я докажу, что я все-таки сын Наполеона… А, проклятие канцлеру и тем придворным, которые окружают его и в которых я чувствую своих врагов, если они посмели насильно разлучить меня с Лизбет! Они способны на все, эти друзья Меттерниха, придворные лакеи, состоящие на службе у англичан и палачей моего отца. О, они жизнью ответят мне за Лизбет, и ничто не удержит меня от мщения!
Таковы были чувства и мысли герцога, когда он входил в квартиру вдовы полковника Лангздорфа.
Он застал мать Лизбет мирно сидящей за работой. Удивленная появлением молодого человека, она прежде всего задала ему вопрос:
— Не случилось ли чего-нибудь с Лизбет?
— Нет, насколько мне известно, — ответил молодой человек. — Я пришел только потому, что давно не получал никаких известий о вашей дочери. Не больна ли она?
— Нет! Один из соседей, англичанин по имени сэр Уильям Басерт сообщил мне, что заметил ее вчера во дворце во время приема французского посла.
— А не можете ли вы уведомить ее, что я хотел бы получить известия от нее и сообщить ей, что меня удивляет ее молчание?
Вдова поколебалась с минуту, потом серьезно проговорила:
— Я готова исполнить ваше поручение, видя, что вы действительно обеспокоены ее судьбой, хотя, мне кажется, ваши страхи ни на чем не основаны, так как Лизбет могла задержать придворная служба. Но я, право, не знаю, — продолжала она, — каким образом могу я исполнить вашу просьбу, не получив от вас объяснений…
Герцог молчал, как бы выражая этим признание прав матери.
— Все время, — опять заговорила вдова, — Лизбет удерживала меня от этого, но теперь, мне кажется, как раз самый подходящий момент…
— Пожалуйста, продолжайте! — сказал герцог, на которого серьезный тон его собеседницы произвел глубокое впечатление.
— Когда вы были случайно представлены нам, моя дочь и я были тронуты вашим желанием быть полезным нам и почувствовали к вам живейшую привязанность за все, что вы сделали для нас. Моя дочь обязана вам блестящим местом при дворе, которое приносит ей материальное обеспечение и большую честь. Я, со своей стороны, буду всю жизнь благодарна вам, так как только благодаря вам я получаю теперь пенсию за своего покойного мужа. Напоминая теперь о всех благодеяниях, сделанных вами, я только воздаю вам должное и могу открыто сказать, что, принимая ваше великодушное покровительство, мы с дочерью не имели никакого расчета, никакой задней мысли…
Герцог молча выразил свое согласие со словами женщины.
— Обстоятельства так сложились, что моя дочь полюбила вас, — продолжала она. — Я ни в чем не упрекаю вас и не порицаю своей дочери. И, конечно, вам не было никакого дела до того, что происходит в моем сердце. Вы, конечно, не знали, что я страдала за вас и из-за вас. Ведь это так понятно, когда люди всецело захвачены эгоизмом своей страсти. Вы оба пренебрегли моей родительской властью, но я не обвиняю и не жалуюсь. Я знаю, что моя дочь счастлива, а вы. честный и добрый человек. Но я хотела бы задать вам только один вопрос, и мне было бы желательно, чтобы вы ответили на него совершенно откровенно.
— Пожалуйста, я вас слушаю.
— Раз вы любите Лизбет, и она любит вас, раз вы намерены продолжать ваше знакомство, то почему же вы не хотите сделать это открыто перед всем миром?
Госпожа Лангздорф остановилась, как бы ожидая, что молодой человек прервет ее, не даст ей окончить начатую речь, но герцог продолжал неподвижно стоять, устремив в землю взор.
Вдова стала продолжать, но в ее голосе теперь уже чувствовалось скрытое раздражение.
— Вы, конечно, поняли меня? Мне неизвестно, сколько вы зарабатываете, но, мне кажется, ваше положение при дворе приблизительно такое же, как и положение моей дочери. Наводя для нас справки, вы узнали, что мы бедны, но имя, которое носит моя дочь, — честное имя, и она вполне может стать супругой скромного труженика, каким вы кажетесь мне. Итак, почему вы не хотите взять мою дочь замуж?
Герцог, не будучи в состоянии отговориться более или менее неопределенными обещаниями и в то же время не имея сил признаться откровенно, кто он такой, стоял, потупив взор.
— Отчего же вы не отвечаете мне? — спросила оскорбленная вдова. — Может быть, вы находите мое требование слишком большим? Или в этой связи вы искали только минутного развлечения? Или вы считаете нас недостойными себя? Неужели ваша любовь — простая забава? Значит, моя дочь жестоко ошиблась в вас, принеся вам свою пылкую любовь, которая так захватила ее, что, кроме нее, она ничего не видит и довольна уже тем, если вы говорите ей, что любите ее. Она ничего не требует, ничего не ждет; поверьте, что я говорю не от ее имени. Я действую от своего имени, как мать, и, видя теперь, что мой вопрос далеко не радует вас, я боюсь передать мой разговор с вами Лизбет, чтобы не довести ее до отчаяния. Мне тяжело было бы сказать ей, что вы остались глухи к моим словам. Ваше молчание разрывает мне сердце, и я прошу вас оставить меня наедине с моим горем. Ведь мне приходится отказаться от мысли, что моя дочь в будущем займет прочное и уважаемое место в обществе в качестве вашей законной жены.
Госпожа Лангздорф поднялась, как бы для того, чтобы показать, что считает их беседу оконченной.
— Не огорчайтесь так! — проговорил герцог. — Я хорошо понимаю ваш материнский страх, но я и сам занят судьбой Лизбет. Ваше предложение кажется мне совершенно справедливым, но я, к сожалению, не могу дать вам сейчас ответ, который вы ожидаете от меня. Не торопитесь обвинять меня! Не думайте, что я только в силу равнодушия поступаю так. Нет, я люблю вашу дочь, и моей самой дорогой мечтой является желание когда-нибудь назвать перед всеми вашу дочь моей женой. Но у меня есть семья, родственники. Я не могу без них располагать собой. Я связан такими крепкими узами, которые никакая человеческая сила не в состоянии порвать. Не спрашивайте меня, я не могу пока дать вам более подробные сведения о себе! Я не свободен!
— Великий Боже, так вы женаты?
— Нет, клянусь вам, но от этого я не более свободен! Дайте срок. Быть может, когда-нибудь вы узнаете истинную причину, почему я теперь отказываюсь дать вам ответ, который вы ждете от меня. Вы поймете. Не огорчайтесь и в особенности не пугайте Лизбет!
— Я понимаю, какие обязанности налагает сыновняя любовь. О ваших родственниках вы никогда ничего не говорили нам. Я не хочу приставать к вам с ножом к горлу, чтобы вы теперь женились на моей дочери, но требую, чтобы вы сообщили своим родственникам о вашем намерении, на ком вы хотите жениться…
Герцог одно мгновение колебался, но, мысленно решив, что ему нельзя доводить мать до последней степени отчаяния, сказал:
— Я обещаю вам сообщить обо всем родителям и сделать все от меня зависящее, чтобы они с распростертыми объятиями приняли Лизбет. Но теперь это никак невозможно. В будущем я, быть может, верну себе свободу, теперь же я прошу вас сообщить Лизбет во дворец, что я жду ее. Если вы разрешаете, то я продолжу нашу беседу с ней и сообщу ей то, о чем говорили мы с вами.
— Нет, не говорите ничего моей дочери! Я сделала это без ее разрешения и боюсь, что если она узнает, что я говорила с вами о браке, то она подумает, что вы станете меньше любить ее. Я пойду за дочерью во дворец, но говорю вам откровенно, что эта миссия мне очень не по душе. Теперь я соглашаюсь только потому, что вы, по-видимому, очень беспокоитесь, но в следующий раз избавьте меня от этого.
Госпожа Лангздорф раскланялась с герцогом и отправилась во дворец за дочерью.
Лизбет действительно вскоре пришла, но без матери. Молодой герцог бросился навстречу к ней, но Лизбет отворачивала от него лицо, так как не могла сдержать лившиеся слезы. Она едва осмеливалась глядеть на герцога, не возвращала ему поцелуев, боялась разговаривать с ним. Она не захотела открыть тайну своей матери, когда та пришла за нею во дворец. Она боялась, что та начнет расспрашивать ее, и решила сообщить ей позднее ужасное открытие, что тот, кого она принимала за студента Франца, оказался внуком императора, эрцгерцогом Францем. Она боялась, что мать, узнав о пропасти, которая отделяет ее от возлюбленного, не вынесет удара. Лизбет по различным намекам угадывала, какие надежды питает мать относительно молодого студента. Теперь же, придя домой и увидев там герцога, Лизбет не выдержала и разрыдалась. Она, казалось, не замечала, что он, как всегда, был одет в скромный костюм студента; ей он теперь представлялся во всем блеске парадной формы с крестом на груди. Она все еще любила студента Франца, но чувствовала, что не сможет полюбить герцога, который был так далек от нее!
Герцог прижимал ее к своей груди, но не мог добиться от нее слов, которые разъяснили бы ему, почему она так огорчена. Молодая девушка продолжала относиться холодно к нему, отвечая только кивком головы или односложными словами.
Когда герцог в двадцатый раз задал ей вопрос, любит ли она его, Лизбет вместо ответа откинула назад голову и, страстно обняв возлюбленного, крепко прижалась к нему. В эту минуту герцог почувствовал что-то твердое за корсажем у девушки.
— Что это такое? — с удивлением спросил он. — Какую драгоценность прячешь ты от меня? Или, может быть, там любовное письмо?
Оскорбленная этим подозрением Лизбет молча расстегнула корсаж и вынула оттуда маленький флакон. Это была та самая бутылочка, которую купил Уильям Басерт в лавочке у Мельхиседека.
Когда Лизбет на приеме во дворце вдруг лишилась чувств, Уильям Басерт отнес ее в соседнюю комнату и привел в чувство. На другой день и в следующие дни он оказывал Лизбет большое внимание и, добившись ее доверия, предложил ей этот флакон, говоря, что этот эликсир может заставить быть постоянным самого легкомысленного возлюбленного и привезен ему одним знакомым из Аравии.
Лизбет совершенно машинально взяла флакон, и Басерт сказал ей:
— Храните это сокровище и испытайте его могущественное действие. Чего вы боитесь? Заставьте того, кто любит вас, выпить содержимое, и вы увидите, что он навсегда станет вашим. Этот любовный эликсир сокращает расстояния и заставляет сердца влюбленных биться в унисон…
Лизбет спрятала флакон за корсаж, а затем совершенно забыла о нем, когда за нею пришла мать.
Так как герцог все настойчивее расспрашивал ее о флаконе, она откровенно призналась ему, хотя и не сказала, от кого получила этот эликсир. Молодой человек посмеялся над ее суеверием и, откупорив бутылку, поднес к носу, а затем быстро закинул голову и выпил половину флакона.
— Немножко горько, — сказал он, улыбаясь, — но зато ты теперь уверена, что я не разлюблю тебя. Однако я не должен любить только один. Здесь еще есть жидкость, и ты должна выпить в свою очередь: иначе что же будет, если я один буду постоянным? — И, продолжая улыбаться, он поднес к губам девушки флакон и заставил проглотить остатки. — Теперь, Лизбет, мы навеки принадлежим друг другу. В наших жилах течет одинаковый огонь!
Эта маленькая сцена заставила Лизбет забыть о герцоге, она вновь увидела перед собой скромного студента, и так как всякая любовная сцена оканчивается примирением, то они тихо направились в гостиницу «Роза».
Благодаря предусмотрительности Фридриха дверь не была заперта, и в знакомой им обоим комнате влюбленные забыли — она, что перед нею герцог, а он — свой неприятный разговор с матерью девушки. Они вполне отдались своей страсти, оставляя на завтра все неприятности и заботы.
Они расстались, решив встретиться в середине недели, так как в ближайшие дни герцог не мог освободиться, поскольку ему необходимо было присутствовать на параде, устраиваемом в честь маршала Мэзона. Прощаясь с Лизбет, он промолвил:
— Мне кажется, никому из нас не нужен был этот любовный напиток, но все же я благодарен ему, так как он положил конец нашей ссоре!
IX
Графиня Камерата после неудачной попытки приблизиться ко дворцу и повидать герцога решила идти, что называется, напролом.
Во время своих посещений гостиницы «Роза» она, заметив молодого человека, который, по-видимому, ухаживал за хозяйской дочерью и которого звали Альбертом Вейсом, начала расспрашивать его, действительно ли он имеет доступ в Шенбрунн.
Альберт Вейс отвечал, что он по профессии столяр и ему разрешено в любое время бывать во дворце, так как он занят там некоторыми починками. Но, присовокупил он, эта профессия является для него только временной ступенью, так как он предполагает в скором времени жениться на красавице Эльзе, и тогда в его руки перейдет вся гостиница. К сожалению, отец девушки поставил ему одно условие, не выполнив которого он не может жениться: он должен быть назначен сторожем дворца, а этой должности добиваются также и другие претенденты на руку красавицы Эльзы.
Графиня обещала ему выхлопотать это место, если он согласится в свою очередь помочь ей. Она попросила его провести ее во дворец, обещая за это не только хорошо наградить его, но и добиться его назначения в сторожа дворца.
Восхищенный этим обещанием, Вейс немедленно согласился исполнить просьбу графини, тем более что как раз сегодня ему предстояло работать во дворце в одном из его флигелей; он добавил, что оставит калитку в парке открытой и, когда графиня придет, с готовностью укажет ей, куда и как ей надо пройти.
Графиня поблагодарила столяра и сказала, что непременно придет в условленное место. Вечером она действительно явилась к калитке и, проникнув в парк, вскоре встретила столяра. Вейс сперва очень испугался, так как не узнал графиню, которая явилась закутанной в широкий плащ и с непокрытой головой, причем на ней не было даже парика, а вместо него виднелись коротко остриженные волосы, что придавало мужским чертам графини еще более строгое выражение.
Дойдя до дверей кабинета герцога Рейхштадтского, графиня остановилась, отпустила столяра и сбросила плащ. Теперь она была в костюме Наполеона I: в зеленом сюртуке, белом жилете и белых чулках, а под мышкой она держала треугольную шляпу. Она тихо постучала в дверь и вошла в комнату, где герцог Рейхштадтский сидел с книгой на коленях. Графиня, войдя, остановилась в обычной позе своего знаменитого дяди, на которого она разительно походила.
Герцог поднял голову и вскочил на ноги, а затем провел рукой по лбу, думая, что перед ним тень его отца, но наконец опомнился и сказал:
— Кто вы и кто позволил вам надеть этот костюм?
С этими словами он направился к шнурку звонка с намерением позвонить слуге.
— Не звоните, принц! Я ваша кузина, графиня Камерата. Этот костюм, наверное вызывающий в вашей памяти величавые картины вашего детства, я надела с известной целью и сейчас объясню ее вам.
— Я не понимаю таких шуток, — резко возразил принц, — и если вы не дадите мне сейчас же удовлетворительного объяснения, я заставлю вас жестоко раскаяться в этом маскараде.
— Только, пожалуйста, принц, не зовите людей, так как в данном случае мое появление — тайна для всех. Я приехала из Венеции, чтобы напомнить вам не только о нашем родстве, но также и о вашем великом происхождении.
— Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы мне напоминали, чей я сын. Но оставим это и вернемся к делу!
— Так слушайте же, принц, мой наряд надет с целью напомнить вам, что тот, кто умер на острове Святой Елены, требует отмщения.
— Быть может, эти мысли были и у меня самого, но мне кажется, я недостаточно знаком с вами, чтобы брать вас в поверенные. Мне кажется, вы совершенно напрасно нарядились в костюм моего отца, память о котором я, поверьте, всегда храню в сердце.
— Ваш отец, кузен, — горячо заговорила графиня, — если бы только он мог сам вернуться на землю, сказал бы вам, что вам не следует оставаться в этом дворце, что вас ожидают во Франции, что вас ждут друзья и весь французский народ, готовый следовать куда угодно за сыном Наполеона. Вы имеете обязанности по отношению к Франции, и я говорю вам: идите и царствуйте!
Принц пожал плечами и сказал:
— Мне кажется, вы действуете под влиянием какого-то безумного бреда. Но я не хочу слушать вас. Удалитесь!
— А, вы считаете меня сумасшедшей! И это только потому, что напоминаю вам о вашем постыдном безразличии к судьбам своего народа? Нет, принц, я не сумасшедшая. Я глубоко верю в династию Наполеона, но так как вы стали австрийцем и у вас уже не бьется сердце при упоминании имени Франции — вашей родины, то вы действительно правы, я не должна носить этот костюм, так как я вижу теперь, что великий человек умер без потомства. Прощайте, принц! Для меня вы умерли, меня вы больше не увидите! Прощайте!
Быстро открыв дверь, графиня вышла из комнаты, и прежде чем принц пришел в себя от удивления, она уже вышла из дворца и в сопровождении столяра прошла в парк.
Графиня Камерата вернулась в гостиницу «Роза» и в гневе сорвала с себя костюм Наполеона. В ту же минуту кто-то постучал в дверь, и в комнату к ней вошло пять или шесть человек полицейских в сопровождении комиссара.
— Вы графиня Камерата? — спросил ее комиссар.
— Да! Что вам от меня угодно?
— У меня имеется приказ арестовать вас, и потому я прошу вас следовать за нами.
X
Для отдания воинских почестей умершему генералу Зигенталю был отряжен почетный караул из всех родов войск. Но вдруг церемония была прервана из-за одного обстоятельства.
Всем отрядом командовал герцог Рейхштадтский. Вдруг, когда он хотел отдать какое-то приказание, его голос отказался повиноваться, герцог побледнел и упал бы с коня, если бы его не поддержали находившиеся поблизости офицеры.
Герцога немедленно отвезли во дворец. У него оказался сильнейший озноб. Его врач немедленно распорядился, чтобы больного уложили в постель. По мнению врача, лихорадка была только следствием общего упадка сил.
Собравшийся консилиум подтвердил мнение придворного врача и рекомендовал герцогу на некоторое время прекратить прогулки, охоту и военные упражнения, которым принц всегда отдавался с большой страстью.
Никто, в общем, не мог определить причину болезни герцога, но ни один доктор не поручился бы за его жизнь.
Когда наконец герцог был вне опасности и лихорадка оставила его, врачи предписали ему отказаться от прогулок, особенно по вечерам, а если он все-таки хотел выйти подышать воздухом, то его должен был сопровождать слуга. Это особенно удручало принца, так как совершенно лишало его возможности видеться с Лизбет. В то же время ему никак не удавалось дать ей знать, что он захворал, и он боялся, как бы его возлюбленная не подумала, что он забыл ее. Эта мысль еще более ухудшала его состояние, и он говорил самому себе: «Мне необходимо увидеться с нею и сообщить, почему я в это время не бывал в гостинице».
В Вене же, по распоряжению правительства, о болезни герцога знали очень немногие. В газетах официально было сообщено, что герцог простудился во время похорон, но что теперь его здоровье улучшилось и он отправился на маневры в Тироль, где горный воздух окончательно восстановит его силы.
Однажды к вечеру герцог решил все-таки выйти, хотя бы и в сопровождении слуги. Он прямым путем направился в гостиницу «Роза» с намерением повидать там Фридриха, но, к своему огорчению, увидел, что около хозяйской дочки увивается другой молодой человек, а именно Карл Линдер.
Тем не менее герцог попросил принести ему кресло и сел у дверей. Он сейчас же завел разговор с Карлом Линдером, и тот, освоившись уже с принцем, попросил его походатайствовать перед управляющим дворца о получении места дворцового сторожа.
Герцог рассмеялся и ответил:
— Если бы это зависело только от меня, то я охотно исполнил бы твою просьбу, но, во-первых, я уже почти связан обещанием об этом месте, данным мною другому, который тоже добивается руки Эльзы, а, во-вторых, я, когда освободится такое место, прежде всего посоветуюсь с самой невестой. — Принц остановился и поднес руку к груди, затем, повернувшись к своему слуге, сказал: — Подите ко мне в кабинет, там на столе стоит пузырек с лекарством с желтой этикеткой, и принесите его сюда.
Слуга ушел.
Принц, оставшись наедине с Линдером, продолжал:
— А вы, мой друг, тоже можете оказать мне большую услугу.
— Я готов, ваше высочество.
Наскоро написав несколько строк на листке бумаги, вырванном из записной книжки, герцог подал записку молодому человеку, говоря:
— Отнесите это по адресу. Ступайте и помните, что для того, чтобы получить место дворцового сторожа, надо уметь молчать.
— Можете положиться на меня, ваше высочество, — ответил обрадованный Карл и поспешил к Лизбет с письмом, в котором герцог назначал ей свидание.
Перед приходом камердинера принц, собравшийся продолжать свою прогулку, заметил в нескольких шагах от себя двух мужчин, которые низко поклонились и, очевидно, хотели приблизиться к нему. Герцог Рейхштадтский удивился; на одну минуту у него мелькнула мысль об убийцах, шпионах, однако он тотчас же отогнал подобные подозрения. Достаточно было одного взгляда на этих незнакомцев, чтобы рассеять всякое недоверие. Один из них, пожилой, был очень высок ростом, в длинном сюртуке, с массивной тростью на ременной петле, надетой на руку; другой — юноша с решительными движениями, с открытым лицом и осанкой военного. Оба казались иностранцами. Когда принц ответил на их поклон, они тотчас приблизились, и старший из них поспешно сказал:
— Ваше величество, мы французы; я — старый солдат вашего отца-императора. Нельзя ли нам повидаться с вами, хотя бы на короткое время, без свидетелей? Мы прибыли из Франции с важным поручением к вам.
Принц задумался. Так, значит, перед ним находились те самые депутаты Франции, о которых толковала сумасбродная графиня Камерата? Он колебался: нужно ли ему принять их и выслушать. Однако ему очень хотелось узнать что-нибудь о Франции. И потом, ведь этот человек, этот старый солдат, служил его отцу; так мог ли он грубо спровадить почтенного ветерана? Камердинер принца между тем возвращался назад; он был уже в нескольких шагах. Приходилось спешить, и принцу пришло в голову, что он может принять этих двух депутатов в тот же день и в том же месте, которые были назначены им для свидания с Лизбет. Поэтому он велел им прийти на другой день в тот же час в гостиницу «Роза» и спросить там Фридриха Блума. Когда слуга приблизился к ним, герцог торопливо откланялся приезжим и, проглотив несколько капель принесенного ему лекарства, оперся на руку своего слуги и пошел медленными шагами к Шенбрунну.
На другой день он объявил, что чувствует себя гораздо лучше и желает сделать визит императору во дворце. Доктор и грум сопровождали его в Хофбург. Поднимаясь по дворцовой лестнице, герцог старался казаться здоровым, веселым, оживленным. Он расточал улыбки и приветствия всем попадавшимся ему лицам, которые осведомлялись о его здоровье или молча кланялись, когда он проходил мимо, согласно их положению при дворе. Разговор с дедом отличался крайней сердечностью. От Франца-Иосифа скрывали опасную болезнь внука; император был уверен, что все ограничивается обыкновенной простудой, и добродушно сказал ему:
— Это к росту! В твои годы я был подвержен лихорадке и приступам слабости. Такие пустяки проходят сами собой.
Он был далек от мысли, что медленная, лукавая смерть неизбежно подкрадывается к юноше. Прощаясь с ним, внук выразил желание пройтись по дворцовым галереям, где уже не был давно. Он сделал это в надежде встретить юную чтицу на ее посту в одной из галерей. Но напрасно молодой человек обошел все галереи под предлогом, что он желает полюбоваться собранными здесь сокровищами искусства: ему так и не удалось увидеть Лизбет. Он не смел спросить о ней и со стесненным сердцем, с мрачным предчувствием уехал обратно в Шенбрунн.
Приближаясь к дворцу, принц вспомнил о предстоящем свидании с двумя французами в гостинице «Роза». Хотя с его стороны было несколько рискованно являться туда без провожатых, однако он не колеблясь направился в ту сторону. Грум и доктор покинули его, проводив до императорской резиденции. Они думали, что герцог вернется оттуда в сопровождении кого-нибудь из дворцовых служащих. Но он нашел это лишним и остался один, на свободе, которою не пользовался уже так давно. Таким образом принц без помехи достиг знакомой аллеи парка, которая вела к помещению Фридриха Блума, и нашел этого малого в коридоре как будто стоящим на карауле.
— Ваше высочество, — сказал Блум, — какие-то двое иностранцев непременно хотели войти сюда, уверяя, будто вы назначили им свидание. Я побоялся оставить их одних и не уходил прочь.
— Ты хорошо сделал, Фридрих, — ответил принц. — Оставайся у дверей; если ты невзначай понадобишься мне, то я позову тебя.
Сын Наполеона вошел в комнату. Двое мужчин, ожидавших его, встали и почтительно поклонились. Он пригласил их пройти в комнату рядом, чтобы познакомиться с целью их миссии. Ему не хотелось, чтобы комната, где он столько раз встречался с Лизбет, оказалась занятой, если молодая девушка, получив его записку, отправленную с Карлом Линдером, явится на условленное свидание.
Приезжие представились герцогу. То были ла Виолетт и Андрэ Лефевр. Они поочередно объяснили, что из-за недавних событий в Париже победоносный народ терпел наместничество герцога Орлеанского и, пожалуй, его временное возведение в сан конституционного короля. Но сыну Наполеона предстояло сыграть важную роль, занять важное место. Для этого ему надо вернуться во Францию, назвать свое имя, явиться перед французами и вызваться продолжать наполеоновскую традицию. Одной памяти его отца, блеска его славы было достаточно для того, чтобы затмить буржуазную известность Людовика Филиппа. Весь народ провозгласит тогда своим главой Наполеона II; для этого ему достаточно только объявить себя законным наследником великого императора.
Андрэ, со своей стороны, утверждал, что ему как студенту было известно настроение учащейся молодежи. По его словам, значительная часть образованного класса в Париже находила, что бонапартистская партия должна действовать и служить представительницей вооруженной республики, республики торжествующей. Молодой человек прибавил, что на собраниях карбонариев, к союзу которых он принадлежал, ему удалось приобрести многочисленных приверженцев. Карбонарии располагали значительным числом сторонников, особенно в военных гарнизонах. Если бы герцог Рейхштадтский смело явился в любой пограничный город Франции, например в Гренобль, Безансон или Страсбург, то каждый из этих городов не только отворил бы перед ним ворота и провозгласил бы его правителем Франции, но еще доставил бы надежный контингент солдат, признание которых вскоре повлекло бы за собой признание его всей армией. Стоило лишь двум полкам в Гренобле и Страсбурге примкнуть к нему, чтобы все, носившие оружие во Франции, кинулись навстречу Наполеону II. Как в былое время из старых ранцев были бы немедленно извлечены тщательно сохраненные орлы.
Ла Виолетт ручался герцогу Рейхштадтскому в содействии всего, что было еще энергичного и доблестного среди старых солдат его отца. Все страдавшие от гнетущего режима реставрации, все ненавидевшие монархию Бурбонов, все взявшиеся за оружие во время трех славных июльских дней, выстроились бы за ним и доставили бы ему нравственную и материальную силу, достаточную для ниспровержения временного и непрочного трона Луи Филиппа.
Герцог внимательно выслушал эти предложения. Он поблагодарил двоих храбрых французов, которые наперекор австрийской полиции, весьма подозрительной, сумели добраться до него и представить ему чаяния и желания его сторонников во Франции, но выразил при этом сожаление, что они подвергались ради него такому риску. Он сказал, что более кого бы то ни было уважает славу и традиции своего отца, чтит смерть этого знаменитого воина и с умилением вспоминает тот момент, когда отец обнимал его в последний раз перед походом в Россию. Он любил своего отца; от него долго скрывали историю великого императора, но теперь она ему известна в подробностях; он знал, при каких обстоятельствах Наполеон был вынужден отречься от престола, бежать и отдаться во власть Англии, которую считал справедливой. Далее принц сказал, что не хочет начинать снова политическую авантюру, неудавшуюся его отцу. Разве он мог бы преодолеть сопротивление палаты депутатов? Как мог бы он противодействовать давлению общественного мнения, уже расположенного в пользу герцога Орлеанского, в котором видели наилучшую власть? Какие ресурсы в смысле людей, денег мог бы он положить на весы против того, кому финансисты, политические деятели, генералы, дипломаты вверили корону и судьбу Франции? Он присутствовал на приеме маршала Мэзона, французского посланника, имел случай беседовать с его приближенными и узнать, что Бурбонами тяготились: но монархия, совершенно новая, слывшая конституционной, не успела еще вызвать ни невыгодное сравнение, ни обвинения, ни враждебность к себе. Поэтому он полагал, что будет прямым истолкователем воли своего отца, отказавшись возобновить междоусобицу во Франции. Страна только что оправилась от жестоких судорог июльской революции. Неужели он должен принести новые элементы несогласия, ненависти, борьбы? Если бы его отец был жив и мог дать ему совет, го, конечно, заставил бы его отказаться от такого смелого предприятия, которое могло быть гибельным.
— Разве ему не предлагали, господа, — с грустью сказал принц, — бежать из этой ужасной тюрьмы на острове Святой Елены, где он терпел бесчисленные оскорбления от англичан? Однако он не пожелал вернуть себе трон ценой новых кровавых смут в своей стране и в целой Европе. Мой отец предпочел терпеливо переносить свое мучение и ради спасения многих драгоценных жизней отверг всякий план побега.
— Да, я знаю это, ваше высочество, — подтвердил ла Виолетт, — ведь я сам ездил на остров Святой Елены и даже был одним из тех…
Он не успел договорить. Герцог Рейхштадтский пылко схватил его за руки и с глубоким волнением спросил:
— Так вы были на острове Святой Елены? Вы видели моего отца?
— Я имел эту честь и счастье, как и вот этот мальчик, ваше высочество.
— Как? Этот молодой человек?! — воскликнул удивленный принц, с любопытством всматриваясь в Андрэ.
Тогда студент, проворно вынув из кармана какой-то маленький предмет, сказал:
— Ваше высочество, я был в то время еще ребенком, но и на мою долю также выпало счастье увидать великого Наполеона. Он даже дал мне поручение к вам.
— Ко мне?
— Взгляните на этот портрет, ваше высочество. Он дал его мне с просьбой, чтобы я… О, но вы отдадите мне его обратно? Император велел мне показать его вам и передать при этом, что он горячо любил вас!
Герцог схватил табакерку, данную Наполеоном юнге Нэду-Андрэ при встрече с ним на тропинке, которая вела в Лонгвуд, и благоговейно поцеловал миниатюру, представлявшую императора в его бессмертном костюме, после чего долго всматривался в черты великого человека, кровь которого текла в его жилах. Затем он снова пожал руки Андрэ и ла Виолетта, прося их подробно рассказать обо всем виденном и слышанном ими на острове Святой Елены. Он жаждал узнать, как чувствовал себя его отец во время их пребывания там, как выглядел император, а, главное, что говорил он о нем. Ла Виолетт мог рассказать ему лишь очень немногое, потому что, как он тут же объяснил, все его встречи с пленным ограничились тем, что он видел великого императора и приветствовал его лишь однажды мельком и издали, так как надзор англичан не позволял приближаться к нему. Только Андрэ, которого ла Виолетт представил принцу как внука одного из храбрейших маршалов империи, Лефевра, герцога Данцигского, имел случай разговаривать с императором. Тронутый его отроческими летами и миловидностью, царственный изгнанник подарил ему на память свой портрет, сказав, что, может быть, со временем, попав в Вену, он увидит его сына и будет иметь возможность поговорить с ним об отце…
Волнение герцога было глубоко, но он вдруг преодолел свои чувства и, прижав руку к груди, дабы унять жестокое сердцебиение и расстройство, сказал с некоторой тревогой в голосе:
— Друзья мои, мои дорогие друзья! Вы не можете себе представить, какое счастье доставили мне свидание с вами и ваши рассказы о моем отце! Но именно из дружбы и благодарности к вам надо действовать быстро и решительно. Вам нельзя здесь оставаться. Ваше присутствие неминуемо будет замечено, и у вас не окажется никакого средства защиты, если вас станут допрашивать и арестуют. Вам угрожают самые суровые наказания, назначенные для заговорщиков и лиц, виновных в посягательстве на безопасность государства. В случае такой беды я был бы бессилен защитить вас; мое вмешательство даже повредило бы вам, возбудив против вас месть врагов. Вы должны покинуть Вену. Вы даете мне слово?
— Ваше высочество, нам нужно исполнить миссию, взятую на себя, — возразил ла Виолетт. — Отправляясь сюда, мы знали заранее, чему подвергаемся. Мы имели уже великое счастье приблизиться к вам, ваше высочество, а теперь нам необходимо оставаться здесь до тех пор, пока вы соизволите принять окончательное решение.
— Оно уже принято бесповоротно, друзья мои. Прошу вас еще раз, а если надо, то и приказываю: уезжайте безотлагательно из Вены.
— Ваше высочество, — сказал Андрэ, — нам поручено привезти вас в Париж! Почему вам не отозваться на желание тысяч французов, призывающих Наполеона Второго?
— Если вы настаиваете на прямом и ясном ответе, который, может быть, заставит вас повиноваться мне и немедленно вернуться в ваше отечество… в наше отечество, друзья мои, — продолжал принц, — то я отвечу вам откровенно и чистосердечно: «Нет, я не последую за вами!» Я люблю Францию, я желаю ей счастья; я не чувствую себя способным насильно овладеть троном, которым распорядились помимо меня. Я не хочу, чтобы из-за меня лилась кровь французов… Луи Филипп стал французским королем по воле нации. Пусть воля нации отвернется от него и прикажет мне приехать, тогда я приеду… Сын Наполеона не может уклониться от исполнения приказаний народа, но нужно, чтобы народ заговорил и приказал! Нет, вы не осмелитесь мне поклясться, что мое имя было предложено народному голосованию! Меня попросту забыли. Не мне же самому напоминать о себе французам! Вы предлагаете мне завоевать для себя трон; но я должен дождаться, когда мне предложат его. Затем, друзья мои, позвольте сделать вам одно признание: так как вы видели моего отца, так как вам, — сказал герцог, обращаясь к Андрэ, — он сам поручил передать мне этот портрет… ведь он останется у меня, не так ли?
— Ваше высочество, — пробормотал студент, — я желал бы сохранить это сокровище ценой моей жизни, но мне кажется, что император вручил его мне с затаенной мыслью, чтобы я передал вам этот подарок, если судьба велит нам когда-нибудь встретиться. Оставьте же, ваше высочество, у себя этот портрет, и так как вы не желаете последовать за нами теперь, то, может быть, созерцая черты своего великого отца, вы перемените свои взгляды и тогда вспомните о нас, подадите нам знак… Только бы это не случилось слишком поздно!
— Не рассчитывайте на мой призыв, — мрачным тоном ответил принц. — Я говорил сейчас, что хочу сделать вам одно признание как моим дражайшим друзьям. Так вот послушайте! Помимо политических и гуманитарных соображений, мешающих мне играть роль авантюриста и проникнуть во Францию под видом заговорщика, хотя бы это привело меня победителем в Тюильри, существует иная причина, заставляющая меня упорствовать в своем отказе. Эта причина… не читаете ли вы ее в моих чертах, в моей внешности? — продолжал герцог, бледность которого в этот момент была поразительна.
— Но, ваше величество, я, право, ничего не замечаю! — пробормотал смущенный ла Виолетт.
— Ну так знайте, мои дорогие соотечественники, мои дорогие друзья из Франции, что через несколько месяцев меня не будет в живых. Вот тут, у меня в груди, тлеет огонь, и скоро вы услышите, что сын Наполеона присоединился к своему славному отцу!
— Гоните прочь эти мрачные предчувствия, ваше высочество! Вы будете жить! Вы молоды, и Франция ожидает вас; вы составляете предмет ее упований! Не поддавайтесь унынию!.. Такие безотрадные помыслы недостойны сына Наполеона!
— Я знаю, что говорю, друзья мои, как знаю, что чувствую! Мне не следует на остаток жизни, которую я влачу, подвергать Францию новой революции. По-моему, упорствуя в своем отказе, оставаясь тут в своем уединении, я принесу больше пользы этой нации, которую люблю и среди которой, на берегах Сены, мой отец желал быть погребенным. Итак, повторяю опять, нам пора расстаться. Что могу я сделать для вас? К несчастью, ничего! Постойте, однако! Вы дали мне портрет моего отца; я должен дать вам взамен другую реликвию. При мне есть несколько строк, написанных рукой моего отца и переданных мне давно моей доброй гувернанткой госпожой де Монтескью. Возьмите этот драгоценный документ; он послужит доказательством для наших друзей во Франции, что вы исполнили свою миссию и возложенный на вас долг до конца.
Принц вынул из бумажника тщательно сложенное письмо, содержавшее в себе предписание, данное Наполеоном сыну, когда тот был еще ребенком, и оставшееся как наставление в руках госпожи де Монтескью. Оно гласило: «Я хочу, чтобы мой сын, если ему суждено со временем вступить на французский престол, управлял государством только для народа и заодно с народом. Я хочу, чтобы, получив после меня трон, как законный наследник по крови, он никогда не забывал, что поддерживать его должна лишь воля народа, и не делал ничего наперекор этой народной воле. Наполеон». То же самое, почти в тех же выражениях, повторил император в своем завещании.
Герцог поднес бумагу к губам, прежде чем расстаться с нею, после чего, подавая ее Андрэ, с волнением произнес:
— Вверяю вам это наставление, друзья мои. Мне кажется, что воля французского народа такова, чтобы я оставался в Вене. Передайте своим друзьям, что я останусь тут, но что мое сердце и моя любовь с ними, в пределах Франции. Скажите им в особенности, что здесь, в стенах этого дворца, полного воспоминаний о моем отце, который ночевал тут победителем, я думаю только о Франции, но скажите также, что я сумею подчиниться народной воле. Она не высказалась в мою пользу! Может быть, время еще не наступило, и не мне суждено восстановить имя и династию Наполеонов. Господа, мы должны ждать, не ускоряя взрыва этой народной воли, который я предвижу, угадываю, но которым не могу распоряжаться. Долг сына Наполеона и тех, кто носит наряду с ним это прославленное имя, — желать счастья Франции и уважать правительство, которое она избрала себе. Наполеон Первый не согласился последовать за вами с острова Святой Елены из боязни превратиться в авантюриста; Наполеон Второй и подавно не последует за вами из Вены, чтобы сделаться мятежником. Прощайте, господа, время не терпит. Поспешите с отъездом! Пожалуй, завтра будет слишком поздно!
Герцог еще раз с большим чувством пожал руку обоим французам, потом, открыв дверь, проводил их до коридора. Фридрих Блум не покидал своего поста. Принц шепотом велел ему как можно осторожнее и скорее проводить этих приезжих к ним на квартиру и позаботиться о том, чтобы они могли беспрепятственно в тот же вечер покинуть Вену. Фридрих поклонился и дал ла Виолетту и Андрэ знак следовать за ним. Они повиновались, глубоко огорченные неудачей своей миссии и гораздо более встревоженные состоянием здоровья царственного юноши, чем опасностью, которой они подвергались со стороны бдительной венской полиции.
XI
Оставшись один, герцог Рейхштадтский с беспокойством спросил себя, почему Лизбет не явилась на свидание и что помешало ей прийти. В сомнениях влюбленных материальная невозможность увидаться с ними, принуждение, физическая преграда, а в особенности болезнь приходят на ум только напоследок. Из-за недоверчивости своего характера принц заподозрил Лизбет в равнодушии; вначале она, может быть, страдала от того, что он покинул ее поневоле, потом, с досады вообразив себя нелюбимой и зная теперь, кто он такой, она, вероятно, охладела к нему сама; пожалуй, даже ненависть сменила в ее сердце прежнюю любовь.
Открытие его звания, конечно, подействовало на Лизбет. Она мечтала о взаимности человека, равного ей по общественному положению. Узнав, что брак между ними невозможен и что рано или поздно она будет разлучена с любимым человеком по высочайшей воле или по требованиям его высокого сана и положения при дворе, или же, наконец, по причине его брака с какой-нибудь принцессой, молодая девушка отказалась от своих химерических надежд, отрезвилась от любви, которую питала только к скромному секретарю Францу и на которую внук императора не имел никаких прав.
— Верно, так оно и случилось, — заключил герцог. — Раздраженная моим молчанием, не зная причин, разлучивших нас, подвергаясь, пожалуй, гонениям матери, подозревая преднамеренный разрыв с моей стороны, Лизбет порвала с прошлым: она постаралась забыть меня, а когда я послал к ней Карла Линдера с просьбой прийти сюда, как прежде, обиженная девушка не удостоила меня даже ответом. Что-то она поделывает, что с нею? Надо же, однако, узнать?
Беспокойство, сомнение, сожаления мучили принца. Он испытывал новое, незнакомое и мучительное страдание. Никогда еще не случалось ему чувствовать такое расстройство во всем своем существе, такой нравственный разлад, которые угнетал его теперь. Совсем иные чувства питал он к придворным дамам, так легко поддававшимся ему. Чем более казались они готовыми уступить его ухаживанию, тем меньше они нравились ему. Когда после краткого увлечения наступал внезапный разрыв, это не вызывало у герцога ни боли, ни даже разочарования; он вскоре чувствовал себя избавленным от тяжелой обузы. Но здесь привязанность была совсем иной. Если невинная Лизбет любила в нем Франца, секретаря эрцгерцога, то он, со своей стороны, полюбил эту молодую девушку, не знавшую, что она любит принца и принадлежит сыну Наполеона. Ее бескорыстие завоевало сердце царственного юноши и приобрело его уважение. Чувства, которые он приписывал теперь Лизбет, избегавшей и, пожалуй, ненавидевшей его с тех пор, как ей стало известно, кто он, увеличивали горечь разлуки, тревогу неизвестности, отчаяние разрыва.
— Надо же, право, узнать, в чем дело, — сказал себе герцог, — мне необходимо повидаться с ней, потолковать; но как?
Он потихоньку спустился по маленькой лестнице, которая вела из комнаты Фридриха в сад гостиницы «Роза», и решил отправиться к матери Лизбет. Но тут же у него возникло сомнение: можно ли ему явиться без провожатых в тот дом в предместье Асперн, не лучше ли взять кого-нибудь с собой? Или же всего благоразумнее собрать все интересовавшие его сведения через постороннее лицо? Тут ему вспомнился малый, которого он уже посылал со своим письмом, и, увидав как раз Карла Линдера, бродившего вокруг гостиницы, он позвал его.
— Ты добросовестно исполнил вчера мое поручение? — спросил он.
— Да, ваше высочество, я отдал одному из привратников во дворце записку к лектрисе фон Лангздорф. Швейцар, очевидно, знающий эту особу, взял письмо и сказал, что передаст его лакею из тех комнат, где должна была находиться фрейлейн фон Лангздорф.
— Хорошо, — сказал герцог, — теперь ты отправишься со мной, если хочешь, и пойдешь, куда я пошлю тебя.
— С удовольствием, ваше высочество!
И повеселевший Карл Линдер последовал за герцогом, которого не покидало мрачное раздумье. Сопровождая его, добрый малый подумал: «На этот раз мое дело в шляпе. Я получу место сторожа в Шенбрунне!»
Таким образом они добрались вдвоем до Асперна, и герцог указал своему спутнику дом вдовы фон Лангздорф, причем сказал ему:
— Ступай в этот дом и спроси у дамы, которая откроет тебе дверь, вон там в верхнем этаже, как поживает ее дочь.
— От чьего имени? — осведомился Карл.
— Скажи, что ты послан хозяином гостиницы Мюллером, у которого эта дама часто бывала со своей дочерью.
Карл тотчас пошел и скрылся в указанном доме, но вскоре вышел оттуда с расстроенным лицом.
— Ваше высочество, — сказал он, — я видел ту даму, к которой вы послали меня. Она в большом горе. Дочь при ней и опасно больна.
Герцог поднес руку к сердцу. Жестокая боль вызвала внезапное удушье, так что он едва устоял на ногах. Карл Линдер подхватил его и поддержал.
— Не прикажете ли позвать экипаж и отвезти вас во дворец, ваше высочество? — с тревогой спросил он.
— Нет, нет! Я хочу остаться! Ступай, любезный! Мне лучше, гораздо лучше. А главное, ни слова о нашей прогулке и о твоем посещении! Я сумею вознаградить тебя.
Сказав это, герцог вошел в дом.
Карл проводил его глазами, но не удалился и сказал себе при этом: «А бедняга принц что-то плох. Лучше я подожду его здесь. Может быть, когда он выйдет, то будет рад найти меня тут. Скромная, но твердая рука, вроде моей, часто может пригодиться и эрцгерцогу, если тот болен».
Госпожа фон Лангздорф приняла неожиданного гостя расстроенная, в слезах, с растрепанными седыми волосами, вся дрожа.
— Ах, ваше высочество, — воскликнула она, — вас уже не ожидали больше здесь увидеть! Однако моя бедная дочь часто звала вас в бреду лихорадки!
— Что с нею? Что случилось с фрейлейн Лизбет?
— Она заболела почти три месяца тому назад, ваше высочество! Странная болезнь: упадок сил, слабость, обмороки. Мы долго думали, что это скоро пройдет, но больная окончательно обессилела, и уже несколько недель не встает с постели, обливаясь холодным потом по ночам, а днем горя в лихорадочном жару.
— Ах, бедное дитя! — пробормотал герцог. — Могу ли я видеть ее?
— Да, конечно. Войдите, пожалуйста. Она заснула ненадолго, но когда проснется, то будет очень счастлива увидеть вас, ваше высочество. Может быть, ваше присутствие немного ободрит ее и принесет ей надежду.
С этими словами госпожа фон Лангздорф повела принца в комнату, где на постели лежала молодая девушка. Ее сон был беспокоен, дыхание тяжело; обильный пот выступал крупными каплями на лбу, щеки покрывала страшная бледность, а бесцветные губы лепетали, казалось, что-то бессвязное… Герцог наклонился над нею и явственно разобрал несколько слов, произнесенных больной прерывистым шепотом, в лихорадочном забытьи:
— Он не придет! Он забыл меня! Я умру и не увижу его!
Вдруг руки Лизбет свело судорогой, она вся задрожала, потом успокоилась, и ею овладело глубокое изнеможение…
Принц долго не спускал взора с любимой девушки. Он сознавал свое бессилие восстановить ее здоровье и возле этого смертного одра как будто уже почувствовал ледяное дыхание смерти, предвещавшее скорую гибель ему самому. Лизбет полуоткрыла наконец глаза; она узнала Франца, своего Франца и, стараясь приподняться, промолвила с улыбкой на бледных губах:
— Вот и вы наконец! Я так долго поджидала вас, мой друг!
— Дорогая Лизбет, — ответил юноша, — я в отчаянии, что нашел вас больной; но если вы так долго не видали меня, то причиной тому — болезнь, уложившая меня в постель и продержавшая много времени взаперти. Но теперь мне лучше; сегодня я смог вырваться тайком из дворца и пришел уверить вас, что не переменился к вам, что я нетерпеливо жду вашего выздоровления, чтобы снова начать наш прежний образ жизни, возобновить наши долгие прогулки, наши интересные разговоры. Не так ли, милая Лизбет?
Молодая девушка снова улыбнулась, но, покачав головой, ответила:
— Благодарю, Франц, благодарю, что вы пришли!.. Или скорее не так! — продолжала она с какою-то боязнью, причем легкий румянец окрасил ее щеки. — Благодарю вас, ваше высочество! Однако простите меня! Я сильно усомнилась в вас и потеряла надежду когда-нибудь увидеться с вами. Теперь я могу умереть счастливой.
— Не говорите о смерти, дорогая Лизбет, прошу вас! Вы будете жить! Вы молоды, и жизнь готовит вам еще долгие и счастливые дни!
— Нет, нет, я чувствую, что не видать мне больше деревьев, под тенью которых мы прогуливались вместе, не слыхать больше от вас того, что вы когда-то говорили мне, Франц, и чего я не забыла, что останется моим утешением до конца моей жизни и укрепит меня при расставании с нею.
— Полноте, Лизбет, образумьтесь! — воскликнул герцог, притворяясь спокойным. — Вам двадцать лет, вы чувствуете в себе силу, энергию. Эта болезнь пройдет, скоро наступит выздоровление, а там и полное исцеление. Вы сделаетесь счастливой, как прежде, уверяю вас!
— Не обманывайтесь, мой друг! Я хорошо знаю, что для меня все кончено, и, знаете, с вашим приходом сюда я чувствую себя лучше и в то же время хуже. Мне кажется, что мои силы воскресли и я сейчас встану, но вместе с тем я замечаю, как все во мне как-то замирает. Глаза невольно смыкаются, а вот тут… тут… — она поднесла руку к груди, — я совершенно ясно ощущаю какое-то замедление, остановку, наступающую во всем моем существе. Постойте… вот, вот! Я не чувствую больше ничего! Я счастлива… прощайте…
И, внезапно откинувшись на подушку, Лизбет умерла. Смерть сразила ее улыбающейся. Испуганный герцог, сжимая ее руку, наклонился над нею, поцеловал ее, а потом, видя, что молодая девушка лежит неподвижно и что из ее груди к устам поднимается подобие глухого рыдания, последний вздох, он упал на колени у кровати. Тут он долго плакал, закрыв лицо руками. Опомнившись наконец от своего оцепенения и встав с колен, он сказал госпоже Лангздорф:
— Я убит горем, еле жив сам, почти похож на бедную Лизбет, голоса которой мы не услышим более! Ах, это зрелище ужасно, и это самый горький час в моей жизни! Как возможно, что юные существа, любящие и кроткие, как Лизбет, похищаются смертью, неумолимой и жестокой? Ах, сударыня, наше обоюдное горе одинаково, но я не знаю, что делать, на что решиться! Мне надо спешить обратно во дворец. Я не имею права даже оплакивать на свободе ту, которую любил! Мои собственные силы также на исходе. Я не могу отдать себе отчет в своих ощущениях, но мне кажется, что смерть ждет и меня. Лизбет призывает меня! Лизбет, моя Лизбет, я готов присоединиться к тебе… Я иду! Почему не подождала ты меня, чтобы нам умереть с тобою вдвоем?
Пошатываясь, спотыкаясь, герцог скорее упал, чем сел в кресло, стоявшее поодаль от кровати. Испуганная госпожа Лангздорф хотела позвать соседей; но молодой человек с усилием взял ее руку и сказал:
— Ради Бога, молчите! Никто не должен знать, что я приходил сюда. Мне пора домой. Вернувшись во дворец, я распоряжусь, чтобы Лизбет устроили приличные похороны. Потрудитесь уведомить письмом придворного церемониймейстера. Тогда роковая весть как будто случайно дойдет до меня, и я приму уже свои меры. Итак, не падайте духом и прощайте!
— Но, ваше высочество, не могу ли я попросить кого-нибудь проводить вас, не выдавая вашего имени?
— Нет; я хочу побыть один, чтобы вспомнить о прошлом и оплакивать настоящее. По возвращении в Шенбрунн мне уже нельзя казаться огорченным, обнаруживать свою печаль, нельзя даже открыть кому бы то ни было ее причину. Предоставьте мне еще несколько минут свободы, чтобы я мог отдаться своему горю!
Принц медленно, с трудом, спустился с лестницы, останавливаясь время от времени, чтобы откашляться, и прижимая руку к груди, где бурно и неровно билось его сердце. На улице он, к своему облегчению, нашел Карла Линдера, взял его под руку и кое-как добрался до Шенбрунна. Придя к себе в комнату, больной пожаловался на сильный озноб; зубы у него стучали, капли пота катились по вискам. Немедленно вызванный доктор предписал энергичное лечение. Но принцем овладело нечто вроде бреда, и люди, ухаживавшие за ним, слышали, как он произносил странные речи, где названия мест для прогулок перемешивались с женским именем. Герцог обвинял доктора в том, что тот поит его жгучими лекарствами, он пытался встать и, обычно крайне кроткий с прислугой, сердился на лакеев, отталкивая с гневом все склянки, подносимые ему. Несчастный юноша бросил даже в лицо остолбеневшему врачу такое странное обвинение:
— Все вы хотите отравить меня!
Болезнь на этот раз тянулась долго. Пришлось объявить при дворе об опасном состоянии принца. Был поднят вопрос о его поездке в Италию, но после тщательного осмотра всякий переезд признали невозможным. Больной таял с каждым днем; было очевидно, что он протянет недолго.
О безнадежном положении сына дали знать Марии Луизе в Парму. Она тотчас выехала оттуда и прибыла в Вену в торжественную и трагическую минуту. Принцы императорского дома должны принимать предсмертное причащение в присутствии всего двора, И вот, когда эрцгерцогиня Пармская вступила во дворец в сопровождении французского дворянина, обладавшего любезными манерами и улыбавшегося во все стороны, некоего господина де Бомбеля, преемника Нейпперга, которого шепотом называли уже морганатическим супругом Марии Луизы, она увидала архиепископа Михеля Вагнера в полном облачении перед постелью еле живого принца, со Святыми Дарами в руках. Весь двор выстроился, как на парад, в спальне умирающего и в примыкавших к ней апартаментах. По окончании священного обряда эрцгерцогиня наклонилась к сыну, поцеловала его и спросила, лучше ли ему после причастия.
— Да, да, матушка, — ответил он еще твердым голосом. — Но когда же наступит конец моему тягостному существованию?
После того, как будто утомленный усилием над собой, герцог опять опустился на подушки, не сказав больше ни слова. Мать осталась при нем.
Около полуночи он внезапно приподнялся на постели с возгласом:
— Я умираю! Умираю!
Дежурный камергер, барон фон Молль, и лакей, не покидавший больного, обняли его, стараясь поддержать, потому что он рвался куда-то. Мать бросилась к нему со словами:
— Сын мой, сын мой, успокойся, ложись!
— Нет, нет, матушка! — возразил герцог. — Я хочу видеть Лизбет! Где Лизбет?
Мария Луиза бросилась к нему и старалась поцеловать его.
Однако в этот момент умирающий воскликнул:
— Прощайте! Я иду к моему отцу!
Архиепископ Вагнер поспешно вернулся, когда его уведомили, что наступают последние минуты принца. Он хотел преподать ему последнее благословение, но смерть опередила его; герцог Рейхштадтский уже не мог ничего слышать. Было восемь минут шестого 22 июля 1832 года.
Болезнь, а может быть и отрава (потому что выпитое принцем снадобье еврея Мельхиседека не подвергали химическому анализу и история может занести на свои страницы лишь подозрения в возможности отравления с помощью какого-нибудь темного агента) совершили таким образом свое страшное дело к вящей славе Священного союза и к успокоению взволнованной деятельностью Наполеона Европы. Европейские монархи избавились от своего кошмара, а в Шенбруннском дворце закончились муки отца и ребенка. Династия Наполеонов была погребена в двух могилах. За гробом, уравнивающим все состояния, Лизбет и Франц соединились.
* * *
Перед смертью, во время долгих недель агонии, герцог Рейхштадтский призвал к себе однажды Мюллера и его дочь Эльзу. Он сообщил им, что по его просьбе управляющий дворцом ввиду открывшихся вакансий принял на службу троих новых сторожей — Карла Линдера, Альберта Вейса и Фридриха Блума. Получив одновременно должность, которую Мюллер ставил непременным условием своего согласия на брак с его дочерью, трое соперников очутились в одинаковом положении. Фридрих Блум и Карл Линдер оказывали герцогу услуги. Альберта Вейса ему настоятельно рекомендовала графиня Наполеона Камерата, умоляя своего кузена простить ее чудачество и переодевание в память его великого отца. Не желая отдать никому из них предпочтения, герцог предоставил выбор жениха самой Эльзе. Она поблагодарила его и сказала, что не спешит с замужеством, а потому намерена отложить свое окончательное решение до следующей весны.
По приказу канцлера Меттерниха полиция произвела обыск в лавке старьевщика Мельхиседека. Агенты явились туда, чтобы арестовать некую Рахиль, проживавшую у старого еврея, которая в действительности была Лидией д'Орво, вдовой итальянского маркиза Люперкати. Однако полицейские нашли торговца мертвым в его лавочке, вероятно отравленным, а маркиза Люперкати скрылась.
Уильям Басерт покинул Вену с каким-то неизвестным назначением. По слухам, он вернулся в Италию, где примкнул к карбонариям и вскоре приобрел среди них большое влияние. Он по-прежнему переписывался с английскими министрами, которые посылали ему поздравления и субсидии, хотя лорд Басерт как будто не имел никаких служебных дел с британским правительством.
Андрэ вернулся во Францию с ла Виолеттом и, отыскав Анни, спросил ее, помнит ли она, простая маленькая лондонская цветочница, его прежние клятвы. Ответ последовал такой, что несколько недель спустя Анни и Андрэ соединились узами супружества. Люси Элфинстон, весьма счастливая, забыла отчасти свои огорчения при виде радости сына и счастья Анни.
* * *
Прах несчастного герцога Рейхштадтского был с большой пышностью предан земле в склепе церкви капуцинов в Вене, усыпальнице австрийского императорского дома. Через несколько дней после погребальной церемонии какой-то приезжий молодой человек, по-видимому иностранец, задумчиво остановился перед решеткою. Он долго смотрел на могилу того, кто в результате отцовского отречения от престола царствовал лишь фиктивно, под именем Наполеона II, принадлежавшем скорее легенде, чем истории. Иностранец вышел из церкви капуцинов, видимо взволнованный. Монах, сопровождавший его при посещении могилы сына Наполеона, слышал, как он бормотал вместо молитвы:
— Кузен, теперь ко мне переходит слава носить твое имя и восстановить трон, на который тебе было не суждено взойти. Я подниму бремя, ускользнувшее от тебя вместе с жизнью. Кузен, на этой могиле клянусь показать себя достойным того жребия, который делает меня твоим преемником и наследником!
Капуцин покачал головой, проводив до порога церкви посетителя, показавшегося ему немного сумасшедшим. Когда молодой человек удалялся, добродушный монах заметил полицейского агента, притаившегося на паперти и как будто наблюдавшего за приезжим. Капуцин спросил его, известно ли ему имя этого молодого человека, который бормотал какие-то неясные слова в часовне перед могилой его высочества усопшего герцога Рейхштадтского.
— Это — одно частное лицо, прибывшее из Швейцарии, — спокойно ответил агент. — Он называет себя гражданином Тургау. Субъект, по-видимому, довольно безобидный.
— А вы знаете его имя?
— Как же! Это Луи Наполеон.
* * *
Царствование «короля-гражданина», как звали все Луи Филиппа, представляло собой полное господство буржуазии. Девизом царствования было знаменитое «обогащайтесь». Сам Луи Филипп соответствовал идеалу короля буржуазии и отличался безусловно личной честностью; но власть плутократических интересов привела к тому, что никогда до тех пор продажность и развращенность высших сфер не обнаруживались с такой ясностью, как в это царствование. На жизнь короля было совершено множество покушений. Наконец министерство Гизо, бывшее эпохой полного застоя, подготовило февральскую революцию. 24 февраля 1848 года была провозглашена республика. Луи Филипп бежал в Англию, где и умер в Виндзоре в 1850 году. После смерти герцога Рейхштадтского роль представителя наполеоновских идей и притязаний перешла к племяннику великого императора Людовику Наполеону (1808–1873), третьему сыну голландского короля Людовика Бонапарта и королевы Гортензии. Когда престол Луи Филиппа стал колебаться, взоры бонапартистов невольно устремились к нему. И он уже в царствование Луи Филиппа сделал две попытки (в 1836 году и в 1840 году) захватить власть. Наконец, после падения Луи Филиппа, он снова явился во Францию, был избран депутатом учредительного собрания, затем был избран президентом республики и наконец в 1851 году провозгласил себя императором.

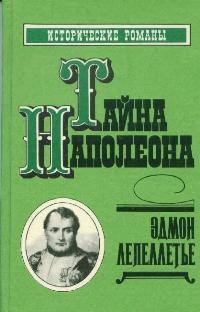
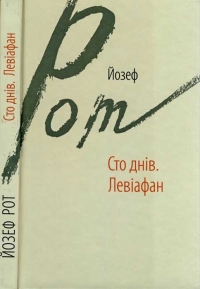





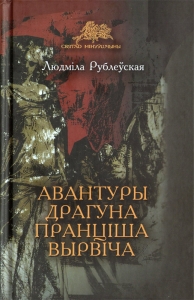
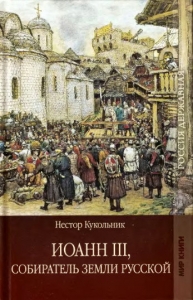
Комментарии к книге «Тайна Наполеона», Эдмон Лепеллетье
Всего 0 комментариев