Трагедия на Витимском тракте
Третья повесть из жизни Петра Анохина
Глава первая
«Недели три тому назад мы разговорились с Крыловым об охоте, и он познакомил меня с секретарем Дальбюро Анохиным, как страстным настоящим охотником. Дождавшись весеннего прилета уток и гусей, мы утром в прошлую субботу, ровно неделю назад, поехали на озеро Коморье. В одном экипаже поехали Крылов, Анохин и я за кучера… Во вторник мы закончили охоту и в среду выехали обратно… В шестом часу вечера, когда мы ехали в город по Витимскому тракту, на 33‑й версте мы вдруг услышали окрик «Стой!»…
Из показаний Станислава Козера 13 мая 1922 года.1
Вечером 11 мая 1922 года в Читинскую уездную милицию явился крестьянин села Телембы Емельян Кислов и передал дежурному записку, адресованную инспектору милиции Забайкальской области Антонову. На обрывке листа из школьной тетради химическим карандашом были тесно нанизаны крупные буквы: «Товарищи по охоте убиты. Я ранен. Нахожусь в зимовье Внукова. Станислав».
В ту самую минуту, когда оробелый мужик суетливо доставал из–за подкладки треуха записку, чтобы вручить ее дежурному, в соседней комнате помощник начальника уездной милиции Никанор Васильев собирался домой. Радуясь, что еще один хлопотливый день службы наконец–то окончен, он запирал ящики стола и в уме прикидывал, что сегодня он успеет, пожалуй, до ужина заняться домашними хозяйственными делами и тем самым положит предел ежедневным попрекам жены.
Поэтому, когда дежурный принес записку и Васильев бегло прочитал ее, он вначале не придал ей особого значения. Лишь подосадовал, что из–за каких–то незадачливых, наверняка одуревших спьяну охотников завтра ему придется выезжать на место и во всем этом разбираться.
Потом он обратил внимание на адрес, на загадочно доверительную подпись, и через две–три минуты со все нарастающей тревогой уже допрашивал мужика, составляя протокол.
Крестьянин знал немногое.
Сегодня рано утром он проезжал по Витимскому тракту мимо зимовья Внукова на сорок первой версте к северу от Читы. Там встретился ему раненный в ногу человек, который назвался милиционером Станиславом и велел вручить записку начальнику Забайкальской областной милиции Антонову. При этом он сказал, что два его товарища, с которыми они вместе были на охоте, убиты на 33‑й версте от города неизвестными бандитами в масках.
— Ты сам видел убитых? — спросил Васильев.
— Видел. Лежат вдоль канавы.
— Подпиши протокол.
Отпустив мужика и велев ему покуда не отлучаться из города, Васильев позвонил на квартиру Антонову.
По тому, как испуганно, прямо в трубку, ахнул инспектор областной милиции, он понял, что дело его совсем не рядовое и сегодня ему навряд ли удастся попасть домой.
Вскоре один за другим посыпалась телефонные звонки. От начальника уголовного розыска Фоменко, от директора госполитохраны Дальневосточной республики Бельского, из министерства внутренних дел.
В девять часов вечера Васильев в сопровождении полувзвода конных курсантов милицейской школы, под командой Алексея Кибирева, уже держал путь к месту происшествия.
По городу ехали скорым шагом, а за рекой Читинкой перешли на рысь. Долгое время дорога пролегала по ровной открытой местности, потом плавно, почти незаметно потянулась вверх, в перевалу через Яблоновый хребет. Кусты по обочинам стали гуще, и Кибирев приказал отряду принять боевой походный порядок. Вперед был выслан дозор. Быстро смеркалось, и вскоре отряд уже ехал в полной темноте.
На двадцать пятой версте, справа от дороги, показался слабый огонек зимовья. Спешившиеся милиционеры оцепили жилье. Васильев и Кибирев вошли а избу, чуть ли не битком набитую людьми, в основном — женщинами и детьми. Как выяснилось, несколько бурятских семей держали путь из Читы в селение Мухор–Кондуй, но, прослышав, что на тракте лежат двое убитых, не решались ехать дальше. Тщательная проверка документов не выявила ничего подозрительного, и отряд направился дальше.
Кибирев и Васильев ехали стремя в стремя, но за всю дорогу не перекинулись и десятком слов. Они мало знали друг друга. До недавнего времени Кибирев служил начальником Акшинской уездной милиции, привык к независимости и направление на учебу в Центральную милицейскую школу считал для себя делом совершенно излишним. Служба в уезде учит похлеще любой школы. Там знай поворачивайся, да не зевай, а что касается этой самой теории или тактики, то — пожалуйста, мы можем и по теории, коль так нужно. Жизнь и этому научила. Назначение в опергруппу Кибирев понимал как учетную практику и командовал полувзводом с полной мерой требовательности. Пусть–ка посмотрят, что в Акше тоже не лыком шиты!
Пожилой Васильев за два года службы в милиции тоже повидал всякого, научился ничему не удивляться и к каждому оперативному заданию, каким бы, на первый взгляд, значительным оно ни казалось, привык относиться как к рядовой работе. Он лишь добродушно усмехался в усы, слушая короткие, по–военному четкие команды Кибирева, который каждые полчаса менял дозорных и слишком уж заботился о бесшумности движения. Васильев был уверен, что нападения им опасаться не следует. Теперь все–таки не двадцатый год. Отряды Семенова и Унгерна давно уже вышвырнуты на территорию Китая и Монголии, а их организованные остатки, долгое время скрывавшиеся в лесах Западного Забайкалья, сейчас, слава богу, или повыловлены или сами вышли на милость властей после объявления амнистии. Конечно, судя по всему, убийство на 33‑й версте — дело рук белобандитов, но навряд ли в уезде есть сейчас сила, которая рискнет совершить нападение на отряд конной милиции.
Тракт спускался вниз, уже по другую сторону перевала. Кустарник на обочинах кончился. По обе стороны в темноте угадывался редкий, по преимуществу лиственный лес.
Чем ближе к цели — тем настороженнее Кибирев. Он считает километры и проверяет себя по каждому верстовому столбу. Васильева это начинает уже раздражать, но он сдерживается и послушно выполняет все команды, хотя и является в группе старшим. Он отлично понимает, что спешить все равно некуда — в такой кромешной тьме следствия не начнешь, а холодная ночь слишком длинна.
Было уже заполночь, когда лошади беспокойно запрядали ушами, потом, вытягивая вверх морды и слегка похрапывая, стали прижиматься к левому краю дороги.
Только что началась тридцать третья верста, и всем стало ясно, что отряд прибыл на место.
Убитые лежали в неглубокой канаве по правую сторону дороги. Посвечивая перед собой карманными фонариками, Васильев и Кибирев осторожно приблизились к ним и остановились в нескольких шагах.
Оба убитых были босы. Один, одетый в серый солдатский полушубок и черные суконные брюки, лежал на спине, головой на север. Второй лежал вниз лицом и был с головой укрыт простреленной романовской шубой. Неподалеку на дороге валялись две винтовочные гильзы и темно–синяя книжечка — удостоверение.
Кибирев хотел поднять документ, но Васильев остановил его:
— Нельзя! До подъема трупов нельзя!
Несколько минут прошли в молчании. Даже издали было видно, что убийство носило особенно зверский характер — множество шрамов, пулевых отверстий и запекшихся кровавых пятен. Убитых обыскивали. Все карманы у них вывернуты, ненужные преступникам вещи — носовые платки, портянки, расчески — в беспорядке разбросаны… Типичная картина уголовного бандитизма.
Васильев, не привыкший к поспешным выводам, уже готов был и считать ее таковой, как одна неожиданная деталь насторожила его. На левой руке Анохина (а Васильев уже понял, что вниз лицом лежит, вероятно, Анохин) в свете луча фонарика блеснули маленькие часики с металлическим браслетом. Неужели бандиты не заметили их? Возможно ли это? Не является ли вся эта картина заранее задуманной и не очень умелой подделкой под уголовное преступление?
Эта деталь не ускользнула и от внимания Кибирева.
— Как думаешь? — спросил он. — Уголовное или политическое?
— Рано гадать, — неохотно ответил Васильев. — Следствие покажет.
— Часы видишь?
— Вижу.
— Странные грабители! — в раздумье произнес Кибирев. — В карманах шарят, а часы на руке оставляют…
Васильев промолчал. Оставив возле места происшествия охрану из четырех милиционеров, он приказал отряду двигаться дальше.
2
Заимка Внукова на сорок первой версте — это небольшая в два оконца избушка, поставленная справа от тракта, посреди широкой безлесной лощины. Ее хозяин вместе с двадцатилетним сыном заготавливал для продажи дрова, сено, дичь, благо хватало вокруг и леса, и пойменных приозерных лугов, и удачливых мест для охоты. Приносила избушка и иную статью дохода. На многие версты вокруг она была единственным жильем, и всякий из путников, ехавших на Витим или обратно, считал нужным завернуть сюда, то ли на ночлег, то ли просто отдохнуть, лошадь покормить и самому попить чаю. Еще издали завидев спускавшуюся с хребта подводу, хозяин брался за самовар и редко его труды пропадали даром. Не в расчете ли на это так необычно прорубил он и низкие оконца, глядевшие на обе стороны тракта?
Эта обветшалая избушка сохранилась и в наши дни. Трижды переходила она из рук в руки, каждый раз теряя в цене, но старая традиция дорожного гостеприимства, хотя заметно и ослабевшая, все еще живет в ней.
В те далекие теперь годы зимовье Внукова было хорошо знакомо помощнику начальника уездной милиции. Съезжая на равнину, Васильев почти не сомневался, что расторопный и наблюдательный хозяин, если окажется на месте, сообщит ему немало важных для следствия сведений. Уж он–то, конечно, хорошо запомнил, кто и когда проезжал по тракту в день преступления. А главное, в заимке должен находиться уцелевший Станислав Козер…
Вновь, как и в первый раз, Кибирев провел оцепление избушки по всем правилам оперативного искусства. С карабинами наготове курсанты бесшумно приблизились к зимовью. Опять, как и на двадцать пятой версте, в заимке было полно народу. Но среди них не оказалось ни самого хозяина, ни Станислава Козера…
До рассвета Васильев и Кибирев опрашивали всех находившихся в заимке, проверяя документы и составляя протоколы. К утру выяснилась следующая картина. Сам хозяин зимовья болеет и более месяца живет в городе. Его сын Владимир Никанорович Внуков видел, как четыре охотника на двух «ходках» проехали в субботу в сторону Витима. Думая, что они сделают остановку, он сготовил для них самовар и вышел встречать. Но охотники проехали мимо. Через три дня они возвращались обратно, но уже втроем и на одной подводе. И опять они не зашли в зимовье, хотя, как видно, и собирались, так как у съезда к избушке остановились и о чем–то потолковали. За три дня никто из подозрительных по тракту не проезжал. Ездили все больше крестьяне. Правда, за день до приезда охотников, в субботу прикатил на велосипеде из города какой–то интеллигент, побегал по ближайшим озерам, добыл двух или трех уток и довольный укатил обратно.
Возвращались охотники на светло–серой лошади. Один кучерил, двое сидели в задке коробка. Видно, они торопились в город, так как кучер то и дело погонял лошадь.
Вечером, часов в девять, в зимовье неожиданно пришел раненный в ногу человек. Был он без сапог, в обмотанных вокруг ног изодранных портянках и сказал, что на них напали на тракте вооруженные люди. Свое ружье, обувь и шубу он бросил в лесу, чтоб было легче бежать, а о судьбе товарищей ничего не знал. Всю ночь он просидел в избе с наганом наготове и стонал от боли. Есть ничего не стал, только все время пил воду. Утром написал записку и послал ее в город с проезжим крестьянином, а сам направился на озеро Коморье, где, по его словам, остались два других его товарища.
В день убийства по тракту со стороны города и обратно в разное время проехало несколько крестьянских подвод. Поскольку все они останавливались в зимовье, молодой Внуков смог дать кое–какие о них сведения. Одних он знал по фамилии, других запомнил по названию деревни, по грузу на телеге или по масти лошади.
Особенно заинтересовал Васильева житель селения Мухор–Кондуй Николай Костиненко, который проезжал зимовье часов около семи–восьми вечера, то есть незадолго до появления раненого Козера. Ехал он на подводах вместе с Карболаем из Читы, которого молодой Внуков знал, так как жили они неподалеку, в Кузнечных рядах.
Когда начало светать, Васильев отправил на розыски Станислава Козера троих курсантов и попутно велел в Мухор–Кондуе найти и задержать для допроса Костиненко и Карболая. Сам он уже собирался вернуться к месту преступления, как из города на легковых автомобилях приехали товарищ министра внутренних дел Дальневосточной республики Иванов, директор госполитохраны Бельский, инспектор милиции Забайкальской области Антонов, военный врач Штейн и следователь по особо важным делам Фомин.
Васильев доложил обстановку. Антонов особенно нервничал и резко выругал его за то, что до сих пор не найден Станислав Козер. Он приказал немедленно же самому Васильеву отправиться на его поиски.
Однако на общем совещании было решено, что допрашивать Козера, Костиненко и Карболая целесообразней после тщательного осмотра места преступления.
В семь утра Фомин и Васильев приступили к расследованию на тридцать третьей версте.
Теперь, при свете дня все выглядело проще и бессмысленней. На убитых было обнаружено множество огнестрельных и холодных ран, нанесенных, по видимому, уже после их смерти. Темно–синяя книжечка, валявшаяся на дороге, оказалась пропуском для входа в здание госполитохраны. Никаких других документов у убитых найти не удалось. В лесу, слева от дороги, у обгорелых пней были обнаружены стреляные гильзы и обойма от японской винтовки, старый пиджак и пара рукавиц, принадлежавших злоумышленникам.
По другую сторону, на расстоянии восьмидесяти шагов, валялось двухствольное ружье с поднятым курком и выстреленным патроном в правом стволе. Потом, в глубине леса обнаружили серый солдатский полушубок с патронами в карманах и, наконец, в километре от тракта — ботинки.
Директор госполитохраны Лев Николаевич Бельский приехал на место происшествия мрачным и раздраженным.
Он близко знал погибших, был тесно связан с ними по делам службы, любил и уважал их. Убийство двух руководящих работников Дальбюро РКП(б), окажись оно политическим, накладывало прямую и непосредственную ответственность на госполитохрану. Но чем дальше шло следствие, тем как–то легче становилось на душе у Бельского. Он неторопливо и придирчиво осматривал каждую найденную вещь и все больше убеждался, что убийство, по внешним признакам, носит чисто уголовный характер, и совершено оно не политическими террористами, а грабителями. Он отлично сознавал, что до полного окончания следствия любые выводы могут оказаться преждевременными, но примитивно грабительский почерк происшествия не оставлял сомнений. Странным и настораживающим представлялось лишь поведение секретного сотрудника штаба Народно–революционной армии Станислава Козера, который по роду своей службы должен был бы заботиться в безопасности Анохина и Крылова. Допустим, ему удалось спастись… Но почему он, послав записку в Читу, не дождался приезда милиции и куда–то скрылся? Зачем ему при бегстве понадобилось бросать не только ружье и полушубок, но и легкие удобные ботинки? Неужели он так испугался? Надо как можно скорей проверить — не сделано ли все это с какой–либо иной целью?
Нельзя начисто отказываться и от такой версия, что убийство специально замаскировано под грабительское. У эсеров — легальных политических противников большевистской партии в ДВР — есть немалый террористический опыт, накопленный и в период борьбы с самодержавием, и в первые годы Советской власти в России. Подобный же прием могли избрать и члены какой либо тайной белогвардейской группы, связанной с остатками семеновских банд.
Возможен, наконец, и такой вариант, что убийство действительно совершалось уголовниками с целью грабежа, но было инспирировано и наведено хитрой рукой политических врагов.
Все это предстояло выверить, выяснить, исследовать и ничего не отвергать заранее…
Вот почему, когда на месте происшествия неожиданно для всех появился корреспондент Дальневосточного телеграфного агентства, Бельский, прежде чем ответить на его вопросы о целях злодейского убийства, надолго задумался.
Сложную гамму чувств пережил за это время инспектор областной милиции Антонов. В пятницу он дал Анохину и Крылову свою личную лошадь и повозку для поездки на охоту. Все эти дни жил в тревоге — так как подобные далекие отлучки ответственных людей были делом опасным. Когда Крылов пришел за лошадью, Антонов пытался намекнуть ему об этом, но тот лишь засмеялся в ответ: «До сих пор я думал, что бандиты должны бояться милиции, а оказывается, сама милиция считает по другому…» Охотники уехали. Антонов не успокоился и назавтра позвонил Бельскому в ГПО. Тот уже знал о поездке и лишь поинтересовался — тихо ли на Витимском тракте. Антонов ответил, что никаких происшествий там в последние месяцы не случалось.
Когда Антонов услышал вчера по телефону о записке Козера, с ним едва не случился удар. Черт его дернул ввязаться в эту историю, дать свою лошадь и повозку! Теперь, чего доброго, найдутся желающие припомнить, что он, Антонов, до 1919 года состоял в эсеровской партии… Все случившееся походило на какую–то мистификацию. Он сообщал по инстанциям, отдавал распоряжения, а сам беспрерывно думал о том, что подозрения против него обязательно возникнут, ибо он сам сказал Бельскому, что «на тракте все спокойно». Только дураку не придет в голову, что убийство таких политических деятелей, как Анохин и Крылов, не может быть делом простых бандитов. Тут наверняка должна быть замешана политика.
С таким тревожным, растерянным настроением и приехал Антонов на тридцать третью версту Витимского тракта. Тщательное обследование места происшествия обрадовало его и привело в немалое смущение. Действительно, все улики говорили за то, что убийство совершено с грабительской целью. Даже сохранившиеся на руке покойного Анохина маленькие часы–браслет, на которые прежде всего обратил его внимание Васильев, не показались Антонову достаточно веским доказательством противоположного.
С тревогой ждал он ответа директора госполитохраны на вопрос корреспондента.
Наконец Бельский произнес:
— Предварительные данные, которые имеются в нашем распоряжении, не дают пока возможности сделать каких–либо выводов о цели, с которой совершено убийство, а также о личности преступников.
— Даже предположительных? — удивился корреспондент.
— Даже предположительных…
Корреспондент был явно разочарован.
— Поймите, я проделал такой путь… Должен же я привезти хоть что–то… По–моему, ваш ответ поставит на страницах печати в весьма странное положение нашу милицию и госполитохрану.
Бельский пожал плечами.
— У меня, к сожалению, добавить нечего. Может быть, правительственный инспектор милиции, — повернулся он к Антонову, — захочет сказать что–то?
— Нет–нет. Говорить о чем–либо рано.
Через несколько минут неожиданная догадка осенила Антонова, и он поспешно отозвал Бельского в сторону.
— Лев Николаевич! Тебе часто приходилось встречаться с товарищем Анохиным?
— Да, конечно. А в чем дело?
— Одна любопытная вещь, если я не ошибаюсь… Да, да, теперь я отлично вспоминаю… У товарища Анохина были другие часы — золотые, карманные с дарственной надписью от Олонецкого губисполкома… Как это я не догадался сразу?!
— Ты считаешь, что эти часики не принадлежат ему?
— Вот именно! — воскликнул Антонов. — Теперь я уверен в этом.
— Ты не ошибся. Эти часы — не Анохина. Их мне доводилось видеть у его жены. Конечно, надо проверить. Но я почти уверен, что никакого подлога тут нет. Вероятно, на охоту он взял часы у жены.
— Но какой в этом смысл?
— Смысл есть. Во–первых, ручные часы удобнее. Во–вторых, золото всегда привлекает лишние взгляды. А в общем, в городе все сразу выяснится.
К десяти часам все было закончено. Местность обследована на значительном расстоянии, необходимые протоколы составлены и подписаны, убитые осторожно перенесены и размещены в автомобиле.
На коротком совещании было решено для выяснения новых обстоятельств направить в близлежащие селения и зимовья три оперативные милицейские группы. Дальнейшее ведение дела поручалось следователю по особо важным делам Фомину, а Васильеву Антонов приказал не возвращаться в город до тех пор, пока не будут разысканы и допрошены Козер, два других охотника и все крестьяне, проезжавшие 10 мая по Витимскому тракту.
3
Станислава Козера в селении Мухор–Кондуй не оказалось, но там ждали Васильева задержанные милицией Костиненко и Карболай, проезжавшие вечером в день убийства по Витимскому тракту.
При первом же допросе начали выясняться важные обстоятельства. Суетливый, услужливый Костиненко давал показания первым. Он охотно и с подробностями рассказал, как 6 мая собирался по хозяйственным делам в город, как ехал туда, как удачно запродал на базаре привезенное сено и безуспешно в течение трех дней торговал у одного знакомого новый плуг. На обратную дорогу нашелся попутчик. Карболай собирался в Мухор–Кондуй, чтобы купить для перепродажи сена. Выехали с утра 10 мая. На двадцать пятой версте кормили лошадей и вечером проезжали зимовье Внукова. Действительно, где–то поближе к зимовью, версте на 47‑й навстречу им попалось трое охотников на серой лошади, но никакой стрельбы потом они не слыхали и о нападении на тракте узнали вчера, когда в Мухор–Кондуй утром явился раненый и уговорил за деньги отвезти его на озеро Коморье. Не очень–то хотелось Костиненко вновь гонять усталую лошадь, но раненый прямо–таки умолял его и пришлось согласиться. А вот сегодня рано утром приехали милиционеры и ни с того, ни с сего взяли их с Карболаем под стражу.
Девятнадцатилетний Карболай вел себя на допросе по–иному. Прежде всего он оказался вовсе и не Карболаем, а жителем Кузнечных рядов в Чите Соколовым Николаем Александровичем, занимающимся извозом на собственных лошадях.
— Карболай — это у меня прозвище, — виновато улыбаясь, пояснил он. — Мальчонкой прозвали, так и не отстает…
Карболай почти слово в слово повторил все только что услышанное от Костиненко, и это сразу же насторожило Васильева. Как ни казался Карболай казаться спокойным, но в его выпуклых светло–синих глазах был заметен испуг.
— Я уже предупреждал, — сурово произнес Васильев, — что за ложные показания вы будете нести строгую ответственность. Вам понятно это?
— Да, — тихо ответил Карболай, зачем–то оглянувшись на дверь.
— Значит, между зимовьями на двадцать пятой и сорок первой версте вы с Костиненко никого, кроме охотников, не встречали?
— Нет, не встречали…
— И вы, значит, — повысил тон Васильев, глядя прямо в оробелые глаза допрашиваемому, — никого не видели ни на дороге, ни в стороне от дороги?
Карболай уже был явно растерян. Открыв с перепугу рот, он долго молчал, потом еще раз оглянулся на дверь и торопливым полушепотом произнес:
— В стороне я не говорил… В стороне вы не спрашивали.
Васильев подошел к двери, поплотнее притворил ее и сел на место, к широкому, выскобленному добела столу.
— Рассказывай все!
Карболай поспешно и сбивчиво стал рассказывать, что когда они перевалили хребет и стали спускаться, то впереди на обочине тракта он заметил идущих гуськом людей. Ему показалось, что были они с оружием. Как только они с Костиненко стали нагонять их, то неизвестные свернули влево с дороги и скрылись в кустах.
— Что за люди? Какие из себя? — записывая показания в протокол, спросил Васильев.
Всех Карболай не разглядел — далеко было, а двоих вроде бы приметил. Один высокий, тонкий, в защитной шинели и зимней шапке. Второй — среднего роста. Он–то и заметил подводы, оглянулся, и Карболаю показалось, что у него вроде бы рыжая борода, а одет он, как будто, в серую солдатского сукна тужурку. Карболай так перепугался, что сделал вид, будто никого не видел, даже отвернулся в другую сторону. Потом подхлестнул лошадь и поехал быстрее, благо дорога шла под гору. Костиненко отстал от него чуть ли не на версту и даже на глаз пропал за поворотом. А еще версты через две–три он и встретил охотников.
— Ты сказал им, что видел вооруженных людей.
— Не-е. Молча разъехались…
— Почему?
— Перепугался я. Я и охотников–то боялся. Кто их знает, кто они такие… Да и Костиненко меня отговорил. Он догнал меня к тому времени. «Зачем, говорит, нам с тобой ввязываться. По нынешним временам молчать, говорит, лучше».
— Значит, и Костиненко видел четверых на обочине?
— Не знаю. Может и видел. Когда он догнал меня, я сказал ему, что видел
— Так! — поднялся Васильев, с трудом сдерживая негодование. — А знаешь ли ты, дубина стоеросовая, что тем самым ты сделал себя соучастником крупного государственного преступления! Что из–за твоей противной трусости погибли такие замечательные люди! А может, ты разыгрываешь идиота, и сам являешься участником этой банды?
— Товарищ начальник! — уже в голос взвыл Карболай и заплакал настоящими слезами. — Никакой я не участник!.. Никому я плохого не сделал! Испугался я! Крест святой, испугался!
— До выяснения всех обстоятельств преступления я тебя арестовываю и немедля отправляю в город. Все! Подпиши протокол.
Снова в избу ввели Костиненко.
— Почему ты, гражданин Костиненко, скрыл от следствия, что видел на тракте вооруженных четверых людей?
— А я не видел их, гражданин начальник.
— Как это так — Карболай видел, а ты нет!
— Так уж вышло. И прямо скажу — не очень жалею.
— Почему?
— Мало радости по нынешним временам встретить людей с оружием на дороге. Который год ездишь как заяц — сердце в пятках. Грабят у нас.
— Как же так получилось, что ты не видел их?
— А я вторым ехал, Карболаю вслед…
— Ну и что?
— Ясное дело — что? Спал я. Ну, если не спал, так подремывал. Дорога дальняя, усыпляет она…
— Значит, поспать любишь, — недобро усмехнулся Васильев, поняв, что перед ним не такой простак, как Карболай, и ухо надо держать востро.
— А когда же и спать мужику, как не в дороге, да не в эту пору. Вот скоро земля подсохнет, тут не до сна будет.
— Сказал тебе Карболай, что он видел людей на тракте?
— Сказал.
— Почему же ты отговорил его сообщить об этом повстречавшимся вам охотникам?
— По тому же самому. Откуда знать — охотники они или не охотники? А вдруг из той же компании? По нынешним временам уж лучше в стороне быть… Вот ведь — что мной сделано? Проехал тихо–мирно по тракту, а и то вон хлопот сколько?! Вчера день потерял, сегодня… А мужик ведь не на должности, ему жалованья не платят.
— Из–за такой твоей политики теперь придется тебе еще не один день потерять! — сказал Васильев.
— Да уж понял я это, — удрученно покачал головой Костиненко. — Давно понял… Потому и не сказал сразу про ту самую банду. Авось пронесет, думаю… Нет уж, не будет, как видно, доли мужику и при нашей народной власти. Нет к нему сочувствия.
— Надо самому умней быть. Предупредил бы охотников, и люди не погибли бы, и никому хлопот никаких. Ты сказал слово «банда». Откуда знаешь, что это банда?
— Как не банда, коль грабят и убивают на дороге? Ясное дело — банда…
— Подпиши дополнительный протокол! До выяснения всех обстоятельств ты считаешься задержанным и сейчас будешь отправлен в город.
— Что ж тут поделать! — вздохнул Костиненко. — Уж скорей бы все это выяснили. Так вот и страдаешь без вины.
Когда подвода с Карболаем и Костиненко в сопровождении троих конных милиционеров уже готова была отправиться в город, с севера на двух лошадях в селение Мухор–Кондуй прибыли Станислав Козер, Роман Мациевский и Константин Гребнев, принимавшие участие в охоте вместе с Анохиным и Крыловым.
Костиненко провожала семья. Жена заливалась слезами, а два сына — десяти и восьми лет — с мальчишеским восторгом ходили вокруг рослых милицейских коней. Сам Костиненко покорно сидел на телеге и лишь изредка успокаивал жену:
— Будя тебе, будя…
Завидев Козера, он как–то оживился, и когда тот, хромая, проходил в избу, крикнул:
— Гражданин Станислав! Не забудь сказать начальнику милиции о том, кто вчерась не оставил тебя без помощи.
Измученный, весь сменившийся с лица Козер обернулся, странным отсутствующим взглядом поглядел на подводу и кивнул.
Через несколько минут он уже сидел в избе напротив Васильева и с нетерпением ждал начала допроса.
— Фамилия, имя, отчество?
— Козер Станислав Францевич.
— Год рождения?
— Тысяча восемьсот девяностый.
— Национальность?
— Поляк.
— Партийность?
— Член РКП (б).
— Специальность?
— Служу секретным сотрудником при штабе НРА.
— Место жительства?
— Чита, Татарская улица, дом13.
— Об ответственности за дачу ложных показаний вы знаете?
— Да, знаю.
— Я допрашиваю вас в качестве свидетеля. Расскажите подробно все, что вы знаете о том, что произошло 10 мая на Витимском тракте.
Глава вторая
«Шифровка из Штарма 5
Главкому Блюхеру, Начдиву 35, Комбригу 104
Благодарим Вас и просим секретаря Дальбюро товарища Анохина привести 104 бригаду к присяге
Командарм 5 Уборевич
Замчлена РВС Косич
Иркутск, 28 апреля 1922 года».
(Партархив Карельского ОК КПСС, ф. 3, св. 860, д.2, л. 12.)«Первого мая Анохин приводил к присяге бойцов N-бригады. Сотни и тысячи красноармейских голосов повторяли за ним великую клятву на верность трудовому народу. И он, вождь–коммунист, не только говорил, но и претворил на деле то, в чем по его зову красноармеец клялся: за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни своей жизни».
«Боец и пахарь», газета Военно–политического Управления НРА ДВР № 108 от 14 мая 1922 года.1
Поездка на озеро Коморье, закончившаяся столь непоправимо трагично, была для Петра Федоровича Анохина его первым официальным отпуском.
Охотничью страсть, жившую в Анохине с детства и особенно — после иркутской ссылки, подогрел Станислав Козер.
Произошло это так.
28 апреля Анохину позвонил Главком Народно–Революционной армии ДВР Василий Константинович Блюхер.
— Петр Федорович! Только что получена шифровка из Иркутска. Командарм Уборевич просит тебя привести к присяге 104‑ю бригаду.
В те дни мыслями о предстоящем приведении к присяге воинских частей НРА жило все руководство Дальневосточной Республики. Праздник Первое мая 1922 года было решено провести как День воина. Этим как бы завершалась многомесячная работа по реорганизации армии, предпринятая Блюхером с первых дней назначения на Дальний Восток.
С Блюхером у Анохина сложились добрые дружеские отношения.
О легендарном командире Сводного отряда южно–уральских красногвардейцев, совершивших героический переход из Оренбурга до Кунгура, Анохин впервые узнал осенью 1918 года из приказа Реввоенсовета о награждении В. К. Блюхера только что учрежденным орденом Красного Знамени. На всю жизнь запомнился Анохину и тот ноябрьский день 1920 года, когда в Петрозаводск пришла радостная весть о победоносном штурме Перекопа. Героем его снова был легендарный начдив‑51 В. К. Блюхер. Конец долгой и кровопролитной гражданской войне был близок. Оставался уже лишь один опасный и последний фронт борьбы с интервентами — Дальний Восток. Когда в июне 1921 года Анохин получил назначение на работу в ДВР, он не без радости узнал, что туда же назначен и В. К. Блюхер. Более того, вышло так, что Петру Федоровичу довелось ехать в Читу в одном поезде с новым Главкомом армии ДВР.
Ехали долго, более двух недель, так как Блюхера повсюду встречали толпы народа, возникали стихийные митинги и ему приходилось выступать с речами. Анохин с женой занимали купе в вагоне министра иностранных дел ДВР Я. Э. Янсона. Трудно сказать — знал ли вначале Блюхер о своем попутчике из Олонецкой губернии, но познакомились они не сразу. Анохин стал примечать, что когда поезд делал остановку поздним вечером, Блюхер выходил на противоположную от вокзала платформу и, ведя на поводке собаку, прогуливался в темноте вдоль состава. Из–за духоты окна вагонов были постоянно открыты. Однажды, проходя мимо вагона Янсона и встретившись взглядом с Анохиным, Блюхер поздоровался и пригласил:
— Выходите на воздух. Стоять, видно, будем долго.
Такие прогулки стали постоянными. Потом Блюхер, Анохин и Янсон начали сходиться для долгих бесед и во время пути.
Им было что вспомнить, о чем поговорить. В их судьбах оказалось немало общего. В одном году Анохин и Блюхер начали трудовую жизнь: один — рассыльным в типографии, другой — мальчиком в петербургском магазине. В те дни, когда Анохин ждал отправки на каторгу в Шлиссельбургскую крепость, двадцатилетний Василий Блюхер был арестован за революционную деятельность на Мытищенском вагоноремонтном заводе и приговорен к трем годам тюрьмы. И в послеоктябрьские годы довелось им — одному в Петрозаводске, другому в Челябинске — послужить революции в одинаковых должностях — председателями военно–революционных комитетов.
— Даже в те дни, — улыбаясь, говорил Блюхер, — никогда не думалось, что судьба навсегда сделает меня военным человеком.
В пути много и горячо говорили о предстоящей работе, о своеобразии Дальневосточной буферной республики. Обстановку в Чите лучше других знал Янсон, которого Блюхер и Анохин в шутку именовали непривычным для них словом «министр» и не без иронии допытывались, как же правильно величать его — господином, гражданином или товарищем.
ДВР образовалась полгода назад, как независимое демократическое государство. Цель создания «буфера» — не допустить войны Советской России с Японией и добиться вывода войск интервентов. Республика имела свою Конституцию, правительство, армию и органы управления.
Обстановка в ДВР была чрезвычайно сложной и запутанной. В Приморье под защитой японских штыков находилось три дивизия каппелевцев, целившихся на Хабаровск. Барон Унгерн с 12 тысячами солдат вел наступление на Западное Забайкалье. Переворот во Владивостоке, проведенный при покровительстве японцев, привел там к власти монархистское правительство купца Меркулова.
Положение усложнялось к тем, что внутри ДВР и даже в ее правительстве действовали полярные силы. Эсеры, меньшевики, промышленники стремились превратить «буфер» в типичное буржуазно–демократическое государство, а некоторые коммунисты, из числа левых, были противниками всякого «буфера», выступали за немедленную «советизацию» и «социализацию» края.
В такой обстановке от Дальбюро ЦК РКП(б) требовалась исключительная принципиальность, гибкость и предусмотрительность в проведении в жизнь основной цели образования «буфера».
В Читу Анохин и Блюхер приехали добрыми друзьями. 26 августа 1921 года в Дайрене открылись мирные переговоры с японцами. В составе делегации ДВР, возглавляемой Ф. Н. Петровым, вновь встретились Анохин и Блюхер. Дайренская конференция из–за немыслимых притязаний японцев окончилась безуспешно.
В том, что Блюхер является не просто «военным человеком», а талантливейшим организатором армии, преданнейшим делу революции коммунистом, Анохин имел возможность убедиться в первые месяцы совместной работы в Чите. Укрепление военной мощи ДВР главком начал с того, что почти вдвое сократил численный состав вооруженных сил, демобилизовав бойцов старших возрастов. Он смело и решительно поставил задачу — превратить полупартизанские, плохо управляемые дальневосточные соединения в кадровую, строго дисциплинированную армию, которая была бы однородной но возрасту, по физической выносливости и боевой подготовке.
Дальбюро ЦК РКП (б) одобрило план главкома.
Процесс этот был долгим. Он осложнялся тем, что проходил в условиях напряженной обстановки и многим казался ошибочной утопией.
Бывали моменты, когда наступление белогвардейцев ставило республику на грань смертельной опасности. Но плоды реорганизации уже начали сказываться, хотя она была и далека от завершения. Победоносные Волочаевские бои в феврале 1922 г. явились не только жестоким испытанием для НРА, но и поворотным пунктом в ходе войны с интервенцией на Дальнем Востоке.
Теперь реорганизация армии подходила к концу. Через три дня бойцы и командиры дадут воинскую клятву на верность республике и революции.
Когда по решению ЦК РКП (б) на Дальнем Востоке проводилась чистка рядов партийной организации, Василий Константинович попросил Анохина дать ему, как коммунисту, письменное поручительство. Являясь председателем комиссии по чистке партии, Анохин в силу своей должности старался воздерживаться быть у кого–либо поручителем, но для Блюхера он без колебаний сделал исключение из этого правила.
По работе в Дальбюро Анохин был тесно связан с Народно–Революционной Армией, являлся членом Совета частей особого назначения, много и охотно выступал перед бойцами с докладами и речами. От армии он был выдвинут кандидатом в депутаты Народного Собрания ДВР, выборы которого намечались на июль.
…Вот почему Анохин нисколько не удивился поручению главкома, охотно согласился его выполнять и поблагодарил за доверие.
— Отлично! — ответил по телефону Блюхер. — Я скажу, чтоб тебе выделили в помощники сотрудника для поручений.
Этим сотрудником оказался Станислав Козер. Живой и расторопный, он отлично провел всю подготовку к принятию присяги у бойцов 104‑й бригады. Каждое поручение Анохина выполнял весело, как бы в шутку, но, когда наступил торжественный час, все было готово и все предусмотрено.
Четкими строгими прямоугольниками выстроились вокруг украшенной трибуны войска. В центре, под охраной рабочего, крестьянина и молодого бойца, новенькое, отливающее шелком Красное знамя, которое предстоит вручить бригаде.
Под звуки встречного марша Анохин поднимается на трибуну, принимает рапорт командира бригады, здоровается с бойцами. Из двух тысяч глоток с глухим рокотом несется и долго не затихает:
— Здра–а–а!
Тысячи глаз устремлены в одну точку, тысячи серо–зеленых шлемов нацелены остриями в голубое небо и тысячи солнечных зайчиков весело поблескивают на кончиках штыков.
Анохин начинает речь. Он говорит о революции, о пятилетней изнурительной войне, о великих жертвах, принесенных трудовым народом во имя освобождения, о разгорающейся по всему небосводу заре победы и о последней туче, которая закрыла горизонт со стороны Приморья. Не забывает он и родной Карелии, где три месяца назад блестящей операцией с участием лыжников Интернациональной школы покончено с притязаниями белофинских интервентов.
— Вам, воины Народно–Революционной Армии, суждено возвестить последними выстрелами окончательную победу революции. На вас с ожиданием и надеждой смотрит не только Дальневосточная республика, но и вся Советская Россия. Сегодня вам предстоит принять торжественную присягу на верность своей Дальневосточной и Российской Советской республике, которая является первой в мире социалистической страной трудящегося народа. По поручению Дальбюро ЦК РКП(б), правительства ДВР и Военного Совета Народно–Революционной Армии оглашаю формулу торжественного обещания и прошу повторять за мной!
Текст присяги Анохин, как и каждый боец, знает наизусть, однако он разворачивает папку и медленно с перерывами читает:
— Я, сын трудового народа… гражданин Дальневосточной республики… сим торжественным обещанием… принимаю на себя… почетное звание воина… Народно–Революционной Армии и защитника интересов трудящихся…
Раскатистый, невнятный хор с каждой паузой становится все стройнее и громче. Словно тысячекратное эхо отражает, усиливает и вновь возвращает к трибуне слова. И уже трудно читать. Хочется не рвать фразы на ровные, короткие куски, а произносить их так, чтоб у каждого комок подкатился к горлу.
Потом — вручение знамени, торжественный марш, праздничный обед и, наконец, нехитрое армейское веселье — с песнями, с плясками, с борьбой и состязаниями в ловкости.
На обратном пути в город Козер завел разговор об охоте. Он сказал, что гуси и утки уже прилетели, а места для охоты здесь такие, что лучше и не найдешь. К северу от Читы, за хребтом тянется целая цепь озер. Если бы выкроить от службы денька три–четыре — на всю жизнь воспоминание.
Нет, он не уговаривал, а скорее сожалел о невозможности и для себя и для Анохина осуществить эту затею.
К несчастью, уговаривать Анохина и не надо было. Слушая Козера, он мысленно прикидывал — не удастся ли ему все–таки освободиться дней на пяток. Особенно срочного в Дальбюро на эти дни ничего не предвидится…
Через два дня Козер появился в кабинете Анохина вместе с управделами Дальневосточной партийной контрольной комиссии Дмитрием Ивановичем Крыловым.
— Все налажено! Птицы на озерах, я узнал — тьма! Два ружья есть, третье достанем… Лошадь у кого–либо попросим… Ну, хотя бы, у милиции. Кони у них добрые.
2
Выехали в пятницу поздним вечером. Заночевали на Чита‑I у бывалого охотника Мациевского, давнего знакомого Козера, где набили полтораста патронов, проверили и подогнали снаряжение. Кроме ружей, взяли с собой два карабина и пистолеты. У Анохина — маузер, с которым он не расставался уже четыре года, у Крылова и Козера — по браунингу.
Затемно на двух лошадях в разнопряжку отправились дальше. На передней подводе ехали втроем: Мациевский на собственной повозке держался сзади.
Еще накануне твердо условились не вести никаких разговоров на политические темы. Главной причиной было не опасение каких–либо дорожных эксцессов, а скорее желание выключиться на эти дни из привычного служебного круга и побыть просто охотниками.
Вначале ехали вообще молча. Когда рассвело, постепенно разговорились, стали рассказывать разные смешные случаи, сперва — из охотничьих приключений, потом обо всем, что приходило на память за долгий путь. В центре внимания оказался Козер, державший в голове уйму анекдотов и передававший их с таким мастерством, что попутчики покатывались со смеху. Кое–что забавное из своей практики бывшего зубного техника рассказал Крылов. Вспомнился и Анохину не столько смешной, сколько грустный эпизод, случившийся в Олонецкой губернии с одним приезжим из Питера агитатором летом 1919 года.
Выступал агитатор в одной из самых глухих деревень южной Карелии, только что освобожденной от белофинской интервенции. Деревенька была маленькая, домов десять — пятнадцать. Все жители от мала до велика поместились в одной избе и внимательно слушали оратора, хотя русскую речь понимал далеко не каждый. В те дни вся Советская Республика еще кипела на митингах ненавистью к мировому империализму в связи со злодейским убийством в Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Оратор говорил об этом так страстно, так взволнованно и много, что слезы заблестели на глазах не только у женщин, но и у деревенского вожака, бывшего солдата Никкоева. Закончил свою речь агитатор призывом:
— Смерть за смерть! Кровь, пролитую любимыми товарищами Розой и Карлом, революция должна искупить кровью своих врагов — богатеев и эксплуататоров!
Упоенный успехом, не заметил он, как все присутствовавшие не то с сожалением, не то с осуждением все чаще и чаще поглядывали на двух притихших, оробело озирающихся мужиков. Не услышал спокойно спавший агитатор и выстрелов на рассвете. Разбудил его Никкоев, вывел за сарай, где в молчаливом окружении скорбно стоявших мужиков лежали два трупа, и сказал:
— Передай в губернии, что это наша плата за Розу и Карла. Эти двое у нас самые богатые. Они, быть может, были неплохими мужиками, но богаче их в Вяхисалми никого нет.
Перепуганный агитатор поспешил в Петрозаводск. Никкоева предали ревтрибуналу, но вся деревня подписалась под прошением в его защиту. Дескать, не он один, всей, почитай, деревней дело решалось… Дескать, и сами объяснить не можем — какой бес мужиков попутал…
Рассказал эту историю Анохин совсем не за тем, чтоб потешить попутчиков. Хоть и похожа она на анекдот, но веселого в ней мало. Скорей печальна она и до обидного поучительна своей доверчивой наивностью.
Рассказал потому, что в последние дни часто вспоминал эту историю, раздумывал о ней и все хотелось ему вставить ее в свою статью, которую по заданию Дальбюро он закончил вчера для газеты «Дальневосточный путь». Недавно в ДВР принят закон о временном введении высшей меры наказания — расстрела за определенные преступления. Это вызвало неистовый вой эсеров, меньшевиков, промышленников и интеллигенции из «чистеньких», усмотревших в новом законе отход от демократии.
Свою статью Анохин так и назвал «Почему введена смертная казнь». В ней он писал: «Что делать Правительству ДВР, когда поджигают национализированные заводы и от этого горят еще десятки домов мирных жителей? Что делать, когда белые банды разрушают десятки верст железнодорожного пути, сжигают мосты, взрывают депо и мастерские, устраивают крушения поездов?
Что делать, когда банда, вышедшая на станцию Могоча, разграбила, разрушила все и вырезала десять ни в чем не повинных работников?
Что делать, когда разные банды грабят население и разоряют вконец крестьянское хозяйство?
На все эти вопросы рабочий и крестьянин, не мудрствуя лукаво, скажет, — что власть должна применять самые суровые меры в борьбе с подобными преступлениями, иначе она будет не власть а беспомощный ребенок, и население вынуждено будет расправляться самосудом».
Многое хотелось вспомнить в статье, о многом рассказать. Хотя бы о том, как во времена генеральской диктатуры в Сибири и на Украине, в Архангельске и на Мурмане те же самые «добренькие» эсеры и меньшевики не только не брезговали расстрелами рабочих и крестьян, но даже весьма усердно способствовали этому.
Вообще, по приезде в Читу, Анохин как бы вернулся на четыре года назад, опять окунулся в атмосферу знакомой ему «чистенькой» эсеровской и меньшевистской демагогии. Эсеры и меньшевики заседали в Народном Собрании, входили в состав правительства ДВР, выпускали свои газеты. Все это было до удивления похоже на весну и лето 1918 года в родном Петрозаводске. Только здесь коммунистическая партия прочно контролировала обстановку и, если терпела болтовню своих политических противников, то делала это в силу своеобразного буферного положения республики…
…На двадцать четвертой версте свернули в сторону, развели костер, вскипятили чаю. Все запасы провизии объединили и сложили в две общие корзины. Мациевский взял на себя заботы по хозяйству: и лошадей выпряг, и костер разжег, и воды достал, и посуду помыл.
После завтрака минут десять курили, полулежа на раскинутых вокруг догорающего костерка шубах. Ждали, пока подкормятся и отдохнут кони.
Дальше дорога была легче, начинался спуск с хребта, и поехали резвее. Все чаще стали попадаться встречные. В основном это были крестьяне, ехавшие в город с сеном или дровами. При каждой встрече Козер попридерживал лошадь и спрашивал: тихо ли на тракте? Все отвечали, что, слава богу, тихо, что последний раз было ограбление еще до пасхи, а после никаких происшествий не случалось. Да и то — разве это ограбление? Взяли у бурята три рубля золотом да мешок с продуктами… Вот прошлой осенью тут, что и говорить, было неспокойно. Действовала большая шайка, человек двадцать. Ни одного купца с Витима не пропускали, да и мужиков, кто ехал из города, тоже останавливали. Перед рождеством милиция делала на тракте большую облаву. Взяли не меньше пятнадцати бандитов. С тем пор и тихо стало.
Когда подобные разговоры в различных вариациях повторились раза три–четыре, Анохин сказал Козеру:
— Не хватит ли тебе? Нас и так мужики невесть за кого принимают… По виду вроде охотники, а ведем себя как следователи.
Козер весело рассмеялся:
— А вот и не угадал ты, Петр Федорович! Знаешь за кого они нас считают? За купцов, едущих на Витим! Вот честное слово! Хочешь проверим? А что касается остановок и разговоров, то это обычный у нас, так сказать, долг дорожной вежливости. Все удивились бы и подумали что–либо неладное, если бы мы молча проехали мимо.
На озеро Коморье прибыли вечером. Жить устроились неподалеку в пустовавшей бурятской юрте. Еще в пути договорились в первый день птицу не тревожить, отдохнуть как следует и начать охоту с утра пораньше. Если охота на Коморье окажется неудачной, то можно будет поехать дальше, на озеро Центур, куда городские охотники редко добираются.
На следующее утро, еще затемно, к ним присоединился пятый охотник — Константин Гребнев, друг Мациевского и Козера. Из Читы он должен был выехать вместе со всеми, но домашние дела задержали его.
Три дня пролетели незаметно.
Уток было много и в первое время держались они вблизи берега до удивления беспечно. Охотников подпускали на пятнадцать — двадцать шагов и лишь после выстрела поднимались на крыло. Спугнутые в одном месте, сделав полукружье, тянули к камышам на противоположной стороне. Как видно, время перелета еще не кончилось…
Гребнев и Мациевский почти не охотились, предоставив озеро в полное распоряжение гостей и освободив их от всяких забот и о лошадях, и о пище. Проводив гостей в город, они намеревались отправиться на озеро Центур.
В среду, в 10 часов утра Анохин, Крылов и Козер выехали домой.
Поклажи заметно прибавилось. В передке повозки лежал прикрытый сеном большой куль битой птицы. Однако отдохнувшая лошадь тянула старательно и ходко.
Вскоре миновали улус Комарье, потом селение Мухор–Колдуй. Двумя часами за полдень подъехали к зимовью на сорок первой версте. Хотели сделать остановку для обеда, но, посоветовавшись, решили ехать дальше и устроить привал на том же месте, где отдыхали и первый раз.
Вскоре навстречу из города начали попадаться крестьяне. Но день был будним, и встречных было немного, всего несколько подвод. Все ехали налегке: кто за грузом, кто после продажи груза. Завидев охотников, издалека уступали колею. Как и раньше, Козер не забывал спрашивать — тихо ли на тракте, хотя до города оставалось меньше сорока верст.
Последние подводы попались на тридцать пятой версте. Встречные лошади без напряжения, мелкой трусцой катили под уклон порожние телеги. Однако, вывернув из–за поворота и заметив охотников, передний возчик зачем–то подхлестнул коня и мимо пронесся едва ли не рысью.
Это встревожило Козера, и он долго не мог успокоиться, оборачивался назад, озирался по сторонам, всматривался в каждый куст или пень за придорожной канавой.
Анохин и Крылов курили и спокойно разговаривали. Оба беспокоились лишь о том, как бы успеть сегодня домой, чтоб не причинять лишних волнений ни женам, ни товарищам по работе.
Крылов до беспамятства любил семилетнего сынишку, успел соскучиться по нему, теперь даже пожалел вслух, что не взял парнишку с собой, когда тот со слезами умолял его об этом.
— А что? — словно убеждая сам себя, рассуждал Крылов. — В Сибири так и растут дети… Поднялся на ноги — изволь с тайгой знакомиться! Вот и вырастают — сильные да ловкие. А у нас, горожан? Парнишке семь лет, а еще лесу не видел…
Анохин слушал и улыбался.
Тридцать третья верста встретила их горелым лесом. Пожар был давно, лет десять или больше назад. Тут и там успели подняться в рост человека кустики молодого березняка. Но бушевал пожар, наверное, яростно. Все вокруг до сих пор сохраняло сероватый безжизненный оттенок. Везде — вывороченные с корнями пни, огромные головешки не до конца сгоревших стволов.
Лес был изреженный и далеко просматривался. Лишь саженях в ста от дороги вновь начиналась густая стена молодой тайги.
Козер успокоился, повернулся к попутчикам и попросил закурить. Анохин протянул портсигар. Козер взял папиросу, успел чиркнуть спичку, и в это время откуда–то спереди и справа раздался угрожающий окрик:
— Стой!
Анохин рванул из–под полушубка маузер. Козер пригнулся, снимая из–за спины ружье. Крылов, ничего не видя и не понимая, склонился вправо, стараясь рассмотреть, что там происходит.
В ту же секунду навстречу им грянул пронзительно резкий недружный залп…
3
— Тут я увидел троих. До этого они, наверное, укрывались за пнями, а в момент выстрела встали в рост… Лошадь дернулась в сторону, Повозка накренилась, и мы все трое вывалились на дорогу… Анохин упал и больше не поднимался… Крылов успел снять карабин и выстрелил… В ответ ударил новый залп, и Крылов тяжело застонал… Лошадь бросилась с дороги влево. Мы все трое оказались на голом месте, без всякого укрытия… Разбойники почему–то замешкались, я воспользовался этим и бросился в лес. На бегу почувствовал, что ранен в правую ногу…
Козер останавливается, воспаленными от страха и переживаний глазами долго смотрит, как Васильев торопливо записывает его слова в протокол, потом продолжает:
— Ружье я бросил… Зацепился им за куст и бросил. Потом снял шубу… Пробежав с версту, снял ботинки… Теперь я и сам не понимаю, зачем сделал это.
— Значит, вы говорите, что видели разбойников? Сколько их было?
— Трое.
— Трое или четверо?
— Я видел троих… Они одеты были в темно–серые полушубки до колеи, на голове — платки с отверстиями для глаз.
— Значит, к тому времени, когда вы бросились в лес, оба ваших товарища уже не были живы?
— Нет. Крылов, пожалуй, был еще жив, только тяжело ранен… Я помню, что я еще останавливался послушать, не добивают ли его. Но все было тихо. Сквозь чащу ничего не было видно… Сделав большой крюк по лесу, я снова вышел на тракт, недалеко от зимовья. Уже был вечер. По дороге из города ехал старик с татарчонком. Я спросил — лежат ли на тракте убитые товарищи? Он ответил, что никаких трупов на дороге нет, а лежат чьи–то шубы. Я понял, что старик не хочет говорить правду… Потом в зимовье татарчонок, оставшийся там ночевать, сказал, что на дороге действительно лежат двое убитых… В зимовье я стал просить лошадь, чтоб отправиться или в город, или в Коморье, где еще надеялся застать Мациевского и Гребнева. Но лошади мне не дали. Переночевав, рано утром отправился по тракту в Мухор–Кондуй, встретил едущего в город мужика и с ним отправил в город записку Антонову. В Мухор–Кондуе уговорил одного мужика отвезти меня до Коморья, но Мациевского и Гребнева там уже не было. Один бурят согласился разыскать их на озере Центур, я послал им записку, и назавтра они ко мне приехали. По пути в город встретили милицейский разъезд и вернулись сюда.
— Есть у вас какие–нибудь подозрения?
— Да… Теперь я припоминаю кое–какие странные обстоятельства. Когда мы ехали на охоту и проезжали зимовье на 25‑й версте, из избы вышел человек, с небольшой бородкой, в простой деревенской одежде и по–недоброму смотрел нам вслед… Когда утром после убийства я шел пешком в Мухор–Кондуй, то повстречал в дороге женщину лет сорока. Я попросил женщину по приезде в город заявить о происшествии и коротко рассказал, что случилось. Она ответила, что убийство, наверно, дело Гришки Чуркина, живущего на 25‑й версте. На мой вопрос, кто такой Гришка, она сказала, что раньше он служил в милиции, где занимался грабежами и взятками. Его хотели арестовать, но не удалось. Милиция теперь ищет его.
— Ну, конечно, — обиженно усмехнулся Васильев, — на милицию можно валить теперь все… Она, видите ли, даже разбойничков на большую дорогу поставляет.
— Я ничего не утверждаю. Я передаю то, что слышал.
— Где живет эта женщина? Как ее фамилия?
— Фамилии она не сказала… А живет в Чите в Кузнечных рядах. Летом на сорок восьмой версте косит сено.
— Почему вы не вернулись в город вместе с крестьянином или с этой женщиной? — спросил Васильев.
— Честно признаюсь — боялся засады… Бандиты видели, что я убежал, и, конечно, постараются убрать живого свидетеля.
— Не слишком ли часто вы праздновали труса, а?
— Да, конечно, — совсем сник Козер. — Мне стыдно и тяжело, но я не хочу скрывать… Я, действительно, когда оказался там на дороге один против бандитов, не мог совладать с собой. Я ведь воевал два года… Неплохо воевал… А тут позорно струсил… Уж лучше бы и мне погибнуть!
— Если уж вы так жалеете об этом, то вам нужно было совсем немногое. Не столько храбрости, сколько простого желания оборонять раненых товарищей… Вы ведь везли не перекупщиков золота с Витима! А насчет того, что товарищ Анохин был сразу убит, вы лжете! Судя по ранам в голову, и его, и Крылова бандиты добивали выстрелами в упор.
— Неужели?! — застонал Козер, схватившись за голову. — Это ужасно… Я никогда не прощу себе этого!
Опрос Мациевского и Гребнева не прибавил к расследованию ничего нового. Об охоте оба подтвердили все, что было сообщено Козером. Мациевский лишь сказал, что, проезжая двадцать пятую версту, он не заметил никакого подозрительного человека, так как людей у зимовья было много и все больше буряты. Зато у заимки Внукова на тридцать третьей версте он видел троих мужчин, долго и внимательно смотревших на них.
Мациевский сохранил записку, которую прислал им Козер на озеро Центур. Он передал ее Васильеву, и тот сразу угадал, что написана она на другой половине того же листка из школьной тетради, который вчера был доставлен в милицию. Да и текст ее был почти такой же: «Товарищи убиты, я ранен, собирайтесь и приезжайте. Станислав».
Васильев знал по немалому своему опыту, что трусливый человек даже при желании не может быть правдивым до конца. Дело даже не в способности быть предельно искренним, которая смелому, конечно, дается куда легче, чем робкому, а в том простом, извечном правиле, что у страха глаза велики, и перепугавшийся человек видит многое не так, как оно было на самом деле.
У Васильева не было сомнений в искренности Козера, и в то же время он чувствовал, что полагаться на его показания полностью он все же не имеет права. Все нужно дважды, трижды сверять и проверять.
При возвращении в Читу, на тридцать третьей версте Васильев приказал остановиться. Он подъехал к телеге, где сидел Козер, и предложил ему показать на местности, где это происходило. Никаких коварных целей Васильев этим не преследовал — он просто считал нужным уточнить и еще раз сверить детали происшествия.
Однако из этого получился для Козера новый конфуз.
Телега остановилась буквально в десяти метрах от места, где были найдены трупы Анохина и Крылова. Но Колер заявил, что убийство произошло не здесь, а дальше, что лес здесь слишком далеко от дороги, а там был значительно ближе.
— Покажите точно, где на вас было совершено нападение! — потребовал Васильев.
Козер, прихрамывая, направился по тракту в сторону Читы. Пройдя шагов двести, он остановился, огляделся и сказал:
— Вот здесь!
Лес здесь действительно был ближе. Козер вел себя столь уверенно, что Васильев засомневался, а вдруг бандиты зачем–либо сделали попытку скрыть истинное место убийства?
Вместе с Кибиревым он тщательно осмотрел все вокруг, но никаких следов преступления не обнаружил.
Ничего не говоря об этом стоявшему на дороге Козеру, Васильев предложил ему указать путь побега и место, где были брошены ружье и шуба.
Козер не смог сделать и этого.
Тогда Васильев повел его к месту, где было обнаружено ружье.
— Узнаете?
— Да, кажется, здесь, — растерянно произнес Козер.
— Теперь укажите, где вы скинули с себя шубу!
Не сразу, но довольно точно Козер уже сам нашел густые заросли березняка, продираясь сквозь которые он счел тогда за лучшее расстаться с шубой.
Васильев пережил напряженные решающие минуты. Если бы Козер ошибся и на этот раз, то пришлось бы тут же объявить его арестованным по подозрению в соучастии в преступлении.
Козер и сам чувствовал всю ответственность момента. Все его искренние и легко подтверждаемые показания, данные в Мухор–Кондуе, вдруг стали рушиться и лихорадочно приобретать угрожающий характер придуманной им версии.
Поэтому он уже не торопился, внимательно осматривался, вспоминал… А когда по лицу Васильева понял, что не ошибся, то даже не выдержал, в бессилье опустился на землю и, закрыв лицо руками, сидел, пока помнач уездной милиции составлял протокол об опознании свидетелем места преступления.
4
В Читу приехали вечером. Несмотря на поздний час, следователь по особо важным делам народно–политического суда Фомин находился в служебном кабинете. Усталый, не спавший двое суток Васильев положил ему на стол целую стопу новых протоколов, попросил расписку о их вручении и поинтересовался — выявлено ли что–либо новое?
— Пока ничего, — ответил Фомин, жадно набрасываясь на протоколы. Васильев понял, что расписку Фомин даст только после ознакомления с бумагами и, устроившись на диване, стал ждать.
Фомин только что вернулся из городской больницы, где проводилась судебно–медицинская экспертиза. Врач–эксперт Пахолков установил, что смертельные раны Анохину и Крылову нанесены из огнестрельного оружия с близкого расстояния, а ряд других — сделаны до и после смерти. Убийство относилось к разряду особенно зверских и производилось в состоянии дикого, бессмысленного озлобления. Все это вновь возвращало к мысли о политическом характере преступления, и клубок противоречии продолжал наматываться.
Протокол, составленный Васильевым на месте преступления, вызвал у следователя особый интерес.
— Ты задержал его? — спросил Фомин, имея в виду Козера. — Где он?
— Отвез в госпиталь… Все–таки ранен человек.
— Напрасно. Надо было задержать… Завтра вынесу постановление о его аресте.
— Трус он, а не преступник, — махнул рукой Васильев и даже вздохнул при этом.
— Там, где трусость, там ищи и преступление… А в в Политуправлении НРА о Козере совсем неплохого мнения… Даже не верится, что один и тот же человек.
— Все же есть ли что–либо новое? — повторил свой вопрос Васильев, — Завтра мне опять с утра по деревням ехать. Хотелось бы знать…
— Пока ничего… Но одна ниточка вроде бы наклевывается. Грабители в масках уже проходили по делам за последний год, и все они оказывались ленковцами.
— Значит, дело потянется все–таки к уголовному?
— Почему так думаешь?
— Ясно почему! Если ленковцы — то тут все ясно. Как же — «гроза буржуазии», «экспроприатор для эксплуатируемых», «герой читинских притонов»!.. Кто не знает писем самого Кости Ленкова? По–моему, за ним политических дел отродясь не бывало! Он их больше всего боится…
— Погоди, не торопись… Во–первых, и сама «программа» Кости Ленкова отдает явным политическим душком. А потом — сам знаешь… Банда — есть банда. Убийство для них такая же работа, как для нас с тобой расследование их преступлений. И для них нет, наверное, большой разницы — самим ли очищать карманы убитых или чистоганом получить за это из третьих рук.
— Конечно, можно и такое предположение строить, — пожал плечами Васильев. — Но доказательств–то пока никаких у нас нет.
— Да, это пока версия. Одна из возможных, даже если убийство совершено и ленковцами. Контрдовод — полное отсутствие доказательств. Вторая версия — те же ленковцы, без чьей–либо паводки, совершили убийство с целью ограбления, приняв охотников за купцов… Это мы с тобой обсуждали утром на тракте… Казалось бы, сама картина преступления говорит за это. А верить — не хочется! И тебе не хочется, и мне, и всем другим, кроме Бельского… Он охотно принимает ее, так как случайность гибели Анохина и Крылова делает вину госполитохраны во много раз меньшей.
— Ну, не станет же он ради этого грешить против фактов, — возразил Васильев, которому рассуждения Фомина стали казаться уж слишком заумными. — Бельского я знаю и уважаю. Человек он честный и в своем деле большой специалист.
— Конечно, не станет. Конечно, он честный, и я его уважаю не меньше твоего! — загорячился Фомин. — Да и зачем «грешить» фактами?! Вот они, все как на подбор! И каждый из них не говорит, а буквально кричит об уголовном характере убийства! Но это–то нас и должно настораживать… Я к тому веду речь, что оба мы — каждый но своей линии — должны вести дознание без какой–либо предвзятости. Легче всего спихнуть дело на уголовников.
— А если нас всех сознательно хотят пустить по ложному следу?
— Я и сам все время думаю об этом.
— И правильно делаешь! Думай! А что касается Козера — тут мне что–то не нравится. Завтра я попробую взяться за него по–настоящему. Хотя вполне возможно, что дело совсем не в нем… Ну, да что тут гадать — следствие, как говорят, покажет! Иди, отдыхай, а завтра — по деревням! И разыщи каждого, кто проезжал десятого мая по Витимскому тракту.
Глава третья
«Кто в данном случае является убийцами, пока выяснить не удалось, но вне всякого сомнения то, что это преступно–кровавое дело не является делом рук уголовного элемента. По–видимому, организаторами и исполнителями этого преступного деяния являются белобандиты, сводящие счеты с представителями партии трудящихся посредством своего кровавого контрреволюционного террора. Во всяком случае ближайшие дни прольют свет на это возмутительное преступление».
«Боец и пахарь», № 108 от 14 мая 1922 года.1
В воскресенье 14 мая 1922 года столица Дальневосточной республики провожала в последний путь Петра Анохина и Дмитрия Крылова.
Газеты в этот день вышли в черных рамках. На первых полосах, сразу под заголовками, крупными шрифтами набраны извещения о предстоящих похоронах, а ниже — редакционные и авторские статьи о погибших товарищах, протесты против контрреволюционною бандитизма, намеренно или невольно поощряемого политикой эсеров.
С вечера на зданиях государственных и общественных учреждений вывешены траурные флаги. Ночью похолодало, и неожиданно выпал снег. Ровным мягким слоем он укутал крыши домов, деревянные тротуары, мостовые, и весь город как бы нарядился в три цвета — белый, черный и красный.
В зале Дальбюро ЦК РКП(б) на возвышении стоят подпираемые венками два красных гроба. Приглушенно звучит похоронный марш, исполняемый военным оркестром.
В половине одиннадцатого в последний почетный караул становятся члены Дальбюро, Совета Министров и правительства ДВР, друзья и соратники погибших.
В это время у Дома профсоюзов собрались многочисленные колонны рабочих читинских предприятий, служащих учреждений, учащихся школ. Под звуки марша они с траурными знаменами двинулись к зданию Дальбюро.
По обеим сторонам Софийской улицы выстроились воинские части.
В 11 часов звучит команда:
— Слушай — на караул!
Вздрогнули, шевельнулись и замерли шпалеры войск. Обнажились головы у многих тысяч читинских граждан, плотной стеной стоявших вдоль тротуаров.
Под щемящие, до боли сдавливающие сердце звуки музыки из подъезда один за другим выносятся венки. Их так много, что, кажется, никогда не будет конца… От Правительства, Совета Министров, Дальбюро, Военведомства, Совета Профсоюзов, от редакций и типографии, от коллективов железнодорожной станции и рудников, от рабочих лесопильного, кирпичного, кожевенного и чугунолитейного заводов, от школ и учреждений.
Наконец, показывается первый гроб, за ним второй. Процессия выстраивается на середине улицы, на минуту замирает и медленно трогается по Софийской улице.
Гробы, по шестеро, сменяя друг друга, несут на руках друзья и соратники покойных.
Таких торжественных и многолюдных похорон Чита еще не знала. Казалось, весь город вышел на улицы, и бесконечная процессия двигалась сквозь живую стену до самого кладбища.
У края общей братской могилы прощальное слово от имени Дальбюро РКП(б) произносит Федор Николаевич Петров.
— Быть одинокими в минуту великой скорби, лишиться тех, с кем вместе страдали в царской каторжной тюрьме, с кем рука об руку боролись за великое дело трудящихся России и с кем здесь работали дружно — печально…
Ф. Н. Петров встретился с П. Ф. Анохиным лишь год назад, в Чите. Но знали они друг о друге еще с 1910 года, когда томились в Шлиссельбургских застенках. Тогда же они начали обмениваться короткими товарищескими записками через тайный «почтовый ящик». Одновременно, хотя и в разных селениях Иркутской губернии, отбывали они ссылку. И вот много лет спустя судьба свела их в Чите, чтобы вместе бороться за дело революции. И вышло так, что в дни, когда окончательная победа революции на Дальнем Востоке уже так близка, Ф. Н. Петрову пришлось произносить надгробную речь у могилы младшего товарища по каторге, ссылке и борьбе.
— Но в эту минуту великой скорби, — заканчивает свое выступление Петров, — мы сохраним бодрость духа и твердо будем продолжать начатое нашими безвременно погибшими товарищами дело.
К могиле подходит В. К. Блюхер. Склонив обнаженную голову и глядя в застывшие лица покойных, он тихо и сдержанно говорит:
— Потеря таких честных и преданных делу социальной революции работников, как товарищи Анохин и Крылов, особенно тяжела для Народно–Революционной Армии, которая и без того в пятилетней кровавой борьбе утратила немало своих опытных, преданных народу духовных вождей… И, глядя на их гибель, порою казалось, что революция останется без вождей… В лице товарищей Анохина и Крылова нарревармия потеряла тех своих духовных вождей, которых она любила и которые поистине были ее духовными вождями в тяжелой борьбе за благо трудящихся. И стоя над этой могилой, мы говорим: «Спите ж спокойно, дорогие товарищи! Армия свято сохранит ваши великие заветы и с честью выполнит свой долг перед социальной революцией!»
Выступает представитель Советской России, член Иркутского губкома РКП(б):
— Сегодня вместе с ДВР глубоко скорбит вся Советская Россия, ибо товарищ Анохин, являясь членом ВЦИКа, был одним из виднейших партийных работников. Иркутские пролетарии и трудовое крестьянство хорошо помнят его но тем временам, когда он, находясь в годы царизма в ссылке, оставался верным борцом за идеи большевистской партии. Будучи командирован сюда на налаживание партстроительства, товарищ Анохин погиб на своем славном посту, и в его лице Советская Россия потеряла старого, испытанного и закаленного в борьбе коммуниста, каких осталось немного в рядах РКП… И да будет ему мягка земля!
Один за другим к краю могилы подходят представители Забайкальского губкома РКП, профсоюзов, комсомола, трудового крестьянства, бурято–монгольского автономного управления. Скорбя о тяжелой утрате, давая клятву верности делу революции, они предостерегают живых от коварных белобандитских нападений из–за угла и требуют суровых мер в борьбе с внутренней контрреволюцией.
От читинской организации меньшевиков выступает Пиотрович.
— Этот удар пришелся не только по одной РКП, то есть по нашим политическим противникам, но и по всей революции. И ныне вместе с товарищами коммунистами мы глубоко скорбим о тяжелой, незаменимой утрате революции в лице ее деятелей, товарищей Анохина и Крылова.
Эсеры выступать не намеревались. Их представители, присутствовавшие на похоронах, чувствовали себя крайне отчужденно. Ведь общественное мнение и печать прямо и недвусмысленно ставили убийство Анохина и Крылова в связь с провокационной политикой их партии.
Но выступление меньшевистского представителя, заявившего о скорбной солидарности с коммунистами, подстегнуло к этому и эсеров. Представитель их партии стал пробираться поближе к могиле, намереваясь также произнести речь.
Это вовремя заметил распоряжавшийся похоронами работник Дальбюро ЦК РКП. Он понял, что слова соболезнования от эсеров будут восприняты как недопустимое кощунство, и дал знак опускать гробы в могилу.
В последний раз над кладбищем зазвучала печальная музыка военного оркестра.
— Слушай — на караул!
Под троекратный залп медленно и плавно, все ниже и ниже опускаются, словно оседают в землю, два красных гроба. Над темным квадратом разверзшейся могилы прощально склоняются знамена…
2
В то время, когда у места погребения проходил торжественно–траурный церемониал, в задних рядах молчаливой толпы встретились два близко знакомых человека. Один из них — молодой, кряжистый парень с темно–русыми, крупно вьющимися и спадающими на лоб волосами, — был одет в суконную поношенную тужурку и черную сатиновую косоворотку. На ногах — крепкие яловые сапоги с побелевшими от долгой вымочки носками и короткими, уходящими под напуск широких штанов голенищами. Его крупное лицо, с широко, по–монгольски, расставленными серыми глазами, было спокойным, задумчивым и чуть скорбным.
Второй был пожилым, лысым, сутулым. Кутая подбородок в мягкий, с выпушкой романовский полушубок, он то и дело косил по сторонам внимательным взглядом, переходил с места на место и, прикидываясь глухим, спрашивал:
— Кто говорит? A-а, да–да… А что он сказал? Да, да, понятно.
Молодой и лысый встретились неожиданно, но даже не поздоровались. Скрестившись взглядами, молча кивнули один другому и незаметно отошли в сторону, на взгорье. Туда уже почти не доносились звуки речей, но все происходившее внизу, на кладбищенском распадке было хорошо видно. Через несколько минут они уже стояли вплотную друг к другу, и лысый, глядя вниз, через плечо молодого, зашептал:
— Ты с ума сошел!.. Не нашел другого места… Что ты здесь делаешь?
Не поворачивая головы и чуть тронув в усмешке краешки губ, молодой ответил:
— Ты же знаешь, друг Филя, как я люблю хорошую музыку! Рассказывай, что нового?
— Чимов при «дербанке», кажись, опять «оттырку» сделал.
— Много?
— Половину, если не больше, утаил.
— Вот сволочь! Пошлю Багрова, пусть разбирается… Этих по наводке штопорили?
— Да.
— Кто наводку давал? Почему мне не сказали?
— Тебя же не было в городе…
— Грязная работа! Хитришь ты что–то, Филя! Смотри. как бы тебе беды не нажить? Разве не знаешь, что в политику мы не ввязываемся?!
— Обойдется. Чуть что — на «казенный заказ» спихнуть можно! В газетах вон как подали!..
— А «казенный заказ» был все–таки?
— Кто его знает? — неопределенно ответил лысый. — Теперь и не поймешь — то ли был, то ли не был… Скорей все же на купцов шли.
— Сволочи, я смотрю, вы все… Нельзя на неделю одних оставить!
— Нам с тобой в это дело чего соваться? Кто взял дело, пусть сам и ломает голову!
— Но Мишка Цыганок зачем ввязался? Дурной он, что ли?
— Говорю, так вышло… Наводку на буржуев давали, а он давно без дела сидел, соскучился… Да и жениться парень собирается, деньги нужны.
— Вот что, Филя! Вижу, опять виляешь… Одно скажу, ежели не захоронишь дело — смотри! На себя такое пятно брать не стану и ребят под ГПО подводить тоже не дам.
— Что ты, что ты! — забеспокоился лысый. — Ты плохого не думай… Концы спрячем… Сам сегодня же все проверю. Как на родину съездилось? Хорошо погулял? Пойдем к Медведю, посидим, потолкуем.
— Погоди, не юли, — недовольно поморщился молодой. — Дай музыку послушать… Кажется, в могилу опускают…
…Подробности этого разговора стали известны следствию лишь через месяц, когда один из его участников был уже мертв, а второй — со всех сторон подпираемый неопровержимыми уликами — делал безуспешные лисьи «скидки», чтоб уйти от ответственности.
В протоколе следствия появится запись:
«Филипп Цупко подтверждает, что сам был на похоронах Анохина и Крылова и встретил там Ленкова. Он спросил его, как Ленков не боится агентов госполитохраны и угрозыска. Ленков, по словам Цупко, ответил ему: «Я убивал, а хоронить не мне, что ли?»
3
Следователь Фомин возвращался с кладбища, пытаясь и не умея справиться с внезапно нахлынувшими на него чувствами.
Пожалуй, это были первые похороны, в которых он участвовал, будучи непосредственно и так тесно связан с ними порученным ему делом. Более того, вначале весь траурный церемониал он для себя рассматривал как часть этого самого дела, готовился к нему и даже возлагал на него какие–то служебные надежды.
Потом все незаметно и решительно переменилось.
На кладбище, затерявшись в толпе, он долго сдерживался, хотя многие вокруг вытирали слезы, и давящий комок не один раз подкатывал к его горлу. Но когда стихли речи, вновь заунывно запели трубы, где–то совсем близко троекратно ударил залп, Фомин не выдержал.
С трудом дождавшись своей очереди и уже не скрывая слез, он прошел мимо могилы, бросил туда горсть сырой земли, резко повернулся и зашагал к выходу.
Обгоняя прохожих, он шел по улицам и сбивчиво думал о деле, о себе, о величии только что пережитого.
Строгое торжество похорон, проникновенные речи, затаенная скорбь толпы и сжимающая сердце печальная музыка — все это продолжало жить в нем, но теперь воспринималось как невысказанный упрек самому себе, рождало смутное беспокойство, нетерпение, неясное желание идти и что–то делать.
Сегодня газеты напечатали посмертную статью товарища Анохина. Фомин впервые познакомился с нею два дня назад. Он читал оригинал статьи, лежавшей на письменном столе в кабинете покойного, тщательно изучил его и запомнил все едва ли не наизусть.
«Поэтому мы говорим, что в момент, когда классовая борьба еще не закончена, когда наши смертельные враги готовятся внутри Советской России и Дальневосточной Республики, а также за границей, нанести нам смертельный удар, пользуясь для этого всеми путями и способами, вплоть до поджогов, убийств и организации в широких масштабах бандитизма — нужна железная рука власти, чтобы парализовать преступные действия и сохранить строгий революционный порядок».
Статья с первого чтения поразила Фомина: в ней было что–то пророчески–роковое, она звучала как предсмертное предостережение живым, как прямое указание ему и всем другим, занятым «витимским делом», где следует искать истинных виновников свершившегося позже преступления.
Разве не об этом же говорилось сегодня в надгробных речах? Разве все сказанное о жизненном пути и заслугах товарища Анохина перед революцией не подтверждает, что убийцы знали, на кого подняли руку?
Почему же он, следователь по особо важным делам Фомин, не может руководствоваться этим? Почему он должен следовать формальным фактам, уликам, доказательствам? А что если они намеренно подстроены, чтоб направить руку правосудия совсем в другую сторону?
— Ваша задача, — сказал Фомину министр юстиции, когда утром в субботу он доложил о ходе следствия, — найти непосредственных исполнителей убийства. Остальными вопросами займутся иные органы. Не забывайте, вы — следователь суда, а не госполитохраны.
Да, конечно, Фомин и сам понимает, что он далеко не «дока» в юриспруденции. И вся–то его подготовка — это краткосрочная школа прапорщиков, два года фронта в Салониках, вынужденная запись в колчаковскую армию, чтоб вернуться на родину, переход к красным, вступление в партию, снова фронт и год работы в судебных органах Забайкалья.
Однако его юридических познаний вполне достаточно, чтобы понимать различие между словами «исполнители» и «виновники». Нет сомнения, отлично сознает это различие и министр юстиции ДВР Василий Львович Погодин — профессиональный юрист, бывший генерал–майор, который честно перешел на сторону революции, вступил в большевистскую партию и недавно заменил на посту министра эсера Труппа.
То, что Погодин, желая конкретизировать задачу Фомина, употребил именно слово «исполнители», ясно показывало, что и сам министр отнюдь не отвергает возможности существования и «виновников» преступления.
«Исполнители» и «виновники»… Да, конечно, «исполнителями» могли быть и типичные уголовники, которых так много развелось в шумной, разношерстной Чите. А «виновники»? Кто они? Скрытые белогвардейцы или неуемные эсеры, всегда исповедывавшие террор как средство политической борьбы?
Сдержанный, дисциплинированный Фомин ни слова не возразил министру, хотя и не понимал, зачем понадобилось столь узко толковать задачи следствия.
Теперь он мучительно раздумывал, правильно ли поступил вчера? Не следовало ли ему сразу высказать все свои сомнения и подозрения, заявить о несогласии с ограничениями, которые, кстати, не предусмотрены никакими процессуальными законами? Правда, Фомин знал, что параллельно с ним широкое расследование «витимского дела» ведет Главное Управление госполитохраны. Уж они–то по долгу службы должны тщательно выверить все возможные политические мотивы преступления.
Однако душа Фомина была неспокойна не только оттого, что расследование двигалось пока мало успешно, но и потому, что вести дело ему приходилось совсем не так, как хотелось бы. После всего — слышанного, виденного, пережитого на похоронах, он особенно остро ощущал недовольство своей ролью. Теперь его задача — тщательно, объективно и быстро закончить свое расследование, в котором, возможно, выявится какой–либо материал, полезный следователям госполитохраны.
Глава четвертая
«Об убийстве мужа я узнала в пятницу. Кто мог совершить убийство и с какой целью, сказать не могу. Со своей стороны считаю, что в данном случае нет оснований думать, что убийство совершено из–за мести, так как врагов у покойного не было.. До меня дошли некоторые сведения, что подозревают бывшего с ним Козера, но это едва ли могло быть со стороны партийного товарища: о нем я ничего плохого не слыхала».
Из показаний жены П. Ф. Анохина 19 мая 1922 года.«Я со своей стороны допускаю в данном случае месть со стороны партийных работников. Муж мой состоял в комиссии по чистке партии и на этой почве у него могли быть враги… От мужа я, однако, не слыхала, чтобы из–за чистки партии на него кто–нибудь особенно обижался… Я высказываю одно свое предположение, что могли быть недовольные комиссией но чистке партии, где они работали совместно с Анохиным».
Из показаний жены Крылова 19 мая 1922 года.1
Директор Главного Управления госполитохраны Лев Николаевич Бельский принял на себя лично руководство расследованием «витимского дела».
13 мая милицейский разъезд наткнулся в лесу, в нескольких километрах от места преступления на выпряженную повозку, а затем обнаружил спрятанные вблизи нее охотничьи ружья, принадлежавшие убитым. Грабительский почерк преступления продолжал сказываться, и, не мудрствуя лукаво, Бельский предпринял энергичные розыски среди уголовного мира Читы.
Вечером 14 мая поступили сообщения, что «витимское дело» совершено известным уголовником Костей Ленковым. Бельский охотно допускал такую возможность, но сообщения основывались лишь на «базарных разговорах», и этим настораживали. Создавалось впечатление, что кто–то сознательно распространяет по Чите этот слух.
Назавтра Бельский посетил военный госпиталь и еще раз подробно расспросил обо всем Станислава Козера. Потом он встретился со следователем Фоминым, внимательно перечитал протоколы. Никаких новых данных, которые опровергали бы версию об уголовном характере преступления, обнаружить не удалось. Не снятые убийцами с руки Анохина дамские часики оставались единственной противоречащей уликой, но, как он понял из разговора, Фомин все еще на что–то рассчитывал в своем предположении, что дело это политическое.
— Теперь–то, надеюсь, вы уже сняли свои подозрения с Козера? — спросил Бельский. — Говорят, в субботу вы чуть ли не весь день допрашивали его.
Фомин оставил без внимания легкую ироничность последней фразы директора ГПО.
— До тех пор, — сказал он, — пока не будут выявлены убийцы и настоящие мотивы преступления, мне кажется, мы не имеем права снимать подозрение с кого–либо, кто замешан в этом деле.
— Но не может же так продолжаться вечно, — возразил Бельский. — Насколько я понимаю, круг подозреваемых должен постепенно сужаться, если мы хотим разыскать истинных виновников. В противном случае дело будет стоять без движения. Пора приходить к какому–то выводу. Объективные данные говорят, что убийство совершено уголовниками. Вы согласны с этим?
— Да, объективные данные указывают на это.
— Вчера я получил сведения со стороны, что ограбление совершено бандой Кости Ленкова. Я дал задание своим агентам тщательно проверить эти слухи, и уверен, что не сегодня–завтра мы получим веские доказательства.
— Я согласен и с этим.
— Тогда я не могу понять, что вас, товарищ Фомин, смущает?
— Лев Николаевич! Я готов признать, что убийство совершено уголовниками. Я, как и вы, почти убежден в этом. Смущает меня цель этого злодеяния. Вы скажете, цель — ограбление? Хорошо. Согласимся и с этим. В таком случае, мы должны признать, что убийство Анохина и Крылова было со стороны бандитов чистой случайностью. Не станут же грабители преднамеренно нападать на политических деятелей?
— Ну–ну, продолжайте!
— Очень загадочная получается случайность. Два с лишним месяца на тракте тихо. Ежедневно по нему проезжает много людей: и крестьян, и торговцев, и спекулянтов золотом. Единственный раз поехали крупные политические деятели, и вот вам — пожалуйста. Не очень ли странно это?
Бельский слушал судебного следователя уже не без раздражения. Намек Фомина вновь возвращал его к тем сомнениям, которые зародились в нем самом еще на тракте, при первом ознакомлении с обстоятельствами происшествия, затем три дня бесплодно терзали его и теперь начали уступать свое место более ясному и доказательному исходу.
Как всегда, свою досаду Бельский скрыл за легкой ироничностью.
— Что поделать, — улыбнулся он, — в нашей службе странности не должны исключаться. Что странно для нас с вами, вполне логично для бандита и убийцы. Факты и улики говорят, что такая странность произошла. Козер — единственный свидетель — подтверждает, что убийцы были типичными грабителями.
— Я знаю это. Но вспомните! Тот же Козер говорит, что грабители после окрика сразу же открыли огонь. Подумайте об этом! Зачем им начинать «мокрое дело», если их задача забрать кошельки и смыться.
— Очень просто! Они видели, что охотники едут вооруженными. Не станут же они ждать, пока те первыми откроют огонь!
— Тогда тем более непонятно! — воскликнул Фомин, — Почему из всех, проезжающих по тракту, бандиты выбрали для нападения именно Анохина, Крылова и Козера которые были хорошо вооружены? Почему они не только ограбили, или сделали вид, что ограбили тяжело раненных, но и зверски добили их?
— С вашей точки зрения можно задать в таком случае еще один более важный вопрос…
— Какой?
— Даже не один, а бесконечное множество. Почему бандиты не преследовали убегавшего Козера? Почему убитыми оказались Анохин и Крылов, а Козер, сидевший первым, был лишь легко ранен в мякоть правой ноги? Почему Козер не нашел сразу место происшествия? Тогда будьте, пожалуйста, последовательным, предъявите Козеру обвинение в соучастии и попробуйте доказать это! Но как я понял, этого вы не намерены делать. В таком случае, зачем вы задаете мне другие, еще менее доказуемые вопросы? Что вы хотите? Ответа на них? Или чего–то иного? Вы же не новичок, вы знаете, что загадочных вопросов возникают десятки даже при пустяковом деле. Как только выявятся убийцы, все эти вопросы отпадут сами собой и будут казаться смешными. Если бы я не знал вас, товарищ Фомин, то мог бы подумать, что вы попросту растерялись и не знаете, как вести дело. Не обижайтесь за прямой разговор! Мне кажется, вы допускаете одну серьезную ошибку, — сказал Бельский, поднимаясь и с улыбкой протягивая на прощанье руку.
— Какую? — спросил Фомин, смущенный неожиданным поворотом разговора.
— Вы же знаете, что убийство человека из–за золотого червонца — это результат ненормальности человеческой психики. А вы мотивы подобного преступления пытаетесь искать при помощи нормальной логики. Вам не доводилось учиться в гимназии?
— Нет, не доводилось.
— А мне пришлось. И наш латинист любил употреблять термин «in adjecto», что означает противоречие между определением и определяемым словом. Например — «черный снег». Мне кажется, и ваши подозрения смахивают на это.
2
13 управлении Бельского ждали добрые вести. Секретный агент, обосновавшийся в Кузнечихе, как в обиходе назывался окраинный район Читы, сообщил, что неизвестными лицами предлагается к продаже пистолет системы «маузер» и тридцать патронов к нему. За все просят сто рублей золотом. В то время продажа оружия на черном рынке в Чите — была делом не редким. Поэтому Бельский, хотя уже и предчувствовал удачу, все же из опасения не войти в лишние расходы предложил незаметно узнать вначале номер пистолета.
Началось томительное ожидание.
Наконец стало известно, что маузер имеет номер 163103. Сверив его с удостоверением на право ношения оружия, выданным П. Ф. Анохину Олонецкой ГубЧК, Бельский с радостью убедился в полном совпадении номеров и дал распоряжение — пистолет купить, но предложить за него не более пятидесяти рублей золотом.
Денег теперь он уже не жалел, но сумму резко занизил для отвода подозрений, будучи твердо уверен, что бандиты согласятся и на это.
К сожалению, на этот раз вышла осечка. Агент сообщил, что маузер так дешево не продают, что предложение вначале делалось от имени Кости Ленкова, который неожиданно распорядился всякую торговлю прекратить и забрал пистолет обратно. Человек, ведший переговоры с агентом, вдруг предложил ему браунинг «из новых, как он сказал, рук». Боясь, что все эти манипуляции придуманы торговцами для проверки надежности покупателя, агент искренне посетовал на свое невезение и сказал, что в свою очередь он уже выгодно запродал маузер третьему лицу и, поторговавшись, купил браунинг с патронами за 15 рублей. Одновременно, окольными путями, ему удалось установить фамилию и местожительство торговца. Им оказался некий Константин Леонтьевич Баталов, проживающий в Кузнечных рядах в доме Шаногина.
Бельский запросил в угрозыске и читинской тюрьме данные о Баталове.
Выяснилось, что Баталов впервые попал в тюрьму в сентябре 1918 года, при белых, по подозрению в убийстве. Следствие велось долго, но безрезультатно, и 20 февраля 1920 года Баталов был освобожден. Однако через месяц его снова арестовывают по обвинению «в сопричастности большевизму», и снова через полгода освобождают «так как в Красной Армии он служил по недостатку средств, вел себя пассивно, хотя и был помощником командира роты». При народной власти Баталов за уголовное преступление приговаривается к году тюрьмы, где добровольно входит в группу «иваны», которая грабила и истязала заключенных.
Освобожденный 18 марта 1922 года, занимается случайными работами, в основном, распиловкой дров. По сведениям угрозыска, Баталов хорошо знаком с Костей Ленковым и есть основания полагать, что он входит в его банду.
Браунинг, купленный у Баталова, Бельский показал работникам Дальбюро, которые письменно подтвердили, что револьвер принадлежал убитому Дмитрию Крылову.
— Баталова не трогать! — распорядился Бельский. — Установить за ним тщательное наблюдение и ждать! Начинать будем с самого Ленкова!
Такое решение Бельский принял не случайно. Шайка Ленкова вот уже длительное время доставляла немало хлопот и уголовному розыску, и госполитохране. Она организовалась около года назад, и первым ее руководителем был монтер городской электростанции Гутарев, служивший в свое время тайным агентом белой контрразведки. Зародилась банда как уголовное сообщество, но Гутарев постепенно стал превращать ее в политическую террористическую организацию. Делал он это хитро. Иногда по «ложной наводке», иногда в порядке мести, он направлял участников шайки на ограбление и убийство сотрудников милиции, угрозыска, госполитохраны и партийных работников. Сразу же внутри банды наметилось расслоение, а потом пошли и противоречия. Значительная часть бандитов, во главе с Костей Ленковым, воспротивилась такому направлению «работы» и провозгласила анархический лозунг — «экспроприация для эксплуатируемых». Во время одного из налетов Гутарев «оказался» убитым и главенство перешло к Ленкову.
О Ленкове имелись скудные и весьма противоречивые сведения. Известно было, что родился он в деревне Старая Кука, неподалеку от Читы в 1895 году. Еще до революции занялся тайной контрабандой через китайскую границу. В 1918 году вступил в партизанский отряд и два года воевал с белыми. Однако, когда организовалась Дальневосточная республика, он отказался служить в регулярной Народно–Революционной Армии, скрылся из отряда и перешел на нелегальное положение.
С тех пор отрывочные сведения о нем поступали лишь через уголовный розыск.
Действиями банды Костя Ленков руководил умело и удачливо. Дважды милиция, госполитохрана и части особого назначения предпринимали в Чите большие облавы, и каждый раз в их руки попадали лишь второстепенные члены шайки. Создавалось впечатление, будто кто–то заранее предупреждал Ленкова о готовящейся операции, и он успевал увести своих из города.
Оба раза, через два–три дня после облавы, в госполитохрану по почте поступали от Ленкова письменные обращения, смысл которых сводился к следующему:
«Уважаемый товарищ начальник ГПО!
Вам хорошо известно, что с политической властью мы не воюем. Мы сами боролись за Советскую власть. А сейчас, коль так повернулось дело и буржуям опять дали волю жиреть, мы их грабили и будем грабить. Вас мы не трогаем и просим не трогать нас.
Бывший партизан Константин Ленков».
Такие же письма направлял он и начальнику читинского уголовного розыска Дмитрию Фоменко. Надо сказать, что Ленков действительно не вступал ни в какие связи с политическими белыми бандами, засылаемыми на, территорию ДВР из Манчжурии. Дошли сведения, что одна из семеновских банд, действовавшая в южном Забайкалье и недавно разгромленная, много раз делала Ленкову предложения о сотрудничестве, но Ленков начисто их отверг.
Банда Ленкова оставалась последней — невыловленной и даже по–настоящему не раскрытой. В отличие от других, базировалась она не где–нибудь в далекой таежной глуши, а в столице республики, под боком у милиции, госполитохраны и штаба отрядов ЧОН.
Как это ни странно, но борьба с нею приняла явно затяжной характер.
Ленков так повел дело, что завоевал популярность не только среди уголовного мира, но и у какой–то части городских обывателей и казаков близлежащих селений. В нужный момент он, несомненно, пользовался их поддержкой или, по крайней мере, укрывательством.
Бельский давно понял, что одними облавами быстро справиться с хорошо законспирированной и широко разветвленной бандой навряд ли удастся. Необходимо нанести прямой удар «головке» банды, в которую, по сведениям, входили сам Ленков и несколько его помощников.
С этой целью еще ранней весной Бельский дал задание своим агентам искать контакта с бандитами. Такие попытки до этого предпринимались угрозыском и заканчивались провалом. Или сотрудники угрозыска действовали слишком напористо, или кто–то информировал обо всем Ленкова.
Пока не очень–то успешно двигалось дело и у секретных агентов ГПО. Лишь одному из них повезло. Он, наконец, устроился квартирантом в доме, в котором, по слухам, иногда бывает Ленков. Правда, до сих пор «квартиранту» не удалось еще повстречаться с Ленковым, но кое–какие сведения о банде к нему все же просачивались через хозяина.
Вторая ниточка — покупка браунинга.
Вначале предложение маузера от имени Кости Ленкова насторожило Бельского. Бандиты в торговых делах очень осторожны. Подумалось, что тут или «ловушка» для агента, или Баталов — совсем не «ленковец» и лишь делает вид, что связан с Ленковым. Потом, когда от главаря банды поступил запрет на продажу маузера и на свет божий появился крыловский браунинг, Бельский успокоился. Он как–то сразу уверовал, что след нащупан правильный, что Баталов с браунингом сделал очередную «оттырку» в свою пользу и деньги положит в собственный карман, в надежде, что атаман никогда не узнает об этом. Такое у бандитов случается довольно часто.
Теперь, если агент не будет шляпой, то у него есть все возможности сблизиться с Баталовым, войти к нему в доверие. Продажей браунинга Баталов сделал себя дважды зависимым от своего покупателя — и перед Ленковым, и перед правосудием. Теперь для агента может открыться через Баталова путь к «головке» банды.
«Главное — не спешить, главное — иметь мужество и терпение выждать!»
Только подумалось об этом, как Бельский резко прервал ход своих мыслей.
Как же не спешить, когда речь сейчас идет не только о поимке банды, а о скорейшем выявлении виновников и мотивов убийства товарищей Анохина и Крылова? Не сегодня–завтра его снова вызовут в Дальбюро и уж, надо думать, без скидок спросят за все — и за гибель таких товарищей, и за халатность в борьбе с бандитизмом и контрреволюцией, и за медлительность в расследовании загадочного «витимского дела». Если не будут приняты скорые и решительные меры, то с заседания можно уйти и без партийного билета. Кто станет всерьез принимать доводы, что убийство совершено уголовным элементом, коль на стол не будут выложены веские доказательства?
Нужно было действовать безотлагательно.
Опасаясь, что Баталов может оказаться далеко не главным лицом в витимской трагедии, Бельский приказал его пока не беспокоить, агенту продолжать постепенное сближение с ним, а сам решил попробовать подойти к цели с другой стороны, благо такой случай счастливо представился.
В то время в Чите находился партизанский командир, депутат Народного собрания Петр Афанасьевич Аносов, в отряде которого служил в 1919–1920 годах Костя Ленков.
Бельский решил прибегнуть к его помощи.
Глава пятая
«К помощи т. Аносова я прибег потому, что Ленков написал на имя Аносова письмо, в котором он говорит, что убил не он. В этом письме Ленков говорит о встрече с товарищем Аносовым. Я решил воспользоваться этой встречей, чтобы арестовать Ленкова».
Из показаний Л. Н. Бельского 16 июня 1922 года.1
26 августа 1918 года Чита была занята чехословаками. Вслед за ними в город вошли белогвардейские части казачьего атамана Семенова, а через неделю на станции появились хорошо вооруженные эшелоны японских интервентов.
Советская власть в Чите пала.
Конференция городских советских и партийных работников, собравшаяся 28 августа на станции Урульга приняла решение прекратить борьбу сплошным военным фронтом и перейти к партизанским действиям против белогвардейцев и интервентов…
Старый большевик, член партии с 1907 года П. А. Аносов положил начало своему партизанскому отряду в районе сел Бальзино и Дарасун. Там, в стороне от Акшинского тракта, собралась в лесу группа бывших советских работников Читы и сельских активистов. Отряд был небольшой, всего несколько десятков человек, но после первых удачных стычек с семеновцами он стал расти, превратился в бригаду, объединив ряд мелких партизанских групп и отрядов. Тогда–то Аносов и познакомился с Костей Ленковым, уроженцем села Старая Кука.
Был тот ловок, силен, вынослив, хорошо знал тайгу, а если и отличался безудержным своеволием, то кто в ту пору придавал этому значение?! Время было такое, что личная храбрость все искупала и почиталась на первом месте. Что–что, а храбрости и ловкости Ленкову было не занимать. Охотно ходил он в разведки, даже в одиночку. Как–то в районе Песчанки под Читой попал в руки японцев, был опознан, как партизан, и подлежал расстрелу. По дороге к месту казни изловчился, расправился с тремя конвоирами и с незажившей глубокой раной на голове вновь появился в отряде.
Среди партизан поговаривали о Ленкове разное.
И что он на руку не чист, что еще в дореволюционное время занимался контрабандой, что за ним числится много темных делишек в прошлом. Что тут было правдой, Аносов так и не смог тогда разобраться. Попробовал расспросить о Ленкове его старого знакомого Егора Бурдинского, но тот выслушал и махнул рукой:
— Ерунда все это… Да и кто, скажи, в Забайкалье не занимался контрабандой? Главное, что человек жизни не жалеет за наше дело.
Воевал Ленков действительно хорошо, выдвинулся в командиры, и Аносов уже готов был полностью поверить ему, но конец партизанской войны в Забайкалье вновь изменил его представление о «лихом Косте».
В августе 1920 года в селе Покровка, что стоит при слиянии рек Шилка и Аргунь, был созван 3‑й съезд партизан Восточного фронта. Обсуждался один вопрос — о создававшейся тогда Дальневосточной республике. Доклад командующего Восточным фронтом Д. С. Шилова был встречен партизанами весьма настороженно и даже недоброжелательно. Они никак не могли понять, зачем после многолетней и теперь успешно завершающейся борьбы с белыми нужно организовывать буферную, отдельную от Советской России республику? Да еще какую–то демократическую? Да еще с допуском частного капитала? За что же, выходит, сражались с чехословаками, с колчаковцами, с семеновцами, с канпелевцами, с японцами? За что кровь проливали?
На все доводы, что буферное государство создается временно, для избежания войны с японцами, наиболее рьяные из партизан кричали:
— Побьем япошек! Даешь Советы!
Дело дошло до того, что родной брат командующего фронтом Степан Шилов самовольно образовал «объединенный штаб амурских партизан», который заявил о неподчинении центральному командованию, об отказе вступить в регулярную армию. Дальбюро и правительству ДВР понадобилось немало усилий, чтобы ликвидировать эту анархическую затею.
В то весьма смутное для партизан время Аносов и услышал от Ленкова фразу:
— Эх, деятели! Продали но капельке партизанскую кровушку!
Командир бригады попробовал разъяснить ему ошибку, убедить в необходимости всей предпринимаемой реорганизации, но Ленков впервые недобро посмотрел на него и сощурился:
— Брось трепаться! А то и ты уважение растеряешь!
Через несколько месяцев Костя Ленков скрылся из отряда. Ушел на задание и не вернулся. Сочли погибшим.
Не знал Аносов, что почти полгода Костя Ленков жил в таежных селениях, пил–гулял, не снимая с папахи партизанской ленты, а потом на трофейном коне вернулся в родное село, к матери. На земле работать не захотел, занялся извозом. Возил людей на золотые прииски и обратно. Летом в 1921 году вез с Оленгуя двух читинских китайцев, которые всю дорогу весело болтали по–своему. Их языка Ленков не знал, но тут многого и не требовалось, чтобы понять, что купцы возвращаются с выгодной добычей. Недели через две во время сенокоса неподалеку от Куки были обнаружены два трупа. Началось расследование. На первом допросе Ленкову удалось отговориться, а затем он не стал испытывать судьбу и снова скрылся. В Чите отыскал кое–кого из бывших друзей по старым контрабандным делам…
Ничего этого не знал Аносов, по в последний год, приезжая ненадолго в Читу, Аносов стал слышать фамилию своего бывшего партизана и даже, помнится, вначале задумывался — а он ли это, и нет ли тут совпадения? Но постепенно уверенность, что это, конечно, его Костя Ленков, стала настолько твердой, что наводить справки или расспрашивать было уже и совестно, и не нужно.
2
Бывая в Чите, Аносов останавливался в небольшой пекарне напротив Базарной площади, хозяина которой — Турка — знал еще с дореволюционных лет. «Турок» — это прозвище старика–татарина, невесть когда сосланного в Забайкалье. Во времена семеновщины он за хорошую плату устроил на своей квартире подпольную партизанскую явку и честно содержал ее до освобождения Читы. Аносов ему доверял, хотя и догадывался, что молчаливый, вечно озабоченный Турок не гнушается какими–то мелкими коммерческими махинациями на черном рынке. Двери пекарни не закрывались ни днем, ни ночью, а все разговоры с хозяином велись настороженным полушепотом.
Однажды, когда Аносов вернулся вечером в свою «боковушку», Турок поднялся к нему и равнодушно протянул конверт:
— Тэбэ пысмо.
Ни марки, ни почтового штемпеля на конверте не было. Листок бумаги покрыт торопливыми сбегающими книзу строчками:
«Здравствуй, дорогой бывший товарищ и командир. С приветом к тебе Ленков Костя. Позавчера на похоронах Анохина и Крылова я видел тебя, но подойти побоялся. Обидно, что и это дело пришивают мне. А убивал не я, и с политическими я дела не имею. Если помнишь ты еще нашу совместную партизанщину, то надо бы нам встретиться и поговорить. Напиши мне и оставь в пекарне у Турка, кто–нибудь перешлет мне при случае. Приду, куда скажешь, тебе у меня полная вера».
Письмо так растревожило Аносова, что он не спал всю ночь. Назавтра ему предстояло выехать к месту новой службы в Сретенск. Вместе с тем, оставить без внимания просьбу Ленкова тоже не хотелось. А вдруг парень, действительно, не виновен в убийстве товарищей Анохина и Крылова? Вдруг все слухи, которые ходят по Чите о Косте Ленкове, окажутся ложными? Хотя нет. Он в письме отрицает лишь политическое убийство, а об ограблениях не говорит.
Утром, уходя, Аносов положил хозяину записку без адреса.
«Уезжаю сегодня вечером. Приходи, когда надумаешь».
Турок не проронил ни слова, даже не спросил, кому предназначена записка.
Первым, кого увидел Аносов, явившись в Дальбюро для беседы перед отъездом, был директор госполитохраны. Бельский словно бы специально поджидал Аносова и, когда тот вошел, особенно дружелюбно поздоровался с ним. Такая приветливость Бельского породила в душе Аносова немалое смятение. Письмо Ленкова стало казаться ему нарочно подстроенной уловкой, и он с нетерпением ждал, когда же Бельский спросит о нем.
Разговор произошел тут же в кабинете, в присутствии ответственного работника Дальбюро, занимавшегося борьбой с бандитизмом. Бельский без обиняков приступил к делу. Он прямо заявил, что товарищей Анохина и Крылова убила банда Кости Ленкова, что у ГПО имеются веские доказательства этого, что в поимке главаря он рассчитывает на помощь Аносова, что это дело большой государственной и политической важности.
Аносов молча протянул ему письмо Кости Ленкова.
Прочитав его, Бельский обрадовался, но тут же скрыл это за насмешкой:
— «С политическими он дела не имеет…» Старая песня, которую каждый раз затевают! Ну, товарищ Аносов! Жду ответа! Повторяю, дело это большой политической важности и обращаюсь к тебе как коммунист к коммунисту.
Поручение было Аносову не по душе, но что можно возразить? Дело–то, действительно, касалось не только его или Бельского, вся ДВР еще жила злодейским убийством на Витимском тракте, а если Ленков и не причастен к этому, то за его бандой столько преступлений, что давно пора покончить с ней.
— Я согласен, — медленно произнес Аносов. — Только прошу объективно и тщательно разобраться с самим Ленковым. Мне он в партизанские годы казался неплохим парнем.
— Я понимаю, — успокоил его Бельский. — Понимаю и обещаю. Все будет сделано.
— Как быть? Сегодня я должен уехать.
— Я знаю. Не беспокойся; я уже обо всем договорился.
Тут же разработали план. Аносов сказал, что он пригласит завтра утром Ленкова к себе в пекарню и арестует его.
— Может быть, он сам согласится сдаться ГПО, — высказал надежду Аносов, вспомнив оправдывающийся тон письма.
— Об этом даже и не думай! — предостерег его Бельский. — Для отвода глаз, конечно, можно поговорить и об этом, но не разоблачи себя перед ним раньше времени. Ленков лучше нас с тобой знает свои грехи. Я чувствую, тебе одному с ним трудно будет справиться. Нужен кто–либо в помощь. Лучше бы из партизан… Ты хорошо знаешь Бурдинского?
— Гошу–то? Кто ж его не знает?
— Ленков тоже знаком с ним?
— Да, конечно. Бурдинский командовал соседним отрядом.
— Я попрошу его помочь тебе. Наши сотрудники будут ждать сигнала в соседнем квартале. Если что, применяйте оружие. Лучше, конечно, взять его живьем, но ни в коем случае нельзя упустить Ленкова!
Вернувшись в пекарню, Аносов с радостным видом сообщил Турку, что остается в Чите еще на сутки или на двое, что вечером к нему придут товарищи по партизанству и по этому случаю надо бы покутить. Он попросил хозяина достать три–четыре бутылки водки и дал деньги. Узнав, что его записка еще не отправлена, тут же написал новую.
3
Со все возрастающей тревогой ждал Аносов приближения назначенного часа. Больше всего он боялся, что Ленков явится не один и тем самым до чрезвычайности осложнит его задачу. Поэтому он искренне обрадовался, когда бывший командир партизанского отряда Георгий Бурдинский пришел к нему вместе со своим «адъютантом», а следом за ними, совсем уже неожиданно, появился и еще один партизан — Наум Тащенко. Аносов никогда не был близок с Тащенко, хотя тот в свое время тоже был избран депутатом Учредительного собрания ДВР.
«Постарался Бельский!» — подумал Аносов, не заметив, что при появлении нового гостя Бурдинский и его «адъютант» настороженно переглянулись.
Шумный, слегка подвыпивший Тащенко вел себя так, как будто попал к своим закадычным друзьям. Увидев на столе бутылки с водкой, он так обрадовался, что ударил об пол лохматой белой папахой:
— Вот те на! А я, понимаешь, как знал! Идем мы, понимаешь, с Колькой Письменновым мимо, дай, думаю, загляну. Знаю, знаю, Аносов, какой ты у нас трезвенник! Но неужто, думаю, не уговорю выпить по капелюшке этой проклятой влаги ради товарища по партизанству! А тут пир горой! Жаль — Колька Письменнов отказался. Здорово, братцы! Принимайте в компанию! Тут и Гоша–друг! Ты это здорово придумал, — повернулся он к Аносову, — собрать друзей, да вспомнить боевые годы! Вот моя доля!
Из внутреннего кармана тужурки Тащенко вынул бутылку самогона, откупорил и разлил по стаканам.
— Ну, за встречу! Так, что ли?
— Скорей, за расставание! — усмехнулся Аносов, поднимая стакан. — Уезжаю я завтра.
— Куда?
— В Сретенск направляют.
Тащенко одним махом опрокинул в рот свою порцию, крякнул, понюхал кусочек хлеба, поморщился:
— Вот скажи — какая коловерть с нами, с партизанами получается… Когда семеновцы да япошки властвовали, были мы красными орлами революции. Всем нужны! А теперь понаехало из России видимо–невидимо! А вы бывшие партизаны, будьте любезны, отправляйтесь к черту! Уж ты–то, Аносов, человек грамотный, политически подкованный! Неужели не заслужил ты должности в Чите?
— Тебе–то, Тащенко, грех обижаться! — подал голос Бурдинский, закусывая после выпивки.
— Это почему же?
— Ты же депутат Народного собрания.
— Был депутат, да сплыл, — недобро засмеялся Тащенко. — Это когда наша партизанская власть была, выбрали… А теперь и не хотят выбирать, от ворот поворот. На второй созыв другие нашлись. Из России получше меня приехали.
— Ты и партизаном–то был без году неделя! — оборвал его Бурдинский.
Тащенко обиделся, но промолчал.
Так через пень–колоду и тянулся никому ненужный разговор. С минуты на минуту должен был появиться Костя Ленков. То и дело прислушиваясь, Аносов наблюдал за Тащенко и силился понять — послан ли он сюда Бельским или пришел случайно? Не лучше ли выпроводить его, пока есть время?
Тащенко выпил снова, заметно захмелел и вдруг притих, глядя осоловелыми глазами по сторонам.
— Не пойму я, — заплетающимся языком произнес он и встал. — Ждете вы кого, что ли? Если мешаю, могу уйти… Навязываться я не люблю…
— Сиди! — резко дернул его за плечо Бурдинский. — Никого мы не ждем. Сиди и пей, если хочешь!
— А чего молчите тогда? Нет уж, я молчать не согласен… И навязываться не люблю… Вот выпью еще немного и пойду!
Пока он, расплескивая водку мимо стакана, наливал себе, Аносов тихо поднялся и вышел.
Турок в пекарне топил печь.
— Приходил ко мне кто–нибудь еще? — прямо спросил Аносов.
— Прыхадыл, — равнодушно отозвался хозяин, шуруя в топке длинной металлической кочергой.
— Кто приходил? Партизан?
— Нэ знаим. Адын прыхадыл.
— Почему не вошел?
— Нэзнаим.
— Кто был? Костя Ленков? Он сказал что–нибудь?
Турок повернул к нему потное лицо, пристально посмотрел сквозь узкие щелочки заплывших жиром глаз, пожал плечами:
— Нэ знаим… Лэнкова нэ знаим… Нычего нэ гаварыл.
Аносов уже догадался, что приходил Ленков. Дело было сорвано. Досадуя на неудачу и видя ее причины лишь в неожиданном появлении Тащенко, Аносов вернулся в свою комнату, взглядом подозвал Бурдинского и шепнул:
— Он был, но не вошел. Надо что–то делать.
Пьяный Тащенко, отвалившись к стене и закрыв глаза, пел что–то фальшивое и бессвязное. «Адъютант» пристально наблюдал за ним через отражение в угловом зеркале. Бурдинский за время отсутствия Аносова тоже успел выпить, настороженность в его глазах сменилась хмельной удалью. Он подошел к Тащенко и взял «то за грудки:
— Хватит выть! Пошли отсюда!
Тащенко открыл глаза, бессмысленно улыбнулся и медленно погрозил пальцем перед носом Бурдинского:
— А я знаю, кого вы ждете! Меня, брат, не проведешь…
— Ничего ты не знаешь. Хватит болтать. Пойдем, домой отведу!
— Погоди, Бурдинский… Ты хороший человек… А твой «адъютант» — сука! Он все время за мной следит. Ты бойся его, Бурдинский! Он продаст тебя госполитохране, вот увидишь.
— Перестань болтать!
Бурдинский поднял с пола папаху Тащенко, натянул ему на голову, с силой прихлопнул ее и потащил пьяного к двери.
— Да ты что! — вдруг выпрямился Тащенко, — Ты думаешь, я и вправду пьян? Ерунда! Я еще столько могу выпить и — ни в одном глазу!
— Уходи–ка, давай! К нам должен прийти один человек… Не мешай, понимаешь?
— Ага, все–таки ждете? — остановился обрадованный Тащенко. — Зря ждете! Не придет. Пока я тут, он ни в жисть не придет!
— Почему?
— А это уж ты, Бурдинский, извини, — погрозил ему пальцем Тащенко. — Тебе одному скажу, а при этой суке, — он посмотрел на молчаливого, словно ничего не слышавшего «адъютанта», — я и тебе сказать не могу.
Бурдинский полуобнял пьяного Тащенко и зашептал ему на ухо:
— Тут все наши. «Адъютант» — свой в доску, ты его не бойся. А человек этот мне вот как нужен. Серьезное дело имею, надо бы повидаться.
— Не-е, Бурдинский! — громко засмеялся Тащенко. — Ты меня так не покупай… Здесь я говорить с тобой не буду. Не буду и все! Хочешь пойдем вдвоем в харчевку к Фильке–Медведю… там и поговорим. Ты, Аносов, если хочешь, пойдем с нами.
— Я идти не могу, — сказал Аносов, переглянувшись с Бурдинским. — У меня дела есть.
— Тогда и ты не ходи с нами! — сказал Тащенко в сторону «адъютанта».
Но тот, как бы не понимая русского языка, молча поднялся и пошел следом. Бурдинский с порога шепнул Аносову.
— Жди тут. Я скоро вернусь.
4
В тот же день, часов около одиннадцати вечера на квартиру к Бельскому прибежал расстроенный Аносов и сообщил, что весь план провалился.
Он рассказал следующее.
Тащенко, Бурдинский и «адъютант» направились в харчевку Фильки–Медведя, чтобы постараться выведать, где находится Костя Ленков. Придя туда, они сели за стол, попросили водки и закуски. Через некоторое время Бурдинский вызвал на двор хозяина харчевки и стал расспрашивать его о Ленкове, сказав, что у него есть срочное дело к нему. Филька подтвердил, что Ленков, действительно, изредка заходит с товарищами в его столовку, но где он проживает — никому неизвестно. Однако тут же хитрый хозяин харчевки на всякий случай назвал Бурдинскому несколько адресов, где, по его словам, иногда бывает Костя. Как только они вернулись в столовую, Филька предложил Бурдинскому выпить ради доброго дела, поднес ему «крепача», и Бурдинский тут же опьянел до невменяемости. Увидев это, Тащенко схватил за горло «адъютанта» и со словами — «Что, сука, Костю нашего хотел выдать!» — стал душить его. «Адъютант» с большим трудом отбился и прибежал к Аносову.
Видя, что все провалено, Бельский решил немедленно арестовать всех лиц, знавших Ленкова, и тех, у кого, по имеющимся сведениям, мог скрываться главарь банды. По телефону он переговорил с начальником угрозыска Фоменко, велел ему поднимать всех сотрудников.
Филька–Медведь, Тащенко и пьяный Бурдинский были взяты прямо в харчевке. Несколько оперативных групп поехали одновременно в Кузнечные ряды, чтобы произвести обыски и аресты в домах Кости Баталова, его брата Спиридона, Маркела Сабинова, у цыган Гроховских и Зазовских, у известной перекупщицы краденого Александры Киргинцевой.
Зная по опыту прошлых облав, насколько осторожен и предусмотрителен главарь банды, Бельский совсем не рассчитывал, что на этот раз удастся наткнуться на самого Костю Ленкова.
Но вышло по–иному…
Когда начальник угрозыска Фоменко и его агенты вошли в дом Киргинцевых, они обратили внимание, что дверь на улицу не заперта. На вопрос — есть ли в доме кто–либо чужой, хозяин ответил, что никого нет, и при этом боязливо посмотрел в темноту сеней. Это был быстрый, совсем мимолетный взгляд, но и его оказалось достаточным, чтобы опытный Фоменко понял — тут далеко не чисто.
— На чердаке кто–то есть! — крикнули со двора.
Фоменко вышел на улицу. Вход на чердак в доме Киргинцевых был наружным — по деревянной лестнице…
— Кто на чердаке? — крикнул Фоменко. — Слезай или будем стрелять!
В ответ ни звука.
— Еще раз повторяю — слезай или будем стрелять!
Снова молчание.
Фоменко повернулся к дрожавшему, съежившемуся хозяину дома:
— Есть там кто–нибудь?
— Н-ет. Н-не знаю… Никого не было.
— Полезай туда! — шепотом приказал Фоменко и дал знак агентам подсадить Киргинцева на лестницу.
Подпираемый в спину дулами наганов медленно и молча взбирался хозяин дома по скрипучей лестнице вверх. Вот его голова оказалась уже на уровне черного открытого лаза. В этот момент оттуда грянул выстрел. Киргинцев еще успел крикнуть:
— Костя, не стреляй! Это — я!
И грузным безжизненным мешком свалился на землю.
В ту же секунду из темноты чердака раздался новый выстрел. Кто–то спрыгнул вниз и, стреляя на бегу, метнулся к забору.
— Ребята, это — Ленков! Держите его! — слабеющим голосом крикнул Фоменко. Тяжело раненый, он лежал на земле и силился поймать на мушку убегавшего. Вспышки беспорядочных торопливых выстрелов мелькали со всех сторон, но бандит, словно заколдованный, в четыре прыжка достиг забора, перемахнул через него и скрылся. Четверо сотрудников угрозыска бросились вдогонку, но темнота, всеобщий переполох и ошалелый лай собак по всему поселку сделали погоню безуспешной.
Начугрозыска Фоменко скончался по пути в больницу.
Лишь позже выяснилось, что его убийцей был не Ленков, а один из главарей банды Михаил Самойлов. Сам Ленков, воспользовавшись суматохой, бесшумно вылез через чердачное окно с другой стороны и вновь скрылся.
Аресты продолжались. К утру в арестном помещении при ГПО находилось семнадцать лиц, подозреваемых в соучастии в банде Ленкова. Нетронутой осталась лишь одна известная бандитская явка — там, где квартирантом благополучно устроился секретный агент госполитохраны. Для отвода глаз в арестном помещении содержался и бывший красный партизанский командир Бурдинский.
Глава шестая
«Вскоре мной было получено от Лепкова письмо, в котором он сообщил, что политических работников не убивает, что бьет буржуев, а также разнесет уголовный розыск и ГПО за то, что арестовывают бывших партизан…»
Из показаний на суде свидетеля Л. Н. Бельского 10 октября 1922 года.1
Новая жертва бандитизма, вторые торжественно–траурные похороны в городе за неделю…
Чита негодовала. Газеты вновь запестрели призывами: «Бандитизм — оплот внутренней контрреволюции! Все силы на борьбу с ним!»
Эсеры воспрянули духом. Гибель начальника угрозыска Фоменко от руки общеизвестного уголовника Ленкова, которого весь город считал теперь бесспорным виновником витимской трагедии, как бы снимала все обвинения против их партии в том, что она замешана в убийстве Анохина и Крылова. Они на митингах и в печати с готовностью присоединились ко всеобщему призыву — «Положить конец бандитизму!» Однако тут же с мудрым видом считали нужным добавить, что бандитизм — явление социальное, что корни его кроются в неразрешенных противоречиях жизни, что он является своеобразным стихийным протестом масс против ограниченности демократии в ДВР. Трудно было понять: то ли осуждают они бандитизм, то ли морально оправдывают его?
Бельского вызвали с докладом в Дальбюро. Он боялся беспощадного разноса и даже оргвыводов. Однако в конце председатель, мрачно глядя на директора Главного Управления ГПО, лишь спросил:
— Надеюсь, вы понимаете, что пора с этим делом кончать! Сколько вам потребуется времени?
Сельский подумал, прикинул и остановился на минимальном:
— Неделя.
По реакции присутствующих понял, что мог бы запросить и побольше, но поправляться было несерьезно.
— Какая нужна помощь?
— Рассчитываю справиться своими силами.
Председатель еще раз пристально посмотрел на него:
— Через две недели бюро заслушает вас, как коммуниста, о полном искоренении банды Ленкова, о подробных обстоятельствах убийства товарищей Анохина и Крылова. Повторяю — ровно через две недели…
Льготный срок и порадовал Бельского, и огорчил запоздалым пониманием того, что в глазах членов бюро он со своей «неделей» выглядел весьма самоуверенным и легкомысленным человеком. Разве справишься тут за неделю? По пути в управление он беспрерывно думал об этом и решил постараться уложиться, если уж не в неделю, то хотя бы в десять дней.
Надо сказать, что дознание началось успешно, хотя на первом допросе Баталов все отрицал. Он сделал вид, что не знает причин ареста, что с Ленковым вообще не знаком. Правда, ему еще не предъявлялось ни одно из доказательств, которыми располагало следствие. По тому, как держал себя Баталов, чувствовалась натура опытного уголовника из тех, которые до отчаяния долго запираются, уходят от ответа, но зато потом, когда их припрут к стенке неопровержимыми уликами, они лишнего на себя брать не станут и своих соучастников не пощадит.
Зато перекупщица Александра Киргинцева «раскололась» сразу. То ли под впечатлением неожиданной смерти мужа, то ли под тяжестью улик — ведь бандиты были обнаружены в ее доме, — она торопливо и подавленно давала показания, называла все новые фамилии и клички, повторяя к месту и не к месту, что «любовницей Ленкова она никогда не была, что это оговор злых языков». При допросе Киргинцева подтвердила, что арестованный Константин Баталов дружит с Мишкой Самойловым, что неделю назад они вместе предлагали ее мужу продать на рынке два револьвера, но муж отказался, так как оружием они с мужем не торгуют, тем более, что муж сразу догадался, с какого дела взято было это оружие. Это показание было особенно важным, так как, по сведениям ГПО, Мишка Самойлов входил в «головку» банды и являлся одним из ближайших друзей Ленкова. Знала Киргинцева и Бориса Багрова, и «лысого Филиппа», которые изредка заходили к ним вместе с Ленковым и подолгу сидели за выпивкой, ожесточенно споря. Багров — низенький, квадратный парнишка с голубыми нахальными глазами — в спор не вступал. Он сидел и слушал. Зато лысый громила Филипп глуховатым голосом все время что–то выговаривал Ленкову, и дело у них доходило чуть ли не до ссоры. О чем они спорили, понять ей было трудно. Однако, как только Ленков начинал сердиться, «лысый Филипп» сразу уступал ему.
— Ну ладно, Костя! Ты атаман, твоя воля. Давай выпьем!
Когда госполитохрана стала выяснять, кто же такой этот «лысый Филипп», круг неожиданно сомкнулся. Но всем данным выходило, что им мог быть только Филипп Цупко — старый каторжанин, хозяин квартиры, на которой некоторое время назад так благополучно устроился в качестве постояльца секретный сотрудник ГПО.
Еще задолго до революции Филипп Цупко был приговорен к восьми годам каторги. После Февральской революции перебрался в Читу, женился на зажиточной солдаткой вдове и стал заниматься хозяйством, держал постоялый двор.
Первой мыслью Бельского было намерение немедленно арестовать Филиппа Цупко. Однако потом он подумал, что Костя–то Ленков еще на свободе… А вдруг Ленков, напуганный произведенными арестами и облавами, уйдет из города, скроется на таежные заимки? Потом ищи его, выявляй, нащупывай новые нити. Самойлов и другие — тоже бездомные. Им, при случае, легко смыться. А Цупко — единственный из всей бандитской головки — живет в Чите открыто, и этой связью надо дорожить.
2
В кабинете Бельского на рабочем столе лежало письмо. С вызывающей беспечностью оно было написано на лощеном листе, вырванном из конторской книги акцизного ведомства, сложено треугольником и без марки опущено в почтовый ящик. Вместо адреса — два слова: «Начальнику госполитохраны».
«Еще раз говорю, что с политическими мы не воюем и политических не убиваем. Фоменко сам виноват — зачем полез. Мы били и будем бить буржуев. А если угрозыск и ГПО будет арестовывать бывших красных партизан, я разнесу их ко всем чертям. Мы все ждали, скоро ль конец придет этому продажному буферу… А теперь говорят, что и в Совроссии буржуям опять волю дали. Куда уж дальше? Дешево вы нашу пролитую кровь партизанскую оценили».
Политической демагогии Ленкова Бельский не придавал серьезного значения. Он всегда считал ее спекулятивной уловкой. Особенно теперь, когда Ленков в одну неделю обагрил свои руки кровью троих честных партийных товарищей.
Наивная угроза, содержавшаяся в письме, нисколько не встревожила, а скорее порадовала Бельского, Такое мог написать человек, находившийся в отчаянии и растерянности. Значит, предпринятые ГПО акции действительно зацепили банду за самое уязвимое место. Чем же так раздосадован Ленков? Арестом братьев Баталовых? Или Тащенко? Или Бурдинского? Он явно намекает на Бурдинского и Тащенко — ведь кроме них нет среди арестованных «бывших красных партизан». Что это — привычная спекуляция или невольно прорвавшееся признание? Тащенко несомненно какой–то стороной причастен к банде. Незваным явился к Аносову, провалил все дело. Вероятно, он был даже специально подослан для проверки. Однако трудно предположить, что этот болтун и пьянчуга, кичащийся своим членством в Народном собрании, мог быть доверенным лицом у Ленкова. Такими, как правило, пользуются при случае, подкупают их лестью и водкой, но никогда не полагаются на них полностью. Тащенко и в депутаты попал случайно. Был в январе 1921 года избран по крестьянскому списку в Учредительное собрание ДВР которое, закончив свою работу, постановило считать себя Народным собранием первого созыва. Если бы не предстоящие через два месяца перевыборы, то Тащенко за его поведение давно бы следовало отозвать из депутатов.
Сегодня предстоит второй допрос Тащенко. На первом допросе он прикинулся, что был страшно пьян, ничего не помнит, и требовал лишь одного — немедленно сообщить председателю Народного собрания, что ГПО нарушило закон о его депутатской неприкосновенности.
Конечно, можно бы попробовать заманить Ленкова в новую ловушку при помощи Тащенко. Воздействовать на продажную психику этого горе–депутата и подкупить его обещаниями, вероятно, не составило бы большого труда. Однако делать это Бельскому не хотелось. Во–первых, не было уверенности, что Тащенко действительно пользуется доверием Ленкова. Во–вторых, поручишь этому омерзительному типу серьезное дело, а потом на суде оно обернется для него оправдывающим обстоятельством.
Важно все–таки знать, кого подразумевает Ленков под «бывшими партизанами»? А может быть, никого конкретно? И все это — очередная демагогия, слабая попытка сбить ГПО с толку, прикрыть свою уголовщину хотя бы видимостью партизанского товарищества? Неужели Ленков настолько хитер и двуличен? Но почему в таком случае он искал встречи с Аносовым, собирался о чем–то объясняться с ним, хотя отлично знал образ мыслей своего бывшего командира? Уж, конечно, не рассчитывал же он склонить Аносова к соучастию в своих бандитских делах. Значит, партизанское прошлое не было пустым звуком для этого отпетого уголовника. Значит, самый надежный путь установить непосредственные контакты с Ленковым — это идти по этой линии.
Тщательно взвесив все, Бельский решился.
Он приказал освободить из–под ареста Тащенко и Бурдинcкого.
Первому объявил, что освобождается он на основании закона о депутатской неприкосновенности, так как вопрос о привлечении его к ответственности или аресте может решаться лишь после лишения его депутатских полномочий.
— На ближайшей сессии Народного собрания вопрос этот будет поставлен, — для отвода глаз добавил Бельский, хотя был уверен, что ждать так долго не придется.
— Я не понимаю, в чем вы обвиняете меня? — спросил заметно приободрившийся Тащенко.
Бельский подчеркнуто сурово посмотрел на него:
— В связях с бандой Кости Ленкова.
— Это поклеп, который никто никогда не докажет. Я был просто пьян!
— Надеюсь, гражданин Тащенко, вы понимаете, что если бы у меня были доказательства, то ни вы, ни Бурдинский так легко не покинули бы наше заведение. Вы свободны. Вот ваши документы!
С Бурдинским произошел совсем иной разговор.
Хотя Бурдинского и трудно было обвинять в провале дела, Бельский строго выговорил ему за пристрастие к спиртному. Бывший партизан не стал ни возражать, ни оправдываться. Сумрачно посматривая на директора ГПО, он беспрерывно откашливался.
— Так вот, Георгий Ильич, — сказал Бельский, переходя на дружеский тон. — Ты испортил дело, тебе теперь и исправлять его. Надо во что бы то ни стало установить Ленкова. Тут для тебя — или пан, или пропал. Не установишь Ленкова, не поймаем его — тебя вновь придется арестовать и привлекать за соучастие, за провал дела. Другого выхода нет.
Бурдинский настороженно замер. Несколько секунд продолжалось молчание. Потом, поняв, что Бельский вроде бы не собирается сам давать конкретных указаний, глухо спросил:
— Как это теперь сделать?
— Честно скажу, пока не знаю, — пожал плечами Бельский. — Побывай опять в харчевке, ходи по городу, навести при случае Тащенко, выпей с ним — только уже не перепивайся до беспамятства, как в прошлый раз. И главное — не будь чересчур навязчив! Будь самим собой, лихим компанейским партизаном! Не скрывай, что был под арестом и не стесняйся в выражениях по адресу госполитохраны — ведь у партизан это принято. Зайди в пекарню, где жил Аносов. Самого его уже нет — уехал, а ты прикинься, что не знаешь. Поговори с Турком… В общем, действуй так, как найдешь нужным. Если через несколько дней никаких результатов не будет, пойдешь по этому адресу… Это — Филипп Цупко, старый каторжник. С ним разговаривай напрямик, по–партизански. Объясни, кто ты, скажи, что тебе нужно связаться с Ленковым. Не поверит — приди еще раз, требуй, настаивай. Скажи, что на борьбу с эпидемией в Даурии прибыла из Москвы группа врачей. Живут в гостинице. Им выделяется правительством 10 тысяч рублей золотом. На днях они выедут из города. Постарайся заинтересовать этим бандитов. Цупко не доверяйся — как бы он тебя в свою ловушку не заманил. Приходи к нему днем, так будет лучше, пожалуй… А в общем, мне кажется, что Ленков сам захочет повстречаться с тобой.
— Почему? — встревоженно поднял голову Бурдинский.
— Сам знаешь, почему, — уклончиво ответил Бельский и многозначительно посмотрел ему прямо в глаза. — Об этом поговорим потом, а теперь надо дело делать, ошибку исправлять.
3
Три дня от Бурдинского не было никаких вестей. Сотрудники ГПО сообщали, что встречали его в разных частях города, чаще всего — в ресторанах и кабаках, подвыпившего, шумливого, в окружении компании бывших партизан, среди которых был замечен и Тащенко.
За эти дни дознание по убийству на Витимском тракте успешно продвинулось вперед. Был для допроса задержан житель Кузнечных рядов Иннокентий Крылов, с которым, по показаниям Александры Киргинцевой, дружил Константин Баталов. Никаких определенных обвинении против Крылова не имелось, но, давая показания, где он находился в день убийства Анохина, Кешка так запутался, что в ходе многочасового допроса был заподозрен как вероятный соучастник преступления. Бельский и начальник отдела по борьбе с бандитизмом провозились с ним целую ночь. К утру им удалось выудить у малограмотного, косноязычного и запирающегося Кешки многое такое, что давало возможность припереть к стенке его дружка Костю Баталова.
В эти же дни начали поступать весьма странные агентурные сведения. Филипп Цупко стал охотно, по собственной инициативе, вступать со своим квартирантом в разговоры о Косте Ленкове и двусмысленно намекнул, что он якобы догадывается, кем является на самом деле его постоялец. Положение агента становилось критическим: бандиты могли с ним расправиться в любую минуту… С другой стороны, все это могло быть и провокацией с целью проверки. Терять завоеванные позиции было жаль, и Бельский дал указание агенту держаться прежней линии, входить в доверие.
Трудно сказать, успело ли это распоряжение дойти до адресата, как были получены новые, еще более поразительные вести.
Вечером, за стопкой водки «ради доброго соседства», Филипп Цупко доверительно сообщил квартиранту, что убийство на Витимском тракте — дело Кости Ленкова, что на днях ему удалось кое–что узнать об этой банде…
У агента сложилось убеждение, что старый каторжник готов предложить свое сотрудничество. Подвыпив, он прямо спросил квартиранта — есть ли смысл вообще иметь дело с ГПО и хорошо ли там платят за содействие?
Боясь подвоха, квартирант прикинулся простаком, удивился и даже возмутился такому повороту разговора, но на Цупко это не произвело никакого впечатления. Он продолжал вести себя так, как будто все отлично понимает, и после долгих путаных рассуждений сказал, что если бы ему были даны какие–то твердые гарантии, то он, пожалуй, согласился бы принять участие в этом крайне рискованном деле.
Агент встревоженно запрашивал — как быть, что делать? Не пора ли менять всю игру? Или надо брать Цупко, так как улик против него теперь уже достаточно, а большее он навряд ли решится открыть своему заподозренному соседу?
Бельский отлично понимал нелегкое положение своего сотрудника. «Квартирант», конечно, в чем–то дал возможность разгадать себя. Как видно, опытному и хитрому Цупко многого и но требовалось. Теперь каждый час промедления ставил агента перед все большой опасностью. День–другой–третий Цупко, вероятно, подождет ответа на свои предложения, а потом предпримет все, чтобы убрать «квартиранта» руками все той же банды… Это — в том случае, если предложения каторжника искренни.
А если они — провокация?
Тут десять раз задумаешься, прежде чем на что–либо решиться. Конечно, Цупко можно взять и сейчас. Но судя по всему, от такого типа немного добьешься, если ему вздумается запереться на допросах. Стреляный волк, — ишь как нагло и вызывающе держит себя с агентом! А Ленков опять–таки останется на свободе…
Главное решить, чего на самом деле добивается Цупко? Чем вызвана такая неожиданная перемена в его поведении? Что привело его в банду, и почему он так охотно готов предать ее? Как все было бы просто, если бы можно было сейчас знать все это? Но известны, к сожалению, лишь отрывочные факты, которые иногда даже противоречат друг другу.
Цупко входит в «головку» банды. Он единственный из «головки» живет в Чите открыто. Судя по всему, он состоял в банде еще при Гутареве. Какую роль он выполнял в ней? Конечно, такой не станет сам убивать и грабить. Это за него сделают другие. Значит — на его долю остается наводка, связь и роль советника при главаре… Что известно еще? Цупко спорил с Ленковым. Если бы точно знать, в чем они расходились? Допустим Цупко был сторонником гутаревской линии. Это вполне реальное предположение. Но почему же в момент, когда банда совершила крупную политическую акцию, Цупко решил продать ее?.. Ведь Гутарев и пытался все время превратить банду в орудие политического террора. Значит, тут произошла какая–то несогласованность и очередная распря между Ленковым и Цупко. Да, да, это легко подтверждается. Ленков в письмах доказывает, что в убийстве на Витимском тракте он не повинен, а Цупко утверждает противоположное…
Вот тут–то и скрывается вся закавыка!
Вполне вероятно, что Цупко, прослышав о письмах Ленкова в ГПО, о его попытках встретиться с Аносовым, заподозрил неладное и решил упредить своего главаря.
К тому же он учел, что перспективы у них далеко не блестящие. Действительно, банда сейчас, как говорятся, плотно обложена со всех сторон. Уж кому–кому, а «головке» это известно лучше, чем другим.
Не один и не два раза Бельский тщательно выверил свою версию прежде чем распорядился: «квартиранту» выждать еще сутки, придерживаясь старой линии, а Бурдинскому немедленно идти на прямую связь с Цупко, добиваясь свидания с Ленковым.
Вскоре от Бурдинского поступило известие: «23 мая даю вечеринку в честь старого друга. Приглашаю к десяти часам…»
4
Приземистый, обшитый тесом пятистенок стоял на одной из окраинных улиц Читы, и все в нем дышало расчетливым покоем и благополучием.
Просторная усадьба с трех сторон обнесена забором, а сзади заканчивалась спуском к реке Читинке. На окнах по фасаду резные наличники и тяжелые ставни, запиравшиеся на ночь. В глубине двора — хлев, амбар и навес для хозяйственного инвентаря. Вдоль забора — высокая поленница разделанных дров. На каждый лязг щеколды и скрип калитки из–под навеса раздавалось глухое рычание, потом с нарастающим свистом скользило по проволоке подвижное кольцо, и в несколько прыжков огромный пес–волкодав оказывался лицом к лицу с неосторожным гостем.
Бурдинский знал это, так как приходил сюда уже второй раз. Поэтому он, прежде чем войти во двор, тихо постучал в запертый ставень.
Был одиннадцатый час ночи, и слобода уже спала. Ни света в окнах, ни прохожих на улице. Издали со стороны моста донеслось неторопливое погромыхивание телеги, и снова все стихло.
Бурдинский понимал, что Костя Ленков, если и придет на встречу, то придет не один, но он меньше всего думал сейчас об этом. Полчаса назад он выпил — так, самую малость, стакан водки для храбрости — и знал, что пить сегодня ему еще предстоит. Как всегда, это предчувствие перекрывало в нем всякую осторожность, рождало окрыляющую легкость и уверенность, что все пойдет, как надо, ибо Костя тоже не дурак по этой части.
Три дня Бурдинский бродил по городу, внешне вел себя как обычно: выпивал и разговаривал с друзьями, переходил из одного питейного заведения в другое, хвастался партизанскими заслугами и на чем свет стоит поносил «гепеошников». А внутри у него все кипело, ни на секунду не покидало ощущение, что он теперь как попавший в западню зверь. Он уже нисколько не сомневался, что Бельскому все известно — последний намек ясно показал это. Кто–то явно предал его. Если бы Бельский захотел продолжить разговор, то Бурдинский и сам признался бы, что в течение последнего года иногда по пьяному делу встречался с Ленковым, кутил с ним, два или три раза водил его к себе ночевать… Разве ж могло быть по–другому, если знакомы они с Костей вот уже почти десять лет?! Воевали вместе, кровь проливали… Эх, Костя, Костя! На кой черт понадобилась тебе эта кривая дорога?! Неужто других путей нет, чтоб жить весело? Сам ты теперь завяз по горло, да и друзей–партизан затянул в трясину, — не знаешь теперь, как и быть?!
Думая так, Бурдинский постепенно распалял себя до ожесточения, до злости, и всякий раз останавливался на мысли, что он, именно он, Егор Бурдинский, имеет полное право и даже обязан собственной рукой расправиться с Ленковым. Для него это самый лучший выход.
Теперь, стоя у наглухо запертого дома и прислушиваясь, Бурдинский чувствовал себя так, словно из темноты за ним наблюдали десятки невидимых глаз. Он знал что где–то тут, поблизости уже должны находиться сотрудники угрозыска и ГПО. Здесь ли они? Не мешало бы ему знать об этом… Хотя черт с ними! Зачем ему знать? Он пришел на вечернику. Они выпьют, посидят, побеседуют. Он и один, не хуже «гепеошников», возьмет Костю за грудь и спросит: «Что же ты, скотина, делаешь? На кого руку, подлец, поднял? На тех, с кем вместе кровь на фронтах проливал да над могилами боевых товарищей в верности революции клялся?» Если понадобится, то и сам, вот этой своей рукой, прикончит бандита! Пусть подохнет не где–то там, неизвестно где, а тут же, на глазах, и от руки своего товарища по партизанству!
Наконец, калитка тихо отворилась, и в темноте Бурдинский различил громадную фигуру Цупко.
— Кто тут? A-а, прошу, прошу! Заходите, пожалуйста! — засуетился тот, узнав гостя.
По деревянным мосткам прошли к крыльцу, поднялись в темные сени. Из–за двери чулана послышалось встревоженное ворчание пса.
— Табун, молчать! — подал голос Цупко и пояснил: — Пришлось запереть злодея, чтоб не беспокоил… Прошу, вот сюда! Входите и чувствуйте себя как дома… Хозяева в гости уехали. Так что никто мешать не будет.
К приему гостей все было готово. В горнице посреди стола возвышалась керосиновая лампа, освещавшая сковороду с яичницей, тарелки с нарезанным шпиком и соленой кетой. Матово отсвечивала большая бутыль с самогоном.
Бурдинский оглядел стол и остался им доволен.
— Сколько я должен? — спросил он, доставая кошелек.
— За что? — удивился Цупко, сделав вид, что не понимает.
— За все это.
— Не беспокойтесь, уже уплачено. Угощение дает ваш друг, и он за все заплатил. Да и к чему счеты? Не в последний же раз, я полагаю…
Такой поворот дела и порадовал («Значит, Костя серьезно отнесся к его приглашению!») и обидно задел Бурдинского: ведь встреча организована по его инициативе, и он не настолько беден, чтоб принимать чужие угощения.
— Вот десять рублей! — сказал он. — Достань на них водки и закуски еще!
— Надо ли? — усомнился Цупко.
— Я сказал — делай! А не хочешь, верни эти деньги тому, кто платил за эту самогонку. Я гостей приглашал, мне и платить!
Цупко пристально посмотрел на гостя и молча принял деньги.
Большие часы на стене мерно отстукивали секунды. Без десяти одиннадцать Цупко поднялся,
— Ну, я выйду встретить… А чтоб вам не скучно было, я, пожалуй, приглашу своего постояльца, за стеной живет…
— Кто такой? — настороженно спросил Бурдинский, подумав, нет ли за этим какой–либо хитрости.
— Свой человек. — улыбнулся Цупко. — Хороший парень — тихий и спокойный. Завхозом в больнице служит… Да вы не беспокойтесь, он не помешает. Посидите, побеседуете. Лучше уж здесь, ведь через стенку все равно все слышно.
— Зови.
Цупко ушел. Через несколько минут появился постоялец. Он был действительно тих и скромен. Стеснительно улыбнулся, пожал руку, назвался Дмитрием и сел в угол. Одет он был в английский френч и широченные офицерские галифе. Разговор долго не завязывался. Оба задавали друг другу случайные вопросы, а сами прислушивались к тому, что происходит снаружи. Пробило одиннадцать, потом половину двенадцатого. Бурдинский уже был уверен, что никакого подвоха с квартирантом нет. Дмитрий, как выяснилось, тоже был в свое время партизаном. Юношей вступил при семеновцах в подпольную группу, организованную в Чите Погадаевым, потом служил при штабе Богдатского фронта. Постепенно нашлись общие знакомые.
— Ну что ж, давай выпьем по такому случаю! — предложил Бурдинский, почувствовав, что и парень относится к нему с полным довернем.
— Давайте, — тихо согласился тот и улыбнулся.
— За Погадаева! Чтоб земля была ему пухом! — поднял стакан Бурдинский.
— Я его с лошади убитого снимал! Под Сретенском… Очередью так и прошило ему всю грудь, — сказал Дмитрий и смущенно замолчал.
— Да, храбрый был командир. Настоящий партизан!
— А вы встречались с ним?
— Доводилось… Мне, браток, многое доводилось. Про Верхталачинское восстание слышал? Вот там–то и началось мое партизанское крещение. Было у меня сто двадцать штыков, осталось меньше половины. Две недели бились, поддержки ждали… А что потом было, всего и не упомнишь.
— Не садитесь напротив окна, — тихо произнес Дмитрий, и эти слова вновь вернули их к напряженной обстановке ожидания.
Ленков запаздывал. Цупко несколько раз появлялся в горнице, успокаивал:
— Придет, придет… У него манера такая — попозже! Вы не стесняйтесь — выпивайте, закусывайте. А я пойду, надо дежурить…
Бурдинский перестал стесняться. Как только Цупко вышел, он вновь потянулся к бутыли с самогоном, но новый знакомый положил руку на его стакан и мягко сказал:
— Может, хватит пока! Других гостей подождем.
Скажи он это по–другому, Бурдинский наверняка вспылил бы. А тут как не послушаешься: не просто просит парень — умоляет взглядом.
— Что ж, так и будем молчком сидеть? — Бурдинский встал и принялся расхаживать по комнате.
— Почему молчком? Расскажите что–нибудь… Я люблю рассказы слушать.
— Рассказы слушать? — насмешливо переспросил Бурдинский. — Что–то, парень, не очень ты похож на партизана. Говори прямо, я не обижусь — соврал небось про Погадаева?
— Нет, не соврал, — тихо ответил парень. — Вас я знаю и врать мне незачем.
— Хм… Это, пожалуй, верно… Ну, а сейчас, как? Боишься, поди?
— Чего мне бояться?
— Встречи с гостем, — Бурдинский остановился напротив и в упор посмотрел на товарища. — Он ведь чикаться не станет…
Парень выдержал взгляд и медленно, с улыбкой произнес, покосившись на дверь:
— Другого боюсь… Не напрасно ли ждем?
— А я что говорю?! — напряженно рассмеялся Бурдинский. — Самогон–то и прокиснуть может! Зови–ка хозяина, да пора и за дело приниматься.
— Нет, надо ждать…
Ленков появился около полуночи, когда Цупко уже начал терять надежду и лихорадочно обдумывать — не лучше ли и ему скрыться. Он не был уверен, что ему удастся уйти незамеченным. Усадьба, конечно, со всех сторон обложена милицией и «гепеошниками». Но коль Ленков не явится, оставаться здесь и заканчивать опасную игру не имело для Цупко никакого смысла. Пожалуй, впервые за всю долгую, полную риска жизнь опытный громила и каторжник ощутил свое бессилие и нарастающий в глубине души страх. Как наивно и глупо он просчитался? Неужели все кончено, неужели пришла предательская старость?
До боли закусив губу и держа наготове в кармане револьвер, Филипп Цупко стоял под поветью, медленно озирался и все еще чего–то ждал. Время шло. Вместо с ним уходили последние надежды. Еще немного, и у Бурдинского, конечно, лопнет терпение. Он выйдет, и тогда станет поздно. Надо решаться.
Цупко осторожно выдвинулся из–под повети к задворью и совершенно неожиданно в нескольких шагах от себя сначала почувствовал, а потом разглядел Ленкова. Костя неподвижно стоял, прислонившись спиной к стене сарая. Это было так неожиданно, что Цупко растерялся и не сразу совладал с охватившей его радостью.
— Ну что же ты, Костя? — забормотал он, приближаясь. — Нельзя же так… Что–нибудь случилось?
Ленков был заметно выпившим. От него на расстоянии разило спиртным.
— Пошли скорей! — тронул его за рукав Цупко.
— Погоди… Почему так тихо? Здесь же был пес?
— Запер, чтоб не мешал… В чулан запер.
— Гошка там?
— Там, там… Давно тебя ждет. Пошли!
Минуту–другую оба стояли, сдерживая дыхание и как бы прислушиваясь друг к другу.
— Нехорошо мне, — вдруг тяжело вздохнул Костя. — На душе что–то нехорошо. Муторно.
— Выпил лишку, — успокоил его Цупко. — Пройдет.
— Весь день нехорошо. Даже водка в горло не лезет… Ты ступай! Я приду! Отдышусь и приду! Ступай, говорю!
Возбужденный, сияющий Цупко вернулся в горницу и после небольшой паузы произнес сдавленным полушепотом:
— Пришел!
От его внимания не ускользнуло, что квартирант при этом заметно напрягся и побледнел. Раскрасневшийся от самогона Бурдинский с шумом поднялся из–за стола:
— Где он? Зови его сюда! Чего он волынку тянет?
— Придет, придет, не волнуйтесь! — пытался задержать его Цупко, но Бурдинский, не обращая на него внимания, широкими шагами приблизился к двери, пнул ее ногой и остановился. В прямоугольнике слабого света, выбившегося из распахнутой двери, неподвижно стоял Ленков. В чулане, с нарастающим озлоблением, рычал пес, готовый вот–вот перейти на голос.
Бурдинский сделал вид, как будто и ожидал увидеть за дверью Ленкова.
— Входи, чего стоишь? — сердитым тоном сказал он. — Ты что это, парень, ждать себя заставляешь? Зазнался, что ли? А ну–ка входи, водка зря прокисает.
Несколько секунд Ленков стоял в нерешительности, настороженно вглядываясь в обстановку. Потом, как бы отгоняя всякие подозрения, встряхнул головой, улыбнулся и шагнул в комнату.
— Здорово, Гоша!
Похлопывая друг друга по плечу, они обменялись крепким рукопожатием, и Бурдинский потянул Ленкова к столу.
— Пса спусти! — обернулся Костя к хозяину, который с довольным видом наблюдал за встречей. Цупко в одну минуту сделал это и сразу же вернулся.
Бурдинский принялся наливать всем по полному стакану.
Не снимая фуражки, Ленков присел на предложенный ему табурет и вдруг резко повернулся к сидевшему чуть в сторонке квартиранту:
— А это кто?
— Это? — Бурдинский поставил бутыль, тоже вгляделся в квартиранта, словно увидел его впервые, и махнул рукой: — Это тоже наш… Партизан… Служил у Погадаева.
— Почему не предупредил? — через плечо кинул Ленков стоявшему позади Цупко.
— Так то ж мой постоялец, — заторопился тот. — Я говорил же тебе… Второй месяц у меня живет… Парень тихий…
— А тут–то что ему надо?
— Как что? Пригласил я его… Тебя уважает, познакомиться захотел.
— Я могу уйти, — обиженно поднялся квартирант.
— Сиди! — требовательным взглядом остановил его Ленков. — Пришел — так теперь сиди! А если партизан, то нечего красну девку из себя корчить… За столом выпивки полно, а он тверезый сидит. Ну–ка, Гоша, налей ему кружку самогону. Пусть–ка выпьет!
— Давайте–ка все вместе за встречу! — протянул Бурдинский стакан Ленкову, но тот отстранил его рукой.
— Пусть он сначала один. А мы посмотрим, какой он партизан. Не люблю я тверезых среди выпивших.
Квартирант, ни слова не говоря, взял наполненный до краев стакан, тремя глотками осушил его и закусил куском соленого сала.
— Вот это иное дело! — удовлетворенно произнес Ленков. — Ну, Гоша, теперь и нам можно. Ты, я вижу, пить не разучился. Налей всем!
— Давно стынет…
Бурдинский взял свой стакан, другой — протянул Ленкову. Тот принял, по очереди чокнулся с Цупко, с Бурдинским и потянулся через угол стола к квартиранту. Глядя ему прямо в глаза, Ленков неожиданно для всех тихо спросил:
— Давно в госполитохране служишь?
Все замерли. Первым опомнился Бурдинский.
— Костя, хватит тебе приставать к человеку! Что он тебе сделал?
— А ты чего встреваешь? — повернулся к нему Ленков. — Или ты тоже с ними заодно? Я просто спросил — давно ли он служит в госполитохране. Что тут особого? С госполитохраной мы не воюем… Не так ли, Филипп?
— Конечно, конечно, — быстро согласился тот.
— Ну и все. А свои люди нам в госполитохране вот как нужны! Чтоб не только они там про нас знали, а и мы про них. Правду я говорю, Филипп?
— Правду, правду…
— Вот что! — поднялся Бурдинский. — Ты, Костя, перестань куражиться! Налито — надо пить! А все твои разговоры потом! Ясно?
— Слушаюсь, товарищ командир! — дурачливо отозвался Ленков и расхохотался. — Привык ты, Гоша, командовать… А я ведь, сам знаешь, и в партизанские годы не любил этого… Лу, да ладно. Пить так пить! Давайте!
Он встал, протянул свой стакан через стол Бурдинскому и неожиданно, словно поскользнувшись, смел со стола лампу.
— Филипп, тут измена! — выкрикнул он, отскакивая в сторону.
Три выстрела слились в короткую, похожую на пулеметную, очередь. Потом прогремел еще один — четвертый, и в темноте кто–то со стоном тяжко рухнул на пол. Эхом отозвался со двора хриплый заливистый лай. В комнате все притаились, словно никого не осталось в живых. Потом откуда–то снизу послышался вдавленный стон, сразу же раздался последний — пятый выстрел и все опять стихло. Лишь снаружи яро бесновалась собака да глухо топали по дощатым мосткам сапоги.
— Не стреляйте, это я! — вдруг послышался встревоженный голос Цупко. — Он убит! Это я, не стреляйте!
— Бросай оружие! — крикнул Бурдинский. Под его ногами заскрежетало битое стекло. — Бросай оружие и освети себя спичкой.
— Счас, счас! — заторопился Цупко.
Когда сотрудники ГПО вошли в комнату и осветили ее, они увидели лежащего посреди комнаты залитого кровью мертвого Ленкова. Над ним жался спиной к печке растерянный Цупко. В углу под иконами, с наганом наготове, стоял Бурдинский, а за столом, сдерживая стоны, мучился от сквозной раны в руку квартирант.
Глава седьмая
«После этого 19 мая я был арестован госполитохраной. На первом дознании и опросе в ГПО в преступлении не сознавался, боясь того, что товарищи по делу могут убить меня, когда я буду переведен в тюрьму, и дал ложные показания и сообщил ложную фамилию. Затем по предъявлении мне неопровержимых улик, во всем сознался, показал все то, что и показываю сейчас…»
Из протокола допроса Константина Баталова.1
Разоблачение и ликвидация ленковской банды развивались столь успешно, что к концу мая уже было арестовано около пятидесяти человек. Но до завершения дела было еще далеко. Несколько десятков бандитов оставались непойманными. Спасаясь от ареста, многие из них скрылись из Читы, чтобы переждать тревожное время в других городах и таежных селениях.
Следственный отдел ГПО уже точно знал фамилии всех четырех непосредственных исполнителей злодейского убийства на Витимском тракте. Двое из них — Константин Баталов и Иннокентий Крылов — содержались под арестом. Двое других — Михаил Самойлов и Яков Бердников — находились в бегах. Чтобы выявить их, требовалось время. Поэтому все свои операции госполитохрана держала пока в глубокой тайне.
Только этим можно объяснить тот факт, что судебный следователь по особо важным делам Фомин, составляя 3 июня 1922 года итоговое постановление о передаче витимского дела в суд, записал:
«Виновные в убийстве Анохина и Крылова до сих пор не обнаружены, но, обсуждая вопрос о причине и цели нападения, приходится прийти к заключению, что нападение это совершено с целью грабежа».
По этой фразе можно судить, в каком неведении относительно мер, уже осуществленных госполитохраной, находился Фомин и с каким сожалением расставался он с мыслью о политическом характере преступления. Он не знал даже того, что накануне оперативным работникам ГПО удалось арестовать третьего убийцу — цыгана Яшку Бердникова, дезертировавшего в свое время из Народно–Революционной Армии, что Яшка не стал запираться и дал показания на первом опросе.
Фомин мог лишь догадываться, что в ведении порученного ему дела наступил новый этап.
Утром ему позвонил министр юстиции Погодин.
— Дело об убийстве товарищей Анохина и Крылова войдет составной частью в общее дело по банде Ленкова и будет рассматриваться Высшим кассационным судом республики. Подготовьте к передаче все имеющиеся материалы и дайте свое заключение. Дальнейшее дознание будет вести следователь Колесниченко.
Почувствовав, что это похоже на выговор, Погодин добавил:
— К вам никаких претензий не имеется. Вы добросовестно выполнили свою миссию.
— Васильева отзывать из командировки или подождать? — спросил Фомин.
— Можно отозвать… Теперь и так все ясно.
Помощник начальника уездной милиции Васильев находился в командировке уже четвертую неделю. Путешествуя по деревням, улусам и зимовьям, он разыскал и опросил всех крестьян, которые проезжали в день убийства по Витимскому тракту. Делал он это не торопясь, с той присущей ему тихой старательностью, которая не была рассчитана на какие–то чрезвычайные открытия, но зато не упускала и мелочей. Протоколы опросов он аккуратно раз в неделю привозил в Читу или направлял Фомину с нарочным.
Помимо целого ряда частностей, лишь подтверждающих уже известное следователю, Васильеву удалось установить одну весьма немаловажную деталь. В селе Кенон он разыскал и допросил крестьянина Польшикова, который ездил 10 мая за сеном на 52‑ю версту. Польшиков показал, что на тракте он был задержан четырьмя вооруженными людьми в масках, которые произвели у него обыск, забрали харчи и строго предупредили, что если он расскажет кому–либо об этом, то не сдобровать ни ему, ни его семье. Лица бандитов были закрыты — у кого черной кисеей, у кого — носовым платком или тряпкой. Одежда — рваная, лишь на одном была шинель защитного цвета. Позже Польшиков повстречался с тремя охотниками, но, опасаясь расправы, в разговор с ними не вступил.
Это было последнее свидетельство, которое следователь Фомин приобщил к делу об убийстве на Витимском тракте, и оно опять–таки говорило, что преступление совершено уголовниками…
4 июня Васильев вернулся в Читу.
В тот же день его вызвал к себе директор Главного Управления госполитохраны. Расспросив Васильева о проделанной им в последние дни работе, Бельский сказал:
— Вам, Никанор Иванович, довелось первым опрашивать многих свидетелей. Из ваших протоколов можно заключить, что у вас имелись какие–то серьезные подозрения против Козера. Как вам известно, Станислав Козер работал в Особом отделе штаба НРА. Мне хотелось бы знать, располагаете ли вы какими–то иными данными, кроме тех, что зафиксированы вами.
— Все, что мне удалось выяснить, записано в протоколе.
— Значит, никаких подозрений против Козера у вас не имеется?
— Нет. Меня, конечно, удивило его поведение на месте происшествия. Перетрусил он так, что ничего не мог вспомнить, запутался… Ну, да это бывает.
— А вы знаете, Никанор Иванович, — улыбнулся Бельский. — Память у Козера оказалась не такой уж плохой… Мы сейчас располагаем довольно точными показаниями о том, как все это происходило. Не исключено, что на суде вам придется выступать в качестве свидетеля. Ведь одного из главных виновников преступления первым заподозрили и задержали вы.
— Я? — удивился Васильев. — Кто же это? Я вроде никого не задерживал…
— А бандит и наводчик Косточкин? Вы ведь первым допрашивали его?
— Товарищ Бельский, я никакого Косточкина не знаю…
— Зато вы знаете жителя Мухор–Кондуя Костиненко. А это, как выяснилось, одно и то же лицо. За Косточкина вам большое спасибо! Как видите, внимательное и добросовестное ваше расследование даром не пропало, хотя вы, наверное, и не предполагали, какая птица попала вам в руки. Ну, да ладно! Хотите знать, как все происходило на тридцать третьей версте?
— Конечно, хотелось бы…
— Тогда садитесь и читайте! У нас есть показания троих — Баталова, Крылова и Бердникова. Но все читать необязательно — в принципе они мало отличаются. Достаточно одного. Ну, вот хотя бы Баталова. Костиненко пока запирается, а почему — сами поймете. Тут понадобится и ваша помощь. Должен предупредить, что это уже четвертый протокол показаний Баталова. Не каждому слову в нем можно верить и сейчас. Все трое старается умалить свою роль в содеянном. От участия в банде Ленкова всячески открещиваются. Но в целом картина ясна.
2
Баталов Константин Леонтьевич, 39 лет, бывший мещанин гор. Чита, малограмотный, по профессии пильщик, проживает в г. Чита, Кузнечные ряды, по делу убийства гр. Анохина и Крылова на 33‑й версте Витимского тракта показал следующее:
«Числа 6 или 7 мая с. г., проходя по третьей улице Кузнечных рядов, около дома Гороховского меня встретил Михаил Самойлов, с которым до этого познакомил мой брат Спиридон, сидевший с ним в тюрьме за попытку получить по подложному документу из Государственного банка десять тысяч рублей. Михаил Самойлов остановил меня и стал приглашать на «дело», которое дает Николай Косточкин. Дело, по его словам, заключалось в том, чтобы пойти на Витимский тракт грабить проезжавших там торговцев, что по тракту проезжает много, как русских, так и китайских купцов, провозящих с приисков золото, что можно будет при удаче взять фунтов пять золота. Чтобы идти на это дело, нужно собраться человекам пяти — четырем. Я согласился на предложение Самойлова и сказал, что могу взять с собою Кешку Крылова, с которым я знаком с детства. Самойлов взял на себя пригласить Якова Бердникова, своего соседа–цыгана. Идти на тракт надо было дня через три. В день ухода 9 мая все собрались у меня. Были Михаил Самойлов, Яков Бердников и Иннокентий Крылов. Собрались мы все с оружием — винтовками военного образца, причем у Крылова винтовки не было, т. к. своей он не имел, а достать нигде не мог. Провизии с собой взял только один Крылов, остальной хлеб — около пуда — передали Косточкину, который должен был доставить его завтра 10 мая на тракт. Косточкин как «наводчик», давший нам дело, был в курсе наших сговоров и сборов. Собравшись, мы, когда стемнело, отправились в дорогу. Крылов, Самойлов и Бердников ушли вперед, а я вышел за ними через полчаса. Собрались мы опять все вместе около поскотиной за Караваевской заимкой. Здесь отдохнули. Пошли по тракту. Дошли до 26‑й версты и на рассвете устроили привал, попили чаю и пошли дальше. На 30‑й версте опять попили чаю и пошли до 31‑й версты, где просидели до 2‑х дня. Сидели в стороне от дороги в кустах. Сидя в кустах, мы увидели проезжающих по тракту крестьян, на нескольких подводах по сено. Мы остановили их и отобрали у них часть хлеба и картошку. Лица у нас в это время были закрыты платками. Отпустив крестьян, вернулись в кусты и стали закусывать. Закусив, мы отправились дальше. По пути нас обогнал гр. Карболай, увидав которого, мы свернули в сторону для того, чтобы он нас не узнал. Карболай, как сосед, нас знал всех в лицо. Он живет также в Кузнечных рядах, содержит ломовую биржу и баню. Хорошо знаком с Косточкиным, т. к. Косточкин, приезжая в город, всегда останавливался у него, а он, проезжая по тракту, останавливался у Косточкина. Знал ли Карболай о нашем намерении — не знаю. Думаю, что если и мог знать, то только от Косточкина.
Вслед за Карболаем, саженях в двухстах, с нашим хлебом ехал Косточкин. Когда Косточкин поровнялся с нами, я с Михаилом Самойловым вышли к нему из кустов и спросили, где хлеб. Он сказал, что положил его на 30‑й версте в том месте, где условились мы с ним. Мы также спросили его — не слышно ли там про нас чего–нибудь. Он сказал, что нет, сам ударил по лошади и поехал дальше. Мы отошли вновь в кусты и — сидим, закусываем. Это уж было на 33‑й версте в саженях 15–20 от дороги. В это время один из нас заметил, что по направлению к городу по тракту к нам приближается три человека на белой лошади, запряженной в тележку. Едут хлестко. Мы сказали между собой, что нужно посмотреть, кто едет. Мишка взглянул и сказал, что едут на хорошей лошади и подходяще одеты, с кучером. «Берем, ребята… Штопорим или нет?» «Понятно берем, какие могут быть разговоры», — ответили мы. Проезжающие стали приближаться, и мы тоже приближались ползком к дороге. Когда они поровнялись с нами, мы выскочили на дорогу и крикнули: «Стой». Они, по–видимому, нас заметили раньше, так как сразу с их стороны раздались в нашу сторону выстрелы. Яшка Бердников, как бывший к ним ближе других, сразу дал по ним выстрел, мы выстрелили по ним также. Насколько теперь припоминаю, двое из едущих сразу свалились в канаву, а кучер соскочил с тележки и пустился бежать в сторону леса.
При стрельбе я выстрелил два патрона, Яшка Бердников выстрелил целую обойму и заложил вторую, сколько выстрелил Самойлов не знаю. Крылов же не стрелял, т. к. у него не было винтовки, и он держал коня, который при стрельбе было бросился в сторону. Когда Крылов завернул коня, посмотрев в тележку, мы увидели, что там много убитой дичи, и поняли, что убили охотников, не спекулянтов. Когда ехавшие свалились с тележки, а кучер убежал, мы подбежали к свалившимся. Толстый лежал лицом вниз, и оба стонали. У обоих в руках было оружие: у тонкого японский карабин, а у толстого револьвер маузер, но будучи тяжело раненными, они не были о силах стрелять. Добив раненых, мы обыскали убитых. Я взял браунинг, который лежал около тонкого, Мишка взял маузер у толстого и деньги 15 р. зол. и 2 р. серебром. Другие ребята забрали остальное оружие убитых, лежавшее завернутым в тележке. Самойлов посмотрел взятые документы, прочитал и сказал: «Ребята, ведь убили–то мы партийных…» Все мы перепугались, быстро завернули коня и поехали от места убийства дальше.
На 34‑й или 35‑й версте мы свернули вправо от тракта. Отъехали в сторону с версту и стали еще раз тщательно осматривать лежавшее в тележке. Увидели несколько дробовых ружей, битую птицу и другие вещи. Взятое оружие мы отнесли в сторону и спрятали под колодами, лошадь прогнали еще с полверсты дальше, распрягли и оставили на произвол судьбы. После этого мы вернулись домой в город, через сопки. Из найденного удостоверения, которое прочитал Мишка Самойлов, мы узнали, что убили каких–то политических деятелей и были напуганы.
Не доходя до города, взятый у убитых карабин и свои винтовки спрятали в лесу в пади Сенной, револьверы же убитых и сапоги и ботинки взяли с собой в город; причем ботинки унес к себе Крылов, сапоги Бердников, револьвер браунинг унес я, а маузер — Мишка. На другой день после убийства, при встрече с Самойловым, он мне сказал, что маузер и браунинг нужно продать, я скажу Ленкову и он их продаст. Я ему сказал. «Скажи, если ты с ним знаком». В тот же день под вечер Михаил Самойлов сказал мне, что Ленков предлагал револьверы в какую–то пекарню, но там не купили. После этого я пошел к своему брату и спросил у него, куда можно продать револьверы и не купишь ли ты. Я сказал, с какого дела эти револьверы. Брат купить отказался, и посоветовал мне, чтобы предложить его квартиранту, фамилии и имени квартиранта не сказал. Я послушал совета и предложил квартиранту револьверы. Запросил с него за два револьвера сто руб. золотом, на что он определенно не ответил — возьмет или нет, но сказал, что пойдет запродавать их и тогда сообщит, сколько дают. Квартиранту мы только сказали на другой день, с какого дела эти револьверы. Револьвер браунинг квартирант моего брата продал за 15 руб. зол., причем взял себе за комиссию 10 р. серебром, а 35 р. серебром передал мне, которые я и разделил между участниками убийства. Второй револьвер маузер остался у Самойлова не проданным. На этом закончилось все дело. После этого 19 мая я был арестован Госполитохраной.
Больше ничего добавить не могу, записано с моих слов правильно. Баталов.
(ЧОГА, ф.360, оп.I, ед. хр.297, стр.24–26).
Глава восьмая
«Судили их в зале заседаний Народного Собрания ДВР, где теперь размещается клуб железнодорожников. В зале было полно народа. Люди стояли даже на улице. На скамье подсудимых сидело 72 человека, и это был, пожалуй, самый крупный в Чите публичный судебный процесс, продолжавшийся 25 дней».
Из воспоминания старого большевика П. А. Васильева, работавшего в 1922–1925 гг. прокурором Забайкальской области.1
К середине лета банда Ленкова была полностью разгромлена. Около восьмидесяти бандитов содержалось под арестом, восемнадцать были убиты при задержании и лишь одиночкам удалось скрыться.
В результате трехмесячного следствия выявилась жуткая картина разбоя, грабежа и убийств.
Банда имела довольно четкую организацию и дисциплину. Она делилась на несколько самостоятельных групп, каждая из которых действовала в своем районе. Общие планы согласовывались на конспиративных совещаниях, заканчивающихся, как правило, долгим безудержным пьянством. На этих же совещаниях выносились смертные приговоры не только будущим жертвам, но и тем из бандитов, кто нарушал «законы шайки» или подозревался в измене. Круговая порука и страх перед сообщниками составляли основу организации и создали обстановку беспрекословного подчинения вожакам. За полтора года существования банда совершила десятки ограблений и около пятидесяти убийств. Все это до поры до времени благополучно сходило с рук, укрепляя уверенность бандитов в своей полной безнаказанности.
Как выяснилось, для этого у бандитов имелись немалые основания. С осени 1921 года Ленкову стал оказывать содействие командир конного отряда читинской милиции, бывший красный партизан Тимофей Лукьянов. Он был втянут в преступную шайку своими подчиненными — милиционерами Сарасатским, Христолюбовым, Самойловым и Милославским. С тех пор любая операция милиции заблаговременно становилась известной Ленкову, и около восьми месяцев продолжалась игра в кошки–мышки.
В декабре 1921 года оперативный уполномоченный областной милиции Бойцов заподозрил неладное. Он не знал, кто информирует бандитов, и решил действовать тайно. При расследовании одного преступления, ему удалось выявить и схватить семерых ленковцев. Трое из них стали давать показания. Однако в ту же ночь, при этапировании арестованных из села Кенон в городскую тюрьму, все семеро были убиты при попытке к бегству. Только теперь выяснилось, что расправа была совершена Сарасатским и Самойловым по приказу Лукьянова, который боялся своего разоблачения.
В январе Тимофей Лукьянов был назначен начальником 5‑го участка милиции, который стал для ленковцев настоящим убежищем.
Были у Ленкова и другие корни. В состав банды входило одиннадцать военнослужащих читинского караульного батальона во главе с заведующим батальонной парикмахерской Чимовым. Здесь же находилась и главная «конспиративка» Ленкова, который под фамилией «Поставский» числился служащим хозяйственной части.
Многие ограбления бандиты проводили под видом сотрудников ГПО. Они являлись на квартиру к коммерсанту или богачу, предъявляли ордер на обыск, изымали ценности и скрывались, оставив в недоумении перепуганных хозяев. При малейшем сопротивлении в ход пускалось оружие. Документами их снабжал бывший работник управления госполитохраны Василий Попиков, долгое время сводивший на нет все усилия агентуры ГПО по выявлению Ленкова и его сообщников.
Успешному ходу следствия во многом помогли признания восемнадцатилетнего Бориса Багрова, состоявшего при главаре банды в роли адъютанта.
Судьба Багрова — яркий пример того, какими коварными методами проходила вербовка в банду.
Борис Багров родился в Забайкалье. Пятнадцатилетним парнишкой вступил в партизанский отряд, потом перешел в регулярную Красную Армию. Участвовал в боях, был назначен командиром пулеметной команды. Воевал на Польском фронте, был ранен. После госпиталя приехал в Читу и сразу же по ошибке попал в тюрьму. Ошибка вскоре выяснилась, его освободили. Несколько дней бездомный и голодный он бродил по городу, ожесточая свое сердце обидой и злобой. В эту пору судьба и свела его с Костей Ленковым.
На Александровской улице к нему подошел хорошо одетый мужчина в штатском. Несколько секунд он с улыбкой смотрел на бродягу, потом спросил:
— Наверное, есть хочешь?
— Хочу.
— И ночевать, поди, негде?
— Негде.
Узнав, что Багров два месяца назад вернулся из госпиталя и только что выпущен из тюрьмы, Ленков сжал зубы так, что по лицу заходили желваки, и мрачно усмехнулся:
— Знакомая картина… Идем со мной — накормлю. Поживешь у меня день–другой, пока дело подыщешь.
В пути на тихую окраинную улицу Ленков представился сотрудником госполитохраны и обещал посодействовать Багрову в подыскании службы.
Сытый и умиротворенный заснул в этот вечер Багров в тесной комнатушке с геранями на окнах. Три дня прошли как в раю. Еды — до отвала, забот — никаких. Ленков появлялся редко. Посидит полчаса, потолкует о том о сем, повторит обещание по поводу работы и снова уйдет на целые сутки.
На четвертый день Ленков сообщил, что ГПО наконец–то выяснила личность Багрова и он сегодня зачислен в секретные сотрудники помощником к Ленкову. Более того, сегодня ночью Багров с группой товарищей пойдет на первую операцию. Дело рядовое — неожиданный обыск на квартире одного торговца–китайца, который, по сведениям, является резидентом белогвардейской разведки. Вся тонкость в том, что обыск для отвода глаз должен производиться под видом обычного грабительского налета — брать нужно все ценное, что будет обнаружено в квартире. Ленков тут же вручил Багрову браунинг с большим запасом патронов.
Первая операция прошла настолько удачно, что ее истинный смысл так и не дошел до сознания Багрова. Во всем он разобрался много позже, когда позади было уже не одно, а несколько ограблений и убийств, для каждого из которых придумывалась своя версия.
Отступа назад уже не было. Да, честно говоря, Багров уже и не думал об этом. Ему пришлась по душе отчаянная, полная смертельного риска жизнь, а ловкость и находчивость Ленкова приводили его в восхищение.
За неполный год Багров лично совершил 19 убийств, и теперь рассказывал об этом охотно, с подробностями и каким–то странным патологическим цинизмом. Он не просил снисхождения и ничего не скрывал.
Совсем по–иному вел себя Филипп Цупко.
Он тоже не молчал, но юлил, выпутывался, придумывал от допроса к допросу все новые версии, старясь все свалить на мертвого Ленкова и выдать себя за его рьяного противника.
Показания Цупко лишь бесполезно затягивали следствие. Вначале он даже пытался представить себя в качестве давнего секретного сотрудника госполитохраны, предъявлял письменные подтверждения, которые на поверку оказывались фальшивыми. Когда все это было решительно отметено следствием, Цупко совершенно неожиданно сделал сенсационное заявление по поводу убийства Петра Анохина и Дмитрия Крылова.
По его словам, за неделю до трагедии, разыгравшейся на Витимском тракте, состоялось срочное, строго конспиративное совещание «головки» банды. На этом совещании якобы присутствовал ответственный секретарь эсеровской газеты, который предложил за убийство крупную сумму в золотой валюте. Ленков охотно принял предложение и взял все руководство операцией на себя.
— Это могли бы подтвердить Багров и Самойлов, — доверительно говорил Цупко, глядя прямо в глаза Бельскому. — Но Багров, конечно, не признается. Он — хитрый… Самый опасный и хитрый… Правая рука и карающий меч самого Ленкова… Остается Самойлов.
Показаниям Цупко веры уже не было, но подобное признание нельзя было оставить без внимания. Две недели начальник следственного отдела ГПО Лавров во всех деталях выверял эту версию. Как и следовало ожидать, все оказалось липой.
На одном из последующих допросов в протоколе появится запись, сделанная со слов самого Цупко:
«Все, что я говорил относительно убийства на Витимском тракте, — неправда. Никакого совещания не было. Сам я узнал об убийстве после того, как оно было уже совершено».
По–видимому, и это утверждение Цупко имеет не большую ценность, чем его предыдущие показания. Однако оно совпадало с признаниями непосредственных убийц, и дознание в этом направлении прекратилось. По крайней мере, сохранившиеся архивные материалы показывают, что следствию так и не удалось установить в «витимском деле» связь между «головкой» банды и конкретными исполнителями преступления.
Разрыв в логической цепи был налицо, и все дело упиралось в Костиненко–Косточкина.
Наводчик Косточкин все отрицал. Не помогали ни многочасовые допросы, ни очные ставки, ни угрозы, ни бесспорные доказательства его связи с бандой, которой он не раз оказывал услуги. В тюрьме Косточкин совсем не походил на того услужливого, разговорчивого мужика, каким он был на первом допросе в Мухор–Кондуе. На все обвинения и вопросы он отвечал одно:
— Ничего не знаю. Все это навет на меня, чтоб самим выпутаться.
17 июня в городе Верхнеудинске был задержан Михаил Самойлов — последний из четверки убийц на Витимском тракте. При нем был обнаружен маузер П. Ф. Анохина.
Внешностью Самойлов совсем не походил на бандита, обагрившего свои руки кровью многих жертв. Это был молодой красивый парень, лет двадцати пяти, с тонким худощавым лицом и черными усиками. Именно через него сделал свою последнюю наводку Костиненко–Косточкин. Арест Самойлов воспринял как должное. Держался беззаботно, весело, все подтвердил и на первом же допросе признался следователю:
— Одного жалко — погулял мало. И деньги–то ведь были, а все как–то на потом откладывал.
На очной ставке Самойлов резко сказал Косточкину:
— Брось зря волынить. Попались, так надо уметь и расплачиваться.
Косточкин и здесь остался верен себе. Припертый к стене показаниями Самойлова, он продолжал исступленно твердить:
— Ничего не знаю! Навет на меня!
Пришлось пойти на крайнюю меру. Зная, что четверка убийц крайне обозлена на наводчика за его бессмысленное запирательство, следователь посадил всех пятерых в одну камеру. Как видно, объяснения там происходили не только на словах. Через сутки избитый, весь в синяках Косточкин наконец–то сам попросился к следователю:
— Да, на рынке, где я продавал сено, я сказал Самойлову, что на Витимском тракте можно хорошо подзаработать… Должны ехать купцы с золотом… Но никаких Анохина и Крылова я не знал.
Большего от него, несмотря на все старания, добиться не удалось.
В сентябре следствие было закончено.
Обширный обвинительный акт по делу о банде Кости Ленкова с десятью томами следственного материала был передан в Высший кассационный суд Дальневосточной республики.
2
Зал заседаний Народного собрания ДВР не смог вместить всех желающих присутствовать на судебном процессе. Пришлось ввести систему пропусков, которые распределялись по организациям и предприятиям города. И все равно на углу Иркутской и Амурской улиц с утра до вечера стояли люди в надежде, что какая–либо счастливая случайность поможет им попасть в переполненный зал. За последние годы бандитизм стал бедствием. Он так часто терроризировал население, что нынешний показательный процесс касался буквально каждого.
1 октября 1922 года, ровно в 12 часов дня Высший кассационный суд ДВР в составе: председательствующего — Е. М. Матвеева и членов — А. А. Модеко и Л. Н. Берсенева занял свои места на сцене. Семьдесят два подсудимых уже были размещены под строгой охраной в шести боковых ложах но обеим сторонам зала. За столом защиты — девять адвокатов, которым поручено представлять интересы обвиняемых. Главным обвинителем выступает бывший министр юстиции республики Е. А. Трупп, совсем недавно заявивший о своем разрыве с эсеровской партией. Ему помогает прокурор Л. В. Баудер. На процесс приглашены эксперты и переводчики. Среди них — специальный толмач, умеющий толковать речь глухонемого подсудимого Михаила Батурина.
Хотя обвинительный акт доказательно квалифицировал преступления не только всей банды в целом, но и каждого из обвиняемых в отдельности, судебное разбирательство предстояло долгое и тщательное. Кроме семидесяти двух подсудимых, надлежало опросить 185 свидетелей, вызванных обвинением и защитой. Правда, к началу суда около трети свидетелей так и не были разысканы, несмотря на старания милиции.
Общественность республики и печать требовали для бандитов самого сурового возмездия. В адрес суда шли письма, телеграммы, постановления собраний. Вина подсудимых представлялась настолько бесспорной, что многие не понимали, зачем понадобилось проводить столь долгий процесс.
Но суд изо дня в день, с утра до позднего вечера, кропотливо и настойчиво разбирался во всех тонкостях и деталях. Это нужно было не только потому, что так требовали судебные законы, принятые в ДВР.
Благодаря своему партизанскому прошлому, Костя Ленков какое–то время ходил среди отсталых слоев населения и своеобразных «героях».
Показания обвиняемых и свидетелей со всей беспощадностью выявили истинное лицо этого двуличного демагога, отъявленного бандита и хладнокровного убийцы. Нет, сам Ленков прибегал к оружию лишь в крайнем случае. Он меньше других участвовал в грабежах и убийствах. Но, как никто другой, он умел, сам оставаясь незапятнанным, коварно и хитро навести безжалостный удар своих сообщников на избранную им цель. Таких же методов придерживался и Филипп Цупко — «вторая рука банды». Потому–то и возникло между ними взаимное недоверие, перешедшее затем в соперничество.
На суде выяснилось, что организатор банды, агент семеновской контрразведки Гутарев вовсе не был убит во время одного из налетов, а попросту ушел за границу и своим хозяевам вместе с награбленным золотом. Слух о его гибели был распространен новым атаманом намеренно, ради маскировки. Как подтвердил Багров, Костя Ленков в последнее время все чаще и чаще поговаривал о таком же исходе для себя.
К сожалению, судебное разбирательство не внесло ничего нового в расследование убийства на Витимском тракте. Более того, Костиненко–Косточкин на суде отказался от своих показаний, данных им на предварительном следствии. Все четверо убийц — Самойлов, Баталов, Бердников и Крылов — в один голос подтвердили, что наводку на «витимское дело» давал Косточкин, однако тот все отрицал и повторял свое любимое: «Ничего не знаю. На меня наговаривают». С таким же упорством он отрицал и все другие факты своего участия в делах банды Ленкова. Даже в последние дни процесса, когда были выслушаны речи обвинителей и защитников, когда подсудимым была предоставлена возможность последнего слова перед вынесением приговора и все они просили снисхождения, Костиненко–Косточкин удивил всех. Он уже знал, что прокурор потребовал для него высшей меры социальной защиты — смертной казни через расстреляние. Однако, злобно оглядев зал, он произнес единственную фразу:
— Виновным себя не признаю.
На вечернем заседании 25 октября 1922 года был оглашен приговор Высшего кассационного суда ДВР по делу банды Кости Ленкова.
По степени наказания все приговариваемые были разбиты на несколько групп, и каждой из них приговор объявлялся особо.
Последней в зал была введена самая большая группа, тридцать закоренелых бандитов и убийц, обагрявших руки кровью десятков безвинных жертв, молча и напряженно ждали решения своей участи. Все они догадывались, что ждет их, и все же каждый на что–то еще надеялся.
— Именем народа Дальневосточной республики…
Вытирал слезы морально измученный, давно упавший духом Багров, которого остальные бандиты подвергли остракизму за его хвастливые признания. Воровато озирался беспокойный Филипп Цупко, которого теперь острее, чем когда–либо, не покидала мысль о побеге. Снисходительно усмехался Михаил Самойлов, давно уже свыкшийся с ожидавшей его участью. Тупо, бессмысленно смотрели на сцену Баталов, Бердинский, Крылов. Стыдливо опустил глаза бывший лихой партизан Тимофей Лукьянов, продавший свою честь и славу за бандитское золото. Смиренно, словно безвинный мученик, стоял Костиненко–Косточкин. Он верил в бога и теперь шептал молитву о загробном царствии, хотя это не помешало ему на земле быть сообщником кровавых преступлений.
— Высший кассационный суд ДВР… в порядке закона от 3 апреля 1922 года…приговаривает к смертной казни…
Все тридцать были достойны этого возмездия. Однако в особом постановлении суд для одного из них сделал исключение. Принимая во внимание боевые заслуги партизана Тимофея Лукьянова в прошлом, суд заменил ему смертную казнь двадцатью годами тюремного заключения.
Приговор был окончательным. Он подлежал лишь утверждению правительства ДВР.
В те дни не только Дальневосточная республика, но и вся Советская Россия с волнением ждали вестей из Приморья, Народно–Революционная Армия, ведя победоносное наступление, уже подошла к Владивостоку — последнему оплоту интервентов и белогвардейщины.
Близился последний день многолетней борьбы за освобождение Дальнего Востока.
Этот день наступил 25 октября 1922 года.
Именно в те вечерние часы, когда в зале заседаний Народного собрания оглашался приговор участникам банды Ленкова, телеграф принес в Читу долгожданную весть: Владивосток занят частями Народно–Революционной Армии и партизанами.
В честь этой победы правительство ДВР, утверждая поздно вечером приговор Высшего кассационного суда, решило проявить милосердие. Для десяти осужденных оно заменило смертную казнь двадцатилетним тюремным заключением. Помилование, естественно, не коснулось ни главарей банды, ни участников гнусного убийства на Витимском тракте.
Рано утром 26 октября приговор был приведен в исполнение в урочище Сухая Падь вблизи Читы.
Справедливое возмездие совершилось.
…А на всей огромной территории от Байкала до Тихого океана наступили дни мира и праздничного ликования.
Тринадцатого ноября в Чите открылась сессия вновь набранного Народного собрания, которое провозгласило в ДВР Советскую власть и обратилось к ВЦИКу с просьбой включить Дальний Восток в состав РСФСР.
Шестнадцатого ноября 1922 года ВЦИК удовлетворил эту просьбу. Дальний Восток, за освобождение которого было пролито столько крови и отдано столько прекрасных жизней, навсегда стал советским.
1967 г.


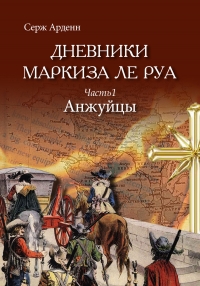

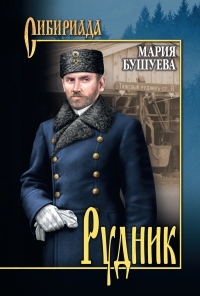
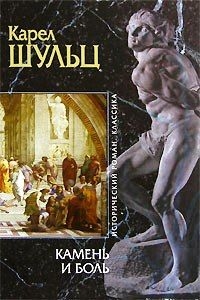



Комментарии к книге «Трагедия на Витимском тракте», Дмитрий Яковлевич Гусаров
Всего 0 комментариев