Павел Северный Сказание о Старом Урале
Олегу Дмитриевичу Коровину посвящаю
Книга первая Рукавицы Строганова По камским и чусовским сказаниям и преданиям
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
В шестнадцатом веке на Великую Русь, с таким трудом собранную воедино, снова пришло глухое время – волчье по злобе, лихое по делам. От негаданных напастей доброму человеку только поспевать было крестить лоб.
Четвертый на Москве Иоанн в припадках покаяния, кликушествуя, сменял бармы царя Московского и всея Руси на монашескую рясу. Безумствуя от страха за свою жизнь, царь, по прозвищу Грозный, учредил Опричный двор и с болезненной подозрительностью готов был в каждом русском человеке видеть изменника престолу и своего врага.
Народ, замирая сердцем, следил, как пестро наряженная царская опричнина по воле богобоязливого царя чинила суд и расправу над неповинными любых званий и сословий. По всей многострадальной, святой и грешной земле темная царская ненависть бродила в обнимку со смертью. Лютый правеж расшатывал неокрепшую слитность всея Руси...
Тугое было время на ее просторах!
На Каменном поясе, в отдаленном крае Перми Великой, в новых вотчинах Московского государства, по горным, лесным чащобам звенели не одни топоры – случалось звенеть и булатным клинкам о щиты и кольчуги.
С виду в замиренном крае стало как будто покойно, но тот, кто жил в нем издавна, умел прислушиваться к шуму его вольных лесов, тот понимал, что эти заколдованные шаманами заповеданные леса рады не всякому пришельцу с широких дорог Великой Руси.
Как только языческие племена древней Заволоцкой Чуди и Приуралья – вогулы, зыряне и более поздние пришельцы, татары, дознались, что в самой Московии забродила вражда царя с народом, покатились по всей Перми Великой волны восстаний и разбойных набегов.
Кострами запылали города, посады и сторожевые остроги на Каме, Вишере и Колве.
Вожди вогульских племен и шаманы, нагайские князьки – татары пытались выжечь, выкурить из лесного царства ненавистное, насильно навязываемое им христианство, скинуть бремя власти московских воевод – кормленщиков. Кровью окроплялись лесные тропки-дорожки, низинные и горные, болотные и поречные, мокрые и сухие...
2
Над уральским Севером взошло июльское солнце 1566 года.
В верховьях Камы, Вишеры, Колвы и Печоры на вершины лесных великанов наплывал с востока розовый свет.
Солнце неторопливо будило леса от сонной истомы, угоняло ночной мрак в царство тундры, к Студеному морю.
В чердынских лесах за селом Ныробом могучие кедровники перемежались по берегам Колвы с сосновыми борами и еловыми чащами.
Там – первобытная глушь. Тянутся ввысь многосаженные стволы с седыми патлами лишайника-бородача. Деревья так жмутся друг к другу, что солнечному лучу порой не одолеть этой тесноты, потому и застаивается в ней вечная мгла сумерек, сизая, как перо голубя. Доносит оттуда утренним ветром только посвист рябчиков, глухариное бормотание и барабанную дробь дятлов.
Труден дальний путь по эдаким дебрям!
Иванко Строев пробирался по ним не день и не два, превозмогая страх перед чащобной глушью, мучительный голод и тяготы бездорожья. Где случалось в борах ровное место, Иванко для поддержания бодрости даже пробовал петь, набирая всей грудью дух соснового ладана...
Иванко – парень видный, широк в плечах и ростом под стать иной лесине. На нем холщовая рубаха, подпоясанная сыромятным ремнем. Трепаные штаны с заплатами на коленях. Густые русые волосы примяты овчинным треухом. На ногах драные лапти. Топор за опояской. Бородка по молодости лет еще слабовата, а котомка за спиной и вовсе тощая.
В лесных низинах, над настилом из сопревшей хвои еще не разошлись белесые кудели тумана, а от них тянет сырым холодком. Иванко зябко поводит плечами. Опять пришлось коротать ночь на ветках матерой ели, под крики филинов и тревожащий воображение хруст валежника. С тоской вспоминалась недавняя жизнь в приволжском селе.
Из родных мест Иванко ушел от царских опричников по весне, когда она еще только начинала грязнить белизну зимних сугробов. Пятый месяц длится его странствие в камский край.
Голод донимал парня. Последние сухари он съел вчерашним утром. Кончились третьи сутки, как он вышел из села Искора, держа путь на Чердынь, и парень не мог понять, где и когда он потерял направление и заплутался в этом страшном лесу. Неужто так и не выйти ему к реке Колве?
Нынче утром Иванко снова решил держать строго на восход. Хвойный настил похрустывал под ногой, как снежок в морозную ночь. Местность постепенно понижалась, лес редел, в чащу стали протягиваться косые нити солнечной пряжи. Впереди – поляна с молодыми елочками. Он было побежал по ней и тут же остановился, радостно изумленный: перед ним, под крутым косогором, играла бликами речная вода!
Еще не веря своим глазам, Иванко проговорил вслух:
– Неужто Колва?
И тотчас уверил себя:
– Так и есть! Колва это, слава те осподи!
Истыканный сухостоем, поросший елочками и березняком речной мыс заставил Колву изогнуться подковой. За поворотом река образовала болотистую заводь. Глинистый косогор возле заводи расколот надвое лесистым оврагом. По его дну из-под вековых завалов бурелома, мимо кочек с незабудками и морошкой, бежит в заводь шустрая, вспененная речка.
Ветры и оползни уронили на склоны оврага немало кедров и елей. В самом устье речки торчат из воды давно затонувшие лесины. Их голые, черные сучья похожи на частокол.
Поодаль Иванко разглядел на реке плоты, а на обоих берегах дымные костры. Ветер доносил оттуда по воде людские голоса и перестук топоров.
– Мать честная, да никак там народ! – Парень на радостях высоко подбросил треух, поймал его на лету и припустился было бегом по склону оврага. Но впереди сильно плеснула вода заводи и зачавкала за кустами болотная жижа. Уж не медведь ли?
Парень проворно схоронился за елками и сразу вздохнул облегченно: из темной щели оврага, все еще окутанной туманом, спугнув стайку чирков, вышел крупный сохатый, вынес на сошниках рогов обрывки тумана и целый рой гнуса. Мотая головой, он пытался скинуть с рогов пряди лишайника, счесанного с деревьев.
Сохатый постоял среди незабудок, отряхнулся и побрел, шумно бултыхая водой, к самой быстрине речки, где прорыла она себе тропку среди плывунов и кувшинок. Опустив морду к воде, лось дыханием раздул-разогнал с нее утонувших ночных мотыльков и начал пить, мягко причмокивая губами.
Иванко долго смотрел на лося. Бурая с густой сединой спина обильно полита росой: с поджарых боков еще скатываются блестящие капельки. В надбровных дугах лишаями налипла мошкара, а возле ушей, у рогов, сизо-красными бусинами свисали вздувшиеся клещи.
Пока сохатый несколько раз окунал голову, чтобы смыть с глаз мошкару, в овраге хрустнул валежник, и из кустов тальника, крадучись по стволу затонувшего кедра, вышла ушастая рысь. Она уже давно скрадывала сохатого в овраге, но упустила момент нападения и теперь опять с осторожностью подбиралась к великану.
Сохатый заметил врага, но не слишком встревожился: в воде рысь ему не опасна, да и слишком она далеко для прыжка.
Рысь тоже оценила и силу и опыт противника. Такой дешево не продаст свою жизнь! Скаля зубы и как бы захлебнувшись от бессильной злости, рысь закашлялась с шипением и стала тоже лакать воду.
Великан напился, не упуская врага из глаз, отфыркался, поскреб копытом речное дно, замычал и, гордо запрокинув голову, пошел мимо рыси в глубину заводи. Уже в русле Колвы он погрузился в воду и поплыл. Сильное течение сносило его к противоположному берегу, залитому солнцем. Река здесь была неширока.
Иванко подождал, пока лось не выйдет на берег и не скроется в лесу. Потом поискал взглядом рысь, но хищница уже исчезла в кустах. Тогда Иванко берегом побежал к плотам. Задыхаясь на бегу, он видел, как бородатые мужики скатывают с берегового откоса плети стволов. Громыхая, они падали в воду, а здесь, уже на реке, женщины ловко цепляли их баграми и скрепляли в плоты. Иванко невольно залюбовался на эту слаженную работу...
– Эй, чего рот разинул, как ворона в жару?
От неожиданности Иванко чуть не присел. Увидев коренастого мужика, заросшего рыжей бородой, поклонился:
– Здорово, добрый человек!
– Почем знаешь, что добрый я? Здорово так здорово. Сказывай, кого в сем месте потерял?
– В Чердынь иду. Видать, заплутался.
– Крепость пошто понадобилась?
– С Руси я.
– Сиганул, стало быть?
Несколько плотовщиков, мужчин и женщин, бросили работу и сгрудились вокруг чужого человека.
– Сам из каких мест?
– Из-под Костромы.
– Аль тесновато стало на Волге-матушке?
Иванко насупился.
– Опричники Малютины вскорости всю православную Русь в разные стороны разгонят.
– Понятней сказывай! – выкрикнула пожилая женщина.
– Нишкни, баба! Слыхала, сбег человек из родного места. Понимать должна, что про свою беду чужакам сразу не скажешь.
Подошел к Иванку седой одноглазый человек, осмотрел парня.
– А ведь пришлец правду сказал, мужики. Лапти – костромского плетения.
– Почем узнал, Денис?
– Потому и узнал, что сам из костромского теста спечен.
– Погляди-ка, измаялся как, сердечный! – пожалела беглеца пожилая.
– Куда плоты станете плавить? – спросил Иванко у рыжебородого.
– По первости в Чердынь, а уж там – в Каму. Строганова лес.
– А вы чьи будете?
– И мы – строгановские люди. Здесь, милок, по воле царя-батюшки всякий комар на любом болоте строгановский. И ты станешь их человеком. Для беглецов здеся они хозяева. Ты вот, к примеру, свою башку из одного хомута вытянул, а здеся сам же ее в другой всунешь. К Строгановым. Так-то, милок!
– А опричнина у вас водится?
– Этого нету. Но худого и без нее много. Ты нас не опасайся. Под стать тебе, недавно на строгановские земли пришли. Слава богу, что солеварами не стали.
– Стало быть, и в Чердыни они хозяева, Строгановы-то?
– В Чердыни царев воевода пузо отъедает, но все одно и он волю Строгановых выполняет, потому как и ему жизнь не чужая... Да ты ел ли седни, мил человек?
– Со вчерашнего дня голодую.
– А молчишь?
Рыжебородый мужик развязал котомку, брошенную возле костра, и вынул каравай ржаного хлеба. Переломил пополам о колено, подал Иванку половину:
– Ешь! – Потом покосился на сборище мужиков и баб, выругался: – Чего в кучу сбились, как овцы? Парней, что ли, не видали? Слыхали, что сказал?
Плотовщики нехотя разошлись, работа на реке возобновилась. Только кривой старик Денис не ушел от костра. От сухого хлеба у Иванка запершило в глотке. Он собрался к реке, зачерпнуть воды. Кривой остановил его.
– Из котла налей ягодного взвару, коли сухомятка не в охоту. Водица родниковая, а взвар – на пчелином меду.
Пришелец ел не торопясь. Горячий, душистый ягодный взвар на меду он осторожно прихлебывал из оловянной кружки. Так неторопливо и степенно едят люди, знающие себе цену.
– Поем, попью – пойду бабам пособлять плоты вязать.
– Нешто кумекаешь в нашем деле? – заинтересовался рыжий.
– Наш род от прадедов по плотницкому мастерству. Аргунами нас владимирцы и ярославцы кличут, да не простыми, а корабельными. Лодки да струги на Волге спокон веков ладим.
– Правду ли баешь? – недоверчиво переспросили кривой и рыжий в один голос.
– Право слово. Хоть сейчас дублянку излажу.
– Да ты, свет, для нашинских мест человек золотой. У Строгановых в коренниках пойдешь, они плотников берегут. Одним духом тебя в Чердынь к Досифею доставим.
– А он кто?
– Досифей-то? Тень от Семена Строганова на земле камской. Ешь до сытости. Вечерком ужо обо всем тебя расспросим. Досифей нас с Денисом старшими поставил. Меня Федором Рыжим зовут, плоты к сплаву готовлю; а Денис Кривой с плотами ходит. Памятуй крепко: нас опасаться неча!
3
Светило солнце и над царской крепостью Чердынью, что на Колве, играло на церковных крестах. Колокольный звон к ранней обедне распугал галок; крикливыми стаями они кружились над синими и зелеными луковицами глав. Лесное эхо подхватывало звоны и с переливами несло вдаль. Только соборный большак колокол гудел с дребезжанием с тех пор, как зашибся и дал трещину: в пожар 1535 года он упал наземь. То был пятый по счету пожар, запаленный сибирскими татарами при набегах на чердынскую крепость.
Древний город после каждого пожара возрождался заново, постепенно переползая от места своего первооснования на берегу Камы все дальше, пока не уместился на высоком косогоре над Колвой. Тут, в двадцати пяти верстах от старого своего пепелища, крепость Чердынь была вновь отстроена мастером-горододельцем Давыдом Курчевым.
Оба речных берега встали здесь насупротив друг друга, как два сторожевых рубежа с каменистыми косогорами. На правом берегу – чердынская крепость, на левом щетинятся лесные урочища. Стиснутая берегами всего сажен до сорока, бежит в этом узком русле темно-зеленая вода быстрой Колвы.
4
Солнце в это утро было жаркое.
Благовест разбудил чердынского воеводу Захара Михайловича Орешникова, родовитого боярина из Великого Устюга. Воеводская изба на холме, обсаженная липами и березами, возвышается над всем городом.
Воевода накануне лег за полночь, на лежанке, во всей одежде, только тафью снял да стянул с ног красные сафьяновые сапоги. Полуночничал старик не зря – дожидался важного события: лучшая его сука Ласка, обгуленная сибирским волком, ощенилась около полуночи, и в помете из пяти щенят оказались три кобелька.
Воевода любил Ласку: сам и вырастил – получил ее крошечным щенком в подарок от заезжего вогула с устья Печоры, когда тот навестил крепость по торговому делу.
Чтобы не потревожить в поздний час покой супруги, воевода после благополучного разрешения Ласки от бремени не пошел в хоромы, а заночевал в воеводской избе. Здесь, в просторной, но низкой горнице, было душно. Сквозь изжелта-сизую слюду четырех окошек лучи солнца ложились радужными полосками на дощатый пол, хорошо отмытый дресвой и устланный половиками.
Стукаясь о слюду, жужжала оса. На воле под застрехом мирно ворковали голуби, а здесь, в углу, связанные пучками, как снопики, лежали до самого потолка связки каленых стрел, стояли прислоненные к стенам алебарды. На крючьях было развешано множество всякого оружия – русские прямые мечи и круглые щиты, татарские сабли, их колчаны и луки.
Не понравилось воеводе, что вся горница опять завалена тюками со всякими мехами, отобранными в городе у воров-грабителей. А не понравилось потому, что над тюками во множестве летала моль – может побить, обесценить дорогую и редкостную пушнину.
На лавке возле двери спал человек. Кто таков, Захар Михайлович не знал, но расположился тот в чужом месте по-домашнему и спал крепко, с похрапыванием и присвистом, словно под родным кровом. Воевода взглянул на него неодобрительно, хотел было крепко толкнуть под бок, да, присмотревшись получше, видимо, раздумал турнуть спящего... В этот миг его отвлек тонкий, слабый писк под печью: на раструшенном снопе соломы лежала сука со щенятами.
Забыв о незнакомце, Захар Михайлович погладил собаку, собрал щенят в подол рубахи, ногой пихнул дверь и ступил на крыльцо. Матка тотчас же пошла следом. Воевода поднялся по скрипучей лестнице на верхнее крыльцо, залитое солнцем и овеянное теплым ветром с реки. Захар Михайлович положил щенят на теплую половицу. Ласка легла и носом подоткнула всех пятерых щенят к сосцам. У собаки был усталый, чуть смущенный и блаженный вид.
Воевода подошел к перилам крыльца, искусно вытесанным новгородским мастером-древоделом. Щурясь от солнца, он привычным хозяйским взглядом окинул крепость и город, будто проверяя, все ли в порядке после истекшей ночи.
Все глядело так же, как в день его прибытия на чердынское воеводство. Только вот синие луковицы соборных глав покрылись белыми потеками галочьего помета – смотреть срамно! Нынче же сказать владыке Симону, чтобы повелел причту убрать непотребство.
Ворота крепости распахнуты, как затвор в мельничном лотке. В них потоком вливается городская толпа, притекает к базарному торгу, к церквам и собору, вымахивает на площадь, вскипает у кабаков, царевых кружал... Широка соборная площадь – толпа на ней горланит, кони ржут, нищие ноют на паперти главного храма, а в другом конце острожники подметают немощеный край площади с плешинами лужаек. Это пленные татары, задержанные близ крепости и заподозренные в недобрых намерениях. Пока суд да дело, воевода держит их в остроге и позволяет брать на мощение дорог и разметание улиц. С алебардой на плече ходит среди острожников ратник и со скуки поднимает на крыло сытых голубей. Взлетая, они громко хлопают крыльями, будто дети в ладоши бьют...
Местность под городом и крепостью оголена, а в самой крепости, вокруг собора, жители сберегли, не порушили во время стройки, старую кедровую рощу. Огромные вековые деревья обступили собор так тесно, что сверху, с гульбища воеводской избы, Захару Михайловичу видны только купола и кресты.
У Колвы-реки отсюда, сверху, просматривается только тот, противоположный, берег и самый речной стрежень; вверх и вниз реку видно до синих туманных далей, насколько глаз хватает.
Сейчас, когда солнце поднялось выше и туман над рекой подсох, можно видеть великое множество плотов: и на причалах стоят, и мимо города плывут, с рублеными избушками плотовщиков на плавучем бревенчатом основании.
Все – лучший строевой лес с верховьев Колвы, где лесорубы свалили его в печорских борах.
Плоты Аники Строганова!
Если окинуть орлиным взором все земли Перми Великой, можно на всех реках углядеть строгановские плоты.
Здесь, на Колве-реке против Чердыни, от плотов всегда затор. Для торговых судов – баркасов и шитиков – даже места не хватает у городских причалов, приходится чалиться далеко, версты за две ниже города.
Торговля в Чердыни идет сейчас пустяковая – рыбой, солью, рогатым животом, щепетильным товаром, медом, посудой, одежей-обувкой и всяческой снедью, не боящейся порчи.
Богатеет-то город от пушнины, а ее везут позднее, уже санным путем: глубокой осенью, зимой и ранней весной. Но и в тихое летнее время на торгу всегда суета, толкотня и пестрота людская.
Куда ни устремляй взгляд с верхней воеводской галереи-гульбища – везде, по всему окаему, синеют извечные леса Перми Великой. Порубками они отодвинуты от города на версту, и лишь прибрежный лес на том берегу Колвы отстоит от городских стен сажен на полета.
Чердынские леса – темные, колдовские, даже не всяким зверем исхоженные. Вечно таят они угрозу для горожан, укрывают супостатов Московского государства. Хребты и увалы Рипейских гор, как медвежьими и волчьими тулупами, прикрыты дремучими дебрями, – только в редких местах они опалены пожарами и повытерты временем. Глухие овраги и урочища завалены упавшими сухими лесинами – этот бурелом скрывает роднички и истоки речек, делает местность почти вовсе непроходимой. И над всеми этими урочищами, всегда прикрытый дымкой тумана или легкими летними облачками, поднимается к небу величественный Полюдов Камень.
Воевода привык к этим лесам, умеет даже по цвету угадывать их породы. Темные, припачканные синькой и сажей леса – это сосновые и кедровые боры; зеленовато-седые – это леса лиственничные, а ярко-изумрудные с синим отливом, как у тетеревиного крыла, – урочища еловые и пихтовые. Со стороны северной Чердынь окружают леса Искорские, с юга подступают Кайгородские и Соликамские, на западе – Вычегодские, иначе Вятские, а с востока простираются бескрайние Вишерские и Сосьвинские, самые глухие и вовсе необжитые, как за хребтом, в самой кучумской Сибири. Этими-то лесами и вьется торговая дорога в Сибирское царство. Протоптавшие ее некогда новгородские торговые люди прозвали эту дорогу Волчьей тропой...
Крепость свою воевода любил. Она стояла на берегу Колвы трудно, а горожанам в ней – не тесно, просторно. За крепостной стеной по земляному валу, утыканному кольями, пробился из земли молодой кустарник и свежая еловая поросль. Каждую осень ее вырубают, а за лето эта зеленая поросль вырастает вновь, что волос на бритой бороде!
Крепостные стены слажены из бревен «тарасами», то есть готовыми срубами. Проемы между двумя рядами бревен засыпаны землей и заложены бутовым камнем. Высота вала и стен – семь сажен, а сторожевые башни со всполошными, набатными колоколами – того выше.
Ворот в крепости – четверо: северные ведут в новгородский посад, южные выходят на Соликамскую дорогу, восточные – на самую глухую окраину, где живет по низким избам работный люд. Западные ворота издавна заколочены наглухо. С верхнего крыльца воеводе слышно, как архиерейский служка чистит владыкины обутки под окнами архиерейских покоев и переругивается с дворовой бабой. Та визгливо кричит что-то невнятное, а служка басом отчеканивает: «Ох и дура же ты, бабонька, что ни на есть самая бестолковая!» Того гляди, перебранка эта разбудит боярыню: Захар Михайлович замечает, что в его опочивальне отворенные окна еще прикрыты занавесками. Значит, не вставала с постели его Аннушка-сударушка...
Архиерейские покои и боярские хоромы здесь, в крепости, волей-неволей расположены почти рядом, невдалеке от воеводской избы.
По лестнице застучали кованые сапоги. На верхнее крыльцо вышел однорукий телохранитель воеводы Гринька Жук. Еще под Казанью сражался он бок о бок со своим боярином, не посрамил русского знамени в кровопролитных боях. Тогда и укоротила ему левую руку по локоть татарская сабля...
– Глянутся? – Воевода указал Жуку на щенят, сбившихся в кучку подле матери.
– Добрые волчьи детки. Вон тот, с отметиной на ноге, больно хорош, боярин.
– Все на один лад. Кто это в горнице на лавке сон вяжет?
– К боярыне гонец от Строганова. Семен Аникеевич гостинцев ей с Вишеры прислал.
– Когда прибыл?
– Уж светать начинало.
– Гостинцы где?
– В хоромы я их стащил. Глашке велел, чтобы боярыне показала, как только ото сна восстанет... Кваску не выпьешь ли, боярин?
– Квасу не надо. Кринку молока принеси и свежего ржаного хлебца.
Жук удивился:
– Уж не занемог ли, боярин?
– Неси, неси. Поутру оно и здоровому – в охотку. И Ласку поить станешь... А то совсем матку изнурят. В рост всех оставить!.. Слышишь?
– Слышу, – ухмыльнулся слуга. – Едоки добрые будут!.. Ишь какие волчата! Любо смотреть!
Жук снова застукал сапогами по лестнице. Воевода задумался; кустистые седые брови совсем прикрыли глаза... «Так, значит, Семен Строганов гостинцев боярыне прислал-» Проговорил вслух:
– Зачем Аннушке его гостинцы? Небось у нее из моих рук всякого добра вдосталь!
Сказал и пуще наморщился. О многом вспомнил, будто из рук выронил шкатулку памяти, а из нее рассыпались-раскатились все бусинки прожитого, перевиденного...
Седьмой год воевода коротал в Чердыни, а прибыл сюда из Москвы без малого на шестидесятом году. В крепости подумывать стал на досуге о прошлой жизни, а досуга у него – девать некуда. Думал, как овдовел в молодые годы и не мог позабыть кроткую подругу-покойницу. Старался уйти от докучливой тоски по ней, служа царю Ивану в самые те годы, когда царицей была Анастасия, в девичестве Юрьева-Захарьина. Думал, как старился бобылем и только после покорения Казани женился на молоденькой новгородской красавице, испросив у царя дозволения уйти на покой. Царь желания его не исполнил, послал в Чердынь.
Приняв власть над крепостью и городом, воевода ретиво занялся его благоустройством и украшением. Принялся наводить новые порядки, однако скоро утомился. Надоело хлестать по мурлам пьяных дьяков, отучая от лихоимства; помогать владыке Симону в спорах о силе христовой веры с вогульскими верховными шаманами и князьками; опротивело разбираться в тяжбах хитрых купцов, падких на сутяжничество, но больше всего опротивело приводить в разум посадских людишек, подводить под мерку царского закона бродяг и ворюг.
Мечтал воевода прославить себя и дружину ратными делами. Но набегов покамест не случалось, про Чердынь с ее богатствами лиходеи будто забыли, и только изредка у стен города воеводские ратники ловили черемисов и татар из Сибири, но больше зряшных, неспособных чинить крепости вред.
За семь лет от сытной пищи воевода ожирел и стал при ходьбе задыхаться, как запаленная лошадь. Все труднее делалось держаться в седле, а под боком – молодая жена, женщина гордая, капризная, властная. Желанного покоя с ней не было.
Не было покоя и во всем крае за пределами крепости. Баламутила его молва об Анике Строганове. Все было куплено его деньгами и плясало под его дудку.
В спор со Строгановыми воевода не вступал, понимая, что спорить с ними нельзя, а надо дружбу водить, если не надоела жизнь.
Со всем смирился воевода. Даже жене ни слова не говорил про частые наезды Семена Строганова с ночевками, потому что Аннушка все равно гостю от дома не откажет. Боялся он, чтобы слух о его недовольстве не дошел до ушей Семена Строганова, ибо знал, что даже за это можно поплатиться жизнью. А кто и как – отравой, стрелой или кистенем уберет со свету – не дознаешься, и следа не найдешь: кругом леса, а в них любые следы не знатки.
Нет острее муки, чем боль ревности. Рысьими когтями царапала она сердце воеводы: бродили по городу сплетни про греховность молодой боярыни. Шептали, что не зря зачастил в Чердынь Семен Строганов. Но и с этим приходилось смиряться – на все рты платка не накинешь даже властью воеводы. Просто силился не вникать, не верить наговорной мути. При горожанах суровость на себя напускал и знал только про себя, что больше всего любит полюбоваться Чердынью вот с этого крыльца, поиграть в городки с владыкой Симоном да изредка не прочь пображничать с проезжими купцами, если из значащих, именитых. Вот так и коротал жизнь, утешал себя тем, что в Чердыни все же он хозяин, а не Строганов. Хозяин... да только за стенами своих хором, а не в самих хоромах.
Голос Жука вывел воеводу из задумчивости. Слуга на этот раз был бос.
– Глянь-кось боярин, какую кринку выбрал. Мороз в молоке. Покуда донес, вся кринка бархатом обнялась.
– Обутки, вижу, снял?
– А как же? Грохоту в сапогах много. Макаровна хоть и старица, а слухастая. Выходит, боярин, что для тебя мне иной раз и татем обернуться случается. Пей на доброе здоровье.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
С утра моросил не по-летнему мелкий дождь.
После полудня в крепость наехал московский гость – новый Соликамский воевода Запарин Дементий Степанович.
Пала на Чердынь мокрая ночь и все упрятала в запазухе непроглядной черноты...
2
В трапезной воеводских хором стол накрыт парчовой скатертью. Свечи в медных свешниках уже оплыли, закапали подставки в виде орлиных лап. Желтый свет падает на два лица, красных и потных от хмеля. От обеих голов и высоких стоячих воротников на бурых бревенчатых стенах ворошатся тени, как взмахи вороньих крыльев.
На столе глиняные миски с остывшей стерляжьей ухой, подносы с пирогами, ломтями хлеба, оладьями, плоские тазы с засолами и холодным мясом, пареная осетрина с инбирной подливой.
На серебряном блюде – остатки съеденного индейского петуха. Дубовый, в позолоченных обручах, бочонок с можжевеловым медом, два ковша меду смородинового, кубки заморской романеи и темно-красной мальвазии опустели наполовину. Слуги отпущены – беседа не для холопьих ушей.
Собеседники, насытясь, распоясались и отпустили парные застежки камзолов под кафтанами. Ближе к свету – хозяин, облокотился на стол. Против него – гость, Соликамский воевода Запарин, развалился в кресле с высокой спинкой, обитой волчьей шкурой, придавил тяжелым седалищем подостланную пуховую подушку малинового бархата.
Время позднее. Над хозяином хмель все еще не взял полной воли, и только в глазах нет-нет и появится слезливая пелена сонливости. Зато гостя хмель облапил крепко, и оттого проскальзывала во взгляде его плохо скрытая хмурость. Угадывались за нею недобрые помыслы, готовность творить злое дело повелительным словом и своими руками.
У Запарина сползла на затылок с потного темени голубая бархатная тафья, унизанная шитым жемчугом. На его отечном и морщинистом лице землисто-бледную кожу пробивала краснота прожилок, и на ней пятнами серели темные подглазины. Нос у Запарина мясистый и горбатый, похож на клюв филина.
Наевшись до отрыжки, собеседники чаще и чаще приумолкали: оба знали, что, охмелев, начнут, чего доброго, говорить совсем не то, о чем вели беседу, садясь за стол.
Хозяина нежданный приезд гостя взволновал, разворошил память обо всем, от чего заслонился он в Чердыни непроходимыми звериными лесами. Печаль охватила от недобрых вестей про дела в Москве-матушке. Не понравилось и то, что Запарин будет жить у него под боком. Гостя своего, Дементия Запарина, он знал хорошо! Темное любит, особливо если оно звонкую прибыль посулить может, любит нашептывать небылицы, оговаривать добрых людей за глаза, а в глаза лестью выстилать хитрые подходы к собеседнику.
Вот и за трапезой он говорил об одном, а думал о другом, и все время, как шилом, исподтишка покалывал Орешникова взглядом прищуренных, будто простодушных глаз, но всегда таящих настороженность.
В раскрытые окна донесся шелест листвы от налетевшего речного ветра, и собеседники прислушались, как звучно забулькали капли дождя в лужах.
– Шибче пошел. Поутру моросил, как по осени.
– Тоскливо у тебя, Михайлыч, в мокреть?
– Мыслями о сем себя не нужу. Иной раз бывает, особенно в пору, когда волки выть начинают. Подойдут под самые стены и воют. Но ничего! Я ко всему приобык в Чердыни.
– Вижу, что приобык. Экое клятое место: лес да небо! Поди, и звезд-то ладом не увидишь?
– Об этом напраслину говоришь. Звезды здесь особенные. В Москве таких нету.
– А чем они от московских разнятся?
– Больно много их, да и яркости необыкновенной.
– Поживу – погляжу.
– Понимать велишь, что любишь небесными светилами любоваться?
– Люблю на звезды глядеть. Охота мне дознаться, какой это в них огонь возгорается? Люди всякое про звездный огонь говорят, а мне охота самому дознаться. Как думаешь, есть тепло от звездного огня?
Хозяин посмотрел на гостя, покачал головой, засмеялся.
– С чего это разом развеселился?
– Смеюсь оттого, что ты, Дементий, мастак людей спрашивать про никому не ведомое.
– Нет, ты постой, постой, от ответа не уходи. Греют ли нас звезды небесные?
– Не ведая, ничего сказать не могу. Звезды высоко, и лап до них не дотянешь даже с маковки Полюдова Камня.
– А я все равно хочу дознаться. И дознаюсь обо всем про звездный огонь.
Запарин, не глядя, протянул руку и, гребнув было попусту горстью воздух, поймал чару с медом, пригубил и поперхнулся. Искрясь на свету, пролитый мед зернышками-капельками скатился с рыжей бороды. Запарин обсосал замоченные усы и поставил чару на стол.
– Вот как высветлело-то в нашей жизни, Михайлыч. Повстречались мы с тобой снова в клятом краю, да еще оба на той же службе царю.
– Это верно. Повстречались нежданно и негаданно.
– Примечаю, что встрече со мной душой ты не рад.
– Про зряшное речь ведешь.
– А ты прислушайся все же. Плохого ничего не скажу, но попрекнуть тебя дружеским словом осмелюсь. Обидно мне за тебя.
Запарин скрипнул зубами, даже кулаком себя по колену хватил.
– Обидно! Сколь годков не виделись? Все двадцать! В разных местах жили. Ты с царем Казань покорял, а я новгородцев московскому порядку учил, в мозги его там вдалбливал. Полагаешь, раз убрался на чудскую землю, можно о дружках и недругах позабыть? Ан, вышло по-иному. Я вот возьми и объявись перед тобой в новом обличий, и тоже в воеводском звании... В голове у меня больно шумит от твоего меду, вот и скажу: жаль мне тебя, Михайлыч. Не тот ты теперь боярин. Будто сокол, петухом обряженный. Не серчай за правду, хотя она и колючая. Помню, каким ты был. Ухарь мужик. Сухопарый. Могучий. Голову держал вот эдак, жиром не оплывал. А теперича... Да и разобидел ты меня седни!
– Чем?
Орешников убрал локти со стола и прямо взглянул в глаза собеседнику.
– Только не серчай.
– Сказывай.
– Ишь как злобишься – язык обсох от суровости, промочил бы... Скажу так: скрытностью своей меня обидел ты! Про что ни спрашиваю тебя – все ты с дороги в канаву воротишь. Речь со мной ведешь при свечах, а будто в потемках на большой дороге с чужаком разговариваешь. Будто я не воевода Соликамский, а тайный углядчик подосланный, а то, может, доносителя подлого во мне опасаешься?
– Воевода Соликамский...
– Ты погоди! Высоким званием незнатного рода моего не прикрывай. От этого у меня башка кругом, как у филина, не завертится.
– На все спрошенное ответы слышал.
– Да, только не больно ясные. Пошто от друга давнего правду утаиваешь? Может, слушок про меня какой дошел из неправедных уст? Потому от завидок моему почету в Москве у иных, из вашего боярского сословия, горло перехватывает. Думаешь, не знаем в Москве, что в подвластных тебе лесах крамольники царские хоронятся, как тати, да про честных царевых слуг, вроде меня, хулу распускают? Сюда, окаянные, от царского гнева, как тараканы бегут, будто для них, треклятых, новгородцы тропинку в Сибирь протоптали. От своего царя убегают к ханам татарским да под крылышко Строгановых прячутся, чтобы голову от плахи уберечь. Все знают на Москве про этот край. Царь тоже знает. Только ему сейчас недосуг вашей крамолой заняться. Ему сперва надо в Москве многих на голову укоротить. Понимаешь, о чем речь веду, боярин?
– Как не понять. Ты, стало быть, по отрубленным боярским головам, как по кочанам капусты, к царскому престолу шагаешь?
– Чего сказал?
– Про то, о чем услышал.
– Ты мои слова неверно в разуме уместил.
Запарин встал, но его качнуло, и, упираясь руками в стол, заговорил сдавленным шепотом:
– Правду от моих ушей таить нечего! Не за тобой мне здесь доглядывать приказано. В строгановские места царем послан волю московскую утверждать, купчишку вычегодского осадить, от зазнайства вылечить, на правильное место поставить. Скажи мне по совести: отчего Соликамский воевода зимусь в райские сады к угодникам отселя отправился? Сам помер али помог кто?
– Не многое про то известно. Любого на свете могила ждет, но все одно живые про нее говорить не любят. Лег в нее по воле господней – и позабыт в сем мире. Лишь бы в поминальнике у попа записан был. Счет упокойникам в нашем крае не ведут, потому с правильного счета все равно собьешься. Охота тебе знать, как помер воевода Гаврилов? Да просто: сел за стол трапезничать, после еды занемог. От стола до постели на карачках дополз и кончился.
– Трапезничал где?
– Дома.
– Строгановы порешили?
– А почему на них подумал?
– Причину имею.
– Скажи.
– Доносил покойник царю, что Строгановы беглых бояр с холопами к себе на службу принимают, богатства отнимают, не в казну сдают, себе прикарманивают. По доносу выходит, что Строгановы царской воле ослушники.
– Поверил царь доносу?
– Кто же знает о том? Сдается мне только, что купчишкам Строгановым государь больше веры дает, чем вам, боярам, и нам, первым слугам царевым, милостью его за верную службу должностями высокими пожалованным. В вас, боярах старых, он, батюшка-государь, теперь ворогов своих видит, да и к нам, служилым, переменчив бывает – к каждому приглядываться некогда! Случится, что ухо свое царское к напраслине какой преклонит – и голова с плеч у нашего и у вашего брата. А купчишке этому – почему-то – вера, да какая! Донос-то про воеводину смерть царю доложен, а купчишка и поныне по белу свету гуляет, ничего ему не сделалось.
Желая переменить тему, Орешников спросил, каково стало житье при дворе московском после смерти царицы Анастасии. Про попа Сильвестра и опального Адашева он решил и не поминать.
Запарин подмигнул, собрал губы и морщины у глаз в хитрую улыбочку, снова потянулся за кубком.
– Житье-то... сладкое, особливо красным девкам и молодицам. Нынче, ежели хочешь кому из высших советников царских угодить и у самого государя в милости пребыть, посылай за этой милостью дочь, коли молода, или супругу, коли пригожа... Только ты, Михайлыч, опять меня с дороги увел...
Орешников отшатнулся от собеседника при словах его о похоти бесовской, что овладела державным государем Московской Руси, но Запарин вернулся к делам здешним, отвлекая хозяина от забот московских.
– Чьею же рукой Строганов воеводу Соликамского ядом опоил?
Собеседники не заметили, что в этот миг обозначилась в дверях статная женская фигура. Боярыня Анна Павловна Орешникова шла в трапезную, чтобы хозяйским глазом окинуть стол и заказать слугам перемену блюд, да вдруг на пороге так и замерла, услышав последний вопрос гостя. Замерла, словно срослась с дверным косяком. Обернись кто из беседующих, смог бы углядеть, как в настороженных ее очах шевелятся искорки от пламени свечей... Но ни тот, ни другой не заметили присутствия боярыни.
– Про то у него же и спроси, небось сам теперь воевода Соликамский, – не скрывая в голосе насмешки, ответил боярин.
– Что ж не спросить-то?
– Смотри, Дементий, легче по новой тропе ходи. Мхами и травами в нашем краю тропы укрыты. Падать мягко, а не встанешь.
– Не пужай.
– Упреждаю, Дементий.
Запарин снова тяжело опустился на подушку в кресле.
– Не испугаюсь Строгановых. Заставлю их выполнять царский закон. Обучу закон московский чтить.
– А ты боек, куда там! Не знаешь, что и у них свой закон водится? Царь дал им этот закон по дарственной грамоте. По ее буквицам ты у них только слуга-помощник. Вчитайся в дарственную грамоту Строгановым... Просил даве меня не таиться? Теперь сам от меня не утаивайся. Я-то знаю, что ты сюда не царем Иваном послан, хотя указ его рукою подписан. Нет царю надобности выверять верность Строгановых. Знает царь, плохо ли, хорошо ли, честно ли, или воровато, но Строгановы своей кремневой волей помогают ему накрепко, на веки пришивать камский край к Московскому государству единому. Кровь людская на Строгановых не в счет: царь знает, что, землю копая, нельзя рук не замарать; сам тоже кровь ушатами льет, да в ней Русь моет. Строгановы, брат, мужики умные, а потому в рукавицах орудуют. Рукавицы у них сшиты тоже умно. Двойные они. Ближе к телу – беличий мех на сукне, но это лишь нутро. Поверх надета рукавица кожаная, красная цветом, чтобы на ней свежая кровь не была заметна, а как подсохнет, то, как грязь, сама осыпается. Строгановы на Колве, Вишере и Каме хозяева. Они Русь здесь ставят. Мы с тобой перед ними никто. У них к любой царской двери свои ключики в карманах.
Запарин поежился, хотел что-то вставить, но Орешников перебил его, повышая голос:
– Воеводствуй в Соликамске как угодно, но гляди, чтобы на твою тень чья другая не пала. Со всеми Строгановыми разговаривай: Анику Федоровича и двух сыновей, Григория да Якова, обо всем спрашивай, но лучше никогда ни о чем не спрашивай третьего сына, Семена. А коли, не ровен час, сам он тебя о чем спросит, то без промедления отвечай. Потому, все Строгановы только думают, а надуманное ими Семен на свой манер облаживает.
– До чего же, однако, нас, царевых слуг, купчишки Строгановы запугали! Ни за что не поверю, что я, московский воевода, из опричнины, царем посланный, не волен спрашивать Строгановых, пошто они в крае беззаконие творят. Грабят они царскую казну?
– Не знаю.
– А хочешь поглядеть, как начну в их карманах прибытки пересчитывать?
– Будет хвастать, Дементий! Не так легко с языка слова спускай. И в моей крепости строгановские уши водятся! Не забывай, что тебе отсюда в Соликамск их вотчинами плыть. Видал, сколь плотов строгановских на воде?
Запарин только махнул рукой.
– Не отмахнешься! Главное, охота мне толком узнать от тебя, Дементий, кем ты послан на воеводство в Соликамск, чтобы здесь бояр беглых ловить?
Запарин вытаращил глаза на хозяина:
– Пошто об эдаком спросил? От кого дознался? От кого, спрашиваю, дознался о тайном наказе про беглых?
– Дознался? Ты и в самом деле подумал, что я из сокола петухом обрядился? Нет, Дементий, ежели иной раз и обряжаюсь, то по хитрости. В этих местах без нее шагу нельзя ступить. Здесь даже лешие к нашему воеводскому званию не больно большое уважение имеют.
– Кем послан, спрашиваешь? Как сказал давеча: царем Московским и всея Руси Иваном Васильичем, чтобы за строгановским воровством глядеть, отучить их пригревать царских ворогов.
– Врешь. Нет у тебя такого царева наказа. Ведомо мне, кем послан беглых бояр ловить. Ведомо, с кем будешь делить прибыток от отобранных богатств. Скуратову служишь.
– Да ты разум потерял, боярин!
– Нет, разум мой при мне. А вот ты теперь не сплошай.
– Да будет, будет, боярин! До чего договорились. Все оттого, что лишку меду хлебнули. Пора спать ложиться.
– В воеводской избе, на втором ярусе, для тебя все налажено.
– Вот и спасибо.
– Сторожить тебя будут твои же люди.
– Воля твоя, небось и чердынская стража надежна. А теперь давай порешим: о чем говорили, о том позабыли. Говорили-то мы с тобой с глазу на глаз.
– Живу, Дементий, в Чердыни, а приложу ухо к земле и слышу, как в Москве колокола звонят.
– А ты в самом деле хитрый. Неужто перед Строгановыми шапку свою боярскую первым сымаешь?
– Нет, не сымаю. Чтобы себя не уронить, я их на своем крыльце с непокрытой головой встречаю.
– Опять, выходит, хитрый.
– Какой есть. Весь на виду.
– А скажи мне, как попу на исповеди: сам-то Строгановых боишься?
– Боюсь.
– Да не верю!.. А впрочем, пожалуй, и верно боязливым ты стал; даже боярыню свою, красавицу показать боишься. Наслышан я про ее пригожесть. Самому царю ведомо, что жена у тебя – новгородская красавица. Пошто не позвал к трапезе?
– Звал.
– Обещалась к перемене блюд, да, видишь, мы с тобой и в пол-ужина насытились; знать, на покой ушла.
– Бабам надо приказывать, они силу в нас почитают. Красавица не красавица, все одно – баба. Моя жена покойная крута была нравом, но ослушаться моего наказа не смела.
Оба вздрогнули, когда услышали из темноты певучий голос боярыни Анны Орешниковой:
– Ежели бы жила жена твоя в этом краю, не испугалась встречь мужнину наказу пойти. Наша чердынская жизнь с московской не схожа. Опасности ее нас не милуют. Коли надо ей, так и смерть нас в ряд с мужиками кладет. И думать умеем, привыкнув вместе с мужиками право на жизнь по-волчьи у судьбы выгрызать.
– Кто это воевода? Неужли мне спьяну бабий голос слышится?
– Боярыня моя пришла.
– Быть не может! Не угляжу. Где она?
– Вот и я. Челом тебе бью, Дементий свет Степанович. Давно собиралась тебе поклон хозяйский отвесить, да не хотела вашей беседе мешать.
Запарин с усилием встал, поднял подсвечник над головой и пошел на голос боярыни. Она стояла у косяка двери. Отвесив поклон гостю, опять скрестила руки на груди. Запарин поклонился хозяйке и приподнял свечу, чтобы лучше различить черты этой женщины.
– Дозволь поближе поглядеть на тебя, боярыня!
– Что ж, гляди. Может, и загорят щеки от твоего погляда, да все одно – это не зазор. Не девушка.
Гость, воззрясь на статную красавицу, так оторопел, что даже перекрестился левой рукой.
– Не крестись, я, чать, не оборотень. Окромя всего, говорят, грешно левой рукой крестное знамя творить, даже если в правой свеча...
Ее смех еще пуще взбудоражил гостя.
– Экая ты из себя, боярыня! Такая кого угодно ослушается. Тебе бы в Москве жить!
– Жила, да не поглянулась мне там жизнь. А теперь слыхано, что там нашей сестре и вовсе не житье. Будто ноне московские мужья, возвеличения и почета ради, не ратными подвигами к тому идут, но через прелести жен и дочерей поближе к престолу подбираются. Мало им горя, что иной раз жены не в силах довести их до желанного места, так, выгораживая себя, они еще небылицы плетут про царских любимцев. Дескать, мол, близкие к царю люди, одержимые бесом, сперва поганят семейные очаги свои, а потом жен-неудачниц по монастырским кельям рассовывают... Мне в Чердыни хорошо, спокойно. Никто, кроме мужа, до меня рукой дотронуться не смеет.
Запарин поставил свечу на стол.
– Побудь с нами, боярыня.
– Не обессудьте, не могу. Время за полночь. Не стану вас утруждать. Небось и гостю дорогому на покой пора?
Анна Орешникова с усмешкой оглядела захмелевших воевод, поклонилась обоим в пояс и покинула трапезную. Запарин покачал головой:
– Прямо не верится, что не сон видел...
Поддерживая друг друга, собеседники вышли из хором в дождливую ночную темень. Шмыгая носом, служка освещал дорогу фонарем. О его лубяной щиток разбивались капли дождя.
– Ни за что теперь не засну, – пробормотал Соликамский воевода. – Все будет мне твоя боярыня мерещиться. Во хмелю по ласке тоскую.
– Об этом не соскучишься. Живым теплом для тебя молодая баба постель греет.
– То, поди, сенная девка.
– Татарка.
– Бусурманка? А ежели душить зачнет?
– Надумал тоже! Какая же баба мужика за ласку душит?
– Все одно, боязно как-то!
– Не поглянется – сгонишь, как кошку.
– Ну, пошто же? Нешто ночью из постели бабу выгонишь?
– Вот и воеводская изба. Доброй тебе ночи, Дементий.
– Погоди. Надобно мне услыхать от тебя самую главную правду.
– Спрашивай.
– Купчишки Строгановы в царской опричнине?
– Про это, брат, от них сам дознавайся!
– Ух какой ты на правду тугой...
Возвращаясь домой в хоромы, воевода Орешников размышлял, пустит ли его боярыня в опочивальню или же, ткнувшись в запертую дверь, надо будет снова возвращаться в темноте и мокрети к воеводской избе.
На крепостной стене зычный голос Жука выговаривал часовым поверку:
– Крепость Чердынь царская спит, а мы все одно все слышим!
И в ответ ему с крепостной стены отвечали разными голосами нараспев дозорные.
– Слы-шим!
А лесное эхо, несмотря на дождь, подхватывало ответы дозорных и долго стонало над просторной далью:
– Слы-шим, слы-шим, слы-шим...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Солнце скатывалось на покой по золотисто-малиновому аксамиту вечернего неба. Краски заката сулили к утру ветер.
На воде Колвы в такой час всегда две полосы. Тень и свет.
Полоса тени шире. Под самым берегом она темно-синяя. Зайдя за середину реки, тень постепенно зеленеет и наползает на полосу закатного света, где играют блестки солнечного пламени, будто плещутся там огненно-золотистые рыбки. Там, на светлой стороне, вода кажется бездонной, отражая крутой лесистый берег.
В чердынской крепости гудели соборные колокола.
Качался и тек над рекой, над всей округой густой вечерний звон, раскатывался в сизые дали, уходил за лесные вершины, облитые медью, вбирал в себя звучание всего прочего естества, живого и неодухотворенного – звоны воды, жужжание шмелей и пчел, голоса птиц и людской напев.
Доносился напев с речной поймы, где бабы ворошили граблями подмоченное дождями сено, доносился и с причаленных плотов на реке. Пел рабочий люд, хотя жизнь его и нерадостна. Протяжно пел, в лад вечерним колоколам...
На песчаной кромке городского берега – костер на костре, один подле другого. Над каждым – витой столбик пахучего смолистого дыма и какое-нибудь немудреное, но сытное варево в котле – каша, уха или щи. На том, лесном берегу, тоже костры, но их меньше и грудились они не так тесно.
Пели над Колвой колокола, вторили им вечерние песни плотовщиков и работниц, а на том берегу, если слушать с самых дальних плотов, можно было различить, как вторгались в густоту звона глухие удары вогульских бубнов...
С берега Колвы, сокращая дорогу к крепостному мосту через ров, шагал тропкой по Заячьему оврагу монах-расстрига Досифей.
Он высокий, худой, жилистый. По всему краю за честь почитают получить от него похвалу или просто доброе слово; втихомолку его зовут ухом и оком строгановским, а самые заядлые ругатели за глаза прозвали крестовиком... Только едва ли кто решится произнести эту кличку вслух при нем самом! На Колве, Вишере и Каме народ знает, что в обиходе с работным людом человек этот прост, а своему всесильному хозяину, Семену Строганову, чье слово – закон для каждого, Досифей подчас без страха перечит. Выслушает приказ, с которым не согласен, плюнет зло и скажет кратко: «Ладно, как велишь, а я по-своему лучше бы обстряпал».
В Чердыни много слухов ходило о прошлом Досифея. Поговаривали, что он беглый «монах из Решемского монастыря на Волге. Спросить прямо – побаивались, потому что силу рук Досифеевых знали все, кому доводилось видеть его в бою на крепостной стене, либо в схватке с лесными пришельцами, или в веселом раже, когда, потехи ради, он связывал в узел конскую подкову...
Досифея всегда сопровождает неразлучная с ним, как тень, тощая серая волчица. Ходит она обычно не на привязи, но никогда не отстает от хозяина ни на шаг. Дождь ли, слякоть или холод – всегда она рядом, бежит, высунув язык, и так низко опускает свое мохнатое «полено», будто хочет замести им собственный след.
На Досифее ряса. Когда-то была черная, потом выгорела на солнце, а подол обтрепался до бахромы. Голову Досифей прикрывает вогульским треухом, но не лисьего, а рысьего меха. Загорелое до бурости лицо обрамлено неопрятной, изжелта-седой бородой. Большой деревянный крест с Афона висит на медной цепочке, а к нему, вместо грузила, приделана конская подковка – чтобы крест на груди при ходьбе не болтался, не мешал. Ряса перехвачена широким кожаным поясом. Слева прицеплена к поясу сабля в простых ножнах, а справа висит тяжелый нож-медвежатник и поблескивает золотой насечкой узкий кинжальчик отличной работы. Обутки у Досифея – охотничьи, лесные: вогульские ичиги сыромятной кожи, поверх шерстяных, крестьянской вязки, носков из козьей шерсти.
За монахом, волоча ноги, еле поспевали два пленных, сильно избитых татарина со связанными назад руками. Шли татары с петлями на шеях, и концы веревок тоже привязаны к поясу Досифея, возле сабли. На ходу Досифей громко пел свой любимый псалом царя Давида «Ненавидящих меня без вины...». Встречные, услышав этот напев и завидев шествие, брались за шапки, бабы кланялись в пояс, и всякий с любопытством глядел вослед монаху и пленникам.
Подойдя к крепостным воротам, Досифей обнажил голову и сотворил крестное знамение. Похлопал по плечу дряхлого караульного, вошел в крепость и по лужайке мимо архиерейских покоев направился прямо к хоромам воеводы...
В палисаде под черемухами, подле расписного резного крыльца, воевода Орешников велел поставить себе кресло, хотел потешиться с новыми щенятами. Выводку Ласки минуло уже дней десять. Щенята прозрели, воинственно попискивали и смешно копошились в траве рядом с матерью.
Поодаль от воеводы на нижней ступеньке крыльца дремал телохранитель Жук.
Внезапно Ласка забеспокоилась, заворчала, и телохранитель, встрепенувшись, издали заметил Досифея с его пленниками.
– Боярин! Никак, к тебе строгановский крестовик жалует?
– Пусть его. Он без дела, зря не потревожит. Небось есть у Строганова какая-нибудь новая забота либо просьба ко мне.
У палисада Досифей освободил крепи от пояса, привязал пленников к ограде и приказал волчице:
– Лежи тут, Находка, покарауль!
Взволнованная Ласка вскочила, яростно залаяла, но Досифей сумел как-то быстро унять и ее тревогу: дескать, щенятам вреда не причиню. Урча и прижимая уши, Ласка загородила собой выводок, но затихла.
Досифей поклонился воеводе в пояс.
– Боярину Захару Михайловичу, воеводе царскому, поклон от грешного раба божия.
– Будь здрав, Досифеюшко. Рад на тебя поглядеть.
Пришелец кивнул и Жуку:
– Здорово, Жуче навозный.
– Здорово, здорово, монаше без обители!
О рождении щенят Досифей слышал уже по дороге сюда. Зная, что они – слабость воеводы, гость присел на корточки, успокоил Ласку и даже подержал одного щенка на ладони.
– Хороши! Хитер же у тебя псарь, боярин, коли сумел волчью породу с собачьей увязать.
– От доброго охотника лестно и слышать.
– Во здравие таких новорожденных не грешно бы пенного меду хлебнуть.
– Что ж, велю тебя добрым медком угостить... Жук! Чару из костромской кадушки! Да поживее!
Жук не торопясь пошел, словно в раздумье. На полпути остановился.
– Боярыне чего сказать, ежели спросит, кто пожаловал?
– Ступай, ступай! Скажешь: Досифею чарка.
Слуга, исполненный сомнений, побрел на поиски ключницы. Воевода указал на пленников, привязанных у палисада:
– Чего стоишь, Досифей? Садись, не чинясь, и сказывай, что за нехристи с тобой.
Подручный Строгановых только собрался было излагать свое дело к воеводе, как на крыльце с целым жбаном пенистого меда появился Жук. Досифей громко захохотал.
– Глянь-ко, боярин Захар! Слуга наказ твой перепутал! Ты велел чарку вынести, а он... весь жбан притащил!
– То, монаше, сама боярыня велела тебя жбаном приветить.
– Добро, коли так. Что ж, подноси, по обычаю.
Приняв обеими руками серебряный жбан, Досифей приник к нему и жадно, не переводя духа, осушил хмельное питье наполовину.
– Вот так-то! Честь хозяину с хозяйкой отдана, можно и присесть.
Он опустился на травку возле боярского кресла, поджал по-восточному ноги в ичигах, положил щенка-волчонка себе на колени.
– Дозволь, боярин, ответить теперь насчет нехристей этих. Поверишь ли, чьи они?
– Татары, никак?
– Тобольские. Мурзы Ахмета люди.
– Чего мелешь? Где изловил? Постой... Слугу отошлю.
– Дозволь, боярин, Жуку послушать. Человек он ратный... Да и новости мои скоро громкими станут... Нынче на зорьке мне язычников этих притащили наши люди с Вишеры. Неужто не видать было тредневось зарево в стороне Вишеры? Неужли дозорные с вышек не приметили?
– Зарево приметили. Да только далеконько, не ближе Белого Камня. Думали, пожар лесной.
– Пожар и был, да кабы лесной. Татары острог наш спалили.
– Сгорел? – удивился воевода.
– Дочиста. Там этих гололобых и пымали. Спрашивал их седни утром о злом умысле. Сперва молчали... Потом выпытал, что они люди хана Ахмета, коего мы зимусь с Семеном Аникьичем порешили возле Сосьвы. Дале дознался: вокруг твоей Чердыни их семь станов. Верховодит ими старшая дочь хана Игва. И собиралась она по осени Чердынь попалить да пограбить.
Воевода поднял брови, усмехнулся недоверчиво.
– Раненько посмеиваешься, боярин. Думаешь, если баба войском правит, можно за крепость не тревожиться? Как бы не так... Хозяевам моим помощь твоя сей раз нужна, а они в долгу не останутся.
– Что задумано ими?
– О сем позволь покамест умолчать.
– Где же Игва стан учинила?
– Близехонько, окаянная, к твоей крепости подобралась.
– И про это небось умолчишь? Что ж, дружинников своих по округе разошлю, разведаю сам, правду ли говоришь.
– Как же не правду? Томить не стану, скажу: на Глухарином уступе Полюдова Камня ее стан.
– Быть не может!
– Поверишь, коли проверишь. И потому так близко она подошла, что ты, воевода, беспечен стал. Дружинники твои так разленились, что, не обессудь за правдивое слово, ведь лет семь небось за стены крепости в леса не хаживали и не смотрели, как в них мураши кучи складывают.
– Правду говоришь, Досифей. Беспечно в крепости живем. Да и не мудрено – сколько лет здесь покоя никто набегами не нарушал. Забыли и думать о такой беде.
– Вот то-то! Хорошо, что я поблизости случился, а то по осени погулял бы красный петух в твоих владениях, и сам с боярыней своей, может, в татарский полон угодил бы.
– Да будет тебе страсти плести! Небось видел под Казанью не мурзу тобольского! Даст бог и здесь выстоим, как должно русским людям стоять... Сказывай, какая помощь от меня Строгановым потребна?
– Перво-наперво хочу у тебя охранителя твоего Григория Жука на недельку в помощь мне выпросить. Наслышан, что он к Полюдову Камню короткие тайные тропки знает. А может, хвастает?
– Жук, тропы тайные к Полюду знаешь? – сурово спросил воевода.
– Вестимо.
– Пойдешь с Досифеем?
– Пойду, ежели велишь.
– Неужли, Досифеюшко, вдвоем на татар идти хочешь?
– Зачем же вдвоем, боярин? Возьмем мужиков с плотов.
– Да ведь у тебя люди-то все больше вогуличи?
– Зато верные, раз строгановские.
– Дай-то бог!
– Еще просьбишку имею к тебе, боярин: скажи боярыне Анне, чтобы она, когда мы выступим татар воевать, в соборе своей рукой свечку за нас Николаю-угоднику затеплила.
– Обязательно затеплит. На том тебе поруку даю.
– Татар этих, пока на Полюд отлучусь, подержи на царских хлебах, сделай милость!
– Подержу. Будут в крепости площадь мостить.
– Добро! Надобно бы мне, боярин, еще бочоночек пороху: у меня в разуме для Игвы новая выдумка припасена.
– И как пороху не дать, коли Чердыни напасть уготована, а ты в защиту идешь! Будет тебе бочонок, а надо – так и два.
– Вот и спасибо. Допью хозяйкин медок, поклонюсь тебе в ноги да пойду исподволь к походу готовиться. Ты, Жуче, посади татар в яму да с дозволения боярского бочонок пороху на Пьяный двор заблаговременно доставь.
– Когда в поход двинетесь?
– Как людей соберу да приуготовлю. Перед уходом шепну тебе, боярин; только, сам знаешь: о таком деле, кроме тебя, никто ведать не должен. Вели своим ратникам в мою отлучку за плотами получше приглядывать. Сам знаешь, чей лес, а Чердынь твоя хотя и богатая, но страсть какая вороватая.
– О сем тревоги в разуме не заводи... Да, чуть не позабыл спросить: слушок идет, будто к тебе с Руси дельный плотничный мастер прибег?
– Видом не видал, слыхом не слыхал про такого.
– Сказывали мне.
– Не всякому слушку верь, боярин. В крепости твоей народишко на язык бойкий.
– Сказывают, будто может он лодки да струги ладить.
– У тебя, никак, нужда в плотниках?
– А как же? Мало ли в крепости разных поделок!
– У твоих плотников, видать, руки до всего не доходят?
– Да разве то мастера? Когда перед тобой тот беглец объявится, обязательно мне покажи.
– Как сказал, так и будет: я от тебя ничего не скрываю.
2
На берегу Колвы, в том месте, где под крутым яром началены плоты кривого деда Дениса, с которыми Иванко Строев доплыл до Чердыни, горел поздний костер. Его теплом согревались Досифей, Иванко и Денис.
Уже смолкли на реке последние вечерние песни. Досифей после беседы с воеводой решил еще раз навестить беглеца Иванка. Он успел и до того побеседовать с костромичом, дознавался о новом житье на Руси при опричнине и, убедившись, что парень не пустомеля, решил самолично доставить его к хозяину Семену Строганову, как только вернутся из похода на Полюдов Камень...
Языки огня, красные, голубые, а то и золотистые, извивались петушиными перьями в густом дыму. Едкость его – спасение людям от комаров и мошкары. Мужики пили из оловянных кружек черничный взвар.
Иванко своей бесхитростной правдивостью пришелся Досифею по душе. Старожилу камского края понравилась любознательность парня к здешним местам. Беседа началась с рассказа Иванка о стругах, кои мастерят нынче на Волге, чтобы веселее резали воду на весельном и парусном ходу. Досифея удивляли познания молодого парня в таком деле. Он ставил мудреные вопросы и получал дельные, понятные ответы. Не оставалось сомнений, что беглец – дока в плотничьем мастерстве, хотя и удивительно было, как это в такие годы парень успел перенять все тайны мастерства от своего родителя.
Потом вопрошать начал Иванко. Досифей поначалу отделывался краткими ответами про камский край, но парень упорно допытывался о зачине русского житья-бытья в Перми Великой. И Досифею пришлось по-своему растолковывать пытливому костромичу и хмурому Денису давние бывальщины о камском крае.
– Для понятности так скажу. Стало быть, у всякой речонки имеется исток, и место его завсегда известно. А вот истока, из коего сюда, на Каму, святая Русь полилась, прямо скажу, будто даже и не водится. Ясное дело, исток все же был, только его никто не упомнит. Кое-кто о нем даже буквицы выводил в здешних летописях, но они погорели, потому как первичные города и посады Руси здеся набегами рушили и выжигали.
Знайте и про то, что камский край издревле всяко прозывался. По первости звали его Землей Чуди, по-иному Заволоцкой Чудью. В низовьях Камы болгары сидели, да разорил их татарский хан, и землю их по-мудреному звали – Биармией.
До находа русского люда ютились здесь в чумах и землянках затерянные в лесах племена языческие – зыряне, пермяки, чудь, черемисы и вогулы. Будто иными племенами князьки ихние правили, и был середь них старшой князь Корь, только сказка ли то, быль ли – господь его ведает.
В землю Перми Великой люди с Руси наведывались смелые, а главное – смекалистые. По первости жилось им здеся похуже, чем нам с вами. Иной раз от негаданных невзгод самых храбрых прошибал кровяной пот. Немало полегло здеся наших от всяких страстей-ужастей. Но все одно Русь сюда шла. Такой уж мы народ беспокойный. Любим знать, что творится на белом свете, любим бродяжить по новым местам и на все невиданное очи пялить.
Вот так и шли да шли сюда наши, узнавали про здешнее зверовое богатство. Садились пожить, чтобы ладом разглядеть все без спешности. Несли в дикий край добрые намеренья Руси и помирали здеся, среди лесов, тоже, стало быть, за Русь. Ходоки так рассуждали: места лесные, глухие, но нам глянутся и уходить из них в обрат на Русь, коли пришли, неохота, да и несподручно.
Вот, стало быть, и понимайте, мужики, что летописей про то, когда первачи сюда пришли с Руси, начисто нету ни здеся, ни на Руси. Пришла Русь и зачала по-доброму приучать чудь к другому порядку жизни, по-доброму, говорю. Мы, чать, не Батыева рать.
Конечно, новые порядки Руси не всем лесным жителям нравились, многие за свою дикую старину, за невежество свое держались, особливо шаманы да князьки с их присными. Затевали они споры с нашими. Об этом есть заломки веток на тропах прадедовской памяти. Сами знаете, какими наши деды на Руси были. Памятишка у них – под стать силе богатырской. Уж ежели чего порешили запомнить, опосля навек не забывали. Сам, помню, парнишкой многонько слыхать доводилось от старых людей, что поначалу край Заволоцкий на Каменном поясу углядели новгородцы-землетопцы еще в те поры, когда в челе новгородских ратей хаживал на немца и шведа князь Александр Ярославич Невский.
Новгородцы на Руси – первые шатыги. Это они, стало быть, углядели край, когда по торговым делам аж в самое Сибирское царство с бусами и зеркальцами за бобрами да соболями ходили. Новгородцы – дошлый народ, что твой таракан: любую щель найдет и угнездится. Поглядели они на диковинный, почти что безлюдный, пустой край. В родные места повертелись и стали сказывать о богатстве пушном сперва только своим бабам, опосля, шепотком, и сродственникам. Пошла сорочья молва о реке Каме. Кто слушал – диву давался, инда волосья под шапками маслились: шутка ли – край нашли, где земля, как половиками, устлана бобровыми, собольими и беличьими шкурами! А народу там почитай что и нет. Так, бродят в лесах какие-то чудины потерянные. Может, потому их чудинами и прозвали, что жили чудно, убого, не по нашему укладу. Сама же Кама – река по новгородским сказам под стать матушке-Волге, и вода в ней больно сытная, потому и леса окрест Камы невиданные.
Словом, понимали люди на Руси, что край Каменного пояса есть самое диковинное земное чудо.
Легкой вере на слово Русь не шибко податлива. Сама Москва, охочая до обновок, исподволь дознаваться стала о богатствах Перми Великой, что раскинулась от Запечорья до камских низовьев. И тогда только новгородцы спохватились, что зря много языками брякали. Поняли, что Москва обязательно следом пойдет, да как раз самую сметанку слижет, благо, язык большой.
Но пока Москва еще почесывала затылок, новгородцы уже обживали камские места. По-хорошему узнавали поближе местных людей, обряженных в кожи да звериные шкуры. Теснить с насиженных гнезд никого не пришлось – земли много, люди пришлые по соседству с местными садились. Вестимо, без спору порой не обходилось, но все же приписали прадеды земли Перми Великой к Обонежской пятине новгородской. А там – под руку воеводам московским земли эти отошли. Вот как дело было. С начальной-то поры многонько всего на святой Руси содеялось, но как пришла она сюда, на Каму, так и осталась. Теперича вот мы с вами, мужики, здешнюю землю для Руси обихаживаем. Опосля нас другие станут здеся жить, и кто в этом краю поживет, тот уходить из него уж не захочет. Это мое слово верное.
– Ишь красно как порассказал, – произнес Денис. – Не зря тебя в крепости за умника признают.
– А ты не всему верь. Иной раз и дурака слугу похвалят, коли хозяина уважить хотят... Не в уме моем дело. У меня он, как у любого, кому жизнь волосья добела отмыла. Дело в памяти. Вот память у меня крепкая. Места в ней много. Все, что слышу, хороню в ней и потом на дороге не теряю.
Иванко крепко задумался. Досифей ждал его слова о сказанном, но тот не поднимал головы.
– О чем, парень, думу вяжешь? Аль заскучал?
– С тобой нешто заскучаешь?
– Правду сказал, Иване! А скоро и вовсе развеселю тебя. В одном деле горячем сметку твою испытать хочу. Рад ли?
– Что ж, испытай. Авось в грязь лицом не ударю.
– Дело будет нешуточное, и молодому плечу самое разлюбезное. Только уговор: от меня в этом деле – ни на шаг, и зря башку под чужую саблю не совать!..
3
Со стороны речки Услуя тянутся к Полюдову Камню широкой полосою гиблые топи и трясины с порослью чахлых березок и осин. Копнами торчат там, на болотных островках, кустарники. Частые кочки, ощетинясь осокой, походят на стада свиней, разлегшихся почивать среди мокрети.
Попадаются в болотах омуты, как тусклые осколки битых зеркал. На их черно-зеленой воде белеют недвижные чашечки кувшинок. Иные распустились прямо на воде, другие лежат на глянцевитом листе, будто на ладони.
Когда-то первозданно могучий, лес этот постепенно, веками, стал заболачиваться, мельчать, зарастать цепкой болотной травой с сильными, глубокими корневищами. Постепенно множась и разрастаясь, вытягивали они из почвы все жизненные соки, вытесняли древесные корни, обессиливали лес...
Дышат каменные боги древних Рипейских гор. Тысячелетие – вздох, другое – выдох. В глубинах земной коры от дыхания богов образуются складки, и оттого где-то поверхность Земли пучится, а где опускается, будто под ступней каменного великана. Так толкуют вогульские шаманы, почему ушла жизнь из лесов за Полюдовым Камнем.
Кое-где от погибшего леса остались в болотах колоды гнилого бурелома, торчат из земли веревки и канаты корней, тянутся к небу сучкастые стволы с обломленными вершинами. Лишайники, как русалочьи волосы, зелеными, рыжими, голубовато-седыми лоскутами и бахромой свисают с сучьев до самой земли, оплетая сухостой, как драными рыбачьими сетями. почвы мертвого леса!
А поглубже зайдешь в болота – берегись трясин! Поверхность их, зыбкая и мягкая, как татарский ковер, но всякого, кто забредет сюда, сторожит смерть. И, как приманку, разложила она у самого края трясин бирюзовые поля незабудок.
У Глухариного уступа Полюдова Камня леса спускаются вниз, к долинам, в сторону восхода. Здесь, у истока реки Сосьвы, – самый зачин Сибири!
Уступ ощерился скалами. Покрывают их цветные мхи. Иные зацветают синими, как сапфир-камень, цветочками величиною с булавочную головку, и оттого такой утес издали кажется голубым. А рядом есть скалы фиолетовые, черные, красные – то от примесей к самому камню, то от цвета мха, каким этот камень оброс.
Между скалами журчат родники. Их студеные воды сливаются в озерко и сохраняют в нем такую чистоту, что на гранитном дне видна каждая трещинка, затонувшая ветка или камешек.
Глухариный уступ кругом охватывает стопу Полюдова Камня. Склоны его – и выше и ниже уступа – в обрывистых кручах. С уступа хорошо видны реки Вишера и Колва, можно разглядеть и чердынскую крепость – напрямик до нее не больше сорока верст...
Прошел месяц, как выбрала это место для своего стана Игва, дочь сибирского мурзы Ахмета с берегов Тавды. По жестокости она – вся в отца; привела с собой для набега на камский край немалую орду воинственных татарских племен. Сжила с этих мест у Полюдова Камня целое селение вогульского племени. Разослала вокруг Чердыни свои шайки с приказом мочить сабли в русской крови – вести разведку боем, тешить своих удальцов.
Раскинула Игва шатры на уступе, ждет новых подкреплений с Тавды и Тобола. Они должны подоспеть к тому времени, когда летние ночи станут длиннее, чтобы легче было ускользать от преследователей в ночную тьму, озаренную заревом Чердыни и вишерских острогов. Так отомстит она ненавистным Строгановым, убившим ее отца, мурзу Ахмета.
Игва стала наследницей всех его владений, и потому шатры ее воинского стана – из добротных ковров. Сама она молода, но собрала испытанных татарских воинов, привычных к опасностям походов и набегов.
Надежное место для тайного стана и надежных соратников подыскала себе воинственная дочь Ахмета, чтобы врасплох налетать на русские крепости и острожки.
4
Догорал закат, кровеня отблесками вершины мертвых деревьев. К Полюдову Камню тайной тропою среди трясин крались Досифей, Жук, Иванко, пятеро его земляков из Костромы, трое пожилых устюжан и человек пятнадцать добровольцев-вогулов. Несли они с собой бочонок пороха и два бочонка со смолой. От трудной дороги все приустали. Шли гуськом с усторожливой оглядкой. Чтобы не оплошать на трясине, вперед себя пустили волчицу: зверь в опасное место лап не поставит.
Иванко шагал за Жуком, казавшим отряду дорогу, и все поглядывал на медленно приближающийся Полюдов Камень. Он любовался величием гранитной горы. Почти заоблачная скалистая вершина ее четко рисовалась в небе, расцвеченном красками заката.
А оттуда, сверху, для наблюдателей из татарского стана отряд Досифея оставался невидимым среди болотных кустарников.
Неожиданно волчица насторожилась и припала к земле для прыжка. Досифей угадал: зверь увидел зверя! Всего в нескольких саженях от них отскочила с тропы рысь и разом слилась с валежником, будто провалилась в трясину.
Ощетинив шерсть на загривке, волчица осторожно, шаг за шагом двинулась вперед. На месте, откуда согнали рысь, лежала свежая туша козла.
Полюдов Камень все ближе. Чаще стали взлетать утиные выводки, кулики и болотные курочки. Стало быть, вечер не за горами. Издали донесло от Полюда собачий лай. Пошли еще осторожнее. Жук шепотом спросил Досифея:
– Ишь ты, неужли псов с собой прихватила? Может, уже зачуяли нас?
– Не тревожься. Ты ладом прислушайся, как псы брешут: чу! Слышишь – повизгивают! Стало быть, не нас учуяли, а хозяева с ними от скуки тешатся, играют...
* * *
Ночь настала. Темень небес прожгли каленые угли крупных и мелких звезд.
В дальних лесах гукали филины. Лягушки в болотах без конца выкрикивали: «Игва, Игва!» – будто силились предостеречь татарку... Тихонько посвистывали ночные птахи. Внятно булькали родники. Неизвестно отчего, сам собой, похрустывал валежник...
Досифей, Иванко и Жук, крадучись, взбирались на Полюдов Камень, чтобы сверху поглядеть на воинский стан Игвы. Тяжело лезть на гору во тьме лесной чащи. Ухватятся мужики за выступ скалы, а пальцы срывают моховой покров и соскальзывают с влажного гранита. Иной камень вдруг скатится рядом, и не понять, кто его уронил. На ощупь, наугад ползут. Часто отдыхают, а сердца все равно молотками постукивают.
Встретилась по пути мокрая скала. У Иванка давно во рту пересохло. Припал губами к камню и напился, слизывая влагу с гранита. И не поймешь: то ли водица родниковая, то ли росная.
Наконец взобрались на большой скальный выступ. Совсем оголен камень, даже мха на нем нет. Шершавая твердь! Все трое взглянули на небо и поняли, что до вершины еще далеко. Ползли по камню на животах, а шершавины его цеплялись за одежду, будто не веля дальше лезть. Жук ущупал впереди самую кромку и неожиданно как на ладони увидел перед собой Глухариный уступ, освещенный кострами. Все трое улеглись рядышком на кромке. Смотрели с кручи вниз.
Над лесами появился молодой месяц. Света от него нет, только небо вокруг обведено желтым кольцом, будто там и не месяц вовсе, а венчик над темным ликом иконы.
На Глухарином уступе палятся четыре костра. Один возле озера, горит светло, и прошивают его дым искры. По воде переползают отблески пламени, будто падают в воду красные угольки. Татарские воины жарят мясо. Доносится даже отзвук голосов. Неподалеку, под кедром, заметен шатер, в нем – тусклый свет. Слышно, как отбиваются от гнуса и фыркают лошади. Других шатров не видно: значит, где-то в стороне от огня.
Лазутчики неторопливо обшарили глазами стан, разглядели дозорных, тоже скрытых мглою. Один пост угадали потому, что к дозорному перебежала от костра собака.
Из шатра под кедром послышался женский смех. Показалась из шатра невысокая тоненькая фигурка. Подошла к костру, посмеялась с товарищами и вернулась в шатер.
Жук шепнул Досифею:
– Прислужница, знать. Верно, жарево Игве понесла.
– Спокойно живут, не остерегаются. Огни, правда, горят не шибко и зажжены так, что от крепости не разглядишь. Как думаешь, сколько их тут? А, Жуче?
– Да не меньше полусотни. Погоди, полежим – увидим.
Татарин у костра постучал палкой о палку и что-то прокричал в темноту ночи. Тотчас все татары стали сходиться к костру.
– Считай теперича, монаше.
– Твоя правда – полусотня полная. Тавдинские татары. На их манер шатер стоит... Что ж, боле глядеть нечего. Про надуманную хитрость позабыть приходится. Зря порох со смолой в такую даль притащили. Думал, подожженные бочонки сверху скатить, разом шарахнуть, да, вишь, стан широк. Будем одолевать врагов нежданным наскоком. Как думаешь, Жуче? Осилим?
– На рассвете сонными можно взять. Сам видишь, не больно сторожатся.
Заржала лошадь. Ужинавшие у костра умолкли, прислушиваясь к ночной тишине. Двое неторопливо удалились туда, где фыркали кони.
Из шатра стало слышно негромкое, монотонное пение и слабое позванивание бубна.
Вспугнув тишину в лесах, взревел сохатый, и в ответ на его рев на Глухарином уступе закатились лаем собаки татарского стана.
– Давайте-ка, Иванко и Жуче, в обрат к ребятам подаваться...
* * *
Месяц повисел-повисел над Полюдовым Камнем и скоро забрался в густую шерсть горных лесов.
В еловой чаще Досифеевы охотники выбрали сухой плоский камень. Он оброс мхом, пахучим и мягким; улеглись на нем охочие люди рядком и мигом уснули. Мошкара жалит, а они спят. Вогуличи сбились кучкой, по-овечьи, голова к голове...
Темень в чаще кромешная. Неба звездного и то не видно. Запалить дымную теплинку Досифей не дозволил, хотя хорошо понимал, что поутру у людей распухнут лица до того, что перестанут они узнавать друг друга.
Только трое бодрствовали в еловой чаще возле камня: Иванко, Досифей и Жук.
Комарье и гнус безжалостно жгли Иванка, хотя он, как мог, закрывал лицо и даже насовал под шапку пихтовых веток. Подле Досифея лежала Находка. Вернувшимся лазутчикам никак не спалось. Иванко спросил, откуда взялась у Досифея волчица. Тот рассказал, как нашел ее щенком в верховьях Сосьвы и сумел приручить коварно-недоверчивого зверя.
– Не зря про тебя пересуды.
– Знаю. Многое плетут. Есть и правда, но больше кривды. Небось уж прослышан, что меня беглым монахом почитают?
– Прослышан. Неужто правда?
– Самая гольная.
– И что грех с бабой в монашестве был?
– И такое было.
– Порассказал бы.
– А тебе охота знать?
– Обязательно.
– Ладно. Скажу. Меня к богу рано потянуло. Тягло это в моем разуме от бабушки завелось. Она во мне рвение к божественному разожгла. Сиротой рос, знал только голод да битье. Однова в праздник сходил я в Решемский монастырь, иконам поклониться, да тут и повидал жизнь монашескую. Против моей она райским житьем показалась, и оставили меня в монастыре послушником, снизошел игумен к моей мольбе. По двадцатому году принял постриг. Стал монахом жить, а бес-то и давай мне, по молодости лет, плоть мутить. Ох, до чего доканывал меня, окаянный, всякими греховными виденьями! До того донимал, что я всякой ночи боялся. Кому покой, а мне бесовское искушение! Погляжу иной раз невзначай на бабу али на девку, а самого в жар кинет, будто кто в пузо углей накладет. Постом, молитвой до одури себя изнурял, а бес не отвязывается.
Пожаловала как-то летней порой в наш монастырь на поклон святыням именитая купчиха; на постой стала в монастырской избе. Поглянулся я ей. Стала сперва разговоры заводить. Раз после всенощной пошла она к лесному озеру. А я возьми за нею и увяжись. Иду, ног под собой не чую, а в ушах слышу шепоток бесовский: ступай, дескать, не плошай! Вижу, села под кустами на бережок, на воду глядит. Подошел я к ней. Она вроде бы испугалась, а сама место рядом указывает. Ночь на леса пала. Уж не помню, как коснулся, но тут же голову и потерял.
Забавлялись мы с ней ласками до самой осени, а она и забрюхатела. С перепугу домой покатила, греха там скрыть не сумела, а может, кто и донес муженьку. Купец – в монастырь, игумен – меня за бока. Пятеро суток монахи из меня батогами беса изгоняли, покаяния добивались. Но я смолчал, а на шестые сутки, как потащили опять к игумену, я вырвался да и сиганул через стену в лес.
– А дале как?
– А дале – все лесом да лесом. Под Устюгом в ту пору на дорогах шибко шалили разбойники. Я к таким и пристал. Годика три, а то и боле помахивал я кистенем и ножик всегда за пазухой наготове держал...
Жук, молча слушавший Досифея, вдруг спросил:
– Поди, купцов на смерть кровянил? А нынче – купцу же и служишь? Вором был, а у какого хозяина ноне в доверии? Как понять, когда же сия перемена совершилась?
– Перемена-то? А понимай, Жуче, как знаешь! Только вышло однажды так, что самого чуть насмерть не порешили – оплошал в одном деле... Совсем было богу душу отдал, да вот не принял он меня. Странник, вишь, на меня набрел, отходил. Оказался проповедником христовой веры. Покаялся ему во всем, позвал он меня с собой в Пермь Великую да потом и отпустил с богом. После того я, сам знаешь, нового благодетеля здеся сыскал, ему и служу.
– Рясу пошто не сымешь? Зазорно, чай?
– Привык. Да ведь под ее прикрытием и сшибаться с людьми сподручнее...
Невдалеке от Глухариного уступа послышался долгий собачий вой. Досифей сплюнул:
– Ишь как заунывно отпевает! Чует недоброе... А люди того не чуят, спят себе под топором... Ух, забирает! Все терплю, а вот этого воя собачьего боюсь.
Лежавший рядом с Жуком Иванко вдруг громко всхрапнул.
– Жуче, пошевели-ка соседа. Уморила парня наша маята ночная. Уснул! А спать-то здесь надобно шепотом, не то татар перебудишь!
От легкого толчка Иванко пошевелился, но через минуту захрапел снова. Досифей осторожно прикрыл ему лицо шапкой. Спавший встрепенулся.
– Чу! Это ты, Досифей? Экая темень – увидать тебя не могу.
– Днем насмотришься.
– Ненароком вздремнул я с устатку. Жаль мне, что сказа твоего не дослушал.
– На плотах наслушаешься. Досыпай... Подремлем теперь и мы, Жуче, маленько остается... Так ведь и не стихает у татар собака, вещун окаянный!
* * *
Начинало светать. Сквозь темную прозелень ветвей перестало мерцать звездное золото. И лишь только чуть порозовел небосвод, ватага Досифея обложила спящий татарский стан.
Из-за корней вывороченной ели Досифей, Иванко и охотник вогул Лисий Нос всматривались в сереющую рассветную мглу. Стала различима фигура дозорного, ближайшего к шатру Игвы. По знаку Досифея вогул Лисий Нос натянул тетиву лука... Чуть вскрикнув, дозорный татарин упал замертво. Тотчас две собаки метнулись было к нему от шатра. Досифей послал волчицу на переем.
Беззвучно, как серая тень, зверь ринулся вперед, сбил встречного пса плечом, мгновенно перехватил ему горло, перебросил через себя, хватил оземь... Тут же, почти и не замедлив бега, по-прежнему молча, Находка кинулась на второго пса. Тот, уже с разорванным горлом, успел взвизгнуть...
Кони татарского стана, зачуявшие волка и кровь, отозвались тревожным ржанием... Потом опять стало тихо. Волчица неслышно вернулась к Досифею. Лисий Нос даже языком пощелкал в знак восхищения ее боевым подвигом.
Тогда предводитель ватаги вышел из-за укрытия, поднял руки, скрестил их над головой, помахал: по этому сигналу люди начали наступление на шатры. Вогулы ползли, держа луки в руках, а ножи в зубах. Старший вогул Василий, рыжебородый плотовщик Федор Рыжий и пскович Алеша первыми добрались до ближайшего шатра. Иванко видел, как закачался темный полог шатра, услышал глухие удары... Сам он приготовил для встречи с врагом легкий пернач. Перед самым боем Досифей велел Иванку надеть чей-то зипун, а под него, на рубаху, поддеть кольчугу.
В стане уже поднялась суматоха. Татарские караульщики у коновязи (там, отдельно от остальных, были привязаны лошади Игвы и ее помощников – командиров) встретили вогульских охотников сабельными ударами. Один из вогульских воинов в схватке пал. В следующий миг два татарина очутились около Иванка, и, если бы не Досифеева кольчуга, плохо пришлось бы парню! Ощутив дюжий сабельный удар по плечу, лишь скользнувший по кольчуге, Иванко взмахнул своим перначом, сбил противника и видел, как рядом сразила второго татарина тяжелая палица Алеши-псковича.
Теперь бой шел на каждой пяди Глухариного уступа. Звенели сабли, яростно вскрикивали раненые, слышалась брань, посвист стрел, гудящие металлом удары, похожие на гром, когда круглый татарский щит встречал кованную гвоздями палицу или новгородский прямой меч. Звонко пели вогульские стрелы и клинки.
В пылу боя Иванко мельком увидел однорукого Жука – своего ночного собеседника. Тот рубился с двумя воинами Игвы, сплеча, наотмашь отражая саблей их натиск. При каждом взмахе он крякал, рубил с присвистом и быстро сумел нанести одному из противников смертельное поражение. Второй татарин, низко пригнувшись, ранил Жука в ногу, рассчитывая свалить его и добить на земле. Крякнув от боли, однорукий воин сам не упал, но бросил саблю, чтобы успеть нанести противнику, еще не успевшему выпрямиться, мгновенный удар кулаком. Поверженный татарин уже хрипел, когда Иванко прибежал на помощь Жуку. Однако тот успел управиться и сам. Он тяжело дышал, ругался и отплевывался, но уже смог подняться во весь рост, хотя сапог был окровавлен.
– Поранили тебя? – спросил Иванко.
– Да так, по ноге рубанули... Эхма! Гляди-ко!
Иванко обернулся. Бой уже затихал, когда один из татар взлетел на коня и пустился вскачь по лесной тропе.
– Не упусти, не упусти, Досифеюшко! – завопил Жук. – не упусти, благодетель родимый, а то – плохо дело! Подмогу приведет!
Иванко ничего еще сообразить не успел, как мимо него мелькнули две быстрые тени: это по знаку Досифея снова кинулась в бой волчица Находка, а следом за ней – ловкий вогульский охотник по кличке Воробышек. Он разрубил саблей повод ближайшего коня у коновязи, упал лошади на спину и полетел вдогонку вражескому посланцу.
Тем временем сам Досифей занялся противником покрупнее.
Вокруг шатра Игвы еще продолжался бой. Защитники шатра, охраняя свою военачальницу, не сдавались до последнего вздоха, и все полегли под ударами русских дружинников. Иванко приспел, когда Досифей, переступая через тела, подобрался к ковровому пологу и крикнул:
– Спета песенка твоя, девка-мурзиха! Выходи теперь сдаваться на нашу милость! Вылезайте оттуда, сколь вас там всех в шатре есть! А то спалю, как вы надысь у нас острожек спалили!
Было слышно, что в шатре что-то быстро-быстро говорят женские голоса. Потом одна из татарок громко взвизгнула от страха, полог колыхнулся и отлетел в сторону... Сдаются?
Нет, не сдаваться русским вышла из шатра дочь татарского мурзы. В боевом наряде, в кольчуге и легком шлеме, с круглым щитком в левой и с ханской саблей в правой руке, Игва молнией налетела на Досифея. И не сносить тому головы, если бы точно нацеленный сабельный удар не перехватил Иванко своим перначом. Головка пернача, начисто срубленная, отлетела прочь, Иванко остался безоружным, но татарская воительница даже взглядом его не удостоила. Вся изогнувшись, она тут же изловчилась для нового удара по Досифею.
– Шайтан урус!
Сперва не ожидавший от девушки серьезного сопротивления, Досифей и сам теперь видел, что с такой противницей шутить не приходится. И когда его товарищи сунулись было на помощь, он грозно прикрикнул на них:
– Назад! Этой добычей ни с кем не поделюсь, старые у нас счеты с мурзихой!
Один на один шла последняя в нынешнем бою схватка. Татарка то отступала, то снова бросалась в атаку. Досифею приходилось нелегко – княжна теснила его от шалаша к озеру.
Из шатра выбежали толпой девушки из свиты Игвы, с ужасом глядя на необычное сражение. Клинки, русский и татарский, сшибаясь, высекали искры, звон булатный далеко разносило вокруг.
Улучив мгновение, Игва с удивительной точностью нанесла удар, рассчитанный на то, чтобы обезоружить противника. Удар достиг цели – сабля Досифея, простое рядовое изделие строгановского кузнеца, переломилась, и клинок отлетел в сторону. Досифей комом упал под ноги противнице, сшиб ее, выкрутил руку и отнял чудесный восточный клинок, стоивший отцу Игвы, верно, целого табуна коней. Досифей прижал противницу к земле. Она извивалась, кусалась, вырывалась, как пойманная рысь.
Досифей встал, отряхиваясь.
– Ну, хватит, хватит лютовать, Игвушка. Собиралась зарубить меня, да ростом, видать, не вышла! Подбери, Иванко, ее сабельку – знать, добра, раз мою перекусила! Эге-ге! Вот это сабля! Придется хозяину, Семену свет Аникьевичу, передать – такая сабелька в три веса золотом, а то и пять потянет. Ну, спасибо, Иванко, без тебя пропасть бы мне нынче... Горячий ты, брат, в бою, значит, верно, и в деле своем мастак. Вставай, вставай, Игва-мурзиха! Не бойся, жива будешь, у нас лежачего не бьют!
Игва поднялась, встала, но, увидев драгоценную отцовскую саблю в руках русского парня, кинулась на него и вцепилась в волосы.
– Шайтан урус!
– Дура! – Досифей грубо оторвал ее от Иванка, подозвал двух ватажников.
– Головой за нее ответите! Глаз не спускать, чуть что – в оковы и на привязь. Сбежит – обоих заживо в землю закопаю! Василий! – повернулся он к вожаку вогулов. – Как ребята твои управились? Много ли твоих полегло?
– Вот ищу, – ответил Василий. – Троих у нас недостает. Двоих уже нашли. Стынут.
– Третьего не ищи: за беглым татарином Воробышек ускакал. Алеша-пскович с Федором Рыжим где?
– Здесь мы. Пленников увязываем.
– Повинились, значит? Ведите их сюда. Погляжу, какие из себя.
Великан Алеша и рыжебородый Федор подвели к Досифею шестерых татар. Досифей сорвал с одного треух. У татарина не хватало уха.
– Вишь, вдругорядь свиделись. Самый он. Я ему ухо отрубил, когда зимусь мурзу кончили, отца Игвы. Ничего не скажешь, Игва, ладных ты себе вояк подобрала. Не дознайся мы, выпустили бы осенью кишки воеводе чердынскому... Отдаю татарских пленных вогулам. Игвиных девок за косы, как морковки, в пучок свяжите, так вернее дотопают. Добро награбленное разбирайте, кому что поглянется. Все ваше, только сабельки мне по счету сдайте. Игву сторожите, расспросами зря не тревожьте, пусть выревется да злобу хоть о землю из башки выколотит.
Жук, хромая, подошел к Досифею.
– По ляжке, что ли, рубанули? Невелика беда. Вели Лисьему Носу кровь унять, он мастак на это...
Из лесу показалось маленькое шествие. Вогул Воробышек вел в поводу коня. Мертвый татарин был перекинут через конскую спину. Возле пешего и коня бежала волчица Находка.
– Молодец, Воробышек, что не упустил бегляка!
– Это, бачка, волчица твоя коню под ноги кинулась, уйти тому не дала! Ей и похвала твоя. А то бы ушел!
Досифей и Иванко подошли к убитым вогулам. Иванко видел, как Досифей встал на колени, засунул мертвому руку за пазуху и вынул маленький медный крестик, приделанный на плетеном шнурке.
– Жаль! Понимаешь, Иванко, он из крестников моих. Лет пятнадцать назад в Колве их окрестили. Этот добрый плотовщик был... С собой тела возьмем да в устье Колвы захороним. Они тамошние. Коней теперь считайте.
– С шатрами что делать?
– Попалим. Только ковры да подушки прихватим. Куда Василий-вогул ушел?
– Возле коней барана свежует. Самого жирного прирезал. Народ за ночь оголодал.
– А еще бараны есть?
– Семь штук.
– Поживее, мужики, добро делите, заморим червячка – да и в обратный путь.
Досифеева волчица подбежала к озеру, опустила к воде лобастую голову и принялась жадно лакать. Рядом, у самой воды торчала, уткнувшись в мягкий грунт, каленая вогульская стрела. Маленькая птичка, овсяночка или камышевка, вспорхнула на оперенный конец и, не обращая внимания на волчицу у водопоя, стала охорашиваться, чистить перышки и пробовать голосок.
5
Возвращение ватаги Досифея с налета на татар всколыхнуло всю Чердынь.
Торговые, посадские, большие и малые люди с женами и детьми без устали бегали в крепость поглядеть на полоненную мурзову дочь Игву: по приказу воеводы ее по нескольку раз в день показывали народу с крыльца воеводской избы.
Пленницу держали под неусыпным надзором.
Владыка Симон в соборе отслужил литургию об избавлении града от огня и меча и о ниспослании мирного жития обитателям Чердыни; дьяконский бас возгласил многия лета православным воителям Досифею и Григорию с дружиной, одолевшим на брани злокозненных язычников-ворогов.
Жены купцов узнали, что татарка в бою окончательно порушила Досифееву рясу, сшили ему новую из дорогого тонкого сукна.
Воевода Орешников три вечера подряд слушал рассказы Досифея и Жука о сражении на Глухарином уступе и, упиваясь досыта, не слышал укоризны от боярыни.
Дня через три отплывали из Чердыни плоты: это Досифей посылал Строганову добытых в набеге коней и лучшие ковры.
Но в тот же самый день город нежданно-негаданно омрачила страшная весть: татарские шайки Игвы напали на село Искор, побили русских и вогулов, зарезали многих женщин и детей, запалили пожары.
Сам воевода дважды учинял Игве допросы, но не мог заставить пленницу развязать язык, указать места, куда она разослала свои шайки. Как предупредить тех, кому опасность грозит завтра?
Дочь мурзы молчала и даже изловчилась заплевать воеводе парчовую одежду. Пришлось Орешникову посылать за Досифеем. Боярыня заставила обоих – и мужа, и строгановского подручного – поклясться на образах, что татарку не станут пытать горячими углями.
После полудня Досифей явился в воеводскую избу и удалил караульных на галерею.
Игва сидела на ковре среди раскиданных шелковых подушек. Досифей обратился к ней по-татарски:
– Твои люди спалили Искор. За что баб наших и ребятишек малых побить велела? С тебя теперь спросим.
Пленница усмехнулась:
– Скоро всех урусов зарежут мои люди. Тогда спросишь, если сам жив будешь.
– Где станы твоих воинов вокруг Чердыни?
– Везде!
– Добро, что везде. Ловить сподручней. А как переловим и воровство твое им растолкуем, добрыми людьми сделаются. Если же кто кровопийству верен останется – тому башку долой... Какие поселения палить велела?
– Все спалим, шайтан урус!
– Нет у меня времени с тобой тут разговорами прохлаждаться. Гостинца принес, отведать не хочешь ли? Или по-доброму отвечать будешь?
Досифей снял с груди крест, отложив в сторону и не сводя с пленницы взгляда, достал из глубокого кармана татарскую ременную плетку с рукоятью из козьей ноги...
Уже спустя полчаса Досифей знал все о подготовленных набегах, и караульщики на галерее получили повеление доставить в избу ведро холодной воды. Но Досифеевы посланцы не успели еще выполнить этот наказ, как с галереи послышался сильный стук в запертую дверь воеводской избы. Тотчас же изнутри послышался голос Досифея:
– Кого еще там леший несет? Воду на пороге оставьте, сказано вам – сюда не лезть!
– А вот и влезу!
От звука этого голоса Досифей будто сразу уменьшился ростом, мгновенно кинулся к двери и отомкнул ее. Стучавший вошел в избу.
– Хозяин! Семен Иоаникиевич! Не ждал, не гадал!
– Вижу, с пленницей беседуешь?
Строганов мельком оглядел обстановку, заметил снятый Досифеев крест, брошенную нагайку и забившуюся в угол пленницу.
– Замечаю, ладком потолковал? Дознался, что ли? Утешь боярина-то!.. За месяц, как погляжу, совсем сдурел в Чердыни? Кто тебе велел набегами заниматься?
– Так Игва Чердынь палить собралась!
– Вот как? Чердынь пожалел? Москве не впервой крепости свои заново отстраивать, а у нас дела есть и поважнее. Земли новые я приглядел, тебе поручить хочу, а ты под саблю полез? Кому служишь, царскому воеводе или Строгановым?
– Святой Руси, хозяин, служу, сыт же и пьян возле твоего богатства.
– Ишь ты, выкрутился! Неплохо ответствуешь. Даст вот батя тебе за самовольство. А ежели бы тебя кончили там, на Уступе, как мне перед батей отвечать? Впрочем, за то, что птичку эту татарскую полонил, спасибо мое тебе. Только удалью своей ты ожиревшему воеводе чести прибавил. Он не отпишет в Москву, что татарку ты полонил: своей дружине награждение выпросит.
Запыхавшись от быстрой ходьбы, в горницу вошел сам боярин Орешников.
– Так и есть! Не поверил, когда сказали, что дорогой гостенек пожаловал. Низкий поклон тебе, Семен Иоаникиевич.
– Здравствуй, Захар Михайлович. Как тебе можется? Что-то ты с лица и с тела вроде бы спал? С чего бы это?
– И не спрашивай! Слыхал, что сдеялось? Напасть вот эта девка сбиралась на Чердынь мою; бесчисленные воины татарские кругом в лесах хоронятся. Спасибо твоему Досифею, про мурзихин стан проведал, гнездо осиное вовремя разорил с нашей помощью и божественным промыслом.
– Опять за старое? Сколько раз тебе говаривали, чтобы ты татар не боялся, пока Аника Строганов с сыновьями в камском краю повод людской жизни в руках держат. Мы людей бережем, край держим крепко; так что никаким татарам, соберись они хоть со всего Сибирского ханства, его не вырвать.
Не на Чердынь вела своих воинов Игва! На меня вела, потому зимусь ее отца со свету убрал. Сдуру девка шайку свою к Чердыни подвела, думала, наверно, что и это – строгановский город, а нагнала страха на тебя, царского слугу. Авось проснешься теперь! Великий государь Иван Васильевич послал тебя Русь в крае оберегать, а ты людишек в крепости не бережешь, службу царскую нерадиво несешь, только в городки с епископом играешь. В Соликамск вон уже нового воеводу прислали. Небось и этот обожрется да околеет, дел добрых не совершивши.
– Да бог с ним совсем, Семен Иоаникиевич! Боярыня моя просила тебя перед ее очи предстать. Пойдем в хоромы, гость дорогой, а то осерчает.
– Пойдем. Девку татарскую хорошо карауль, не упусти!
– Что ты! Упаси бог! Досифеюшко, и ты с нами ступай, мы с боярыней и тебя к столу просим.
– Спасибо за великую честь, боярин Захар, тотчас же следом приду. Покамест надо с Игвой ладом беседу заключить, водичкой ее попоить, а то сердце у нее от гордыни и обиды перегорит. Чать, все выложила – пора слезы унять.
Строганов похлопал по плечу своего доверенного.
– Смотри, смотри, как бы ее слеза тебе дырку в сердце не прожгла. А перед боярыней твоей, Захар Михайлович, я голову низко клоню, ибо, вот уж правду сказать, не свадебная она княгинюшка, а настоящая боярыня русская. С нею знаться – поистине ума набраться!
Спускаясь с высокого крыльца воеводской избы вместе с хозяином, Семен Строганов говорил будто в раздумье:
– И отчего это другой раз баба на Руси и смелее, и дальновиднее иного мужика, как ты о сем думаешь, Михайлыч? В обиду сам не прими – ты, воевода чердынский, без лести сказать, и мудростью не обделен, и храбрости тебе не занимать, только вот, прости господи, чуть крепость свою не прозевал. Но вот ответь, Захар Михайлович, кто нам, Руси святой, еще богатырей-молодцов подарить может? Кто, окромя таких, как боярыня твоя? Их-то сынами слава и непобедимость Руси держатся... Прямо, без кривды, скажу: как ночь, темна сейчас жизнь на Руси. Кровью залита и пропитана земля Русская – и нашей, именитого купечества, и вашей, честной боярской, а паче всего – кровушкой смердов и холопей наших. И надежда моя, коли знать хочешь, на бога да жену русскую – и боярскую, и крестьянскую, и купеческую. Чтобы разумом, нежностью, страданием и молитвами вразумили нас, мужиков грешных, как Русь из любых бед бескровно вызволять!
6
Белокрылым лебедем слетела на Чердынь северная ночь.
В ее сумеречном свете – свое особое очарование. Кажется, просто нахмурился ясный день, но в небе приметны высокие звезды, а от этого явь оборачивается небылью. Все вокруг в дымке, нет теней, и обманчиво сокращаются расстояния...
Белыми ночами, когда нет привычной темноты, в людском разуме заводится беспричинная тревога. Власть мечты осиливает человека. Людей тянет идти куда-то, без всякой цели, их покидает покой. Приходят в голову суматошные мысли и отгоняют потребный для жизни сон...
Чердынь спит. Белую тишину нарушает только перекличка дозорных на стенах, да изредка слышен собачий лай. Сады и леса в серебристо-оловянном мареве. А на небе, где взмахи лебединых крыльев, нет-нет да и полыхнет то студеный голубой, то жаркий красный отблеск полярного сияния. Чердынь спит. Снятся горожанам сны. Кто видит сказки, а кто во сне повторяет прожитое днем...
В опочивальне Анны Павловны Орешниковой потолок навис низко. Одно окно раскрыто, но все равно – духота. Ночь без ветерка, листок на дереве не шелохнется.
Красный угол опочивальни увешан образами-складнями; на них шевелятся желтые пятна от огоньков четырех лампад. Вдоль стен под накинутыми ковриками – сундуки с добром. Мглисто в опочивальне...
На смятой перине, разметав по подушкам черные волосы, боярыня Анна отходила от жарких ласк Семена Строганова. Сам он, с расстегнутым воротом рубахи, прислонился лбом к открытой оконной створке. Его голова почти касалась потолка. Смотрел на белую ночь. Видел березы с намокшей от росы листвой, крепостную стену, а на ней дозорного с алебардой.
– Родимый, как хорошо мне с тобой! – шептала Анна. – Все во мне ласка твоя разбудила. Поди послушай, как сердечко мое колотится.
Строганов подошел, протянул руку к Анне.
– Да разве так слушают? Ухо к груди приложи. Вот теперь хорошо слышишь? Будто пташка из клетки на волю просится.
Он молчал и слушал, как трепетно билось женское сердце, а у самого опять сохло во рту и перехватывало дыхание. Опять стали совсем близкими прищуренные глаза Анны, опять приоткрылись влажные губы... Обняла, запустила пальцы в кудрявые волосы, прильнула к губам. И когда он ответил мужским объятием, женщина смогла только прошептать:
– Сеня, родимый, не удуши...
Анна приоткрыла глаза, когда дышать стало опять легко. Лежала не шелохнувшись, прислушиваясь к стуку мужского сердца рядом и звону серебряных колокольцев в собственных ушах.
Давно прошла белая, бестеменная полночь. К утру цвет неба изменился, с восхода пошли тучи, и в опочивальне стало потемней. Строганов уж приготовился уходить. Полуодетый, он снова подошел к раскрытой створке окна.
– Боюсь тебя, Сеня, когда замолкаешь.
– Пора мне.
– Аль надоела уж?
– Скоро челядь поднимется. Как скрыто уйти тогда?
– Не уходи вовсе. Вместе солнышко встретим.
– А если сам пожалует поутру?
Анна засмеялась:
– Какой пужливый стал! Видел, поди, сколько он меду выпил? До полудня никуда из воеводской избы не выйдет: во хмелю сюда прийти не смеет. Окромя того, Глашка крыльцо караулит. Чуть что – весть подаст.
– Догадывается? Сам-то?
– Догадывается. Грозовой тучей бродит, когда ты в крепости.
– Тебе говорил о своей догадке?
– Да разве посмеет? Молчит, сопит да от ревности бессонницей мается.
– Аннушка!
– Говори, родимый.
– Скушно мне без тебя. До того скушно, что иной раз совладание над собой теряю.
– А вот и возьми меня с собой. Молви только слово.
– Попросту об этом судишь.
– Как умею. Чать, всего-навсего баба. С отцом говорил?
Строганов промолчал.
– Отец, наверно, по старине рассуждает: дескать, нельзя чужую жену, да еще у престарелого мужа, отнимать. Сам-то небось ни одну бабу чужой не почитал, а на старости о грехе да о заповедях заговорил.
– Отец знает, что у твоего муженька заручка у царя крепкая. Уведу тебя, а старик царю нажалится. Царь заставит обратно отдать. А разве взятое отдам?
– Батюшки! Какие Строгановы боязливые стали! Даже подумать боятся, что царь на них осерчает.
– Нам с ним ссориться нельзя.
– Конечно. Осерчает да и не станет захватными землями одаривать.
– Пойми, Аннушка!
– Где мне понять? А думать мне неохота, голова заболит. Врешь мне про отцовский запрет, задумав о чем-то, от меня тайном. Дура, мол, Аннушка: очумела со старым мужем. Заволокла ей любовь ко мне разум, а потому всему поверит... И то верно, что дура! Надо было мне наперед, как к себе допустить, уговор вырядить: возьмешь к себе – твоя. Не возьмешь – чужая жена. Скажи на милость, чего боишься? Коршуном по всей Каме на людские жизни кидаешься, ежели нужно тебе. А меня у старика взять не можешь!
– Кидаюсь, говоришь? Но, коли кинусь на тебя, жизнь твоя кончится, а ты мне живая нужна.
– Тебе, видать, ворованная ласка слаще кажется? Ты лучше правду гольную скажи. Неохота тебе свою вольность мне одной отдать, когда вокруг да около по краю боярыни шмыгают. Любая Семену Строганову лаской повинится, потому понимает, что ты здесь хозяин земли. Все здесь ваше.
– Аннушка!
– Может, татарка полоненная приглянулась? Слыхивала, что татарские бабы мятой да дымом пахнут. Была бы мужиком, мимо не прошла бы.
Строганов порывисто повернулся и пристально посмотрел на Анну.
– Чего глядишь? С татаркой сравниваешь? Ликом ей до меня далеко, зато годами моложе, а главное – девка.
– Дура ты.
– Была ране. А с этой ночи умная буду.
– К чему клонишь?
– Скажу. Вот к чему клоню. Надоело временами свою душу подле тебя греть. Скажу сейчас о давно надуманном.
Анна села в постели, охватив руками колени.
– Послушай, Семен. Поглянется тебе или нет, все равно запомяни сказанное. Ежели на этот раз из Чердыни поплывешь на Каму и меня с собой не возьмешь, то дорогу ко мне навек позабудь.
– Грозишь?
– Понимай, как тебе на сердце ляжет. Возьмешь – вся твоя. Не возьмешь – вспоминай на досуге, что звали боярыню-полюбовницу Аннушкой. В Москву подамся. Там, сказывают, царь Иван жен, как в бане веники, меняет. Может, на глаза ему попадусь и хоть на месяц в ряд с ним царицей на Руси встану. Вот тогда Строгановым грамот дарственных на земли получать не доведется.
– Молчи.
– Неужели? Что сделаешь, если ослушаюсь и не стану молчать? Поди, по-строгановски за горлышко приголубишь и ласкать станешь, пока язык не посинеет?
– Дуреешь ты, Анна. В силу свою веришь над моим разумом.
– А ты покажи, что нет над твоим разумом моей бабьей силы!
Строганов шагнул к Анне, но она не пошевелилась.
– Коли хлестнешь, укушу. Хлещи. Чего ждешь?
– Не про то молвишь... Не надо меня Москвой пугать.
– Ласково заговорил? Решай сейчас: уйдешь один – дверь сюда навек запру.
Строганов прошелся по коврам опочивальни.
– Погоди до осени. На Косьве острог поставлю. Далеко на новых землях. Там жить станем.
– Не обманешь?
– Когда обманывал?
– На иконы перекрестись.
– Без этого не веришь?
Анна помотала головой. Семен вздохнул и размашисто перекрестился. Анна вскочила с постели, кинулась на колени, прижалась головой к его ногам.
– Мой, стало быть? У всех отняла Строганова Семена.
На дворе в клети заголосил ранний петух, а через минуту-другую началась перекличка петухов по всей Чердыни...
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Над ночной рекой погуливал с озорными порывами ветер.
Струг хозяина Камы, Семена Строганова, заплыл на ее стрежень из Вишеры.
Раскидывая в темень оранжевое пламя, похожее на отсвет лесного пожара, готовилась взойти полная луна. Ее шар, огромный и багровый, как шаманский бубен, облитый жертвенной кровью, наконец поднялся над рекой и лесами.
В синем небе низко повисли спелые звезды.
Вода ночью в Каме, как смола. Мечутся по ней, будто вскипая со дна, белопенные буруны. Берега скрыты темнотой, но лесные шумы, завывания, стоны и треск слышны на струге – это гуляет по лесам ветер. Для струга он попутный. Судно бежит, обгоняя сильное течение.
Лесные просторы верхнего камского плеса самые дикие. Даже кочевники сторонятся их. Пока эти леса боятся только двух хозяев – ветра да огня. Первый корчует и валит лесных великанов, второй превращает в пепел заповедные для человека чащи.
Кама! С X – XI веков стала она дорогой к диковинам Перми Великой для землепроходцев с Руси. Их древнейшие погребения остались на камских берегах вечной памятью о тех, кто живот свой положил за право величать Каму русской рекой.
Везли новгородские купцы тамошним кочевым финским племенам – чуди, черемисам, вогулам, остякам, перми – товары с Руси и доброе слово о благости оседлого житья. В тринадцатом лихолетском столетии шастали здесь шайки ханской Орды, поднимались на Каму с Волги, потом вконец разорили в низовьях княжество древних болгар, дали Каме-реке свое прозвище – Ак-Идель, что означало Белая река.
Однако и золотоордынцы не смогли отбить у новгородских людей охоты селиться на Каме. Становились по берегам остроги, городки и починки. Очищались от кокоров первые просеки – под хлеб. От набегов кочевников оставались на пожарищах погосты с крестами, но дотошный народ, отмерявший лесные версты на глазок, заводил и рыболовство, и бортничество, торговлишку мягкой рухлядью, устраивал здесь жизнь по старинному навыку, считал зверя в лесах и рыбу в водах с беззазорным привиром.
При Иване III Русь начала под чистую метлу подметать землю отчизны от навоза долгого татарского постоя, скидывать, шевеля натруженными плечами, последние остатки ига.
Камские поселенцы-новгородцы, настойчиво приучая кочевых соседей к оседлому укладу, заключали ряды с князьками и шаманами, заявляли равные с ними права на богатства камского края. После споров и драк обе стороны расходились, не осилив друг друга ни мечами и бердышами, ни ножами и огнем.
По приказу Ивана III князь Федор Пестрый и воеводы Гаврила Нелидов и Василий Ковер поднялись по Каме в Великую Пермь для распознания причин споров между камскими жителями. Царь наказал воеводам быть твердыми и в случае, ежели не удастся замирение добром, воевать для покоя Руси камские земли у пермских князьков, а заодно и у новгородцев, ибо они, по Шелонскому договору, приписали Великую Пермь к своим владениям, брали с нее дань.
Добром дело не обернулось, и московским миротворцам пришлось применить силу. После разгрома пермской рати и пленения ее полководца Качалмы камский край признал власть Москвы. И тогда-то посадские люди Новгорода, братья Калинниковы, впервые завели солеварни на угодьях речки Усолки, неподалеку от будущего города Соликамска.
Из-за спора великого князя Московского и всея Руси Василия III с Новгородом усилился исход вольнолюбивых людей новгородских на Каму. За ними пошел в плутания ватагами, или, по-пермяцки, утугами, разный прочий люд, недовольный новыми порядками на Руси.
Нужда и страх вели в лесной край – на Каму, Вишеру, Чусовую и Колву – людей, непокорных властям, но терпеливых и неутомимых в труде. Не чаяли они обрести на новых землях жизнь легкую, но шли сюда, чтобы жить и трудиться вольнее, уйдя от строгостей и кровавых споров церковных, распрей боярских, бремени поборов, от войн, правежа, суда неправого и царских немилостей. Шли сюда и люди работные по выклику купцов, затевавших в новых местах промыслы и торговые дела.
И когда наступили времена царя Ивана Грозного, времена царской опричнины и земщины, там, в камском крае, уже сложился свой уклад жизни, и был он примерно одинаков во всех городках и присельях, что на Колве, что на Вишере, хотя сошелся в эти поселения самый пестрый народ со всех концов Руси. Были ведь и такие головушки, коим и в новых местах вольности не хватало, и если царский закон и здешняя власть прижимали круче, то такой удалец вынимал из-за пазухи нож и приставал к разбойному люду на лесных тропках-дорожках... Но и на таких находилась здесь упряжь! И находили эту упряжь не царские воеводы, не блюстители закона, а совсем другие люди – кремни. Было их мало, но этой людской породой и становилась Русь владелицей суровых и дальних краев, с богатствами явными и тайными...
Как раз при грозном царе Иване разнесло голосистое эхо Камы зычный голос купца-солевара с русской реки Вычегды, голос Иоаникия Строганова.
Объявился он на Каменном поясе с тугой мошной и с немалым опытом солеварения, накопленным еще в родных краях, на речке Солонихе. Той солью присыпали вычегодскую и двинскую красную рыбу – на том и разбогател Строганов. А придя на Каму и тут утвердившись, мыслили купцы Строгановы присыпать отныне камской солью весь хлеб, что, благословясь, сажает в печь хозяйка каждой избы на Руси!..
Небо стало голубым, высоким и прозрачным, как ключевая вода. На виду – речные берега, то высокие и крутые, то низкие, заливные. От прибрежных лесов густые тени между лунными бликами. Стелется по воде рогожка лунного отражения.
Гонит ветер по лунной Каме струг под белым парусом. Вышит на нем цветным шелком сохатый с синим крестом между рогов. Струг большой, широкий. Для плыва выбирает места поглубже, чтобы днищем не скоблить речное дно. От тяжести струг дал глубокую осадку, а как ему не отяжелеть, когда пищали несет! На корме срублен домик под плоской крышей, из его слюдяных оконец гляди в любую сторону. Нос красиво выгнут, и прилажена там, спереди, икона Николая-угодника, покровителя странствующих и путешествующих на водах.
Пробегает струг мимо речных заводей. Доносится с них перекличка лебедей-кликунов, да такая печальная, что берет за сердце. Одинокие царственные птицы летают над рекой, путая день с ночью, верно, из-за лунного волшебства. Подлетают они и к самому стругу и призывно курлычат, будто жалуются на невзгоды крылатой своей судьбы. Лебеди! Кочевники и русские сложили на Каме много мудрых преданий про эту птицу, и блюдут здесь люди неписаный закон о ее неприкосновенности.
На носу собрались удальцы-ватажники Семена Строганова. Все они лихие парни, вышедшие на Каму из Вологды и Углича по выклику. Сидит с ними и беглый костромич Иванко Строев. Его разговор с хозяином в Чердыни был коротким. Приказано было плыть на хозяйском струге. Слушают ватажники седого гусляра родом с Волхова.
Шевелят старческие пальцы струны гуслей, и льются слова старины про князя Александра Невского и про подвиг Руси в Ледовом побоище на узмени Чудского озера у Вороньего камени... Голос у гусляра еще густой, всякое слово выпевает внятно. Поет с закрытыми глазами, а ветер раздувает, закидывает за плечи белые космы его бороды.
Рядом с гусляром Досифей временами вторит пению надтреснутой октавой. На плоской кровле избы стоит в рост кормчий, чернобородый ушкуйник с Ладоги, скрипучим рулевым веслом направляет путь струга.
Под парусом у мачты отворен люк. Там в темноте внимает непонятному пению плененная Игва.
Семен Строганов любит слушать на воде старые песни и былины, любит помечтать о будущем камского края, когда утихомирится разбой, прекратятся набеги сибирских татар. Мерещатся Семену строгановские города, более могучие, чем Кергедан и Конкор. Города с неприступными стенами, чтобы от одного погляда на них всякий почувствовал величие Руси. Недаром сам царь Иван Васильевич дал Строгановым власть крепить усторожье Руси на дикой, лесной Каме.
Семен Строганов, склонив голову, вышагивает по стругу, и, кажется, нынче не веселит его песня гусляра. Ватага знает норов хозяина, и хмурость Семена Аникьевича молодцам его не в диковину. Но сегодня людям понятно: что-то тревожно, неладно у него на душе.
Бежит и бежит струг по лунной Каме, больше на свету, а то вдруг нырнет в береговую тень. Слушая ночные шорохи и стоны по берегам, кормчий нет-нет да и перекрестится.
Но вот речное эхо донесло издали чье-то заунывное пение. Постепенно оно усилилось, как отзвук дальнего грома. На струге примолкли. Стихли струны гуслей. Парни всматривались в даль, неясную в лунной мглистости. Пение все приближалось, и, когда струг вышел из-за поворота, открылся всем знакомый крутой мыс, где над высоченным каменистым обрывом вогулы издавна собираются на свое мольбище. Сейчас здесь пылает пламя больших костров, разносится вой шаманов под звон бубна и барабанов. Возле костров – толпы людей. Ветер сдувает с мыса густой дым, прижимает к воде, стелет по реке белым саваном.
Строганов крикнул кормчему:
– Стремнина здесь. Не оплошай, Кронид!
– Не тревожься, хозяин! Под мыс не поднесет, пока в руках сила не ослабла.
Досифей проводил взглядом обрыв.
– Опять шаманы на нас, грешных, народ науськивают. Ладно, сей раз пронесло. Садись, дедушка, допевай.
Всем на струге понятен смысл Досифеевых слов: держать близко к этому береговому мысу опасно: того гляди, дождешься певучей смертоносной стрелы!
Мыс с дымными жертвенными кострами – далеко позади. Гусляр опять запевает старину. И каждому на струге кажется теперь, будто песнь – про сегодняшнее, близкое...
Да, царь отдал Каму Строгановым; поставлены на ней Строгановыми вехи. По царской грамоте земли камские – строгановская вотчина, но не все кочевники знают, что написано в грамоте, и для них она не закон. Но зато любой кочевник знает белый парус приметного струга, знает, что хозяин его не больно жалостлив, когда кто-либо не податлив его хозяйской руке...
Аникий Строганов отдал в руки сына Семена надзор за камскими берегами от чердынских угодий и по Вишере до самых ее верховий. Наводя здесь свои порядки, Семен опирался перво-наперво на законы свои и лишь потом – на государственные, когда приводил за собой царских слуг и церковных проповедников. Он на свой лад понимал утверждение Руси на Каме...
2
Ветер после полуночи стих, парус струга, обвисая все ниже, шлепал холстиной по мачте, как бабы вальком по мокрому белью. Реку запеленал туман. Он наползал из мочажин и сырых низин береговых оврагов.
Давно перестал петь гусляр. Разошлись по своим закуткам парни. Досифей спал, растянувшись на досках. На носу дозорный по окрикам кормчего промерял шестом речную глубину.
Иванко Строев стоял у борта, а рядом, положив руки под голову, лежал на лавке у раскрытой двери корабельной избы Семен Строганов. Он заметил Иванка, спросил:
– Слушаешь, как наши леса шумят?
– Слушаю, хозяин, как твой струг воду сечет.
– Никак, недоволен стругом?
– Знамо дело. Тяжелый. Как заморенное водой бревно на реке лежит. Грузен. Нет в нем легкости на парусном ходу, а уж под веслами с гребцов, как в бане, пот выжмет.
– Может, и причину грузности знаешь?
– Причина знаткая. По старому канону излажен. Дуга днища не в том аккурате изогнута. Она ему ходкость убавляет.
– В Кергедане будешь новые струги ладить по своему разумению. Ходкость и мне по душе.
– Струг надо ладить, чтобы речная вода на ходу веселым голосом под ним пела.
– Под моим не слышишь веселости?
– Да откуда ей быть? Плещется вода под нами, как старушечий говорок. Ко сну от него клонит.
– На словах у тебя все гладко выходит. Погляжу, каким на деле окажешься.
– За струги бранить меня не станешь. На воде пухом будут лежать.
– Понимай, легкость в стругах нам для защиты от ворогов нужна. Сам ты свидетелем в Чердыни был, что сибирские татары против камских земель задумывают. С острым ухом приходится жить. Что не спишь?
– Успею. Каму охота поглядеть. Впервой ее вижу.
– Еще наглядишься.
– Доброй ночи, хозяин.
– И новый наказ мой запомни. С часу, как сойдем на берег в Кергедане, для всех станешь Иваном. Нельзя тебе Иванком быть. Откуда ко мне пришел, только сам помни. Любопытство людское не ублажай...
Охватило Семена раздумье о тех двадцати четырех годах, что унесло ледоходами Камы в неведомый ему Каспий. Все эти годы он помогал отцу богатеть. От отца перенял купеческие ухватки, но сам прибавил к ним свое, совсем не купеческое бесстрашие, суровость, безжалостность ко всем, не исключая и самого себя.
С глазу на глаз с вечной опасностью, среди неумолимой природы, выискивая новые земли, он воспитал в себе привычку к одиночеству орла в небе, только жил без орлицы, без ласки. В молодости не целовал женщину по зову сердца, целовал, только чтобы погасить жар в крови.
Недавно стал вот понимать, что молодость прошла, а душа не согрета тем, чем все люди ее согревают. Стало труднее сносить одиночество; задумывался о тех временах, когда подкрадется старость. Но стоило только вспомнить о своем назначении на земле, об огромном, все еще не замиренном лесном крае, как все личное уступало место иным думам, иной, самой главной тревоге: за будущее всего строгановского рода и его огромных богатств. Рождалась эта тревога от многих причин, но чаще всего, когда слышал о распрях между братьями, Яковом и Григорием. Своих братьев он не боялся, споры их будили в нем энергию, он умел быстро разнять, утихомирить несогласных. Порой они напоминали ему кобелей, грызущихся из-за кости, которую ни тот, ни другой не в силах отнять. Опаснее была для Семена глухая тоска, когда охватывала усталость, нападавшая вдруг: не хотелось тогда двигаться, даже шевельнуть рукой, пропадал интерес к делам, приходило желание лечь на спину, смотреть на облака и не допускать до сердца и ума никаких мыслей о судьбах края и рода.
Когда накатывалась на Семена такая тоска, ему стоило огромного труда встряхнуться, заставить себя шагать, действовать, бороться. Семен Строганов обращался тогда к самым смелым мечтам, к самым дерзким помыслам. Ведь у края под боком – необъятное Сибирское царство. Захватившие его татарские ханы хорошо видят, как близко подвели к нему Строгановы Русь Московскую.
Притихли ханы лишь до поры до времени, покамест разведают силы русских и соберут свои. Если бы эти властители Сибири смогли победить междоусобицу, достичь согласия между собой, несдобровать соседнему краю Каменного пояса – вотчине строгановской! Страшно подумать, как пожрут и испепелят пожары все созданное в крае. Предотвратить такое бедствие можно лишь одним путем – самим пойти на татар, за хребет Рипейских гор.
Самим пойти? Сколько же для этого требуется удальцов, сколько золота, сколько прочих богатств? Где взять их даже таким купцам, как Строгановы?.. Впрочем, разве он, Семен Строганов, ведает то, чего не ведает никто: какие скрытые богатства таят в себе леса и недра Каменного пояса по сию и по ту сторону хребта.
Семен-то кое-что слышал от пленных вогулов и от татар: есть, мол, в твоем крае и золото, и каменья бесценные, и руды. А где все это спрятано в кладовых земли камской? Как дознаться?
А дознаться-то надобно поскорее, иначе дознаются другие, и все то, во имя чего прожита была жизнь отца, во имя чего пролетела собственная молодость, все то, что оплачено немалой кровью и великим потом работных людей, уйдет в другие руки, а то и просто на поток и разграбление. В своих же строгановских руках богатства эти превратятся не просто в великую силу, а откроют вдобавок дорогу к Сибири, к богатствам еще большим и уже вовсе неведомым.
Семен чувствовал, что одному такого дела не поднять, не осилить. Но помогать-то было некому! Отец одряхлел от старости, износился телом и духом, тянулся теперь к богу, замаливая грехи молодости, стараясь отвратить загробную кару, избегнуть адского пламени.
Оставались братья. Семен только морщился, когда думал о них. Поэтому искать силу приходилось в конце концов только в самом себе, и сила эта должна утвердить Строганова в крае навечно, как вечны здесь воды самой Камы, отражающие небесные звезды.
Была еще у Семена слабая надежда найти помощь в племянниках. Но они еще не под его рукой. Их надо не спеша научить строгановской хватке, но и в них уже проявляется то, что взяло власть над братьями: лень и беспечность.
Братья! Яков Строганов почти и в глаза не видел камского края. Живет в Москве. Из купеческой шубы, из московских хором не вылез. Ест по-столичному сладко, уминает боками перины лебяжьего пуха. При царском дворе пыль в глаза пускает отцовским богатством. Всегда чутко прислушивается, что подумывает государь о делах отцовских на Каме, кто из бояр и дворян ему напраслину на Строгановых нашептывает. Смотрит, как бы не прозевать опасности, когда надо вовремя умаслить, бобрами на шубы одарить, ежели почему-либо строгановский камский возок вязнет в московских сплетнях.
Григорий – тот слишком суеверен. Живя здесь, в крае, боится звериного рева. Храбрится там, где боятся его самого, но при виде крови закрывает глаза ладонью. Любит хлестать слабого, выжимать полушку у голодного, зная, что тому некуда податься, ибо на камской земле – везде Строгановы, а уйти назад на Русь заказано законом. Григорий не в меру труслив, зато в меру умен, хотя и хитер, как всякий купец.
Григория растила мать, он маменькин сынок в семье. Она сызмальства запугивала его темными углами горниц, ликом грозного господа бога, и этим же ликом Григорий пугает теперь отца. Зачем пугает, с какой целью? А все затем, чтобы старик скорее разделил богатство, ибо Григорий надеется получить львиную долю.
Семен давно решил, что не допустит Григория властвовать в диком, необжитом крае: как необъезженный конь, этот край разнесет строгановский возок, попади вожжи в слабые руки брата. Потому и нельзя допустить родительского дележа строгановского богатства. Налетят на опрокинутый возок, давя друг друга, разные прихлебатели, близкие к царскому двору, растрясут, растащат богатство.
Известно Семену, как с каждым годом теснее смыкается круг завистливых врагов. Как вороны, каркают они царю на Строгановых, будто бы те сами метят в цари, хотя пока, мол, не в московские, а еще только в камские. Всякое лыко готовы враги поставить в строку роду Строгановых, лицемерно сетуют насчет строгановской жестокости в обращении с простым народом.
Семен и сам знал, что нелегко живется народу в строгановских вотчинах. Ему часто казалась излишней прижимистость отца и брата, но он не мог за всем усмотреть один, а иногда ощущал свое бессилие бороться с самодурством старика и алчностью Григория.
Двадцать четыре года прожиты Семеном в крае не напрасно. Его струг избегал Каму и впадающие в нее реки до их верховьев. Семену ясно, что эти реки – единственные пути-дороги края, только они и помогают осваивать эту землю, а потому на них-то и необходимо ставить больше крепостей. Лесу здесь хватит на сто городов таких, как Новгород, но маловато умелых рук да смекалистых голов.
Строгановы кликают народ с Руси, но идет он с большой опаской; недруги на Москве и враги-завистники в других городах Руси пустили слушок, будто Строгановы заживо с работных людишек шкуру сдирают, непосильным трудом народ на варницах гноят. Сколько ни подкупай завистника, все равно досыта не задаришь.
Люди Семену нужны! Хочется ему научить их понять, полюбить этот край не только за то, что умелец может здесь за недолгие годы на весь остаток жизни поправить карман. Нет, Семен Строганов сам любит Каму за дикую красоту и необузданную силу, потому и рад он видеть рядом с собой побольше таких же людей, охочих до нелегкого счастья! И порой он находит этих людей. Вот хотя бы тот же Иванко... Чутьем догадывается хозяин, что в этом парне найдет не простого ремесленника!..
Семен теперь уже не боится думать о скорой смерти отца. Станет тогда проще вышибать из брата неразумную скупость и мелочную жадность. Отец и сам стал на старости таким, но Семен никогда не осудит вслух, не поднимет руки на отца – старость всегда чудная и часто меняет людей!
Туман над рекой все гуще и белее. Он уже заползает с воды на струг.
Подумал Семен и об Анне. Мысль эта вытеснила все прочие раздумья. Анна возникла перед ним, как живая, а в ушах зазвенел ее голос. Порой думалось, что уж не нарочно ли подослал кто-то эту женщину в его жизнь, чтобы затуманить ему рассудок. Сознавался себе сам, что и эту гордую боярыню первый раз обнял с голоду по женскому телу, но потом... Потом он стал все более и более ценить ее, дорожить ею. Что привязало его к Анне? Властная душа ее или еще более властный дурман белого тела, от которого обмирал рассудок? Никогда не боялся он ничьих угроз, а когда Анна в последнее свидание пригрозила ему разлукой, он почувствовал настоящий страх.
Лежал Семен и слушал перекличку кормчего с дозорным промерщиком, услышал слова про туман... До восхода солнца кормчий решил пристать к берегу.
3
На носу промерщик, вытягивая шест из воды, невзначай окатил спавшего Досифея. Тот приподнялся, отряхиваясь, а виновник, зная нрав Досифея, поскорее отбежал в сторону. Строгановский доверенный усмехнулся:
– Не бойся, курчавый чемор. Понимаю, что ненароком окропил. Неужли к берегу воротим?
– Туманище. Ничегошеньки не узришь.
– Пожалуй, что и так.
Досифей подошел к хозяину.
– Не спишь, Семен Аникьич? А я успел смотать сна моточек бабе на платочек. Жестко только. Видать, кость во мне все ближе скрозь мясо к коже лезет.
– Чего ради стал, Кронид? – спросил Семен у кормчего.
– Боязно, хозяин. На Щучьих ташах можно струг разбить. Вот передохнем малость, и прояснеет на Каме. А пока хочу гостью нашу спросить, каково ей с нами в пути можется. Все же живая душа, хотя и нерусская.
В ответ на слова кормчего Досифей засмеялся:
– Ишь ты! Женатый, а на девку глаза косишь? Погоди, скажу Настасье, она спину вальком тебе прогладит! Вороти к баскому сухому месту, надо ноги на земле поразмять.
– Вместе пойдем на берег, – сказал Семен.
– Как хочешь...
Солнце уже начинало пригревать, а густой туман все еще прятал причаленный к берегу струг.
Семен Строганов и Досифей шли прибрежным лугом, приминая ромашки и колокольчики, обмытые обильной росой.
– Так и запомни, Досифей. Денька два пображничаешь в Кергедане, на отца моего в Конкоре поглядишь, каким стал, и – за работу. Григорию ни единого слова о том, куда подаешься. После ледостава сам к вам на всю зиму приеду жить.
– А ее когда на Косьву из Чердыни везти?
– Боярыню Анну привезешь, когда лист с березы осыплется.
– Силой взять придется?
– Добром поедет. Пошлешь только к ней человека упредить. Она пойдет в лес по грузди, а в лесу ты велишь вогулам ее схватить. Сам в Чердынь носа не показывай.
– Воевода шум великий подымет.
– Уж больно шибко зашумит – ты его роток и прикроешь.
– Понятно. Игву в какое место приткнешь?
– Бате нашему покажем, а после с собой на Косьву прихватишь.
– Не замай! Там она не нужна.
– Возьмешь. Понял?
– Да из-за нее мои мужики дуреть начнут.
– Эх, брат, вижу: борода седая выросла, а ума не вынесла! Мужики в острог подадутся с женами! Вот и велю я тебе эту Игву взять, чтобы ты там на чужих баб не заглядывался.
– Тогда окрестить сперва надо!
– Ну и что? Попа, что ль, не упросишь? Овчинка-то выделки стоит.
– Да, слава богу... Зачем острог на Косьве решил ставить? Неужли с нее к Чусовой руки потянешь?
– А может, и подальше. Может, в самое Сибирь.
– Сказал тоже! Это у тебя от бессонницы с языка слетело. Хошь ты и Семен Строганов, но про Сибирь и тебе заговаривать раненько. Еще отчий дом не обжит ладом!
– Поживем – увидим. Коль память не коротка, должен вспомнить: все, о чем когда говорил, все и оживил на камской земле.
– Мне что? Поживу и увижу, ежели ждать не век.
– На Косьве новое богатство на примете есть.
– Невидаль какая. Медведей везде пропасть.
– Камень горючий нашли мужики.
– Какой камень?
– Горит жарким огнем, какого от дров не бывает.
– Не пустое ли бают?
– По-чудному мужики на тот камень наткнулись: увидали на берегу Косьвы; из себя – черный, поглянулся им. Наломали и решили из него в бане каменку сложить, пар поддавать. Сложили, затопили каменку, а она и загорелась страшным жаром, от которого баня занялась пламенем. Ты рот не разевай! Будем живы, так еще и не такое в этом краю найдем. Самоцветы бы отыскать.
– Золото бы найти, хозяин.
– Верю, что есть здесь и золото.
Со струга донесся голос кормчего:
– Хозяин, время дале бежать! Гляди, сохнет туман.
– Пойдем, Семен Аникьич, а то от твоих сказов в моей башке воробьи зачирикали. Камень горючий! В сказках о нем поминают, но ведь на то и сказка. Дитя малое поймет: баня сгорела оттого, что каменку мужики плохо сложили. Поверю, когда своими глазами увижу, как косвинский черный камень пламенем берется.
– Больше моего в крае прожил, а нового, что неприметно лежит, разглядеть не умеешь!
– Зато на тебя, хозяин, да с батюшкой твоим, вдосталь нагляделся. Прости господи, еще, пожалуй, лесенку в небо узрю да от вас и полезу прямо к апостолу Петру... Пойдем на струг! Туман давно поредел.
Но едва они подошли к стругу, как из ближнего леса свистнула стрела. Возле самых ног Семена Строганова она чуть не наполовину впилась в речной песок. Досифей резко кинулся в сторону, пропуская Строганова вперед.
– Никак, напугала тебя? – спросил тот спокойно.
– Проклятый! Из засады!
Строганов наклонился и вытащил стрелу.
– Черемис с тетивы спустил. Оперенье воронье.
– Не унимается у нас разбой этот.
Досифей заслонил хозяина, отступая к стругу.
– Не заслоняй! Себя береги. Верю, что умереть суждено мне не от стрелы.
– Брось ее, хозяин!
– Нет, не брошу. Все пущенные в меня стрелы берегу. Пока мимо пролетают. Эта вот – двадцать осьмая по счету...
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Начинал богатеть строгановский род не с Иоаникия-купца. Еще дед его Лука Строганов с великой честью попал на летописные страницы: помнят летописи, как выкупил из плена Лука Строганов ни много ни мало, а самого правителя Руси, московского великого князя Василия Васильевича по прозванию Темный, что приходится прадедом царю Ивану Грозному. Знать, не забывал сей услуги роду своему и сам государь Иван Васильевич: многие льготы давал внуку избавителя отцова и сыновьям Иоаникия – Семену, Григорию и Якову, а в 1558 году пожаловал Строгановых новыми пустыми землями на Каме.
Бил тогда челом царю Григорий Строганов, лежат-де по обе стороны Камы ниже Перми Великой места пустые, леса черные, речки и озера дикие, и всего пустого места здесь сто сорок шесть верст. Пашни там никем не паханы, дворы не ставлены, и хочет он, торговый человек Строганов, на этом месте поставить городок, пушками и пищалями его снабдить для бережения от ногайских и иных орд. По речкам до самых вершин лес рубить, пашню пахать, дворы ставить, людей кликать нетяглых, рассолу в земле искать, варницы ставить и соль варить.
Не сразу царь соизволение свое дал на челобитие Строганове – не будет ли утеснения местным каким жителям, пермичам, вогулам либо остякам, какие царской воле не перечат и царю дань платят. Царевы дьяки долго расспрашивали пермича Кодаула с Камы, приезжавшего с данью в Москву, и сказал слугам царским Кодаул, что места эти камские испокон веку пустые лежат, и доходу с них нет никому никакого, и угодий пермяцких там нет никаких.
И отдал тогда царь купцам Строгановым эти земли во владение и еще 2332 двора крестьян усольских, обвинских и косвенских, велел соль варить, земли заселять людьми нетяглыми и неписаными, в городках пушки, пищали, пушкарей и пищальников иметь, вокруг городков стены сажен по десять ладить, а в неприступную сторону для низа камнем класти...
Кроме того, по грамоте жалованные вотчины освобождались на двадцать лет от всякой дани, от ямских и селитряных денег, от посошной службы и от всяких других податей, также и от оброка с соли и рыбных ловель.
Купцы, посещающие строгановские городки, имели право торговать в них без пошлины. Люди строгановские, что водворялись на новых поселениях, освобождались от всякого суда царских наместников-воевод, «а ведает и судит Григорий своих слобожан сам во всем»...
2
Городок Конкор – первое родовое гнездо Строгановых на Каме – был основан в год получения земель по грамоте. Он стоял совсем под боком у царского города-посада Соль-Камская, что на реке Усолке, – всего в каких-нибудь тридцати верстах, вымеренных, правда, на глаз. Аника Федорович давно углядел здесь соляные ключи на правом берегу реки среди хилых лесов, сживаемых со свету солью в земле. Здесь поставил он свой Конкор, а года через четыре основал второй камский городок-крепость – Кергедан, при урочище Орел по течению ниже Конкора.
С каждым годом городки обрастали жилыми выселками и обзаводились новыми и новыми соляными варницами по берегу.
Речка Пыскорка, неся Каме свою водяную дань, огибает живописную гору с крутыми склонами, поросшими соснами. На вершине горы кудрявятся березовые и липовые рощицы.
Здесь, на горе, и стоит Конкор, и место для него выбрано по грамоте «осторожливое».
Бревенчатые стены, высотою в десяток сажен, опоясали гору с трех сторон, а с четвертой – глубокий ров, истыканный кольями, служит препятствием любому врагу, кто задумает взять городок приступом.
Внизу, у подошвы горы, за тыном из трехсаженных бревен, поставленных стоймя, разместились посады людей работных, пашенных и военных, а рядом – торжища, лавки, съезжие избы и поставы варниц.
Из настенных башен хорошо видна река и все поселение, бесконечные просторы закамской стороны. Из прорубов в стенах торчат дула шести пушек и восьми пищалей.
На пыскорском склоне, за такими же высокими стенами, у самой маковки горы, раскинулся основанный Аникой Строгановым Преображенский монастырь с храмом, покоями игумена Питирима и келиями братии. С его стен видна болотистая пойма речки Пыскорки и синеющие дали усольских лесов.
* * *
С весны 1566 года, едва Кама пронесла свои льды и разлилась, хозяева занялись по настоянию Семена Строганова переустройством и креплением городков.
Сама местность в Конкоре была лучше приспособлена для обороны, потому главное внимание было обращеио на укрепление крепости Кергедана и орловского урочища.
Кергедан перестраивали почти наново и денег не жалели. Выстроили город на северный лад – с посадом и детинцем. Здесь, в самом сердце города, поставили на широкую ногу палаты хозяина и трех сыновей. Стройкой ведали вологодские и муромские плотники – мастера первой руки, а палаты рубились по планам московского строителя Аггея Рукавишникова, украсителя Иоанновой столицы...
Плыл по Каме лес для стройки, плот за плотом. Шли они с Колвы, Вишеры, Усолки и Яйвы. Пока велась эта стройка, вся река была в плотах, и иной раз у самого города человек мог перейти по ним с берега на берег.
Строгановы строились по-царски, а из Москвы слали им всякое добро: утварь домашнюю, ковры, колокола, пушки и порох с ядрами.
Всего лишь восемь лет прошло, как утвердились Строгановы на Каме по царской грамоте, а дикие пустынные места менялись неузнаваемо. Не торопясь шла сюда крестьянская, работная Русь, чтобы своими глазами взглянуть, какие такие из себя Строгановы, что у них за городки и можно ли там наладить жизнь повольнее да посытнее, чем на родине. Приходили, смотрели, нанимались на соль и в ратные дружины, стеречь хозяйское добро и богатство.
Жизнь городков набирала силу, добрела, как квашня на опаре, но, конечно, складывалась для всех по-разному, кто ел сытно, кто с хлеба на квас перебивался. Но где найти лучшую жизнь простому народу? На Руси она не доходчивее, а прижиму больше; бояре здесь редки – только воеводы. А если и есть еще бояре, то они беглые, оседают здесь по воле Строгановых, оттого сила их простолюдину не больно страшна.
Пот с рабочего люда у Строгановых бежит, как и по всей Руси; хозяева, хотя и не бояре, строги, а подручные хозяйские, вроде Досифея-крестовика, никакой вины не спускают, кулаками спины обминают, а вдругорядь и плетью согреют. Но одно в этой жизни было до радости хорошо простому народу: кругом ширь лесная и камская, такая вольная, что едва глянешь вокруг, любое горе забывается и хочет душа песню петь; напев же для нее слагается громкий, вольный и радостный.
Петь хотелось людям про звезды, что ярки в ночи. Петь про ветер, что шатает до скрипа могучие сосны. Петь про Каму-реку, про ту новую деревянную Русь, что по строгановскому выклику пришла на камские берега добывать богатства земные на пользу всей Великой Руси.
3
Под утро гроза началась. Дождь водопадами низвергался из тяжелых туч, да еще дул при этом сильный ветер. Вода с горы сбегала в Каму пенистыми потоками.
Воробьиными ночами зовут на Руси такие грозовые ночи, потому что вспышки ослепительных молний и громовые удары так часты, что у воробьев и других мелких птиц не выдерживают сердца, и поутру мертвые птички валяются на земле.
Тревожная, беспокойная ночь. В стойлах волнуются кони, протяжно мычат коровы и плаксиво блеют овцы. Молчат только сторожевые псы, загнанные грозой в свои конуры...
Изба Иоаникия Федоровича Строганова в Конкоре стояла отдельно от всех других в окружении двенадцати кедров, потому и любил хозяин называть свою хоромину апостольской.
Сруб этой низкой избы наполовину врыт в землю. Чтобы открыть тяжелую дверь, окованную железом, надо опуститься по шести ступенькам крыльца. Гость попадал в темные сени, а из них уже вторая дверь, украшенная узорами из меди, вела в огромную хозяйскую горницу.
Пол в ней сплошь покрыт коврами и медвежьими шкурами, нога нигде не ступит на голую половицу. Стены в избе чисто тесаны под скобу, оставлены круглыми, а цветом они иссиня-седые, оттого что сосновые бревна с истоков Вишеры.
Заставлена изба дубовыми сундуками, окованными железом. Стоят они горками один на другом. Широкая русская печь изукрашена ценинной хитростью – цветными изразцами ростовской либо ярославской выделки. Много пузатых книжных шкафов иноземной работы с затейливой инкрустацией перламутром и слоновой костью. Есть шкафы вышиной до потолка, поделкой погрубее, зато надежнее по крепости. На стенах – длинные полки, прогнувшиеся под тяжестью всякого диковинного добра, собранного Иоаникием Строгановым по всему краю: что приглянулось, то и в избу! Людям книжным пригодилось бы все это богатство, чтобы постичь далекое прошлое Перми Великой, да и сам Иоаникий, человек неученый, но любознательный, строил на сей счет кое-какие догадки, когда брал с полки то деревянный ковш, то резанную из кости фигурку сохатого, то слиток металла, то соляной кристалл, а то и грубое каменное изделие первобытной человеческой руки. Только за недосугом, за делами торговыми, забывал он свои домыслы, и опять покрывались паутиной собранные на полках диковинки. Но помнил их хозяин отлично, любую! И уж коли тронет кто, переложит неприметно или, не дай бог, унесет, – беды не оберешься, пока все опять на старом месте не будет!
Задний угол в избе занимали чудские, вогульские, остяцкие, пермские, вотяцкие идолы из камня и дерева, а над ними пылились одеяния жрецов и шаманов, их пояса, бубны, жезлы, амулеты. На сохатиных рогах подвешены на всех стенах доспехи воинские и охотничьи – саадаки, колчаны, луки, кольчуги, шлемы, бердыши, кистени, всевозможные клинки, сабли, кинжалы и ножи, татарские и русские. Есть и фитильные самопалы – лежат на полу, тяжелые, самые первые в здешних краях. Доставлена сюда недавно и кремневая пищаль, богато украшенная, и особая пулелейка и пороховница к ней, только пробовать еще не пытались – не любит старик Строганов порохового грому и огня. Пусть полежит до времени!
И тут же, в соседстве с братоубийственной снастью, – целый иконостас в красном углу. Иконы в серебряных и золоченых окладах, в четыре яруса, писаны своими, строгановскими, сольвычегодскими мастерами Савиными... Первый ряд – местные чудотворцы с угодником Николаем, Стефаном Пермским, Варлаамом Хутынским. Второй ряд – праздничный святительский чин. Третий ряд – деисусный: Иоанн Предтеча и Пресвятая богородица поклоняется Спасу нерукотворному, чей образ помещен посредине, рублевского письма. В четвертом же ярусе, как подобает по старине, пророки библейские в рост написанные.
Домовый иконостас Строганова побогаче, чем в соборных приделах! Перед иконостасом – три аналоя под расшитыми покровами. На среднем – Евангелие в серебряных досках, унизанных рубинами, на боковых – книга «Апостол» и четьи-минеи.
Окна в избе – длинные, узкие и высокие, как в новгородской Софии. С потолка, на крючьях, свешиваются связки бобровых и собольих шкурок, самых драгоценных.
За столом посреди избы могла бы сесть княжеская дружина разом. Дубовая столешница покоится на бревенчатых ножках – подставках, иначе провалилась бы гора серебряной посуды, что высится под самый потолок на столе – ковши, серебряные кубки, братины и винные чаши. Их тоже покрыла пыль – видно, хозяин давненько не пировал здесь с гостями.
Но в готовности стоят лавки под красным аксамитом, отороченным золотой бахромой. Да еще два высоких кресла замысловатой резной работы чуть отставлены поодаль: на одном тигровая шкура, подарок индийских купцов. Этим креслом никто, кроме хозяина, не пользуется.
Живет он в избе не один. На печи – место любимого рыжего кота по кличке Боярин. Под печью издавна угнездилась ручная лиса-огневка, Патрикеевна. В углу, у подножья вогульских идолов, без устали снуют ежи – охотники на мышей. Среди диковин, разложенных на полках и по верхам шкафов, кочуют ручные белки, а сколько их развелось и где порой скрываются, – хозяин и сам не ведает.
Сыновья же хозяйские не знают того, сколько скрыто отцом в домовых тайниках золота, драгоценностей, каменьев дорогих и где тайники заложены. Разумели про себя, что под полом, ибо случалось видеть, как отец ночами выносил из избы землю и рассыпал ее у комлей кедров.
На столе, у серебряной горы, светильник-восьмисвечник из сохатиного рога: в каждом отростке продолблена выемка и вставлена туда толстая восковая свеча...
Одна из свечей, как заведено уже лет шесть, ночью зажжена – хозяин не мог заснуть без света. Стал бояться темноты с тех пор, как метким выстрелом подбил стрелой горного орла. В ту же ночь увидел во сне, что убитый орел выклевал ему сердце, и стала его помучивать странная мысль, как дожить жизнь без сердца: ведь шестой год нет в груди настоящего стука, так, трепыханье какое-то...
Разбудила Иоаникия Строганова гроза с таким дождем, будто обрушилась на крышу лавина из мелких камешков.
Лежал старый хозяин Камы с открытыми глазами, следил, как в окнах возникают зеленые всполохи молний. Вслушивался в шумы грозы, в тишину избы. Когда стихал гром, внятно капала из рукомоя в бадью вода и, пофыркивая, перебегали ежи.
Он встал в холщовом исподнем, подошел босой к столу и от огонька горевшей свечи запалил еще три. Стало посветлее.
На печи встрепенулся кот Боярин, а у самой двери, в закутке за шкафом, зашевелилась еще одна обитательница избы, самая сиротливая и запуганная – крестьянская девочка Анютка. Иоаникий взял ее в услужение недавно – мужским слугам он не доверял, взрослые женщины его раздражали, а маленькую Анютку он и за человека-то не считал: ее присутствие тяготило его не больше, чем возня белок на полках.
Услышав шорох в Анюткином закутке, хозяин заглянул за шкаф. Разбуженная ударом грома, Анютка увидела вдруг перед собой хозяина и тихонько ахнула. Тотчас приподнялась, зашептала что-то, но в шуме дождя старик ничего не разобрал.
– Напугал тебя, кажись?
– Испужалась со сна... Неужто занемогли? Может, квасу подать?
– Спи. Гроза на воле. Она и меня пробудила. Ночь еще. Экая ты тревожная на сон! Другую дубьем не растолкаешь, а ты, почитай, от погляда пробудилась. Далеко еще до утра. Спи!
Строганов вернулся к постели, стал обуваться, да так и замер, любуясь долгими вспышками ослепительных молний. Потом в парчовом халате на собольем меху стал шагать по избе. Заметил, что в большой лампаде огонек мигает, снял с фитилька нагар. Раскрыл Евангелие, но вместо чтения преклонил колени на подушке перед аналоем, стал класть поклоны; подниматься помогал себе посохом. Рукоять этого посоха в золоте и крупных каменьях – одарил им Иоаникия Московский и всея Руси царь Иван Васильевич, когда на орловском урочище встал над Камой городок-крепость Кергедан.
Любил Строганов игру лампад и свечей в гранях драгоценных камней на иконах, посохе, кубках. Оживали камни в этом свете, будто и не камни они, а капельки жаркой крови – того гляди скатятся на ковер, пропитают мягкую ткань, прожгут ее...
В свете лампад строже, краше становится и само старческое лицо. Иоаникий Строганов еще при жизни стал легендарен. Кто не слышал о нем в крае Перми Великой да и по всей Московской Руси?
Ложатся отблески грозовых вспышек на лицо гостя купеческого с берегов Вычегды, унаследовавшего в молодости дедовские варницы в Сольвычегодске и по торговым, пушным делам подавшегося в край камский, чтобы через годы прослыть в людской молве Аникой Камским.
Тридцать пять лет назад прибыл он в Чердынь поглядеть на тамошний торг мягкой рухлядью. Раз навсегда опалилось его сознание всем тем, что увидел тут, и не позволила ему купеческая сметка покинуть места, где затраченная копейка приносила рубль дохода.
Все оставил Строганов в сольвычегодском родительском доме, даже родную жену. Вначале навещал ее, одаривал обновами и мехами, потом совсем запустил родной дом, не наведался к жене и перед ее смертью. Сыновей и тех сначала к себе не звал. Семена раньше всех кликнул. И до того Кама околдовала Иоаникия, что даже годы жизни своей стал считать лишь с того, как впервые приехал в Чердынь. Поведя такой счет годам, долго обманывал себя сам, но старость свою под конец обмануть не смог.
Седьмой десяток доживал Иоаникий, и тридцать пять из них погулял он в царстве камских лесов.
Торговал с лесными народцами грабительски, совсем бесчестно. Прибыль брал сам-сто. Покупал драгоценные меха за пустые безделушки. Скоро и такая торговля показалась ему незначительной, начал посылать Семена за хребет, в Сибирское царство. Тот привозил пушницу еще лучше, брал ее еще дешевле. Иоаникий сам отвозил товар в Москву и ссыпал в закрома золото, затратив медяки. День за днем, год за годом богател так, что сам не знал, как вести счет деньгам. Помня клятву, данную деду, не отходить от соли, отыскал ее с Семеном и в камском крае. Исподволь, правдами и неправдами, добром и силой, кулаком и подкупом прибрал ее к рукам всю от прежних мелких хозяев. Слава о солеваре Строганове вновь пошла по всем дорогам Руси, докатилась до Кремля и до царских ушей. Приводила она купца Иоаникия в царские палаты, перед очи самого государя.
Расспросил Иван Васильевич Строганова о камском крае, повелел ему крепко стоять в нем, за всем приглядывать и хозяйствовать именем царя, велел быть там глазом царя и перед ним единым отвечать за все вольные и невольные оплошки.
Недаром любил Иоаникий рассказывать про свою встречу с царем перед всем государевым двором. Царь, указывая перстом, сурово сказал:
– Глядите, какой из себя купец Строганов. Запоминайте, как он единую Русь по своему почину осередь дикости и опасностей утверждает. Не вам чета сей купец, бояре!
Для всех теперь на Каме и на Руси хозяином был Иоаникий Строганов с сыновьями. Но только сам он да еще сын Семен держат в памяти, как шагали к этому богатству, какие пути-дорожки к нему привели...
Дорогу в глушь камских лесов прокладывали для Строгановых люди с Руси часто ценою собственных жизней. Те, кому удавалось уцелеть и выжить, получали гроши и копейки, загребая хозяевам рубли. Людей темных, головушки забубенные, Строгановы принимали охотнее, нежели людей со светлыми помыслами. Кому по Руси путь был заказан, мог разгуляться в строгановских вотчинах, усмиряя непокорных, отнимая на дорогах чужое добро, порой даже из-под рук у царских наместников – воевод. Заводили Строгановы в крае свою опричнину, только в отличие от царской создавали ее от народа тайно, чтобы не распугать вовсе тот вольный люд, недовольный порядками на Руси, что сам бежал сюда осваивать дикие места, вроде мастера-костромича – судостроителя Иванка. Но здешние тайные опричники, такие, как Досифей-крестовик или иные верные люди, шли по строгановскому слову в огонь и в воду, творили суд и расправу, ценили кровь не дороже камской воды. Поначалу Иоаникий сам ходил во главе своих людей, когда посылал их на опасные дела. Потом потерялась былая сила в руках, отца сменил Семен там, где требовались хватка дерзкая и навык суровый.
И все же просачивалось кое-что в народ, как ни тайно действовал Семен с приближенными. Через воевод, заезжих купцов, завистливых соглядатаев узнавали в Москве в государевом дворе, что, мол, далеко переступает Строганов царские законы. Приходилось покупать молчание, а оно – товар дорогой и ненадежный! Горстями ссыпалось в Москве строгановское золото в жадно протянутые ладони.
Порой алчность завистников казалась ненасытной. Шепоток: «Давай и нам толику краденого!» – становился требовательным и громким голосом. Притихли эти голоса лишь тогда, когда царь сделал Строгановых хозяевами по всей Каме, и московские завистники смекнули, что строгановская хватка царю по душе. Однако Иоаникий твердо держал в памяти, что царский нрав переменчив, капля клеветы быстро точит камень веры и даже малый тайный враг всегда опасен. И если случалось такому тайному врагу взять на себя поручение в строгановские земли или по соседству, редко удавалось ему воротиться подобру-поздорову: дескать, даже царские воеводы не в силах унять лиходеев в крае, не иначе как их руками и пострадал посланец!
Ратные люди Строгановых, охранявшие край Каменного пояса, не стоили казне царской ни полушки, зато и хозяева не любили тех, кто больно ретиво дознавался, откуда брались деньги на содержание сих ратных людей! Какая судьба ждала ретивых дознавателей – знали камские леса и... люди Иоаникия Строганова!
Так вот и жил этот край по двум законам – царским и строгановским. И если дело доходило до открытого спора между царскими воеводами и строгановскими подручными – отступали первыми обычно служилые люди царя. Победителем выходил Строганов.
Но с того года, когда на берегу Камы встали стены Кергедана, Иоаникий, еще могучий телом и не любивший прежде сидеть на месте, неожиданно для сыновей затворился в своей конкорской избе. Причин к тому было несколько: вдруг давший себя знать недуг старости, страх за накопленное добро – страх, ведомый всем стареющим стяжателям, – боязнь сыновей и раскаяние перед богом.
Тревога нарастала. Он часами сидел неподвижно, раздумывая о своей былой неуемной жизненной силе. Он начинал понимать, как страшно грешнику ожидать прихода смерти. Он уже знал, что многие люди ждут часа, когда явится эта гостья за Иоаникием Строгановым, в их числе даже родные сыновья, а главное, ждет за неведомой дверью того мира злая расплата, расчет за содеянное в этом мире.
Тягостны его раздумья о сыновьях, таких разных по уму и характеру. Григорий и Яков – настоящие купцы. Цель и смысл их существования – сундук с добром, деньги. Семен всегда казался каким-то исключением: он не был жаден к деньгам, видел в них лишь средство, а не цель. Старик уважал Семена больше других сыновей – может быть, и о нем сохранится след в летописях Руси! Отец вначале не одобрял стремления Семена к новым землям и понял его замыслы только тогда, когда царь одарил Строгановых первой грамотой. С тех пор старик уразумел, что настоящая слава Строгановых добыта не им, не Григорием, не Яковом, а именно Семеном, хотя он и остался в тени, когда пришло время расценивать на золото царские милости и делить честь.
Якова и Григория старик боялся из-за их жадности. Он все время старался посеять между братьями вражду и неприязнь, хитро действуя через жен. Это всегда удавалось и позволяло оттягивать раздел богатства, несмотря на настойчивые требования сыновей.
Но хуже всего был страх перед богом. Жизнь в камском крае, волчьи законы борьбы заставили его надолго позабыть о страхе перед богом, но с приходом старости этот страх вернулся вновь и остался при нем в четырех стенах избы в Конкоре, и усиливался в часы полного одиночества, когда боялся он всякого шороха.
Истовой, крепкой веры в бога у Иоаникия никогда не было. Он крестился, но делал это больше от суеверия. И теперь его вера в бога, рожденная страхом, становилась болезненным исступлением, охватившим его с полной силой после встречи с игуменом Питиримом. Он сразу подпал под его власть, слушая поучения о часе раскаяния. Ради Питирима выстроил он монастырь на горе, укрепил его, как крепость, с надеждой задобрить бога и получить его помощь еще здесь, в этом мире, в виде продления жизни. Питирим же при всякой встрече шептал об одном и том же: о подвижнической жертвенности угодников, намекал насчет завещания богу всего богатства. Иоаникий часами простаивал на молитве и не находил в ней утешения. Произносил заученные слова, а мысли были далеки от бога, всегда о земном и суетном.
Время шло.
Сыновья Григорий и Яков, погрязшие в делах семейных и торговых, не видели душевных терзаний престарелого отца, вечно требовали раздела, запугивали отца Семеном: дескать, Семен намерен вот-вот отобрать все богатство себе одному. Старик не знал, что делать. Ведь сам Семен никогда не говорил с ним о деньгах, жил иной заботой, старался увлечь отца широкими замыслами об утверждении Руси на новых землях.
Порой Иоаникий начинал подозревать, что Семен просто усыплял его подозрительность, тихонько подбираясь к нажитому отцом. Уж не для отвода ли глаз он усмирял братьев, когда те слишком явно давали отцу чувствовать их права и противились его воле, воле живого родителя?..
Гроза понемногу затихала.
Небесный рокот катился реже. Молнии уже не так ярко освещали избу. Иоаникий повторял заученные молитвы и, как всегда, не слишком верил, что молитва его угодна богу. Смотрел на лики икон, не видел в них ни сострадания, ни участья...
4
В Конкоре наступил вечер.
Лиловые с синими потеками небеса отяжелели от звезд.
Ветер с Камы шевелит за монастырскими стенами листву берез и осин.
В келье игумена Питирима единственное украшение – книги. Тяжелые, с медными застежками и кожаными переплетами. Некоторые раскрыты на столе – на страницах видны следы пальцев и пятна воска.
От лампад на темных иконах – пятна света. У стены на полу – гроб с коротким березовым чурбашком в изголовье. Крышка от гроба прислонена к стене.
Высокий, сгорбленный игумен Питирим стоял у аналоя. Худое лицо аскета до самых глаз заросло длинной рыжеватой бородой. Клобук надвинут до пушистых бровей.
Семен Строганов говорил игумену приглушенно и жестко:
– Что-то, отец Питирим, замечаю: перевелись праведники среди наших пастырей духовных. После Стефана Великопермского ни одного подвижника в здешних землях не обреталось. Как о сем судишь?
Игумен покачал головой:
– Не возьму в толк, куда речь свою клонишь, Семен Иоаникиевич. Или хулить облыжно меня собираешься? Кто-либо, верно, поклеп возвел?
– Речь клоню к тому, что ты, как слышу, родителя нашего гневом божьим запугиваешь, будто дите малое. Поучаешь его всю власть над богатством тебе передать. Святым себя выставляешь и его к себе в монахи зовешь. Того гляди, поверит в твою святость Аника Строганов.
– Еще что выскажешь?
Игумен медленно перешел к столу, зажег от лампады свечу. Семен спокойно встретил его долгий, колючий взгляд.
– Постой, не торопи. Все скажу, что потребно мне. Кое-что в моем сказе тебе не по сердцу придется, но и подумать о многом заставит. С монахами беседовать редко случается: скуп я на слова для черноризцев. Но уж ежели начал, то не обессудь, доскажу. Неласково глядишь на меня, инок смиренный! Только, сколь ни гляди, глаз своих перед тобой долу не опущу. Жесткие у тебя глаза, но сие для меня не велика невидаль! Случалось встречать глаза того жестче, самой смерти доводилось в очи засматриваться. Как видишь, и перед той не оплошал!
– Напраслину плетешь.
– Неужели отопрешься, что звал родителя нашего в монашество?
– А вот и не отопрусь. Пошто не спросил, почему зову его в монастырь?
– Потому, что сам эту причину знаю.
– Знаешь, стало быть, что вконец сыновья замучили своего отца пужанием: дескать, намерены они отнять у него золото и все богачество строгановское? Невмоготу мне стало глядеть, как родитель ваш сынов своих, что голодных волков, боится. Во спасение от вас зову раба Иоаникия в монашество, под охрану господней десницы, уберечь хочу его от вашей греховной суеты. Ведь помрет родитель – вы могилу ему вырыть позабудете, недосуг вам будет! Станете, кровеня друг дружку, богатства делить, потом жить зачнете шибче царского. Жен да полюбовниц самоцветами и жемчугами засыплете, а господу богу медяка на свечку пожалеете.
Постепенно повышая голос, игумен гневно выкрикивал:
– Приобык ты, Семене, не отца единого, но всех добрых людей на Каме пужать. Воеводы царские и те перед тобой помалкивают. Один я тебя не боюсь. Молчанием своим тебя не возрадую. Встану вот сейчас перед иконами и прокляну тебя навек. Скажешь, что проклятия моего не боишься? Скажешь, а?
От приступа гнева все тело игумена сотрясалось. Умолкнув, он опустился в кресло, склонил голову и схватился за подлокотники. От тяжелого дыхания грудь его подергивалась. Он зашептал, будто творил про себя молитву:
– Спаси, господи, от оборотня! Упаси, господи, от Семена, лютого беса в человечьем обличий.
Постепенно успокоившись, монах приоткрыл один немигающий глаз, устремил его на Строганова.
– Стоишь? Станешь сейчас помилования у меня вымаливать?
– Стою. Жду, когда проклинать начнешь. Охота послушать, какие слова скажешь.
Игумен прикрыл глаз. Из-под плотно сжатых век потекли слезы.
– Прости меня, Семен Аникьич. Прости, что грешного гнева своего не одолел, пастырь недостойный!
Игумен вдруг торопливо сполз с кресла, упал на колени и склонился перед гостем в земном поклоне, визгливо выкрикивая невнятные слова. Строганов не пошевелился, сказал спокойно и холодно:
– Встань, отче Питирим! Не обучен ни в проклятиях, ни в раскаянии правды признавать.
После слов Строганова игумен быстро поднялся на ноги, спросил шепотом:
– В бога, стало быть, не веруешь, ежели силы его проклятия не признаешь?
– Тебе про то лучше известно. Надо тебе не игуменом в монастыре быть, а кликушей на паперти стоять да страшными пророчествами баб в пот вгонять. Садись в кресло крепче. К концу моя речь с тобой подходит.
– Стоя дослушаю. Хозяин я в своей келье.
– Сказал, садись!
От неожиданного окрика игумен попятился и сел в кресло. Дзерь кельи чуть скрипнула и приоткрылась. Семен неслышно сделал несколько шагов к двери, с силой толкнул ее ногой. Она распахнулась, тяжелая створа сбила кого-то с ног. Игумен закричал не своим голосом:
– Убил инока, душегуб! За что порешил, окаянный?
– Не тревожься. Доносчики и слухачи живучие. Отлежится.
– Пойду погляжу, дышит ли инок мой! – И монах приподнялся в кресле.
– Сиди-ка ты, отче, на месте, коли я велел.
Строганов ударил кулаком по столу с такой силой, что подсвечник подпрыгнул и свеча погасла. Игумен часто закрестился. Семен вышел, хорошенько встряхнул монаха, лежавшего за дверью. Охая и причитая, тот пустился наутек. Игумена же вновь затрясло от гнева:
– Все равно не боюсь тебя в своей обители. Братию сейчас скликать начну! Связать тебя велю да за ограду, как падаль, кинуть, чтобы ты по косогору в Пыскорку мертвяком укатился.
– Врешь! Братию кликнуть побоишься. Рта разинуть не посмеешь, конец моей речи дослушавши. Вот ты какой? За ограду, как падаль, меня выкинуть хочешь? Неплохо надумал. Только на деле все сейчас по-другому для тебя обернется. Сам вскорости из обители ноги унесешь. И не по своей воле.
Игумен насторожился.
– Да будет тебе ведомо, что от митрополита Московского и всея Руси гонец мой воротился. Обитель нашу митрополит принял под охрану свою и, по моей челобитной, определил в нее нового игумена. Тебе же повелел уйти из нее в те места, из коих в ней объявился.
– Не смей такое молвить!
– Ты для меня здесь не игумен. Строгановым господь милосердный нужен. Не силен ты быть пастырем стада христова, самого тебя надо пасти крепкой рукой, на истинный путь направляя... Велю тебе до приезда нового игумена добром из обители уйти.
– Не волен сие приказывать!
– Увидишь! Силы у меня на все хватит. Боярина беглого из Москвы на нашей земле остановили. Сказал мне, что знаком ты ему.
– Может, и знаком. Многих бояр знаю. Они богу угодны, потому и вхож я был в иные хоромы. Для бога все одинаковы. Слышишь? Строгановым даже слуги божьи поперек горла встали, посему ты на них лютым псом кинуться готов.
– Та тропа, по которой ты, слуга божий, в Москве к своим дружкам ходил, господу неведома. Может, сам мне скажешь, кто тебе велел надеть рясу и под личиной инока завладеть строгановскими богатствами? Молчишь? Так слушай: на Москве твой хозяин – опричник Басманов Федор, правая рука Малюты Скуратова. Что? Онемел? Все о тебе дознано. Скажешь, что и это поклеп? Пошто молчишь?
– Не убивай, христа ради!
– Зря просишь. Об такую грязь рук своих не замараю. Живи, пока дружок потерпит!
– Когда велишь уйти?
– Не торопись. Покедова здесь будь. Но слова единого никому молвить не смей об этой беседе. Смердов простых ради, для коих сан твой – святыня. Монах, коего дверью оглушил, кто такой?
– Ключарь.
– Пришли его поутру ко мне в городок. О чем разговор вели – до гроба помни. Когда время придет обитель покинуть, пошлю за тобой своего человека. Только уйдешь отсюда не на волю. При Строгановых останешься.
Игумен всплеснул руками:
– Помилуй грешного!
– Запричитал? Разом всю смелость порастерял? Жив останешься. Только заживешь по-другому. В новом нашем остроге станешь молиться о спасении ратных людей, а если придет час от ворогов острог боронить, грудь свою под вражьи стрелы без кольчуги подставишь, на божье провидение надеясь.
– Помилуй, Семен Аникьич!
Но Строганов быстро удалился из кельи, захлопнув за собой дверь. Сошел с крыльца игуменских покоев и сразу нырнул в ночную темень.
Спускался тропинкой с вершины холма в городок, прислушивался к беспокойному шелесту листвы.
5
Лучи заката освещали вершины сосен «апостольской» рощи. С монастырской звонницы густая медь большого колокола звала прихожан ко всенощной. Семен Строганов вошел в отцовскую избу. Возле стола увидел Анютку. По столу, размахивая хвостами, деловито сновали белки. Анютка забралась в кресло, стала на колени и по-детски увлеклась игрой с жемчужинами. Она горстями черпала их из открытого ларца и осторожно пересыпала с ладошки на ладошку. Она не слышала, как вошел Семен, как вплотную приблизился к столу.
– Забавляешься, проказница?
Анютка вскрикнула, жемчужины рассыпались по столу. Белки попрыгали со стола, разбежались по шкафам и полкам.
– Чего кричишь? Только векш своих распугала. Собирай-ка скорее жемчужинки, пока не затерялись.
Анютка, с испугом косясь на Семена, проворно собрала жемчужины, ссыпала их в ларец и прикрыла крышкой.
Семен погладил девочку.
– Все до единой собрала? Ах ты, синеглазая, околдовал тебя жемчуг: не слыхала, как к тебе подошел.
– Винюсь. От голоса твоего похолодела вся.
– Играешь, значит, отцовскими жемчугами? Слезы людские в ладошках пересыпаешь? Глянется тебе, как они блеском переливаются?
– Какие же это слезы?
– Жемчуг, Анютка, это горючие слезы человечьи. Стужа морского дна их заледенила.
– Неужто правду сказываешь? Беда какая! Батюшка Аника дозволение дал ими любоваться да себе на нитку отобрать, какие понравятся. В приданое пожелал мне ту нитку отдать.
– Вот как? Неужли заневеститься успела?
Анютка сконфуженно прикрыла лицо руками.
– Пошто так молвил? Може, потом когда.
– Смотри-ка, и верно Анютка наша скоро девушкой будет! Значит, суженого начинай высматривать, да такого, чтобы душу тебе не опоганил.
– По-непонятному речь ведешь. Разве вольна крестьянская девушка себе суженого выбирать? За кого велят, за того и пойду. Сироткой расту.
– За то, что моего батюшку ласковой заботой охраняешь, сама себе и парня в мужья выберешь. Даю тебе на том мое слово. Никто тебя насильно, за нелюбого, не приневолит. Родичи твои верно служили Строгановым, сам батюшка заботу о твоей судьбе в руки взял. Еще девушкой не стала, а от речей о женихе, как маков цвет горишь. Глазищи-то у тебя какие лукавые! От их погляда парни на розном месте спотыкаться станут... Живи и на все гляди без страху, расти гордой и смекалистой. Любовью душу согреешь, но берегись двух бед: рано крылышки обжечь, либо суженого прозевать и бобылкой остаться. А теперь сказывай, куда ты батюшку без присмотру из избы отпустила?
– В монастырь пошел. Служка от отца игумена прибегал. Зазвал хозяина к себе – занемог игумен нежданно.
Семен не смог сдержать улыбки.
– Право слово, к игумену пошел.
– С чего это он занемог нежданно?
– Кто его знает! Ведь беда, какой гневливый. Во всем городке на людей страх нагоняет. На что уж наш кот Боярин животина спесивая, никого не боится, и то, как Питирим в избу, так сразу под печь, к лисе убирается. Может, от такой лютости и занемог, кровь закипела?
– Ты его тоже боишься?
– А то как же? Сколько раз на себе его длань испытала, подзатыльники да заушины не счесть. Руки у него длинные да холодные, что лед. Положит на плечо – холодом через холстину остудит.
– Частенько ли игумен батюшку навещает?
– Редкий день не навестит, а то и ночью. Начнет это о людских грехах, да так страшно-то, потом на колени перед иконами падет и велит батюшке твоему в ряд с ним встать и молиться.
– О чем еще речи с батюшкой ведет?
– Того не ведано. Ежели придет днем, велит мне из избы на крыльцо уходить. Только ночью слыхала их разговор одинова. Спала я. Вдруг – крик в избе. Пробудилась я, а сама прикинулась спящей и слушаю. Кричит игумен, ногами топает на батюшку Анику. Все, говорит, свое богатство должен ты богу отдать. Проклятое, говорит, оно. Только бог может через меня очистить его от всякого земного греха. Страшным судом господним пужал, до того искричался, что совсем осип.
– А батюшка что?
– Молчит. Слово молвить боится. Под конец разговора стал успокаивать отца Питирима, сулил подумать над его праведными словами. Беда, как страшна та ночь была.
– Как думаешь, правду игумен про страшный суд сказывал?
– Мне разве понять? Стало быть, правду, ежели сам батюшка Аника сказу его поверил. Батюшка твой все знает, он умнее всех на Каме.
– Стало быть, отцу Питириму батюшка верит?
– Обязательно верит. Всякий раз ему говорит: «Слово твое, отче, для меня – божественная истина».
Семен осмотрел избу – никаких перемен, все, как заведено отцом спервоначала. С печи соскочил кот, замурлыкал и стал ласкаться к Семену. Анютка засмеялась.
– Ишь как распелся! Разом свою боярскую спесь оставил! И с чего такой ласковый стал? Он, чай, окромя хозяина, ни к кому близко не подходит.
Не слушая Анютку, Семен продолжал внимательный осмотр отцовой избы. Анютка притихла и не сводила с него глаз. Наконец Семен вспомнил о своей собеседнице.
– Чего уставилась?
– Узнать хотела, о чем сейчас дума твоя.
– Ишь ты. Скажи на милость! Много знать будешь – скоро состаришься, синеглазая! Так, слушай теперь мою думу про тебя: заневестишься – немедля мне о том скажи. Сам тебя приданым одарю. Жемчугов даже от батюшки моего в приданое не бери. Слышала? Время придет – и без них вдоволь наплачешься. За батюшкой заботливо и ласково приглядывай, чтобы никакие печали его стариковские дни не тревожили и чтобы...
Из сеней донесся звук тяжелых шагов.
– Идет, кажись?
Семен обернулся к двери. Иоаникий Строганов увидел сына.
– Сеня! Родимый! Вот радость великая.
Семен низко поклонился отцу, они обнялись и трижды расцеловались.
– Спасибо, что навестил. А то слышу – ужо прибыл Семен Аникеевич в отчий Конкор и времени не найдет к отцу наведаться. С весны, чай, не видались. Садись вот тут на лавку. Анютка, ступай к подружкам, да только дотемна не засиживайся.
– Квасу какого подать? – спросила Анютка.
– Ступай. Без тебя управимся.
Когда девочка вышла, Иоаникий заговорил озабоченно:
– Сеня, горе меня настигло. Отец Питирим неладно занемог. Лихоманка трясет, заговаривается в бреду. Обитель кинуть собирается.
– Ему видней, батюшка.
– А как же я без него останусь? На старости меня все покинули, один Питирим душу мне от тягостных дум оберегает. Сделай милость, уговори его не покидать обитель.
– Не удерживайте, батюшка, Питирима от монашеского устремления. Святейший митрополит Московский Афанасий обитель нашу принял под свою десницу.
– Верно ли говоришь? Кто ему челом бил?
– Я, батюшка. Хотел вас утешить.
– Поверить боюсь, Сеня, такой радости великой. Под рукой святой церкви московской нам полегче станет. Владыка доле всех на Москве не признавал Строгановых хозяевами на Каме. Слава богу, довелось мне дожить до того часу, когда и он нам благословение свое даровал.
– Наша забота о монастыре Пыскорском теперь, батюшка, окончилась. Заместо Питирима из Москвы в обитель новый игумен явится.
– Ох, Сеня, страшно мне без Питирима остаться. Кто знает, какого игумена пришлют. На Москве в монашестве ноне праведность тоже ослабла. Питирима я знаю: праведник господен.
– На Косьву я его с собой возьму.
– Тогда ничего. Только слово дай беречь его.
– Его и без меня бог бережет.
– Верно говоришь. Он под десницей божией. Понять не могу, с чего это Питирим осерчал на меня. Только намедни с ним беседовали о спасении души. Обещал подмогу во всех заботах. Сыновья мне в делах благочестия плохие помощники. Все вы о боге позабываете. А это нехорошо.
– Поутру, батюшка, в Кергедан собираюсь.
– Там подоле побудь. Заместо меня сам крепость отстроенную огляди. Гришка чужим умом живет, Катька за него думает. Она и против меня его подбивает. Главное, огляди, как хоромы воздвигают. Мыслю я, что после моей смерти вы все вместе в них жить станете. Себя не забывай! Чаю, чердынскую боярыню в Кергедан привезешь?
– Опять о ней речь заводишь?
– Забудь, Семен, боярыню Анну Орешникову. Приворожила тебя тайным наговором. Не ты ей нужен, а строгановские богатства. Женись на ком желаешь, обрадуй старика, только Анну Орешникову позабудь! Наведайся в Москву и погляди на невест. Любая красавица за тебя пойдет.
– Я, батюшка, не малое дитя, а потому волен глядеть на любую бабу.
– На любую и гляди. Только не на Анну.
– Пошто не взлюбил, даже не видав ни разу?
– В Чердыни опять с ней повидался?
– Повидался.
– Стало быть, в мужниной постели тебя на груди пригревала? Грехом тебя опаивала? Против моей воли поступить тебя научала? Чужая она жена. Пошто заповедь господню преступаешь, к чужой жене липнешь?
– А сам, батюшка, к чужим женам не прилипал?
– Ишь куда языком метнул! Престарелого родителя прежними грехами попрекать вздумал? Грешен! Каюсь! Потому и вся дума моя, как бы тебя на праведный путь с ложного наставить. Знаю, нельзя мужику в сем крае без зазнобы-любушки. Грех в нас родится здесь от дыхания земли да от лесной вольности. Могучесть земли здешней нашу кровь вспенивает. Ты и сам в плоти, Семен, могуч, весь в отца. Рано начал в бабах забаву искать! Позабудь Орешникову! Из упрямства за нее держишься, ты в бабах не душу ищешь, а все потому, что остудил себя одиночеством. Давно велю тебе семьей обзавестись... Братья твои выполнили мою волю, внуками порадовали, а ты?
– По осени Аннушку от мужа на Косьву с собой увезу. Будет тебе и от меня внук.
– Не посмеешь!
– Аль воевода на то запрет наложит?
– Отец не дозволит. Не посмеешь чужую взять, пока живой.
– Возьму, батюшка.
– Не допущу, Семен, тебя с боярыней на свою землю. Сам царь, сказывают, к воеводе Орешникову милостив. Пошто царский гнев на наш род навлекать?
– Царский гнев? Почему же тогда сам ты, батюшка, беглых бояр с Руси на своей земле прячешь и царского гнева не опасаешься? Почему богатства беглых себе забираешь, вместо дани за укрытие?
– Беглых не я, Григорий грабит.
– Но ведь и он тоже Строганов, стало быть, и он царский гнев на наш род навлекает?
– Сколь раз велел ему не допускать беглых бояр на наши земли. Он и ухом не ведет.
– Сам ты, батюшка, грабленое себе брал, Григория делиться заставлял. В каждом углу избы этого добра полно. Сам, поди, давно запутался, что честно нажито, а что тобой с Григорием у беглых силой отнято.
– Семен!
– Кричать и я горазд, батюшка. На голос тоже неслабый уродился.
– Отрекусь от тебя!
– Отрекайся. Дело это, батюшка, тебе не в диковинку, а в привычку. От жены своей, матери нашей, отрекся, потом сам же и каялся.
Иоаникий Строганов закрыл лицо руками, склонил голову, долго молчал. Потом заговорил тихо и скорбно:
– Вот о чем помянул! Сорвал с души старую болячку. Каюсь: ради богатства здешнего матушку твою в вычегодском доме кинул. До гробовой доски буду о сем печалиться. Ежели была б она здесь, не посметь сыновьям моим из-под моей воли в стороны разбегаться, старость мою распознавши. Яшка с Гришкой не первый год смутьянствуют. Не будь тебя, они давно бы меня ограбили. Теперь и ты смутьяном оборачиваешься. Троим легко старика скрутить. На свой лад, Семен, жить начинаешь?
– Всегда на свой лад жил, но из-под воли твоей не уходил. Зачем, батюшка, тревогой пустяшной себя ране времени со свету сживаешь?
– К чему клонишь? О чем про меня дознался?
– Ни о чем не дознавался. Гляжу на тебя и вижу, что тревога всего изглодала.
– Верно, Сеня, гложет она меня. Смерти боюсь. Стука сердца своего боле не слышу. Скажи отцу правду: хочешь моей смерти? Думаешь, поди, иной раз, чтобы я поскорей помер?
– Думаю, батюшка.
Иоаникий от такого признания испуганно перекрестился.
– Пошто же думаешь об этом?
– Потому, батюшка, что ты среди живых как неживой бродишь да тени своей пугаешься.
– Отцу смерти желаешь? Анике Камскому конца ждешь?
– Нешто теперь, батюшка, ты Аникой Камским остался? Кому от него слышать доводилось, будто он когда смерти пугался? Разве раньше ты боялся ее? Как меня жить обучал? Велел ходить, бегать, драться, пока не упаду замертво. Велел смелостью бесшабашной с себя мерку снимать. А теперь кем стал? Перед монахом, который страшным судом припугнет, готов на карачках ползти? Перед сыновьями трясешься, когда требуют богатство разделить? Не сам ли научил их быть жадными? Пред иконами на коленях ползаешь, над золотом дрожишь, будто на морозе стынешь? Срам, батюшка, эдаким Аникой Строгановым по берегам Камы бродить. Смерти боишься? Старости дозволяешь спину в дугу сгибать? В сыновьях врагов раскапываешь? Доколе, батюшка, станешь кликушей рядиться? Один раз пореши: либо Аникой Камским живи, либо в монастырь под клобук спасайся да о грехах своих плачь, ежели они тебе плечи натирают.
Иоаникий привстал, выпрямился и смотрел на сына так, будто только что пробудился ото сна.
– Вот так вокруг себя и гляди. Прямее стой, батюшка, не бойся старческую дугу в спине разогнуть, небось не переломится. Кулаком по столу стукни, расшиби страх перед смертью. Коли вздумает она в неурочный час объявиться, об пол ее. Потому с таким батей, каким ты теперь по своей избе бродишь, зазорно мне на большое дело идти.
– Что задумал-то, Семен?
– Слово дай, что перечить не станешь!
– Говори.
– Обещай, что рядом со мной пойдешь, ничего не жалея?
– Говори, Семен, а то силой из тебя сказ вытрясу.
– Вот так, батюшка, разомни об меня свои силы, тогда и сердце твое застукает, как молот по наковальне.
Иоаникий схватил сына за плечи.
– Сказывай, Семен, взаправду не осерди старика.
– Скажу, а то, пожалуй, кафтан мне не сберечь!
От внезапного приступа кашля Иоаникий упал на подушку своего кресла. Лицо его побагровело. Когда кашель стих, он пошел к печке, зачерпнул ковшиком воду из кадушки, выпил жадными глотками.
– По весне, батюшка, порешил следы Строгановых по берегам Чусовой положить. Решил по Чусовой зачинать дорогу на покорение Сибирского царства. В Сибирь Строгановы обязаны первыми хозяевами прийти.
– Одумайся, Семен! О чем молвишь? Как царь на это поглядит?
– Царя до поры спрашивать не стану. Скажу ему, когда встанем на Чусовой до самой ее вершины во весь наш рост.
– А кто из вас после наберется смелости сказать о захвате Чусовой? Небось на себя, Семен, станешь грамоту просить?
– Нет, пусть на Чусовую Яшка грамоту в руках зажмет. Себе возьму грамоту на все Сибирское царство.
– Погоди, Семен. От твоих слов разум у меня мутится. Чусовую в Русь хочешь обряжать? Золота у тебя для этого хватит?
– Неужели Аника Строганов обнищал?
– Свое богатство, пока жив, никому не отдам. Слышишь?
– Его у тебя никто не отнимет.
– Яснее говори. Чай, Гришка к горлу пристает, раздела требует на три части?
– Не будет этого! Богатство, тобою нажитое, должно быть единым при жизни твоей и после конца ее. Нельзя это богатство дробить, частями раздавать. Возле Гришки – Катерина с муромским купечеством. Оно свои виды имеет. Возле Яшки – Москва базарная, она любое богатство проглотит и памяти не оставит. Я твое золото не возьму. На Чусовой Русь поставлю без золота, людям золото только покажем, подманим им легковерный народ с Руси. Подходит время, батюшка, когда Русь сама к Строгановым на службу набиваться станет. Русь от лютости опричников не знает, где голову преклонить. Царь Иван тоже не вечен. На его место новый царь сядет, а Русь тем временем под парусами Строгановых в Сибирское царство и поплывет. Ежели сумеем, славу рода нашего поддержим. Благослови сына Семена на большое дело.
– Неужели и вправду на богатство мое не посягнешь? Крестись на икону!
Семен перекрестился.
– Братья твои шептали, что обманом меня обойдешь, все золото отнимешь. А ты по правде-то, стало быть, на моей стороне?
– По правде, батюшка.
– Тогда, тебе поверив, всю тайну про богатства открою. В этой избе под полом оно у меня схоронено. Под кедрами тоже зарыто немало. Есть оно и под стенами крепости во многих местах. Бери, ежели понадобится. Ступай на Чусовую. Осиливать реку один ступай. Меня здесь оставь. Ступай смело, как раньше со мной ходил. Смелость свою береги. Баб к ней не допускай. Ежели царя Ивана смелостью своей разгневаешь, и тогда не бойся: и от него откупимся. Ступай куда хочешь. Только меня в этой избе совсем не забывай! Сегодня ночью приходи. Про все расскажу. Все места укажу, где богатства схоронены. Гришку в Кергедане прижми. Вели ему все золото, от беглых отобранное, отдать, потому он многое от меня утаивает. Пора подошла. Память у меня слабнет. Забывать начинаю, где золото зарыто. Нонче поверил, что ты не против меня, что ты один моему богатству спаситель.
– Сохраню его, батюшка, потому что на нем слезы моей покойной матушки!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Живописный холм Орлиного урочища поднимался над простором камского берега наискось против устья реки Яйвы.
Высоко на холме, под защитой двойных стен и глубоких рвов возник среди кедров и лиственниц главный строгановский оплот в крае – городок-крепость К е р г е д а н, окруженный соляными промыслами.
Неведомо, почему пожелал Аника Строганов назвать городок этим вогульским, непонятным словом. Жители и работный люд соляных варниц величали его по-своему: О р е л – городок, верно, в честь орла, убитого стрелой самого хозяина. Уцелела и та сосна, на которую когда-то опустился с добычей пернатый хищник, тотчас настигнутый метким выстрелом. Возле этой сосны, за палисадом, построены новые хоромы для хозяев города.
Кергедан с самого основания своего считался вотчиной сына Григория, правившего и городом, и промыслами по своей воле. Однако в семье, и в городе, и среди работного люда было известно, что живет Кергедан не столько по воле Григория, сколько супруги его, Катерины Алексеевны.
Начатая ранней весной перестройка городка и его укреплений подходила к концу. Неделю назад Катерина и Григорий заняли новые хоромы, убрав их с царским великолепием. Смежные хоромы, предназначенные для Семена Строганова, обставлены были не хуже.
2
Ранним августовским утром Каму укрывали густые туманы. Они переползли с реки к подножию холма и заволокли крепостные стены до самых башенных шатров.
На том берегу Камы, близ устья Яйвы, печально и звонко курлыкали лебеди.
Катерина Алексеевна Строганова проснулась на восходе. Одетая расторопными сенными девушками, хозяйка нынче успела уже обойти все работы на стройках городка и вернулась на крыльцо, чтобы отсюда прислушаться к лебединой перекличке. Тут застали ее первые солнечные лучи, они разогнали туман и озолотили малиновый сарафан хозяйки. Катерина Алексеевна остановилась у расписной колонны крыльца и держала на руках персидскую кошку.
Катерина – высокая, темноглазая, моложавая, по-девичьи заплетает светлые волосы в две косы и спереди спускает их с плеча до пояса. В Кергедане она полная хозяйка. Править она умеет. Когда надо – улыбнется, когда надо – нахмурится и своего всегда добьется.
Отец ее, муромский купец, привез семнадцатилетнюю Катю в камский край. Сам Аника Камский выбрал ее за красоту в жены Григорию. Замуж пошла насильно, до венца не видавши будущего мужа в лицо. На третьем году немилого замужества родила сына Никиту и стала думать, как сделать его счастливым. Эта дума заполнила ее собственную жизнь, и мысль о том, чтобы направить судьбу сына, исподволь заставила Катерину все решительнее направлять и судьбу собственную...
Катерина видела с крыльца, как туман облачками поднялся в поголубевшее небо, как просыхала роса на склонах холма, как заиграли под солнцем речные стремнины. Уже ясно обозначились вдали очертания лесов по берегам Яйвы, а на противоположном низком берегу Камы коростели, чибисы и кулики восславили солнце.
Катерина, не спуская с рук кошки, наблюдала за утренней сутолокой Кергедана.
Из ворот торгового посада пастухи выгоняли мычащее и блеющее стадо на луга, прямо чуть не под стены крепости. С береговых причалов, где шла погрузка соли на плоты и баркасы, доносило окрики грузчиков. И во все эти привычные для Катерины звуки мирной, будничной жизни примешивался звонкий стук топоров, не умолкавший с самой весны от зари до зари.
Хозяйка Кергедана уже и погоду оценила – тучки на западе сулили дождь к обеду... Как будто и ветерок поднимается, рябит воду, гонит на гальку и ракушечник мелкую волну... Вот и колокол в храме ударил – заутреня отошла...
И вдруг у хозяйки разжались руки. Кошка соскользнула на ступеньку крыльца, а Катерина приложила к глазам ладони, заслоняясь от солнечного луча...
Среди камской шири, еле различимый, летел к городку Кергедану белый струг с надутым парусом. Холодок пробежал по плечам Катерины, когда узнала, чей это струг. Постояв в раздумье, она пошла в опочивальню к мужу.
Здесь, в опочивальне, как и во всех покоях, стоял крепкий запах свежего смолистого дерева. Григорий Строганов еще спал. Катерина растворила окно.
– Гриша, пробудись! К нам Семен жалует! Его струг на реке.
Муж открыл глаза и с мученическим выражением лица приготовился было вставать, но словно бы раздумал и расслабленно откинулся на подушку. Всем своим видом он как бы выражал недоверие услышанной новости.
– Или не понял меня? Братец твой, а мой деверь, сейчас сюда прибудет.
– Да на кой чемор он мне сейчас? Рано еще!
– Давненько не навещал. Видно, соскучился. Может, отец велел поглядеть на наше житье здешнее?
– А мне встреча с братцем не к спеху. Недоспал я еще, слышишь! Небось подождет.
– Какой храбрый стал! Опять вечор хмельного перебрал? Еле приполз, как слыхала?
– Прости, Катеринушка. Беседовали с Аггеем Михеичем и перепили малость. Любишь сама, чай, про московское житье послушать!
– Уж куда как люблю. Других дел у меня нет, только бы, уши развесив, слушать побасенки. Что сидишь, как идол вогульский? Вылезай из перин!
– Неужели заставишь идти Сеньку встречать? Чего это ради?
Катерина подошла к дверям, позвала молодую прислужницу Марьюшку. Та прибежала тотчас.
– Здеся я.
– Помоги хозяину! Огуречного рассолу принеси, лицо ему студеной водой умой... К приходу гостя чтоб хозяин готов был. А на бережок придется мне одной идти встречать.
Григорий проговорил зло:
– Зря потрудишься. Гость незваный, да и не больно желанный. Коли мы ему надобны, сам дорогу найдет.
– Уж молчал бы, лежебока!
– Как велишь, Катеринушка. Только спешить не неволь!
Когда за Катериной закрылась дверь, Григорий вслед жене погрозил кулаком:
– Ведьма тощая! Вот наградил, прости господи, родитель женушкой. На красавице, говорит, оженю. Оженил! А в красавице-то кожа да кости. С нею и в постели никак не угреешься...
Охая и крестясь, Григорий стал одеваться.
Ростом он высок, как все Строгановы, но сильно сутулится и оттого кажется ниже. Лобастая голова на короткой шее. Под глазами – мешки. Седина в рыжеватых волосах. Борода у Григория не густа, но подлиннее, чем у всех Строгановых. Содержит ее Григорий в холе.
Выпив принесенный ковш огуречного рассола, Григорий велел прислужнице, совсем еще юной Марьюшке, растереть и помолотить хозяину спину.
– Так, так! Возле шеи постукай подольше. Кровушка шибче в голову кинется. Да ладошками, ладошками шибче бей по всей спине. Ну, хватит, полотенцем сырым оботри.
Помогая Григорию довершить утренний туалет, Марьюшка нечаянно угодила в хозяйские объятия. Испуганная его грубой лаской, девочка завизжала, вырвалась и убежала.
Григорий самодовольно улыбнулся.
– Ишь испугалась, дурочка. Подрастет малость – бояться перестанет, привыкнет. Из строгановских рук не вырываются!..
Когда Семенов струг причалил к берегу, солнце уже пряталось за тучи, небо сердито хмурилось к ненастью. Встречала гостя Катерина да еще московский горододелец Аггей Рукавишников. Семену Катерина доложила, что брат его занемог и не покидает ложа. Показывала крепость деверю сама хозяйка...
А в сумерки, когда шел дождь, Семен, так и не повидав брата, заглянул в заезжую избу к ее дородной содержательнице Евдокии Жирной, повстречал у нее кое-кого из кергеданских жителей: солевара Михаилу, посадского старосту Осипа Голубева и купеческого сына Петра Пахомова, недавно возвратившегося из первопрестольного града Москвы. Эти люди, душой и телом преданные Семену, сообщили ему все новости, касавшиеся тех кергеданских дел, о которых Катерина предпочла умолчать.
* * *
Перед полуночью ветер разогнал дождевые тучи. Семен уже в ночной полумгле обошел крепость по стене и убедился, что после новой перестройки Кергедан можно считать неприступным. Подумал, что запасов его хватит на целый год сидения в осаде, если враг вздумает брать крепость измором. Стал размышлять о брате. Как доложили верные люди, никакой недуг не укладывал его в постель, значит, просто неприязнь между братьями углубилась, заставила Григория искать предлог, чтобы отказать брату в простом гостеприимстве.
Семен пожалел, что легко согласился на просьбу Катерины перебраться со струга в свои новые хоромы, заботливо изукрашенные под надзором кергеданской хозяйки и убранные с самой непривычной для Семена роскошью. Будто Катерина готовила его палаты и хоромы для собственного жилья! Богатство и просторность хором буквально ошеломили Семена. Он должен был признаться самому себе, что таких палат, такой утвари не видел в самых богатых купеческих и даже в боярских домах. Налюбовавшись ночными просторами Камы с высоты могучих крепостных стен Кергедана, Семен Строганов с удивлением оглядывал теперь одну палату за другой.
Так дошел до собственной опочивальни, где к запаху сосновой смолы примешивался и еле заметный дух каких-то благовоний, персидских или турецких. В свете лампад огляделся в горнице, запер дверь на засов, присел на лавку, вспомнил, что говорила ему Катерина, когда ходили с ней по крепости. Вспомнилось и новое и давнишнее, снова про ту же Катерину... Много лет прошло, а кажется, будто случилось вчера.
На своем свадебном пиру Григорий напился до бесчувствия, и его снесли в опочивальню замертво. Оскорбленная Катерина в слезах вышла из опочивальни на лунный свет да на тропе в саду и столкнулась лицом к лицу с Семеном. Тот, тоже во хмелю, шутливо обнял молодую... Она и припала к нему горячей головой. Никто, кроме них, не знал об этом, лишь они двое знали и помнили... С тех пор случались у них редкие тайные встречи. Семен не искал их, но избегать не мог...
Он уже собрался лечь в постель, прислушиваясь, как сторожевые на башне-часозвоне отбивают полночь. Неожиданно, совсем рядом, в его опочивальне послышался шорох. В стене покоя появилась светлая щель. В тот же миг стена будто треснула и начала раздвигаться, а в щели возникла Катерина со свечой в руке. Она вошла в опочивальню, и щель в стене снова закрылась. Семен пристально смотрел на Катерину, стоявшую перед ним. Услышал слова:
– Пошто так сердито глядишь? Думаешь, померещилось?
– Откуда взялась здесь?
– Неужто не обрадовался, что потайной ход к тебе наладила? С огнем пришла. Боялась, что девки забыли лампады затеплить.
– Уйди, Катерина.
– Пошто гонишь?
– Уйди, прошу.
Будто полной хозяйкой чувствовала себя здесь Катерина. Пошла к столу, поставила свечу, обернулась к Семену – с распущенными волосами, в ночной рубахе.
– Чего глядишь? Обнял бы! Или Анна Орешникова запрет на тебя наложила?
Она засмеялась лукаво, опустилась на лавку и припала к плечу Семена.
– Ждала тебя. Знала, что скоро приедешь. А сейчас пришла обещание с тебя взять.
– Какое?
– Что на Орешниковой не женишься. Дашь такое обещание?
– Зачем оно тебе?
– Для покоя. Обмираю при мысли, что чердынскую боярыню женой наречешь.
– Никому не даю обещаний.
Произнося эти слова, тут же вспомнил свое обещание Анне взять ее по осени на Косьву.
– Как знаешь, Семен. Но помни: покуда она возле тебя полюбовницей ходит, я молчу и терплю, потому сама для тебя такая же полюбовница. Но если вздумаешь с ней под венец, я сама венец этот сниму вместе с ее головой.
Катерина отошла, заслонила от Семена свечу. Он видел очертания ее стана.
– Когда совсем в Кергедан переберешься?
– Не надумал еще.
– Пошто так?
– Не по душе мне такие хоромы.
– Стало быть, зря их для тебя изукрасила? На Косьве зимовать будешь?
– Все знаешь?
– Кое-что знаю от своих людей. Ты ведь тоже про мою жизнь с Григорием осведомлялся. Седни у Евдокии Жирной не попусту побывал?
– Разговор тот ни тебя, ни Григория не касается.
– Да я и не любопытствую, тем более что верных тебе людей и подкупом соблазнять не хочу. Зря только завел их здесь! Про меня да про брата твоего меня самое лучшее спрашивай. Я тоже тебе верная. Может, вернее всех, потому девичью честь тебе отдала. Знаю, что правду от меня таишь, но сердцем чую, что не попусту нынче сюда приехал.
– Мысли свои, Катерина, открываю тем, кому разумом доверяю.
– Никому, стало быть, не открываешь? Окромя себя, никому же не веришь? Мне бы поверил – может, и помогу тебе.
– Коли есть охота, помоги, Катерина.
– Чем же помочь?
– Подайся зимой в Новгород и Псков.
– Догадываюсь, зачем посылаешь. Людей нетяглых и неписаных маловато стало. Надеешься бояр с хлопами в камский край зазывать. Уговаривать их я должна? Так, что ли?
– Догадливая.
Катерина показала на запертую дверь опочивальни и засмеялась.
– На засов заперся, а я сквозь стену прошла. Видишь, как я в тайны твои проникаю. Как в сказке!
– Подашься в Новгород?
– Поеду, если скажешь, зачем тебе люди понадобились.
– Народу мне надобно много.
– Все еще боишься правду высказать? Так сама тебе скажу. Чусовую обратать хочешь? Об одном с тобой думаем. Жаль, что не с тобой венцом покрылась, а то бы далеконько вместе ушли. Поеду в Новгород, только плату с тебя высокую спрошу.
– Боишься, что у меня золота не хватит?
– Золота мне не надо. Свое водится в избытке. Мне другое от тебя надобно.
– Проси.
– Ежели овдовею – женой назовешь?
– Вольностью своей не расплачиваюсь. Не денежка!
– Что же, как знаешь. По-строгановски жить научилась. От всякого шажка прибыли жду, задаром пальцем не шевельну. Муторно мне здесь. Застудила себя возле Гришки. Никиту от него родила, а дитя, кажись, тоже с отцовской холодной душой.
– Пьет, что ли, Григорий?
– Да пусть его! Во хмелю хоть наказания божия меньше боится. Недавно каялся мне, что убить тебя замышлял за то, что отговариваешь богатство делить. Дурак! Кому каялся? Кабы знал, что душа во мне только для тебя и жива! Никто тебя, Семен, так любить не будет. Напраслину сейчас сболтнула, когда в жены напрашивалась за помощь в Новгороде. Даром все сделаю! Я тебе самый верный друг. Когда настанет для тебя пора полюбить женщину по-настоящему, всей душой, вот только тогда поймешь, что не для ласки одной нас господь создал! Поймешь, какая сила в сердце женском таится. Она и на светлый подвиг поведет, а то и на любое темное дело...
Отошла Катерина от стола, стала в темном углу горницы. Из темноты звучали ее слова:
– Все одно без настоящей любви не проживешь. Проснется она в тебе, сама собою проснется, будто созреет сердце для нее. И вот в ту пору, когда созреет в тебе любовь, ты и вспомяни обо мне. Вспомяни, что не задумалась прижаться к тебе девушкой, не побоялась пьяного мужа. Вот и отдашь ты в ту пору настоящую свою любовь мне. Слышишь?.. А про Новгород завтра на досуге потолкуем. Все сделаю, о чем ни попросишь. Сейчас ложись. Понимаю, где сейчас твои помыслы, но в Чердынь я для тебя потайного хода не наладила! Уж не обессудь.
Семен подошел к темному углу, взял Катерину на руки.
– Погоди! Поднеси к столу!
Семен покорно поднес Катерину к столу, и она, смеясь, задула свечу.
* * *
Катерина, вернувшись, не застала мужа в опочивальне. Она остановилась у открытого окна, обдала разгоряченное лицо сырой ночной прохладой. В эту минуту она снова верила, что после всех испытаний, что послал и еще пошлет ей бог, будет она в конце концов навсегда рядом с тем, кому с первого погляда отдала свою любовь.
Ей стало холодно от ночного ветра. Закрыла окно, обернулась и от неожиданности замерла: муж, босой и в исподнем, стоял рядом.
– Куда это ты, Катеринушка, в такой неурочный час ходила?
– В сад выходила, голову от духоты разломило. Недужится мне.
– А может, дорожкой ошиблась? Уж не к Семену ли бегала жалиться на меня?
– Ты в разуме или опять лишнего хлебнул? Гляди на меня! В чем я? Как лежала в постели, так и стою перед тобой. Думаешь, могу к Семену в ночной рубахе пойти?
– Катеринушка! Не бей! По глазам не попади, матушка! Прости неладное слово.
– Так ведь и знала, опять перепил, а ведь я с тобой хотела не о пустом поговорить. Слушать-то хоть можешь, горе ты мое?
– Говори, Катеринушка, о чем хочешь.
– Ты, Григорий, все о пустом печешься, разленился вконец, вот братец твой Семен тем временем задумал...
– Чего задумал?
– На Чусовой хозяином встать.
– Неужели? Чего же нам делать? Надумай, Катеринушка.
– Давно надобно тебе Семена честь честью приветить, злобу свою на него поглубже спрятать, доверие его искать.
– Дружком ему верным прикинуться? Так, что ли? Этого хочешь?
– Хотеть-то хочу, да разве сумеешь? Ну, сам скажи: сумеешь ли?
– Сумею, Катеринушка. Лестью его обойду, на нее всякий человек ловится. Правда твоя: давай-ка поможем ему на Чусовой встать, а грамотку на новые земли опять себе от государя попросим. Он к Строгановым не без милости.
– Но, смотри, языком не брякай, чтобы про Семенову думу весть до Якова не дошла, не то он сам себе грамоту выпросит.
– Превеликая ты у меня разумница, Катеринушка. Как же ты дознаться об этаком успела?
– Через верных людей дозналась. Не дешево стало!
– А не пора ли, женушка, после Чусовой через таких же людей Семену руки окоротить?
– Там видно будет. Сперва глядеть станем, как он этими руками Чусовую приголубит.
Подойдя к постели, Катерина скинула на ковер подушку и одеяло.
– На полу спи. Осердил ты меня.
– Смилуйся, Катеринушка!
Катерина легла.
– Катеринушка, помилуй за обмолвку. Не привычно мне на твердости спать. Хоть с краюшка дозволь!
– Ладно.
Получив милостивое соизволение, супруг пристроился на самом краю просторного ложа.
3
В бывшей правежной избе заступил в дневной наряд вятский парень Мокей Мохнаткнн. С прошлого года Григорий Строганов завел для охоты ловчих птиц, соколов, приспособил под сокольню правежную избу, а вершить правеж велел с той поры у крыльца воеводской избы: там, возле самого крыльца, врыли в землю четыре столба, вязать провинных. Но по привычке народ по-прежнему называл новую сокольню правежной избой, а может, и догадывались горожане, что подручные Григория Строганова по-прежнему творят в избе тайный хозяйский суд и расправу.
Изба просторна. Возле печи – насесты из жердей. На них сидят соколы, а пол под насестами в пятнах подсохшего птичьего помета.
Первым делом Мокей налил птицам свежей воды из кадки возле двери. Под ногами Мокея шуршала шелуха подсолнухов – насорил сменившийся сокольничий. Вновь заступивший помянул товарища недобрым словом, принялся подметать пол. За работой затянул любимую песню:
Ах, да во Каме во реке водица силушкой могучая,
Ах, да во Каме во реке воля молодца моя потоплена...
Окончив работу и песню, Мокей оглядел избу, бросил метлу под лавку, покачал головой, сказал вслух:
– Нешто тут вычистишь? Все одно под птицей срамота. Опосля лопатой поскоблить, что ли?
Дневальный хмуро осмотрел соколов на жерди, сердито сплюнул.
– Зверье в птичьем обличии! Одна у них забота: птах небесных на смертушку бить, кровь пить да на пол гадить.
Он посидел на лавке. Тут же Мокея стало клонить в сон. Но он знал, что сам хозяин может прийти с часу на час. Поэтому, ободряя себя и отгоняя дремоту, Мокей начал вслух разговаривать сам с собой:
– Поспал, кажись, вдосталь, а позевота напала, не отвязывается! Пойти, что ли, покамест боярина в голбце проведать?
Парень, понатужившись, открыл крышку голбца посреди избы. Из-под пола на него пахнуло сыростью и плесенью.
– Жив, что ли, боярин?
Услышал тихий ответ:
– Водицы дай.
– Про питье до поры позабудь.
– Напой, сделай милость.
– Разумей, голова, что во мне жалость есть. Нешто не вижу, каково тебе без воды тяжело, но приказ хозяйский нарушить не смею. Напою, а хозяин дознается и плетью измолотит. Что же я сам себе враг, выходит?
Мокей закрыл крышку голбца и покачал сокрушенно головой:
– Горазд хозяин над людьми изгаляться. Может, ослушаться да и впрямь напоить старика? На Руси, поди, этот боярин тоже силу имел большую. Может, ратными делами возвеличился, потом оплошал. Не поглянулся царю – и конец боярскому житью. Вот и пришлось выбирать: то ли под пытку лечь, то ли бежать куда глаза выглядят. Он и побег, да, вишь, в наши лапы угодил. Чего это хозяин на него так озлобился, в голбец упрятал?
Внезапно тяжелая дверь резко отворилась, и в избу ступил, пропуская вперед самого Григория Строганова, молодой служивый человек Алексей Костромин: его задержали весной на глухой дороге в лесу, допрашивали, вызнали, что он из боярских детей, то есть мелких служивых дворян, а утек от царской службы, боясь наказания за какую-то провинность в Москве.
Доставленный в Кергедан как пленник, Алексей Костромин ухитрился быстро войти в доверие к хозяину и стать ему помощником в любых делах. Обучался у него Григорий и беспокойному искусству соколиной охоты.
Костромин держал в руках голубя со связанными лапками.
Мокей снял шапку и низко поклонился.
– Как тут мои орлики-соколики здравствуют? – спросил Григорий.
– А чего им сдеется? Все на виду.
– Хороши! Ты, Мокей, в ловчих птицах толку не разумеешь. Тебе что низовой, что верховой сокол – все одно. Смотри, за нерадение выгоню, на соли сгоню...
Костромин подошел к насесту, снял кожаный колпачок с головы одного сокола. Птица, тараща глаза, защелкала клювом, норовила клюнуть руку Костромина.
– Гляди, Мокей, как изголодались!
– Эко диво! Вторые сутки не кормлены. Сами велели. Ты да хозяин.
– Вот и хорошо. Изволь, Григорий Иоаникиевич, теперь голубку взять и пожалуй на волю во двор.
Сокольничий передал связанную голубку хозяину. Григорий с голубкой и Костромин с лучшим охотничьим соколом Ярым в руке вышли во двор. Он был просторен и пуст, зарос травой. Одну его сторону отгораживала от улицы длинная стена сокольей избы, остальные заслонял от постороннего глаза высокий тесовый забор.
– Сейчас вот раззадорим охотничков наших, пусть полюбуются, как Ярый кровью свежей напьется! Тогда и братца твоего, как желал, на вечерней зорьке ловом сокольим распотешим... Только вынесет Мокей соколов, изволь сам голубку пустить, Григорий Иоаникиевич!
Мокей вынес из избы две пары соколов, намеченных для вечернего лова. С них сняли колпаки, чтобы соколы, оставаясь на привязи, могли следить за происходящим. Птицы волновались, впиваясь когтями в толстую кожу рукавиц ловчего.
– Пускай, хозяин-батюшка!
Голубка, чуя гибель, робко захлопала белыми крыльями, будто и не радуясь нежданной свободе. Костромин позволил жертве отлететь почти до забора, спустил Ярого.
– Гляди, хозяин, как подтекает! Вот это взогнал!
Сокол, не делая ни зигзагов, ни разворотов, нырнул прямо под летящую голубку; птица в ужасе взмыла вверх, а Ярый, устремившись стрелой в вышину, намного опередил беглянку и с неотвратимой точностью нанес сверху смертельный удар. Он поразил жертву не клювом, а задним «отлетным» когтем: удар пришелся голубке под левое крыло и распорол птице бок, словно острым ножом. Трепеща крыльями, белая голубка упала во дворе, сокол налетел, перервал горло и погрузил клюв в горячую, струйкой бьющую кровь. Четыре сокола, сидевшие на Мокеевых рукавицах, шипели, завистливо клекотали и порывались взлететь. Сокол Ярый потерзал мертвую птицу, потом бросил ее и по зову Костромина взлетел к нему на руку. Вместе с Мокеем Григорий и сокольничий воротились в избу.
– Вот эдак и надо перед охотой в соколах голодный разум завистью мутить. На заре погляди, Григорий Иоаникиевич, как они будут над Камой птиц и гусей насмерть бить.
Костромин снова надел на голову Ярого колпачок. Взволнованные ловчие птицы никак не успокаивались, били крыльями, когтили насесты.
– Назлил ты моих соколов, Алеша! Видать, в соколиной охоте ты горазд. Часом, не из сокольничих ли великокняжеских в наши земли подался?
– Куда мне до великокняжеской охоты. У батюшки своя ловля была, вот и понаторел сызмалу... Не велишь ли теперь боярина полоненного опять поспрошать? Нельзя ему долгий отдых давать.
– А ведь от погляда на соколов чуть было не забыл про это. Только стоит ли нынче пытать его? Еще крик поднимет. Как бы братец Семен не проведал, что опять боярина знатного изловили.
– Закричит – утихомирю.
– Что же, тогда потолкуем с упрямцем. Мокей, отпирай голбец.
Парень сердито крикнул вниз:
– Выходи, боярин, на беседу с хозяином!
Щурясь от яркого света, снизу показалась седая голова. Пленник по стремянке выбрался из подполья. Ростом высок, телосложение могучее, лицо крупное, породистое, а одежка – хуже нищенской: холщовые порты и грязная, окровавленная рубаха. Запеклась кровь и на бороде. Лицо, тело, даже босые ноги в ссадинах и синяках. Руки связаны за спиной.
Григорий укоризненно покачал головой:
– Ну, хорош! До чего себя этой молчанкой довел! И долго мне еще упрашивать тебя придется?
– Напой скорей.
– Ишь чего захотел? Или солененького покушал?
– Со вчерашнего дня не пивши.
– Сам себя и вини. Мокей, ступай на волю! В избу никого не пускать... Так, стало быть, попить охота? А вот не дам. Объявись сперва, кто таков. Брось упрямиться! Скажешь – велю распутать и сам меду поднесу. Поешь тогда, чего душа пожелает.
– Воды дай.
– Не дам питья, покуда упрямства не пересилишь. Не любите вы, бояре, нас, купцов, что повыше вас перед государем поднялись. Назови свое имя, а то человек мой снова пытать тебя станет. Молчишь? Ну-ка, Леша, плеточкой его!
– Тебе, Григорий Строганов, не откроюсь, как сказал! Забивай скорей, и делу конец.
– Зачем смерти себе просишь? За мертвого никто полушки не даст. Ты мне живой надобен. Куда зарыл свое золото?
Костромин перебил Григория:
– Дозволь, хозяин, совет подать?
– Говори.
– Плетью его не проймешь. Дозволь твоему верному слуге сему боярину оплеух надавать. С такого унижения небось заговорит, если впрямь боярского звания.
– Тебе видней. Сам честного роду, стало быть, начинай.
– Не смей ко мне притронуться, злодей! – глухим шепотом сказал пленник.
Григорий взял плеть из рук Костромина.
– Сказал, начинай! Кулаком его по ланитам!
– Не тронь, добром прошу!
– Откройся! Пальцем никто не тронет! Все молчишь? Бей по лицу, Алексей!
Костромин ударил с размаху. Пленник пошатнулся, но выстоял. Он в упор глядел на Григория, и тот не выдержал, отвел глаза.
– Поддай еще, Алексей!
Но едва Костромин снова замахнулся, как дверь избы распахнулась. На пороге стоял Семен Строганов.
– Не сметь!
Вошедший взглядом приказал оторопевшему Мокею войти в избу и запереть дверь изнутри. В сумраке избы он медленно обвел всех пристальным, недобрым взглядом.
– Ладный у тебя помощник, братец! Человеку со связанными руками седину старческую кровью марать? Землю строгановскую поганить?
Григорий растерянно поглядывал на брата.
– Не гневайся, Сеня, на моего слугу. Я сам так велел. Плеть его не берет. Не могу, братец, от сего царского ворога признание добыть.
– Чем перед тобой сей человек провинился?
– В бегах он. Царю ворог.
– Спрашиваю, перед тобой чем провинился?
– Не волен спрашивать, братец. Я здесь хозяин. Мое дело допрос чинить. Царь на то волю дал.
– Боярин сей когда подвластным тебе стал?
– Когда на моей земле объявился и пойман был.
– Пойман, так на суд в Москву и отправь.
– За беглых ворогов царских заступаешься, братец?
– Пошто же вон того молодчика не хлещешь, Григорий? Он тоже, как слышно, от царской службы сбежал!
– Потому не хлещу, что сразу повинился. Согласие свое дал нам слугою быть.
Не слушая ответ, Семен подошел к старику. Они посмотрели друг другу в глаза.
– Семеном Аникиевичем Строгановым прозываюсь. Прощения прошу за брата, что уважение к сединам потерял. Кто будешь?
– Родом из Новгорода. Макарий Голованов.
– Как? Боярин Голованов? Царю друг? Астраханского хана победитель?
Старик опустил взгляд.
– Такая пора пришла, что царь не другом, а ворогом почитать стал. Доносу ложному поверил, опалу наложил.
Семен велел Мокею развязать боярина. Дал ему свой платок стереть с лица кровь.
– Дозволь спросить тебя, боярин: кто велел по лицу тебя бить?
Голованов ничего не сказал.
– Неужто это ты, Григорий, сам такую забаву надумал?
– Я только плеточкой, плеточкой легонько велел, а вот Алешка приказа ослушался, опозорил боярина.
– Выходит, чужим советом живешь? Боярин Макарий! Сей же час прошу тебя на моих глазах позор с себя смыть! Молод сей змееныш знатного и честного человека избивать. Ежели отняли у тебя мучители силу, сам буду его учить уважению к сединам.
– Семен! Сокольничего моего Алексея в обиду не дам. Он мне служит.
– Плохо служит! Сядь, Григорий, на лавку, а плеть на стол положи.
– Не волен приказы мне давать!
– Моей воли на все дела хватит, а лишком с тобою еще поделюсь. Сам ли желаешь постоять за себя, боярин?
– Сам желаю. Только воды напьюсь.
Голованов с жадностью напился из ковша, вышел на середину избы и смерил Костромина долгим взглядом. Тот было отступил под защиту Григория. Хозяин слегка заслонил собой слугу.
– Не дозволю над ним расправу чинить!
– Сядь, Григорий.
– Самоуправствуешь, братец. Катерину кликну. Мокей, беги за хозяйкой! Моя крепость! Не позволю никакому гостю моей воле хозяйской перечить!
Не обращая внимания на слова брата, Семен указал Мокею на Костромина.
– Не за хозяйкой беги, а вон того молодца посередь избы выволоки.
Но тут сам Костромин внезапно кинулся на Голованова, рассчитывая одним ударом свалить с ног ослабевшего пленника. Но он недооценил ратной выучки старого воина. Тот отразил неожиданное нападение встречным ударом, и Костромин отлетел под ноги Григорию.
Боярин сказал повелительно:
– Ну-ка, выходи наново, молокосос бессовестный!
И лишь только растерявшийся Костромин поднялся, кулаки бывшего воеводы снова отправили его на пол, на этот раз под соколиный насест. Весь в перьях и птичьем помете Костромин еле выбрался из-под насеста. Боярин отвернулся.
– За себя уплатил сполна, Семен Аникиевич, а за прочее все – бог ему судья, – спокойно сказал Голованов.
– Брось и думать об этой мрази. О другом я помню: как ты батюшке нашему помог до царя дойти. В этом немалая заслуга твоя перед моим родом. Ты помог батюшке на Каме встать. Сейчас одежу достойную тебе принесут, со мной в хоромы пойдешь.
– Не смей у меня самовольствовать! Своему пленнику я сам и судья праведный! – выкрикнул Григорий.
– Был до сего часа боярин Макарий твоим пленником, а теперь дорогим моим гостем стал.
– Катерине скажу!
– Быстрее говори! Вон она сама к нам жалует!
Катерина уже стучалась в запертую дверь. Она долго искала Семена и проведала, что он направился следом за Григорием к новой сокольне.
– Катеринушка! – Григорий чуть не с мольбой протянул к ней руки.
– Никак, вовремя поспела? – с лукавством спросила Катерина, с одного взгляда разгадав смысл происшествия в избе.
– Рассуди братский спор. У муженька разумения своего нынче недостало, – хмуро сказал Семен.
– Боярина, что наши люди полонили, отнять задумал. Слугу моего, Алешку Костромина, изувечить позволил.
Катерина разглядела кровь и грязь на липе Костромина.
– Ты, Гриша, о молодце не горюй. За битого, говорят, двух небитых дают. Невдомек мне только, кто же это его так изукрасил?
– Да вон тот, пленник мой, боярин Голованов. И его-то братец Семен у нас запросто отнять хочет, будто я у себя не хозяин. Рассуди нас с братом, Катеринушка!
– О чем просишь? – строго спросила Катерина. – Кто я тебе? Жена твоя только. Судить братьев Строгановых – не моего ума дело.
Семен перебил ее:
– Не притворяйся, Катерина Алексеевна. Бог тебя не бабьим разумом наградил. Коли просит муж – уважь! Рассуди спор. Как скажешь, так и будет.
Катерина недолго искала решение.
– Совсем как ребятишки малые! Будто не можете кон бабок разделить. Извольте, стану вас судить. Только, чур, как решу, так и будет. Какой тут у тебя, Мокей, сокол самый лучший? Который из них Ярый?
– Вон энтот, – хмуро указал Мокей.
– Возьми его на руку! А вы, братья Строгановы, извольте рукавицы надеть и руку к соколу протянуть. К кому на рукавицу сокол перейдет – тому и пленником владеть.
Повинуясь капризу женщины, оба брата надели ловчие рукавицы и протянули руки к Мокею с соколом. Птица в недоумении потопталась на Мокеевой руке, затем осторожно сошла к Семену. Катерина звонко рассмеялась.
– Тебе, как погляжу, весело свое-то упускать, Катеринушка? – жалобно спросил Григорий.
– Дивно больно! Соколиным разумом и бабьей хитростью спор между братьями решила!
– Соколиным разумом! Вот пропала нынче обещанная брату соколиная охота. Куда Алешке с такой рожей на людях показаться? Чать, не мужик!
– Не печалься. Сама не хуже Алешки соколов в небо отпущу. Пойдемте отсюда на волю, а то дух здесь тяжелый.
4
По крутой тропинке спускались с вершины холма Семен и Катерина. Когда вошли в вечернюю тень соснового бора, заросшего папоротником, Катерина потянула спутника за руку, остановилась.
– Дай передохну! Куда торопиться-то? Вечер теплый... Минувшую ночь на струге ночевал?
Семен кивнул.
– Побоялся, что опять сквозь стену приду?
– Одному пора побыть. Есть о чем подумать.
– На Гришку ревность нападать стала. Не спит по ночам, тревожится. Караулит, чтобы из опочивальни не отлучалась.
– Ему – ревность, тебе – страх божий. А мне?
– Тебе, как всегда, опять дорога. Значит, скоро опять на меня тоска навалится. Тесно мне в Кергедане, Семен.
– Нынче некогда будет тосковать: в Новгород подашься.
– И то. Когда в Конкор поплывешь?
– Попутного ветра жду.
– Погляди, какой закат кровяной. Примета – к большому ветру. Хоть бы, на мое счастье, он тебе не попутным оказался!
– Может, так и будет. Ты счастливая... По весне Никиту своего сюда из Москвы позови.
– Надобен тебе?
– Пора к строгановскому ладу привыкать. В Москве обленится и избалуется.
– Зря печалишься. Забота-то моя.
– Как сказал, так и сделай.
– И мне, стало быть, пришла пора наказы твои безраздумно выполнять? Ну а ежели не послушаюсь? Что сотворишь со мной?
– Про это не думал. Пока еще никто моего наказа не ослушивался.
– Эх, Семен, Семен! За то и полюбила тебя! Знать, так и надобно в свою силу верить. Только страшно мне за тебя. А вдруг на такого же напорешься и негаданно раннюю смерть примешь?
– Может и так случиться. Только и тогда лягу ближе к тому месту, к которому путь держал. Да, вспомнил, о чем с утра спросить тебя хочу, Катерина!
– О чем хочешь, спрашивай. Вся твоя.
– Почему Григорий просит Костромина в новый острог на Косьву послать?
– Я велела.
– Не поглянулся тебе?
– Больно часто на меня поглядывать стал. Что волк голодный. Не люблю таких. Забирай его на Косьву.
– Подумаю. Молодец отчаянный, но подлости в нем – через край. Узнал ли Григорий, пошто он из Москвы убежал?
– Из-за бабы, сказывает. С мужем ее столкнулся, тот чуть не государю самому пожаловался, и вышла Алешке опала.
– Ты, стало быть, боишься, чтобы он из-за тебя с Гришкой не столкнулся?
– Ты все шутки со мной шутишь! Что ж, шути, пока весело тебе. Дальше один ступай-ка. В рощице побуду, о заветном помечтаю.
– В добрый час. Покойной тебе ночи.
Семен отошел, Катерина шепотом позвала его назад. Он воротился.
– Или мечтать раздумала?
– Уедешь – домечтаю. А пока не уехал – не ночуй на струге, слышишь?
– Надеешься вырваться, коли заснет?
– Ежели и не заснет, все равно вырвусь!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Погас закатный свет над городком, и стерлись с земли тени. На три стороны от Кергедана растянулись строгановские варницы с рассольными колодцами. Идет от варниц день и ночь едкий смолистый дым. В слободках им даже срубы изб пропахли. Временами ветер приносит его дух и за стены городка.
Еще в Чердыни, на плотах, Иванко Строев вдоволь наслушался про тягостный и изнурительный труд солеваров. Заводятся у людей от соленой мокрети язвы на теле, волосы выпадают, глаза слезятся, опухают и покрываются бельмами, а кожа на руках и ногах трескается, кровоточит из-под корост.
Конечно, в любом труде есть свои тягости, но, по сказам плотоводов, работу возле соли бог дал людям в наказание за грехи.
По слову Семена Строганова Иванко наведался в Кергедане к Аггею Рукавишникову. Зодчий пытал его знания в плотницком ремесле, остался доволен опросом и приказал, не мешкая, собирать артель плотников. Людей дозволил брать по выбору, а если не хватит сноровистых рук, не запретил искать их и в других хозяйских острогах.
Довелось Иванку поговорить с хозяйкой Кергедана Катериной Алексеевной. Наказала поначалу изладить для нее легкую ладью, чтобы бегала по Каме под парусом.
В городке Иванко подивился доброте крепостной стены и хозяйских хором, но тянуло его поглядеть своими глазами, как люди соль варят, без которой самый вкусный кусок в горло не полезет. Смолистый дым варниц еще пуще разжигал любопытство, но артельному старосте уже не стало хватать дня, чтобы управляться с делом. Наконец свободный вечер нашелся. Иванко вышел из городка.
За слободкой солеваров, где стал острее ощутим запах дыма, несколько небольших озер или прудков отражали в своей омертвелой глади деревья елового леса, вечернее небо и почерневшие срубы изб, окутанные дымным чадом. Избы стояли вразброд. Топили их по-черному, без труб; дым выходил из дыры в кровле, а то и просто во все щели.
Иванко заглянул в одну избу и сразу закашлялся от дыма. В земляном полу вырыта яма для очага. Над слабым огнем подвешен на железной дуге деревянный ящик. Идет от него слабый пар. Пожилой человек помешивал деревянной лопатой булькающую в ящике жижу.
– Дозволь поглядеть, добрый человек.
– Любопытствуешь? Гляди. Только скоро глаза начнет дымом грызть. Откуда к нам явился? Меня Анисимом зовут.
– А меня Иваном. Костромич, плотник я. Аргун, по-нашему.
– Вот как! А я в ночном седни у восьми варниц. Внучка мне пособляет рассол в чрёны заливать, а иной раз и салгами их еще зовут. Не понял, поди? Вот он, чрён.
Мужик стукнул по деревянному ящику. Его доски были покрыты выпаренной солью, как инеем, искрившейся блестками от вспышек огня.
– Стало быть, впервые глядишь, как соль ростим?
– Ране не доводилось.
– Запоминай.
– Подолгу рассол парите?
– Раз на раз не приходится. Смотря какой по насыти попадет. Иной раз без передыху по двое суток варим да мешаем. Лешачья работа. Гляди, на руках ногтей начисто нет. Соль съела. Для брюха от нее польза, а телу – одна хворь.
– Неужели и озера соленые?
– Смотря где. Бывают и соленые, а наши – обыкновенные, пресные. Водицей их родники поят. Конечно, бывает, что пускаем рассол в отстойники, наподобие прудов, чтобы солнышко в них помогало соль выпаривать. Но только в отстойниках соль ржавщину набирает, ей цена другая. Для хозяев убыточно. Рассол, парень, качаем из земли по трубам.
– Чать, колодцы глубокие?
– И не говори. А ты не видал, что ли?
– Нет.
– Пойдем, покажу. Коль пришел, надо все повидать.
Мужик подкинул в яму несколько поленьев и повел Иванка по тропке, густо присыпанной солью. По ней от колодцев носили в варницы рассол.
На берегах ближнего озера, как у всякой воды, сидели мальчики с удочками. Поодаль, под навесами из еловых жердей, находились срубы трех колодцев. В черную глубь сруба спускались две деревянные трубы, задубелые, как будто вымазанные дегтем.
– Почто две-то?
– А как же? По этой под землю воду накачиваем из озера. Вода в земле соль разводит, а из второй рассол в обрат выкачиваем.
– Ловко!
– На погляд вроде просто. А уж каково эти колодцы ладить – беда! Тут, парень, без смекалки не берись. Смекалка для русского человека – струна его жизни. Русь смекалкой живет. Моему слову верь.
Мужик крикнул удившим ребятам:
– Какую приманку карась нынче берет, бесенята?
– На мух ловим, дядя Анисим! После закату они на мух больно охочи.
– На уху позовете?
– Да мы их станем коптить в варницах.
– Тогда ко мне приходите. Вот, уж все рыбацкие причуды сызмальства познали! Ведь и тут опять смекалка!
– А лари возле колодцев для какой надобности? – спросил Иванко.
– Сперва сюда, в лари, выкачанный из-под земли рассол сливаем, а уж из них бадейками в чрёны носим. Далеконько! Да вот теперь хозяйка Катерина нам облегчение сделала, дай ей бог здоровья. На дальние варницы стали рассол лошадьми возить. Хозяйка у нас с понятием. Для нее работный люд все же не скот.
– Сейчас рассол не качают?
– Нет. С вечера колодцы водой заправляют, а к утру в них рассол до потребного разжижения доходит... Так ты у нас по плотницкому ремеслу пойдешь? Небось стены городить?
– Не угадал. Ладьи да струги мастерить.
– Ишь ты! А с виду будто приказчик показался.
– Это меня Досифей эдак обрядил.
– Досифей? Неужели он в Кергедане?
– Вместе приплыли на хозяйском струге.
– Досифея мне надо беспременно повидать. Он – моя заступа. С виду будто монах, а на деле разве поймешь! Ты, Иван, за него держись, в обиду не даст. А теперь не обессудь, пойду в варницы. Мне завтра соль из чрёнов сгребать... Наведайся когда, на досуге.
2
Бывший царский воевода боярин Макарий Голованов сидел в трапезной Семена Строганова. Сам хозяин ходил по горнице из угла в угол и внимательно слушал рассказ гостя.
– Вот и поверил государь навету, будто у меня с королем свейским тайный сговор. Бежал я из Москвы, думал тоже, как многие, через границу, в землю свейскую уйти, да вспомнил о твоем отце. Дружили мы с ним некогда, уважение имели друг к дружке. Брату твоему не открылся, ибо слыхал, будто он иных из нас, ежели маловато с собой добра, выдает в царские руки. К примеру сказать, отняв богатство муромского боярина Василия Стрельникова, к царю его связанным послал, а там немедля голову боярину сняли.
– Про это не знаю, – ответил Семен.
– Не дружишь с братом?
– Не жалуем друг друга. Отцовское богатство братскую дружбу рушит.
– Рад тебя, Семен Аникиевич, в глаза повидать. В Москве тебя за главную строгановскую силу почитают. Как Аника Федорович поживает?
– Поглядишь в Конкоре.
– Может, и позабыл меня? Времени прошло немало!
– Батюшка добра не забывает.
– Но, коли он, как говоришь, уже на покое, я ему не нужен. Может, Семен Аникиевич, ты сам меня помощником возьмешь? Али опасаешься?
– Уже успел я важное дело для тебя надумать, боярин. Советом мне поможешь. Людей мне надо. Да побольше.
– Людей? Я с собой восемьдесят душ привел. И мужики и бабы на подбор. Покамест в лесах хоронятся, моего зова ждут. Добро кое-какое при них. Чай, из Москвы-то не на недельку я уходил. Знаю, не молод, верно, здесь мне и в могилу лечь.
– Семейство твое где, боярин?
– Остался один, как перст. Все в земле. Только бы братец твой меня царю не выдал. Тот погоню пошлет да и на тебя разгневаться может.
– Об этом не тревожься.
– Костромин не донес бы. Или любой соглядатай тайный.
– Этого молодца на Косьву увезу.
– Меня где укроешь?
– Возле батюшки до поры до времени побудешь.
– Великое на этом спасибо... Люди тебе нужны? Так послушай, что скажу. Дай мне своих верных людей. Разошлю их по Руси, и приведут они тебе дельных мужиков. Приустал народ от Иванова правежа.
– За сие обещание тебе низко кланяюсь.
– С этого дня, Семен Аникиевич, считай меня другом своим и помощником до могилы. Лонись, по осени, в Москве брата твоего Якова видел. Отозвал бы ты его сюда, а то на Москве скоро от хмельного сгорит!
– Знаю. Только сам рассуди, можно ли Строгановым на Москве без глаз и ушей остаться?
– Можно. Царь клевете на Строгановых не поверит.
– Кто знает! Поверил же клевете на тебя?
– Я не Строганов. И притом новгородского рода-племени. Царь Московский нас не жалует.
– Не Строганов, говоришь? Чем хуже? Ты, боярин Макарий, тоже целое царство к Руси пришил.
– Пришить-то пришил, это верно, а вот с кромешниками, с Малютой окаянным, не спелся, в ряд шагать не сумел. Да и Годунову, зятю Малютину, поперек дорожки, видать, стал.
– Чем друг другу помешали?
– Сдается мне, что больно высоко Борис Федорович метит.
– Говоришь как-то непонятно.
– Поживем – увидим. Рановато еще догадки строить, только добра я от нонешних приближенных к царю не жду. С горестью об этом речь веду. Зазорно мне, седому, затравленным волком с родных мест бегать да хорониться от клеветы с ликом, нахлестанным кулаком. Тебе спасибо за выручку, чем смогу, тем и поблагодарю.
Семен пристально посмотрел на Голованова.
– Душно в горнице. Пойдем на волю.
В ночной темноте они постояли на крыльце.
– Какая темень, боярин! – тихо сказал Семен. – Оторопь берет, пока на небо взора не кинешь. Звезды на нем яркие, каленые. Всей Руси они светят. Поглядишь – и на сердце легчает. Верю: никогда, боярин Макарий, ни от какой беды не сгинет Русь!
3
За околицей займища солеваров и кричников в густом пихтаче и сосняке бежит с торопливым говорком речка Студеница. Родится она из лесных ключей и родников. Вода в ней до того холодная, что хлебнешь – сразу зубы заломит.
За версту от ее впадения в Каму налажена на этой речке, среди соснового бора, плотина – запруда. Люди надумали, чтобы сила воды им на пользу шла и попусту не пропадала.
Речка выше плотины вольготно разлилась, превратила овраги в омуты. В бору папоротник, муравьиные кучи. На версты в нем вокруг – природные борти, а возле запруды понавешаны на деревьях колоды ульев. Не сразу углядишь в бору пчельник – приземистую избу, омшаники и медуши.
Хозяйствуют здесь строгановские бортники, престарелые братья Фома и Михайло. Давние жители Камы. Подобру-поздорову убрались от разных бед из-под Ростова Великого. Обжились по камскому укладу и прикипели к бортничеству. Уже при них Аника Строганов выбрал место для Кергедана, а после царской грамоты Фома и Михайло, вместе с Камой, землями и лесами, стали строгановскими.
Свайные столбы запруды покрылись зеленым, ласковым для глаза мхом, будто скатерками из заморского бархата. Возле плотины – две мельницы. Для пригожести около них насажены березы и черемуха, а ветлы выросли сами: наломанными сучьями строители крепили берега, чтобы не размывал их сброс воды. От крепежных сучьев и веток пошла бойкая молодь, и заросли ветлами берега пруда и Студеницы до самого устья, где вливается в Каму ее чистая как слеза вода.
Второй десяток лет трудится Студеница на людей. Кидает воду на осклизлые лопасти водяных мельниц, заставляет ворчливые жернова в поставах дробить хлебные зерна.
На берегах запруды места приглядные. Сходятся сюда по вечерам молодые парни и девушки под сень берез, в кущи черемух водить хороводы.
В устье Студеницы – пригорок с редкими соснами. Охватили его мочажины с голубыми половиками незабудок. Давным-давно было на пригорке мольбище языческой чуди. Над зарослями вереска уцелел каменный идол по прозванию Золотая баба – грубое изваяние женщины с двумя младенцами на руках. Тут же доменка и две кузни со станками для ковки лошадей.
Здесь-то, на берегу, Иванко Строев с плотниками и мастерил свою первую на Каме ладью. Работали с охотой. Иванко людей подобрал дельных, годами намного себя старше. Сноровка и обиход артельного старосты пришлись работникам по душе, дело подходило к концу.
Появление Иванка в Кергедане не прошло незамеченным для девичьих глаз. Частенько приходили девушки смотреть, как плотили и оснащали ладью для хозяйки. Борта уже украшены кружевной резьбой по дереву. На носу прилажен выточенный лебедь.
Предстоящий завтра показ ладьи на плаву волновал Иванка. Придирчиво осматривал свою работу, правил малейший изъян, но мало ли что случается в беге на воде!
В сумерки артель разошлась по домам. Иванко долго беседовал с Досифеем. Его также волновал показ ладьи в деле. Иванко проводил и его, и неизменную Досифееву спутницу – волчицу Находку до мельниц уже в темноте и вернулся на берег, к ладье. Здесь и решил скоротать ночь у костра.
Кинул возле огня рядно на песок. Лежа смотрел на тяжелое черное небо с россыпью звезд. Превозмогая усталость, Иванко думал о родном доме. Как-то в нем? Мать, наверно, все слезы выплакала от разлуки с сыном. Жив ли отец? Опричники бросили его в поруб за чужую провинность. Встал перед глазами облик голубоглазой Грунюшки. Ведь суженой своей считал. Да где там! Отсюда, с Каменного пояса, рукой до Груни не достанешь.
Дремота осилила парня, подал голос поблизости филин. Иванко вспомнил поговорку, будто филин да ворон к добру не кричат, и сел. Заметил, что попритух костер, подбросил валежника, и пламя, набирая силу, вновь отчетливо выхватило из темноты очертанья ладьи. Филин опять загукал, и лишь тогда Иванко разглядел, что ушастый колдун сидит на голове каменного идола. Осмелев, филин слетел на прибрежный песок. Не складывая крыльев, он скачками приблизился к костру и, не мигая, уставился на Иванка желтыми глазищами. Иванко запустил в него головешкой, филин отскочил, захлопал крыльями и исчез.
Иванка пробрала дрожь. Что это, неужто дурное знаменье?
– Вот нечистая сила, напрочь сон отогнал!
Костер разгорелся ярко. Иванко подошел к воде, его тень легла черной полосой на отсветы огня.
С пригорка кто-то спускался. Иванко окликнул невидимого гостя.
– Ктой-то?
– А кому, окроме меня? – ответил из темноты старческий голос.
От кузнечной доменки шел с костылем старший из братьев-пасечников, дед Михайло.
– Углядываю, не спишь? – обратился он к Иванку.
– Прилег было, да филин разбудил. К самому огню, нечистая сила, подлетел.
– Эка невидаль! Не знаешь, поди, что его огонь подманивает, как мотылька. А место тут особенное. Вся лесная нечисть возле Каменной бабы в полночный час балуется. В стары годы, парень, здеся такое деялось, что и подумать нашему брату грех. Чудины тут страшенным богам поклонялись. И все те боги из камня излажены.
Бортник стоял на свету костра босой, в длинной холщовой рубахе без опояски. Борода, как молоко. Такие же волосы, только в бровях еще приметна былая чернь.
– Брюхо потешил?
– Ушицу хлебал.
– Стало быть, пора тебе спать. Нечего прохлаждаться.
– Не спится, дедушка.
– Знамо дело, не спится. А ты осиль неохоту. Завтра у тебя какой день? Народ явится глядеть, каким ты мастером на нашей земле объявился. Надо быть в себе, с ясным взглядом на людях стоять. Сама Катерина – хозяйка придет. Не поглянется ей твоя поделка – и сраму не оберешься. Твоя затея и от нас с Фомой сон гонит. Увидел брат Фома, что не гаснет огонь на берегу, и дослал меня поглядеть, чего ты тут бродишь. Ложись! Твое заделье я сам покараулю.
Пасечник погладил ладью рукой.
– Побежит поутру. Чай, с божьей искрой излажена. Наши плотники тебя одобряют. Ложись, Ванюша, утро вечера мудренее! По звездам вижу, вёдро завтра будет, но с подувом ветерка – самая тебе погода!
Иванко лег и отвернулся от огня. Пасечник пошевелил костылем головешки.
– В молодую пору, Ванюша, и я подле костра любил думу думать. Мы с Фомой не счесть сколь костров здесь спалили. Жили-то в лесах, поначалу всего опасались, а теперича, будто сам леший у нас на услужении. Он, знать, медок больно уважает, вот и не ссорится со стариками.
Бортник еще что-то говорил про свою жизнь на Каме, но Иванко спал.
4
Утром, при низовом ветре, солнце вставало в облаках.
Иванко с плотниками сняли ладью с упоров и перенесли на воду Камы. На веслах перегнали ее к причалу против городских ворот. Там шла обычная работа. Грузили соль, рогожи, лубяной товар. Из воды вытаскивали бревна разобранных плотов. В Кергедане все знали, что утром предстоит освящение и проба новой ладьи, и народ собирался к причалам спозаранок. Ребятишки шумными ватагами носились по берегу, запуская змеев-монахов. Иванко утром принарядился на пчельнике – надел новую кумачовую рубаху, подпоясался синим пояском, волосы до блеска протер маслом из лампадки.
Явился Досифей со своей волчицей, передал мастеру, что хозяева придут на причал после обедни прямо из храма. За разговором с Досифеем Иванко и не заметил, как прошло время. Услышал, как далеко на колокольне вздохнул большой колокол, как подстроились к его певучему ладу мелкие колокола подзвона и потекла над Камой вся голосистая праздничная медь.
Ветер свежел. По Каме перекатывались волны, и гребни их уже вспенивались...
Колокола еще звенели, а народ на берегу стал отвешивать поклоны: от городских ворот шел священник с крестом и кропилом, за ним – диакон с кадилом и чашей святой воды, а следом за ними, в окружении целой толпы девушек, Иванко угадал Катерину Алексеевну. Позади, держась вместе, выступали братья Строгановы, Семен и Григорий, в сопровождении Аггея Рукавишникова, Макария Голованова и целой свиты дворовых людей.
Иванко отвесил низкий поклон Катерине. Все остались у мостков и на гальке берега, она одна ступила на причал и подошла к ладье. Повернулась к мужу и деверю:
– Глядите, как ладно изукрашена. Мне глянется!
Григорий и взглядом не удостоил ладью. Он озабоченно смотрел на реку из-под руки:
– Непогода! Может, на завтра отложим пробу? Не ровен час, опрокинется. Освятим пока, да и домой!
Катерина сказала Иванку:
– Святить потом будем. Начинай пробу, мастер.
– Как велишь, хозяюшка.
– Погоди, Иван, – остановил его Семен Строганов, – неужто один хочешь плыть? Из Строгановых кого-нибудь возьми. Может, ты, Гриша?
Григорий замахал руками:
– Что ты, братец! Еще не освятили ладью, а ты – плыть? На волне меня тошнота одолевает.
– Сама сяду! Моя ладья – вот и погляжу, на что годится! – решительно произнесла Катерина.
– Господь с тобой, Катеринушка! – забеспокоился супруг. – Не дай бог, утонешь!
– Не тревожься, Гришенька! Сказывают, мужик один в ведре утонул, а баба из реки выплыла! Ну, с богом! – Катерина помахала мужу рукой и с помощью Иванка села в ладью. Оглядывая причал, увидела рядом с деверем строгановского Досифея. Она поманила его.
– Чего нахмурился, монаше? Садись со мной, ежели не робеешь!
– Это я-то робею? Пошто такое молвила?
– Садись, садись, я без обиды сказала.
Досифей занял место в ладье, волчица – за ним. Последним вскочил Иванко. Григорий опять закричал:
– Катеринушка! Сделай милость, сойди на землю. Сердце обмирает на тебя глядя!
– А ты, Гришенька, зажмурься!
– Пусть без тебя опробуют, а тогда уже и ты прокатишься.
Катерина только засмеялась и махнула рукой плотникам, державшим ладью. Судно отошло от причала, Иванко распустил парус. Ветер наполнил его, и ладья рванулась вперед. Мастер правил на стрежень реки. Ладья легко резала встречную волну, оставляя заметную водяную тропу за кормой. Катерина прижалась к борту и видела удалявшийся Кергедан. Ветер, свистя, бил ей в лицо. Ладья зарывалась в воду на быстром бегу, и тогда у бортов вспыхивали от брызг радужные искры. Иванко сам изумился, как далеко позади остался город, и повернул руль. Ладья накренилась и, взяв круто на борт, пошла обратно. Катерина от неожиданности вскрикнула и сразу засмеялась. Осмелев, она встала во весь рост, держась за кромки фальшборта. Из просветов в облаках как раз снова брызнул солнечный луч, и по золоченой дорожке стрежня ладья опять пробежала мимо городка. С причалов донесло восторженные крики. Ладья пробежала вверх по Каме, миновала устье Студеницы, пригорок, дальние варницы – и везде на берегу был народ. Кто кричал, кто кидал в воздух шапку, кто махал.
У Иванка – сжатый рот, сощуренные глаза, капельки пота на лбу. Досифей не спускает с него довольных глаз, придерживает напуганную разворотами волчицу. Катерине стало холодно на ветру.
– Вороти домой, Иван!
– Присядь, хозяюшка. Опять сейчас с наклоном побежим.
– Не потеряешь! Удержусь!
Ладья, послушная рулю, еще круче легла на борт, задела крылом паруса воду. Иванко выровнял ход после маневра и взял направление к причалу. И когда до берега оставались сажени, Иванко убрал парус, мастерски подвел судно к причалу, и десятки рук прижали ладью к бревнам. Без улыбки Катерина вышла из ладьи, с поклоном сказала Изанку:
– Спасибо тебе, Иван-мастер, за усладу! А теперь, батюшка, – обернулась она к священнику, – зачинай кропить святой водой ладью на доброе дело.
И когда дьякон зычным голосом начал ектенью, к Иванку подошел Семен Строганов, молча обнял его за плечи и тут же погрозил Досифею:
– А ты чего сидишь, будто прирос? Волчицу-то убери, а то окропят!
– Уходить неохота, хозяин. Вот бы нашим стругам такую легкость и ходкость!
– А мне Иван сие обещал, слову же его отныне, как своему, верю...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
По глухой вычегодской дороге крытый возок волокла шестерка шустрых и сытых коней, запряженных гусем. Впереди тяжелого возка скакали четверо верших, а сзади еще шестеро.
После долгих дождей дорога для коней была нелегкая. Густое тесто глины в ухабистых колеях налипало на колеса.
День выдался хмурым. Ветер низко гнал по небу серые тучи, то и дело сыпавшие мелким дождем.
Дорога шла все время лесом и лишь изредка петляла по просекам и прогалинам, где березняк и осинник уже начинали выряжаться в пестрые осенние сарафаны.
Уже много дней наминал бока Яков Строганов на дорожных ухабах. Ехал из Москвы в Конкор, пускался в путь только в дневную пору, а ночами отлеживался на постойных дворах. Крепко спать остерегался, памятуя о разбойных людях, которых на всякой дороге по Руси развелось больше, чем волков.
Покидая стольный град, Яков отслужил напутственный молебен и взял для охраны десяток вооруженных верховых. Все же не раз содрогалось его сердце, когда в вятских лесах приходилось слышать лихой посвист неведомых людей.
Ни за что не покинул бы Яков привычной московской жизни осенней порой. Гонец от отца со строгим наказом немедленно явиться в Конкор заставил его сесть в возок. Как ослушаться родительской воли?
И зачем он мог понадобиться отцу так спешно? Сколько ни размышлял об этом Яков, догадаться не мог.
Минувшую ночь Яков Строганов скоротал в Соли Вычегодской, остановился в огромном родительском доме с башнями, где прошли его детство и юность, начались радости и тревоги жизни.
Показали Якову новый сольвычегодский собор, еще в лесах. Строгановская постройка, хотя старший в роде увел сыновей на Каму. Воспоминания нахлынули, когда Яков подъехал к дедушкиным соляным варницам. Яков вышел из возка, свернул с большой дороги и увидел знакомый берег Вычегды. Как в детстве, пламенел закат, в воде отражались те же ели, березы и ивы. Около дома лежал памятный с детства камень, прозванный Семеном вороньим, – на этом камне Яков, тоже по стародавней привычке, посидел перед тем, как войти в дом.
Юность, далекая и чистая! Трое мальчиков-братьев жили еще дружно, но и тогда Яков уже привыкал во всем уступать Семену, ибо Григорий вообще в счет не шел, считался маменькиным сынком и никаких мальчишеских требований братьям не предъявлял.
Ночью в опустелом доме Яков долго не мог заснуть, прислушиваясь к шорохам, скрипу половиц, писку мышей. Мысленно перебрал в памяти всех, кого знал и видел в родном доме. Предстал перед ним дед, Федор Строганов. Богатырь, уже сгорбленный старостью, но все еще ходивший по дому босиком в холод и жару. Когда дед бывал в дурном настроении, он мог у себя в доме отвесить любому встречному – сыну, внуку или домочадцу затрещину: не ходи, дескать, со мной по одной половице!
Внуки любили деда за то, что он знал множество былей о старине и даже умел сказывать былины под звон гуслей.
Как живая, встала в памяти Якова и бабка, вся в черном, будто монахиня. Она всегда шептала молитвы и наказывала внучат строго – за малейшие проказы ставила на колени перед иконами, притом непременно на сухом горохе. Бабка стращала всех божьим наказанием, корила грехами, больно ударяла по рукам четками.
Образ матери был для Якова каким-то призрачным. Хворая, часто плакавшая, она больше остальных детей любила Григория. Видно, ему одному и достался весь запас материнской нежности.
Просторный дом всегда был переполнен людьми. Больше всего в нем перебывало купцов, старух-странниц, богомолок и монахинь, всегда кишевших возле матери и бабки. Был среди этих «странных» людей один старец. Он постучался в ворота строгановского дома в буранную ночь и назвался Симоном-землепроходцем. Это он заворожил отца и деда рассказами про богатства камского края и Сибири. Симон остался в доме на долгие годы, стал в семье своим человеком, обучал ребят премудростям счета и грамоты. Помер он неожиданно и унес в могилу свою тайну, ибо никто не верил, что он действительно простой странник-богомолец, за кого себя выдавал...
А отец? Яков с горечью вспомнил, что Иоаникий Строганов всего один раз за всю жизнь погладил его по голове. Позже сыновья надолго потеряли отца из виду, когда тот отправился на Каму. С удивлением Яков сообразил, что последняя встреча с отцом была у них лет пятнадцать назад! Тогда старик навестил его в Москве.
Предстоящее свидание с отцом давало тайную надежду на раздел наследства. Может быть, Григорий наконец добился от отца согласия на этот раздел? Не захочет же отец перед смертью обидеть кого-либо из сыновей? Значит, если раздел близок, то близки и крупные деньги, которыми можно будет наконец распоряжаться уже по-своему, потратить их на себя, а не на Семеновы выдумки?..
Повидаться с Семеном тоже хотелось. Какой он теперь? Сколько слухов ходит по Москве о его удали, бесстрашии и о его зазнобах; говорят ведь, что одна лучше другой!
А собственное будущее? В Москве у Якова жизнь тихая, но не в меру сытая и хмельная. Он водит хлеб-соль со всей именитой Москвой, ее боярами и купцами. Про боярскую жизнь знает все, но в последнее время не всегда поспевает даже на похороны своих бывших приятелей – так много случается в столице неожиданных отпеваний!
Вначале любил обжорство на пирах, потом и пиры наскучили. Это от них завелись в его сильном теле разные недуги: очень ослабли глаза, стали отекать ноги, мучительная одышка от ожирения иной раз не позволяла даже поклон сделать. Слабость, ломота в костях, простудная хворь иногда на целые месяцы укладывали Якова в постель. Отцовское богатство отпирало перед ним любые двери, но, утомившись от столичной жизни, он стал рано мечтать о покое.
На дорожных ухабах Яков с тоской вспоминал домашние перины в своей тихой и жаркой московской опочивальне.
Отец женил Якова на пригожей дочери суздальского купца. Жена Серафима оказалась робкой и непрекословной домоседкой. Родила ему сына Максима и дочь, умершую в малолетстве, когда в Москве мор ходил на малых ребят – глотошная.
Мысли о доме неожиданно оборвались, когда дорожный возок тряхнуло так, что Яков стукнулся головой о крышу и в испуге заорал на кучера. Возок стал. Из-за слюдяного оконца Яков видел, как спешивались верховые. Кучер слез в самую грязь. Все столпились и загалдели у задних колес.
– Что там у вас?
Кучер виновато снял шапку:
– Ступица с корягой сцепилась.
– Пошто не глядел, куда гонишь?
– Вода в ухабе мутная. Не видать в ней корягу.
– Вот я вас, бездельников! Ночевать мне здесь, что ли, среди лесу?
– Сделай милость, хозяин, ослобони от себя возок.
– Али мужики обессилели? Дармоеды! Жрете хозяйское, а службу хозяину леший служить будет?
– Тяжеленько с тобой-то!
– Куда же здесь вылезать? Грязища-то какая! Еще возок зальет. Дурьи головы, не могли посуше где стать!
– А ты, хозяин, на нас кулем пади. Насухо тебя вынесем.
– Подходите все, принимайте на руки легче! Вот я вас! Легче. Да управляйтесь там с колесом поживей. Забыли, что ли, какими местами гоним? За любым пнем люди с топорами схорониться могут! Того и гляди, из-за вас, ротозеев, разбойники налетят!
2
Березы за монастырскими стенами стояли в осеннем уборе. По утрам с их ветвей спадали желтые листья, влажные от холодных утренников.
На зорях над Конкором звучали голоса перелетных птиц, и особенно тоскливы были прощальные крики лебедей.
Разгуливала осень берегами Камы, причудливо расписывала остатки листвы, потерявшей яркость зелени. Против крепости на заречной стороне грустили в пустых лугах стога, похожие на шлемы, забытые в поле богатырями.
Конкор ждал зимы, запасался дровами на все долгие месяцы, когда по белым просторам заведут свою песню вьюги и бураны...
3
Вскоре после возвращения Семена Строганова из Кергедана причалил у стен Конкора струг воеводы Соликамского – Дементия Запарина. Прибывший послал к старому хозяину сотника, передать привет и просить о приеме. Посланец вернулся к воеводе с ответом, дескать, Аника Строганов болеет, сам приветить гостя не в силах и просит, чтобы слуга царский изъявил милость и повидался с сыном Семеном, который в полуденный час будет поджидать его в своих покоях.
Выслушав такой ответ, Запарин растревожил себя гневом и ругательски изругал Анику за неучтивость к высокому воеводскому сану. Но, остудив свой гнев словами потребными и непотребными, Дементий Степанович к полудню оделся в пышные парчовые одежды и отправился с телохранителями на свидание с Семеном Строгановым.
Прием был подчеркнуто сухим и неприветливым. Гостя ждали не в большой избе Аники Строганова, а в зимних хоромах, срубленных еще в тот год, когда Аника вызвал сына Семена на Каму из Соли Вычегодской. Тогда хоромы для него рубились наспех, не то что нынешние, в Кергедане...
Семен, не требовательный к удобствам и не любивший роскоши, мало заботился о благолепии собственных покоев в Конкоре. У него в доме была большая, но скромная гостиная, где он принимал деловых посетителей, приезжих купцов, чужих и своих приказчиков; но, зная, что купец купца оценивает сперва по одежке, Семен велел поставить в углу гостиной против киота с иконами астрономические часы аглицкой работы, стоившие баснословных денег, развесить по стенам чертежи государства Московского, исполненные царскими мастерами, да еще кинуть с нарочитой небрежностью две арабские сабли на текинский ковер – они свидетельствовали и малоопытному глазу, что для Семена Строганова тысячи золотом – не деньги!
В этой гостиной Семен и поджидал гостя-воеводу.
У того захолонуло сердце, когда, подойдя со свитой к крыльцу, он не увидел вышедшего для встречи хозяина. Злоба наливала лицо Запарина кровью, пока он величественно поднимался по ступеням. У самых дверей поставлены были два ратника в голубых кафтанах и с алебардами. Они отворили перед воеводой дверь, и, как только он вошел в сени, ратники скрестили алебарды, не допуская свиту последовать за воеводой даже в сени.
В отворенную низковатую дверь из сеней в гостиную воевода просунул вперед себя высокую горлатную шапку, шагнул, опираясь на посох, в палату и, отдуваясь, остановился у порога. Он сразу увидел Семена Строганова у стола. От новой хозяйской неучтивости у Запарина дух захватило. Поняв, что горлатную шапку и посох принять здесь некому, гость сам поставил свой головной убор на лавку и перекрестился на иконы в киоте. Только тогда Семен встал из-за стола. Гость и хозяин поклонились друг другу одновременно.
– Садись за стол гостем желанным, царский слуга.
Запарин, сдерживая негодование, сел и прислонил посох к столу. Погладил бороду, огляделся. Семен наполнил медом из затейливого жбана две серебряные чары.
– Прошу прощения, воевода. Хозяйки, как ведаешь, у меня нет, а потому чару с медом тебе самому придется со стола принять.
– Благодарствую на привете!
Но чары не принял и сидел в деревянном кресле у стола окаменевшим истуканом, не начиная разговора.
Хозяин, внутренне торжествуя над унижением своего недоброжелателя, счел вступление к беседе оконченным и сам пришел на помощь рассерженному и обескураженному гостю.
– Благодарствую, что о нас, людишках торговых, изредка памятуешь. Винится батюшка, что немощь телесная не дозволила ему свидеться с тобой, воевода Соли Камской.
Запарин, отдышавшись, сухо осведомился, чем же страдает Аника Федорович.
– Сам знаешь, на старости лет всякий лишний шаг в постель валит. Остуда в груди душит.
– Баню надо. После бани – распаренную мяту на грудь. В пору, как лист желтится, застуду принимать не следует, особливо когда годы не малые. Пошто же не бережется Аника Федорович?
– Не приобык батюшка здоровье оберегать.
Семен придвинул налитую чару воеводе. В серебряные стенки сосуда были искусно вделаны крупные жемчужины.
– Изопьешь – чару эту с собой увезешь. Тебе в подарок от батюшки приготовлена.
– Отказываться не стану. Мед беседу веселит, а подарок строгановский приму за честь. Передай батюшке, что-де воевода Запарин чару принял и благодарить велел. Давненько крепость вашу посетить собирался.
– А не навещал.
– Недосуг было. Спопутно оказалось, вот и приплыл. Окромя того, дознаться довелось, что Строгановы не во всякую пору гостям рады.
– Стало быть, пустой молве веришь? Уж поверь, что купцы Строгановы гостей со двора не гонят, особливо званых.
– Меня каким гостем посчитаешь?
– Скажу – званым, не поверишь. Скажу – незваным, разгневаешься.
– Ну и молвил, прости господи! Видать, что надумаешь, то сразу и на язык кладешь?
– Словами деда отвечу: ложь беседу удлиняет, правда – укорачивает. Так нас Федор Лукич учил.
– Стало быть, велишь поскорей объявить, с каким царским поручением я к вам прибыл? Великий государь...
– Ты скажи без помину царского имени. Ибо еще мне в уши запала одна молва пустая, будто грозился воевода Соли Камской золото в карманах строгановских пересчитать.
– Не верь сей небыли.
– А мы с батюшкой так поняли, что затем-то в осеннюю пору Строгановы тебе и понадобились. Стало быть, велишь из карманов золотишко наличное перед тобой на стол выложить? Так, что ли?
– Насмешкой гостя потчуешь?
– Медом потчую, какого в Соли Камской не испробуешь. Подставляй свою чару, еще налью.
– Изволь, подставлю, хотя учтивости в тебе не больно-то много. Чего это ты меня так оглядываешь?
– Учтивости в нас нет оттого небось, что в Москве не живали. Сосны камские учтивости здесь не требуют. А оглядываю не тебя, а узор парчовый на твоем кафтане.
– Узор хитер. В индийских полуденных землях выткан... Государем пожалован за верную службу. От его имени и прибыл сюда с двумя наказами, касаемыми вотчин и дел ваших, строгановских.
– А ты не обмолвился, воевода? Наказы нам давать волен только государь, да и те не всегда удается нам исполнять, ибо кочевники близко, приходится нам порою голую жизнь спасать, а уж потом государевым людям радеть, наказы их выполнять.
– Опасно говоришь.
– Как умею.
– Так изволь послушать, с какою царской волей к вам воевода Соли Камской пожаловал. Ден пять назад неспроста наведались ко мне посланцы тобольского хана Сибирской земли. Сказывали, что летось людишки твои на Полюде татарскую княжну Игву изловили. Желает хан Сибирской земли увидеть ее из плена вызволенной и на том мне, как царскому наместнику, бьет челом.
– Пошто же хан не к нам посланцев направил?
– Да, видать, по недомыслию своему почитает Строгановых царскими слугами, мне подвластными. Желает хан, чтобы плененную татарку я ему из рук в руки передал. Ежели мы, сиречь воевода и строгановские люди, желания его не исполним, грозит он войной на камский край из-за пленницы идти, поелику Игва-княжна молодшего ханова сына невеста. Хан обещался сперва мою крепость спалить, Соль Камскую, а потом и за ваши городки приняться. Орда у него превеликая, изжарит он нас всех, как цыплят к обеду, посему совет тебе подаю: отпусти со мной пленницу.
– Строгановы, воевода, не чужими советами живы и не страхом перед ордами нагайскими. Черт пугает, а бог милует. Игву, говоришь, с тобой отпустить? А ты моим людям ловить ее помогал? Воевода Орешников, старик стариком, и то после полонения нами Игвы шайки ее из лесов чердынских выкуривал да еще велел владыке за людей строгановских соборно богу молиться, зане град и крепость от поджога спасли. А ты, гляжу, за нашей спиной ханскую дружбу купить надеешься? Не прогадал бы!
– Надежду имею воеводить в крае миром и с ханами сибирскими не задираться. У меня ратных людей для войны с ними маловато, сам знаешь.
– Эх, не воеводскую речь повел! Всякий вор норовит расплохом брать, а в расплохе, говорят, и медведь труслив. Орды ханской испугался? Дело твое, только сделай милость, нас и людей наших страху не обучай.
– Неужли Игву из полона так и не отпустишь?
– Нет.
– Ради нее дозволишь орде государеву крепость Соль Камскую изничтожить?
– Твоя воля крепость оборонять, на то ты и воевода. Хвастать любишь, как новгородцев уму-разуму научил, а здесь ордынцев испугался?
– А ежели я именем царским повелю тебе освободить Игву и ко мне в крепость отослать?
– Именем царским? Чудно! Очнись, воевода, ежели задремал, оглянись вокруг себя. Кто здесь, в крае, именем царским хозяином поставлен?
– Все равно, приказ воеводский для тебя – закон. Добром не отдашь пленницу – силой отниму.
– Да неужто? Может, и меня в Соль Камскую пленником повезешь? Только довезешь ли?
– Людей своих на царского воеводу натравишь, будто на хана татарского? Думаешь, у государя на злодеев цепей не хватит?
– Хватит цепей, чтобы иных кобелей ретивых на привязи держать.
– В ссору лезешь? С царским слугой?
– Слуги царские тоже разные бывают, много их в здешнем крае перебывало. Иные, кто духом посмелее да разумом покрепче, здесь обживались и государеву службу с пользой несут. А тому, кто на любое чихание ордынских ханов со всех ног здравствовать летит, на здешней земле не усидеть. Хану сибирскому так скажи: ежели вздумает воевать, Строгановы готовы с его ордой силой помериться. На том и крепости наши стоят, тем же здесь и народ жив.
– Ну, Семен Аникьевич, и удал же ты на слово! Может, покамест о другом разговор заведем?
– Испробуй.
– Не устрашусь небось... Недавно дознаться нам довелось, что братец твой Григорий, вместях с тобою, царский закон нарушил. Татарская княжна Игва, невеста ханская, у меня в разговоре – только присказка. Сказку сейчас зачну сказывать.
– Воля твоя – сказывать. Наше дело – послушать.
– Строгановых царь милостью жалует, а они на землях дарованных злой крамоле государевой потакают.
– Понятнее сказывай. Со Строгановым Семеном разговариваешь, он не дьяк приказный, крамолу разбирать да судить.
– Меня быстрым словом не запужаешь. Я здесь над всеми верховодить поставлен. Даже перед Строгановыми молчать не стану, не чердынскому воеводе чета. За хулу и брань твою, за невежество твое передо мною государь с тебя и голову снять не задумается.
– Пока твое пророчество сбудется, я тебя сегодня, сей же час, во всей твоей иноземной парче при народе в Каме искупаю.
– Бога побойся! На кого замахиваешься? Донесу царю!
– Сказывай, Дементий Запарин, свою сказку да отчаливай живее, на грех не наводи!
– Скажу, словом своим не подавлюсь. За боярином Головановым прибыл. Лютого разбойника, вора государева укрываешь.
– Не укрываю, а хлеб-соль с ним за одним столом жую. Голованова разбойником и вором зовешь?
– Великий государь наш так прозвал крамольника, и мы, рабы государевы, по-иному молвить не смеем.
– Как проведал, что боярин здесь?
– Слухом земля полнится.
– Имя доносчика назови. Промолчишь – трясти начну, парча индийская порушится.
– Что ж, таить не стану. Так знай, что от самого Строганова, брата твоего, Григория Аникьевича, посланец ко мне наезжал. С обиды великой донес на тебя родной брат твой, чтобы царским ослушником не обернуться. Знай также, Семен Аникьевич, ежели не выдашь мне боярина Голованова, ворога царского, я весть о том в Москву подам, и царь Иван Васильевич опричников сюда пошлет.
– Кому Голованов поперек дороги стал – дело боярское. Но Строгановым Голованов – не ворог, а друг.
– Не смей такое молвить!
Запарин схватил свой посох и стукнул им об пол.
– Что? В моем доме мне этой палкой грозишь?
Семен выхватил у воеводы посох и в гневе переломил о колено.
– Вот! Получай свою опору! А теперь глянь на иконы да ступай себе с богом, только о порог не запнись. К Строгановым больше не наведывайся.
– Меня не признаешь, царя признаешь. Не выдашь Голованова?
– Не выдам.
– Послушай, Семен Аникьевич! Али ты о двух головах? Хоть людишек и добро его отдай, а я донесу в Москву, будто помер боярин в одночасье.
– Добро и людишек просишь? Только-то? А ты помогал это добро наживать? Покойного Гаврилова-воеводы добро к рукам прибрать сумел, стало быть, понравилось чужое? За головановским потянулся? Коротковаты лапы у тебя, а с сего часа – еще короче станут. Ворочайся к себе в крепость и сиди в ней отныне тихохонько. Высунешь нос – дверью защемит!
– Погоди, хозяин! Погорячились мы. Слова бранные нам говорить негоже, не смерды. Пора остыть. Так ведь?
– Остывай. Молча слушай меня. О том, кто ты такой, знаю, и всякий твой шаг мне ведом. Гонец твой с доносом про Голованова недалече от крепости ускачет. Сам вздумаешь туда со стражей отправиться – гробов прихвати, и себе и стражникам. Увидишь, кому в крепости твоей люди служат: воеводе или Строганову. Не узнаешь, чья рука на твоей шее петлю затянет. Грех жадности в тебе велик, а сам ты мал. Против Строгановых цена тебе, во всей парче твоей, – тьфу! Нищий ты, и мог бы на бедность свою у нас кое-что вымолить. Дали бы, пожалуй, не скупясь. Не впервой нам царским слугам милостыню подавать. Но ты по-иному зашел. Нос задрал. Посохом стукнул. Царским именем лапу нам в карман было запустил по недомыслию своему. Пеняй теперь на себя да подумай дома, на досуге, как вину свою перед нами искупить. Теперь помни: Строгановых где бы в пути ни встретил – ворочай хоть в самый глубокий сугроб!
– Откланяться дозволишь?
– Да уж теперь не торопись. Все же гость в моем доме! Голодными гости наши из дому не выходили. Чего это ты с лица побелел? Трапезничать со мной страшишься? Совсем ты оплошал, воевода! Нечто в своем доме гостей отравой кормят?
– Что же, дозволь тогда надежду иметь, что впредь у Дементия Запарина с именитыми людьми Строгановыми дружба заключится? В том и руку свою тебе даю!
– Нет уж, покамест уволь! В чистоту слов твоих поверю, когда их проверю. Волком перед нами себя обозначил, получай и в ответ оскал. А трапезничать пойдем! Уха тебе готова да перелетные гуси на жарево. Милости прошу к столу, воевода Соли Камской!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Долгое осеннее ненастье, с дождем-ситничком уже успело надокучить жителям края. Лужи в Конкоре не просыхают, капельки дождя сбивают с деревьев остатние листья. Падая на сырую землю, листья прилипают к ней и не шевелятся, не шуршат под ногой.
Поздняя осень обучает людей тишине, велит задумываться о жизни, и всякий северный житель, исключая охотников и рыбаков, тянется к домашнему теплу, считает запасы и вершит семейные дела.
2
По воле Аники Строганова все трое сыновей собрались осенью в Конкоре. Всякий из них строил свои догадки о причине вызова и утешал себя мыслью, что вызван не зря.
Семен до самого приезда Якова не знал, что отец послал за ним нарочного. Увидев во дворе московский возок брата, Семен не на шутку встревожился: не случилась ли в Москве беда. Скоро появился в Конкоре и Григорий Строганов. Семен сообразил, что братьев позвал старик, но беспокоить отца расспросами не стал.
Монастырем уже правил новый игумен Калистрат. Питирима по приказу Семена увезли в новый, косвенский острог. Новым игуменом отец был очень доволен, сблизился с ним, часто бывал в его обществе.
Волновали Семена вести от Анны Орешниковой. Она, вопреки их тайному сговору, не рассталась с престарелым супругом. Она отказалась последовать за посланцами Семена и велела передать, что Орешников при смерти болен; мол, не может честная жена покинуть супруга в его последние недели, а то и дни. Такой ответ боярыни привез из Чердыни Досифей, ездивший туда с вогулами за Анной. Время шло, а с сыновьями по отдельности Аника еще о делах не беседовал, пообещав, что, когда настанет нужный час, позовет к себе всех троих вместе.
3
Нужный этот час пришел!
Студеный ветер еще днем раздул морось ненастья.
Вечером над Конкором зажглись звезды и высветлился народившийся месяц...
В избе Иоаникия Строганова было в тот вечер светлей обычного: горели все восемь свечей на отростках лосиных рогов, светились перед иконостасом и аналоями все лампады, как в храме.
Аника Строганов долго стоял перед ликами святых на коленях и отвешивал земные поклоны.
Слышно было, как гуляет осенний ветер, рождая ощутимые сквозняки в избе, как под полом скребутся мыши. Ежи, пофыркивая, сновали по избе. Из рукомойника, как всегда, падали капли в деревянную бадью...
Отец не поднялся с колен, когда входная дверь отворилась и впустила в избу троих сыновей Строгановых – Григория, начавшего креститься еще в темноте сеней, Якова, побледневшего от волнения, и, позади всех, Семена. Увидев отца на молитве, сыновья остановились при входе, постояли, переминаясь. Наконец подал голос Семен:
– Пришли мы, батюшка.
Иоаникий будто не слышал, продолжал истово молиться, склонился в земном поклоне и долго-долго не поднимал головы. Наконец трижды перекрестился и встал, опираясь на посох. Знаком подозвал сыновей к столу.
– Дети мои! Добро пожаловать! В кои-то веки довелось всех троих разом обнять.
Яков и Григорий, взволнованные и торжественные, облобызались с отцом троекратно; он брал каждого за плечи и подолгу смотрел в глаза. Когда дошла очередь до Семена, отец чуть заметно кивнул сыну, будто подтверждая некую давнюю договоренность между ними. От остальных это мимолетное движение укрылось.
– Экие вы стали, сыны мои! Каждому жизнь свою печать на лицо положила! Пожалуй, за нею не сразу и мою печать разберу.
Из стариковских глаз выкатилась скупая слеза, старик смахнул ее и продолжал тверже, строже и печальней:
– Родимые мои, приходит пора проститься и с вами, и с делом жизни, и с заботами в мирской суете. Пора о душе подумать. Вот, собрал вас, последнюю свою отчую волю изъявить. Стар стал, немощен, оскудел силой и разумом. Решил покинуть мир, сыны мои, принять постриг в монашество.
– Батюшка, родимый! – залепетал Яков скороговоркой и упал перед отцом на колени. – Пошто надумал такое?
– Ты всех лучше понять меня должен. Старшой ты у меня.
Иоаникий погладил склоненную голову Якова. Григорий будто еще не поверил и растерянно ждал, какие последствия повлечет для него самого отцовское решение. Семен сжал губы, сощурил глаза и будто заранее знал, что последует дальше.
– Не покидай нас, батюшка, в сию смутную пору, – шептал Яков.
– Уразумейте престарелого отца. Притомился от житейского. В монастыре молиться за вас стану. Лобызайте святое Евангелие на верность друг другу. С открытым сердцем сие творите, все распри позабыв и разумом просветлев! Клянитесь волю отцовскую нерушимо блюсти.
Яков первый поцеловал Евангелие. За ним приложился Семен. Григорий же, вдруг что-то заподозрив, все тревожнее глядел на отца. Иоаникий сказал ему ласково:
– Целуй, Гриша.
– Сперва волю свою объяви, батюшка!
Сурово нахмурился Иоаникий, и тогда Григорий поцеловал Евангелие, не осенив себя крестным знамением. Отец проговорил, повышая голос:
– Крест положить забыл, Григорий. Перекрестись и целуй сызнова.
Не смея противоречить, средний сын исполнил отцовский приказ.
– Слушайте мою волю. Богатство оставляю вам всем и внукам на веки веков неделимым. Волю свою нерушимую над богатством передаю в руки брата вашего Семена до самой его смерти. Волен Семен перед смертью передать все неделимое богатстве внукам моим и детям своим, коли господь благословит его наследниками, достойными поддержать честь нашего рода.
Никто не пошевелился, молчание длилось долго. Всем было слышно, как ветер гуляет на воле. Наконец до сознания Григория дошли отцовские слова. Он всплеснул руками и крикнул тонким, срывающимся голосом:
– Батюшка! Помилуй! Не отдавай богатства в руки Семену. Погубит он нас. Нищими по миру пустит!
Иоаникий властно поднял руку, знаком приказал Григорию молчать.
– Проклятие мое падет на голову того, кто осмелился бы нарушить мою волю.
Григорий, уже почти не слушая, бросился на колени и завопил исступленно:
– Раздели богатство поровну между нами!
Иоаникий постучал об пол посохом:
– Смирись, Григорий, перед родительской волей!
– Грех творишь, батюшка, власть над нами отдавая в Семеновы руки!
– Не изменю своей воли. Слышите? Целуй, Яков, руку Семену на покорную верность ему.
Тучный Яков поклонился брату в пояс, поцеловал ему руку, помог Григорию встать с колен и шепнул:
– Гриша, не противься. Слышал волю родителя?
Лицо Григория исказилось от злости. Он погрозил младшему брату кулаком.
– Не стану руку тебе лобызать. Поганая она! Не признаю твоей воли над собой. Разоритель ты нам!
Семен проговорил спокойно:
– Григорий, брат я тебе, а не ворог. Без отца останемся на белом свете. В дружбе нам надо пребывать. Признаешь ли мою волю над собой, не признаешь ли, все одно для меня братом останешься, я тебя никому в обиду не дам и разору твоего не допущу.
Григорий не ожидал этих слов, а суровое спокойствие Семена подействовало отрезвляюще. Он притих, вытер глаза рукавом, подошел к Семену и с неожиданной покорностью поцеловал его руку. Тот обнял Григория и Якова, поклонился отцу в пояс:
– Гляди на нас, батюшка! Покорные воле отцовой, стоим едины перед тобой, Строганова Иоаникия сыновья...
4
Через трое суток, на рассвете студеного утра, три сына Строганова и все жители Конкора проводили престарелого Анику Камского в монастырь.
Неприязнь Григория к Семену, смягченная присутствием отца, после проводов вспыхнула с новой силой. Григорий отплыл в свой Кергедан, не сказав брату даже «прощай».
У ворот крепости Семен сердечно простился с Яковом. Когда московский возок и верховые телохранители скрылись из виду, Семен сошел на берег Камы.
Река была неприветлива, неспокойна. Среди этой холодной водной пустыни Семен скоро заметил лодку, идущую сверху. Гребец проворно работал веслами, кормщик правил легким рулем. Лодка пристала к берегу, гребец стал вытаскивать ее на песок, а кормщик зашагал навстречу Семену. Тот узнал однорукого слугу чердынского воеводы, Григория Жука.
– Прими мое почтение, милостивый хозяин.
– Здорово, Жук! Из Чердыни? Ко мне, что ли? Неужли неладное что приключилось?
– Воевода наш, Захар Михайлович Орешников, преставился, царство ему небесное во веки веков.
– Когда? С чего же это?
Семен растерянно и даже как будто виновато глядел на Жука.
– А боярыня где? За мной послала?
– Нет. Изволила на Москву податься.
– Как на Москву? Путаешь что-то, мужик?
– Истину говорю. Как панихиду по супругу отстояла, девять ден горевала, а на десятый велела лошадей готовить, верховых взяла и отбыла до Великого Устюга! Оттуда, сказывала, на Москву ее путь.
Семен постоял, безразлично посмотрел на Жука и больше не сказал ни слова... Он пошел по берегу и поравнялся с приплывшей лодкой. Усталый гребец успел вычерпать воду и поклонился конкорскому хозяину. Это был сильный, рослый молодец, известный в Чердыни по имени Алеша-пскович.
– До твоей милости приплыли. Возьми нас к себе в услужение. Может, сгодимся тебе с Алешкой? Прискучило нам в Чердыни.
Семен показал обоим на крепостные ворота.
– Ступайте в крепость, скажите, хозяин накормить велел досыта. Приду скоро, тогда потолкуем.
– Благодарствуем.
– Припомни-ка, Жук, может, боярыня наказывала передать мне слово какое?
– Нешто я без разума, хозяин? Ничегошеньки не велела. Совсем не в себе покинула Чердынь.
– Ладно. Ступайте.
Жук и Алеша-пскович взяли свои котомки и зашагали к городку. Семен остался на берегу один. Он присел на борт лодки, поднял камешек, пустил его далеко в Каму.
– На Москву подалась? Что ж, бог с ней, ежели по-иному надумала...
5
В сумерки Семен Строганов и боярин Макарий Голованов сидели в хозяйских хоромах Конкора и неторопливо выбирали верных людей, чтобы послать их на Русь к друзьям Голованова.
Неожиданно поднялся трезвон: на дозорной башне городка всполошный колокол забил тревогу. Голованов встал.
– Чаю, люди мои из лесов к тебе прибыли, Семен Иоаникиевич.
– Нет, Макарий Яковлевич, не тот сполох.
– Уж не пожар ли?
– И не пожар. По звону похоже, что кочевники у стен.
– Вот еще напасть!
В палату вбежал ратник в кольчуге.
– Хозяин! У ворот вогулы дальние, незнакомые тебе. Монах нашей веры с ними. Допустить в крепость просят. Что велишь?
– Много их?
– Ежели не обмишурился, не меньше трех десятков!
– Вели сотнику отворить ворота. Пришельцев сюда веди.
– Семен Иоаникиевич, как бы неладного чего не вышло.
– Не тревожься, Макарий Яковлевич. Вогуличи, ежели добром просят, подлости не сотворят. Эти не обманывают, не ногайцы. Всех сюда веди.
Вскоре дверь отворилась, и в палату вошла целая процессия: впереди чернобородый монах, невысокий и коренастый. За ним – старик богатырской стати, сзади толпа вогулов. Все перекрестились на иконы, отвесили Строганову и Голованову поклоны.
– Кто такие будете, добрые люди? Пошто пожаловали?
– Челом бьем хозяину сей крепости, – сказал монах. – Который из вас Семен Строганов?
Хозяин встал и вышел навстречу гостям. Монах поклонился еще раз.
– В иночестве Трифоном зовусь, а родом с вятской земли. Старец сей – Демьян Кустов, староста чусовского вольного посада. Вогуличи – люди крещеные и верные Руси. Осьмой годок доходит, как у берега реки Чусовой я скит поставил. Слыхал про реку Чусовую, Семен Иоаникиевич? На ней много раньше меня отходцы с Руси посад поставили и стали жить, а число их семьдесят четыре души – мужиков, баб и мальцов! Старожилы того края, вогуличи, нас добрососедски приняли и за то немилость татар сибирских на себя навлекли. Как лист стал желтиться, ордынцы трижды с набегами падали. Избы пожгли, ребят да баб в полон уволокли, а один стан вогуличей в крови утопили.
Миром порешили челом бить тебе, хозяин: защити нас от ворогов! Встань хозяином на Чусовой, как на Каме стоишь, и помоги нам жизнь в покое блюсти.
– Слышишь, Макарий Яковлевич?
– Слышу.
– За доверие ваше ко мне благодарствую. С сего часа беру вас под нашу строгановскую защиту. Вели людям своим отдых принять, а харчей получат, сколько спросят и каких пожелают.
Монах передал вогулам ответ Семена. Все они вновь низко ему поклонились и степенно вышли из палаты. Семен указал Трифону и Кустову место на лавке у стола.
– Садитесь гостями желанными. Глядите на сего боярина, Макария Голованова. Будет он с вами облаживать новую крепость на Чусовой. В обрат немедля подадитесь и зачнете крепость ставить. Сам к вам до ледостава явлюсь. Зимовать на Чусовой вместе станем.
Семен размашисто перекрестился на киот с иконами, сказал торжественно:
– Благослови, господи, не оступиться, ставя ногу на новые чусовские земли!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
В камском крае канули в Лету еще пять лет бытия рода Строгановых. Осуществляя задуманное, Семен Строганов самовольно положил снятые рукавицы на земли Чусовой, утвердил на сердитой реке свою хозяйскую власть в 1568 году, когда его брат Яков зажал в руках царскую дарственную грамоту на чусовские вотчины.
На многострадальной Руси прошли годы Ивановой опричнины, один хуже другого. В новгородских, псковских, тверских летописях они запечатлены не чернилами – великой народной кровью, опалены пламенем пожаров, омрачены злодейством царских подручных. Чтобы уйти от суда людского, царь расправлялся со свидетелями своих преступлений, подделывал летописные записи, притворялся и лгал. Суеверный и болезненно мнительный, он казнил по малейшему навету «всеродно»: смерть настигала не только самого заподозренного, но и его близких – лишь бы не оставить на земле молельщика за души погибших!
Так поступали не только с именитыми боярами, воеводами и купцами. Всеродно истребляли тысячи служилых людей, и посадских ремесленников, и простых крестьян-землепашцев, повинных в том, что трудились на ниве опального помещика или в приселье опального города.
Многие тысячи и тысячи крестьян царь гнал из уезда в уезд, чтобы отдавать земли опричникам, селить их вместе, поодаль от селений земских. Не веря в прочность своего положения на отнятых землях, политых чужим потом, опричники не радели на чужой ниве: великое запустение пришло на крестьянские поля в Ивановом царстве.
Еще пуще и кровопролитнее было бедствие, постигшее города Новгород и Псков. Погибель сюда принесли не ордынцы, а опричники царя Ивана. Мысль о расправе с непокорным, вольнолюбивым людством этих городов давно баламутила разум царя. Еще в Александровской слободе вместе с Малютой Скуратовым и князем Барятинским намечал он новгородские жертвы. Предлогом для карательного похода на Новгород послужил донос, сделанный царю неким бродягой Петром из Волыни. Как рассказывает предание, он спрятал в Софийском соборе подложное письмо за подписями новгородского архиепископа и «лучших людей» города, будто бы просивших польского короля принять их под свое покровительство. Тайный посланник царя прокрался в собор и нашел поддельное письмо за иконой богородицы.
В январе 1570 года сам царь во главе полутора тысяч опричников совершил внезапный налет на ничего не подозревавший город, уже по дороге предав огню и мечу села и городки от самой Твери. В опальном Новгороде полных шесть недель опричники грабили, жгли и топили жителей без разбора. На вечное поминание записали тогда новгородцы шестьдесят тысяч людей. Запруженный телами, Волхов вышел из берегов.
Многое произошло за эти годы и в камском крае.
В самый год лютого новгородского и псковского погрома отдал богу душу в келье Преображенского монастыря под крепостью Конкор смиренный инок, звавшийся в миру именитым купцом Иоаникием Строгановым.
Звоном строгановского золота приманил Семен Строганов, с помощью своей снохи Катерины Алексеевны и боярина Макария Голованова, множество нужных, умелых людей на земли Перми Великой, чтобы твердо стоять на реке Чусовой. В местах богатых, глухих, нетронутых. В местах сказочной, былинной красоты.
В новой дарственной грамоте упомянуто было – владеть землями по Чусовой от устья до вершины, крепости там поделать и варницы поставить, людей позвать неписаных и нетяглых, сторожей крепких держать для бережения от ногайских и иных орд.
Две крепости будто по волшебству возникли на берегах, и величали их «городки Верхний и Нижний, что на Чусовой-реке». В Верхнем Семен поставил воеводой Досифея, а в Нижнем – боярина Макария Голованова.
Новый острог возник и на Косьве, куда Семен послал поначалу Досифея, в помощь дав ему боярского сына Костромина и игумена Питирима, да определил содержать там под строгим надзором татарскую княжну Игву.
Когда же Семен отозвал Досифея с Косьвы на Чусовую, обошла все городки и острожки в камском крае тревожная весть: боярский сын Костромин и тут нарушил присягу о верной службе. Тайком сговорился с пленной татаркой, тайком же подготовил дальний побег, отправил надежного посланца – татарина за Каменный пояс, в Сибирское ханство, к Кучумовым ставленникам.
Получил в ответ, знать, немалые посулы и помощь, выкрал оружие и коней до первой подставы на пути, да и бежал с пленницей Игвой темной осенней ночью в горы, волчьей тропой к тайным врагам своего народа, ханским правителям Сибири.
Получив такую весть, жители Чердыни, строгановских камских и чусовских крепостей и острогов сокрушенно покачали головами: добра, мол, теперь не жди!..
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Сосульки на крышах вызванивают звонкими капелями весну 1572 года.
Зима отстояла лютая, но весеннее солнце проворно управлялось со всем, что натворили метели и бураны.
Снега стаивали. Вешняя вода копилась в омутах, оврагах и ямах, чтобы вылиться в реку. Леса стояли нахохленными, готовые вот-вот стряхнуть с себя зимнюю понурость...
* * *
Светало при сильном ветре. В Нижнем чусовском городке на вышку надвратной башни поднялся старшина ночного караула. Подоспело время голосом проверить бодрость настенных сторожей. Нравилось ему на рассвете зычно выговаривать оклик и слушать, как в переливах эха повторяются ответные голоса.
Старшина видит городок в сумеречной изморози, сквозь путаные тенета голых сучьев, опушенных куржой. Приметил в избе воеводы Голованова свет в окошках. Отчего это не спится старому в такой час?
Тишина! На рассвете у всего живого сон на особицу крепок. Даже собака не тявкнет.
Старшина совсем было собрался полным голосом подать часовым оклик, как услышал далекий гул. Эхо услужливо повторило его, старшине показалось, что слышится гул со всех сторон. Снял шапку. Подождал. Наконец перестал сомневаться: пробудилась!
В дальнем гуле распознал старшина голос Чусовой, сокрушающей ледяную кольчугу. Слышит он его не первую весну, но всякий раз подает река его по-разному. Нынче, судя по отдаленности звука, освобождается она от ледяного плена где-то возле утесов бойца-камня, который в народе зовут Разбойным.
Старшина всматривался в предутренний сумрак. Он знал, что на реке уже нет высоких сугробов, сверкавших белизной. Сейчас даже в рассветной мгле виден на льду мусор, черные полосы санных дорог, пешеходные тропки к варницам, слободкам, выселкам и вогульским стойбищам. Под стенами городка который день полыньи – вода отсосала лед от береговых каменистых утесов. В полыньях зашевелилась жизнь реки, и не замерзают они от прихвата морозными утренниками.
«Дай-то бог, чтобы не шибко водой ярилась! А может и гульнуть: снега были тароватые!»
Набатный колокол весь в бархате инея.
«Или подождать еще малость? Будто пока негромко гудит, только ветерок-то с припадами: то кинется с неба на землю, то от нее в небеса вихрит. Пожалуй, приспело время для сполоха, иначе позор всему караулу, что весть в аккурат не подал».
Старшина снял рукавицу, взялся за холодную веревку, свитую из мочала. Колокол выронил в тишину густой, распевный звон. Голос звучал призывно, еще без тревожности, но поднял на ноги весь городок. Горожане заторопились к воротам и на берег.
Люди знали сердитый норов Чусовой. Каждую весну чинила она те или иные беды, зорила немудрый людской достаток, но не могла истребить в сердцах человеческих любви к буйной своей красе.
На розовом горизонте – наплески утреннего света. Чаще и громче трещит лед, из проломов и трещин рвется бурлящая вода. Лед коробится, оседает под воду, дробится с хрустом, будто ломаются толстые доски. Льдины выныривают, ворочаются, как тюлени, наползают на береговые скалы, вспенивают воду. Быстро прибывает река. Стремительнее идут по ней льдины, и вот уже в луговой пойме исчезла под водой полоска прибрежных кустарников. Ледяные глыбы срезают молодую еловую поросль, ворочают с корнями сосны и березы.
Смотрят горожане на могучую игру реки Чусовой.
Она уже в первых солнечных лучах. Шорох льдин и плеск воды заглушают негромкие голоса людей, все более тревожные, ибо лед пошел реже, а разлив воды ширился быстро. Старшина крикнул:
– Затор гдей-то!
И снизу зазвучали громкие ответные отклики:
– Чать, знамо где! У Узкого камня напасть родится. Гляди, вода-то под варницы подошла.
– Не замай! Они на пригорке... А ты на воду, на воду гляди!..
– У Спирьки Сорокина в огороде она, значит, до варниц рукой подать!..
– Вогульские стойбища зальет, а там бабы с ребятишками!
– Чего голосишь, старая? О мальцах нечего печалиться: вогулы загодя в наши стены убрались, воевода Голованов озаботился.
– А со скотиной как? У солеваров поди скотина там?
– Пробудилась! Они ее давно в городок да в монастырь пригнали... Глядите, лед гуще пошел. Прорвало затор!
– А это чего там? Возле мыса.
– Господи, да это, братцы, на нас вал катит! Глядите! Глядите! Так и есть. Помоги, Господи!..
На реке возобновился треск льда. Вал воды со вспененным гребнем, переворачивая в себе льдины и крутя их в водоворотах, катился по реке, мимо городка.
Люди смотрят, как в заречье гибнет то, что создано их руками. Вал смывает избы варниц, переливается через земляные валы слободок, уносит баркасы. Разбивает их о скалы, выкидывает обломки на пригорки в заливных лугах...
Смотрят мужики на бешенство реки, снимают шапки, крестятся; женщины утирают слезы, молят богородицу заступиться за достояние людское.
2
Успокоилась Чусовая, устала разрушать. Слила в Каму взятое с берегов, вернулась в привычное русло. Прибрежные скалы и леса, краски неба и луговая зелень снова отражались в чистой воде.
Ветер нес запахи весны.
Зацвели ландыши. Их дурманный дух дразнил людей на утренних и вечерних зорях. Ростки на ветках елок и сосен загорались красным огоньком, а у пихт они – светло-голубые и мягкие, как кошачьи лапы.
Воевода Голованов и мастер Иванко Строев спозаранок переплывают в Заречье, где стучат топоры. Артели плотников рубят избы слободок и поставы варниц. Чинить порушенное водой помогают все жители городка. Иванко прислан из Кергедана. Семен Строганов наказал его артели сначала пособить чусовским плотникам справиться с разрушениями, а потом наладить и постройку малых судов.
За шесть лет на Каме Иванко возмужал, обрел и морщины. Во взгляде добрых и умных глаз появился раздумный прищур. Погустела и потемнела бородка, охватив лицо косачиным хвостом. Знал теперь Иванко немало больших тревог и забот, но на девичьи взгляды ответных не посылал, будто не ждал радости от любви.
Жил по-молодому. Сверстников и сверстниц не сторонился, но с хороводов и гулянок всегда уходил в одиночестве. Он хорошо понял уклад трудовой жизни в строгановских вотчинах. Не раз уже проявлял смелость во всяких испытаниях на новых землях. Повидал чужую кровь и свою пролил, когда при набеге татар на косьвинский острог укусила его сабля в плечо. Семен Строганов доверял молодому строителю, даже делился с ним новыми замыслами, а Иванко сердцем привязался к хозяину края и твердо знал, что тот всегда поддержит своего мастера-судостроителя всем, что потребно для улучшения дела.
Этой весной в строгановские вотчины густо шел молодой работный народ с Руси из Новгорода, Пскова, Твери; на расспросы, почему пришлось уйти из родных мест, люди предпочитали хмуро отмалчиваться.
В чусовских городках, особенно в Нижнем, наводнение натворило много бед, но следы их стирались с каждым днем: вставали улицы новых слободок, варницы, мельницы, кузни, дворы пушкарские, полотняные, смоляные. Соха пахаря взрыхляла землю пашен. Ложились просмоленными днищами на речную воду новые баркасы, шитики и струги.
Хмурым безветренным утром воевода Голованов и мастер Иванко Строев остановились около соснового сруба новой избы, для которого дряхлый старик и девушка строгали бревно, очищая от коры.
Голованов хорошо знал этого старца – был он из людей подмосковной боярской вотчины, делил с воеводой былые походы, последовал за ним на Каму и жил на покое в слободской избушке Нижнего городка.
– И ты, дед Тимофей, с печки слез?
– А как же, боярин Макарий? Беда, чать, общая. Топор еще из рук не падает. Все польза людям.
– Спасибо тебе! Внучка, что ли?
– Куда там! Пришлая душа. Вовсе недавно, перед самым ледоходом с Руси пришли: она и старуха мать; вода их в мою избу до поры до времени загнала.
– Молодуха, покажи обличив и назовись, чья будешь? – подбодрил чужую крестьянскую девушку Иванко.
Та подняла голову и вдруг выронила топор. Голубые глаза, мягкий подбородок, тяжелая коса, подвязанная узлом, домотканая опрятная девичья одежда...
– Груня?! – не своим голосом крикнул Иванко. – Ты ли это? Аль чудится мне?
Еще не пришедшая в себя от долгого пути и бедствий наводнения, девушка, побледневшая, растерянная, стояла перед мастером, не в силах вымолвить слово. Слишком неожиданной оказалась эта встреча! Неужто явь это, а не сон о минувшем, самом светлом и чистом во всей юности?
– Одно слово скажи: обещания ждать меня не забыла? Свободна ли?
И тут Грунино лицо озарилось такой ясной улыбкой, что слова не потребовалось. Поняли это даже боярин Голованов и дед Тимофей.
– Никак, суженую свою встретил, Иван? – спросил Голованов.
– Она и есть, боярин. Грунюшка это, моя невеста!
Он шагнул к девушке, обнял ее, а та уткнулась головой в его грудь и расплакалась.
Старик вонзил топор в бревно, шепнул Голованову:
– Сказывала мне намедни, что отец ее на правеже стоял, а после в яме помер. Вдвоем с матерью сюда подалась. Да, кажись, не ошиблась. Никак, судьбу свою сыскала? Радостно на такое и поглядеть, боярин!
– Правда твоя, дед Тимофей... Сколько же ты, девица-краса, прождала Ивана своего?
Груня, услышав вопрос воеводы, отстранилась от Иванка и потупилась.
– Шесть годочков, – ответил за нее мастер. – Шестнадцать ей было, как ноги из села унес. Уж увидеть-то ее в глаза не чаял, да вот сама в мою сторону подалась, все, говорит, помнила, как я тогда про Каму толковал с матерью... Только где меня на Каме искать – того не ведала. А ведь нашла! Прощения просим, боярин, дозволь нам теперь с Груней к матушке ее родимой в ноги пасть, благословения испросить!
– Ступайте, ступайте, поклонитесь матери, раз сумела дочь в страхе божьем вырастить! Да смотри, Иван, не забудь на свадьбу позвать! Со свадьбой не тяни, надолго не откладывай – через недельку и сыграете. Довольно твоей Аграфене милого ждать да за тридевять земель за ним бродить – пора ей хозяйкой к тебе в дом войти!
3
Верхний чусовской городок стоял в дремучем лесу на высоком холмистом берегу. Стена окружала его только с трех сторон – с реки не было надобности укреплять город: отвесные гранитные и известковые скалы давали ему надежную естественную защиту.
В пределах городских стен находилось озеро. Большая часть строений городка размещалась по его берегам, среди высоких елей. Озеро невелико, но глубоко, питается студеной водой из родников, бьющих по склонам холмов, тоже охваченных кольцом городских стен.
На маковке самого высокого из этих холмов срублена дозорная вышка, с нее открыт и сам городок, и заречье с лугами и болотами.
На укромной полянке с елочками, неподалеку от дозорной вышки, сидели весенним вечером на бревне строгановский воевода Досифей и старик охотник Спиря Сорокин, по прозванию Суседко, то есть домовой.
У Досифея, сменившего в воеводском звании рясу на опашень, схваченный застежками-пряжками на груди, сильно поредела борода. С прошлой зимы стали выпадать из нее волосы, может, от немочи, а может, и от скорби: сильно мучила Досифея совесть перед хозяином, Семеном Строгановым – не мог себе простить Досифей побега Игвы и Костромина из косьвенского острога.
В городке, на бережку озера, девушки, окончив дневные хлопоты, водили хороводы. Их звонкие песни доносило то слышнее, то тише. Собеседники нет-нет да прислушаются. Спиря Сорокин – седой, сгорбленный, одет по-вогульски, в зипуне из звериных шкур, кожаных штанах и обутках. В город он приехал, чтобы рассказать Досифею о некоем своем открытии, диковинном чуде на Медвежьем острове. Этот остров, глухой, никем не населенный, делит Каму на два рукава выше устья Чусовой. Досифей уже выслушал рассказ Спири, но поверить решительно не может. Вместе с тем он отнюдь не намерен обидеть Спирю явным проявлением недоверия. Ведь старик Спиря – личность необыкновенная и немаловажная. Это старожил края, из самых давних пришельцев на Чусовую и вдобавок человек, водящий дружбу со всеми племенами вогулов и их соседей – остяков, пермяков, вотяков. Лесные люди верят, что Спире благоволят священные духи, что он может с их помощью отнять или, напротив, дать вогульской семье благополучие: теплое зимовье, удачу на промысле и благоденствие в чуме. Вогулы видят в Спире как бы живое воплощение домового, оттого и прозвище – Суседко!
Оба собеседника помолчали, прислушиваясь к песням и хороводам на берегу озера. Спиря исчерпал запас доказательств насчет истинности своего рассказа, однако чувствовал, что Досифей не победил своих сомнений. Он спросил сокрушенно:
– Ужели, досточтимый воевода, слова мои за сказку принял?
– Нет, почему же за сказку? Просто сижу, размышляю о слышанном.
– Так и чуял, идя к тебе, что не дашь веры сказанному.
– Постой, постой, друг Спиря! Как мог бы я, уважая тебя, проявить недоверие к твоим словам? Но ты тоже прими в расчет, что воеводы не вольны необычные вести вслепую на веру принимать, чтобы потом в дураках не оказаться. Понять не могу, как же это все получиться могло.
Досифей встал и знаком пригласил смущенного собеседника последовать за ним.
– Ладно, вот что, Спиря! Дело-то нешуточное. Дойдем до хозяина. Сам ему обо всем и поведаешь. Поглядим, поверит ли. Хватит у тебя храбрости Семену Аникьевичу все рассказать?
– Хватит.
– Не ударь лицом в грязь! Наш хозяин тебя своим уважением не обходит. А ведь он – Семен Строганов! Давай подумай еще разок: не во сне ли тебе все это померещилось? Пора сейчас весенняя, нечистая сила резвится, радешенька над людишками надсмеяться.
– Вот тебе крест, воевода Досифей, наяву все видел.
– Ну, гляди! Значит, идем к хозяину.
Перезимовав в Кергедане, Семен Строганов после ледохода приплыл в чусовские городки, навестил воеводу Голованова, а на житье стал у Досифея. Собирался Семен осмотреть за лето притоки Чусовой, побывать на их истоках, а в проводники выбрал себе бывалого жителя чусовских лесов, охотника Спирю Сорокина.
Семен слушал с крыльца хороводные песни, когда Досифей и Спиря подошли к воеводской избе.
– Дозволь, Семен Аникьевич, новостью затейливой тебе слух потешить. Только упреждаю: ежели сказанному не поверишь, на меня не серчай. С новостью этой Спирька Сорокин из лесов прибежал.
– В избу ступайте. Садитесь. Говори, Спиридон.
– Ну, слушай, милостивый хозяин. Позавчера под вечер заплыл я из Чусовой в Каму и поднялся до Медвежьего острова. Место это на реке знаешь какое глухое? Прямо скажу: зачурованное местечко! На острове нечистая сила всегда водится.
– Зачем тебя туда понесло?
– Причина была: воевода Голованов послал меня гусиных и лебединых яиц насбирать, хочет ручных лебедей и гусей домашних в крепости завести. Я и подался на Каму.
Бережки Медвежьего острова не везде каменисты, есть низины. Там лебеди гнезда вьют. Подплыл я на закате, гребу потихоньку вокруг острова, поглядываю, где лебединые гнезда. Их не сразу заметишь. Стали попадаться гнезда, набрал я по яичку из каждого, всего пять или шесть. Сложил их в теплую шапку, сверху овчинкой прикрыл и уже в обрат подаваться решил. Вот тут-то и обмер я до морозу в теле: веришь ли, чью-то песню услыхал! Вот те крест, хозяин. Слышу, будто поет девушка. Даже слова разобрал, наши, русские, родные. Пристал я живо к берегу, заплыл в кусты да и притаился.
Видать мне было за береговыми валунами лесную опушку и начало тропинки. Оттуда и песню доносило, пока не смолкла она. Хрустнула там, на тропинке, веточка, и тут я углядел такое, что лоб сразу намок. Вышла из лесу на закатное солнышко седая монахиня с посошком, а с нею девушка, молоденькая совсем. Вышли обе на бережок, тут молодая опять запела. Поет, а сама Камой из-под руки любуется. Сели потом на камень, стали разговаривать, только мне уж не слышно.
Семен вопросительно посмотрел на Спирю.
– Чего замолк?
– Девушкин лик вспомянул. Пригож! Волосы – будто спелая рожь, а очи – что васильки в ней...
– Что ж дальше-то было?
– Посидели они на бережку и опять ушли по тропке в темень леса. А я живым духом выбрался из засады и подался на Чусовую, к тебе.
– Кому о виденном сказывал?
– Никому.
– Дельно поступил.
– Неужто думаешь, хозяин, что Спиридон на острове явь видел? – спросил Досифей с досадой.
– Гадать не станем, сами поглядим. Завтра туда, как светать начнет, в лодке подадимся.
– Поверил, будто монахиня с девушкой на Медвежьем острове одни живут? Пустое это все. Не езди, хозяин! Ты, Спиря, мои слова в обиду не прими, только неспроста там приманка эта положена. Либо сила нечистая, либо хитрость вражья.
Строганов пристально глядел на Спирю.
– А больше никаких там людей не видал?
– Никого там нет, иначе дым замечен был бы или сети на берегу. Говорю, одни они там – девушка и старуха.
Семен Строганов велел Досифею наутро приготовить ладью и прихватить лишнего человека для тайного похода.
– Ратников лучше взять.
– Без них обойдемся.
– Воля твоя, хозяин, но опасаюсь засады. Ни за что не поверю, чтобы две честные женщины одни в эдаком проклятом месте объявились.
– Лучше всего возьмем с собой Алешку-псковича и твою волчицу. Завтра чуть свет поплывем на остров.
4
Выше устья Чусовой, посредине Камы, лежал Медвежий остров. На нем глухой лес. Один берег острова скалистый и обрывистый, а другая сторона пологая, уходит под воду песчаными намывами либо болотами.
У вогулов остров издавна считался священным: там обитали главные злые духи, и посещение его человеком почиталось тяжелейшим святотатством.
Медвежьим его назвали плававшие по Каме торговые люди с Руси, потому что не раз видели, как на береговых намывах отлеживались, отдыхая, медведи, переплывавшие Каму.
* * *
Над Чусовой начинался ранний рассвет. Середина реки укрыта прозрачным туманом. На берегах запах ландышей местами так силен, что дурманил человека, и казалось, что им пропиталась даже вода. В заводях крякали утки.
Семен Строганов со спутниками миновали на Чусовой Нижний городок. С его стен, отраженных в воде, лодку углядели и окликнули дозорные:
– Кто такие на воде?
С лодки прозвучал условный строгановский отзыв:
– Хомуты чинить везем.
Алеша-пскович со Спирей гребли, а Семен и Досифей сидели на корме и бездумно следили, как наливается небо красками утренней зари.
Спиридон Сорокин любил новым людям рассказывать, как началась его жизнь на Чусовой. Он толковал об этом соседу-гребцу. Выходило, что появился он в этих местах пораньше, чем Аника Строганов в камском крае. Пришел с Руси вместе с братом. Спире было тогда двадцать лет, а брату Пахому – восемнадцать. Неведомыми тропами добрались до Чусовой с новгородскими ходоками, залюбовались дикими горными местами, порешили здесь наладить новое жилье.
Выбирая место для жилья, братья поднялись на небольшую горку и увидели на вершине вытесанного из дерева истукана. Парни оглядели идола и решили, что он им не помеха. Недолго раздумывая, срубили себе жилье возле идола.
Вскоре, в первую же полнолунную ночь, пришли на горку вогулы с кудесниками на моление и увидели возле идола жилье, по виду для них необычное.
Братья мирно спали в избушке. Проснулись от криков. Вышли из избы и перепугались, увидев вогулов, а те тоже испугались и начали им кланяться. Только потом парни узнали, что вогулы приняли их за добрых духов-воителей, спутников их главного бога Чохрынь-ойки, в людском облике. Благодаря этому обстоятельству братья хорошо прожили десяток лет, пользуясь у вогулов уважением. Научились разговаривать по-вогульски, узнали все способы охоты на любого зверя. Так незаметно до того обжились, что и про Русь редко вспоминали и даже одеваться стали в вогульские одежды из звериных шкур.
В одну из лютых зим Пахом, выискивая медвежьи берлоги, заблудился и замерз в лесу. Вогулы нашли тело только по весне и похоронили с почетом.
Однажды весной набрели сюда новые выходцы с Руси, заметили жилье Спири, обрадовались, а он обрадовался землякам, много дельного порассказал им про здешнюю жизнь.
Показал пришельцам место на берегу Чусовой, где присоветовал ставить починок. Те послушались Спирю и выбрали его над собой старостой. Редкий год не появлялись на Чусовой новые беглецы с Руси. Места для поселения тоже выбирали по указу Спири. Потом на Чусовой объявился монах Трифон с вятской земли. Подружился со Спирей и срубил для себя часовенку-скит на горке.
Так и подошло время к той осени, когда Семен Строганов появился на Чусовой хозяином, и опять помогал Спиря отыскивать усторожливые места для постава городков-крепостей, теперь уже строгановских.
Взошедшее солнце расстилало по воде Камы дорожки, расшитые золотыми блестками. Лодка подплыла к острову, когда у его берегов звонко гомонило все птичье царство, встречая утро.
С лодки было видно, как пришло на водопой стадо сохатых в шесть голов. Могучий вожак с начесами мха на рогах, прищуривая глаза от солнца, перестав пить, поднял голову и равнодушным взглядом осмотрел людей в лодке, проплывшей от него не дальше как в двух саженях. Досифеева волчица было оскалилась, но хозяин не дал ей встать со дна лодки.
Спиря указал Строганову на прибрежные кусты.
– Причаливать надо. Вон тропка.
Люди высадились, Спиря спрятал лодку в кустах, ронявших капли росы.
Все четверо и волчица миновали небольшое болотце, приминая ногами пахучий снежок цветущих ландышей. Из болотца, обходя валуны, выбрались на тропку.
– Вот здесь сидели. Видите следы?
Семен взглянул на отпечатки различных следов. Птичьи и заячьи были свежими, медвежьи – старыми, и среди всех этих отпечатков лесной жизни отчетливо выделялись следы человеческие.
– Теперь что скажешь, Досифей? – спросил Семен.
– То и скажу, что Спиридону, стало быть, виденное не померещилось.
Тропа повела в глубину леса. Путников обступила со всех сторон сырая холодная чаща. Ноги вдавливались в мякоть опавшей хвои. Пахло смолой и перегноем. Корни спутывались между собой, переползали тропку и мешали идти полным шагом. Влажные сучья цеплялись за одежду. Шли гуськом, соблюдая осторожность. Волчица бежала впереди.
Лесная чаща стала редеть, тропка поднялась в гору среди сухостоя давнего пожара, потом пошла виться среди мшистых скал, поросших ельником, кустарником и березками со свежей листвой, еще липкой от весенних соков. Неожиданно тропка вывела на каменистый берег озера, окруженного березами, осинами и цветущими черемухами. В озерном омуте потонули сваленные прошлыми бурями деревья-великаны. Из воды торчали синие валуны и обломки скал в пушистых разноцветных мхах.
Со всех сторон были слышны посвистывания рябчиков. Спиря дотронулся до плеча Семена. Семен разглядел среди скал противоположного озерного берега, над вершинами черемух, угол крыши с почерневшим крестом.
– Экое местечко баское! Айдате.
Тропка снова взяла в сторону от озера, провела путников сквозь пихтовую заросль под гранитным обрывом, где почти потерялась в осыпях щебня, затем вновь обозначилась, ясно огибая болото на берегу озера.
Над головами перепархивали рябчики, а когда путники добрались до рощицы черемух, прямо из-под полога ивовых зарослей отплыла от берега пара диких лебедей.
Люди очутились здесь в краю непуганых птиц и животных.
И теперь, очутившись в этом загадочном, поистине заповедном месте, никто уж не удивился, когда прямо у воды, под деревом, на сером камне-валуне увидели таинственную хозяйку острова!
Совсем как в старых сказках, она сидела на камне, глядела на свое отражение в воде и расчесывала гребнем волосы, чтобы заплести косу. Она была так погружена в свое занятие, что не увидела пришельцев.
Тут под ногами неосторожного Досифея хрустнула ветка. Девушка прислушалась, обернулась и... заметила четырех мужчин и большую седую волчицу. Девушка испуганно спрыгнула с валуна, побежала к избе, укрылась за стволом березы и крикнула в страхе:
– Матушка!
– Не пужайся нас! – сказал Семен ласково.
Дверь избушки скрипнула. Вышла седая монахиня, но от неожиданности, при виде пришельцев она замерла, даже не осенив себя крестом.
– Мир дому сему, – поспешил успокоить обеих островитянок Семен Строганов.
– Добро пожаловать, люди добрые! Мир и вам, ежели сюда не со злым умыслом пожаловали. Кто будете?
– Строганов Семен со своими людьми покой ваш невзначай нарушил. Остров оглядеть надумал, потому – мой он.
– Про Строгановых слыхивала. Аннушка, не бойся, поди-ка сюда.
Памятное имя! Семен пристально смотрел на девушку, пока та, покинув убежище за березой, шла к матери.
– Дочка моя: Анна Филипповна Муравина.
– Как себя величать велишь? – спросил Семей.
– Зови матушкой Алевтиной. Стало быть, проведали люди про наше житье на острове? Не убереглись мы с доченькой.
– Случай помог. Не на ладном месте, матушка, скит поставила.
– Миловал господь, два годочка спокойно прожили.
– Кабы вогуличи про вас дознались, пожалуй, огнем бы вас с острова выжгли. Он у них священный. Сюда человеку доступ заказан, так по-ихнему.
– Пожалуй в избу. За бедность не обессудь. Ты, Аннушка, скорехонько заплети косу да кваском брусничным гостей попотчуй...
На закате монахиня Алевтина и Аннушка проводили нежданных гостей до места, где тропка входила в лес.
Семен Строганов, молчаливый и нахмуренный, сидел в лодке. Спутники заметили, что помрачнел он, когда вышел из избы после беседы с монахиней. Толковали они долго, оставаясь с глазу на глаз. Досифею, конечно, очень хотелось знать, о чем беседовал хозяин с монахиней, но спросить об этом чусовской воевода не посмел.
Когда подплывали к устью Чусовой, уже темнело. Семен вдруг спросил.
– О чем с девицей Анной без меня беседовали?
– Про Чусовую да про волчицу расспрашивала.
– Чего молча сидите? Песню бы какую спели.
– Изволь хозяин, – согласился Досифей. – Только не обессудь, что думы одолевают. Сам пойми: опасно мать Алевтину с девушкой на острове оставлять!
Алешка-пскович затянул песню. Все было подхватили припев, но тут же со дна лодки раздался жалобный вой: волчица Находка не терпела поющих голосов! Семен махнул рукой, певцы замолчали. Лодка уже шла по Чусовой, и скоро замигали впереди огни на дозорных башнях ближайшего Нижнего городка.
– Здесь причальте, – велел Семен. – Ночевать буду у воеводы Голованова, а вы Досифея в Верхний городок доставьте и сразу же в обрат подавайтесь: пусть Спиря проведает, нет ли там, близ острова Медвежьего, лазутчиков вогульских или ордынских. При самой малой угрозе – стрелой ко мне сюда лети!
5
К ночи, темной и неприветливой, разгулялся напористый ветер, зашумели леса вокруг Нижнего городка. Растревоженные шумом, собаки подняли разноголосый лай. Дозорным на стенах приказано было глядеть зорко, потому что намедни кто-то из охотников сообщил, будто видел в чусовских лесах небольшой отряд татарских разведчиков. А тут еще и собаки надрываются – кто их знает, может, и чуют опасность...
Ветер разволновал реку, она глухо билась о каменистые берега, точно и реке передалась тревога...
В воеводской избе мигает огонек: чадит фитилек, опущенный в плошку с жиром. За этим немудрым светильником сумерничают Голованов и Семен Строганов. Перед каждым ковшик с суслом.
Семен уже рассказал воеводе обо всем, что повидал на Медвежьем острове и услышал от монахини Алевтины. Рассказал, как в избушке-келье перед ним воочию предстал крошечный уголок московской Руси, как хозяйка со слезами на глазах молила его сохранить в тайне ее убежище на глухом острове.
– И давно они там хоронятся?
– Говорит, уже почти два года.
– Кто же их туда доставил и чем живут?
– Сказывает, что верные слуги помогли, перевезли в ладье из женского монастыря на Волхове, и с тех пор каждую весну и каждую осень приезжают проведать и припасы доставляют.
– Неладно, Семен Аникьевич! Значит, опасный у них враг, коли тайно в пустыне нашей без защиты спасаются. Не дознался ли ты, от кого они в побег ушли?
– Понял я одно: хуже смерти мать Алевтина людей московских боится. Видать, опасается, как бы до царского двора слух о ней не дошел. Конечно, с первого взгляда всю правду о себе она выложить не могла, но чует мое сердце, что не из простого рода эта монахиня Алевтина.
– В какой обители постриг приняла, не помянула?
– Нет.
– Думаешь, надо их в крепость перевезти?
– Обязательно нужно. Дознаются о них вогулы – живыми не оставят. У них на этот остров запрет наложен под страхом смерти.
– А монахиня даст согласие в городок перейти?
– Не даст, так силой перевезу. С вогулами шутки плохи, если кто против их правил поступает. Народ хороший, людей с Руси встречают добром, но кощунства не потерпят. Потому и говорю, волей или неволей, а увозить оттуда женщин этих надо поскорее.
– Думаю, что рассудил ты правильно.
– Значит, и откладывать нечего. Утром съезжу с людьми на остров и заберем их оттуда. Спросим совета у Трифона Вятского, как их житье здесь наладить.
– Добро. В разговоре монахиня имени своего мирского не помянула?
– Нет, только дочь назвала: Анна Муравина.
От этих слов Голованов сделал такое порывистое движение, что по стене заметались тени.
– Муравина? Свят, свят! – Воевода торопливо перекрестился.
– Знаешь ее?
– Как не знать боярыню Муравину? Поверить страшно, куда ее судьба завела. А ведь за этой судьбой вся именитая Русь следила.
– Мы тут на краю земли. Может, порасскажешь мне, лесному человеку?
– Будет прибедняться-то, Семен Аникьевич! Рассказал бы, да тягостно вспоминать.
– Неволить не стану. Может, и впрямь лучше не ворошить памяти твоей.
Голованов прошелся по горнице, понизил голос.
– Мне ли в просьбе тебе отказывать, Семен Аникьевич? Ничего от тебя не утаю, но обещай мне услышанное в себе похоронить.
– Обещаю, Макарий Яковлевич.
– Дело давнее. Тогда еще и во мне молодость кровь будоражила. Матушка Алевтина была тогда еще боярышней Хлебниковой, новгородка родом. Без матери девушка выросла. Любимица была у отца. Красавица видная. Весь Новгород про ее красу знал. Своевольная была, над людьми молодыми кичилась, над подружками верховодила. Себя поумнее других считала, над стариками и то порой посмеивалась. Пригожесть свою превыше всего ставила. С материнской стороны была в ней свейская кровь.
Говорил Голованов почти шепотом, часто останавливался и, как бы желая прояснить память, потирал лоб рукой.
– Сватались к ней многие, но до поры, до времени она свах от ворот гнать велела. Выбирала, выбирала жениха да и пошла замуж за боярина Филиппа Муравина. Слышал небось о таком? Вотчина его – в костромском уезде. У царя был в почете, муж зело честен и годами зрел, едва ли меня моложе. Боярыню свою молодую как зеницу ока лелеял, в холе жила, одевалась по-царски. Красота же ее в супружестве и довольстве еще ярче расцвела, павой ходила и свет божий собой затмевала, как сказывают. Дошел, знать, слух и до государевых ушей, притом царица Анастасия, упокой господь ее светлую душу, еще жива была, но уже от недугов страдала – царь ее, хворую, и на охоту, бывало, брал, и по монастырям на богомолье в распутицу самую возил. Тут беда с младенцем царевичем приключилась – в полую воду утопили царского сына малолетнего в Шексне – знать, не угодно было господу богомолье Иваново!
С этой беды впадал царь Иван в скорбь, смутен душой становился, виноватых искал. А кто виноват, коли сам Сильвестр царя от поездок отговаривал, здравие царицы поберечь молил, от тягот дорожных ее, немощную, оборонить пытался? Да разве с государем поспоришь! А чтобы после беды государь не больно гневался, нашлись и такие советчики, из нынешних приближенных, что подсказали Ивану Васильевичу новую забаву – мол, навести, государь, муравинскую вотчину. Дескать, больно там и двор, и терем богаты, да супруга пригожа...
Загостился царь у Муравина. Однажды под вечер услал боярина со двора. Тот поехал, но, видно, старик учуял неладное; с полдороги воротился домой в ночную пору да прямо к опочивальне, а перед нею – царские телохранители. Боярин Филипп был крутого нрава. Стражников оттолкнул, в покой ворвался, а там супруга его без чувств, и царь с ней, беспамятной, забавляется. Не стерпев позора, Муравин кинулся было на обидчика, да подоспели слуги, и вмиг не стало боярина.
Царь поутру отъехал. Боярыня похоронила мужа, а сама удалилась в деревню, подальше от глаз людских, и там родила дочь Анну. Было это уже после казанского похода, стало быть, дочери сейчас семнадцать годов. А чьих она кровей, боярских ли, аль того выше, верно, один господь ведает.
Замолчал Голованов, походил по горнице, присел к столу. Семен слушал, не роняя ни словечка. В тишине явственнее звучал тревожный собачий лай в крепости.
Воевода продолжал:
– Видно, запала царю в память боярыня Муравина, что думу о ней и после кончины царицы Анастасии не оставил. Повелел царь выведать, где вдова Муравина прячется, и послал туда своих подручных. Привезли боярыню неволей в тайное место, потешился здесь Иван и опять полонила его краса молодой вдовы-боярыни: не обык, верно, Иван Васильевич к женскому непокорству, в диковину оно ему показалось! Велел он отослать боярыню в отдаленную обитель близ Новгорода, под строгий присмотр к игуменье. А та вняла слезам боярыни, а может, на богатство польстилась: все добро свое отказала монастырю боярыня Муравина, чтобы здесь же постриг принять. Только дочери Анне на приданое несколько золота заранее спрятала, остальное – все обители отказала.
Царь, как узнал, что она заживо к богу от царской милости спаслась, распалился гневом на игуменью, в ссылку ту сослал, на монастырь опалу наложил – как слышно, сожгли его потом, в новгородском погроме. Злопамятен у нас государь, сам ведаешь! Но это я вперед забежал, а тогда, узнавши о постриге Муравиной, Иван приказал было оставить ее в покое, тем более, что посватался к татарской княжне Марии Темрюковне, крестить ее велел да вскорости и свадьбу играть. А тут кто-то и шепни царю, что у инокини Алевтины дочь Анна в Новгороде у родных растет и что дочь эта, Анна Филипповна Муравина, родилась примерно через неполный годок после того, как царь в Костроме погостил, а боярин Муравин в одночасье преставился...
Кинулись опять инокиню Алевтину разыскивать, а та тем временем в другую обитель ушла. Царь велел найти ее во что бы то ни стало. Розыск тайный учинили, но Алевтину заранее предостерегли. В эту пору скончалась царица Мария, уже опричнина по Руси гуляла, с князьями Старицкими расправа пошла – не до Алевтины Ивану было. Розыск тем временем шел своим чередом, и разведали псы Малютины, что девочка Анна достигла уже тринадцати годов, а мать ее, инокиня Алевтина, в малой обители под Новгородом келейничает.
Знала Алевтина царский нрав, добра не ждала ни себе, ни дочери. Жили настороже, шороха опасаясь. Мать с дочерью часто виделись, слух дошел до них, что царские опричники уже Тверь жгут и походом к Новгороду приближаются. Собрались в дорогу и бежали, а куда, никто не знал, кроме верных им старых слуг. Узнал я все это от своих людей, что из Новгорода воротились, да не думал, не гадал, что так близко отсюда инокиня Алевтина с боярышней Анной схоронилась. Вот, гора с горой не сходится, а человек с человеком – непременно сойдутся! Родственница она мне дальняя по матери. Одинаковые у нас с ней судьбы бродяжные, как у многих честных людей на Руси нашей!
Голованов встал и прошел к двери. Долго прислушивался к собачьему лаю.
– Не унимаются псы-то. Боюсь, неспроста это! Правда, Семен Аникьевич, надобно немедля с острова Медвежьего женщин увезти. Не вражьи ли лазутчики под стенами шастают? Пес опасность загодя чует!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Не зря заливались лаем в ночи все нижегородские собаки!
Наутро разразилась на Каме и Чусовой свирепая буря. Челны и лодки рыбаков, выходивших на промысел, разбросало, часть перетопило, часть выкинуло на берег.
Бушевала непогодь почти полные сутки, в лесах ломало деревья, в городках срывало крыши. Нечего было и думать о том, чтобы идти на струге к Медвежьему острову. Семен Строганов сидел в воеводской избе у Голованова, глядел в подзорную трубу на взбесившуюся реку, клял погоду и ждал, пока хоть немного прояснеет. Он еще не подозревал, что крепостные псы напророчили не просто бурю, а беду грознее!
Ночью в крепость явился Спиря Сорокин, сразу потребовал допуска к «самому». Семена Аникиевича разбудили из первого сна.
Не спал и воевода Голованов. Накинул татарский халат на плечи, прошел в покой к Строганову. Полуодетый Семен слушал невеселое донесение Спири Сорокина. Тот, весь измокший и изнуренный дальней дорогой, бросал односложные слова, стаскивая с себя по приказанию хозяина мокрую одежду и обувь.
– Как добрался в такую непогодь? Неужто в лодке доплыл?
– Куда там! Пешком, хозяин, бежал, лесом да болотами. Только на выселках лошадь выпросил, доскакал до того берега Чусовой. Там перевозчика еле упросил переправить к тебе. Плохо дело, хозяин. Вогулы окружают Медвежий остров, зло у них большое на людей, что запрет нарушили, на острове поселились. Шаманы туда толпами народ свой скликают. На обоих берегах Камы уже небось сотни две собралось, изо всех лесов стекаются.
– И, говоришь, наши вогулы тоже туда подаются?
– Главный шаман ихний уже там. Наших, строгановских людей, тоже покликать велел. Сказал им, чтобы они пришлым, дальним вогулам помехи не чинили чужую нечисть огнем выжечь с острова. А ежели, говорит, будете заступаться за них, позовем татар из-за Каменного пояса и с ними вместе будем воевать строгановские вотчины на Чусовой.
– Что скажешь, воевода? – спросил Семен. – Скоро ли сможем к походу изготовиться?
– А велику ли силу думаешь в поход снаряжать?
– Сотни две их там, так, что ли, Спиря?
– Вчера сотни две, нынче могут быть и четыре. А число смелости прибавляет.
– Послушай, Спиридон-охотник, не ведаешь ли ты, по какой причине у них строгий запрет на остров положен?
Неожиданно для ночных собеседников Спиря Сорокин вдруг упал на колени перед иконами и начал бить поклоны и класть кресты.
– Ты чего, Спиридон? – ласково осведомился Семен. – Аль занедужил или испугался чего?
– Батюшка милостивец наш, хозяин земли камской! – заговорил Спиря, не вставая с колен. – Не заставь греха на душу принять. Любую твою просьбу исполню – а от этой уволь! Не хочу греха клятвопреступления на душу взять!
– Нешто ты вогулам клятву дал сию тайну от меня хранить? – Семен Строганов подошел к Спире. – Встань, Спиридон! Не богу твоя клятва, а силе бесовской. Неужто женщин невинных смерти предать позволишь?
Сорокин закрыл лицо руками, но молчал.
– Не на тебя, на меня грех падет. Я принудил тебя тайну вогульскую открыть! Вижу, нелегко тебе с этой тайной жить, православных людей врагу предавать. Сознайся, Спиридон!
– Коли сознаюсь – не жить тебе, хозяин! Не минует тебя месть языческая. На том я и поклялся. Не себя, тебя от беды молчанием своим ограждаю.
– Спасибо на такой заботе! Стало быть, говори! О себе же сам я и потревожусь.
– Что ж, будь по-твоему, хозяин. Помни, сам напросился! Лет тому назад более сотни жило на Медвежьем острове малое племя вогульское, и все остальные племена тех островитян как огня боялись: их стрелы разили насмерть, даже ежели малая царапина от стрелы приключалась. Будто узнали они корень заповедный, что на том острове обильно произрастал. Добывали из корня яд в тайной пещере на острове – там и очаг, и все снадобья были. Потом у этих островитян между собой распря кровавая получилась, перебили они друг друга. Последний в их роде был шаман бездетный, уже старик. Перед смертью перебрался с острова на берег, велел к себе главного племенного шамана-волхва позвать. Признался тому на смертном ложе, что на острове много разведено того корня, только зреет он долго – в пяток лет один разок можно его собирать и отраву варить. Все доверил умирающий главному волхву – и где корень живет, как зелье варить, где опосле отраву хранить, чтобы силы не теряла, и с какими заклинаниями стрелы и копья тем ядом мазать. С тех пор только раз в пяток лет один шаман по имени Служитель Корня на остров переплывает. Живет там месяц один, богам своим молится и смертное зелье варит.
– А как же ты распознал об этом? – спросил Строганов.
– Мне про то вогулич поведал, у коего отец этим Служителем Корня был. Тот вогулич по нечайности себя стрелой травленой поранил и в моем жилье смерти ждал. В благодарность за мои заботы поведал мне сию тайну, под страшной клятвой. И веришь ли, как поведал, так в одночасье и кончился. Да сказал еще, что кому я тайну про корень открою, тот неминуемо смерть примет от стрелы отравленной, мне же, клятвопреступнику, счастья на земле не видать, близких не иметь, под проклятием ходить.
– Занятная побасенка, – проговорил Строганов в раздумье. – Похоже, к истине близка. От простых стрел пока господь миловал, может, и отравленная минует! Будто стихает буря-то? Слышь, боярин, против двух, а то и четырех сотен кочевников на одном струге к острову не сходишь, так ведь?
– На одном не сходишь, три снарядим. Твой, на коем сюда из Кергедана приплыл, да моих здешних два. На твоем пищали есть, на мои – пушку-единорог поставим. Велишь идти, народ на струги скликать?
– Ступай, Макарий Яковлевич! Наш корабельщик, Иванко Строев, с огненным боем лучше пушкарей управляется. Вели ему с нами идти.
– От молодой жены в поход берешь моего мастера? Ну да делу – время, забаве – час!
– К Досифею в Верхний городок нарочного пошли, вели караулы удвоить и про сон покамест позабыть, в готовности быть к боевой тревоге...
2
В утро, когда три вооруженных струга покинули причалы под Нижним городком, небо еще не освободилось от туч, ветер, хоть и приослаб против вчерашнего, дул с пронзительной силой. Иванко, правивший головным стругом, велел ставить полпаруса. Его маневры повторяли остальные суда. Низовой ветер с Камы был попутным; струги, миновав устье Чусовой, вышли на камский стрежень и полетели, словно три оперенных лебяжьим пером стрелы...
Когда впереди появилась смутная громада острова и река раздалась на оба рукава, Иванко проявил осторожность, показавшую, что воинские походы с Досифеем не прошли для него даром. Он решил держать путь не узким проливом, а широким, хотя здесь берега для причала неудобны. Зато подальше от вогульских стрел с камского берега!
Строганов сидел в рубленой избе на толовном струге. По требованию Голованова, следовавшего на втором струге, Строганов был в стальном шишаке и надежной кольчуге. В боевом уборе был и Иванко Строев. У пушкарей дымились фитили для пищалей и единорога. Ядра кучкой сложены у борта, пороховые бочки – наготове.
Спиря Сорокин указал Строганову на два дымка, струйками поднимавшиеся к небу на левом берегу Камы.
– Вон они! Видишь стан?
Едва Семен разглядел приметы большого лагеря на лесной опушке, оттуда вдруг донесло резкий свист, протяжные визгливые выкрики, и вся опушка ожила. Стало заметно, что в прибрежных кустах скрыто много челнов и лодок-каяков. К ним заторопились темные фигурки. Семен навел туда подзорную трубу: десятки вогульских воинов в боевых уборах, с луками и саблями! Были и конные воины, на маленьких татарских лошадях...
Тем временем Иванко выбирал место, чтобы причалить к острову. Пока струги, замедлив ход, приближались к острову, еще не выбрав места для причала, от камского берега уже отвалило несколько челнов. Они пошли наперерез стругам и скоро приблизились настолько, что свистнули первые стрелы. Они перелетели через струг, одна впилась в холст паруса, другая вонзилась в борт.
– Всем укрыться в избе! – велел Иванко своей команде. – Парус спустить, чалиться будем... Здесь и берег пониже, и кусты для укрытия хороши... Хозяин! Еще челны плывут! Стрелы гуще! Не велишь ли пищалью пугнуть?
– Не миновать сего, Иване! Наводи!
Заряженную каменным ядром пищаль, лежавшую на деревянной подставке, сам Иванко направил на скопление челнов.
– Пали! – крикнул он пушкарю с фитилем. Тот приложил тлеющий фитиль к запальному отверстию.
Пищаль грянула. Весь струг заволокло дымом, будто на него с небес спустилось серое облако. С челнов донесло крики. Объятые страхом перед небывалым огненным оружием, люди на челнах поворачивали обратно и торопливо гребли к берегу. Ударила пушка со второго струга – это Голованов приказал стрелять по берегу. Ядро достигло берега, послышались крики ужаса, берег мгновенно опустел – пришельцы бежали под защиту лесной чащи.
Семен велел Иванку Строеву остаться на струге и держать под прицелом пищалей противоположный берег. Сам же с отрядом верных людей чуть не бегом побежал к знакомому озеру.
Воевода Голованов со своим отрядом пошел на другую сторону острова, чтобы оттуда, со стороны узкой протоки, не появилась негаданная опасность. Воевода не ошибся: там, прячась за деревьями и кустарником камского берега, отстоявшего здесь от острова всего сажен на сто, затаились десятки вогульских стрелков.
Стало ясно, что вогульские воины обложили остров с двух сторон и ведут тщательное наблюдение – никто не смог бы явиться на остров или покинуть его незамеченным, не угодив под целый дождь стрел или метательных дротиков. Помня ночной рассказ Спири, Голованов и Строганов одни понимали, какую опасность может таить самая ничтожная царапина, причиненная этим оружием вогульских охотников и воинов, чью фанатичную ненависть к жительницам острова успели разжечь шаманы и волхвы, хранители страшного островного корня!
3
Обе островитянки еще раньше, чем началась пушечная стрельба, видели приближение стругов, а накануне они заметили вогулов на берегу. Было и несколько стрел с правого, близкого, берега – монахиня Алевтина и боярышня Анна поняли, что их обнаружили и хотят взять в плен. Поэтому Строганову не пришлось уговаривать мать Алевтину. Она сама помогала торопливым сборам, чтобы не оставить на острове никаких следов их двухлетней жизни в скиту на озерке. Строганов спешил с отплытием. Когда вышли на берег к стругам, заметили, что снова скапливаются на берегу чужие лесные пришельцы. Женщин подхватили на руки и перенесли на судно. Еще несколько стрел на излете достигли стругов, когда Иванко подал голос к отплытию. Для острастки снова ударила пушка с головановского струга. Боярышня обмерла от страшного звука, а вогульские стрелки исчезли как снесенные ветром.
Под парусами, готовые к бою, все три струга к вечеру благополучно достигли Нижнего городка. В воеводской избе в тот вечер долго светилось оконце: два старых человека, Макарий Голованов и мать Алевтина, претерпевшие годы суровых гонений, беседовали друг с другом о длинном списке потерь, понесенных их боярскими родами от Ивановой мести.
4
Через два дня разогнанные на камском берегу вогульские племена оправились от испуга, получили большие подкрепления и внезапно напали на строгановские сторожевые заслоны соляных варниц в низовьях Чусовой. Им удалось застать стражу врасплох и перебить ее. Поселян, оставшихся в живых, они увели в плен, а соляные промыслы сожгли.
В ответ, чтобы помешать шаманам разжечь общий мятеж вогулов, Семен Строганов взял заложников во всех вогульских станах на его землях.
Однако набеги не прекратились. Уже после пожара на варницах мятежные племена напали на два каравана строгановской соли. Пленных плотоводов шаманы подвергли жестокой казни: их сожгли на кострах против Медвежьего острова. Вскоре последовал ночной набег на Нижний городок.
Самому городку набег не причинил никакого вреда, но загородный монастырь Трифона Вятского был подожжен, а возле него мятежники вырезали целое поселение вогулов-христиан.
Пожар монастыря вовремя заметили из городка. Ратники совершили смелую вылазку, завязалась жестокая битва с осаждавшими. В этой схватке защитники городка разбили противника, взяли пленных, а потом потушили пожар в монастыре.
Прошла после этой битвы еще тревожная неделя, когда каждую ночь из лесных чащ летели в стены городка стрелы с горящей смолой. Но урона от них не было: жители были начеку и тушили пожары сразу.
Труднее доставалось Верхнему городку. К его стенам леса подступали вплотную. И воеводе Досифею пришлось вырубать просеку в сто сажен шириной под угрозой вогульских луков.
Потом пришла весть, что вогулы осадили косьвинский острог. Строганов послал в помощь осажденным воеводу Досифея с дружиной ратных людей. Вестей от него долго не было.
Проходили дни, а покой на Чусовой не наступал. В Нижний городок к Семену явились послы от главного волхва. Он требовал, чтобы обе женщины, увезенные с Медвежьего острова, были выданы людям племени для суда и ритуальной казни, ибо они виноваты в святотатстве и кощунстве. Самому Строганову волхв предлагал увести своих людей с Чусовой, закрыть варницы и срыть крепости. Если эти требования будут приняты, вогулы обещали прочно замириться со Строгановыми.
Семен ответил послам решительным отказом и показал им царскую грамоту. Тогда послы пригрозили, что их племена, и без того многочисленные, кроме того, обратятся еще за помощью к черемисам и сибирским татарам. Все строгановские владения в крае будут уничтожены. За угрозы Семен приказал выгнать послов за ворота городка.
Одновременно воротился с Косьвы Досифей. Косьвинский острог пострадал, понес потери и получил повреждения, но выстоял. Однако Семена, как и самого воеводу, сильно встревожило то обстоятельство, что набег на Косьве был не вогульским, а татарским. Это грозило немалыми бедами. Потому Семен Строганов совершенно равнодушно принял сообщение Досифея, что бывший игумен Питирим пытался в дни осады перебежать к татарам, но беглеца настигла со стены меткая стрела, и он был убит наповал. Строганов, выслушав эту весть, нетерпеливо махнул рукой и заговорил о другом.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
В болотах, по берегам омутов и на кочках чусовских мочажин расцвели незабудки.
К этому времени вогульские набеги стихли. Мятежные племена кочевников встретили такой отпор, что одно за другим покидали Каму и Чусовую. На реках постепенно наступила мирная жизнь, однако Семен Строганов не дремал. Изо дня в день он увеличивал ратные дружины крепостей и острогов, нанимая пришлых людей в строгановскую охрану. Платил за службу и деньгами, и хорошими харчами, а потому желающих было немало.
Наступила полоса неустойчивого, обманчивого покоя, когда оба чусовских городка жили как бы среди всегда настороженной тишины.
Все эти недели Семен каждый день виделся с Анной Муравиной. Ей отвели половину избы Голованова, где она поселилась с сенными девушками и взяла в услужение старуху костромичку Евдокию, тещу Иванка Строева, так как матушка Алевтина пожелала остаться в одиночестве, вдали от людей. Выполняя ее желание, для нее срубили скит-келью в красивом укромном уголке соседнего, Верхнего городка.
В думах Семена Строганова Анна Муравина занимала все более важное место. Жизнелюбие и душевная сила девушки поражали его, и неожиданно для себя Строганов ощутил прилив неведомого доселе чувства, именно чувства нежности к этой совсем молодой боярышне, столько пережившей и в то же время сохранившей жизнерадостность и сердечную чистоту.
С каждым днем это чувство нежности росло, и он боялся поверить, что появление в его судьбе этой юной боярышни пробудило в душе ту самую большую любовь, о которой пророчески говорила годы назад Катерина Строганова в Кергедане.
Забывая даже о неотложных делах, Семен отдавался во власть новому чувству, а боярышня Анна, покоренная той могучей силой, что исходила от «хозяина Камы», потянулась к нему, своему избавителю, всей молодой душой.
Оба уже знали, что неизбежен час, когда они не смогут таить друг от друга свои думы и чувства. А что ждет впереди эту тревожную любовь, пришедшую к ним в трудную пору при громе строгановских пушек и под напев поминальных литургий по убиенным родственникам Анны?
Полюбив ее, Семен терялся, боялся думать о будущем, избегал посмотреть ей в глаза, произнести ласковые слова, рвавшиеся с языка. Он впервые страшился сделать первый шаг, боялся тронуть неприкосновенное, боялся потревожить очарование, спугнуть неведомое.
Молодость Анны, девичья застенчивость и самый свет ее взгляда были так непохожи на то, что он прежде находил в женщинах...
Он любил! Любил по-настоящему, первый раз в жизни, и это радовало его, тревожило и пугало: все казалось, что он несет в руках хрупкий и тонкий сосуд, который каждый миг может выпасть и разбиться от единого неосторожного движения.
2
Солнечным утром, отстояв обедню в монастыре, Голованов, Анна Муравина и Строганов с толпой горожан воротились в городок. У воеводской избы они заметили парня и девушку. Девушка, еще издали узнав Строганова, смело пошла ему навстречу. Когда он подошел ближе, она преклонила перед ним колени.
– До твоей милости пришла, хозяин!
– Встань! Прощения просишь? Стало быть, неладное сотворила?
Девушка растерянно глядела на Строганова.
– Чего молчишь? Сказывай, в чем беда?
– Не признаешь меня, хозяин?
– И то не признаю! Кто такая?
– Анютка я. При батюшке твоем в избе его жила.
– Быть не может! Анюта? Экая ты стала красавица! Чего же ты застеснялась, зачем на колени пала? Подойди ко мне скорей, я за батюшку в долгу перед тобою!
Анюта, смущаясь от похвалы, подошла. Строганов смотрел на нее ласково.
– Скинь платок. Славная какая! Все теперь вспомнил. Значит, и ты про наказ мой не позабыла?
– Разве можно? Вот и явилась.
– Выглядела суженого? Эй, парень! Иди сюда!
Рослый молодец подошел и стал рядом с Анютой.
– Не плох молодец!
– Благослови, хозяин.
– С радостью. Приданое, как обещал тебе, облажу. Первенца, если будет охота, в честь батюшки моего нареките. Завтра под вечер наведайся ко мне. Кем, паренек, на Каме маячишь?
– Плотоводом у Строгановых сызмала, зовусь Захар Меткин.
– Родом откуда?
– По отцу вологодский, а уродился на твоих вишерских землях.
– Камский, стало быть? Береги Анюту! Душу ее лаской согревай. Она старость отца моего сторожила, заботой его берегла и за это, как родная, мне стала.
– О сем не тревожься, хозяин. Захарушка меня не обидит, – вступилась за жениха Анютка.
– Смотри! Чтобы твоей слезе, Анюта, жемчужиной на дне глубоком не обернуться!
Анюта опять смутилась.
– Неужели помнишь, как в конкорской избе девчонкой несмышленой забавлялась?
– Все помню, милая. На доброе моя память крепка. Но и обид не забываю. Когда на Чусовую приплыли?
– Сегодня, только светать стало.
– Со страхом по Каме плыли?
– Захарушка на ней бывалый, да и сама я непужливая.
– Ишь ты, храбрая какая! Вогулов видали?
– Приходилось. Только они на берегах, а мы на воде.
– А ты востра на язык! Ладно! Завтра под вечер свидимся. Ступайте, городок оглядите.
– Благодарствуем, хозяин!
Анютка и Захар поклонились в пояс и пошли по улице. Анна Муравина посмотрела им вслед.
– Радостные какие! А все оттого, что счастье нашли друг в друге. Вот и весь божий мир ихним стал.
3
Над Чусовой поднялась полная луна. Видно все, почти как днем, только свет синеватый и серебристый. Выстлала лунная ночь чусовские земли серебряной парчой, накидала повсюду синие полосы теней, а на воде реки пустила блестки, будто к празднику вырядила...
Час уже неранний, в городке тихо. Слышно, как дозорные ходят и переговариваются на стенах, где-нибудь тявкнет собака, прозвучит отголосок запоздалой песни – это либо голь кабацкая хмелем тешится, либо артель издалека воротилась.
Семен и Анна покинули воеводскую избу, кривыми улочками утихшего городка прошли к холму и поднялись на его вершину.
Вначале их тропинка вилась вверх еловым лесом, разукрашенная пятнами света. Выходила и на прогалины лужков, убранных цветами. Ближе к вершине обступил тропку осиновый перелесок с кустарниками, еще выше – березовая роща. На вершине тропа потерялась среди белых скал, похожих на ледяные глыбы. Под луной скалы будто голубели, и кажется, что вспыхивают в изломах камня синие огоньки.
Березки угнездились среди скал. Под каждой лежит на камне черный лоскут тени.
Анна остановилась возле березки, засмотрелась на лунные дали. Семен молча любовался девушкой. Золото ее кос посеребрилось, а синие глаза смотрят, как две черные смородины.
Им двоим виден весь городок, зубчатый пояс его стен, шлемы дозорных башен. Дальше – черный океан лесов, а на соседнем, уже загородном, холме блестят под луной купола монастыря.
Наискось, поперек Чусовой, серебряная дорога, пустынная и неживая. На берегах реки кое-где огни костров, и не понять, которые палят вогулы своим божествам, а которые рыбаки...
Здесь, высоко над городком, лунное безмолвие будто еще торжественней; и не нарушает этой тишины какая-то ночная птичка, что изредка подает голосок из лесных зарослей, кого-то манит или усыпляет.
Обернулась Анна к Семену, посмотрела ему прямо в глаза. Прочитала в них все, что наполняло светом его жизнь. Увидел и он в ее взгляде ласковую радость, услышал шепот:
– Родимый мой!
И когда склонилась боярышня на его плечо, у Семена перехватило голос от волнения, он и молвить ничего не смог, только прижал сухие губы к ее волосам. Знакомый Семену жар опалил его, отозвался звоном в ушах; он поцеловал Анну в губы, но тотчас же выпустил девушку из объятий, отступил от нее, ответил ей тоже шепотом:
– Аннушка, люба ты мне!
– А пошто отступаешь от меня?
– Боязнь взяла, что силы не хватит совладать с собой.
– Да что ты, родимый? Нешто не видишь, что я уже вся твоя? Любовь меня тебе отдала.
– Женой мне согласись стать.
– Кем велишь, тем и буду для тебя.
– Женой! Анной Строгановой.
– Родимый! Навек тебя запомнила с первого взгляда, как на острове повстречала. Когда уехал, сон видела. Иду будто в зимнюю метель и с дороги сбиваюсь. Босая по снегу иду. Студено мне, закоченела вся и вдруг вижу: полянка в незабудках, а на ней старуха страшная такая, сидят и кость гложет. Увидала меня, грозит кривым пальцем и лопочет: «На Строганова загляделась? Смотри, девка, не ослепни от сего погляда»... Вот какой сон, слышишь?.. Женой меня к себе зовешь, родимый? Радость это для меня большая. Схожа она с той радостью, что у Анюты в глазах была, когда с милым к тебе подошла. Вот я и нашла свое счастье подле тебя, и тебе обещаюсь только счастье нести и ничем его не омрачить!
Анна подняла глаза к звездному небу и перекрестилась, словно клятву подтвердила.
Птичка, скрытая где-то в листве березок, все тише и бережнее подавала свой подманивающий голосок. Анна прижалась к мужской груди, слушала удары сердца, ставшего родным, и, улавливая издали песенный напев, не знала, чудится он ей или это поет ее собственная, наполненная несказанным светом душа.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
В Нижний городок совсем неожиданно приплыла Катерина Строганова.
Когда сумерки сгустились и небо стало из багрового темно-лиловым, Семен Строганов слушал Катерину в своей избе. Он сидел на скамье под открытым окном, Катерина в волнении то садилась, то вставала и металась из угла в угол горницы. Он заметил, как постарела она за последние годы. Седина вплелась в волосы, морщинки кое-где тронули лицо. Оно стало каким-то чужим, суровым, незнакомым. Глаза утратили прежний блеск, остроту взгляда, пытливость. В них живет тревога и грусть. Только одета по-прежнему пестро и богато. На руках перстни; завела себе нового белого кота, с ним не расстается даже здесь.
– Уразуметь, Семен, должен, что кидать Каму без своего присмотра ты не волен. Времена опять опасные, того гляди, кровь прольется. Три года тебя в Кергедане не видели. Неужли порешил, что Катерина все на своих плечах вынесет? Или позабыл про Каму, потому как Чусовая ближе к сердцу стала? Сибирь отсюда ближе манит. Ежели Сибирь к рукам приберешь, небось братьев к ней близко не подпустишь?
Семен перебил ее сухо:
– Лучше скажи, зачем пожаловала? Неужто обучать меня надумала?
– На это бабьей мудрости не хватит. Но сказать кое-что придется: татары у нас на Каме объявились.
Катерина остановилась, чтобы проверить действие своих слов, но увидела, что и эта весть не вывела его из душевного равновесия.
– Аль не понял, аль недослышал? Две большие орды бродят. Одна возле Чердыни, вторая подле Соли Камской. Вогуличи тоже по всей реке шевелятся, покорность свою позабывают.
– Пугают тебя татары?
– Пугают.
– С чего бы это?
– Неохота глядеть, как зачнут Строгановых с Камы выметать, жечь и рушить, что на ней нами создано.
– Стало быть, веришь, что можно Строгановых с Камы вымести? Веришь, что татары порушат Русь, на Каме утвержденную?
– Погоди, Семен.
Катерина подошла к сидящему Семену, они близко смотрели друг на друга.
– Не верила, а вот сейчас ты сам меня напугал: вроде бы все равно тебе, что будет. Не для этого стою здесь перед тобой, пришла совет услышать.
– У Гришки советов спрашивай. Кама теперь ваша вотчина.
– Пустое говоришь! Григорий плохая для меня помощь, да и сам ты отцу поклялся нас в беде не оставлять.
– Не век вам моим умом жить. Сынка Никиту обучи жизни. Не все, может быть, в нем отцовское. Пусть попробует по земле пройтись, не держась за материнский подол.
– Молод еще. В Москве ж другому приобык. С ленью сдружился. У парня девки да услады на уме.
– Ты ему мать. Твое дело ему дурь из башки вытрясти, хошь плетью, хоть кулаком. Вдолби ему, что не за горами времена, когда придется ему на Каме хозяином быть. Жалеешь единственного, вот и куролесит. Прикрикнуть на него боишься?
– Никита умом и сердцем не плох. Молодость только в нем неуемна.
– Узду пора надеть. Страх берет, как подумаю, кому все останется, когда мы в землю ляжем. Узду, говорю, надень на Никиту. Ему хуже будет, если я надевать начну, кудри могу забрызгать!
– За тем к тебе и приплыла: поставь Никиту на правильный путь! Каково мне глядеть, если парень по глупости с отца пример возьмет да в роду трутнем окажется? Помоги, Семен!
– Зря просишь и зря пужаешься. Думаешь, в Кергедане не бываю, так не знаю, что у вас и творится? Чусовой попрекнула? А того не подумала, что для меня все строгановское одинаково? Кама ноне в твоих руках, а я силу их знаю и в нее верю. Иным мужицким до них далеко. Ежели иной раз вожжи натирают, надень наши кожаные рукавицы. Знать должна, что Строгановы приучены вожжи всегда в рукавицах держать! Чья ты, Катерина? Не позабыла, чать?
– Строганова я. Как и ты.
– Так и будь Строгановой, и от прихода татар со страху на стену не лезь. Они сами на наши стены не от лихости, а со страху полезут, потому что Строгановы Русь к Сибири близко подвели. Нападут если на Каму, ударят по городкам, ты их сама в ответ наотмашь хлещи... С Камы нас никто никогда вымести не посмеет, ежели от мора какого сами не вымрем. Не узнаю тебя. Страхом пустым седину в волосы допустила, в глазах тоску развела, того и гляди, горючими слезами заплачешь.
В словах Семена Катерина почувствовала тепло; они тронули ее.
– А ты опять с белой кошкой? Новую, что ли, завела?
– Пришлось. Прошлой осенью Гришка со злобы мою персидскую соколам кинул.
– Дуроплясничает с жиру... Прости меня, Катерина. Вон гостья ко мне идет!
Катерина увидела на улице светловолосую девушку.
– Кто это к тебе?
– Боярышня, Анна Муравина.
Семен встретил Анну перед домом, вместе поднялись они на крыльцо.
– Вот, Аннушка, погляди на нашу Катерину Алексеевну, про которую не раз тебе сказывал. Погляди и ты, Катерина, боярышню. Дала обещание замуж за меня пойти.
Катерина поняла все еще до того, как слово было сказано, и все-таки не сдержалась, опустила руки. Кошка упала на пол и жалобно мяукнула. Катерина посмотрела на Анну испытующе и враждебно, потом постаралась улыбнуться...
– Вот, Семен, говорила я тебе: и по твою душу девичья любовь придет!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Укромный скит монахини Алевтины в Верхнем городке стоял на берегу озера под древними елями, оплетенными от комлей до вершин серовато-зеленым лишайником. Маленькое окно скита смотрит на озерную заводь, заросшую кувшинками и осокой. Под окном завалинка, усыпанная опавшей хвоей.
Городок весь облучен утренним солнцем, а вокруг скита еще будто сумерки из-за густой тени. Часть заводи на свету – там цветы закрылись, а где на воде лежит тень, раскрытые чашечки не сожмутся до полудня.
Монахиня Алевтина сидит на завалинке. Голова укрыта апостольником, снятый клобук – в сторонке. Семен Строганов стоя слушает тихий говор монахини и примечает, что с той поры, как привез ее с острова, облик ее резко изменился, будто она как-то сразу состарилась: на восковом лице глубоко запали глаза; нос заострился, сухие губы словно посинели.
– Недобрые сны мне, Строганов, снятся. Ничем не могу себя от них уберечь. Ночей не сплю. Молюсь... Чаще о прошедшем мне сны. О той поре, что меня сюда, на край света привела. Его частенько вижу. Догадываешься, про кого речь веду? Глядит на меня, как коршун. Давно его проклясть собираюсь, да боюсь, что проклятие мое не на одного него падет! Ты, Строганов, про многое не ведаешь, что на Руси деется. Коршун царь Иван. Русь он в кровь исклевал. Кровью лучших людей ее залил, будто хочет народ в ней утопить и одинешенек на Руси остаться. Меня заклевал. Цариц своих заклевывает. Не веришь? Потому и не веришь, что к твоему роду царь милостив до времени, а падет на вас – тоже заклюет. Что сотворит с тобой, ежели прознает, что меня укрываешь? Ведомо тебе сие? Не устрашишься? А то лучше бы ты нас в Москву отослал!
Монахиня устало прикрыла глаза, помолчала, выждала, что ответит ей Строганов. Он только головой тряхнул, давая понять: мол, пустое говоришь, старая. Монахиня снова нарушила молчание.
– Поглядел бы теперь царь на меня. Хоть бы одним глазком взглянул, какая стала, из-за него по свету мыкаясь. Старуха, совсем старуха, ране времени. А как жить-то мне хотелось! Дочку растила, наглядеться на нее не могла. Он же загнал меня под клобук монашеский.
Говорила монахиня, а из полуприкрытых глаз катились слезинки на впалые щеки.
– У тебя мне хорошо. Всяк заботится... Люди добрые, душевные. Раньше не понимала людей, себя только любила. Тебе спасибо, что навестил. Что Аннушка? Резвится, поди, с новыми подружками, девицами сенными? Пошто не приплыла погостить здесь, али не замирились еще язычники? Пусть радуется Аннушка житью, пока молода. Она на жизнь и на людей поглядеть-то еще не успела. Повидать ее скорее хочу, по голосу ее соскучилась. А теперь ступай! Зря времени со старухой не роняй. Да мне молиться пора!
– Дозвольте, матушка, вам про то сказать, из-за чего покой ваш нарушил.
– Говори.
– Благословите, матушка, Аннушку женою назвать.
Монахиня медленно выпрямилась и встала. Надела клобук, смерила Строганова недобрым взглядом.
– Вон зачем приехал? Вон о чем замыслить посмел! Боярышню Муравину в жены захотел взять? Обрадовался, смерд, что, гонимая царем, она тебе в лапы попала? Как посмел? Не забывай, что царь не ее, а меня по свету гоняет. Дочь боярская ни в чем не повинна перед ним. Анна моя из древнего, знатнейшего рода на Руси. Не пара она тебе, купчишке безродному. Не для того она на свет уродилась, чтобы тебе женой стать.
Перед Семеном стояла уже не смиренная инокиня-скитница, а разгневанная боярская вдова. Глаза ее засверкали.
– Богат ты, это верно. В своем крае сумел возвеличиться. К царю в милость по золотой лестнице вышагал. Все это верно. Но помышлять об Аннушке не смей. Не для тебя ее растила. Не для твоих рук ее красота, найдется ей супруг достойнее тебя.
– Пошто так молвите? Аннушка сама мне согласие дала. Я ее к тому не принуждал. Хочет она со мной под венец. Благословения твоего ждет.
– Ступай немедля с глаз моих прочь. Не слыхала твоих слов дерзновенных! Кто не в свои сани садится, тому можно и головы не сносить.
Монахиня подошла к двери скита. Открыла ее, но задержалась на пороге. Обернулась к Семену, и увидел он, что из ее глаз исчезла колючая недоброта. Заливали их слезы.
– Стой, Семен Строганов! Думаешь, гордыня боярская во мне кипит и против тебя, мужика богатого, восстает? Так знай же: рождение Аннушки – тайна. Не бабья, грешная, а великая тайна, от коей судьбы людские зависят, среди них и собственная ее судьба. Голову свою под царский удар поставишь, ежели за Аннушкой потянешься.
– Ничьих ударов я, мать Алевтина, не страшусь и ни перед кем не отступлю. Тайну твою я ведаю. Благословения прошу.
Монахиня, стоя на пороге, подняла руки, словно защищаясь от удара. Проговорила медленно и глухо:
– Ну коли и тут на силу надеешься – исполать тебе! Сама я из мира ушла, от всех от вас навек! Аннушка тайны сей не ведает и ведать не должна. Сам ее храни, как я хранила. Если верно, что Анна тебе сердце свое отдала, – что ж, знать, так уж господу угодно! Честь боярская в Анне не слабее, чем во мне была. Сказываешь, согласна она?
– Согласна. Благослови и ты, мать!
– Встань на колени.
Монахиня трижды осенила его крестом. Поцеловала склоненную голову.
– Береги душу Аннушки.
Строганов поднялся, поклонился низко, простился и, не оборачиваясь, зашагал по тропе мимо заводи.
Монахиня скоро потеряла его из виду. Она все еще стояла у своего порога и думала вслух:
– И этот коршун! Потому от других коршунов Аннушку защитить не побоится.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Лето выдалось засушливое.
Кама против Кергедана в конце июня небывало обмелела и сузилась, на середине реки обсохли песчаные косы. Были места, где могучую реку переходили почти вброд. Стояли душные, безветренные дни и ночи. Вторую неделю с верховьев реки доходили слухи о появлении возле Соли Камской новых орд враждебных степных кочевников. Вскоре перестали приходить сверху плоты и струги торговых людей. Из Конкора в Кергедан явился гонец с вестью, что ордынцы напали на Соль Камскую, разграбили и сожгли посады и починки вокруг крепости.
После столь тревожных известий в Кергедане начали готовить крепость к войне. Прежде всего из починков, слобод и соляных посадов перевели в крепость женщин и детей, согнали скотину. Работных людей на промыслах вооружили. Дали наказ не хвалиться удалью перед врагом, а защищать промысла, беречь жизнь и, в случае вражьего перевеса, отходить в крепость. В тайном месте прорыли из крепости под землей лаз. Работу на соляных варницах прекратили, мужикам велели по ночам бодрствовать, не смыкая глаз, а отсыпаться в дневную пору.
Городок приготовился к набегу. Из Конкора прибыл второй гонец с вестью, что большая разноплеменная орда сожгла варницы возле городка, но на крепость не напала, обошла ее по суше, а также на плотах по реке. С крепости по плотам ударили из пищалей.
С тех пор Катерина чуть не каждый час поднималась на стены Кергедана и с растущей тревогой слушала нудный рев скота, томимого жаждой: не хватало воды в колодцах из-за засухи. Однорукий Гринька Жук, принявший на себя по приказу Строгановых попечение о слобожанах, нынче упросил хозяйку ненадолго открыть ворота крепости, чтобы сгонять на водопой хотя бы коней и коров. Едва скот успел напиться, нежданно с дальних варниц послышался набат. Вскоре показались в той стороне клубы дыма и огня, а еще через час стали подходить к Кергедану мужики с подожженных варниц.
Жители смотрели на пожары со стен. Женщины заливались слезами. На одной из сторожевых башен стояли Катерина, Григорий и их сын Никита.
Пожар из-за безветрия распространялся медленно, но к полуночи все варницы и посады вокруг Кергедана пылали. Ордынцы, конные и пешие, вытесняли защитников из торгового и пушного посадов, все ближе и ближе притекали к стенам крепости. Появились первые раненые. Им тут же оказывали помощь. И передавали слухи о тех мужиках, кому помощь была уже не нужна. Побитые беспощадным врагом, они, пробудившие камскую землю от векового сна, сами уснули на ней сном непробудным!
Едкий дым с пожарищ дополз до стен крепости уже после полуночи, и почти в то же время на противоположном берегу ярким факелом запылала сторожевая вышка заслона у устья Яйвы.
Под утро со стен услышали чей-то истошный крик. Еще невидимый в темноте, кто-то бежал берегом Камы к воротам крепости, все время выкрикивая одно и то же слово, звучавшее, как горестный стон: «Татары»! «Татары!»
С опаленным лицом и обгоревшей бородой беглец достиг крепости. Это был дозорный с горевшей вышки. Он рассказал, что видел толпы татар на берегах Яйвы и смог бежать лишь под покровом темноты по знакомым тропам, неведомым для врага.
Вскоре стали видны костры татарского стана на камском берегу, возле устья Яйвы, и скакавшие всадники. Костров становилось все больше. С крепостных стен жители и ратники-дружинники с оружием в руках прислушивались к обманчивой тишине и молча наблюдали за всем, что происходило на заречной стороне.
Вокруг крепости догорали варницы, посады и починки. Дым облаками стлался над лесом. Среди пожарищ мелькали татарские и башкирские всадники. На заречной стороне во мгле рассвета стали в лугах шатры татар, и ветер доносил оттуда ржание коней.
2
Два дня осады прошли спокойно. Татары, зная о надежной защите крепости, исподволь выискивали на Каме броды, но сразу переходить реку не отваживались.
На третью ночь ударили боевую тревогу. Защитники крепости угадали по звукам, что татары начали переправу. Они переходили Каму прямо против крепости. Со стен Кергедана грянули пушки. Пищальники и пушкари стреляли почти наугад, но переправу сорвали: чугунные и каменные ядра, оглушительный гром и вспышки выстрелов напугали врагов, остудили воинственный пыл нападавших.
Увлеченные обороной на реке, защитники крепости ослабили внимание на других, сухопутных участках. Башкирские стрелки из луков сняли меткими выстрелами сторожевую охрану на юго-восточном колене стены и позволили нападавшим навалить в ров, под стену, хворосту, облитого смолою. Подожженный хворост вспыхнул, и городская стена в одном месте тоже загорелась. Дружинники самоотверженно сбили, залили и погасили пламя, но при этом понесли потери и не смогли расчистить завал во рву. Так к утру третьих суток злой осады нападающие обеспечили себе возможность подбираться к стенам крепости по завалу.
3
На четвертое утро татары перенесли переправу выше устья Яйвы, куда не долетали пушечные ядра. Там они преодолели Каму и начали засыпать стены крепости стрелами с близкого расстояния.
Кергедан мучительно страдал от недостатка воды. Начался падеж скота, погибло много овец. Григорий Строганов совершенно растерялся, давал нелепые распоряжения и советовал повести переговоры об «откупе». Отстранив мужа от ратных дел, Катерина сама приняла на себя командование крепостью и наказала Никите и Жуку во что бы то ни стало достать воды. Решено было сделать вылазку к берегу Камы.
Ночь выдалась темная и душная. Перед полуночью со стен крепости ударили пушки. Никита и Жук вывели из крепости бегом две цепочки ратников. По этим живым цепочкам, из рук в руки, пошли в крепость ведра и бадейки камской воды. Вскоре запели вражеские стрелы, но пищальники держали татарских стрелков на почтительном отдалении.
До рассвета были наполнены водой все бочки в крепости, гибель скота была предотвращена, но более всего обрадовало и растрогало Катерину мужество, пробужденное суровым испытанием в молодом сыне. Женщина гордилась, что в сердце сына проявилась та же удаль, та же строгановская хватка, что сближала сына с дядей Семеном.
Переправившись через Каму, ордынцы передвинули свои шатры совсем близко к Кергедану. Красный ковровый шатер хана возник на самом пригорке. Ночью Никита с охотниками сделал вылазку, чтобы раскидать опасный завал во рву. Вылазка удалась, хотя трое охотников не вернулись в крепость, а сам Никита был ранен стрелой в правую бровь. Рана была неглубокая, но Никита вышел из боя с залитым кровью лицом.
Это так напугало Григория, что тот, тайно от жены и сына, позвал к себе сокольничего Мокея Мохнаткина, дал ему золота и послал на Чусовую к Семену с известием, что Кергедан погибает от татарского нашествия.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Слух об осаде Кергедана дошел до чусовских городков несколько раньше, чем поспел туда гонец Григория Строганова. Вестником беды оказался другой посланец.
В предрассветный час дозорный на башне Верхнего городка заметил человека, спускавшегося со стены по веревке. Когда незнакомец не ответил на окрик, стражник пустил в него стрелу. Смертельно раненного человека нашли в крапиве и узнали в нем вогула-язычника с берегов Сылвы. Его принесли в крепость и допросили. Умирающий сказал, что Кергедан в осаде, что к татарам примкнули башкиры, черемисы и вогулы. Ханская рать придет скоро и на Чусовую. Сам же он гордится перед соплеменниками тем, что сумел два дня назад незаметно проникнуть в крепость, а этой ночью, выполняя священную волю бога Чохрынь-Ойка, убил в келье монахиню Алевтину, осквернительницу острова. Совершив священную месть, хотел бежать, но был застигнут стрелой дозорного.
О татарах он сказал сущую правду. На восходе их первые разъезды появились на Чусовой. Их заметили со стен Нижнего городка.
Гонец от Досифея привез Семену Строганову известие о тайном убийстве монахини Алевтины.
Строганов не стал скрывать от Анны Муравиной тяжелое известие. Девушка приняла его мужественно. Общая беда – татарское нашествие и восстание племен – не позволяли углубляться в думу о беде собственной.
В тот же день явились под стенами городка главные силы орды, стали под монастырским холмом. Монахи вместе с настоятелем Трифоном Вятским укрылись в крепости.
Под вечер Семен велел посадить на струги и лодки женщин и детей, дал им сильную охрану с пушками и отправил в Верхний городок. Анну Муравину он послал с ними, несмотря на все ее просьбы остаться в Нижнем городке.
2
Мокей Мохнаткин, полуживой от усталости, только через три дня после этих событий добрался с Камы до Нижнего городка. Как приказал Григорий, Мокей с большим привиром нарисовал Семену страшную картину неминуемой гибели Кергедана.
Семен позвал на совет Голованова и сотников, объявил о своем намерении идти на выручку осажденной камской крепости. Голованов обещал продержаться с малым гарнизоном. Не теряя времени, он велел снять со стен городка восемь пушек из шестнадцати и обрядить ими струги, погрузив запас пороха и картечи для Семеновой экспедиции. А сам Семен Строганов отобрал дружину и тотчас двинулся в путь. Иванко Строев также попросился в поход. В глухой ночной час струги незаметно прошли мимо ордынского стана, держа наготове оружие. Татары беспрепятственно пропустили караван.
Тяжело нагруженные струги из-за безветрия шли на веслах, и только на четвертый день поднялись до устья Косьвы. По приказу Семена дружины из косьвинского острога присоединились к нижегородским, и объединенный отряд поспешил к Кергедану.
Этот плес Камы был особенно мелким. Ратникам пришлось тянуть струги бечевой.
3
Ветер задул, когда струги были уже вблизи Кергедана. Не желая обнаруживать себя в дневное время, отряд пристал к берегу. Мокея Мохнаткина, хорошо знающего местность, послали в разведку с двумя ратниками.
Началась уже третья неделя осады Кергедана. Крепость держалась хорошо, хотя стены уже во многих местах были опалены пожарами. На погосте в крепости множились кресты над свежими могилами защитников. Редкий мужик в крепости не был ранен. Катерине Строгановой задело руку, но смелая женщина почти не уходила со стен, и никто не знал, когда и как она успевает отдыхать.
Незадолго до прибытия подмоги защитникам пришлось отбивать ожесточенный штурм, а на следующую ночь Никита Строганов с охотниками сделал удачную вылазку по подземному ходу. Вернулся он, весь забрызганный кровью, потеряв немало добрых дружинников, но отбросил врага от опасного пролома в стене. Все-таки и после вылазки татары пытались расширить брешь, и Катерина сосредоточила здесь главные силы защитников.
Положение не было столь гибельным, как писал Григорий Семену, но каждый день осады становился тяжелее. Пушки стреляли все реже – Катерина велела беречь порох и последние ядра.
В день, когда Семеновы струги, еще не видимые татарам и защитникам, приближались к Кергедану, над Камой разгулялся свежий, шквалистый ветер. На реке пошли волны с пенистыми гребнями. Под лучами солнца взбаламученная река казалась с крепостных стен рыжей.
В татарском стане звучали бубны. Враги торжествовали близкую победу. Группа татарских всадников подскакала к крепости. Впереди на вороном коне, укрытом красной попоной, гарцевал всадник в голубом одеянии и золотом шлеме.
Он подъехал под стены и властно поднял руку, подавая знак, что хочет говорить с русскими военачальниками. Катерина ответным знаком выразила согласие на беседу, если парламентер приблизится с малой свитой.
С двумя спутниками всадник отделился от остальной свиты. Маленькая татарская кавалькада шагом приблизилась к воротной башне. Там, на боевой площадке, ожидала посланцев сама Катерина Алексеевна Строганова с сыном Никитой и телохранителем Григорием Жуком.
Горячий конь всадника то и дело норовил взвиться на дыбы, не стоял на месте. И когда наездник начал говорить, Жук сразу узнал татарскую княжну Игву.
Катерина, скрестив руки на груди, молча выслушала короткую речь Игвы на татарском языке и мало поняла. Жук перевел: татары предлагают русским сдать крепость.
– Скажи ей, – ответила Катерина, – чтобы убиралась подобру-поздорову, ежели не желает опять к нам в гости попасть. Другой раз не на Косьву пошлем, а туда, откуда не бегают!
– Урусы! – опять закричала Игва. – Если вы добром откроете ворота, мы позволим вам уйти на запад, в свои города, а крепости строгановские мы спалим. Выдайте нам всех Строгановых живыми – остальных на свободу отпустим!
– Я – Строганова! – спокойно сказала Катерина. – И слово строгановское даю: не уберешься отсюда – головы не сносишь! А больше нет у меня времени с татарской девкой лясы точить. Пойдем, Никита!
Увидев, что Катерина сошла с боевой площадки, Игва вздыбила коня и вместе со спутниками ускакала в стан.
Ветер усиливался. В татарском стане продолжалось торжество: на берегу состязались в удали лучшие наездники. Потом несколько всадников пустились галопом под стенами крепости; за ними волочились на веревках тела русских дружинников, убитых во время вылазок из крепости.
В сумерках небо заволокли тяжелые тучи. Несколько раз принимался лить дождь. Ночная темнота наступила быстро. Веселье в татарском стане стихло. Дождь пошел сильнее. Зашумели ручьи дождевой воды, сбегавшие в Каму.
Промокшие до нитки защитники крепости не уходили со стен, ждали ночного приступа.
Однако в стане врагов после дневных игрищ и состязаний было тихо; костры, заливаемые дождем, горели слабее обычного.
Как только стемнело, Семен Строганов приказал дружинникам на стругах отваливать. Последние версты до Кергедана струги пробежали на надутых парусах. Мокей Мохнаткин толково обрисовал Семену расположение вражеского стана, поэтому, несмотря на темноту, сильный ветер и дождь, Строганов подвел струги к Кергедану прямо против татарского лагеря.
От своего разведчика, Мокея Мохнаткина, Семен узнал в пути, что днем в лагере было нечто вроде праздника, значит, противник уверен в близкой победе: до царя – далеко, а все соседние городки-крепости, строгановские и царские, обложены точно так же, как и Кергедан. Думают татары, что грозный для них Строганов Семен тоже сидит в осаде. Его крепость – Нижний чусовской городок – должна пасть одновременно с Кергеданом.
– Где чалиться будем? – спросил Иванко Строев.
– Против крепости, у отмели, где у татар переправа намечалась. Неглубоко там, на якоря надобно бесшумно стать и рассвета ждать. Лишь бы отблеск костров нас до времени не озарил! Орда, слышь, немалая, несколько сотен ногаев да союзники их... Надобно врасплох захватить, с двух сторон – и с реки и от крепости.
– Как же крепости знак подать? Чтобы к вылазке изготовились.
– Чай, сами не спят! Видишь, фитили тлеют у пушкарей. Наготове там все.
– Добро. Сейчас на якоря станем.
– Пушки наводи загодя. Чтобы, как знак подам, без промедления стрелять. Светать вот-вот начнет. И дождь перестает.
Еще с полчаса люди на стругах прождали в напряжении. Потом на смутном небесном полотне стали все яснее обозначаться очертания крепостных стен; татарские костры затухали, все внимание татарской стражи обращено было на крепость, за рекой никто не следил... Семен Строганов уже различал на воде всю цепь своих судов, стоявших над мелководьем. Он вынул саблю и пронзительно гикнул.
Тотчас со всех стругов грянули пушки и пищали. Ядра разметали уголь и горячую золу костров, били по шатрам и палаткам. Переполох поднялся страшный.
С крепости уже разглядели подкрепление на реке. Катерина узнала Семенов струг, поняла его маневр, приказала открыть огонь из пищалей и пушек, готовиться к вылазке.
На это Семен и рассчитывал!
Как только у крепости растворились ворота и защитники ринулись на врага, Иванко Строев атаковал татар с реки. Семен еще издали заметил высокого предводителя кергеданского отряда и угадал в нем своего племянника Никиту Строганова. Рядом с Никитой рубился, действуя одной рукой, старый Гринька Жук. Ордынцы заметались между двух русских цепей.
В пылу боя, когда на стругах остались одни пушкари, бившие по толпам бегущих к переправе ордынцев, Семен Строганов углядел татарскую военачальницу Игву. Ее золотой шлем и светлые латы мелькали в гуще самых отчаянных рубак, медленно отступавших к реке под ударами кергеданцев. Видел Семен, как сын Катерины, сопровождаемый Жуком, устремился к этой группе противника, намереваясь отрезать ей путь отхода к переправе. Маневр ему удался – увлеченные боем, спутники Игвы дали себя окружить. Последнее, что успел различить Семен, был отчаянный выпад татарской княжны против русского предводителя. Потом золотой татарский шлем Игвы и острый русский шишак Никиты исчезли из виду, будто утонули в дыму и прахе битвы.
Разбитый противник бежал в беспорядке. Со стругов и на берегу ратники довершали разгром врага, ловили татарских коней, носившихся без всадников между грудами мертвых тел. Лишь остаткам ордынцев удалось перейти близ Яйвы на тот берег Камы и спастись в лесах.
Немалый урон понесли и строгановские дружинники. Семен получил рану в плечо, а Никита, после боя с Игвой, был унесен в крепость с несколькими ранениями.
Свою отчаянную противницу он победил один на один. Татарская княжна была мертва. Когда Иванко Строев, оставшийся в бою невредимым, перевязал Семену раненое плечо, оба они подошли к шатру Игвы, куда ратники успели отнести ее тело. Семен велел пленным воинам Игвы хоронить ее по татарскому обычаю, с почестями. Игву погребли в боевых доспехах, на высоком берегу Камы. Над могилой насыпали курган. Золотой шлем воительницы, украшенный черным султаном, ее щит и меч Семен Строганов велел отнести на струг – он решил отослать при случае эти трофеи сибирским сородичам храброй татарской княжны.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Отплытие Семена Строганова на выручку Кергедана окрылило ордынцев, осаждавших Нижний городок. Они стали готовиться к решительному штурму крепости, но старый воевода Голованов, разгадав их намерения, ночью сам вышел с дружиной из городка и напал на врага. Битва была кровопролитной, и воевода, не отогнав ордынцев, вынужден был уйти обратно за стены крепости. Татары подожгли на горе монастырь, оставленный монахами, но пожар залило дождем. Пришельцы обложили город. Свой стан они расположили на берегу Чусовой, прервав сообщение между обоими городками: Верхним и Нижним. Все же гонец от Голованова прокрался к Досифею, рассказал воеводе Верхнего городка, что гарнизон Нижнего может не устоять против нового натиска: после ухода Семенова отряда и ночной вылазки у воеводы Голованова осталась горстка защитников – на каждого ратника приходится теперь полтора, а то и два десятка ордынцев. Замысел противника ясен – разбить русские крепости поодиночке. Сперва разделаться с ослабленной Нижней, затем обложить Верхнюю, чтобы русских на Чусовой не осталось.
Досифей собрал верхнегородских сотников на совет. Говорили на совете разное: предлагали сидеть в осаде, не затевая никаких решительных действий против татар до возвращения хозяина. Таких советчиков Досифей от души обругал. Решено было готовиться к походу на татар к Нижнему городку. Досифей отобрал испытанных дружинников, прибавил к ним сотню вогулов-лучников, уже доказавших свою верность Руси. Охранять городок воевода оставил пушкарей и пищальников.
В поход пошли на лодках. Верстах в четырех выше камня-бойца, по прозванию Илья Муромец, Досифей с дружиной высадился, попрятал лодки в кустах и пошел лесом. Высланные вперед дознатчики сообщили, что главная сила ордынцев стоит под крепостью, а в стане находятся только кони под надежной охраной. Дружина скрыто подошла к татарскому стану. Досифей велел своим людям залечь в укромных местах и ждать темноты.
После полуночи дружинники ворвались в расположение лагеря, перебили оставленных в нем воинов, увели в лес коней и без промедления пошли к крепости, где татары уже приготовились к штурму. Нападение верхнегородцев в тыл штурмующим было внезапным, но защитники городка, заслышав под стенами шум битвы, тотчас вышли за стены и соединились с воинами Досифея. Взяв врага в кольцо, ратники погнали ордынцев к обрывистому берегу реки. Битва затянулась до восхода солнца. Большой татарский отряд, прижатый к берегу, уже стал было сдаваться, но какой-то военачальник в шлеме с перьями вопил на своих воинов, заставляя их продолжать безнадежное сопротивление.
Досифей, придерживая возле себя старую волчицу, наблюдал за тем, как дружинники обеих крепостей обезоруживали врагов, разбирали клинки и щиты, кучками отводили в крепость пленных ордынцев. Лишь отряд на берегу, прижатый вогулами к самой кромке обрыва, еще дрался, ежеминутно редел, но не сдавался. Вогулы взяли отряд в клещи, постепенно сжимая их. Вогульские стрелки точными выстрелами поражали ордынцев, расплачиваясь за сожженные селения и бедствия осады. Уже не одна стрела настигла и высокого предводителя отряда, но его доспехи были неуязвимы: стрелы бессильно падали к ногам латника.
Досифей взял волчицу на сворку и приблизился к месту сражения. Он набрал полные легкие воздуху и крикнул отчаянному латнику по-татарски:
– Пожалей своих! Сдавайся! Нечего после драки кулаками махать!
Что-то знакомое почудилось Досифею в злобном ответном выкрике. Да и вогулы подбежали к Досифею, возбужденно крича:
– Не татарин это! Русский он!
Неужто изменник Костромин? В татарском обличии? Нет, этого перебежчика упускать нельзя и взять надобно живым!
Видимо, и латник узнал Досифея. Метательный дротик, пущенный кем-то из телохранителей латника, задел воеводу, и в ту же минуту латник исчез с кромки обрыва. Остальные воины удвоили сопротивление. Куда же девался тот? Вогулы уже бросились к береговому обрыву. Возбужденно указывая вниз, они давали понять Досифею, что чужой латник отважился на отчаянный спуск с обрыва к реке. Там, у берега, лежал опрокинутый челн. Уйдет враг!
Досифей сам подбежал к уступу, глянул вниз, спустил волчицу с привязи, показал на человека, уже спешившего к челну.
– Выручай, Находка!
И то, что было почти невозможно для человека, сделал зверь: волчица по немыслимой крутизне, цепляясь когтями за малейшие шершавины почти отвесной тропки, выбитой в скале рыбаками и охотниками, спустились к берегу столь быстро, что оказалась у челна почти одновременно с беглецом в латах. И началась на берегу жестокая схватка матерого зверя с человеком, закованным в железо.
Но и вогулы уже спускались с утеса! Время, драгоценные минуты, необходимые для спасения, латник терял в схватке с волчицей! Той вдобавок удалось вцепиться мертвой хваткой в руку человека, не защищенную доспехом. Свободной рукой человек нанес волчице смертельный удар кинжалом, но было поздно. Набежавшие вогульские воины настигли латника, навалились на него, сорвали с него крылатый шлем и позолоченные наплечники...
Когда сам Досифей добрался наконец до места последней схватки, волчица Находка уже издыхала. А рядом с челном, так и не послужившим для побега от возмездия, понурился окровавленный и избитый вогулами, связанный по рукам и ногам боярский сын Алексей Костромин, ставший пленником воеводы Досифея!
2
Семен Строганов поспешил назад, на Чусовую: от пленных ордынцев он уже знал, какие крупные силы осаждают Нижний городок; нелегкая участь выпала воеводе Голованову!
В самый день возвращения Семена в крепости Нижнего городка Досифей и Голованов закончили допрос пленного изменника Костромина. Он показал, что передался хану Махмет-Кулю, получил в управление часть княжества, взял в жены ханскую дочь, поклялся хану в верности и обещал изгнать Строгановых сначала с Чусовой, потом и с самой Камы.
Суд вынес приговор: казнить перебежчика, изменника Руси, утоплением в реке Чусовой с камнем на шее.
На следующий день Семен Строганов, Голованов и Досифей смотрели с высокого утеса за исполнением этого приговора, а на берегу столпилось все уцелевшее население Нижнего городка.
На плоту, сбитом из обгорелых балок монастырской стены, крещеные вогульские воины, участники битвы, выплыли на середину реки с приговоренным. Трифон Вятский тоже находился на плоту. Видно было сверху, что коленопреклоненному связанному преступнику дали поцеловать крест... Потом сильно булькнула вода у плота, и вогулы поплыли к берегу, толкая тяжелый плот шестами.
После свершения казни Трифон Вятский отслужил панихиду на свежих могилах по всем павшим защитникам, отдавшим жизни за други своя...
Досифей отправился восвояси к себе в Верхний городок с радостным для Анны Муравиной известием о победе, благополучном возвращении Семена и наказом возвращаться домой не ранее чем через несколько дней, потому что разбежавшиеся татары и пришлые с Сылвы вогулы еще хоронятся в прибрежных лесах. Семен просил невесту переждать, пока отряды ратников прочешут леса и урочища по Чусовой и поездка по бурной реке с ее тесными стремнинами и крутыми поворотами, где за каждой скалой может затаиться вражеский лучник, станет такой же безопасной, какой была до татарского нашествия.
Томительными и длинными казались эти дни ожидания Анне Муравиной. Не меньше ее томился и тосковал Семен Строганов. Но дознатчики и дружинники, среди них Спиря Сорокин, возвращались с дурными вестями: то тут, то там встречали они на берегах остатки вражеских отрядов и одиночные группы. Иных удавалось брать в плен, иные ускользали в глухие дебри чусовских лесов. Спиря уговаривал Семена отложить приезд Анны до зимней поры – ему открыли знакомые местные вогулы, что вогулы сылвинские до тех пор не имеют права вернуться на родину, пока жива вторая осквернительница острова. Но никаких следов этих вогулов с Сылвы ратники Семена и сам Спиря найти в лесах не могли. Анна слала любимому отчаянные письма с просьбой разрешить ей приезд. Опасения Спири казались Семену преувеличенными, и он, наконец, послал Досифею приказ снарядить для Анны струг под надежной охраной.
3
Обрадованная девушка собиралась недолго. День отплытия был ясным и теплым. Струг, приготовленный для Анны, покачивался на воде, согретой утренним солнцем. Охранять Анну было доверено шестерым дружинникам. Боярышню сопровождали еще четыре сенные девушки, двое лучших чусовских кормчих и промерщик с багром. Путь до Нижнего городка был недолог.
Река Чусовая здесь красива, как в древних былинах: скалистые утесы, стремнины на перекатах, вековые сосны над ущельями, диковинные камни-бойцы, торчащие из-под воды.
Любуясь этими красотами, Анна следила, как седобородый кормчий уверенно направлял легкий бег судна между едва заметными подводными камнями-ташами, обросшими зелеными бородами тины.
Чусовая заметно обмелела, но течение ее было по-прежнему стремительным.
Впереди показался крутой поворот. Река здесь сузилась, сжатая каменистыми берегами. Лесные чащи подступали к самой воде. Анна переводила взгляд с реки на кормчего. Тот как раз подозвал к себе своего помощника. Чусовая шумела и злилась, струг закачало сильнее.
– Шест готовь! Веслами с правого борта табань! – подавал команды кормчий.
– Дедушка, пройдем ли? – испуганно крикнула Анна рулевому. – Может, к берегу пристанем, посуху перекат обойдем?
– Не бойсь, не бойсь, касатка-боярышня! – успокаивал ее кормчий. – Не такие перекаты проходим! Стань к мачте, держись и не робей. Дело минутное – сейчас опять на чистое место выплывем!
И правда, самое опасное, казалось, уже позади. Только два больших утеса еще торчали на пути струга; течение с ревом обтекало эти скальные преграды, но обойти их уже казалось легко – слева открывалась свободная от камней просторная водная стремнина...
Уже и кормчий вздохнул было с облегчением. Он уверенно готовился к последнему повороту. Справа дружинники опустили весла, чтобы помочь рулевому безопасно развернуть судно. Все внимание людей было обращено на воду, на скалы. Девушки, подружки Анны, со страхом попрятались в рубленой избушке струга. Никто не следил за лесной зарослью на близком берегу...
А там, укрытый среди пушистых еловых лап, уже припал к напряженной тетиве лука опытный вогульский стрелок. Его оружие – заговорное, заповедное! Древесина этого лука выдержана кудесниками три года в особом зажиме, тетива свита из ножных жил горного козла, а острия верных стрел смочены соком островного корня... Это оружие не на простого врага, не для обычной охоты. Это – священный лук охранителей корня!
Не промахнется лучник, не навлечет позор на себя и весь свой род! Еще ночью тайно приплыл из Верхнего городка вогул рыбак, обещавший следить за приготовлениями к отплытию на низ Анны Муравиной. Вот и струг ее уже минует место засады... Вот и сама она стоит у мачты струга, золотоволосая осквернительница вогульской святыни! Третью неделю караулят ее здесь верные сылвенские мстители; наконец-то час расплаты настал...
На струге и не расслышали за шумом воды певучего свиста легкой вогульской стрелы. Все повернулись лишь в следующий миг, когда различили слабый, будто удивленный возглас боярышни у мачты:
– Смотри, дедушка, что со мной! Кровь, кровь!
Боярышня еще держалась на ногах, но в плече у нее торчала стрела. На белой ткани ферязи быстро расплывалось алое пятно.
А струг несло прямо на утес! Но кормчий не бросил руль, дружинники разом опустили весла. Поворот удался, струг вылетел на широкий, весь седой от пены плес и еще летел сотню сажен, пока бег его по сердитым волнам замедлился.
К боярышне тем временем бросились со всех ног ее подружки и служительницы. Они перенесли ее, уже обессиленную от раны, в избушку, уложили на скамье, но не отваживались вынуть смертельную стрелу из раны.
Плечо было пробито навылет, острие стрелы вышло наружу. Потревожишь такую рану – истечет боярышня кровью. А до крепости еще десяток верст. Старший ратник охранного наряда велел кормчему высадить шестерых дружинников на берег: пусть обшарят лес, сыщут из-под земли тайных злодеев.
И лишь только все шестеро исчезли в чаще, на струге подняли парус. Быстро пролетел он последние версты до Нижнего городка, где сам Семен Строганов уже дожидался встречи с Анной.
Верно, предчувствие беды зародилось в сердце Семена еще до того, как белопарусный струг подошел к причалу: не увидел он, как ожидал, приветного взмаха руки и девичьего кокошника своей суженой. Еще издали, по тому, как двигались на борту люди, спускавшие парус, как у дверей избы толпились на струге девушки-подружки, даже глазом не ведя в сторону берега и пристани, Семен уже понял, что случилось нечто страшное.
А когда струг на веслах подошел к пристани и Семен, не ожидая ничьих рассказов, перепрыгнул на борт, он увидел неподвижную Анну на скамье в окружении заплаканных спутниц, услышал сбивчивые слова...
Боярышню, уже обеспамятевшую, Семен перенес в ее покой, послал за бабкой-знахаркой и вогульским лекарем из соседнего селения.
Стрелу удалось извлечь из раны, но надежды оставалось мало.
...Вечером пришли в городок и дружинники со струга, привели двух пленных вогулов. Они сознались, что присланы были главным сылвенским кудесником. Их сородич недавно зарезал монахиню Алевтину; сами же они свершили нынче месть и над второй осквернительницей священного острова...
4
Анну Муравину пытался спасти от смерти первый, лучший знахарь чусовских земель, вогул по прозвищу Паленый Пенек. Он боролся за жизнь девушки, вкладывая в свои заговоры и снадобья таинственную силу, которой наделили его добрые духи. Он вступил в этот поединок со смертью ради уважения к хозяину Камы и Чусовой, ибо воочию видел горе этого могучего человека. Но знахарь понимал, что девушка погибала не только оттого, что из нее вылилось много крови. Знахарь отдал бы за спасение невесты Строганова даже свою кровь, если бы он умел перелить ее в жилы умирающей, но как преодолеть действие островного корня, действие страшного сока, медленное и неотвратимое? Против этого сока-яда мудрый вогульский знахарь не знал никаких лекарств. Помочь может только воля верховного бога Чохрынь-Ойка, если он смилуется над русским хозяином этой земли и сохранит на радость ему жизнь прекрасной златовласой невесты. Ведь знает же бог вогульского племени, что смерть этой девушки умертвит в русском всю радость его существования, хотя сам он и будет двигаться по земле: такова непонятная власть того странного чувства, что оживает в душе мужчины к избранной им женщине. Оно, это странное чувство, не может перейти на другую женщину, а потерявши избранницу, оно испепеляет сердце, оставшееся на земле в одиночестве...
Двое суток прошло в борьбе со смертью. Но действие тайного яда было сильнее заклинаний и молитв! И старый знахарь не стал таить от хозяина правды. Он не произнес приговора вслух, но собрал все свои снадобья и амулеты, убрал их в свою котомку, решительно отверг деньги и подарки, приготовленные хозяином.
– Уходишь? – спросил Строганов.
Паленый Пенек только беспомощно развел руками, вышел на улицу и сел на завалинке, обратив лицо на запад. При умирающей осталась мамка Евдокия. Семен Строганов заметил, что по лицу Анны разливается бледность, горячечное дыхание слабеет, на лицо ложатся синие тени.
– Попа! – приказал он старухе. Та утерла слезу и торопливо вышла из покоя.
...Трифон Вятский соборовал Анну, велел положить ее под образа. Семен Строганов слушал слова священника о жизни вечной и прощении грехов земных и думал о том, почему бог покарал именно ее, так мало жившую и так мало согрешившую перед ним!
Сама она не приходила в сознание и не слышала ни пения, ни молитвы. Трифон Вятский, в последний раз благословив умирающую, стал читать Священное Писание.
Строганов во время чтения следил, как отсвет лампад мерцает в полуприкрытых глазах Анны. Неужели никакой надежды удержать этот слабеющий дух, не дать ему вовсе покинуть молодое, прекрасное тело? Неужели нет спасения? И будто в ответ звучали слова Екклисиаста:
«...ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы... И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к богу, который дал его...»
Начиналась тяжелая агония. И лишь поздней ночью Анна затихла, перестала содрогаться, стала дышать ровнее: синие глаза обрели ясный блеск; в них снова засветилось сознание.
Анна узнала Семена, глядела на него ласково и светло, даже попыталась приподняться. Он склонился к ней, позвал но имени. Спросил:
– Аннушка! Ты слышишь меня?
И в ответ едва внятно уловил слетевшее с ее холодеющих губ слово:
– Родимый!
Анна сказала его так же ласково, как и в лунную ночь на холме, когда впервые они сознались друг другу в своей любви. Только как тихо она вымолвила его! Семен опять наклонился к ней. Она зашептала в полубреду:
– Завтра солнышко взойдет. Вместе в луга пойдем. С тобой не страшно. На солнышке согреюсь. Студено мне... Сеня, спаси меня...
Веки девушки начали медленно западать, гасла ясность взора; любимая ускользала от него... Он снова позвал ее по имени, но ответа уже не было: Анна отошла.
Когда Семен своей рукой совсем прикрыл уже омертвевшие веки, из-под его пальцев скатились по холодеющему лицу две слезинки. Семен быстро наклонился, осушил их губами, припал лбом к плечу Анны и замер неподвижно, будто в обмороке.
Очнулся он, потому что кто-то тронул его за плечо. Семен опять увидел перед собой старого вогульского знахаря. Старик помог Семену встать с колен, потом низко поклонился ложу с усопшей и, не отрывая от нее взгляда, отступил от постели к дверям. Взял в руку веник, распахнул двери настежь и, нашептывая заклинания, стал тщательно обметать порог: старик, желая оградить Семена от злого духа смерти, старательно заметал за порог следы этого духа.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Ледоход 1573 года снова раскалывал ледяной панцирь на Чусовой. Прошедшая зима была опять снежной и буранной.
В Нижнем городке перезимовал затворником в своей избе Семен Строганов. Но до наступления зимы была ненастная осень. Она стала памятной для вогулов на Сылве.
Через неделю после похорон Анны Муравиной Строганов простился с ее могилой на высоком холме близ крепости и обрядил струги в большой поход. Брал он в него только охотников-добровольцев. Поднявшись по Чусовой до Сылвы, он прошел по ней от устья до истока и по ее притокам, уничтожая вогульских и черемисских кудесников, жрецов, шаманов, все мольбища и капища. Молва об этой расправе на Сылве и на Вогулке-реке разнеслась по округе. Шаманы соседних племен стали уговаривать вогулов-язычников уходить в леса по ту сторону Каменного пояса, в Сибирское царство.
Строганов же вернулся из похода перед самым ледоставом, занялся делами своих крепостей, но уж никто не видел на его лице улыбки.
С наступлением весны, когда благоухание ландышей оживило в памяти Семена события прошлого года, на хозяина Камы с небывалой силой напала гнетущая тоска.
Струг Семена Строганова бороздил воды Чусовой и Камы, будто их хозяин искал врагов, чтобы схватиться насмерть, отстаивая покой и мир всех поселений на дарованных землях. Однако всюду было тихо, природа радостно и щедро праздновала пору своего обновления.
Но едва успели наступить июньские дни, как до Строганова дошли тревожные слухи: будто сын сибирского хана Кучума, воинственный хан Махмет-Куль, с большой ордой напал на Чердынь. Разграбив окрестности, он не смог спалить эту крепость и подался к Соли Камской. Воевода Запарин не рискнул принять сражение и... откупился от хана золотом и оружием. Опьяненный этим успехом, хан двинулся по Каме к двум главным строгановским оплотам – Конкору и Кергедану, чтобы наказать их за прошлогодний разгром татар и за смерть своей невесты Игвы.
Весть о движении орды Махмет-Куля, о новых грабежах и разбоях на Каме, о трусливом поступке воеводы Запарина застала Строганова в косьвенском остроге. Он немедля подался в Кергедан и, забрав в нем часть дружины, поплыл навстречу татарам. Первое столкновение с силами Махмет-Куля произошло недалеко от Конкора. Строгановские дружинники с такой яростью налетели на ордынцев, что они бежали и донесли хану о несметной силе Строганова. Поверив этой небылице, хан поспешно отступил с Камы в родные места, чтобы набрать новые орды. Тогда Строганов пошел в царскую крепость Соль Камскую, чтобы навеки отбить у Запарина охоту к предательству. Запарин было заартачился – не пожелал открыть ворота крепости перед строгановскими дружинами.
После такого приема Строганов подъехал на коне под самую воротную башню и громко закричал, обращаясь к жителям города и ратным людям воеводы:
– Эй, горожане! Воевода Соликамский татарскому хану ваши деньги и оружие царское ордынцам выдал, чтобы им сподручнее было русских людей тем оружием бить. Я, Строганов, хана татарского прогнал, оружие и ваше золото назад отобрал. Желаете все отбитое назад получить – откройте ворота! Невинных ничем не оскорблю, а воеводу Запарина за измену буду вместе с вашими лучшими людьми честным судом судить всенародно. На том крест вам целую!
Запарин, услышав его обращение, дал приказ усилить стражу у ворот и даже открыть стрельбу по строгановским дружинам, обвиняя их в самоуправстве, своеволии и разбое. Однако приказ этот даже его ратники выполнить не пожелали; горожане легко оттеснили воротную стражу и распахнули ворота. Дружины Строганова вошли в город, заняли воеводские хоромы и посадили Запарина под замок.
На другой день Семен Строганов приказал звать жителей города на вече и велел выбрать от всех сословий лучших людей для суда над воеводой-изменником.
В суде этом участвовали и сотники строгановских дружин, и даже старший корабельный мастер с Чусовой Иван Строев – участник многих военных походов.
Два дня судьи выслушивали ратных людей крепости, подсчитывали, сколько русских людей и мирных вогулов лишились жизни, загубленные оружием, которым Запарин вооружил хана Махмет-Куля.
Воевода Запарин в свое оправдание смог лишь сказать, что он гадал по звездам о судьбе крепости, и созвездия подсказали ему действовать откупом. Однако ссылку на созвездия судьи не приняли во внимание и вынесли приговор, по которому строгановские люди и Соликамские жители решили отправить воеводу под стражей к царю с прошением наказать по заслугам сего неверного царского слугу, а в назидание прочим нерадивым военачальникам и на вечный позор трусу подвергнуть бывшего воеводу Запарина наказанию розгами на площади при всем народе.
И когда наутро горожане уже готовились к небывалому зрелищу на площади, оказалось, что приговоренный не стерпел позора и сам наложил на себя руки.
Случай этот мог дорого обойтись Семену: родственники покойного Дементия Запарина били челом царю, прося наказать Строганова за самовольство.
Царь послал в камский край думного дьяка чинить розыск. Посланец побывал в Соли Камской, Чердыни и Кергедане, побеседовал там по душам с Семеном Строгановым и отбыл в Москву с целым поездом подарков московским боярам от радушного камского хозяина.
После того как дьяк доложил государю итоги розыска, поток доносов и жалоб на Строганова приослаб, но не прекратился.
Царь выслушивал их с редкостным терпением, но медлил с решением.
Осенью 1573 года из Москвы прибыл на Каму гонец с известием, что Яков Строганов заболел, напуганный происками против Семена: старшего из братьев Строгановых разбил паралич.
2
Поутру сеялся мелкий осенний дождь.
В Нижний городок приплыл навестить Голованова воевода Досифей, чтобы узнать, нет ли у него вестей от хозяина с Камы.
Голованов угощал гостя паренными в бруснике глухарями. Говорили о житье-бытье на Руси, стольной Москве, которую Досифею не приходилось видеть. Запивали ядево хмельной брагой. Оба не знали, что в эти самые минуты к городку причалило судно Семена Строганова.
Дверь в избу отворилась, и сидевшие за столом увидели своего хозяина. Строганов от души обнял обоих друзей.
– Примечаю, не ждали?
– Таиться не станем! О тебе толковали: мол, где-то сейчас летает орел камский?
– Чем богаты?
– Глухари вот. И чусовская бражка. Что бог послал!
Строганов взял с блюда кусок жареной дичи.
– Думали, позабыл про вас?
– И в этом таиться не стану. Всяко думал. Даже, что разгневался ты на нас, – сказал Голованов.
Семен обглодал мясо с костей и бросил их на стол. Напился браги из ковша Досифея.
– Пустое думал, боярин Макарий! Не наведывался сюда, потому что душа от тоски немела. Не могу забыть покойницу.
– Издалека сейчас? – осведомился Досифей.
– Из Кергедана. В Москве брата Якова хворь доняла. В постели больше месяца. Не жилец, сказывают. Занемог от страха за меня. Задумал я кое-что. Послушай, Макарий, про задуманное. Ежели не прав, вразуми.
– Сказывай.
– Мне, знать, лучше вас одних оставить? – спросил Досифей.
– Сиди! Пошто тебе уходить? Чумеешь от старости... Ответствуйте оба: почему ноне Махмет-Куль свою орду с Камы увел?
– Как почему? Строганов прогнал! – сказал Досифей.
– Согласен, – подтвердил Голованов. – Со страху ушел татарин.
– А с чего на Москве на меня доносы царю? Так понимаю, что тоже со страху. Как, мол, осмелился на царской земле наместника к порке приговорить? Этак, мол, любого слугу царского Строганов на позор выставит, коли кто не поладит с ним.
– У Запарина на Строгановых злоба давнишняя. Недаром он опричным двором сюда прислан был; чать, сам не забыл, как ты его в Конкоре приветил. А время подходящее, чтобы тебя клеветой замарать: Яков – хвор, Григорий – слаб. Распалить царя против Семена – и можно делить тогда строгановское добро.
– Так не бывать этому! – Строганов ударил по столу кулаком. – Решение возымел самолично ехать в Москву да царю челом ударить, спрашивая дозволения войной на Сибирское царство идти.
Голованов перекрестился.
– Крестись, боярин Макарий, а потом и меня благослови к Ивану Васильевичу в гости наведаться. Чего молчишь? Ты, Досифей, тоже слово свое о задуманном скажи.
– Что ж говорить? Задумал не худо – каково-то задумку выполнить!
– Объявлюсь перед государем сам нежданно, пока нет из Москвы повеления меня туда на допрос представить. Как думаете, дойду до царя? Хватит ли сил локтями дорогу расчистить среди опричников вчерашних, дьяков да окольничих? Допустят меня бояре к царю?
– А ты загодя не сомневайся. Царя я знаю, – проговорил Голованов. – Не любит он, когда его боятся. Разговаривая, смело гляди ему в глаза. Разгневается – не отступай, коли в своем уверен и Руси-матушке на пользу оно. Начнет на тебя кричать, ты сам кричи. Посох на пол кинет – не поднимай, даже если велит. Хватит духу?
– Хватит.
– Тогда езжай. Только слово мне дай: спросит обо мне – не утаивай, что у тебя живу. Скажи, ушел, мол, с Руси не от страху перед смертью, а оттого, что стало стыдно за государя, поверившего клевете на верного слугу. Скажешь?
– Скажу.
– Не позабывай также, что царь на нового человека исподлобья глядит. Взгляд неласковый! Когда в путь тронешься? И с собой кого берешь?
– Послезавтра поутру, даже если попутного ветра не будет. А с собой думаю Строева Ивана взять. Пусть свет божий поглядит.
– И то, пусть Москву поглядит. Надо, стало быть, коней готовить?
– На струге доплыву до Костромы, а то и до Ярославля, а там на конях до Москвы.
– С богом. Может, доживу, когда на Чусовую воротишься?
– Но ежели, паче чаяния, не ворочусь, оба доглядывайте за всем строгановским на Каме и Чусовой. Ты, Досифей, здесь не прозевай, кто и на какой лад без меня песни супротивные напевать станет...
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Стольную Москву засушливая осень обильно засыпала желтым листом. Над первым городом Великой Руси по утрам и вечерам особенно ядрены в такую пору запахи выпеченного хлеба, древесной смолы, а в засуху примешивается к ним душок пыли, вызывающий слезливость и чихоту.
Московские сады – в багрянце осенних красок. Каменный Кремль высится над деревянным городом, будто белое облако, осевшее на холме, и блестят над ним золотые главы соборов, шатры царских теремов, луковичные купола церквей и храма Спаса на Бору.
И в эту осень Москва все еще залечивает раны от поскоков красного петуха. Напустил его на город крымский хан Девлет-Гирей при нежданном, дерзком набеге. Царь виноват в этом. Затеянная им ливонская война, страшный погром Новгорода и излишняя вера царя в ратную пригодность опричников ослабили в государстве воинскую усторожливость. Распознав об этом, крымский хан осмелился нарушить все клятвы и принести в град Москву меч и огонь, пока сам Иван IV отсиживался в надежных стенах Кирилло-Белозерского монастыря на Севере.
Весной 1571 года народ московский сызнова, как в Батыевы времена, услыхал топот и ржание татарских коней. Пролилось на родную землю немало крови защитников, и тысячи полонянок – московских боярышен, посадских девушек, дочерей и молодых жен купеческих увели ордынцы в свои жаркие, сухие степи.
Два года минуло с той страшной весны, а плешины пожаров в Заречье, в Загородье, за рекой Неглинной еще знатки то тут, то там среди бревенчатых срубов, то новых, под воском тесовых крыш, то позеленевших, уже замшелых. Опричный двор на Арбате, близ Троицкой башни Кремля, на радость людям сгорел дотла. Год доходит, как не стало и самой опричнины. Обласканная царем, она сгинула от его же рук, полив свою дорогу большой кровью. Опричнина приказала долго жить, но в памяти народной на века остались глубокие зарубки о неисповедимых для разума делах ее, сотворенных с дозволения царя.
Живет Москва, вздрагивая от набатов, залечивая раны от плетей и пыток опричнины. Обучена Москва царем Иваном жить в страхе, потому что и сам он вечно в лапах суеверного страха. Московский народ всегда в тревоге. Даже сполох на базаре из-за уворованного пирога пугает насмерть. Кидаются люди очертя голову к своим дворам, крестясь и вспоминая всех святых.
Живет в Москве и царь при свете лампад, как будто на время утихомирив в себе злобу. Москва не верит в царское смирение. Любой человек, будь он черный мужик либо знатный вельможа, всякий час ждет напасти, кою может учинить над ним царь из-за вспышки гнева или по доносу недругов.
Живет Москва трудом и стоном народным, живет праведно и грешно, прислушивается к злой распре царя с его боярами. Ведет она степенную, ленивую, сытую, голодную, блудливую, хмельную и крикливую жизнь.
И, увидев ее, купец Семен Строганов и мастер Иванко Строев, ошеломленные и оглушенные, поняли, что в ее тысячеликости и выражена полной силой великая душа Руси, собранная воедино Иваном III и Василием Ивановичем, дедом и отцом нынешнего, по счету четвертого Ивана в челе государства.
Пожив всего несколько дней у брата Якова, Семен Строганов много наслышался о московской жизни. Все, начиная с брата, сказывали о ней по-разному, хвалили и хулили на всякие лады. Семен понял, что зависть ходит по Москве в парчовой одежде, страдание же народное пророчествует и кликушествует на папертях, а правда, взыскуемая всеми, но никем не виденная, далека, как звезды небесные. Зато жадность людская бродит и в парче, и в лохмотьях; неугасимая ее искра тлеет в любых человечьих очах, только погасить эту искру можно порой копейкой, а в ином взоре не истребишь ее и мешком золота!
Строганов щедро одаривал нужных людей, чтобы поскорее дойти до царя. Всякий, оказывая ему в том помощь, не гнушался принимать куши и подарки. Дороговато стал Семену Строганову его путь с Камы до тронных ступеней в царском дворце! Досужая молва тоже не спала, разнесла по всем углам весть о приезде Строганова. О нем судачили бояре в хоромах, плели небылицы торговые люди. Все гадали, зачем он пожаловал вдруг, и не верили, что, кроме свидания с царем, у Строганова нет иных дел в Первопрестольной.
2
Пошла вторая неделя после приезда Семена и Иванка в Москву. Над городом, пряча солнце, плыли в небе серые тучи. Хмурое утро! Ветер сдувал листья с деревьев; шелестя и шурша, они переметывались по земле, засыпали канавы и колеи, вдавленные в пересохшей грязи. Листья грудились возле заборов, птичьими стайками слетали в Москву-реку и плавали возле берегов.
В кремлевском дворце уже все знали, что царь повелел Строганову быть этим утром перед его очами, что камский хозяин удостоен столь великой чести. Многие видные сановники государева двора, желая повидать Строганова, спозаранок собрались в дворцовой палате.
Когда Строганов вошел в эту просторную палату, гудение десятков голосов на минуту стихло. От скопления людей здесь было душно, как в бане, и пахло ядреным потом. Под взглядами любопытных Строганов встал в стороне, у открытого окна. Слышал, как придворные шептались, вполголоса спорили, и даже тихонько переругивались. Строганов ловил настороженные, порой даже явственно недружелюбные и колючие взгляды. А сам он был как-то странно спокоен и испытывал чувство гордости за то, что стоит здесь, среди первых людей страны и приближенных царя, среди именитых бояр. Нравилась ему пышность их одежд и холеность бород. Рядом две такие выхоленные бороды зашептались о том, что-де царь-батюшка отстоял обедню, но воротился в покои не с красного крыльца. Где-то впереди шептались о том, что царь с полуночи занемог бессонницей, а потому хмурым, в рясе монаха, отправился на молитву. Еще на крыльце, мимоходом, Строганов уловил чей-то разговор о том, что, придя из собора, государь разгневался на сыновей за спор и потом позвал их побеседовать, как надо жить в братском согласии.
Слышал Строганов, как в толпе поминали и его имя – дескать, тоже доступа к царю ищет.
Время тянулось. Шепоты не затихали. Только теперь меньше поминали государя и его семью, а больше перетолковывали московские сплетни.
Неожиданно в конце длинной палаты раздался заливчатый смех с выкриками:
– Бояре московские, дьяки и подьячие, стольные и окольные, у кого тут из вас загривки чешутся? Торопитесь к самому, как раз в пору и окажетесь!
Толпа придворных зашумела сильнее. Строганов уловил, как соседние бороды шептались:
– Шут явился! Царский шут чудит!
По палате бегал, хохотал и даже игриво хлопал ладонями животы иных царедворцев пестро одетый государев шут. Он взвизгивал, позванивал бубенчиками, нашитыми на его странный наряд. Его хватали за руки и за полы, подтягивали к себе, пытались выспрашивать про царя и царевичей. Шут отделывался грубыми, часто непристойными прибаутками, а некоторым шептал что-то мимолетное на ухо, отчего те люди заметно бледнели, таращили глаза или сердито отмахивались от шута. В одном из углов палаты шут угодил к седому царедворцу, но вырвался из его рук, ловко отскочил в сторону, погрозил старику кулаком:
– Не лапай, Афанасий, чай, не сенная девка! Тебе-то ничего не скажу, уж знаю тебя, сквалыгу. Задарма хочешь у меня царские тайны выведать!
Продолжая свои торопливые прыжки и зигзаги в палате, шут вдруг закричал пронзительно:
– Ведайте, московские люди, что батюшке царю сегодня к вам нет интересу! Он станет на Строганова глядеть да обучать его уважению к толстопузым воеводам! А то вдругорядь вас на Каме пороть прикажет, как Сидоровых коз! Что? Притихли? Не поглянулась моя присказка?
Шут растолкал целую кучку придворных и освободил себе на полу кружок. Он кувыркался на этом кружке и со смехом выкрикивал:
– Где тута Строганов? Кажите его мне! Повеселить его хочу, чтобы со страху слезами не изошел.
Кто-то пальцем указал шуту на Строганова. Скорчив плаксивую гримасу, шут подбежал к Семену, приставил ко лбу пальцы в виде рожек и заюлил, кривляясь и приговаривая:
– У, какой! Бука, бука, Строганов!
Но в этот миг где-то впереди прозвучал твердый спокойный голос:
– Не докучай людям, Алексеич!
Шут недовольно отскочил и смотрел на Строганова исподлобья. Семен взглянул на подошедшего рослого, молодого боярина, с едва заметной татарской раскосостью глаз.
– Не ошибусь, ежели тебя за Семена Строганова признаю?
Строганов поклонился, как сумел. Толпа в палате тем временем раздалась, освобождая проход царскому любимцу. Строганов различил шепот: конюший царский... боярин Годунов... Борис Федорович.
Статный боярин Годунов ободряюще кивнул Семену:
– Немало слыхивать про тебя, Семен Иоаникиевич, приходилось. На Каме государству Московскому радеешь. Коли будет охота, гостем жду тебя в своих хоромах.
– Благодарю за сей почет, – Строганов еще раз поклонился молодому вельможе.
Годунов пошел по палате. Иные седые головы клонились перед ним, но и он затерялся среди царедворцев. Тотчас же к Строганову стали подходить знатные вельможи, называя с поклоном свои громкие имена, о которых знала чуть ли не вся Московская Русь. Они расспрашивали Семена с благожелательными улыбками, как доехал до Москвы, не пристал ли с дороги, лютой ли была прошлая зима на Каме и грязна ли там осень в непогоду.
И смолкли разом все голоса, когда один скрипучий дискант государева слуги нараспев начал выговаривать:
– Строганову Семену с камской земли дозволено идти к царю Московскому и всея Руси...
3
Зажав рукоять посоха и опершись на него подбородком, царь Иван Васильевич, сидя в кресле, пристально рассматривал Строганова. Друг от друга их разделял только шаг. Строганов впервые видел царя. Его смуглое лицо исчерчено морщинами. Темные глаза – в глубоких впадинах глазниц. Кустисты нависшие над ними брови. Во взгляде суровая пытливость и недоверие. Рыжеватые, сильно поредевшие волосы спадают на плечи, как у попа. Борода клинышком с прошвой седины. Щеки бледные, заметен на них отлив желтизны. Царь высок и дороден, но сутулость снижает рост, и с виду он даже не кажется полным. Во всем облике – усталая понурость. Одежда царя – из зеленой парчи с выпуклыми узорами аканта, золотых трав, листьев и цветов. На голове – монашеская скуфейка. После богомолья переоболокся, а скуфью не снял. Строганов смотрел на царя, и помазанник божий казался ему исступленным монахом вроде Питирима, только наряженным в пышную царскую одежду. Страха в себе Строганов не ощутил.
Заговорил царь негромко. Хрипота в голосе. Говорил, а глаз с собеседника не отводил.
– Родителя твоего помню. Праведно жизнь на земле завершил, с богом в разуме. Ты с ним чем-то схож. Кажется, лицом.
Царь поднялся с кресла, прошелся и, внезапно обернувшись, ощупал Строганова с головы до ног настороженным взглядом. Сделал еще несколько шагов, остановился у столика с шахматами. Прислонил к нему посох, задумался, оперся руками о столешницу. Помолчал, а затем, переводя взгляд то на Строганова, то на шахматы, проговорил:
– Челобитную твою мы зачли! Замыслил воевать царство Сибирское? С Русью моей мнишь его воссоединить? За хребтом Каменного пояса Русь видишь? Купец, а мыслишь о ратном?
Вскинул голову, будто вопрошая. Снова взял посох в руку, вернулся от столика к Строганову. Спросил настойчиво:
– Здраво ли подумал обо всем? Зачнешь спор с татарами о Сибири, а что ежели не осилишь? Подумал, что они могут смять тебя на Каме и Чусовой? Что тогда?
– Великий государь, тревогою о том себе не докучаю.
Царь покачал головой.
– Ишь ты, каков! Я тоже перестал было докучать себе думами о татарах. Уверился, будто они навсегда утихомирились. А они, глянь, и объявились перед Москвой с ханом Давлет-Гиреем. С крымской земли пришли на русскую. Видал, поди, как палили город? До сей поры об огне знаки. Ни Казань, ни Астрахань не отбили у татар охоту русскую кровь проливать.
– Строгановых татары на землях камских и чусовских не сомнут. И Москву не спалили бы вражины, ежели бы твои воеводы у ратных людей в доверии были.
– Вон как! Может, и обо мне суждение имеешь? Небось слыхал: когда татары к Москве подошли и в Кремле озоровали, не было меня в ней? Слыхал? Говори.
– Ты царь, и твоя воля не осудна.
– Веришь в себя! Но ведаешь ли, что в ратном деле кроме веры и искусство надобно? Давно ли думы о Сибирской земле стали тебя одолевать?
– С той поры, когда Русь у порога Сибири объявилась. Строгановы ее к тому нелегкими тропами привели. Перед порогом Кучумова царства Руси стоять зазорно. Ведомо мне, что не по нутру кочевью наше соседство. Беспокоят они наше мирное житье, мутит их разум запах нашего хлеба. Пока они нас только прощупывают и легонько покалывают, но и эти пробы мы кровью оплачиваем. Надо Руси идти в Сибирь доброй наставницей. Пора обучить сибирских кочевников оседлости, вразумить их бросить разбой и трудиться по-мирному. А Кучуму все это – не по нутру. Лелеет он мысль – спятить Русь с Камы. Русь же пятиться не умеет.
Царь слушал, прищурившись, а порой совсем закрывая глаза, как будто видел перед собой то, о чем говорил Строганов. Вдруг громко сказал:
– Дело говоришь! Не смеет Русь пятиться!
Опираясь на посох, прошел к окну, собственноручно ткнул в створки посохом и распахнул их. Потом вернулся и снова сел в кресло.
– Слыхал я, что хан Кучум силен.
– Дозволь, великий государь, вести о сем считать зряшными. Кому его сила ведома? С русскими ратями он ею не мерился. Страх перед Кучумом в разуме не пригреваю.
– И про это дельно судишь. Может, скрытничаешь? Чую, что про силу Кучума тебе многое ведомо. Своим умом норовишь обходиться? Одно слово – купец!
– С кем же мне, великий государь, в камских лесах велишь советоваться?
– Аль не разумны мои воеводы?
– С купцами Строгановыми не все дружбу водят. Иные чураются.
– А может, окромя их, есть и еще кое-какие советчики? Кои не гнушаются дружить с тобой? Может, признаешься?
– В чем, великий государь?
– Что скрытничаешь передо мной.
– До сей поры не искал я советников, великий государь, для решения заветных помыслов. По правде сказать – боюсь чужих советов. Не все они добром оборачиваются.
– Ответы держать ты изрядно поднаторел. Я про тебя многое слыхал. Всяким тебя передо мной выставляли. За многое надо бы люто наказать. Но мне было недосуг о тебе думать. А нынче вот решил, что не поперешник ты мне, а слуга. Многие тебя не больно жалуют. Не по душе и боярам моим тот, кто мне мил. На Руси давно так водится, что ко всякой правде досужая молва налипает, как грязь на колесные спицы. Понял ли, о чем толкую?
– Спасибо на истинно царском слове.
Царь сощурился, склонил набок голову.
– А Кучума воевать надо войском обученным, храбрым и не малым. Это памятуешь?
– Ежели дашь дозволение, войско соберу храброе и обучу его дельно.
– Стало быть, пойдут твои холопы на сей подвиг?
– За Русь они на любой подвиг пойдут.
– Крепок ты в замысле. Год тебе отпускаю на раздумье. Не отступишься – дам дозволение к будущей осени. Принимаю твой довод, что татары Кучумовы могут Русь бессильной почесть, ежели мы сами разбою потакать станем, не обучая их мирному житью. Могут и на Каму, и даже на Волгу сызнова позариться... Думай, Строганов! Оплошаешь – падет из-за тебя позор на все государство. За оплошность милосердия от меня не жди. Выручать из беды тебя своими ратями не стану. Они у меня другим заняты. Когда рассчитываешь в поход на Сибирь людей своих двинуть?
– Да мыслю годов эдак через шесть, великий государь. Сперва острогами надобно все подступы укрепить, опоры себе создать, взять Кучумову силу исподволь в полукольцо крепостей, как бы сказать, серп, чтобы к стеблям подвести.
– А потом колосья под самый корень подрезать?
– Так мыслю.
– Коли за гуж взялся – мне в залог голову оставишь! Оступишься – не помилую. Честь и гордость Руси нам превыше всего. Верить хочу, что не уронишь звание русского, что достанет в тебе разума и смелости ради покоя Руси сибирские земли замирить и плодоносными сделать. Знаю, что помогаешь Русь в глухом краю утверждать и возвеличивать.
Царь медленно поднялся, подошел к аналою с раскрытым требником, положил на него руку и спросил вкрадчиво, с лукавинкой, будто бы добродушной:
– Правда ли, что в твои вотчины бегут с людишками иные бояре, спасаясь от моего суда?
– Случалось и такое, великий государь.
– Стало быть, пособничаешь им? Крамольников укрываешь?
– Укрывать не укрываю, но иным жить подле себя дозволяю для пользы Руси. Не все они повинны перед тобой, великий государь. Иные от одного страху в бега пустились.
– Судишь, стало быть, так, будто царь всю Русь запугал гневом своим?
– Разве Русь не должна перед царем да перед богом страх иметь?
– А ты имеешь?
– Нешто я о двух головах? Только и страх разный бывает. Царя, по разумению моему, бояться должно, а врагов Руси – нет. А среди слуг твоих в камском крае и такие случаются, что гнева твоего меньше страшатся, нежели наскока татарского. Летось вот Соликамский воевода...
Правая бровь на лице царя задергалась и изогнулась дужкой, а глаз стал большим и остекленелым. Он прервал Строганова выкриком:
– Слыхал! – И сразу же подобие судорожной улыбки на мгновение мелькнуло в сведенной линии рта. – Бояре мои жаловались, как ты его выпороть велел за то, что золото и оружие русское Махмет-Кулю со страху отдал. Но я тебя не осудил за сей дерзновенный шаг. Не наказал тебя, купца, поднявшего руку на государева слугу.
Выражение царского лица ежеминутно менялось, становилось то выжидающим, то напряженным, то хмурым.
Что-то вспомнив, он вдруг переспросил:
– Стало быть, беглые бояре возле тебя Руси пользу приносят? Чем? Дозволь полюбопытствовать?
– Верной службой Строгановым.
– Больно высоко себя ставишь.
– Чай, твоей волей, великий государь, род Строгановых на Каме поставлен. Неужли неправильно рассудил?
Царь отмахнулся.
– Погоди! Что-то голову жаром обнесло. Опять в ушах трезвон. Это у меня от розмыслов тревожных случается. Теперь чаще стало. Притомляюсь не по годам.
Царь переставил на шахматной доске несколько фигур, произнес в раздумье:
– Может, и не столь уж плохо, что ослушные бояре в камском крае хоронятся? Хуже, ежели за рубежи к ляхам да татарам переметываются. Но ведь и от тебя до татар – рукой подать? Ужель никто из беглецов к Кучуму не перекинулся?
– Был такой. Только не боярин, а беглый опричник.
– Кто?
– Костромин Алешка.
Царь ударил по столу, и шахматные фигуры рассыпались.
– У татар он?
– Нет. Лонись с ордой на наши чусовские городки набег учинил. Мои люди разбили кочевников, а Костромина полонили.
– Сюда его доставь.
– Судил я его и утопил в Чусовой.
– Судишь изменников?
– И на это Строгановым воля тобою дана. В нашем роду любой грамоту твою, великий государь, дословно в памяти держит. И слыхивал я от отца, будто сам ты ему велел не знать милости к изменникам Руси.
Царь, не слушая Строганова, произносил будто про себя:
– Алешка Костромин! Кобель. Ворюга подлый. В опричнину напросился не затем, чтобы царю служить, а чтобы сподручнее было лапу в казну запустить. Жечь его надо было живьем. За измену Руси, за один лишь умысел о сем казнить надо таких крамольников, самый след их с русской земли стирать. Слышишь? Царь тебе сие говорит.
Откашливаясь от приступа удушья, вызванного этой вспышкой гнева, царь таращил остекленевший глаз, ходил по покою и почти выкрикивал слова:
– Дознаться мне надобно, где боярин Голованов? Слух был, будто он к свейской земле побежал, да не добежал. Хочу вот королуса Эрика свейского поспрошать, не объявился ли там сей беглец.
– Напрасно королуса о сем спрашивать, государь!
Лицо Ивана исказилось, он закричал, стукая посохом об пол:
– Уж не в своих ли местах ты его видел?
– Слуга твой и помощник в покорении Астраханского царства Макарий Голованов у меня в чусовском городке воеводой стоит.
Царь умолк, отвернулся, поиграл посохом, будто прицеливаясь в Семена. Слышно было его тяжелое, хриплое дыхание. Протекло несколько минут молчания. Иван взвешивал, не чрезмерна ли дерзость стоящего перед ним человека. Потом заговорил, как будто с облегчением:
– Так, значит, у тебя мой воевода Голованов? Стало быть, и про него мне соврали. Враньем я опутан, как тенетами. Таких, как Голованов, возле меня не больно много. Сгоряча старик кинул Москву. Спор у него с Годуновым Борисом Федоровичем вышел. Ощерились друг на друга. Макарий – новгородец. Гордец! Куда там! Оправдываться не стал, правоту доказывать отказался. Вот и оплели его передо мной, будто он со свейским королусом дружбу супротив меня завел...
Царь склонил голову, задумался, вздохнул.
– Знаешь ли, пожалуй, даже и хорошо, что Голованов ушел в тот год. Кругом злая крамола ковалась, слуги мои порой не имели времени правого от виноватых отделять, правду вовремя углядывать. Каюсь в том за них и за себя теперь перед Всевышним в молитвах. За упокой души грешных вклады делаю и сам молюсь. Ты не ведаешь, как тягостно царствую! Царем над боярами быти страшно. Путают они передо мной правду с кривдой. В преданности мне клянутся, а сами на сторону смотрят, козни строят, замышляют меня смерти предать. Русь велика, а я один должен всю крамолу в ней углядеть. Кабы не божья воля, давно бы снял шапку Мономаха и в монастырь укрылся от мирской суеты. Бог велел мне Русь беречь! Он меня на царство помазал, чтобы Русь возвеличить. Значит, боярам меня со свету не сжить! Презрение их презрю. Гляди на мои руки: видишь, трясутся! Не от страха, а от усталости. Устали они измену и крамолу на Руси изводить. Боярам не люб был мой замысел об опричнине, но службу свою она сослужила мне! Грозным меня прозвали в устах молвы. Как собачий лай, слышится сие прозвище по всему государству. И все за то, что помысел единой Руси превыше распрей боярских корыстолюбцев поставил. Ох как тяжко судьбу народную на раменах нести!
Удушливый кашель заставил царя замолчать. Кашель сотрясал всю его грудь, вырывался со свистом. Иван дергался всем телом, пока приступ не кончился. Строганов следил, как расправилась сутулая спина царя. Вдруг неожиданно царь засмеялся громко и естественно.
– Что ж приумолк, купец? Напугал я тебя ненавистью к боярам? А вот погляди-ка теперь на мои руки: видишь, не трясутся? Сила в них вливается, когда у меня в ней нужда! Не дотянутся, Строганов, руки ворогов до моей жизни, пока сам Христос меня не призовет.
И снова нет уже на лице царском недавней улыбки, и снова его немигающий взгляд устремлен в упор на Строганова.
– Не молод ты! Кому на старости отдашь свою власть на Каменном поясе?
– В племянниках вижу преемников. Боюсь за сохранность края.
– А я за все государство страхом охвачен. Все думаю, хватит ли в руках сына силы для сбережения Руси. Только в молитвах нахожу утешение от тягостных дум. Ступай на Каму, думай о моем повелении. Находи верных людей, начинай постукивать в ворота Сибирского царства. Не пустит нас хан добром – сам сгони его, как дед мой согнал татар со святой земли Руси.
Строганов отвесил низкий поклон и, пятясь, пошел к двери. Царь остановил его.
– Поглянулась ли тебе Москва?
– Сердце государства углядел в ней, великий государь.
– Великое сердце! Вечером на Москву погляди! Неисчислимые огни ее – знамение силы, коя Москву в первопрестольный град обратила. Для народа Москва – святыня и символ. Москва – третий Рим, четвертому не быти. Доколе стоит Москва нерушимо, дотоле нерушимым пребудет все государство... Не гоже мне отпустить тебя без одарения. Но чем одарить тебя? Шуба с моего плеча для тебя не диво. Свои небось теплей моих носишь. Однако надумал! Есть для тебя подарок! Перстень сей с сапфиром индийским.
Царь снял с пальца перстень и отдал Строганову.
– Носи его, не снимая, до самой смерти. Но ежели почуешь неотвратность смертного часа, сними и в Каме утопи. Только тебя признаю достойным его носить. Покойнице царице Анастасии он глянулся. Она сама его мне на руку надела, в год, когда первенца царевича родила. Брату Якову снеси мое благословение. Плохо он занемог. Лекаря моего, немца, к нему досылал, тот нерадостные вести принес.
– Ежели брат помрет, сына его, Максима, на Каму позову.
– Зови, ежели пользу в нем чуешь. После Якова нового защитника от доносов больше в Москве не заводи. Отныне у Строгановых в том нужды нет. Ступай с богом!
4
Вернувшись из Кремля, Семен Строганов долго просидел у постели больного брата, пересказал ему всю свою беседу с царем.
Неузнаваемо изменился от тяжелой болезни Яков. Он даже говорил теперь запинаясь и коверкая слова. Болезнь Якова, его обреченность сблизила братьев, заставила их лучше понять, как дороги они друг другу.
Нерешительный даже в расцвете сил, брат Яков теперь и вовсе присмирел, напоминал Семену отца в последние месяцы монастырской жизни. Неужели же все Строгановы перед концом находят утешение в душевном покое, отрешенности и покаянии?
До приезда в Москву Семен никогда не видел жены брата, Серафимы, а увидев, не мог отвести от нее взгляда. Не красота ее поражала его, а тот теплый свет, что лился из ее глаз. Семен не сразу понял, от чего он, этот лучистый свет. Не оттого ли, что Серафима благодарно любила жизнь, душевно радовалась людям, сочувствовала им и умела даже испытания переносить без всякого ожесточения, твердо веря, что после непогоды опять проглянет солнце!
Серафима вносила радость и покой в московский дом Якова. Купеческий по складу, во многом похожий на родительский дом в Соли Вычегодской, он все-таки был по-столичному наряден и хлебосолен, а вместе с тем отличался уютностью, хорошо заведенным порядком и неханжеским благолепием.
Глядя на Серафиму, Семен с новой силой ощущал холод собственного одиночества, ненадолго обогретого любовью Анны Муравиной.
В доме брата Семен вспоминал одну из сказок, слышанных в детстве от деда Федора. Сказка была про царевну, что теплом глаз своих оживляла оледеневшие цветы и замерзших птиц. Серафима казалась ему очень похожей на ту сказочную царевну.
* * *
Ветреный день переходил в сумерки.
Старые березы в саду теряли последние листья.
Под деревьями по опавшей листве шли Семен и Серафима. В свои сорок лет Серафима сохранила почти девическую стройность и легкость. Она зябко куталась в платок, спрятав под него и руки.
– Не сумела я уберечь Яшеньку от хмельного, в делах была ему слабой помощницей, не то что Катерина Алексеевна, супруга Григория Иоаникиевича. Только вот дом вела, как умела, и сына растила. Не могу на него пожаловаться, из послушания материнского до сей поры не выходил... Одну к тебе просьбу имею, Семен! Яшенька давеча велел мне Максима с тобою на Каму отпустить, а самой мне в Москве остаться. Это, понимаю, он уже на случай кончины своей такую волю изъявил. Только сам подумай, как останусь я одна в московских хоромах? Я одинокому житью не обучена. Может, ты, Семен, отговоришь Яшеньку? Дозволишь Максиму в Москве остаться, дело торговое ему в руки дашь? Подумай о просьбе моей на досуге. Без Максима жизнь для меня безрадостна будет, если, не дай бог, Яшенька нас покинет.
– У меня тоже просьба есть к тебе. Максим мне на Каме нужен. Ведь и я не вечен. Надо обучить его, как строгановское дело на Каменном поясе в руках держать. Максим и Никита скоро вместо меня хозяевами на Каме станут. И тебя вместе с сыном на Каму пожаловать прошу. Хоромы здешние запри или в наем отдай да и приезжай в наши края. Что скажешь?
– Стало быть, не разлучишь с сыном?
– Если вместе с ним на Каме будешь – кто же вас разлучит?
– Подумаю об этом с радостью. О житье в камском крае давно помышляю, с тех пор как Строгановой стала, да только меня туда не звали.
5
Листья почти совсем облетели с московских дубов и кленов, когда Семен Строганов закончил обратные сборы в камский край.
За день перед отъездом явилась к нему монахиня, посланница из женского монастыря, и передала просьбу игуменьи, чтобы Семен Иоаникиевич навестил обитель.
В вечерний час, когда на осеннем небе вызолотился молодой месяц, Семен поехал в монастырь. Путь лежал сосновым лесом, в излучине Москвы-реки, к месту трех переправ – у Крымского брода, Дорогомилова и Воробьевых гор. Там полстолетия назад и поставил отец царя Ивана обитель-крепость. На ее каменных стенах и башнях несли дозорную службу стрельцы, а внутри этих стен стоял пятиглавый Смоленский собор и малые храмы. Там замаливали грехи своих отцов, супругов и сыновей молчаливые затворницы из самых знатных княжеских родов Московской Руси...
В покоях матери-настоятельницы сводчатые потолки высоки, а двери низки, как лазы. Входя, Строганов даже пригнулся. Строились покои тому назад лет сорок, еще при царе Василии.
Стены в иконах. На образах-складнях отсветы лампадных огоньков, будто трепет мотыльковых крылышек. От них в покое – мерцающая полумгла. Воздух жарок, пропитан легким запахом ладана. На зарешеченных окнах клетки со щеглами и синицами.
Игуменья стара, но сановита, важна, ростом высока. Груз нелегко прожитых лет не сгорбил ее плеч. Она приветливо встретила Строганова. Усадила на лавку против своего кресла и повела разговор, перебирая пальцами горошины четок.
– Спасибо, Семен Иоаникиевич, не погнушался моим зовом, не обидел старицу и пожаловал. Не попусту я тебя потревожила, но о деле моем после скажу. Дай-ка покамест поглядеть на себя. Ведь редкий ты гость на Москве у нас. Без семьи, слыхивала, жизнь коротаешь? Тяжело, поди, одинокому-то? И слова ласкового услышать не от кого, и сказать некому. Ну конечно, всяк человек лучше знает, как ему сподручней. Темна людская жизнь, ох темна! Я вот осьмой десяток на нее смотрю, а не отважусь похвалиться, будто тайны житейские разгадывать научилась.
Узнать мне от тебя понадобилось вот о чем: есть ли в землях твоих женские обители?
– Нету их там, матушка!
– Плохо сие, сын мой! Бабья доля там не больно легка: где же сироте-девице, или обиженной жене, либо горькой вдовице голову преклонить, ежели в страдании или с отчаяния захочет от мира уйти и душу спасти? Думаю вот испросить у тебя землицы под женскую обитель где-нибудь в тишине на Каме-реке.
– Землицы-то не жалко, матушка. Только опасно женскую обитель заводить. Прости мужицкое просторечие мое, только баб у нас мало, любая на виду. Мужиков голодных толпы, иные и на монахинь зарятся.
– Думала и об этом. Милостив господь, не даст в обиду смиренниц-инокинь. Дашь, стало быть, землицы для обители? Ведь на первых порах немного требуется. Поначалу бы пахоты десятин сотню да место благолепное, горнее...
– В этом отказа не встретишь.
– Спасибо и на этом. Стара стала, приустала, не под силу править сей обителью. Уж разуму не хватает мирское с божьим мирить. В схиму собралась. Сам повидал, что в Москве деется.
– Озолоти меня – не согласился бы здесь, на месте брата Якова, и трех годов прожить. Душа простору просит, а руки дела.
Монахиня вздохнула, перекрестилась на образа, показала в окно на кирпичную стену.
– Всякий соблазн и об эти стены колотится. Слишком сия обитель к маковице Руси близка. Вон, главы кремлевские видно... Скажу тебе не тая: не люб мне новый обычай супруг опальных по обителям рассылать. Еще царь Василий эту пагубу начал, сыну и всей Руси пример показал: венчанную царицу Соломонию в суздальский монастырь заточил. И у нас здесь, особливо после опричнины проклятой, святость места омрачена: божью обитель в тюрьму превращают, всех знатных боярынь за грехи чужие здесь в заточении держат. Уже поговаривают, что и четвертой государыне, Анне, тоже предстоит монашество, чтобы в обители за грехи грозного супруга богу молиться. Полно у меня в кельях княгинь заточенных, и в помыслах у них божье с вражьим, святость с греховным перемешиваются. Мирская суета покой монахинь соблазняет, а это, поди, пострашней того, о чем ты молвил, упреждая про камский край. Иные из моих затворниц ни за что не хотят с мирским расстаться.
– Не мне тебя, матушка, отговаривать обитель в наших местах завести. В таком светлом деле любую тебе помощь окажу.
– Благодарствую. К весне, ежели бог дни мои продлит, землицы приготовь. Приедут к тебе монахини мои, а ты помоги обитель срубить, место же сам выберешь, по разумению твоему... Слыхивала, что ты человек большой, у царя в почете и милости. Перстеньком, слыхала, тебя одарил? Так уж сделай милость, и вторую просьбу выслушай да уважь.
– Сказывай, матушка.
– Сейчас скажу. Осередь узниц мирских в обители второй год объявилась боярыня-вдовица. Томится, сердешная, в монастырской келье, словно в каменной тюрьме. Непосильно ей сие, а ослобонить некому. Полюбилась она мне, обещала я ей помочь, из заточения вызволить.
– Чего велишь сделать?
– Денег дать, чтобы выкупить боярыню у хитрых приказных.
– Знаешь ли, мать, кому выкуп сунуть? А то ведь можно денег лишиться и горю не помочь.
– Знать-то знаю. Сунуть надобно приказному псу жадному, и будет боярыня опять вольной птицей. Не пожалей золотишка на такое дело, если не обеднеешь от сего!
– Из-за чего в заточении оказалась?
– Тайны и в этом от тебя нету. Престарелый родитель и брат ее перед царем оклеветаны. Будто они измену задумали. Родителя уже запытали. Он помер, а брат утек куда-то. Боярыня в пору розыска в Москве оказалась, ее и схватили вместо брата. Заточили ко мне в обитель.
– А может, она в измене повинна?
– Какая там измена! За чужие грехи страждет. Разве стала бы я для изменницы выкуп хлопотать? Помилуй бог, такого греха никогда на душу не приму. Попала мирская женщина в монастырь не по доброй воле, потому и холодна к молитве; сам знаешь: невольник – не богомольник. Поможешь?
– Пусть будет по-твоему, мать.
– Завтра утречком пошлю к тебе черницу. Она скажет, сколь надо золотишка, а ты уж и отсыпь.
– Ладно.
– А теперь погляди на узницу.
– Не надо, матушка.
– Обязательно погляди, кому вольность даруешь. Должна и она тебя отблагодарить.
Игуменья поднялась с кресла и, отворив дверь, сказала:
– Входи, боярыня.
Наклонившись, вошла статная женщина в темной ферязи. Она низко поклонилась гостю, а когда выпрямилась, Семен ахнул. Перед ним стояла Анна Орешникова в своем прежнем облике, будто и не прошло семи лет со дня их последнего расставания.
– Признали друг друга? – спросила игуменья и тихо вышла из покоя. Анна Орешникова и Семен Строганов остались вдвоем, с глазу на глаз.
– Дозволь мне, Семен Иоаникиевич, к тебе на Каму вернуться. Свободна теперь, ежели вызволишь из заточения.
– Из заточения вызволю. Ни золота, ни стараний своих не пожалею. Но чтобы ноги твоей на наших землях впредь не было! Уходила когда, даже словом прощальным не помянула. Другое на уме было. Теперь обо мне вовсе позабудь, как я тебя позабыл.
– Нешто уж вовсе и позабыл?
– Из памяти своей выжег тебя и позабыл.
– Значит, невзначай меня и имя мое в другой отыскал, в той, что в землю легла?
Семен шагнул к Орешниковой.
– Молчи! Святого касаться не смей! Не тебя я в ней искал, а, напротив, только она причиной тому, что имя, тобою опозоренное, для меня вновь чистым стало.
– Не прав ты ко мне, Семен! Не по своей воле после смерти мужа Чердынь покинула. Силой меня увезли оттуда, по приказу из Москвы.
– Нет мне нужды знать про это. Позабыл тебя, как царапину, следа не оставившую. Младенцем считаешь? Думаешь, не дознавался я об отъезде твоем?
– Семен! Солгала я. Каюсь тебе. Другое в уме тогда держала. Грешно я поступила, но ведь как наказана! Хоть ты-то меня прости!
– Не за что мне тебя прощать. Ласки запретной ждали друг от друга, в души не заглядывая. Теперь ступай той дорогою жизни, кою в Чердыни придумала и коей меня стращала. Постучись в кремлевские ворота. Царицей грозилась на Руси быть? Красоту не утеряла! Даже в заточении зима тебе снегу в волоса не надула.
– А все-таки ежели объявлюсь на Каме?
– Разве что монахиней! Чтобы даже имя твое мирское мне души не щемило. Ибо не по тебе от сего имени сердце печалью отзывается. Нагадала мне однажды в юности ворожея, что суженую мою Анной звать будут, да взяла мать сыра земля не тебя, а истинную невесту мою.
– Кто знает, Семен, как то гадание обернется. Ведь ты мне по-прежнему дороже всех.
– Не разучилась ты, боярыня, красивые сказки сказывать. Знать, за семь лет было кому их слушать, раз не отвыкла повторять. Здорова будь! Прощай!
– Семен! Не уходи так!
– Чай, не за глаза, не тайком убегаю! Прямо, без лжи говорю: умер он для тебя, тот Семен, коего предала. А этот – и знать тебя не хочет!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Прошло еще пять лет.
Вожжи от судьбы камского края по-прежнему лежали в строгановских рукавицах.
Со дня осенней встречи Семена с царем отшумели над краем буйные весенние ледоходы, отгрохотало немало летних гроз.
За эти годы смерть явилась за Яковом Строгановым. Навестила и на Каме строгановский род черная гостья. В кергеданских хоромах угасла жизнь брата Григория, и осталась Катерина Алексеевна в звании вдовы.
Данное Семену обещание Иван Четвертый сдержал, и осенью 1574 года дозволил поход на покорение Сибирского царства под державу Великой Руси.
Будущие сибирские владения сулили Строгановым золотую реку новых прибылей, чтобы не измельчала она, когда истекут льготные годы на камских землях...
После смерти братьев Семен правил вотчинами не один, а вместе с племянниками, обучая их искусству властвовать над людьми и природой. Его надежды на молодых помощников как будто оправдывались. Именно у Максима Яковлевича достало мужества быть настоящим Строгановым, Семеновой выучки. Никита правил теперь землями на Каме, Максим перебрался с матерью на Чусовую и стал правой рукой дяди Семена в трудных заботах о сибирском походе.
За эти годы Семен, а потом Максим вдумчиво и осторожно изучали Чусовую, все ее большие и малые притоки, выискивая дорогу в Сибирское царство. Словно вехи, оставались в нужных местах опорные сторожевые крепости, заслоны, острожки.
Постепенно водная дорога с короткими волоками была разведана и подготовлена. Но знали о ней в чусовских городках только самые верные люди, такие, как Досифей, Голованов, а более всех – охотник Спиря Сорокин.
Про тайные строгановские приготовления проведали кучумские ханы. Кое-что им доносили язычники-вогулы, уходившие с Чусовой. Военачальники Кучума старались исподволь мелкими набегами уничтожать новые строгановские городки, сознавая неизбежность решительных схваток в недалеком будущем.
Кучум, непримиримый враг русских, готовился наносить им новые удары, вытесняя с подступов к своим владениям. Семен Строганов стремился к единоборству с Кучумом ради чести и обогащения рода, прославленного уже на Руси. Он готовился к походу тщательно: с особыми предосторожностями везли из Москвы огнестрельное оружие; шел набор в ратные дружины; десятки лазутчиков тайком уходили в Сибирское царство и слали оттуда донесения Семену и Максиму.
2
В годы, когда Строгановы готовились к войне с Кучумом, на вольных просторах Волги звучали казачьи песни и разбойный посвист. Ватаги лихих вольных людей со смелыми атаманами грабили без разбора и турецких, и персидских, и татарских купцов, а заодно и русские торговые караваны, и даже струги с царской казной.
Появилась удалая вольница с Руси на Волге и Дону еще при татарах, когда ослабла былая мощь Золотой орды: привольные ковыльные степи манили к себе русских людей, не боявшихся опасных соседей – татар и турок. Пришельцы, удалые головы, более склонные к опасностям походной жизни, чем к мирным промыслам, собирались здесь в воинские казацкие братства, готовые отстаивать свою вольность и независимость, но вместе с тем и готовые служить матери-родине защитой от внешних врагов.
Удалые казаки не порывали кровных связей с Русью, не забывали дедовских обычаев и подчас даже именовали себя государевыми людьми, вольными людьми, хотя никаким властям, кроме своих выборных казачьих атаманов, не подчинялись.
На татар казаки нападали так дерзко, что ханы частенько жаловались в Москву, упрекая царя в потакании разбойникам.
В ответ ханские посланцы всегда слышали одни и те же уклончивые отговорки: дескать, степь велика – царю за казаками и вольницей смотреть не можно! Втайне же Московская Русь поощряла свою вольницу держать в страхе и Казань и Астрахань. Чем смелей становился разгул вольницы, тем больше легенд и преданий ходило на Руси про казацкую удаль на Волге и Дону. Влекли они к себе все новые забубенные головушки, и не без их помощи скидывала Русь ярмо татарского ига в XV веке, завоевывала Казанское и Астраханское ханства в XVI. Но и после падения этих ханств на Волге не умолкали песни бесшабашной казачьей вольницы. Там, по старой памяти, собирались новые ватаги гулящих людей, бежавших из родных мест.
Жалобы своих и иноземных купцов на разбой и грабеж начинали все более тревожить царя, но тщетно приказывал он воеводам покончить с произволом казачества, внушить вольнице, чтобы она не чинила грабежей над государевой казной и торговыми людьми. Однако строгость царских указов не пугала тех, кто на расписных стругах гулял по Волге и Каспию.
Об этих разбойных ватагах и их атаманах знали даже индийские и свейские купцы. Мало кто из них отваживался доверять свое имущество столь опасным водам, и страдала от этого вся страна: торговля и судоходство в Поволжье замирали. Бывали недели, когда по Волге не смел проплыть ни один торговый струг. Царь Иван задумывал крутые меры против лихих людей на реках.
Гремела по Волге и Каспию молва про бесстрашного атамана Ермака Тимофеевича. Знали про него на Каме и Чусовой. Немало наслышался о нем и Семен Строганов. Нравились ему эти рассказы. Чаще и чаще расспрашивал он о Ермаке купцов с Волги, благополучно проскочивших опасные места. Купцы говорили про Ермака разное.
Но вот приключился однажды на Волге для царя великий срам.
Плыл к царю Ивану с богатыми подарками персидский посол, а казаки напали на него. Завязался настоящий бой.
Посла, его свиту и охрану перебили, а караван разграбили. Царь послал из Москвы войска – навек искоренить разбойные ватаги!
Все лето царские дружины очищали Волгу от «худых людишек» и к осени водворили на реке покой.
Ватага Ермака, потрепанная в битвах, бесследно исчезла с просторов Волги, будто ее никогда не существовало. Воеводы понимали, что она где-то спряталась, разослали кликунов-бирючей со строжайшим приказом хватать и вязать воровских казаков.
Однажды спокойно плывшие в вотчины Строганова купцы с товарами были вновь ограблены в низовьях Камы и едва унесли ноги.
В чусовские городки пришла молва, что ватажники Ермака укрылись на Каме.
Семен Строганов насторожился. Появление Ермака на Каме могло спутать его планы, и вместо подготовки войны с Кучумом он вынужден будет заняться охраной своих городков от вольницы.
Молва о Ермаке настойчиво гуляла по строгановским вотчинам, наводила страх на судоводителей и купцов, и вплеталась в нее все чаще уже знакомая Семену присказка, будто прославленный атаман не кто иной, как Строгановский человек, чусовской кормщик Василий Оленин, ушедший на Волгу в год, как Строгановы стали хозяевами на Чусовой.
Семен осторожно повел расспросы и смог установить, что внешность волжского атамана и чусовского беглеца Василия Оленина – одна. Так вот он кто, Ермак Тимофеевич!
Спиря Сорокин, знавший о Василии Оленине многое, разведал для хозяина все, что было известно о роде Олениных чусовским старожилам. И выходило: будто дед Ермака, по имени Афанасий, был посадским человеком в городе Суздале. Жил он там скудно, а потому подался во Владимир с сыновьями Родионом и Тимофеем и начал промышлять извозом. Нанимался он перевозить и разбойников в муромских лесах, вместе с ними и попал в яму. Сыновья после этого перебрались на Чусовую и занялись сплавом леса. Родион, плотовщик, утонул в Чусовой, а Тимофей помер от простуды.
Но этим род Олениных на Чусовой не кончился, ибо остался на реке сын Тимофея Василий, удалец парень, хоть, говорят, и невысокий ростом. Была у Василия завидная сила, а когда ходил на плотах и стругах, то в своей артели бывал и кашеваром; товарищи, уважая его мастерство, прозвали Ваську Оленина Ермаком, что означает «артельный таган»; по другому сказу выходило, что кличку эту дали ему за увесистый удар его кистеня, сбивавший с ног любого противника – ведь в иных местах ермаком называется жернов!
Весной 1579 года царские воеводы с дружинами в поисках ватаги Ермака заглянули и на Каму. Пришлось ему, уходя от преследования, подняться по реке вверх. Зная силу строгановских дружин, Ермак плыл по Каме усторожливо, опасаясь восстановить против себя камских хозяев. Слух о том, что Строгановы во множестве нанимают к себе ратных людей, быстро дошел до ватажников и обнадежил самого Ермака. И он послал к Семену тайного гонца с предложением принять его людей на службу. Семен принял гонца ласково, обещал подумать и прислать атаману свой письменный ответ...
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
К весне 1578 года сильно изменился облик чусовских городков. От их стен далеко отодвинулись леса. На порубках целину распахали под пашни, застроили посадами, слободками, передовыми укреплениями. Городки теперь не подвергались набегам, жизнь в них шла мирно. Под боком у Нижнего городка, неподалеку от впадения Чусовой в Каму, крепила на новых землях свое новоселье женская обитель. Старуха игуменья, выпросившая у Семена землю для монастыря, сама отъехать из Москвы не смогла, не получив на то разрешения митрополита. Уже второй год жила в городке Катерина в новой избе, срубленной для нее в черемуховой роще. Она жила замкнуто и водила дружбу только с Серафимой. Та с сыном занимала часть воеводской избы, где умерла Анна Муравина. Тяжело болел воевода Голованов. Он уже не поднимался с постели, ухаживала за ним Серафима. Несмотря на болезнь Голованова, Строганов не снимал с него воеводского звания, но приставил ему помощником корабельного мастера Иванка Строева.
Сам Семен жил в новом прирубе к избе, а с прошлого года приглядывать за порядком поселилась в нем Анюта. Два года назад она овдовела: в дни весеннего лесосплава бешеная река Чусовая взяла себе ее мужа.
Воевода Голованов любил черемуховые сады, велел засадить этими деревьями все пустыри городка. Этой весной деревья взялись дружным цветом, так что издали казалось, будто среди весенней зелени в городке еще не растаяли пышные снежные сугробы.
2
В безветрии весенних сумерек благоухание цветущих черемух ощущалось и на берегу Чусовой, у самой воды.
К городскому причалу подошла лодка. Покинувшая ее монахиня, миновав входную воротную башню, сразу направилась к церкви.
А когда на кривых улочках стемнело, услужливая просвирня из церковного причта проводила монахиню к избе Катерины, почти скрытой среди цветущих черемух.
Монахине пришлось долго ждать у калитки, пока угомонятся две злые дворовые собаки. Они с громким лаем прыгали за забором, готовые кинуться на непрошеную гостью. Наконец в саду появился дворовый человек. Он прикрикнул на собак, подошел к калитке и заметил незнакомую монахиню. Таких гостей хозяйка не жаловала.
– Строганову Катерину Алексеевну надобно мне повидать.
– Вот как! Приезжая, что ли?
– Да, из Москвы. Сама-то дома?
– Дома. Пойду скажу. А ты покамест постой за калиткой, а то псы покусают. Они у нас больно назленные.
Слуга воротился не один. Сама Катерина подошла к калитке и впустила монахиню. Пошли рядом по дорожке среди цветущих черемух.
– Звать себя как велишь?
– Сестрой Ксенией.
Когда подошли к освещенному фонарем крыльцу, Катерина окинула гостью внимательным и долгим взглядом.
– Знакомой меня признаешь?
– Видала будто.
– Могла видеть, ежели в крепости Чердыни бывала.
– Так ты?..
– Анной Орешниковой в миру была. Третий год, как постриг приняла.
– Слыхала про тебя,
– Про то позабудь. Не стало на свете Анны Орешниковой, а есть черница Ксения. Заказано Семеном Анне Орешниковой в его землях объявляться, так пришла сюда в ином облике.
– Увидеть его явилась?
– Да ведь ты и сама близехонько к нему перебралась?
– Я – Строганова.
– Может, и тебе из-за него в монастырь дорога?
– Не твоя это печаль.
– Боишься? Одни у нас с тобой помыслы. Меня разлука с ним в монастырь привела... В которой избе живет? Укажи, а лучше сама проводи.
– Дома его все равно нет. Как всегда, вечерами к Анне Муравиной ходит. На ее холм.
– Тогда и я туда схожу.
– Не смей! Не любит, чтобы ему там мешали.
– Стережешь его покой?
– Свой стерегу. Возле его жизни.
– Домой когда воротится?
– Запоздно.
Монахиня устало присела на ступеньку крыльца.
– Он и возле могилы меня помнит. Не может забыть!
– Отреклась от земного, а о таком думаешь?
– Ни от чего не отрекалась. Рясой прикрылась, чтобы запрет обойти, возле его жизни быть. Разум у меня не покоряется отречению. Знала, что ты, Катерина, стояла на моем пути. Тогда я тебя из его памяти лаской своей выжгла. Как ты радовалась, когда я из камского края отъехала! Думала одна им завладеть, да покойница за меня заступилась. Не отдала его тебе. Та Анна померла. А я жива. В рясе, но живая, и тебе его не отдам.
– Зачем же ко мне пришла?
– А чтобы знала: жива я со своей любовью к нему, и ты стой в сторонке.
– Смирись, грешная! Не нужны мы ему. Смотри на меня: седая стала. Не наш он! На холме его разум, у могилы. Тебе же один путь – назад в Москву. Не простит он тебя!
Катерина медленно поднялась на крыльцо, ушла в избу. Подул ветерок, и посыпался на сидящую монахиню снежок лепестков с цветущих черемух.
* * *
На горизонте, где леса медвежьей шкурой укрыли склоны гор, уже появился отсвет встающей луны. За ее восходом в одиночестве следил Семен Строганов с вершины могильного холма.
Шелестела листва на березах, перешептываясь с ветром. Огромный лунный диск в мареве вечерних испарений казался раскаленным докрасна. Полоса света от него, мелькнув по земле, пролегла широкой дорогой поперек Чусовой, озарила городок за кольцом стен и посады вокруг. Луна будто нарочно показывала Семену дело его рук, привычное и дорогое. Он видел, как менялись оттенки лунного света, пока диск поднимался все выше и, наконец, не залил всю округу устойчивой, торжественной холодной голубизной. Уже легла на землю черная тень березовой листвы, а у сидящего человека лунный свет посеребрил голову. Но в этом свете просто лучше видна эта седина в волосах, да и морщины не спрячешь. Годы всей своей тяжестью легли на плечи, пригнули их. Годы! Семен знал теперь, что это они научили его чаще возвращаться к мыслям о прожитом, уходить от людей на свидание с самим собой. Годы! Оставленные ими морщины на лбу – это рубцы и раны, обретенные в единоборстве с мыслью, тревогами, заботами. Разум не хочет мириться с надвигающейся старостью. Как надоедливая кликуша, она шамкает беззубым ртом о вечном покое, заставляет думать о спасении души, приказывает забыть земные радости и услады. Но в ответ на этот шепот стучит в его мятежное, непокорное сердце, гонит горячую еще кровь. Недавно он узнал, что Катерина уже ревнует его к молоденькой Анюте, на чье присутствие в прирубе Семен сперва обращал так же мало внимания, как в свое время не замечал ее присутствия отец. И, когда Катерина Алексеевна стала отзываться об Анюте с ревнивой злобой, Семен вдруг заметил красоту и обаяние своей молодой домоправительницы. Теперь светлый образ ушедшей невесты невольно стал заслоняться другим, новым женским образом. Сначала мысль об этой молодой, едва разбуженной женственности показалась ему кощунственной и греховной. Усилием воли он победил эту мысль, но она возвращалась все настойчивее. С горечью он думал о грузе лет на плечах, стыдился мыслей о радостях любви и гнал их от себя, потому что уже не верил в себя, не чаял в себе силы дать счастье; а брать его без отдачи – значило не любить, а покупать... Быть купцом он мог в торговых делах. Но не в любви! И потому он до сих пор не позволял разгораться новому огоньку в сердце.
Вокруг городка в посадах лаяли собаки, когда яркой лунной ночью Семен вернулся домой. Прошел мимо Анюты, спавшей на лежанке. Она проснулась от скрипа двери, поднялась и спросила испуганно:
– Хозяин, что ли?
Он успокоил ее и хотел пройти в свою горницу, но задержался у рукомоя.
– Пошто встала?
– Может, воды надобно?
– Ложись.
– Не засну. Раздумаюсь про разное. Доля у меня теперь не больно завидная.
Она налила воды в рукомой и повесила ковш на край кадушки. Семен тронул ее руку.
– Вели мне уйти, Анюта.
– Разве посмею?
– Гони меня, Анюта, от себя!
– Не вольна.
Семен обнял ее, почувствовал, как она прижалась к нему. Пахло от нее свежей травой.
– Анюта!
И в эту минуту раздался стук в дверь. Семен, боявшийся дурных вестей о Голованове, торопливо отворил дверь, вышел на крыльцо и увидел перед собой на лунном свету какую-то монахиню.
– Пришла навестить тебя.
– Анна?
– По голосу узнал? Только не Анна, а черница Ксения перед тобой. Чать не забыл, что сам подал мысль о монашестве?
– Пошто пришла?
– Повидаться. Заставлю поверить, что без тебя жизнь не под силу. Теперь рядом с тобой буду. Стану за тебя, многогрешного, молиться.
– О себе молись. Уходи!
Семен захлопнул дверь, и монахиня слышала, как лязгнула железная щеколда.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Одно из самых красивых мест на Каме называется Тихие горы. Два мыса, поросших пихтовыми и сосновыми лесами, врезаются здесь в реку, словно сохи. Между мысами – спокойная заводь.
Третьи сутки стояли здесь в прибрежных кустах под обрывами струги вольницы Ермака. Зашли они в заводь после боя с царской дружиной. Битва произошла на Каме близ устья Вятки и кончилась вничью, хотя дрались лихо.
Царские дружины сошли к низовьям Камы, а Ермак увел вольницу к Тихим горам. В Ермаковой ватаге после битвы недосчитались сорока восьми человек, и много людей было ранено. У Тихих гор сошло на берег со стругов человек пятьсот. Расположились по-хозяйски: наставили шалашей, спрятали суда, поставили караулы.
Прошлой ночью к Ермаку караульные привели чужого охотника, одетого по-дорожному. Но назвался он строгановским человеком и вручил атаману грамоту от своего хозяина Семена Строганова с согласием взять вольных людей к себе на ратную службу. Атаман уже собирал сотников и читал строгановское послание. Сам Ермак решил принять предложение хозяина Камы, тем более посланец устно намекал, сколь большие ратные дела ждут вольницу на пользу всего государства. После совета с сотниками Ермак собрал и войсковой круг. Слово свое к ватажникам он закончил так:
– Посему, кто охочь, братцы, со мной в службу Строганову податься, всех милости прошу! Ежели кому служба не по нутру, тем – вольная воля идти на все четыре стороны. Им я боле не атаман и не товарищ. Кто со мной обручь пойдет, тем крепко стоять на слове и помнить: служба будет нелегкая, Руси на пользу, а кто вознамерится на службе этой воровство чинить и пакостить, того не царские воеводы и не строгановские дружинники, а сам я научу, каково клятву рушить!
Ватажники приняли новость о решении атамана радостно. Однако Ермак не хотел спешить и велел после схода всем хорошенько подумать еще денек. Сотникам же приказал поговорить с каждым по отдельности, обсудить предложение Строганова со всех сторон и лишь после этого дать окончательный ответ.
2
Купается жаркое солнце в Каме, и от этого вода в блестках, как чешуя на карасе. На берегу, у подножья Тихих гор, в лагере Ермаковых станичников подходил час обеда. Казаки, с утра разбредшиеся по округе – кто на охоту, рыбную ловлю или по грибы, кто к смолокуренным ямам, наспех слаженным на опушке, кто в дозоры и на разведку, – теперь кучками собирались на берегу, где артельные кашевары уже развесили над кострами закопченные котлы. Славной рыбы-царицы, камской стерляди, наловили донными сетями столько, что во всех котлах вскипала знатная уха.
Походный кашевар атаманского струга, старый казак, весь в рубцах и ранах, прозванный товарищами Бобылем Седым, затеял сварить, как сам он выражался, уху боярскую, красную, но потребовал себе доброхотных молодых помощников, чтобы сперва вычистить и выпотрошить изрядную партию другой, чешуйчатой, рыбы.
Охотники нашлись, и вскоре все живое содержимое трехведерной деревянной бадьи – судаки, ерши, язи и лещи – перекочевали в объемистый чугунный котел, давно служивший всему экипажу струга.
Кашевар подбросил в рыбный навар луку, чесноку, шафрану и перцу – уху с такой приправой и называли красной. Когда же рыбье мясо стало само отваливаться от костей и цвет варева сделался янтарным, повар велел слить через редкую холстину навар в бадью, а все разваренное рыбье мясо, оставшееся вместе с костями на холстине, попросту бросил в сторонку. Казаки, дивясь такому расточительству, с любопытством ждали, что же последует дальше.
Бобыль Седой священнодействовал, как вогульский шаман!
Он разгреб горячие угли костра и извлек из жара другой чугунок, небольших размеров, где варилось «сарацинское пшено» (которое впоследствии стали называть рисом). Запасец этой редкой крупы, взятой под Астраханью во время разбойничьего налета на персидских купцов, уже подходил к концу; атаман велел нынче выдать из него всем понемногу для заправки ухи.
Разваренную крупу повар переложил в котел, залил янтарным рыбным отваром из бадьи, велел кликать весь свой экипаж «к столу».
Атаманский струг брал в походе человек с полсотни. Все помаленьку собрались вокруг котла и костра, сидели на песке, на бревнах, а кто даже не поленился подложить под спину шемаханский ковер, тоже из взятых в бою на Волге. Ждали трапезу, окружив костер широким кольцом: гребцы и кормчие, пищальники и пушкари, стрелки-«затинники», охотники-разведчики, трубачи и сурначи, барабанщики и знаменосцы; был среди этого пестро одетого люда даже приставший к ватаге дьячок из волжских поповичей, умевший внятно читать вслух две молитвы – заупокойную и благодарственную, чем и выручал ватажников перед трапезой и после сражений. Впрочем, благочестивый дьячок знал еще и кузнечное ремесло, что для дружины было почти столь же важно, как и его молитвословное искусство.
– Сходи-ка, станица, на струг, атамана покличь к трапезе! – обратился кашевар к дьячку.
А сам приготовился к заключительному акту священнодействия со стерлядями, но решил отложить его до той последней минуты, когда сам атаман пожалует к походной трапезной. Бобыль Седой провел в походах всю жизнь; дома, в станице Качалинской, у него не было ни кола, ни двора, ни жены, ни детей. Шел ему восьмой десяток, но в походах он не отставал от молодых, сбивал из лука уток и гусей, знал врачевание ран, рассказывал сказки и были, заговаривал кровь и был самым хозяйственным кашеваром – загодя, впрок запасал сухих грибов и ягод на время холодов и бескормицы, сушил лекарственные травы, а коли случалось бездействовать и сидеть голодом, был неистощим в изобретении подножного корма...
– Готовьте столы-те, атаманы-удальцы! Хлеб несите!
«Столы», впрочем, были давно готовы: кто настлал поверх двух бревен донный щит со струга, смастерив стол на десяток ватажников; кто принес со струга весло и уготовил себе стол на его широкой лопасти, кто припас строганую доску и уже с нетерпением постукивал по ней ложкой.
Острослов, кудрявый красавец и озорник, сотник Митька Орел последним подошел к своим ватажникам; заметил, что не хватает только самого атамана. Сотник слегка хлопнул кашевара по сухой, широкой, уже сутуловатой спине.
– Уху, кажись, варишь?
– Что ты, сотник? Нешто не видишь – сарацинское пшено в воде мочу?
– Поди, поспела ушица-то давным-давно?
– Попробуй. Язык в котел макни. А то больно смешлив!
– И то смешно, что в животах темно. Истерпелись!
– Обтерпишься, и в аду ничего!
– Ты, Бобыль Седой, у котла одним духом жратвенным сыт. А нам каково? Эвон, сотники с голодухи заспорили!
– О чем спор-то завели?
– Да все о том же. То ли к Строганову ягнятами плыть, то ли по Каме волками рыскать.
– Олухи! Того гляди, царские рати на хвост опять сядут. Небось недолго рыскать-то придется. Сорок восемь душ надысь под водой осталось, да целый струг, поди, одних увечных с нами. Лечу, лечу их, а поправка худая. В бой не скоро встанут. Волками рыскать! Атаман Ермак небось все ладом обдумал.
– Сам-то как порешил?
– Я к Строганову. С Ермаком. Куда иголка – туда и нитка.
Тем временем артельные пекаря принесли горячий подовой хлеб. Его напекли на всю дружину во временных очагах, сложенных из берегового камня-известняка, глины и самодельного кирпича-сырца, наскоро просушенного на жарком солнце. Хлеб, как всегда, пекли про запас, на несколько дней – случай повторить долгий привал мог представиться не скоро. Вообще печеный хлеб бывал в походе редкостью: обходились либо размоченными сухарями, либо наспех сляпанными из сырой муки печенными на костре лепешками, а нередко ограничивались ложкой каши.
– Атаман идет! Ну, Бобыль Седой, кончай варево, да пора и за миски.
Атаман Ермак Тимофеевич, среднего роста, плечистый и коренастый, шел к ватаге в сопровождении дьячка Фомы, который был на голову выше атамана, но, странным образом, казался по сравнению с Ермаком маленьким и тщедушным. У Ермака – проницательный и пытливый взгляд больших карих глаз; чуть раздвоенная бородка с легкой проседью, прямой нос, высокий лоб в морщинах. Бобровая шапочка сдвинута назад, темно-русые волосы коротко стрижены: дело военное! Одежда дорогая, яркая, но удобная в походе: шелковая рубаха, шитый золотом камзол, немецкого тонкого сукна штаны, заправленные в сафьяновые сапожки, невесомо легкие, будто для танца. На поясе – кинжал в алмазах, на боку персидская сабля краше ханской. Весь облик исполнен силы и спокойного достоинства.
Ему уже приготовили место рядом с командой струга: накрыли камчатой скатеркой складной столик, уставили легкую скамью с шитым парчою полавочничком. Атаман не спешил садиться, пока дьячок Фома залпом не отбарабанил молитву. Во время этого торопливого чтения Ермак углядел в сторонке, на мокрой холстине, большую кучу отброшенной вареной рыбы.
А повар именно для этой минуты приготовил свою главную невидаль: отправился с бадьей к самой воде, где в решетчатом садке бились крупные стерляди, заранее выпотрошенные и вычищенные, но еще трепещущие. Кашевар стал пускать их в горячую наваристую уху живыми, отчего навар сразу делался еще крепче, и сваренная стерлядь обретала целый букет сложных ароматов.
Ватажники, затаив дыхание, следили за всеми действиями повара, а сам он, ожидая похвал, последний раз осторожно перемешал варево, чтобы не повредить целость рыбин, и провозгласил:
– Готова боярская! Дозволь разливать, атаман!
Все зашевелились, готовые подставить миски, плошки, котелки и дощечки. Ждали, пока помощники кашевара, раздатчики, наполнят ухой серебряную атаманову миску и выложат ему на малое блюдо целую рыбину – стерлядь. Ермак, вопреки ожиданиям, блюдо не принял.
– Кому ты нынче столь знатной ухи наварил, Бобыль-атаман? – спросил Ермак негромко. – Нам, кто после боя невредимым остался, эдакую боярскую и вкушать не пристало: чай, не праздник! А вот болящие наши казаки от нее на поправку пойти могут! Муторно, поди, болящим-то, а, Бобыль?
– Да, кое-кому тяжеловато приходится.
– Кому да кому?
– У Антипа-звонаря грудь страсть как порублена. Того гляди, кровушкой изойдет.
– Вот ему и снеси, чего тут наварил. Авось полегчает! И остальным раненым да увечным на пользу будет.
– А мы чем пообедаем?
– Ишь ты! А вона какая гора рыбы доброй у тебя наварена. Клади мне оттуда, прямо с той холстины!
И атаман с видимым удовольствием принялся за рыбу, что была Бобылем приговорена «в сторону».
– Ухи на сто душ наварил, – бормотал смущенный Бобыль. – Дозволь раздам!
– После больных – и здоровым не грех боярской ухой побаловаться. А как всех накормишь – и мне на струг занеси.
Ермак поднялся и зашагал к воде.
– Слыхали? «Как всех накормишь», – а ему, стало быть, остатки. – Кашевар обвел всех горделивым взглядом. – Завсегда о нас, дьяволах, так заботится, а мы только лясы точим да спорами друг друга баламутим. Атаман нас на праведную дорогу воротит, а мы другой раз мурла в сторону! Хватит! Поболтались на Волге и должны понять, что с царской десницей нам не сладить. С Волги нас помелом вымели, глядишь, и с Камы выметать начнут. Ежели Строганов добром берет, то и надо, благословясь, туда держать. Хуже станет, ежели Строганов этот заодно с царскими дружинами нас в водяную могилу загонять начнет. В Каме для всей вольницы Ермаковой места хватит. Неужто, Митя, в сторону свернешь?
– Позабудь про такое. Сам под Ермаково начало пришел, а посему никогда не сверну с его следа.
– Правильно. Уж ежели атаман нашего воровства не гнушался, то к праведной жизни еще веселей повести сумеет. Не зря он на Волге – всем головам головой был.
* * *
Над Камой недвижно висел круглый фонарь луны. Дымчато-голубой стала ночь от его света. Вода в Каме вся в переливе лазоревых тонов. Как зеркало, чиста ее гладь, и отражаются в ней берега, струги и сам лунный фонарь.
На мысе редкие сосны и молодая пихтовая поросль подступают к самой кромке каменистого, многосаженного обрыва. Над обрывом среди деревьев в одиночестве сидел на камне Ермак. Видел мглистые дали, расписанные полосками синих теней, видел костры под обрывом. Их было множество, и в каждом по-разному ворошилось пламя. Над некоторыми огонь рыжими лентами взлетал высоко, прорываясь сквозь сизый дым, и рассыпал снопы искр. Над другими только густо клубился смолистый дым: он служил людям защитой от гнуса и комаров.
Со стругов доносилась стройная дружная песня:
Вниз по Волге-реке С Нижня Новгорода Снаряжен стружок, Как стрела, летит. А на том стружке На снаряженном Удалых гребцов Сорок два сидит. Удалы те гребцы — Казаки стародавние. Атаман у них Ермак Тимофеевич.Стан вольницы не спал, и Ермак знал, что сон от людей отгоняло его решение. Ему самому было тяжело мириться с отказом от вольной, никому не подвластной жизни. Девять лет крепко приучили людей к ее тревогам и опасностям. Но он понимал: продолжение этой жизни сулит лишь бесславную смерть в петле или на плахе.
Не было для Ермака тайной и другое: преданная, покорная его воле отпетая вольница, слепо верившая до сего времени в его счастливую звезду, ныне, угодив на ухабистую дорогу неудач, заколебалась. Среди этой вольницы всегда были недовольные, наказанные или обойденные при дележе добычи. Были люди, завидовавшие славе атамана, готовые при удобном случае замутить воду в дружине. Уже пущен был тихий шепоток, будто решение уйти к Строганову – это не забота о дружине, не поиск новой славы и честного пути, а просто трусость Ермака, захотевшего отдать в рабство царскому любимцу Строганову всех своих соратников, чтобы самому уйти от царского возмездия.
За годы атаманства Ермак научился хорошо разбираться в помыслах своих людей. Он всегда без ошибки чувствовал, когда против него начинала виться паутина смуты. И сейчас кое-кто таил мятежные замыслы, хотя большинство людей было готово идти с ним к Строганову. Только поэтому он вчера и не объявил своего решения как непреложный атаманский приказ, а позвал людей за собой добром. Он чувствовал, что приказ атамана мог встретить сопротивление, расколоть дружину, а это разом погубило бы незыблемость его власти, привело бы вольницу к безвластью, то есть погубило бы ее.
Смотрел Ермак на речные лунные дали, где открывалась ему отныне новая дорога, и не мог определить, какой она будет для всех – светлой или темной. Он слушал песню и ждал прихода сотников с окончательным ответом от людей. Доносились до него снизу взрывы заливчатого смеха: значит, какой-нибудь острослов веселил людей прибаутками или забавной бывальщиной. Ермак любил смех своей вольницы, и тягостна была ему мысль, что, может быть, уже завтра не все эти люди уйдут с ним навстречу новой судьбе.
* * *
Выше поднялся лунный фонарь, и укоротились зеленоватые тени на земле. Пришли к Ермаку сотники. Их семеро. Ермак старается по лицам прочесть, с чем явился каждый.
Черноволосый, безбородый молодец с хмурым взглядом, есаул Иван Кольцо. Рыжий, коренастый Петр Донской, по прозвищу Костер. Дементий, лысый старик, хромой богатырь. В последней битве потерял левое ухо, а раньше в жаркой схватке на Каспии татары вырвали ему правую половину бороды. Вольница дала ему прозвище Хромой Лебедь, потому что Дементий летом не носил иной одежды, кроме как из беленого холста. Голова Дементия еще перевязана тряпицей.
У сотника Дитятко, высокого, тощего, как жердь, – лицо мученика с древней иконы. Сотник Знахарь широкоплеч и нескладен, большерук, коротконог, будто вытесан из суковатой чурки. Его лицо заросло бородой до самых глаз. Его товарищ, сотник Сучок – низенький, толстый, лысый и безбородый мужичок с сонно прищуренными глазами. Митька Орел – самый молодой и бесшабашный из ватажных командиров; родом он из древней московской земли.
– Чего молчите? – заговорил Ермак. – Неужели в молчанку играть пришли?
Сучок начал откашливаться.
– Тебе, Сучок, видать, неохота первому рот открывать, раз такой кашель напал. Сказывайте, чего люди надумали.
– Я своих не спрашивал. Пойдут, куда все, – глухим голосом ответил Дементий.
– Чего примолк, Дементий?
– Пущай другие языками шевелят, чать, не нанимали меня за всех речь держать.
– Всякого по отдельности опрошу. Сам чего надумал, Дементий?
– Мои по твоей тропе, Тимофеич, до смерти шагать будут. Одначе думаю, надо бы ко Строганову еще разок гонцов спосылать. Молва про него не больно баская ходит. У царя в большом почете. Не помог бы Грозному петельки на наших шеях затянуть.
– От тебя что услышу, Дитятко?
– С тобой иду, и люди тоже. А ежели кто вздумает поперек сказать, тому самолично душу из тела вытрясу.
– Сам за всех решил?
– Сам. Мои ребята думать не обучены. Мне верят.
– Зато ратному делу они у тебя не худо обучены. Что ж, иного не ждал от Дитятки-атамана... Ты, Сучок, прокашлялся наконец?
– С тобой пойдем, ко Строганову в службу. Только обусловь, чтобы камский хозяин для нас на зиму избы в одной слободе срубил, людей наших не разобщал. Трудно надо жить на случай хитрости воеводской или другого какого подвоха. И глядеть зорко, чтобы служба наша тюремной решеточкой не обрядилась.
– Ладно сказал... Твоя очередь, Митя.
– С тобой, Ермак Тимофеевич.
– Теперича я, – нетерпеливо выкрикнул Знахарь.
– Не терпится? Говори.
– Не поглянется тебе, атаман, слово наше. Люди мои веру в тебя утеряли. В кабалу ко Строганову по своей воле шагать не охочи. Ищи пуганых овец по другим сотням.
– Знахарь! – с угрозой прикрикнул Иван Кольцо.
– Погоди, Ваня! Чего горячишься? Пусть доскажет. – Ермак говорил спокойно и лениво.
– Мои люди меня атаманом выбрали. Поведу их по бывалой тропе. Тебя, Ермак Тимофеевич, с нее царские воеводы спугнули, а мы не пужливы. С этой поры в сторону от тебя уйдем.
– Скатертью дорожка! – Ермак нахмуренно оглядел сотников. Встал, прошелся, наклоня голову, обратился к Петру Донскому:
– Твоя очередь, есаул.
– Да ну тебя к лешему, Тимофеич. Небось сам знаешь.
– Всем молви.
– С собой захватишь – стану зимой на печке тебе сказки сказывать.
После этих слов улыбка на миг осветила лицо Ермака.
– А ты, Ваня, как порешил?
– Чай, иной раз правой рукой зовешь! Неужто отрубить ее хочешь? – проговорил Иван Кольцо с обидой в голосе.
Ермак еще раз смерил шагами площадку на утесе. Заговорил тихо:
– Все высказали? Спасибо за верность. Ты, Дементий, про гонца к Строганову дельно замыслил. Пошлем Ивана. Он перед Строгановым глаз долу не опустит, про все наше житье-бытье выговорит. Спасибо и тебе, Знахарь, что под конец правду сказал, камень из-за пазухи вынул. Скольких за собой уведешь?
– Шестьдесят три души.
– Ладно. Слушай теперь мой последний наказ. Хочешь два, а хочешь и целых три струга возьмешь и на рассвете отчалишь отсюда навеки. Харчами тебя и людей твоих на недельку снабдим, а там – сам заботься.
– Гонишь?
– Не хочу, чтобы верные люди с изменщиной водились. Ступай да начинай сборы. Времени в обрез. Не отчалишь – на рассвете силой сгоню. Давно чуял, что подлость в разуме носишь, не раз хотел согнать, да дураков твоих жалел. Мы тебя вспоминать не станем. Дитятко, проводи его да присмотри, как собираться будут. Вздумает людей мутить – поучи порядку.
– Не сомневайся, Ермак Тимофеевич. Слова лишнего не уронит. Пойдем, Знахарь.
Зло косясь на Ермака, Знахарь поклонился каждому сотнику и сразу же затерялся среди пихтача. Следом, не скупясь на бранные слова, пошел Дитятко. Ермак проводил взглядом ушедшего изменника.
– Слышали, атаманы-удальцы? Поняли, кого при себе держали? Ступайте и вы на отдых, а поутру дадим Ивану наказ, чего со Строгановых спросить.
По привычке военачальника Ермак и за беседой не упускал из виду местности вокруг. Он первым приметил в лунном мареве Камы какие-то суда. Они открыто двигались сверху и держались гуськом, в кильватере друг у друга. Ермак указал на них товарищам:
– Глядите, братцы, никак, струги плывут?
Петр Донской вгляделся вдаль.
– Чьи бы это могли быть? Уж не воеводские ли?
И, будто подкрепляя его тревогу, с берега заорал дозорный ватажник:
– Сказывайте, чьи будете и како добро плавите?!
С воды ответили:
– Соль строгановскую с Кергедана на Русь подаем. А вы – не Ермаковы ли будете?
– Ермаковы и есть!
От берега отчалили две лодки. На стругах настороженно замолчали. Видимо, корабельщики не на шутку струхнули. Но с лодок им кричали:
– Не пужайтесь! С добром к вам плывем. На соль оскудели – отсыпьте самую малость.
С судов отвечали радостные голоса:
– Милости просим. У Строганова соли на всю Русь хватит! А на струге – я, кормчий Денис Кривой, за все в ответе.
На стругах и лодках уже стоял разноголосый галдеж...
– Слыхали? – спросил сотников Ермак. – Уже корабельщики о нас ведают. У Строганова неплохое житье нам будет. Мы сила, а он силу чтит, потому что сам не слабенек.
– Ты видал его, Тимофеич? – спросил Дементий.
– Да случилось раз. Сокол мужик...
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На закате июньский день стал нестерпимо душным. С юга собирались грозовые тучи, как стада вздыбленных вороных коней.
Анюта закончила дневные хлопоты по дому. Напевая вполголоса, она прихорашивалась к приходу Семена Строганова.
Пошла вторая неделя, как он занят с Иванком Строевым устроением нового поселка: готовится жило для Ермаковой вольницы.
Навек осталась в памяти недавняя тихая, звездная ночь. В те часы Анюта отдала всю себя без остатка Семену Строганову. С тех пор жила будто в дурмане мечтаний. Став избранницей этого могущественного человека, она больше всего боялась потерять его любовь, не удержать ее. Только эта пугающая мысль и отравляла Анюте ощущение гордого счастья.
Застегивая серебряные крючки голубого сарафана, услышала в сенях чью-то легкую незнакомую поступь.
– Кто там?
Обернулась к двери, увидела Катерину Строганову. В руках кнут. Должно быть, сама лошадью правила. Гостья пробормотала недобро и негромко:
– Ишь вырядилась!
– Хозяина ожидаю трапезничать. С утра с Иванком в Заречье подался.
– Семену Строганову кошкой об ноги трешься?
Анюта прямо глянула в глаза Катерине, и не стало в ее взгляде обычного ласкового тепла.
– Всякому свое. Ты, как погляжу, не в пастухи ли пойти надумала?
– Говори, да не заговаривайся! Аль не соображаешь, кто перед тобой?
– Пужать пришла?
– Ну ты, девка! – выкрикнула Катерина, сжала губы и до щелок сощурила глаза.
– Голосок здесь у меня шибко не поднимай, – раздельно сказала Анюта. – Как бы визгом не обернулся от злобы.
– Молчи!
– Неужто и говорить не велишь? Может, зависть душит?
– Как посмела такую речь вести?
– Посмела. Аль не приметила, что в проходе в хозяйскую избу нет моей лежанки? В его постели мое место теперь. Что? Никак, побелела с лица? Сам меня позвал. Не глянется тебе, кем в этой избе Анютка обернулась? Ты и лицом куда меня басче. Да и умом не оскудела. Но понять должна, что хозяину молодость моя приглянулась.
– Полюбовницей стала?
– Молодость меня до него подняла. Может, завтра другая его от меня отнимет, но сейчас его жизнью, его силой живу и оттого впервые в жизни счастье познала. Не обессудь, сделай милость. Недосуг мне сейчас. На стол собирать пора. Хозяина жду. Он порядок любит.
Анюта принесла из кухни поднос с караваем хлеба, посудой и столовым ножом. Нарезала хлеба. Катерина пристально следила за каждым ее движением. Прошептала тихо, но явственно:
– Ну вот что: не бывать тебе Строгановой. Уразумела сие?
Анюта засмеялась.
– Нет, покамест не уразумела.
– Значит, пора тебя уму-разуму поучить!
– Неужели кнутом учить пришла? Упреждаю: не вздумай руку на меня поднять! – Анюта положила каравай на стол, а нож держала в руке. – Как хлестнешь, так и жить перестанешь.
– До тех пор хлестать буду, пока из строгановской избы не сгоню!
– Тогда повидаешь, как за себя стоять умею. Обучилась, слава те, господи, в строгановских вотчинах.
За окошком кто-то громко позвал Анюту. Она подошла к окну, и в эту минуту Катерина с размаху ударила ее кнутом. Молодая женщина чуть дрогнула, но не вскрикнула, не выдала резкой боли. Только спросила удивленно и спокойно:
– Хлестнула? Помолись теперь!
Катерина попятилась, размахивая кнутом.
– Кинь нож!
Анюта неотвратимо наступала на противницу.
– Нож кинь, говорю!
Обе оцепенели от голоса Семена Строганова:
– Опомнись, Анюта!
Нож выпал из женской руки. Задыхаясь от волнения, она еле смогла выговорить:
– Хлестнула! За то, что меня себе взял... – Анюта внезапно метнулась, выхватила у Катерины кнут, швырнула в окно. – Не вольна меня в твоем доме хлестать.
– Не плачь, Анюта. Утри слезы да накинь опашень. Пимена-старосту позови: пусть тотчас в монастырь сходит и скажет Трифону Вятскому, мол, боярин Макарий Голованов преставился.
Анюта испуганно смотрела на хозяина.
– Поторопись, родная... Говорили с ним о Сибири. Вдруг замолчал... Гляжу, уже не дышит!
Анюта выбежала из избы. Семен грузно опустился на скамью.
Катерина положила ему руку на плечо.
– Кому же теперь у нас воеводой быть?
Семен поднял на Катерину глаза и резко сказал:
– Уйди из избы. Кнут под окном подбери. И боле порога сего не переступай.
Когда Катерина ушла, Семен послал за Иванком Строевым. Потолковали с ним обо всем за полночь. Утром Нижний чусовской городок узнал, что хозяйской волей стал на воеводское место строгановский корабельный мастер, костромич родом, Иван Федорович Строев.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
На реке Чусовой, версты три выше строгановского Нижнего городка, в душистой сосновой роще стали рядками приземистые избы нового ратного поселка. Вокруг него – частокол с двумя воротами, а над ними – доглядные башенки. Приплывшая с Камы вольница Ермака наполнила избы шумом жизни.
Семен Строганов принял пришельцев радушно. Кормил и поил наславу. Трое суток Ермаковы люди пьяным-пьяно гуляли в Нижнем городке, а опохмеляться отправились в новый поселок. Развеяв хмельной угар, начали привыкать к наемной ратной доле.
Строганов и Ермак ожидали, что царские воеводы пустятся разыскивать вольницу на Каме. Могут по пути наведаться и в чусовские городки! Сотникам было приказано поначалу держать людей за частоколом, а струги, знакомые царским дружинникам, от греха угнать в Верхний городок.
Строганов с оглядкой доверялся пришельцам и перво-наперво завел себе «свой глаз» в новом поселке: назначил Спирю Сорокина приказчиком над харчами для Ермаковой дружины.
Спиря понимал, что глядеть надо в оба, водить дружбу со всеми и доподлинно вызнавать, что держат на уме и на языке Ермаковы люди. Свое тонкое поручение Спиря выполнял спокойно, ибо знал, что на том берегу в вогульском поселении хоронится небольшое войско из вогулов лучников. Хозяин держал этих лучников на тот маловероятный случай, если бы вольнице прискучил мирный быт и она вздумала бы и здесь, в строгановской вотчине, позабавиться прежним ремеслом...
2
Светало. Начиналось погожее июльское утро. Леса еще не стряхнули с себя ночную дрему. На травах серебрились бусинки росы. Река – в сизом тумане, а где прояснело, там расходятся на воде круги: рыба «плавится»!
Спиря Сорокин давно привык у реки встречать солнечный восход игрой на свирели. Нынче он еще затемно спустился крутою тропою к реке, умостился на валуне и заиграл пастушью песенку. На Чусовой люди любили Спирину свирель, хотя и посмеивались, будто высвистывает он не людские напевы, а лешачьи, переняв их от лесной нечистой силы. А на самом деле Спиря играл на свой собственный лад, перенимая мотивы разве что у ветра да у певучей воды.
Наигрывая, Спиря думал о Ермаке: неспроста, знать, бродит атаман ночами, склонив голову, по спящему поселку! Видно, не дают ему покоя думы о новой встрече с Чусовой, где нашел он свои собственные следы на каменистых береговых тропках.
Где-то близко от Спири закрякали утки. Небольшая стайка, кем-то спугнутая рядом, шумно взлетела, перемахнула через реку и пала на воду у другого берега.
В небе набирали силу оранжевые переливы зари. У Спири – уши кошачьи, и собственная игра не мешала старику слушать любой шорох вокруг. Кто-то тихонько ступал по тропе над косогором. Спиря, кося глазом, заметил Ермака, но виду не подал и игры не прервал. Ермак стал рядом.
– Как ноченьку скоротал, дедушка?
Старик отнял свирель от губ, улыбнулся с прищуром.
– Поспал в охотку.
– Здорово, дед-суседко!
– Здорово, Васенька Оленин. Давненько не виделись с тобой!
Ермак обнял Спирю.
– Слава те, господи! Наконец-то признал. Обидно было.
– Да разве можно мне перед своими вид подать, что в родные места попал? Сам пойми!
– Как не понять! Ладный ты стал мужик!
Атаман присел рядом.
– Нешто я мог забыть тебя, дедушка? Еще когда к городку подплывали, так со струга тебя среди всего народа распознал. Ты вот меня Васенькой знал, а я сюда Ермаком вернулся. Гляжу, вовсе по-новому живете?
– По-новому, Васенька. Ране жили, как бог на душу положит, а теперь, как Строганов велит.
– Не тягостно?
– Как для кого. Одним мягко, другим жестко. Хорошо, что хозяин хоть в зубы не тычет. Но волю свою все равно кого хочешь уважать заставит.
– Есть люди, кои меня помнят?
– Маловато таких. Может, кое-кто из стариков да старух еще не забыл.
– Сам Строганов знает, что я беглец с Чусовой?
– Со мной про это речи не было.
– Правду скажи!
– Вон как? Правду тебе? Изволь. Ему про тебя все ведомо. Где был и кем. Но чусовского житья тебе стыдиться нечего. Правильно жил. Кормчим ходил. Долгонько по чужим местам мыкался, а, глянь, опять к родным берегам воротился. Река наша хоша и сердитая, но от себя отпускать не любит.
– Про ватажников моих что скажешь?
– То и скажу: по ложке и каша. Есть мужики – оторви да брось, но и те в ратном деле пригодны. Только узда на них надобна железная.
– Не заскучали бы от мирного житья. От него лень и дурь на иных нападают.
– Задурят – остудишь. Небось не впервой тебе ретивых взнуздывать. А не ты, так и мы сами с усами! Впрочем, долго без дела сидеть хозяин мужикам твоим не даст. Станет вас в темные углы вотчин посылать, там строгановские порядки наводить... Почему это, Васенька, не спалось тебе прошлую ночку? В избе жарко было либо от чего другого?
– Заметил, стало быть, как бродил?
– Не слепой.
– Настенька вспомнилась.
– Старостина дочка?
– Она. Обещание дал на Чусовую воротиться. Вот вернулся, а о ней ни слуху ни духу. Верно, давно замуж вышла в чужие места?
– Здеся она.
– Может, знаешь, почему прячется? Все же суженой была, хоть и давнее это дело теперь.
– В земле Настенька спит.
Ермак низко склонил голову, долго молчал, вспоминая далекую молодость.
Спиря заговорил мягче:
– Знать, сердце-то в тебе не окаменело, Василий, коли затронула его моя весть? Через годок после твоего убега и померла. Сжил ее со свету родитель-злыдень, да еще людская молва.
– Да за что же?
– А ты сам припомни, как последний разок тайно с ней свиделся. Паренька мертвого без мужа родила, а вскорости, так и не встав с постели, вслед за ним в землю легла. На Утином погосте покоится. Посад, где ты с бабушкой жил, спалили. Сельчане то место кинули, а погост остался, только не на всех могилах кресты уцелели.
– Укажешь могилку?
– Укажу. Подле ее вечного покоя сосенку посадил. Жалел я бедную девку.
Тяжело вздохнул Ермак, глядя на реку. Восход золотил небеса, гомонили птицы. Поздняя кукушка начала робко пересчитывать чье-то долголетие.
– Люб ты ей был через меру, Настеньке-то. Много слез без тебя пролила.
– Да и я ее до сей поры не забыл.
– Знать, уж судьба ваша такая была. От нее, как от смерти, ни за какой пенек не спрячешься.
– Коли правда ту могилу знаешь, проводи меня сейчас к ней.
– Изволь. Садись вон в ту лодку, она ходчее других...
Спиря греб бесшумно. Лодка плыла подле берега, спугивая диких уток. То и дело с береговой гальки взлетали кулички. Быстрое течение Чусовой не мешало опытному гребцу. Ермак молча сидел на корме. Спиря больше не тревожил его ни расспросами, ни разговором.
3
Лунный свет. Поселок Ермаковых дружинников спал. В лесах гукали филины.
Атаман Ермак вышел из своей избы. После возвращения с погоста ему не спалось. Бирюзовое небо без единого облачка, синие леса, а на земле, на седой зелени полянки – полосы теней. Ермак медленно прошел мимо изб поселка, то исчезая в тени, то вновь появляясь на лунном свету. У ворот дремал караульный.
– Отопри, Степан!
Караульный, почесывая затылок, нехотя отпер ворота. Сказал с упреком:
– Не гоже тебе одному, без охраны, ночной порой выходить. Места здешние нам чужие.
– Не замай. Зорче гляди, Степка! – бросил атаман на ходу и пошел среди молоденьких сосенок прямиком к берегу по мокрому лугу, обильно орошая сапоги росой.
Он шел размашистым шагом, заложив руки за спину и не спуская глаз с лунных далей. Глубоко внизу, под косогором, неподалеку от лодок, дымил у воды костерик. Возле огня не было ни души. По пустынной реке погуливал ветерок, шевелил листву береговых кустов. Ермак спустился к огню: он догадывался, что запалил его не кто иной, как дед Спиря. Действительно, старик спал в ближней лодке. Ермак понял: костер разожжен для него. Спиря сообразил, что Ермак нынче не заснет от раздумий и спустится к реке посидеть у огонька.
Тишина! Будто и нет на реке людской жизни. Ясно слышен плеск воды у берега. Над костром вьется белый дымок, попискивают в огне головешки, вспархивают искры. Ермаку невольно вспомнилась народная примета: пищат дрова в костре, и искры вылетают – к скорому пожару или войне. Он подбросил в костер хворостину. Красные огоньки, прокалывая дымок, осветили лицо Ермака, отразились змейками в синей воде.
Смотрел атаман на огненные языки, то багровые, то алые, то золотистые, всегда влекущие взор, но и всегда жадные, голодные, злые...
Семилетним несмышленышем добрался он до Чусовой с отцом, дядей и бабушкой. Совсем мало русских людей жило тогда на реке. Спиря Сорокин был на ней первым человеком: все слушали его и почитали. Избу поставили всей семьей возле Утиной горки, и по склону этой горки начали карабкаться к новой жизни в диковинном лесном крае. Бревна для избы помогал таскать и Вася. Жил он под приглядом бабушки, мать помнил плохо – осталась в могиле на владимирской земле. Озорной рос паренек. В первачах ходил у посадских ребятишек. Всегда ему было тесно на улочках. Манила его за тын лесная чаща, что шумела, стонала, скрипела рядом с посадом. Но высок частокол, и нет в нем ни одной щели!
Счет своих лет вел по весенним сосулькам. В десять лет частокол уже не мог служить преградой Васиной любознательности: со стайкой сверстников он научился на шестах перемахивать через высокие стоячие бревна, чтобы сызмальства узнавать леса и речные стремнины... Явью тогда оборачивались слышанные от бабушки сказы и сказки. Были встречи с медведями, лисами, сохатыми и зайчишками. А когда возвращался домой, бабушка стращала внука еще более жуткими сказаниями о далеком царстве Сибирском. Лежит оно за горами Каменного пояса, и стережет этот край зловещая змея-аспида. Живет она в пещере, а сама крылатая, с двумя головами. На землю не садится, а только на камень. И куда полетит, может ту землю всю огнем спалить до опустошения. Только есть и на нее заклинатели-обаянники, кто змею-аспиду заговаривать умеет.
От таких рассказов тряслись у Васи колени, а сердце колотилось, как колокольчик под дугой...
Многое сберегла память детских лет. Яркое сохранилось. Хорошо помнил Ермак своих лебедей, о которых в те годы многие знали на Чусовой. Слышали люди, что после одной тайной прогулки по реке Вася Оленин принес несколько лебединых яиц, взятых из гнезда, тайком положил их под парунью, вывелись три лебеденка. Досталось юнцу от бабушки по затылку, но лебедята подросли и до того привыкли к мальчику, что ходили за ним по пятам, как щенята. Вскоре одного лебеденка задрала кошка, а два птенца к осени выросли, стали прекрасными лебедями и улетели от зимней стужи в теплые края. Горевал по ним Вася. Весной лебединая пара вновь объявилась на озерке возле погоста, не забыла Васю, подплыла на его зов и брала у него из рук хлебные крошки. Дружил паренек с лебедями семь лет, когда подошла пора обучаться ему ремеслу кормчего. Наступила его зрелость, и нежданно повстречался ему мимолетный взгляд васильковых Настенькиных глаз. Про Василия уже ходила громкая слава: прослыл лихим кормчим, а жил один, даже ворчливая бабушка умерла.
Крепко полюбил Василий дочку старосты – Настеньку. Мечтали вдвоем о будущем счастье. Но отец Настеньки, человек злой, нелюдимый и скупой, прознал о их встречах. Много раз махал староста кулаками, требуя от парня, чтобы позабыл про Настеньку и не мутил девичьего покоя.
Потом года два Василий лишь украдкой, изредка виделся с любимой, когда возвращался из плаванья на плотах по Каме. Однажды, воротясь к родным берегам, узнал, что Настеньку просватал отец за богатого купца. Обезумел молодец от такой вести, сгоряча бросился на старосту, а тот по злобе и согнал молодца с жилья в посаде. До осени бродил Василий неприкаянным по Чусовой, пока не приплыл сюда с Камы белый струг Семена Строганова. Народ на реке зашумел и заволновался, стал поговаривать, что пришла и на Чусовую строгановская соляная кабала. От этих-то пересудов и решил Василий-молодец уйти с Чусовой на Волгу...
Догорал костер. Таял жар, подернутый пухом золы, а видения все тесней обступали Ермака.
Вспомнилась ночь накануне сговора Настенькиного отца с купцом, покупателем дочери. Василий скрытно пробрался в посад, условным свистом вызвал любимую из родительского дома. В брошенной избе Василия провели короткие часы последней встречи. Поклялись друг другу в вечной любви. Заворожил Василий Настеньку ласковыми словами, и не пожалела она для любимого девичьей чистоты. Расставаясь, Василий обещал Настеньке воротиться за ней через год и увезти в иные места... Говорят, обещанного три года ждут. Ермаку судьба на много дольше отсрочила исполнение слова...
Совсем потух костер на берегу. Укрыла зола истлевшие угли, только последние искры выдувал из-под пепла свежий порыв ночного ветерка.
Память повела Ермака волжскими тропами. Но вспоминать недавнее прошлое не хотелось. Сейчас претила мысль о пролитой людской крови, о богатствах, взятых на купеческих стругах.
Зашевелился в лодке Спиря Сорокин. Приподнял голову, увидел Ермака у потухшего костра.
– Пришел? Для тебя костер – отгорел. Сейчас опять развеселю его.
Спиря вылез из лодки, пошевелил рукой теплый пух золы.
– Уголечки, поди, еще живые!
– Не надо, не разжигай! Все свое для меня навек сгорело. Старую любовь не воротишь вновь. Больше о прежнем ни слова, старик. Иным помыслам душу отдаю. Спасибо, дед Спиря, за огонек! Душно мне от памяти.
Ермак решительно шагнул к реке, вошел в воду и, шагая, замутил ее чистоту.
– Разболокись сперва, Васенька... Тимофеич, легче балуй в одеже да в обутках. Водовороты тут со студеной водой.
Но Ермак уже выплыл на середину реки.
– Эх, отпетая голова, вовсе прежний озорун... Тимофеич! Воротись!
Ермак продолжал плыть. Эхо несколько раз повторило последнее слово: «Воротись, воротись...»
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Царские дружины воеводы Куренева, разыскивая Ермаковых ватажников, поднялись по Каме до Чусовой. В августе воеводские струги причалили у Нижнего городка.
Незваных гостей угощала Серафима Строганова. Столы ломились от всевозможных блюд и напитков. Против воеводы Куренева и его сотников сидели хозяева – Семен Строганов, Досифей, Иван Строев. Семен усадил Ермака рядом с собой. Воевода и не подозревал, что находится за одним столом с тем, кого так долго преследует.
Куренев тучен и коренаст. Лицо одутловато, веки глаз набухли. Голос хриплый. Из-за мучительной одышки он постоянно покашливает и держит рот полуоткрытым, будто рыба, вытащенная из воды. Сотники – все, как на подбор, чернявые и неприветливые.
Досифей гостил в эти дни у своего младшего друга, воеводы Иванка Строева, помогая тому советом о ратных хитростях. У Досифея совсем оголился череп и вылезла начисто борода. Только над глазами, совсем их прикрывая, нависали все еще густые седые брови, отчего взгляд серых линялых глаз стал суров. Вылезшая борода причиняла Досифею много огорчений: народ окрестил теперь его новым прозвищем – «безбородый воевода».
Трапеза подходила к концу. За сытной едой было выпито вдосталь. Воевода Куренев поглядывал на строгановских военачальников спесиво, как индюк; после каждой новой чары он становился важнее и надменнее.
Наконец он нашел, что и общество своих же сотников для него недостаточно почтенно. Он ткнул пальцем в сторону своих спутников и сердито пробурчал:
– Досыта нахватались. Хватит жрать! Ступайте на струги. – Сотники переглянулись, покорно встали, поклонились хозяевам и вышли из избы.
– Пошто согнал? – сухо спросил Строганов.
– Поговорить хочу без лишних свидетелей. Ты своих тоже отошли.
– У меня от моих воевод тайн ратных нет. Говори. Послушаем.
– Я, однако, пойду? – вопросительно проговорила Серафима. Она как раз наказывала дворецкому, какое питье еще подать к столу.
– Пошто же тебе уходить от нашего стола? – сказал Семен. – Чать, хозяйка. Зачинай свой сказ, воевода.
– Хоть ты и Строганов Семен, все одно не могу поверить, будто душегуб Ермак не бывал на Чусовой. Сам посуди, куда же он подеваться мог? На Волге его давно нету. На берегах камских след его приметен, но тоже не свеж. Где же ему хорониться? Потонул, что ли?
Куренев во время своей речи переводил отечные глаза с одного строгановского военачальника на другого и дольше всех задержал свой тяжелый взгляд на Ермаке. Однако тот сохранял полнейшее спокойствие и невозмутимость.
– А тебя, муж ратный, уж не ведаю, какого ты звания, где-то я видел.
– Тебе померещилось, воевода, – спокойно сказал Ермак.
– Нет, и впрямь я тебя где-то видел. У меня память на всякий лик человеческий завидная.
– Я за всю жизнь дальше Камы нигде не бывал.
– Неужли обмишурился? Больно ты схож с одним человеком. Имечко твое как?
– Василием Олениным кличут.
– А кем он у тебя, Семен Аникиевич, маячит на Чусовой?
– Людей ратному делу обучает.
– Так... Чусовую с Камой он хорошо ведает?
– Мои люди дело знают и все реки ведают. За своим в оба глядим. На то и купцы.
– Вот, значит, хозяин, дашь мне в поводыри Василия Оленина, когда пойду отсюда Ермаковых душегубов искать.
– В своих вотчинах я по царской воле сам за всеми чужими и своими людьми гляжу и ни в чьей помощи не нуждаюсь.
– Как так? Я – царев слуга. Гляди, на груди у меня орел двуглавый.
– Дальше этого городка я тебя по Чусовой не пущу.
– А ежели не послушаюсь?
– Найду и на тебя управу.
– Дружины выставишь?
– Глядя по тому, как дело обернется.
Куренев нахмурился.
– А ты и впрямь нравом крут. Так и доложу в Москве, что не пустил меня Строганов Семен на Чусовую разбойников искать. На Каму тоже закажешь дорогу?
– Посередине плыви, а надумаешь в какой приток свернуть – на моих ратников наткнешься. Те не пустят.
– Крепко заборонился от царского закона.
– Грамотами дарственными царь Московский и всея Руси дал волю Строгановым в здешнем крае свои законы иметь.
– Тогда давай по-другому сговариваться. Разумею, что поклепов на себя не любишь? Слушай. По весне мои дружинники побили Ермака возле Вятки. Так ошпарили окаянных разбойников, что те едва ноги от нас уволокли и на Каму подались.
– Пошто же совсем их не кончили? – усмехнулся Строганов.
– Рубиться пристали.
– А самим от Ермаковых людей тоже по зубам попало?
Куреневу эти слова почему-то показались веселыми. Его живот затрясся от смеха.
– Угадал! Утаивать не стану. Попало и нам на орехи. У Ермака – отпетые молодцы, молотить умеют. Но ты изволь слушать дальше. Отплыли мы после стычки к Волге и встали на роздых. Дело уже считали решенным: разбойники от нас на небо не залезут, а на Каме мы их все равно поймаем. Стоим недельку, другую – силушку копим. И вдруг, не поверишь, плывут мимо нас струги сверху, с Камы. Мы им окрик подали. А они плывут себе безответно, будто глухие. Забили мы тревогу, да им наперерез. Прижали их к берегу и начисто побили. Кто такие оказались, как думаешь?
– А ты сам скажи.
– Ермаковы люди, супротив атамана своего мятеж учинившие. Ермака в трусости обвинили и покинули; над собой нового атамана, по кличке Знахарь, поставили. Этого Знахаря я в полон взял. Пытал его на угольках, пока он чистую правду не выложил. А сказал нам, будто Ермак со своей вольницей к тебе, Семен Аникиевич, на ратную службу нанялся. Что ты на это скажешь?
– Мало ли что под пыткой разбойник сболтнет.
– Верно. Бывает и так, что вранье глаже правды с языка сползает. Только сдается мне, что в словах Знахаря и толика правды есть.
– Велишь понимать, что Ермака в моих вотчинах от царского розыска укрываю?
– Так думаю.
– Ладно. Обыщи всю Чусовую, только вместе со мной.
– Да ты не серчай, Семен Аникиевич.
– Обыщи, огляди Чусовую. Найдешь разбойников – твои, а не найдешь...
– Тогда что?
– Об этом после потолкуем. Но толковать будем по-другому и не за трапезным столом.
– Погоди. Против твоей воли не пойду. На рожон из-за ватажников супротив тебя не полезу. Понимаю, что в твоем немалом хозяйстве разбойники тебе не надобны.
– По-другому запел? Отказываешься? Уплывешь на Москву и станешь слушки про меня пускать?
– Господь с тобой!
– Так я твоей божбе и поверил!
– Не веришь царскому воеводе?
– Нашел чем хвастаться! На своем веку разных воевод вдоволь навидался. Отучили меня на слово верить.
– На Чусовую не поплыву. Там вогулы злые.
– На Каме они тоже не добрее.
– Там они твои. Приучил их по-мирному жить. Каму ты мне помоги оглядеть. Ведомо мне, будто есть на ней островок по названию Медвежий. Чую, что на нем Ермак и схоронился. Так мне кое-кто из твоих людей подсказал. Я бы сам к нему подался, да людишек при мне самая малость.
– Ладно. Поводыря к острову дам. Только ведь он у вогулов за священное место почитается. Помочь тебе сойти на его берег не могу, сговор у меня с язычниками не нарушать их запрета, ногой на остров не ступать.
– А я ступлю. Царский воевода на любое место в государстве ногу ставить волен.
– Не отговариваю, но упреждаю, как гостя.
Серафима налила воеводе новую чару браги, и он осушил ее одним духом. Ермак спросил Куренева:
– Дозволь спросить, что с тем атаманом новым сталось? Как его, Знахарь, что ли?
– А то и сталось, что на березке сохнуть повесили. Всем душегубам такая участь... А вот ежели Ермака словлю, повезу, как медведя, в клетке до самой Москвы. Его там лютой казнью казнят, все косточки на дыбе переломают, а помирать повесят вниз головой. За него царь награду чистым золотом обещал. Дело славное.
– И надеешься, стало быть, и золото и славу добыть? – вмешался в беседу Досифей. – Еще куска в рот не положил, а уже жевать да глотать собрался?
– Видишь, старче, мой кулак? В нем судьба Ермака зажата.
– Что ж, тебе виднее.
– Когда думаешь на Медвежий плыть? – спросил Строганов.
– Коли согласен дорогу показать, то хоть завтра. Весь обшарю. Далече ли отсюдова до острова?
– Рукой подать.
– Вот и дельно, значит, завтра и возьмем там Ермака. Поклон тебе, хозяюшка, за твою хлеб-соль. Соснуть хочу после твоего ужина.
– Не желаешь ли в доме у нас прилечь?
– Нет, на струг вернусь, Семен Аникиевич. Приобык на воде спать.
Куренев встал, но пошатнулся.
– Отяжелел малость от хмельного.
– Беда невелика. Досифей-воевода сам тебя на струг проводит.
Куренев захохотал:
– Вот как ужин твой обернулся! Строгановский воевода – воеводу царского будто под венец поведет...
После ухода Куренева и Досифея Строганов постоял у раскрытого окна, прислушиваясь к вечернему колокольному звону. Обернулся к Серафиме, сказал с улыбкой:
– Вот теперь, Серафимушка, пожалуй, оставь нас, мужиков, одних. Скучный для тебя разговор пойдет.
– Стало быть, есть все же и от меня секреты?
– Неужли осерчала?
– Небось строгановским бабам и мужицкий разговор не скучен.
Как только Серафима ушла, Строганов спросил у Ермака и Иванка:
– Что про воеводские речи скажете?
– Казнь Ермаку Тимофеичу за царя обдумать успел. Такому попадись – все жилы в клубок смотает! – сказал Иванко.
– Мыслишка одна завелась, – проговорил Семен. – Ты, Ермак Тимофеич, отбери себе отряд из самых дельных да вечерком, как стемнеет, тихонько обойди наш городок. Ниже женской обители сядете в лодки. Спиря проводит вас на остров, а Досифей приплывет туда утречком с царской дружиной. Когда воины сойдут на остров, мои ратники отвяжут воеводские струги, те и уплывут...
– А моим людям воеводу кончать?
– Всех до единого. Это тебе, Тимофеич, первый мой боевой наказ. Тебе самому не захочется, чтобы сказ воеводы про твою казнь былью обернулся, а мне не с руки тебя утерять. Разом отшибем у всех царских воевод охоту тебя на Каме искать. Понял?
– Как не понять! Стало быть, за Знахаря-изменника самому рассчитываться приходится? Что ж, думаю, управимся с воеводой.
– Только великого шума не поднимайте на острове, чтобы вогулы не дознались, а то переполошатся и галдеж поднимут. Как управишься на острове, заверни ко мне на обратном пути, порасскажи, как дело было... Куренева живым оставить нельзя: слишком многое раньше времени о людях твоих проведал... Да и тебя самого, похоже, узнал у меня за столом!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Осень пришла на Чусовую хмурая и холодная. Убитая ранними утренниками, листва почернела и опала раньше обычного. Слипшимся половиком она плотно покрыла мокрую землю. У такой осени нет постепенного увядания, красочного и грустного – она похожа на злую и жестокую болезнь в природе.
Дождливым вечером, в сумерках, Семен Строганов один бродил по горнице нижнегородского дома. Помигивал огонек лампады перед образами старинного письма, догорала на столе толстая восковая свеча. Поскрипывали сверчки. Анюта с раннего утра отплыла на Каму, в Кергедан за зимней одеждой. Задумался Семен. После гибели воеводы Куренева с отрядом на Медвежьем острове пришел царский наказ. Именем государя московские дьяки повелевали изничтожить в строгановских вотчинах разбойников Ермака. Что ж, и этот царский наказ придется исполнить... Едва ли кто из Ермаковых молодцов, так быстро и тайно управившихся с куреневским отрядом, вернется из сибирского похода подобру-поздорову... Но ценою их гибели Сибирь станет строгановской вотчиной, подвластной московскому царю...
Еще думал Семен о причинах, по коим сибирский хан Кучум обещался прислать к Строганову послом самого царевича Махмет-Куля.
Может, вогульская молва донесла Кучуму о прибытии на Чусовую ратной вольницы?
Тихо в доме без Анюты. Одиноко хозяину в такой тишине. Нужна ему Анютина молодость, чтобы молодеть самому, беречь прежнюю непреклонность воли, не уступать недугам старости, не терять силу веры во все, что задумано о Сибирском царстве.
Будь сейчас дома Анюта – не позволила бы так вот молча шагать по горнице! Умеет и разговором отвлечь от тяжких раздумий, и старинные песни знает, любимые Семеном еще с детских лет...
За последний год Семен стал находить в себе сходство с отцом в старости. Только отец мучился, не слыша стука собственного сердца, а Семен теряет уверенность, есть ли в нем человеческая душа. Была бы, так верно сумела бы согреть сердце Анне Орешниковой, Катерине, Анюте? А разве согревала?
Мысли о человеческих чувствах, близких женщинах, ушедших друзьях, вроде Голованова, меркли, отступали перед главной мыслью – о величии Руси, об одолении Сибирского царства. Эта мысль давала силу, приказывала жить. Но Семен и тут признавался себе, что не одна слава Руси побуждала его к огромному сибирскому предприятию. Слава славой, но ведь уже прибыл на Каму, в Чердынь, царский дьяк Яхонтов, чтобы подсчитать, сколько оброку платить Строгановым с камских вотчин в царскую казну. Оброк будет огромным, строгановские прибыли пойдут на ущерб. Начнет иссякать богатство, потому что льготные двадцать лет уже миновали... Значит, нужно махнуть за Урал, на Тобол-реку, чтобы снова стать лет на двадцать неограниченным сибирским властелином. Не достигнув этого, не может лечь в могилу Семен Строганов. А нужна ему для захвата власти над богатствами Сибири Ермакова дружина, только что спасенная от плахи и виселицы ценою гибели царского воеводы.
Скрипнула дверь. Семен услышал за спиной знакомый старческий кашель. Спиря Сорокин отвесил хозяину низкий поклон.
– Смелей проходи. Намок?
– Непогодит.
– Садись, Спиря. Проведать меня пришел?
– Дело есть к тебе. Только...
Спиря огляделся в горнице.
– Никого нет, кроме сверчков. Говори.
– Один, стало быть? Оно и хорошо. Только ты, хозяин, тоже присел бы. Слово мое стариковское устанешь стоя-то слушать.
Семен усмехнулся и сел у стола. Молча придвинул своему гостю чарку с медом и блюдо, прикрытое кисеей – Анюта вечерять оставила. Спиря прислушался к звукам в избе.
– Осень на сверчков ноне таровата. Зима, стало быть, сугробная да студеная впереди.
– Издалека приступаешь. Еще что скажешь?
– Скажу, скажу, да вот только титловое слово подберу. Помнишь, поди, когда Ермак к нам со своими людьми приплыл, ты наказал мне тобой самим быть в их стане? Будто не Спиря осередь их живет, а Строганов Семен Аникьич?
– Помню.
– Вот я и объявился перед тобой рассказать, про что наслушался и чего нагляделся. Да ты слушаешь ли меня, батюшка?
– Как же, слушаю.
– Про ватажников нудить тебя не стану. Все, почитай, отпетые головы: черти не берут, а богу не надобны. Сотники иные дельные, а иные – середка наполовинку. Ватажники, ежели на что дельное и ленивы, то в драке крепко понаторели, самой нечистой силе шерсть вычешут и варежки из очесов свяжут. Васька Оленин, а по-волжскому Ермак, мужик честный. Совести не утерял и разума кровью людской не залил. Но доверять ватажникам надо с оглядом. Тут причина не в Ермаке самом, а в его дружке и помощнике, Иване Кольце. Поглядишь – репей, верхогляд, а на деле – оборотень, тайная заноза. Мутит Ермака против тебя. «Ты, говорит, Тимофеич, Строганова слушай, а ладь наизнанку. Жди поры да времени. Позабудут про нас на Москве через годок-другой, а мы, отдохнув, опосля самому Строганову салазки загнем и тебя, Тимофеич, заместо него на Каме хозяином объявим». Понимай, на что замахивается! Опасный мужик Иван Кольцо.
– Себялюб он, Спиря.
– Плохого бы чего не вышло, как Ермака на дело пошлешь. Научит атамана указа твоего ослушаться.
– Не осмелится. Знает, что живо скручу.
– Тебе виднее. Но от тухлого чебака ко всей рыбе вонь пристает.
– Спасибо, Спиря. Дельное твое слово стариковское. Не тревожься. На Каме да Чусовой, кроме Строгановых, иных хозяев покуда не будет. Сказанное тобою мне не в диковину. Чуял, что неладов с ними будет немало, потому и посадил тебя в поселок. Пришел ты сегодня в пору. Есть у меня к тебе дело.
– Наказывай.
– Завтра поутру, погода-непогода, на трех стругах ты с нашими строгановскими ратниками отчалишь от городка, заплывешь до Серебрянки, примешь на струги Кучумова посла и в сохранности ко мне сюда привезешь. С неделю твое плавание продлится.
– Исполню.
– Ночуй сегодня у меня. Сейчас перекусим, а за едой, может, и еще о чем потолкуем.
2
Через несколько дней, пока Спиря Сорокин ходил в верховья Чусовой встречать Кучумова посла, Семен Строганов крупно беседовал с обоими племянниками – Максимом и Никитой.
– Как посмел такое сказать при дяде? – бросил Никите Максим.
– Вот и посмел, – ответил Никита, повысив голос до крика. – И еще раз скажу: к походу на Сибирское царство касательства иметь не буду. Принуждению дяди Семена не подчинюсь. – Никита заходил по горнице, стукая об пол посохом и притопывая каблуками. У печи, изукрашенной голубыми и красными изразцами, молодой человек резко остановился.
– Рассудил – не вспотел! Напугать меня вздумал. Вон ты какой? Спесивость свою дедовским посохом подпираешь? – сказал Семен и положил сжатые кулаки на стол, еле сдерживая гнев.
Разговор трех Строгановых шел в парадной гостиной воеводской избы. Большой покой освещен восковыми свечами в серебряных подсвечниках. Сидит за дубовым столом Семен, спиной к стене. У окна – Максим. В углу бормочут аглицкие часы, перевезенные из Конкора на Чусовую.
Давно спустилась темень ночи над Нижним городком, и мечется по его улицам, переулкам и пустырям неприкаянным бесом ветер. Разговор хозяев Камы и Чусовой начался в сумерки, тотчас, как приплыл из Кергедана Никита. От этого Катерина и Серафима в тревоге: видели, какой недобрый взгляд был у Семена, когда позвал к себе младших Строгановых.
Семен сердито смотрел на кергеданского племянника, но неуловимая улыбка затерялась где-то в усах, чуть изогнула губы. Парень был ему по душе. Облик и характер у него – материнские. Только излишнее тщеславие, заносчивость и дерзость бродят в нем, как молодое вино.
– Еще что скажешь, Никита? – спросил Семен.
– Неужели не ясен тебе мой ответ? – снова вспылил тот.
– Не заносись перед нами, – сказал Максим. – Уж покрикивать стал, как на варнице!
– Погоди, Максимушка! Пусть нам в глаза скажет, о чем за нашими спинами в Кергедане шепчут.
Семен погладил ладонями столешницу.
– Не по нутру тебе, дядя, что своим умом живу?
– Своим ли? Может, поешь с голоса дружков-прихлебателей? Как клопов, развел их возле себя в Кергедане. У всех один замысел: спор между нами зародить и родовое богатство по кускам растащить. Волком на меня оскалился? Отцову тропинку выбираешь? Купчишкой мелким оборачиваешься? Татар боишься? Или прибыль от сибирского похода, от новых земель льготных, тебе карман порвет? Или слава Руси тебе не радость?
– Не верю, что хватит у нас силы Кучума одолеть.
– А тут вера не нужна. Тут расчет, только крупный. Чего же ты раньше молчал о своем маловерии? Почему руку писца не остановил, когда в царское дозволение твое имя вписывали? Надеялся моими руками жар загрести?
– Жалею, что не сказал в Москве, как волю свою насильством утверждаешь. Задерешься с Кучумом, а я на Каме за тебя отвечай? После смерти отца я на Каме хозяин.
– Пока я жив, хозяйкой Камы будет твоя матушка, Катерина Алексеевна. Слышишь? Не будет у тебя ни Камы, ни Кергедана, ежели посмеешь ослушаться. По тонкой осинке, Никита, прежде времени в знатность лезешь.
– Мне сибирских владений не надо. Это в тебе ненасытная жадность к земле.
– Вот о чем помянул? – Семен встал, даже сдвинул тяжелый стол с пути и шагнул к Никите. Тот от неожиданности прижался к печи... Только выкрикнул:
– Дядя!
Семен уже схватил его за плечи, встряхнул было, но тотчас отнял руки, тяжело дыша, вернулся к столу и совсем тихо сказал Максиму:
– Отвори окошко. Душно мне. Не приняли мы с тобой в расчет, Максим, непонятливость нашего Никиты. Не в силах он уразуметь, что замирение Сибирского царства не одним Строгановым, а всему народу русскому надобно. Великой Руси замиренная Сибирь нужна.
В раскрытое окно задувал ветер, пламя свечей моталось в стороны и коптило, растопленный воск стекал по подсвечникам и застывал бугорками. Беспокойно метались по стенам тени трех Строгановых.
– Так вот, Никита, запоминай, что скажу. Трутнем быть в семье не дам. Дружков своих московских из Кергедана немедля вымети под чистую метлу. Неспроста матушка твоя от тамошнего уклада жизни из родного дома сюда перебралась.
– Не потому она на Чусовой. Другая в том причина.
– Сказывай!
– Глянется ей возле тебя быть.
Строганов погрозил племяннику пальцем:
– Никита, легче на поворотах ходи. Знаешь меня! Вдругорядь так тряхну, что дышать перестанешь.
– Дядя Семен!
– Строганов я для тебя, Семен Иоаникиевич, с этой минуты.
Семен перевел дух. Помолчал. Заговорил еще тише и спокойней:
– Поговори с Максимом и завтра к вечеру дай мне разумный ответ: сколько сможешь до зимы в Кергедане отлить пищалей и пушек. Воротясь домой, немедля собирай людей в боевую дружину. Четыре сотни душ надобно.
Никита пожал плечами, но кивнул. Семен обратился к Максиму:
– Подумай, кого послать в Кергедан, чтобы за выплясами Никиты приглядывать. Оказывается, при нем глаз да глаз нужен!
Семен подошел к окну, закрыл створы.
– Не по душе мне осенний ветер. Зябнуть от него стал.
Пламя свечей успокоилось, перестали скакать и тени на стенах. Семен говорил будто с самим собой:
– Мусора у Никиты в башке больше, чем разума. Пойдет если супротив воли двух Строгановых – все потеряет. Максим моим словам свидетель. Не впервой мне распри семейные гасить и утихомиривать тех, кто намеревался разлад в роду утвердить. А посему так решим, Никита: слов твоих об отказе от сибирского похода мы с Максимом не слышали. В любом великом замысле Строгановы должны быть едины. А теперь ступай.
Никита пошел было к двери, но Семен остановил его.
– Погоди! Поклон мне отдать позабыл! Посох этот дедов свези назад в Конкор и поставь его на место в дедовой избе, возле аналоя с Евангелием. Рано тебе на него опираться. Кости в тебе еще гибкие, от поклона не переломятся. И настрого прикажи там белок в достатке держать. Доносили мне, будто дедовых зверушек в избе не холишь. За этих белок ты передо всеми Строгановыми в ответе. В конкорской избе все должно быть сохранено так, как было при жизни моего отца, а твоего деда. Ни одна душа не должна проведать, как и о чем мы сейчас побеседовали. Жить начинай по-строгановски. Помни, что без греха нет и святости. Ступай, успокой матушку, скажи, что за вихры тебя не оттаскал, как следовало.
Никита поклонился и вышел. Семен обернулся к Максиму.
– Видел, как кланяется? Будто царедворец. Ты тоже в Москве жил, а у тебя не те поклоны. Но горячности в тебе, прямо скажу, через край. Не будь меня, подрался бы с братом двоюродным!
– А чего он бахвалится и заносится зря? Небось годами и умом меня не больно опередил. А туда же! Якает.
– В рост вы оба ладно пошли, и он и ты, Максим. Теперь за судьбу всего строгановского я спокоен. С годами опыт преумножите. У Никиты сердце горячее, а у тебя разум с холодком. Я спокоен. На Каме род Строгановых будет долгим.
3
Яркое осеннее солнце не давало тепла. Жар его лучей будто остужал напористый ветер, и шумели, поскрипывая, чусовские леса. Серые густые облака временами укрывали реку и землю коврами теней.
Жители городка и многих окрестных сельбищ высыпали на берег под нижнегородскую стену. Всем хотелось взглянуть, каков из себя татарский царевич, посол сибирского хана Кучума. От распахнутых настежь ворот городка до воеводской избы стояли по обе стороны городской улицы строгановские ратные люди в кольчугах, держали копья и топоры. Ребятишки сновали в толпе, но выскакивать на дорогу не осмеливались, берегли свои затылки.
Дорога не совсем просохла после затяжного ненастья, но лужи засыпаны песком. По обочинам проложены тропы в шерсти зажухлой травы, а мочажины укрыты ветками пихты, накиданными сверху.
Народ в молчании рассматривал малиновый шатер, раскинутый для посла на красивом белом струге.
Будто дуновение ветерка прошелестело в толпе, когда люди увидели, как на берегу воевода Досифей отвесил поклон татарскому послу. При звуках воинской трубы, сурны и рожков, под барабанную дробь татары неторопливо сошли на берег и важно прошествовали перед ратным строем и музыкантами, направляясь вслед за Досифеем к городским воротам среди мшистых валунов.
Процессия была необычной. Впереди всех, не оборачиваясь, шагал воевода Досифей с хмурым выражением лица. За ним человек двенадцать татар в красных и зеленых халатах и лисьих шапках. Передние несли подарки – меха соболей-одинцов, бобровые и собольи шапки, татарские клинки, кованные из серебра сосуды, шитые золотом бухарские халаты и драгоценные украшения для конской сбруи. Двое последних держали в руках большую шелковую подушку, обшитую позументом с кистями. Это был не подарок Строгановым, а седалище для хана. Позади носильщиков – мурза Таузак, а в одном ряду с ним – посол, сын Кучума, царевич Махмет-Куль, высокий ростом, но уже сутуловатый. На нем парчовая епанча, отороченная соболями, а поверх епанчи – чешуя лат. На голове красовался золотой шлем с орлиными крыльями. Выступал Махмет-Куль вразвалку, тяжело переставляя кривые ноги. Смотрел вперед через головы идущих, не замечая их вовсе. Сбоку у него дамасская сабля, усыпанная самоцветами; лица под шлемом не видать, но латы, шлем и сабля горят под солнцем, как перо жар-птицы.
Заканчивали шествие еще четверо татар в зеленых халатах и волчьих треухах. Совсем позади – строгановские ратники в кольчугах, с палицами на плечах.
Тишина в толпе. Только какая-нибудь старушка нет-нет да и перекрестится, провожая взглядом татарского посла...
Когда посол со свитой проследовал до крыльца воеводской избы, Досифей взошел на ступени. Двое рынд с топориками распахнули дверь, и из нее на крыльцо вышел Максим Строганов. Махмет-Куль ответил ему на хозяйский поклон, снял с головы свой перистый шлем и отдал его мурзе Таузаку. Вся эта церемония была еще на струге обсуждена до малейших подробностей. Затем, уже в сенях, посла с воинскими почестями встретили военачальники крепостных дружин, и наконец Махмет-Куль в сопровождении всей своей свиты вступил в парадный покой, где в красном углу стояли Семен Строганов и обе вдовы – Катерина и Серафима.
Перед Семеном уже лежала целая гора внесенных подарков, а принесшие их татары, освободившись от мехов и дарственного оружия, разместились вдоль стен покоя.
Катерина, по русскому обычаю, поднесла гостю на блюде каравай хлеба с золотой солонкой, а Серафима подошла к царевичу с чаркой меда, которую царевич пригубил. Поднос и чарка были из литого червонного золота и предназначались в ответный подарок гостю.
Свиту Семена Строганова составляли воеводы Досифей и Иван Строев, священник Трифон Вятский и атаман Ермак Тимофеевич.
Татары положили к ногам царевича принесенную подушку. Он, разведя руки, поклонился хозяевам, а Семен с ответным поклоном пригласил гостя садиться.
Махмет-Куль важно уселся на подушке, поджав ноги. Строгановы, Семен и Максим, заняли места напротив, а женщины удалились в соседнюю палату, где уже были приготовлены столы. Первым слово взял хозяин. Обращаясь к послу-царевичу, он сказал:
– Волею родителя нашего, Иоаникия Строганова, я поставлен старшим в роде живых Строгановых и, как старший здесь, я рад приветить тебя, желанный гость соседней сибирской земли, сын ее хана Кучума, храбрый царевич Махмет-Куль. Надежду питаю, что никто не докучал тебе по дороге в мои вотчины, что была она для тебя не тягостна и не долга.
Досифей перевел слова приветствия на татарский язык. Посол слушал перевод с каменным лицом. Строганов продолжал:
– Питаю надежду, что прибыл ты в чусовские земли с добрыми вестями и дружескими помыслами. Рад буду услышать о них из твоих уст.
Царевич, прищурив глаза, стал откашливаться. Едва Досифей успел произнести последние слова, Махмет-Куль заговорил громко, быстро и резко, почти выкрикивая гортанные звуки:
– Могущественный повелитель сибирской земли, мой отец, великий хан Кучум, любимец пророка Магомета, послал меня к тебе, русскому властелину камской и чусовской земель, с приветом и поклоном. Повелел великий хан передать тебе, что помыслы его о тебе до сего часа мирны и дружелюбны.
Почти прокричав эти слова, царевич замолчал и облизал губы. Досифей повторил сказанное по-русски. Хан перешел на пониженный тон, а закончил речь почти шепотом.
– Великому хану Кучуму стало ведомо, что ты, могучий сосед, тайно готовишься к войне с нашим царством. Великий хан Кучум милостив, он не хочет тебя наказывать за тайные дерзкие помыслы о войне с ним, но повелевает упредить тебя, чтобы ты навсегда оставил помысел о войне с ним, ибо царство Кучума вовек непобедимо и охраняет его милость самого Аллаха. Великий хан предлагает тебе дружеский союз против московского царя. Великому хану хорошо ведома сила твоего рода. Отрекись от далекой Москвы. Объяви себя великим князем Каменного пояса, и тогда великий хан Кучум поможет тебе согнать с камских берегов власть московскую до самой Волги.
Досифей медленно пересказывал слова царевича, не сводя глаз с хозяина. Неожиданно сам Строганов закричал на посла по-татарски, отчего Махмет-Куль поежился.
– Вот с чем пожаловал! Не думал такое выслушать. За измену царю Московскому и всея Руси предлагаешь учинить дружбу с Кучумом? Да будет тебе ведомо, что на землях камских и чусовских зерно измены ростков не даст. Никто из рода Строгановых земле русской ни помыслом, ни делом не изменит. Божьим помыслом, волей великого государя Ивана Васильевича и трудами холопов наших род Строгановых укрепил вечность Руси на Каме и Чусовой. Слава Руси, могущество Руси – это и наша, строгановская слава.
Я, старший в роде Строгановых, единым помыслом о пользе Руси жив. Не знаю, откуда хану Кучуму ведомо, будто мыслят Строгановы на его царство войной идти, но если немирны его намерения к нам, то у нас достанет силы утвердить великую Русь и на сибирской земле, чтобы там наши города стали и под руку царя Московского та земля отошла.
Махмет-Куль, недовольный, встал на ноги. Но Строганов не дал прервать себя и продолжал на татарском языке:
– Непобедимо, сказываешь, царство Сибирское? В руках Аллаха? Но и мы, Строгановы, не одни: за нами единая Русь стоит, народ ее, все напасти перенесший, всех супостатов осиливший, кои нашу землю топтать приходили. Благословясь, говорю тебе эти слова.
Строганов размашисто перекрестился.
– Коли хан Кучум тебя прислал сюда не с миром, а с угрозами, то и ему скажи: настанет час, когда я, слуга царю, сын народа русского, Семен Строганов, пошлю дружины на битву за сибирскую землю, отцом твоим неправедно захваченную. И не по-вашему, не тайно нападу на Кучума. Сам слышишь, упреждаю о том среди белого дня. Накажи хану готовиться к сей страшной битве. Не зову его на измену другим племенам татарским, как он нас, Строгановых, на измену Руси манить велел, дружбу суля.
За соленую правду нас не обессудь, царевич! Враги Руси до сей поры на сибирской земле хоронятся, околдованные гордыней, и холят в разуме помысел о новом покорении земли русской. Но те времена давно канули.
Семену было трудно держать эту длинную речь на чужом языке. Досифей тихо подсказывал ему нужные слова.
– Кучумово царство – враг Руси. Отец твой отказался государю нашему дань по чести платить и посла царского смертью убил. Потому и повелел мне наш грозный государь Иван Васильевич искоренить Кучумову ненависть к русскому народу и благодатные законы Руси на Сибирь распространить на веки веков.
Все сказал! Да и ты, Махмет-Куль, свое высказал. А теперь поклонимся друг другу. Как гостя, прошу пожаловать к столу трапезному и горечь встречи сладким медом запить.
Строганов поклонился Махмет-Кулю в пояс, а хан, разведя руками, церемонно поклонился ему, но лицо было каменным и глаза сощурены до щелок.
– Проходи, царевич, в эту дверь.
Махмет-Куль с мурзой и свитой прошел в дверь трапезной. Ермак остановил хозяина на пороге.
– Неужли правду молвил?
– Сед уж я именем Руси неправду покрывать. Проходи, Тимофеич, пусть татары поглядят на тебя. В битве за великость Руси на просторах сибирских, кажись, будешь тем, кому Строгановы первому меч в руку вложат.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
В камских и чусовских вотчинах ратные люди исподволь готовились в майские дни 1581 года к большим событиям.
Замысел Семена Строганова припугнуть сибирских татар и заранее разведать их численность удался. Кучум, растревоженный докладом Махмет-Куля о своем посольстве, собирал орды со всех кочевий Тавды, Тобола, Пелыма, Иски, Туры и Иртыша.
Строгановские лазутчики следили за скоплениями татар и их передвижением, знали все, что делается в стане врага. С весны тревога в царстве Кучума перекинулась и на пелымские станы кочевников. Строганов приводил в боевую готовность камские и чусовские городки. К вольнице Ермака добавили испытанных строгановских ратников: были среди них и вогулы. Дружины уже не раз выходили на защиту вотчин и всякий раз возвращались с победой.
Затягивание Строгановым начала похода в Сибирь вывело из себя Ивана Четвертого, и он прислал на Чусовую гонца. Семен отчитался перед гонцом о причинах задержки и заверил, что в этом году приведет замысел в исполнение, но опять-таки не назвал точного срока.
Строганов выжидал, словно предвидел, что напуганный Кучум должен сам начать какие-то враждебные действия. Так и случилось. В самом начале лета союзник Кучума пелымский князец Кихек свирепо обрушился на крепость Соль Камскую; нападением этим Кучум рассчитывал отвлечь Строганова от похода, сковать его дружины на Каме. И хотя Соликамский царский воевода слал гонцов к Строганову, тот на выручку не пошел: мол, держись сам, на то ты и воевода! Удержать, отстоять крепость и город воевода не смог, Соль Камская сгорела со всеми посадами и укреплениями. Но двинуться на соседний строгановский городок Конкор пелымский князек не отважился и увел орду назад в свое княжество.
Теперь Строганов ждал удара по своим чусовским крепостям и думал по силе этого удара определить боевую мощь врага. Семен полагал, что Кучум пошлет подвластные ему воинственные племена именно на чусовские городки, чтобы разжечь войну не на Сибирской земле, истощить строгановскую рать уже на подступах к Сибири. Лазутчики пристально следили за всем, что творится на Каменном поясе. Сигналы их становились все тревожнее.
2
Темной июльской ночью Семен и Максим Строгановы в сопровождении воеводы Досифея приплыли в ратный поселок, разбудили Ермака и велели собрать сотников. В избе засветили огонь – крестьянскую лучину. По лицу Строганова и Ермак, и его сотники почувствовали, что наступают большие события. Строганов заговорил:
– Гонец с Верхнего городка сегодня ко мне явился. Чужие пришельцы-вогуличи большим числом вышли с Серебрянки на Чусовую, ведет их татарский мурза Бегбелий Агтаков. В эту полночь дружина Верхнего городка поплывет им навстречь и заманит их к городку. Час тебе, Ермак, сроку: посадить людей на струги и отплыть к Верхнему городку. Вражью силу не прогнать, а уничтожить.
Ермак встал.
– Зачинайте тревогу. Тихонько поднимайте людей.
Сотники, отвешивая поклоны Строганову, без единого слова вышли из избы.
– Вот и дождался ты, Тимофеич, большого дела. Осилишь пришлых вогуличей без великого ущербу – отпущу с Кучумом помериться. А то – еще годик ждать будем.
Максим Строганов, сильно волнуясь, обратился к дяде:
– Дозволишь ли и мне в ратном деле себя испытать?
– Ермака Тимофеича спроси, возьмет ли?
– Ежели ты, хозяин, дозволишь – перечить не стану, – сказал Ермак.
– Тогда ступай, Максим, с богом!
3
Трое суток прошли в неведении. Был только один гонец из Верхнего городка, сказывал, что вогуличи и татары узнали о приближении Ермака и ушли в леса, а Ермак пустился по их следу. Внезапность нападения в тыл противника не удалась.
Неизвестность вынудила Строганова держать охрану городков в готовности. За стены Нижнего городка собрали женщин и детей из всех поселков.
Под конец четвертого дня полил дождь. Утомленный бессонными ночами, Семен Строганов заснул у себя в избе, не раздеваясь. Анюта несколько раз заглядывала в горницу, боялась потревожить спящего, сидела на кухне при горящей свече. Слушала стукоток дождя. Он то усиливался, то затихал совсем. Акюта сидя задремала и вдруг ясно различила на крыльце скорые шаги. В темноте кто-то нащупывал дверь, не нашел и постучал в стену. Анюта, вскочив, похолодела от испуга, кинулась к двери.
– Максим!
– Дядя где?
– Спит.
– Тащи огонь в горницу.
Максим растормошил спящего Строганова.
– Дядя Семен!
– Максим! Воротился?
– Изничтожили кочевников. Мурзу пленили.
– Вымок-то как! Все сказывай разом.
– Поглядел бы, дядя, что с чужаками сотворилось, как начали из пищалей палить! Про главное скажу. Под вечер на второй день мы орду в лесах настигли. Скопом уходила и на ночной роздых стала станом у Лебединого озера. На рассвете по свистку Ермака битву начали. Врукопашную пришлые вогуличи бились недолго. Только татары насмерть дрались, в озеро их загнали...
– Гонца чего не слали?
– Ермак не велел тебя тревожить. Сами, говорит, скажем, когда явимся домой.
– Дьяволы! Сколько тревоги пережил. Мурзу кто да кто полонил?
– Сотник Дитятко со своей ватагой. Поутру взглянешь на пленника. Злющий старикан.
В горницу, вся в слезах, вбежала Серафима. Анюта сбегала за ней по соседству.
– Сыночек мой!
– Да чего ты, матушка! Как видишь, жив.
– А руки и лицо-то в крови?
– О сучья в лесу оцарапался.
– Дай, Анюта, рушник с водицей, помыть надо раны.
– Экая ты суматошная! Нет у меня никаких ран. Причитаете обе надо мной, как над годовалым мальчонкой!
Вошел Досифей, довольно оглядел Максима, поклонился ему:
– Вот теперь, Максим Яковлевич, признаю в тебе Строганова. Всяк муж на Руси после первой битвы по-новому жить начинает...
4
Уже на рассвете, несмотря на дождь, люди прибежали к реке, ждали стругов с дружинниками Ермака. Когда струги показались из-за Щучьего мыса, толпы людей под колокольный звон повалили глазеть на ратников и пленных. На стругах пели:
Эй, вы думайте, братцы, вы подумайте,
И меня, Ермака, братцы, послушайте...
Прокатилась над рекой перепевная команда:
– Суши весла!
Глубоко зарывались в воду струги, до отказа наполненные дружинниками и пленными. Ермак спрыгнул на берег, умолкла песня, стихли крики на берегу. Но тишина длилась недолго. Толпа хлынула к стругам. Десятки рук подхватили атамана, понесли к воротам городка. Ликование волнами катилось по городу. На крыльце воеводской избы стояли Строгановы со старожилами Чусовой. Толпа по-прежнему несла Ермака над головами и лишь у самого крыльца поставила его на землю. Катерина сошла с крыльца с хлебом-солью. Ермак отвесил поклон и трижды облобызался с нею. Народ услышал слова Семена Строганова:
– Спасибо тебе, Ермак Тимофеевич, за одоление ворогов!
Уже давно прошел полдень, а колокольный звон, молебны и шум радости в городке на затихали. Народ уже насмотрелся на пленных, на татарского мурзу Бегбелия Агтакова. Иные рассказчики лихо хвастались; известное дело: из похода – и лекарь воевода.
В трапезной воеводской избы стол заставлен чарами и жбанами с хмельным питьем. На скамьях Семен, Максим, Ермак, удалые сотники, тут же и Досифей, Иванко и Спиря. Пред Семеном Строгановым на столе положены трофеи – шлем и сабля полоненного разбойника-мурзы.
– Сколько мурза вогуличей пелымских и татар на Чусовую приводил? – спросил Ермака Семен.
– Не меньше семи сот.
– Много ли в полон взяли?
– Триста семьдесят три головы.
– А своих потеряли?
– Шестнадцать приказали долго жить. Покалеченных многовато, но поправиться должны все. Наш брат живуч, хозяин!
Строганов с удовольствием окинул взглядом сидящих за столом.
– Как на подбор молодцы! Спасибо, мужики. Кто мурзу полонил, пусть встанет во весь рост.
Никто из сотников не пошевелился.
– Оглох, что ли, Дитятко? Вставай! – сказал Ермак.
Огромный сотник Дитятко встал, покачал головой и сказал хмуро:
– Пусть и еще кое-кто встанет. Не я один мурзу взял. Непривычно мне одному славу в карман класть.
– На кого намекаешь? – засмеялся Строганов.
– С Максимом Яковлевичем вместях были.
– Тогда вставай и ты, Максим. Слово скажу вам обоим. Я, Семен Строганов, не царь, чтобы шубами со своего плеча одаривать. Ты, Дитятко, возьми саблю татарскую, а тебе, Максим, шлем этот серебряный памятью о битве останется. Вместе брали мурзу – пополам и добыча! Покажи нам татарина, Дитятко.
Ратники ввели в трапезную пленного мурзу. Сидевшие за столом привстали, чтобы лучше видеть Бегбелия.
В дорогом малиновом халате, отороченном мехом, но во многих местах порванном, стоял сухопарый старик. На склоненном морщинистом лбу – полоса сизого сабельного шрама. С жидкой седой бородкой спутались концы отвислых усов.
Строганов жестом пригласил пленника к столу. Тот сердито отмахнулся. Семен сказал по-татарски:
– Сухой, но жилы на костях крепкие. Быком в землю уперся. Не глянется ему у нас эдаким гостем быть. По-иному обещал Кучуму со мной обойтись, да вот на колени стать пришлось. Подыми голову, мурза. Хочу взглянуть на тебя.
У татарина злость в слезящихся глазах. Зубы стиснуты. Выпрямился, у всех на глазах будто выше стал.
– Не нравлюсь тебе? Уж какой есть. Посмел племена подвластные на мои земли привести ради славы Кучумовой. Вогуличей поднял? Остяков на Русь натравил? Значит, татар своих бережете до поры, когда надеетесь камские земли зорить огнем да конскими копытами топтать?
С брезгливой гримасой старик пленник прошипел сквозь стиснутые зубы:
– Меня побил? Кучум тебя за это убьет! Великий хан кровь твою в чашу сольет и выпьет за победу над Москвой.
– Горячая во мне кровь, мурза. Кучум язык обожжет!
Кругом засмеялись. Мурза закричал:
– Убей меня, Строганов!
– Чего захотел! Полоненных ворогов русские не убивают. Милосердие русской душе свойственно, в нем великая сила нашего народа...
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
На скошенных чусовских лугах стояли стога душистого сена. Рассветные и закатные ветры стали студеными, шершавили рябью речную гладь. Под воронье карканье осень только начинала прошивать летние покровы золотой ниткой. Синька крапинами виднелась на листве осин. На болотах жухла осока, а камыши терлись друг о друга с таким звуком, будто нож о нож точат. Окраска хвои потемнела. Август 1581 года подходил к концу...
2
Горница Серафимы в воеводской избе тесно заставлена шкафами и сундуками, навезенными из Москвы. Пол – в коврах и звериных шкурах, у печи – кровать под парчовым пологом. Привезла из Москвы кресло Якова заморской поладки с инкрустацией из кости. Развешаны по стенам, свисают с потолка пучки мяты, ромашки и целебных трав: запах в горнице, как на сеновале. Сквозь желтоватую оконную слюду просачивается свет хмурого осеннего дня. У Серафимы нерадостный разговор с деверем и сыном; глаза ее в слезах, но голос тверд. В словах непреложное и беспеременное решение.
– Так и запомни, сынок: на пороге лягу, а в сибирский поход тебя не отпущу. Не для того растила, чтобы зарубил тебя татарин.
– Только о покое материнском помышляешь! – резко сказал Максим.
– Греха в том не углядываю. Ты у меня один. Когда помру, тогда и ходи куда бог на душу положит.
– Доколе мне не по своей воле жить? Не сметь самому себе волосы расчесать? Подобру с Ермаком не отпустите, тайно уйду.
– Неужли осмелишься без моего благословения?
Семен тихо проговорил:
– Про сибирский поход, Максим, позабудь.
– Дядя! Неужто и ты велишь маменькиным сынком в избе сидеть? Стало быть, и ты с матерью заодно? Только не забудь, дядя Семен, что по годам я из-под твоей опеки вышел.
– Пока живым меня видишь, до тех пор слово мое для тебя – нерушимый закон. Остер ты на язык и помыслом сметлив. Только беда, что мудрости еще не нажил. Татар воевать собрался? А подумал о том, кто будет Чусовую от них оберегать? Не видишь, что притомился я. До сей поры радовал меня, а теперь решил огорчать?
Максим нетерпеливо поморщился.
– Пошто же ты, дядя, меня на Бегбелия с Ермаком отпустил?
– Удаль твою молодецкую потешить тебе дал. Что ж, не трусом ты себя показал. Смерти в глаза заглянул. Теперь же подошло время в глаза жизни смотреть, а она иной раз страшнее... Понимай, Максим: дядя Семен на крутой обрыв в жизни вышел.
Уведет Ермак дружины на татар, покорит их – Руси и Строгановым слава. А ежели не покорит и обманет? Долго ли в походе строгановский глаз из дружины убрать? Вдруг дружинники хозяина переменят? Нет у меня нерушимой веры в казаков. Из-за корысти и зависти иные не только против Строгановых, против самого царя измену замышляли... Понимаешь, почему нельзя тебе уходить в сибирский поход? Дядя Семен страшнущее дело задумал. Надумал славу Руси нажить разбойными руками. Переметнутся атаманы против нас – позор падет на мою седую голову. Тогда встанешь рядом со мной спасать молодой удалью строгановскую честь, жизнь матери, людей наших на землях Камы и Чусовой. До сего дня не срамили себя Строгановы перед Русью. Надеюсь, и теперь не осрамим себя перед святой отчизной. Как поступишь? Послушаешь нас с матерью?
Максим молча обнял дядю, подошел к матери.
– По-вашему будет.
Мать обрадованно прижала голову сына к груди. Слезы лились из глаз Серафимы. Стали они наполняться радостью... Увидели они, что сын нашел в себе силу уступить благоразумию, проявить не своеволие молодости, а истинную жизненную мудрость.
3
В болотах около Студеного озера в лесах много сухостоя, и похожи они на чердынские места у подступов к Полюдову Камню.
Озеро недалеко от Нижнего городка, среди каменистых холмов. Холодные родники питают его чистейшей водой.
По мшистой мокрети ступали кони – вороной Строганова и гнедой – Ермака. Чавкали копыта, уходя по самые бабки в мокрые мхи. Нудила коней мошкара. В стороне то и дело похрустывал валежник – невидимый зверь торопился уйти подальше в глушь.
Ехали молча, после выезда из городка не перекинулись и словом. Наблюдая искоса за нахмуренным Строгановым, Ермак не мог понять, зачем позвал его хозяин на лесную прогулку верхом.
Ели и пихты стали выше, лес реже; остались позади сучковатые мачты сухостоя. Кони вышли на твердую каменистую почву, подковы изредка высекали искры.
Показалось озеро. На берегах – могучие боры. У воды – мшистые, огромные камни.
Всадники спешились, но не успели привязать коней, как те испуганно заржали, захрапели. Прямо под берегом стоял по шею в воде матерый сохатый. Смачивал со спины оводов и мошкару. Только голова над водой, и видно, что у левого рога два сошника сломаны. Он повернул голову, с любопытством глядел на людей и коней. Неторопливо вышел на берег. Мокрая темная шерсть блеснула, как лаковая, вода стекала с нее струйками. Сохатый затрусил рысцой вдоль береговой кромки и потерялся среди камней.
– Знакомо тебе озеро? – спросил Ермака Строганов.
– Студеное, кажись. Слыхать слышал, но не бывал здесь.
– Хорошо упряталось в лесах. Годов шесть назад невзначай на него наехал. Наезжаю к нему, когда тревожусь.
– Сейчас отчего тревога? Неужли во мне причина?
– В тебе, Тимофеич. Надобна мне вера в тебя, потому что не только свою судьбу, свою честь, свой интерес тебе доверяю. Судьбу русской жизни в камском крае, святую честь великой Руси тебе вручаю. Перед ней чисты ли помыслы твои?
– Истинный бог – чисты!
Строганов сбоку глядел на суровое лицо атамана.
– Скажу так: про себя и меня не думай. Мы с тобой – тлен. О Руси думай. Коли Кучума силой нашей не одолеешь – в том еще сраму нет. Сложите головы на сибирской чужбине – то зачтется каждому из вас, ибо нет честнее могилы, чем воинская в чистом поле под ракитой.
– О чем забота твоя, Семен Аникиевич, в толк не возьму?
– В обиду моей заботы не прими. Воровским делом промышляли твои станичники. И пожаловал бы вас царь-государь хоромами высокими, что двумя столбами с перекладиной. А я вас на подвиг великий посылаю. Каждому ли из твоих удальцов он по плечу? Не сгубит ли вольницу измена? Долго ли атамана под струг спустить или в Кучумовы руки за подкуп предать, чтобы потом в сибирскую орду переметнуться за великие посулы и пойти с Кучумом Русь воевать? Вот какого сраму пуще огня боюсь. Прости, что высказал не таясь. Что скажешь?
Ермак долго молчал, потом заговорил твердо:
– Большой ты человек, Семен Аникиевич, а людей по-купечески меришь. Казаки мои – люди вольные, и служить к тебе пошли по доброй воле. Знали, догадывались, что служба эта не торговая, а ратная будет... Воровским делом, говоришь, станичники мои промышляли? Всяко бывало, но о земле государевой, вере православной и чести русской казаки мои не менее твоего радеют и прощение от царя заслужат. Для того и в поход пойдут, чтобы Сибирью ему челом бить. А что атаманову волю никто не нарушит – в том моя тебе порука. У нас атамана выбирают – шутят, говорят дерзко, без лести, но уж коли выбрали – никто не посмеет ослушаться али на сговор какой с врагом пойти. Ослушника у нас – в мешок, песок за пазуху – и в воду со струга!
– Слышал о ваших порядках. И в деле тебя и твоих испытал. Вот и легло к тебе мое сердце, Тимофеич. Запомни! Не корысть купеческая тебя на подвиг посылает. Сибирская земля не мне одному нужна. Важно обуздать злобу Кучумову, иначе она не мало горя Руси учинит. Нельзя Руси сейчас тревоги от татар заводить, когда единство свое крепит. От меня ничего не утаивай, ни радости, ни беды. Ежели в чем сомнения – сейчас выспроси. Осилишь Кучума – всю славу себе возьмешь. Строгановы не станут ее у тебя отнимать.
Об одном прошу тебя, честного русского человека: покоришь Сибирское царство – зашли ко мне гонца. Я сам грамотой донесу царю о подвиге твоем, ибо царь благословил мой помысел на покорение Сибири.
– В этом слово тебе даю и крепко на нем стоять буду.
– Поверю тебе. Считай, Тимофеич, что перед ликом земли Русской с глазу на глаз побеседовали. О чем говорили, никто не узнает. Только мать-Родина нас с тобой слышала.
А теперь скажу, когда в путь на Сибирь тронешься: в новый год, в первый день сентября месяца. Ждать недолго, всего недели две осталось. Это моего ангела день. Недаром он Семеновым днем слывет и празднуется!
4
Поздний ночной час. Ратный поселок будто в дыму от света ущербной луны. Изба Ермака затерялась среди пихтача.
В чугунном ставце дымит длинная лучина, освещает Ермака в распоясанной рубахе, с расстегнутым воротом. Коптит огонек, темноту в избе дальше стола отогнать не может.
Стоит перед столом Иван Кольцо в заломленной шапке. Выговаривает Ермаку:
– Как дитя малое, ты, Тимофеич, Строганову доверяешься. Хозяйские посулы, как медовые пряники в карманы складываешь. Похвалами о твоей доблести завертел тебе голову Семен. Хитер! Постельку стелет мягонькую: ляжешь – и на боках мозоли натрешь.
Ермак поднял на сотника тяжелый взгляд.
– В шапке стоишь, а в избе образ.
– В темени его не приметил! – Иван торопливо сдернул шапку и стал вставлять новую лучину в ставец. Новая лучина вспыхнула светлым желтым огоньком.
– Высоковато взлетать стал, Иван, да на тонкую ветку садишься. Смотри, как бы оземь не шмякнуться. Надоел ты мне с твоими наставлениями. Слушаю, слушаю, а ведь и кулаком стукнуть могу. В дружбу тебя к себе допустил, так ты и вздумал меня, как мальца, поучать? Не глянется тебе у Строганова – уходи куда глаза глядят. Держать не станем.
– Не видишь, атаман, что Строганов нам капкан поставил в Сибирской земле?
– Какой капкан? О чем ты?
– О том, что кровушку нашу ради своей выгоды пролить задумал. Пошто не на все наши струги пушки выдал, а своих людей вдосталь и пушками и пищалями одарил? Не верит нам? Покорим ему Сибирское царство, а его людишки нас повяжут да царю на убой отдадут. Татар мы должны воевать, а славу Семен заграбастает. Слыхал, какие речи выпевает, как соловушка в лунную ночь? «Я, говорит, люди русские, позабыл, что вы разбойники. Для меня вы теперь богатыри, Русью на подвиг благословленные». Но мы не олухи. Не всему верим, что нам в уши суют. Про себя пошто ничего не сказывает? А есть что порассказать. Хотя бы про то, как со своим батюшкой на Каме людей голодом замаривал, плетями забивал и от царских воевод золотом откупался. Он этот камский край тоже вольным людом обихаживал, а потом этот же люд под плети, на соль, в яму...
Тошно слушать, как его сотники наших казаков уверяют, будто не Строганову Сибирская земля надобна. Мол, будем воевать татар ради покойной жизни Руси. Умники какие! Будто без них у царя ратей мало. Ежели бы татары Москве несподручны были, давно сама их повоевала бы, не спросясь Строганова.
– Погань, ты, Иване! Покорением Сибири Строгановы дорогу нам кажут, чтобы вины наши многие с души снять.
– Вот и ты под строгановскую дудку запел. А не позабыл ли, что ты с моей подмоги в атаманах ходишь?
– На Волге был казаками в атаманы выбран. Вся сила моя в казачьем товариществе была. Иной власти мы там не знали: до царя далеко, а до бога высоко. Кончено с той жизнью. Здесь, на Чусовой, есть над нами сила – долг наш перед Русью. Аль еще не уразумел, что здесь мы на службе у Руси? А кто недоволен был, не охоч к службе – тот уже воронами исклеван!.. Строганов здесь, хорош ли, плох ли, а хозяином края Москвой поставлен. Стало быть, он и нам хозяин, дружине нашей. И уже не сама вольница, а он меня над дружиной поставил, своих людей лучших мне под начало отдал и такую справил нам ратную обнову, что только дивиться надо, когда успел всего наготовить. А тебе, Иване...
Ермак стукнул по столу так, что пол в избе дрогнул, лучина выпала из ставца и едва не погасла.
– ...Захотелось, видать, по тропке Знахаря прогуляться? Валяй!
Иван Кольцо наклонился, раздул огонек и поправил лучину. В избе опять стало посветлее.
– Нешто за себя одного говорю? Вся вольница про то шепчет. Пойдем, мол, воевать Кучума ради Строганова, а для нашей пользы и славы что? Покорим Сибирь, сами царю Московскому о сем объявим, вот тогда и прощение за дела на Волге из царских рук получим...
– Ступай отсюда!
– Дослушай сперва.
– Ступай, говорю! Ране времени с неубитого медведя шкуру снимаешь. Добром ступай, а то выкину из избы. Поутру заставлю тебя перед всеми сотниками слова эти повторить. Послушаю, согласны ли они с тобой, как говоришь.
– Сотники ни при чем. Я о казаках. Их воля. Они против тебя.
– Нет здесь больше ни моей, ни их воли. Врешь, что люди против меня. Тебя перед дружиной говорить заставлю.
– Стой, Тимофеич! Нешто я тебе не подмога? Нешто сам я веру в тебя потерял? Просто вот пришел, сумление казаков выговорить, не для того, чтобы...
– Струсил? Заюлил? Только товарищества старого ради из стада нашего тебя не выбрасываю, как паршивую овцу. Иди, да на глаза мне покамест не лезь. В походе искупишь подлость свою.
Иван Кольцо вышел из избы. Ермак встал и пнул ему вслед скамью. От толчка та отлетела, стукнулась о кадушку с водой.
– Строганов здесь – сама Русь. Крепость слова, ему данного, не нарушу!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Днем первого сентября прошел короткий, по-летнему теплый дождь.
С утра по ратному поселку глашатаи собирали дружинников на круг. Собирался он под стеной Нижнечусовского городка, прямо на берегу, у снаряженных к походу легких стругов и тяжелых насадов.
Люди становились широким кольцом: дружинники в круг, горожане, прибежавшие поглазеть, – поодаль. Ратные люди, идя на круг, надевали лучшее, что имели в запасе: наборные пояса, изукрашенные сабли и саадаки, стальные бахтерцы, кольчуги, шишаки. В середине круга – высокая степень, где рядом с Семеном Строгановым и Максимом стали старейшины, воеводы, сотники, лучшие люди города: Досифей, Иванко, Спиридон Сорокин, казак Бобыль Седой, старше которого не было среди дружинников.
В городе ударили колокола, и под этот праздничный трезвон от крепостных ворот медленно пронесли в круг воинское дружинное знамя и походную хоругвь с ликом Спаса старого новгородского письма, но еще свежего по краскам: подновили его строгановские иконописцы. Встречая знамя, Ермак стал на колени и поцеловал темно-зеленое полотно с вышитым на нем всадником в красном плаще, Георгием Победоносцем, поражающим змия у ног коня. Знамя это долгими вечерами вышивали Катерина и Серафима Строгановы с сенными девушками-рукодельницами.
Ермак одет совсем по-походному, но вид у него праздничный. Островерхая шапка-ерихонка, поручи на руках и стальные бутурлуки на голенях, тяжелый, блистающий панцирь, кинжал на поясе и персидская сабля сбоку. В руке – тяжелый пернач. Как в бой!
– Замолчи, люди добрые, честная станица! Атаман слово скажет!
В наступившей тишине атаман Ермак объявил, что нынче дружина прощается с Нижним городком.
– На Сибирь в поход идем, атаманы-удальцы! Сегодня нас строгановский город в путь неблизкий провожает. Во славу Руси пойдем, честную победу или смерть ратную искать. За Камень перешагнуть надо, наказать ворогов Руси. Славу и богатство добыть. А богатства в Сибирском царстве Кучумовом немало. И зверь пушной, и камни самоцветные, и озера рыбные, и кедры такие высокие, что тишина под ними, будто в храме. Реки там – пошире Волги-матушки, и упирается то царство Сибирское одним краем в льдистую ночь, другим краем к царству индийскому будто подходит, а еще с одной стороны в степях вовсе теряется. Вот какую землю великую мы к ногам царя Московского положить должны! Спасибо тебе, хозяин камской земли, Семен Аникиевич, что надоумил и оснастил нас на сей подвиг во славу родины-матушки. Твоими щедротами в дорогу собраны, твои люди нам и самую дорожку покажут по тем рекам студеным и быстрым, что к волоку нас приведут. А там, за волоком, через Камень – сибирские реки подвигов наших ждут не дождутся!
Ермак поклонился Семену, а тот обнял его, и они облобызались.
* * *
Перед отплытием, провожая дружину, пировал весь город.
Столы со снедью и питием стояли прямо на улицах и вдоль берега. Ратные пили без оговору, сколько хотели и могли. Но дурить разум хмелем перед отправлением в дальний путь все же остерегались. Ермак от пьянства два года отваживал.
Пустые бочонки от всяких медков, квасов да браги ребятишки, забавляясь, катали по всему городку. То тут, то там начинали петь песни и плясать. Даже старики со старухами слезали с полатей и печей поглядеть на пир Ермаковой дружины, самим пощупать невиданное до сей поры оружие, разящее огнем насмерть с рук. А у девок и молодух губы распухали и щеки горели от мимолетных поцелуев.
Строгановы с Ермаком и сотниками пировали на воеводском крыльце. По второму кругу чарочки подносила Серафима. У Митьки Орла от хмеля развязался язык, и он, как горохом, сыпал прибаутками, вызывавшими раскатистый смех.
Семен Строганов пил много, и за ним настороженно наблюдала Катерина.
Ермак подсел к Серафиме, рассказывал ей что-то страшное: то испуг, то удивление сменялось в лучистых глазах женщины. Сотник Дитятко, мотая головой, нашептывал похвалы раскрасневшейся Анюте. Она боязливо оглядывалась на Семена, вздрагивая, когда Дитятко пытался тайком сжать ее руку. Катерина, прищурившись, слушала охмелевшего Ивана Кольцо.
Девушки подбегали к крыльцу, со смешками приглашая Митьку Орла на пляску. Он отмахивался недолго, подбоченился и отвесил поклон Серафиме. Ответным поклоном она приняла приглашение. На землю Митька с крыльца спрыгнул через ступеньки и ждал Серафиму в кругу хоровода.
Девушки звонко запели плясовую. Митька Орел проплыл мелкими шажками по кругу и, порывисто притопнув, лихо застыл перед Серафимой. Она взмахнула алым платком, дрогнула и пошла плавно, как лебедушка, по-девичьи молодо и с улыбкой на лице.
Зрители будто онемели. Серафима проплыла последний круг и, переведя дух, села на ступеньку, со смехом обмахиваясь платком.
Сотник Хромой Лебедь выскочил из-за стола, загудел надтреснутым басом:
– Да что же это, люди православные! Чать, и я умел плясать. Катерина Алексеевна, уважь старика, попляши со мной!
Семен и Ермак с поклонами стали просить Катерину «уважить».
– Стыда у вас нет, – отмахивалась та. – На смех хотите перед народом выставить. Девкой и то худо плясала!
– Уважь, Катерина Алексеевна. Сердце мое от обиды горем зайдется, ежели с тобой перед походом не спляшу.
– Ладно уж, посмешу, что ли, народ на старости!
Хромой Лебедь и Катерина рука об руку дошли до хоровода.
– Погоди, дай рубаху укорочу, а то ноги спеленает.
Под общий смех сотник заткнул подол рубахи за пояс и пустился плясать, прихлопывая в ладоши и дробно стуча каблуками.
Но настоящую пляску зрители увидели лишь тогда, когда Катерина, раззадорившись, поводя плечами, обошла первый круг. Она-то и оказалась самой искусной плясуньей. Ни одной девушке нельзя было соперничать с хозяйкой Камы. Хромой Лебедь, увидев мастерицу в танце, сам вертелся вокруг Катерины бесом, а под конец поднял свою напарницу на руки и бегом пронес до крыльца. Взрыв восторга был самым неподдельным и громогласным...
Садилось солнце, выстлав на реке густую полосу тени от городской стены.
Пиршество и веселье кончилось. Час отплытия настал. Гомон на берегу примолк. Опять все жители у воды. После молебна ратники молча занимают места на стругах. Кое-кого приходится поддерживать на сходнях. У сотников осипшие голоса, но хмель быстро развеивается. Везде прощаются. Даже у иных мужиков на глазах слезы.
Ермак со Спирей Сорокиным на головном струге. Максим и Никита Строгановы по приказу Семена провожают дружину до устья Серебрянки.
Митька Орел и здесь верен себе. Отдает команды, а сам косится на молодух. Им-то не до смеха! Но Митька озорно шепчет ближайшим:
– Будет вам, козы, мокро на глазах разводить! Не на погост провожаете. Ворочусь – всех до смерти зацелую.
Катерина подошла к своему недавнему напарнику в танце, сотнику Хромому Лебедю.
– Храни тебя господь, плясун! Воюй так же лихо, как пляшешь.
– Ослушаться тебя не посмею, Катерина Алексеевна. А коли свидимся, так гостинца сибирского привезу тебе, хоть ты и Строганова.
Катерина перекрестила и поцеловала старика.
– Какого же мне от тебя гостинца сибирского ждать, казак лихой?
– У Кучума-царя ус выдерну, тебе на память!
– Благословясь, отчаливайте с богом! – сказал Строганов Ермаку.
И тотчас над вечерней рекой послышался зычный голос атамана:
– Весла на воду!
Горожане крестились. Женщины зарыдали в голос.
– Навались!
Мерный плеск сотни весел уже сливался в единый согласный звук, а на берегу наступила торжественная тишина.
Семен Строганов, Досифей и Иван Строев верхом возвращались домой ночью, проводив струги по берегу до Косого бойца-камня.
Ночь, как сажа. Седоки опустили поводья, и кони сами находили дорогу. Дует навстречу холодный ветер. Чувствуя близость жилья, кони пофыркивают. Седоки тоже видят, как на стенах шевелятся огни дозорных, начавших перекличку. Ветер доносит слова нового выклика:
– На Кучума Ермак дружины повел, бог ему на том помощь!
Тишина в Нижнем городке. Только изредка подают голоса собаки.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Целый год минул с ухода дружины на Сибирь.
Опять осень брала свое. Осень 1582 года.
Унеслись в теплые края перелетные птицы; те, что остались в лесах и полях, сменили перо.
А гонцов от Ермака не было. Когда вернулись провожатые в начале прошлой зимы, сообщили Семену Строганову, что дружина добралась до последнего волока и зазимовала перед плаванием в неведомые просторы сибирской земли по Туре и Тоболу.
Кочевые племена снова целый год тревожили чусовские городки набегами. Большого ущерба от них не было, но хлопот у Строганова прибавилось. Небольшие, неуловимые отряды воинов-вогулов появлялись неожиданно перед русскими селениями, грабили жителей, сжигали дома.
Чусовая снова покрылась льдом, а новых гонцов Ермак не слал.
Снегом засыпало лесные чащи. Метели взбивали и перетряхивали снежные перины-сугробы. Наступили морозы.
Зимой почти прекратились набеги вогульских отрядов на слободы и посады, но пришельцы, рассыпанные по лесам, теперь охотились у дорог на одиноких путников и приканчивали их меткими стрелами.
Семен Строганов за год заметно осунулся и постарел, не получая свежих вестей от Ермака. Что с людьми, оружием, припасами?
Сгорбился, исхудал Семен, но чуть не сутками объезжал с воеводами свои села и варницы. Редкий день не случалось покойников от вогульских стрелков.
Появились на Чусовой и голодные волчьи стаи. По ночам они поднимали такой неотвязный, унылый вой, что Анюте еле-еле удавалось рассеивать своими песнями тоскливую думу хозяина.
Однажды Семену приснился недобрый сон. Покойный отец, запорошенный снегом, пришел в избу и протянул Семену руки, приговаривая: «Студено тебе, Семен, становится на земле. Иди скорее ко мне!» Сон лишил покоя. Решил отслужить по отцу панихиду. Семен поехал за этим в женский монастырь и с тех пор зачастил туда.
Серафима и Катерина не раз просили его никогда не ездить в одиночку. Семен даже прикрикнул на них. Те при случае пожаловались воеводам Ивану Строеву и Досифею.
Иван отдал тайный приказ старосте, и караульщики стали всякий раз доносить Строеву или Досифею об отлучках хозяина из города. Теперь дозорные смотрели за хозяином в оба. Только он за ворота – следом скакали вершие охранители.
Вечерами Семен часто звал к себе племянника Максима. Он вслух мечтал, как племянник отправится к царю с грамотой о покорении Сибири, как потом в разных странах наберет заморских рудознатцев и возьмет их к себе на службу. Уже строились на Вычегде и Каме большие суда, уже был отправлен в Голландию иноземец приказчик Оливер Брюннель...
Время шло, а вестей от Ермака все не было и не было.
В тот субботний ноябрьский вечер, на закате, мороз взял полную силу. Анюта ушла в дом к подруге принимать роды, не видела, как Строганов собрался из дому.
Дозорные, закоченев на ветру, укрывались в башне и тоже не видели, как хозяин выехал из городка. Об отъезде Строганова узнал Досифей, влепил оплеуху караульному у ворот и поехал с ратниками вдогонку. Настиг Строганова у самого монастыря, в дремучем лесу.
– Куда путь держишь, воевода? – Строганов про себя ухмылялся в бороду.
– По твоему следу, хозяин. Серчай не серчай, а нет твоей воли в одиночку ездить. И для хозяина иной раз воеводино слово может приказом обернуться.
– За заботу спасибо. Зря боишься. В семи верстах от городка и в худые годы ворогов не водилось.
Досифей поглядывал на придорожные ели и сосны. С одной вдруг посыпался снег.
– Не рысь ли на ночлег укладывается? Как думаешь, Досифей?
– Давненько не встречал в этих местах рысей, хозяин.
Строганов засмеялся.
– При таком воеводе даже зверю хода нет.
Поехали шагом. Дорогу сильно перемело сугробами, в иных местах кони тонули в снегу.
– Погуляла метелица вволюшку! Не серчай, Досифей. Обещаю тебе впредь без ратников не отлучаться. В самом деле, мы еще не отвоевались, старина!
Когда путники отъехали и уже были вблизи монастырских ворот, с той ели, что обратила на себя внимание Строганова, комом упал человек в вогульской одежде. Увязая в сугробах и охлопывая себя по бокам, человек скрылся в молодом ельнике.
* * *
Низок, не велик храм обители. Седая древность Руси в нем, унаследованная от новгородских зодчих. Окна-щелочки. Помигивают во мраке тихие огоньки лампад. Не освещают они темень, а только желтят воздух возле себя, чуть намечая лики старинных темных икон.
Молятся черницы. Молится Семен, прислушиваясь к возгласам священника. Не отводит глаз от Ксении. Стоит она на молитве на коленях возле амвона.
Оглядывается Семен назад и всякий раз с трудом отыскивает у двери слившегося с мраком Досифея.
* * *
После всенощной Строганов проследовал за монахиней Ксенией в монастырскую трапезную. В длинном узком покое тепло. Строганов сел на лавке у стола. Монахиня, стоя у стены, перебирала четки.
– Лица на тебе не стало с зимней поры. Пошто недоброго опасаешься? Сам сказывал, что обрел веру в Ермака. Кабы плохо было, Спиря давно прибежал бы. Он ни на какой обман супротив тебя не пойдет. Не печалься, Семен, о дружине. Не печалься! Все как надумал, так и сладится. Пестуй мир в душе. Береги себя! Покой потеряла оттого, что один ездишь. Опасно. Шалят нехристи. К обители подходят. Псы наши всякую ночь надрываются.
– Волки их будоражат.
– Напраслины не скажу. Со стены сестры людей углядывали.
– Ежели озоруют, значит, они чуют, что неладно с дружиной в Сибирском царстве. Иначе чужих, пелымских, вогуличей с Чусовой как ветром сдуло бы. Запалят вас, боюсь. На охрану обители завтра ратников пошлю.
– О себе печалься. Плохо за тобой обе Строгановы глядят. Спасибо Досифею и Ивану за заботу.
– А ты совсем седая стала.
– Мне здесь хорошо. Чего желала, то обрела. Подле тебя, Семен, совсем близко, и на душе у меня тихо. Так тихо, будто стук твоего сердца порой слышу.
– Анна!
– Не надо, Семен, мирское ворошить. Смирилась я, и грешно тебе меня прошлым искушать... Поезжайте с богом. Ночь не больно темная, месяц молодой народился. Тепла ли шуба у тебя? Стужа под стать Никольской.
– Пошто так на меня глядишь? Никогда так не провожала!
– Господь с тобой! Экий тревожный стал. С чего это во взгляде моем неладное углядел? Ступай. Ратники возле коней, поди, совсем закоченели.
* * *
Сев в седла, Строганов и Досифей поехали сзади ратников.
Ветер стих, но мороз был прежний. Ночное небо нарядно: среди начищенных до блеска звезд, на густой синьке неба – заново вызолоченный месяц.
Рысью проехали поле, а в лесу кони опять стали вязнуть в сугробах. Где-то совсем рядом кычила сова. Издалека доносился волчий вой, похожий на стон. В монастыре отзывались на волков собаки.
– К чему прислушиваешься, Досифей? – спросил Строганов, заметив, что воевода приподнял шапку.
– Лицо потер. Стынет без бороды... Эх, опять в сугроб попали.
Конь Строганова поводил ушами и фыркал. Семен наклонился потрепать его по шее.
Вдруг ближайший к Строганову всадник повалился с коня. Кто-то отчаянно крикнул:
– Берегись! Стрелой убило.
Тотчас с певучим свистом прилетели еще стрелы. Конь Строганова вздыбился. Семен ощутил сзади сильный удар и резкую боль в спине. Он услышал крик Досифея:
– Гони!
Строганов охватил конскую шею, прижался к ней. Боль в спине жгла каленым железом. Конь скакал всхрапывая. Чтобы держаться, Строганов обмотал вокруг кулака клок конской гривы.
Скакавший рядом Досифей то и дело спрашивал о чем-то раненого Строганова, но тот уже не понимал вопросов и отвечать не мог. Последним ощущением его был горький вкус, будто вместо слюны во рту набирался уксус...
Невдалеке от городских ворот Семен Строганов, уже теряя сознание, сполз с коня, но протащился за ним еще несколько сажен по снегу, так и не разжав кулака, прихватившего прядь конской гривы.
В воеводской избе, на тюфяке, стащенном с постели, глухо стонет Семен Строганов.
Горит много свечей. Над раненым склонился вогульский знахарь Паленый Пенек. Острым ножом распороты на спине кафтан и нательное белье. Могучая спина Строганова оголена, торчит из нее глубоко впившаяся стрела... На хвосте – глухариное оперенье. Серафима не может смотреть на кровь, прикрыла глаза рукой. Когда раненый вскрикнул, Серафима отняла руку, увидела в руках знахаря стрелу. Знахарь пробормотал в страхе:
– Травленная. Опять сок корня! Значит, помочь нельзя!
Умирающего переложили на постель. В течение двух суток он то обретал, то снова терял сознание...
Теперь у ложа сменяются или сидят вместе все члены семьи Строгановых, нет только не успевшего прибыть с Камы Никиты. Вокруг избы в морозной мути рассвета толпятся горожане. Они уже знают, что хозяину не быть в живых.
Утром боль как будто притаилась, притихла, и Семену полегчало. Он стал узнавать сидевших. Вскоре сквозь оконную слюду в избу проникло зимнее солнце. После полудня осталась в горнице одна Катерина. Растрепались ее поседевшие волосы. Куталась в шаль, усталая от бессонных ночей. Задремала сидя.
Очнулась она от неожиданно громкого голоса в соседней горнице. Вскочила унять крикуна. В дверях столкнулась с каким-то приезжим, в шубе и шапке, с обледенелой бородой. Думала, Никита. Да нет, оказывается, не он. Пришелец стащил с головы мохнатую шапку...
– Спиря!
Это имя дошло до раненого. Он нетерпеливо приподнялся на локтях и позвал:
– Где, где Спиря?
Гость уже знал о несчастье. Строганов ловил ртом воздух, но между вздохами спрашивал:
– Жив? Спиря жив? А остальные?
– Живехоньки, хозяин... С тобой-то, слава тебе, господи, свидеться успел!
– Ермак? Дружина? С ними что?
– Покорили Кучума.
– Что?
– Покорилось московскому царю Сибирское царстве!
Строганову будто влили в жилы новую кровь. Он забыл и про боль, и про свой приговор. Еще минуту назад почти недвижимый, он будто враз проснулся от тяжелого сна, понатужился и сел.
– Стало быть, конец злобе ханской и всем присным Кучумовым? Писать тотчас же грамоту царю Ивану. Писцов ко мне, Максима, воевод. Никита где? Нельзя медлить с такой великой радостью!
– Хозяин!
– Ну, чего запнулся, Спиря? Всякое слово твое мне теперь в радость.
– Царю грамоту писать не трудись. Ермак сам своим именем ее отписал тридцатого октября, на другой день, как Кучум покорился.
– Постой. Погоди. Неужли не ослышался?
– Говорю тебе: Ермакову грамоту царю повез на Москву сотник Иван Кольцо по старой Волчьей тропе. Окольным путем, мимо тебя. За неделю до последней битвы с Кучумом на Иртыше-реке меня Иван Кольцо связать велел, как пленного держал... Еле вырвался.
– А Ермак знал про это?
Но Спириного ответа Строганов уже не услышал. Откинулся назад, покрылся смертной испариной. Катерина прислушалась к шепоту умирающего, еле уловила:
– Неужто отступил? Забыл свое обещание у Студеного озера?..
– Бредит опять! – в отчаянии заплакала Катерина.
Прибежали Максим, Серафима, Досифей...
Семен Строганов широко открыл глаза, обвел всех ясным взглядом и сказал внятно:
– Не брежу я, Катя. Про что говорил, то, окромя меня, русская земля знает.
Неожиданным рывком Строганов встал на ноги. Шатаясь, сделал несколько шагов, схватил скамью и с размаху ударил ею по печи. От страшного удара разлетелись в стороны расколотые изразцы, а скамья переломилась.
Максим и Досифей подхватили его, а он кричал:
– Отступил! От крепкого слова отступил!
Строганова уложили в постель. Он затих, а через минуту внятно сказал:
– Анюту кликните. Анюту! Песню послушать хочу. Пой, Анюта, про клятву нарушенную, разбойную...
На закате, когда по чусовским просторам гуляла буранная метель, Семен Строганов еще дышал. Он лежал в белой рубахе под образами и будто еще кого-то искал глазами.
За окнами крутили снежные вихри. Непроглядный снежный туман стер границу меж небесами и землей. На разные голоса, с визгами и всхлипами, плакался ветер вокруг воеводской избы. Колючим снегом скреб бревна, будто оттирал их дресвой.
Монахиня Ксения сквозь эту метель добралась до городка.
Умирающий чаще бредил. Могучее тело все еще боролось за право на жизнь.
– Царь! Иван Васильевич! Строганов перед тобой. Неужли не признал? Стрела отравленная меня порешила. Тридцать шесть простых мимо. А эта по счету тридцать седьмая, тридцать седьмая... Отравленная... Максим, сними у меня с пальца царское кольцо. Сестре Ксении отдай. Слышишь меня, Ксения?
– Слышу, Семен Аникьевич.
– Завтра же в проруби, против городка, утопи. Царь так велел.
Максим послушно снял с руки Строганова кольцо и отдал монахине.
– Царь! Всея Руси царь!.. Кони ржут. Бегут, от волчьих зубов спасаясь. Третье татарское царство тебе, царь, покорилось. Не носить боле Руси ханского ярма. Дружина Ермакова Кучума одолела. На веки веков он Русь за Камень увел... Охота мне на новое царство Руси Великой глянуть. Иванко, ладь мне стружок...
Строганов говорил все реже, неразборчивее. В покое никто не смел проронить слово. И нельзя было различить, кто всхлипывает – люди или ветер за стеной.
Снова Семен открыл глаза. Подозвал Анюту:
– Не плачь! Никто не посмеет тебя обидеть. Еще батюшку заботой оберегала. Жемчугом забавлялась... И за моей старостью приглядывала. Все ей до смерти, как всем Строгановым. Равна она вам всем. Слышите? Из могилы достану ее обидчика. Серафима! Не вижу тебя. Сажа в глазах. Окна растворите. Черемуха ноне шибко разгульно цветет... Катерина, моими глазами гляди за всем строгановским. Иду к тебе, батюшка! Поддержи меня, Спиря. Падаю, Спиря, из седла падаю...
Строганов смолк. Монахиня Ксения закрыла мертвому глаза, сложила на груди его руки, зажала между пальцами горящую свечу, стала на коленях читать отходную.
В покое в одном из углов заскрипел сверчок.
Под окнами еще пуще завывал буранный ветер, будто и впрямь сама зима пришла отпевать Семена Иоаникиевича Строганова, недавнего хозяина русских земель, лежащих на пороге Каменного пояса.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
После Николы-зимнего камский край прихватили лютые морозы. Не ленились погуливать и метели-ковровщицы, застилая поземками, как холстинами, все натоптанные пути-дорожки.
Студеные ветры умяли снег, и наст на сугробах затвердевал настолько, что не проламывался даже под копытами сохатых. Не оставалось на нем ни волчьих следов, ни заячьих тропок. Закоченевшие вороны и галки валялись, как тряпицы, на крышах жилья и по обочинам проезжих дорог.
На камских и чусовских угодьях зима всегда такая!
А время шло. Доходил месяц, как не стало Семена Иоаникиевича, и прах его увезли на вечный покой в Сольвычегодск. Проводить его поехали Катерина и Никита Строгановы, монахиня Ксения, Анюта и Досифей; обратно, на Каму и Чусовую, они еще не вернулись.
Собиралась со всеми и Серафима, но внезапная хворь накануне отъезда отняла у нее ноги. Лежала пластом в постели под заботами и обиходом Груни Строевой, жены воеводы Ивана.
Разноязыкая молва уже разнесла по всему краю весть о замирении Сибирского царства строгановской дружиной под началом Ермака Тимофеевича. Наступила долгожданная пора: не будет больше литься кровь на земли Камы и Чусовой. Не надобно более крестьянину и работному люду держать наготове воинскую справу.
Гибель сурового хозяина строгановские люди приняли по-разному. Но никто его не хаял, хотя были к тому причины и во многих душах еще сидели острые занозы обид.
Люди-то знали: плетью обуха не перешибить! Холопья судьба по всей Руси ходит под стоны и слезами полита. Что ж, Семена не стало, а по его следу опять шагают Строгановы, хотя уже иной походкой. На Каме стал Никита Григорьевич, на Чусовой – Максим Яковлевич. А гадать, какими они хозяевами обернутся для простого народа, ни у кого охоты не было. Гадай не гадай, а у хозяина первая забота – карман.
Но радовало и утешало простой народ другое. Ведь издавна, тяжкими десятилетиями, с кремневым упорством заводили мирное житье люди с Руси на землях Камы и Чусовой. А теперь шагнули дальше, узрели за Каменным поясом необъятные леса и степи Кучумова царства. И уже с будущей весны вгрызется русская соха в сибирскую целину, и заколосится на месте вековечного пустотравья золотая рожь с голубыми детскими очами васильков.
Работные люди, чьим трудом солит свой хлеб вся Великая Русь, гордились тем, что без их смелости и смекалки не стать бы Сибирскому царству мирным!
2
Высокое небо – будто выгоревший голубой шелк. Снега так искрятся под зимним солнцем, будто все бытие природы и воплощено в этом снежном пламени.
Над избами Нижнего городка лишь кое-где чернеют горностаевые хвостики дымков; растекаясь по улицам, дымки эти наполняют воздух духом печеного хлеба.
Березы и черемухи вокруг воеводской избы – в густой пушистой курже. Крылышки синиц и чечеток стряхивают с веток иглистую изморозь.
Сквозь слюду окон снопики солнечного света ложатся золотыми пятнами на медвежьи шкуры, устилающие пол трапезной.
За столом – плотовщик, кривой дед Денис. Его слушают Спиря Сорокин и Иван Строев. Для воеводы Денис – старый знакомец на камской земле. Дед водил в Ярославль обоз с солью, на обратном пути привез в чусовские городки пороху и свиделся с Иваном. Кроме нужных грузов привез он новости, взволновавшие Ивана и Спирю до глубины души.
Груня угощала крупнорезаной лапшой-сальмой, запеченной в овсяной крупе-заспое. Были и подовые пироги. Мужики поели в охотку, баловались теперь медовым квасом с давленой клюквой.
Старость коромыслом выгнула спину Дениса. Шаркают ноги, оголился лоб. От новостей, рассказанных Денисом, встали перед глазами Ивана видения о старом, будто совсем позабытом, тягостном, но неистребимо родном и волнующем: об отчем доме под Костромой.
Второй день гостит Денис у Ивана, но всего, что узнал и повидал, пересказать еще не успел.
Говорит Денис скупо. Часто останавливается, откашливается.
– Эдак и говорю. И вчерась эдак же говорил. А мне люди сказывали. Не один какой человек, а во множестве, пока с обозом к Ярославлю полозьями дороги гладили. Иное стало народу житье в родных местах. Знамение будто сперва об этом было на небе.
– Какое знамение? – нетерпеливо спросил Спиря. – Обо всем сказывал, а про знамение впервой помянул.
– А вот какое. Будто лонись по осени, сряду ден восем синим светом полыхала каждая звездочка небесного Звездного Воза. Царь Иван видел то знамение и, говорят, углядел в этом божью острастку за народную тугу. Верь не верь, а сказывают, вроде не губит царь души прежним махом. Правда то, что отнятые в опричнину земли теперь в обрат старым хозяевам раздает. Вроде и мужиков на них вертают. Велит царь попам в церквях скликать беглых по домам, чтобы землю-кормилицу от запустения спасать. Проповедь такую сам слыхал. Проняла до слез.
В трапезную вошла Груня, поставила горшок на стол, всплеснула руками.
– Да что же это деется? Поели, а молчите? За квас взялись?
– Ты, молодуха, его не песочь. Моя вина. Беседа у нас важная.
– Опять про житье на Руси? Твоему сказу, дедушка, поверить боязно.
– Про родное говорить – завсегда былую тугу ворошить. Может, и твой мужик надумает в костромские места повертаться? Чать, и ты тамошняя? Разве неохота опять на Волгу поглядеть? На своей печи тараканы усатее.
– Ох, дедушка! Как помянул про Волгу, так и слеза подступила. Только сам подумай, разве теперь можно отсюда? Счастье наше здесь сыскали. Ребятишек двое. Ивана моего хозяин к себе приблизил, воеводой поставил и про Сибирское царство наказы ему надавал. Станет он теперь ладить насады для иртышских да тобольских вод. Разве дело такое бросишь? Аль неправильно сужу?
– Ванюху я не сговариваю, а только сказываю, что житье на Руси будто полегчало. Старость, видать, и царя стреножила.
– Не верь тому, дедушка. Седни царь смирен, а завтра накатит на него опять злоба, и пойдет он буйствовать сызнова, как встарь. Упаси бог! – Груня торопливо перекрестилась. – Пока царь Иван жив – верить ему боязно. Испей малинового взвара, дедушка.
Старик отхлебнул, похвалил:
– По-костромскому варишь, только мяты бы чуток побольше... Под чьим же началом станете теперь жить? Двое хозяев-то, оба молодые.
– Без ошибки скажу: Максиму Яковлевичу быть головой над нами. Дядина хватка. Рядили они, где предать земле покойного. До охрипу спорили. А Максим и скажи твердое слово: Сольвычегодск! И все Строгановы языки прикусили. Вот и показал себя.
– Дядю, поди, жалеет?
– Места себе не находит. Все думает, как быть да как дело дальше вести. Сейчас иконописцев, мастеров собрал, задумал Благовещенский собор в Сольвичегодске заново украшать. Для царских храмов – тоже наших, строгановских, богомазов на Москву послал. А теперь и сам другой раз образа пишет, вместе с Истомкой Савиным да еще Алешкой-богомазом.
– Ишь искусник какой! Где он столь тонкому ремеслу обучался?
– На Москве к этому пристрастился... Никак, сам легок на помине?
Вошел Максим. Потер руки, приложил их к печным изразцам.
– Ох и студено! Ветерок с Серебрянской стороны.
– Погрейся, хозяин, малиновым взваром, не обессудь.
Максим присел к столу.
– По ликам вижу, что Денис-плотовщик людей моих, помощников дядиных, Ивана да Спиридона, с Чусовой на Русь сманивает?
– Нет, хозяин. Думал, может, Иван по Костроме стосковался, но зря понадеялся. Про Спирю же чего говорить? Главный домовой здесь. Одно слово – суседко.
– А сам кинешь Каму?
– Кину. Но не убегом от Строгановых, а с их благословения. Легче будет моим костям в костромской земле лежать.
– Ступай. Служил честно, помог нам Русь на Каме утвердить. А с Иваном мы вскорости тоже на Волгу подадимся, звать людей на житье в сибирскую Русь. Вот как, Денис. Ты по весне в родные места?
– Нет, хозяин, завтра. Поведу обоз с чусовской солью, а уж в обрат не ворочусь. Выручку тебе помощник мой сюда доставит.
– В добрый час. Ты, Иван, так снаряди мужика, чтобы лихом Строгановых не вспоминал! Ну а тебе, Иван, на Чусовой не прискучило? Перед кончиной дядя Семен наказ тебе дал, в Сибирь стружок сладить.
– О том и думаю, Максим Яковлевич. Осилили мы с ним Чусовую, а с тобой, поди, и Тобол-реку осиливать придется? Есть еще силушка в жилушках. Еще с молодыми потягаемся.
Груня тихонько ахнула.
– А как старость, там-то, в Сибири придет?
– Ничего, жена. Когда нам с тобой время придет, чай, и там народ русский нас в чистых рубахах под образа положит!
Дмитрию Андреевичу Доильневу посвящаю
Книга вторая Куранты Невьянской башни По невьянским, шарташским и тагильским преданиям
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Шло второе столетие после смерти Грозного.
Время не торопилось.
История Руси по-прежнему оставалась историей страданий и подвигов народа.
Вереницей шли годы, и на многое страшнущее нагляделась Русь, пока крутилось веретено предшествующего семнадцатого столетия.
Пережил народ окончание на престоле рода Калиты, лихолетье Смутного времени, прогнал польских ставленников, самозванцев Лжедимитрия первого и Тушинского вора. Видел в пламени народных восстаний на троне Михаила и Алексея Романовых, воевал шведа и турку под знаменами Петра.
Стрелецкий бунт молодой царь успокоил с беспощадностью Четвертого Иоанна, постригом в монашество усмирил непокорность сестры, Софии-правительницы, сына родного не пожалел, когда тот пошел против отцовских преобразований.
Восемнадцатый век громыхал железом, разил пороховой гарью, корабельной смолой, табачищем.
Петр раскидывал срубы деревянной Руси. Он скручивал и подминал вековые порядки боярского властодержавия. Царь вышвыривал бояр на ухабы дорог из возков привычного, неторопливого бытия, вытряхивал их из пропотевшей парчи, приучая к «табашному мракобесию» и европейской учтивости, учил служить государству трудом, умом и карманом в одной упряжи со всем народом.
Петр верил в великое будущее государства и народа. Основанием Петербурга он поставил величие обновленной, преобразованной Руси перед взором всего мира и дал государству своему новое имя – Россия.
Тень Петра укрывала всю страну, из конца в конец. Допетровская Русь, не приемля нового быта и новых порядков, в бессильной злобе хоронилась по укромным углам. Шла в исход с родных насиженных мест в уральские и сибирские леса по тропам первых раскольников, надеясь, что туда-то не скоро дотянется рука ненавистного преобразователя.
2
К подножию Каменного пояса, на водную дорогу к нему, – еще почти безлюдную Каму, – пришел в дни Грозного род Иоаникия Строганова. Потомки этого купца Иоаникия при царе Василии Шуйском получили звание и м е н и т ы х л ю д е й. Богатство их росло на соли и железе, но при Петре, волею царя, хозяином рудных богатств Каменного пояса стал род тульского кузнеца Никиты Демидова.
Подневольным трудом ставил он по краю свои заводы. Род Демидовых правил без рукавиц, голой рукой душил волю, отнимал силу беглых «шатучих» людей, небезропотно подчинявшихся демидовским законам. Без рукавиц род Демидовых утверждал свое первенство на Каменном поясе, прикрываясь дружбой с царем, крепко давая по зубам каждому, кто осмеливался мешать.
Тянулись годы. Не стало Петра Первого и его жены Катерины, не стало Меншикова. Оспа уложила в могилу юного Петра Второго. Не стало и «кузнеца Петрова» Никиты Демидова. Его тенью, еще более угрожающей, шагал по уральскому краю сын Акинфий, человек самобытный и уросливый.
Путаные колеи ухабистых проселков и торных большаков России нарезаны колесами разных бед. От каждого десятилетия – своя колея. Сменялись схожие друг с другом, жестокие и бедственные годы под зловещий выкрик «слово и дело». Фаворит императрицы Анны Иоанновны временщик Бирон не занимал первых государственных постов и будто не пробирался к рулю империи. Но в тишине царской опочивальни он поистине плел терновый венок для народа! Это по его слову слеталась в Россию стая хищного иноземного воронья. Паутина темных интриг опутала подножие российского престола, и главные нити этой паутины были в руках «курляндского конюха». Он хитро ставил петли для уловления тех, кто испокон веков держал на плечах судьбу государства. Что за дело временщику до вопиющей нищеты чужого ему российского мужика! Пыльная пудра дворянских париков осыпалась на струпья и болячки крепостных холопов. По заводам и рудникам Урала стонали работные люди...
Колеса российской истории резали колею тысяча семьсот тридцать пятого года...
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В Угорье – провинции Каменного пояса – река Исеть петляла среди лесных и горных угодьев. На одной из речных петель вминалась в прибрежные дремучие леса носовая крепость – Екатеринбург.
В году тысяча семьсот тридцать пятом выдалась сердитая зима. Глубокими сугробами завалила она Екатеринбург, умяла их до твердости, не поскупись на гулянки по ним вьюг и буранов. От морозов на лету замерзали вороны. Они падали на снега с распростертыми крыльями, казались на снежной белизне черными крестами. Под тяжестью снега у лесных деревьев обламывались ветки.
Восьмой час январского вечера.
Над щетиной шарташских лесов обломком ржаного каравая вставала ущербная луна. Поднялась и повисла невысоко над лесами, будто ей не хотелось карабкаться дальше по ледяной синеве звездного неба. Лунный свет на снегах не ярок, но тревожен. Гребни сугробов в оранжевых полосах, а в сугробных впадинах расплескалась густая просинь теней.
С дозорной вышки крепостных ворот, завернувшись в собачью ягу, смотрел на екатеринбургскую крепость караульный Федот Рушников. От застывшего на морозе дыхания покрылись белым пухом куржи шапка и поднятый воротник яги. В курже и густые брови, а борода побелела только у лица – вся остальная «лопата» укрыта полой армяка.
Пятый год, всякую ночь, караулит крепость Федот Рушников. Кержак он, и в этих местах старожил. Его руки касались всего, что есть в крепости, когда начинали ее строить. От нелегкой работы захирел раньше времени и теперь доглядывал с крепостной воротной вышки за тем, чего жизнь не дала разглядеть ближе.
Старый кержак любил свою крепость, в любое время года находил в ней свою красоту. Любил вслушиваться в ночной шепот людской жизни, угадывал по собачьему лаю ту или иную причину тревоги. Чутьем догадывался о том, что творится на лесных дорогах, тянущихся от окрестных селений и слободок к земляному валу крепости.
Федот помнил, как уктусский горный командир капитан Татищев отыскал место для крепости и главного казенного завода на берегах Исети. Помнил, как запрудили реку, превратив топкое болото в пруд, как потом приходилось спасать эту плотину от демидовских наймитов, норовивших ее порушить. Не обходилось дело без кровавых драк... Но не удалось тогда капитану Татищеву осуществить волю Петрову – выстроить завод и крепость. Лишь позднее, в тысяча семьсот двадцать четвертом году, осуществил постройку генерал берг-директор сибирских и уральских заводов Виллим Геннин. В честь царской жены дали имя новой уральской крепости – Екатеринбург. Он рос на глазах Федота среди извечных хвойных лесов.
В поселках и слободках вокруг крепости всякая изба рубилась за счет казны. И хотя в самой крепости стали потом ладить каменные дома и заводские корпуса вокруг домен на немецкий манер, людская жизнь все же пошла торной дорогой древнерусского бытового уклада; вводили его в крепости поселенцы из раскольничьей слободки, что ютилась в соседних лесах возле Шарташа-озера.
Все помнил старик. Всякого солдата из гарнизона крепости знал в лицо, да и как не знать, если солдат этих пригнали из Тобольска на постройку и охрану крепости еще при капитане Татищеве.
Беглые, шатучие люди непрестанно вливались в население Екатеринбурга со всех российских концов. Сходились сюда, убегая от барского угнетения, от петровских строгостей; больше всего осело здесь приверженцев старой веры из-под Москвы, Тулы и лесных обителей с реки Керженца. Любых беглецов принимали с охотой, укрывали от наказаний, приобретая бесправную, дешевую рабочую силу для хилых казенных заводов. Испытал Федот и на своем горбу тяжесть трудовой доли на казенном заводе. Жестокая доля! За малые провинности людей отдавали в батоги, приковывали к тачкам в рудниках, рвали ноздри. Но все же не гнали от ворот, не возвращали старым хозяевам на расправу, и потому, несмотря на все строгости, беглые люди шли в Екатеринбург густыми «утугами», и никакие страсти не помешали Екатеринбургу с первых лет стать самым большим раскольничьим гнездом на Каменном поясе.
Чтобы наладить казенные заводы и рудники, из столицы слали в Екатеринбург иноземных наемных мастеров горного и литейного дела, больше из немцев. На тяжелые работы толпами пригоняли пленных шведов и поляков. Слава о рудных богатствах уральского края уже пошла по всем странам. Иноземцы-авантюристы с охотой ехали на службу в Екатеринбург.
Все это видел Федот. И на восьмом году после основания завода-крепости, после ухода на покой престарелого Виллима Геннина, вновь нежданно-негаданно вернулся в Екатеринбург его основатель, теперь уже статский советник и ученый историк Василий Никитич Татищев, в звании главного начальника сибирских и уральских заводов и командира войсковых гарнизонов.
Удивлялся народ, когда для командира срубили в крепости новую русскую избу. Не пожелал, вишь, жить в каменных хоромах на немецкий лад! Избу поставили в три больших горницы, с кухней и двумя горенками для слуг.
Бабы вдоволь наохались, когда домоправительницей в избе стала Афанасьевна, разбитная, проворная, хотя с виду и худосочная вдова мастера-доменщика. Она быстро нашла общий язык с барским камердинером, инвалидом Герасимом, солдатом-бомбардиром. Он заметно припадал на правую ногу после встречи со шведским багинетом в битве под Полтавой.
В крепости хорошо знали, что сподвижник и страстный приверженец покойного Петра Первого характером, как и тот, суров, горяч и крут, но в домашнем обиходе нетребователен и по-военному прост. Знали, что соединил в одной горнице опочивальню и кабинет. Во второй горнице была у него парадная столовая, но обедал в ней генерал только при гостях, а в обыкновенные дни садился за еду прямо на кухне или приказывал подавать в кабинет.
В третьей горнице хранились на полках документы по истории горного дела Сибири и Урала. Многонько было там разложено образцов медных и железных руд.
Афанасьевна и Герасим содержали избу в чистоте, но тараканы на кухне водились; сам Татищев говаривал, что русская изба без них все одно, что щи без соли.
Домоправительница ворчала на барина за то, что завел в опочивальне клетку с филином, пойманным на Каменных палатках. Шел от этой птицы дух, как от тухлого сала. Сама же Афанасьевна завела в избе кошек. Одного кота по кличке Купчик даже ревновала к Татищеву. Генерал привык к нему и позволял сколько угодно валяться в ногах постели.
Сдержанный в пище по причине давнишнего нездоровья, Татищев не чаще двух дней на неделе ел вкусную стряпню Афанасьевны, а остальные дни отсиживался на молоке и сухарях. Воскресные дни были для Афанасьевны настоящими домашними праздниками, потому что барин позволял тогда потчевать себя поутру шанежками, в обед рыбными или капустными пирогами, а вечером ему подавались на стол суточные щи с гречневой кашей...
Вот до каких мелочей знал крепостную жизнь Федот Рушников, смотревший в этот морозный вечер с вышки на крепость. Он глядел на ленивую луну, не желавшую лезть на студеное небо. Дымки из труб вставали прямыми столбиками: значит, мороз после полуночи хватит нешуточный. Недаром и снежок, наметенный ветром в караульную вышку, поскрипывает под валенками Федота, будто новая ременная кожа.
2
С прошлой осени в распоряжение Татищева дали роту драгун для охраны его особы. Разместили роту в старой караульной избе неподалеку от главных крепостных ворот.
Жили драгуны сытно и лениво: не от чего было притомиться. Зимой совсем не знали, что делать: генерал недолюбливал стужу и не покидал крепости.
Для столичных драгун все казалось диковинным в глухом краю. С ними сдружился горщик Корнил, по прозвищу Костер. Прозвище такое дали ему люди за огненную рыжесть волос. И хотя волосы Корнила давным-давно выгорели добела, прозвище прилипло к горщику навек.
У Корнила для дружбы с драгунами была веская причина: солдаты были завзятыми «шаровщиками», а Корнил издавна пристрастился к этому занятию, любил дымить «шар» в зимнюю пору. Вот и ходил вечерами к солдатам почесать язык и вдосталь надымиться даровым табаком.
Горщик Корнил появился в крае еще при царе Петре, когда начали утаптывать здешнюю землю демидовские сапоги, кованные тульскими гвоздями. Корнил слыл в крепости первым мастаком рассказывать сказы и самым дошлым мужиком. Бабы уверяли, будто ему в бане сам домовой помогает париться и хлестать веником спину.
Не побоявшись мороза, Корнил пришел к солдатам и в этот вечер.
В караульной избе жарко. Дух людской жизни стоит ядреный. От курева – сизая мгла.
Возле стола с сальной свечой сгрудились солдаты в расстегнутых синих мундирах. Корнил, поглаживая бороду, разговорился о промысле горщика.
– Слыхано, будто ты, Корнил, большой дока самоцветные камешки отыскивать? – спросил один из солдат.
– Так скажу вам, казенны-царицыны люди: сыскать дельный самоцвет – дело мудреное. Земля наша не шибко охоча на отдачу добра, а посему горщику надо умишком пошевеливать. Задабривать ее надо, уральскую нашу землю.
– Чем же ее задабривать? – поинтересовался один из собеседников.
– К примеру сказать, песней хорошей. Она заслушается и раскроется... А что до меня самого, хвастать не стану, но скажу: лучше многих других я тумпасное дело постиг. А еще лучше моего это дело один кержачок шарташский превзошел. Зовут его Ерофеюшко Марков. Ему камни сами в руки лезут, потому что правильно по земле ступает, ласковые песни ей поет, доброе слово говорит, она ему доброй матерью и оборачивается. Вот, для примеру, такое вам выскажу: раньше его никто не знал тайну выгона земляного дыма из тумпаса, а он дошел до той тайны, когда начал запекать тумпасы в насущном хлебушке. Ерофеюшко Марков не раз новые самоцветы находил и находками этими мастеров-немчиков с панталыку сбивал. Они, стало быть, воронами каркали, будто в нашем краю аметистов нет, а Ерофеюшко и выложил им аметисты из уральской земли. Вот какой кержачок Ерофеюшко! Не зря генерал наш еще выше меня по самоцветному делу Ерофеюшку ставит.
У меня же повадка для розыску другая, тяжело работать не люблю. Знаю пяток заветных местечек, с них и ковыряю помаленьку камешки для прокорму.
– Правда аль нет, будто ты, Корнил, для нашей крепости Екатеринбург место сыскал? – спросил один из драгун.
– Самая сущая правда. Место это я генералу показал. Только вот что, брат, генерал Василий Никитич не велит родной язык чужеродными словами тяжелить, привыкай и ты без неметчины обходиться и крепость нашу Екатерининском звать. Эдак генералу угоднее. Он немцев за воровскую заносчивость не любит. Недавно выпороть одного велел за ослушание. Тот обучал наших рудознатцев немецкими словами, хотя генерал не раз на это запрет клал. Ослушался немец, снова стал по-своему парней наших учить, все работы и снасти немецкими словами нарекать. Оттого не знающие тех слов парни в ошибки впадали. Узнал Татищев про это ослушание да немца того перед всей крепостью и опозорил. Вот какой у нас начальник. Так прямо и говорит: «В русском языке для всего слова найдутся». Теперича тот немец наказанный даже свою женку русскими словами ругает.
Генеральство в нашего Василия Никитича сам царь Петр кулаками вдалбливал... Вот и выходит, казенны-царицыны люди: не объявись я на Исети со святой Руси, Катерининску, может, и вовек на сем месте не стоять.
– С Руси-то пошто убег?
– Экий ты прыткий, Данилушка. Про какую скрытность не испужался спросить! На такой спрос без шарового дыма не по силам мне ответить.
– Набивай трубку заново, только ответь.
– Скажу. Прибег издалека. Месяца три лесами, как волк, шел...
Корнил многозначительно замолчал. Не торопясь, набил в трубку табаку, раскурил от свечи, окутался клубами дыма и начал говорить, понизив голос:
– В родных-то местах стал локтем барское пузо задевать. Как подбоченюсь, так, глядишь, локтем пузо и потревожу. Господам это не поглянулось: мол, пузо ихнее не барабан. Вот и пришел в эти места, а в демидовский капкан ногой не ступил. Стал на Исети рыбачить, к лесам привыкать. Зверье разное и люд недобрый не раз пужали. Но я свой страх пересилил, да и сам стал кое на кого страх нагонять.
– С начальником-то как повстречался?
– Обыкновенно. На закате как-то наловил чебаков да и стал над костром уху варить. Капитан и объявись передо мной верхом на сивом коньке. Спрашивает эдак сердито: «Кто таков-» Я ему в ответ: «А ты-то сам, дескать, кто-» Усмехнулся тот, говорит: «Я, уктусских и прочих горных заводов начальник, капитан Татищев». Гляжу: с виду чахлый. И высказал я ему, что, дескать, в начальниках не хожу, но сам себя как хозяина этих мест понимаю. Гляжу, капитан нахмурился, эдак сердито спрашивает: «Беглый-» А я ему, не сробев: «Как же, беглый. Кому же тут еще в лесах шляться-» Гляжу, слезает он с конька и к костру вплотную подходит. Худущий – кожа да кости! Присел на корточки, к вареву моему принюхивается: голоден! Ухой я его угостил, похлебал он в охотку... На другой день опять меня навестил. Хлеба печеного мне привез и соли чистой, а за ушицей стал мне рассказывать, что место для нового завода присматривает. Я, не будь дураком, и молвил ему, что для завода лучше этого места по всей Исети не сыскать. Он спорить не стал, понял, что кое-какой умишко у меня водится.
Через недельку наехал ко мне со всяким начальством и солдатами, велел здесь лес рубить, место чистить, за дельный совет вскорости шестью рублями меня одарил из своего кармана.
– А я слыхал, что дружбу с генералом ты через Афанасьевну заключил?
– Мало ли что люди из зависти скажут. С Афанасьевной, правда, давно дружу. Грею вдовицу ласковым словом.
Корнил, позевывая, встал.
– Одначе домой пора.
Надевая полушубок, Корнил оглядел солдат.
– А вам пора на бочок. Отчего солдат гладок, знаете? Поел и на бок! Уж такая ваша жизнь. С весны у вас редким гостем буду, в лесу стану жить вольно и хорошо. Вам такой жизни и во сне не увидеть.
– Без шару нашего соскучишься.
– И об этом загодя позаботился. Афанасьевна мне для той поры генеральского табачку помаленьку накопит...
3
Гоняя с места на место снежные наметы, январская метель четвертые сутки трудилась, как радетельная хозяйка. Еще накануне видны были стены и башни Екатеринбурга, а после метели будто не стало их вовсе. Вся крепость зарылась в сугробах.
Лихо бушевала метель.
В крепости ветер натыкался на строения и не мог развернуться во всю молодецкую удаль; только на пруду, пустырях и просеках он так вихрил снежные столбы, будто лебеди-кликуны, не взлетая, разм ахались свистящими крыльями.
Днем он посвистывал, как ухарь-ямщик, а по ночам отгонял людской сон кошачьим мяуканьем и волчьим воем.
За крепостными валами снежная буря бушевала в неудержимой бесшабашности. Косогоры сугробов росли на опушках лесов – шарташских, исетских и уктусских, деревья в этих лесах будто делались ниже – такие снежные горы громоздились у комлей.
* * *
Сквозь снежную мглистость метели догорал за лесами кумачовый закат субботнего дня.
В кухне командирской избы Афанасьевна все чаще посматривала на часы. Барин с Герасимом ушли в баню. Парятся второй час. Командир любил веники липовые и смородиновые. Их наготовили загодя. Давно ждет барина и холодный квас... Домоправительница уже начинала тревожиться.
Наконец голоса в сенях. Выглянула, всплеснула руками.
– Батюшки-светы! На руках принесли! Неужели опять до беспамятства?
Герасим с кучером Семеном внесли генерала, завернутого в тулуп. Афанасьевна забежала вперед, раскрыла постель.
– За лекарем беги! – еле выговорил Герасим. – Сердце у генерала заходится.
– А ты, ирод, где был? Опять не доглядел?
– Да не причитай ты христа ради!
– Не хайлай на меня. Клади прямо в тулупе. Голову выше подними.
Когда Татищева кое-как уложили, Афанасьевна яростно накинулась на камердинера и кучера:
– Все вы виноваты! Опять раньше времени трубу заслонили? С угаром закрыли?
– Упаси бог! Может, из-за метелицы снег в трубу набился? – смущенно бормотал Герасим.
– Метелица тебе виновата? Завсегда причину сыщет! Мухомор ты, Герасим, а не камердин!
Афанасьевна принесла из сеней горсть мороженой клюквы. Засунула по ягодке в уши Татищеву.
– Лучше хлебного мякиша! – подсказал Герасим. – Беги, Афанасьевна, живее за лекарем!
Но Василий Никитич пошевелился, приоткрыл глаз. Сказал шепотом:
– Не сметь лекаря звать! Сраму такого не потерплю. Из-за бани лекаря? Никому не можно в крепости знать про такое со мной происшествие.
Татищев слабо улыбнулся своей домоправительнице.
– Твердое слово тебе даю: больше не буду париться так.
– Сколь раз слово такое слышала, а на деле что?
– Да все хорошо поначалу шло, Афанасьевна. Правду говорю, Герасим?
– Истинную. Конфузия вышла вовсе невзначай.
– Пар был легкий, как подобает. Окатился я начисто, а в предбаннике вдруг в беспамятство впал.
– Клюквы поешьте, барин.
Татищев положил в рот несколько кислых, хваченных морозом ягод клюквы. Поморщился.
– Может, и кваском угостишь?
– Сейчас. Давно припасла.
Татищев пил квас, причмокивая губами после каждого глотка.
– Спасибо. Сразу полегчало.
– Слава те, господи. Ступай, Семен. Отойдет теперь. Прокатила беда лихоглазая. Спи, барин.
Афанасьевна на кухне снова взялась за Герасима.
– Ишь ты, герой-бомбардир! Позабываешь мои наказы? Барин в избе генерал, а в бане ты над его судьбой единый начальник. Волосом седой, а ума меньше, чем у овечки.
– Да не грызи ты меня. Сам понимаю, что не по-ладному дело обернулось.
Слушая из-за двери перебранку слуг, Татищев виновато улыбался про себя, вспоминал, как Данилыч Меншиков, бывало, говаривал: «Повинную голову меч даже казнокраду не сечет».
Засыпал он, все еще слыша сердитые укоризны Афанасьевны:
– Горюшко мне с вами. Как в баню с барином уйдете, я страхом за вас свой век укорачиваю. Весь Каменный пояс, весь Катерининск генерал наш в дюжем решпекте держит, а в бане над собой решпект взять не может. Чистая беда: как суббота – так в нашей избе банная оказия...
* * *
Стемнело. Татищев еще спал, но филин, услышав в вое метели что-то понятное ему одному, заметался по клетке, захлопал крыльями и разбудил хозяина.
Татищев заметил в темноте огонек лампады. Крепко же спал, раз не слышал даже, как входили зажечь!
Приподнял голову, закашлялся: всегда кашлял, когда пробуждался. Немец-лекарь уверял, что кашель у генерала от грудной болезни, но Татищев знал, что кашляет просто от старости и пристрастия к табаку.
Герасим, услышав, что Татищев проснулся, вошел в кабинет, зажег от лампадки четыре свечи в высоком бронзовом канделябре. Его подарил Татищеву датский капитан Беринг, посетивший Екатеринбург года два назад.
Огненные язычки свечей разогнали темноту по углам. От стола легла на медвежий ковер густая тень и наискось утянулась по полу чуть не до кровати, а на гладких изразцах голландской печки расплылось отражение самого Герасима, пока камердинер задергивал на окнах шторы.
– А поспал я хорошо, Герасим!
– Всякий сон силы крепит. Кажись, в горнице выхолодало? Эдакий ветрила любую теплынь выдует.
– Пожалуй, растопи печь. Посижу сегодня.
– Печь-то растопить недолго, только осмелюсь подать совет – до завтрева работку-то отодвинуть.
– Нет, Герасим, поработать надо. О многом надо с пером над бумагой подумать. С весны начну по-иному перелаживать жизнь в крае.
– Воля ваша. Только за одну ночь всех дум не передумаете, а отдохнуть – не отдохнете.
Когда Герасим вышел, Татищев сказал вслух:
– А ведь обиделся старик на меня, что не внял его совету.
Герасим принес охапку дров, уложил в печь, содрал бересту с полена, зажег от свечи и сунул под дрова.
Татищев прислушивался к завыванию ветра.
– Крепчает непогода?
– Полагаю, после полуночи надо доброго бурана ждать. Гляди, как лесной лешак – филин нахохлился. Говорят, здесь на Поясе филины раньше всех буран чуют.
В кабинет пробрался кот, прыгнул на постель, потерся о руку Татищева.
– Явился, Купчик? Где это ты слоняешься по такой погоде?
Герасим подал хозяину шлафрок синего бархата и войлочные туфли на беличьем меху.
Ростом командир невысок. Сухопарый. Широкоплечий. Не горбится. Седые волосы острижены бобриком. На темени лысина. Широкий лоб в морщинах. На правой щеке шрам. Кожа на лице желто-землистая. Брови нависли над колючими калмыцкими глазами. Глаза сразу выдают крутость характера. Как вспылит, обозлится, взгляд становится морозистым. Отойдет от пыла – начинает потирать руки, но обычную колючесть взгляда скроет только прищуром. Редко его взгляд теплеет. Даже радость не зажигает в нем искорки.
– Паричок наденете?
– Давай. В девятом часу молока мне с ржаным хлебом.
– Афанасьевна груздей припасла, как велели.
– Вот забыл! Что ж, отлично... Все-таки, старина, хорошо мы попарились. Только на верхнем полке лишку пересидел. Напугал тебя?
– Как не испугаться? Губы посинели, руки похолодели...
– Вот и дурак! Губы у меня всегда с синевой. Отошло для них время типичным цветом отливать. Не к лицу нам с тобой пугливыми быть. Такое ли видывали?
Герасим пошел было к двери.
– Погоди! А трубку набить?
– Виноват.
– Набей табачком, коим Беринг одарил. Да потуже!
– Крепковато зелье. Чай, в беспамятстве лежали.
– Не спорь. Из-за твоего ворчания редко его курю. Крепок, а мысль от него светлеет.
Оставшись один, Татищев заложил руки за спину, стал ходить по кабинету. Встретил взгляд покойной жены с портрета, писанного в Венеции. Радость и ласка в ее глазах, недолго гревшие его одинокую душу. В овальном зеркале заметил, что из-под небрежно надетого парика видна собственная седина. Получше надвинул парик, расправил букли. Пробежал глазами полки открытых шкафов с иноземными книгами по горному делу и стопками исписанной бумаги. Наизусть знал, где и какие бумаги лежат на этих полках.
Вот листки записей по Географии Российской. Большой труд замыслен. Хоть бы начало ему положить и направление дать, дабы кто-то другой, прочитав неоконченное, довел бы до конца сию Географию, к славе и чести любезного отечества и в память о великом преобразователе Петре.
Здесь, в этом шкафу, – записи по истории казенных заводов Сибири и Урала. Все содержится в этих записях – как возникали и как работали заводы, какие были от них выгоды и убытки. Есть сведения также о заводах частного владения, основанных купцами-предпринимателями. Много записей про исход людей с Руси за Каменный пояс. Не забыты и кержаки с их кондовым бытом. Их предания записаны со слов седых старцев, рядом с рассказами о розыске уральских самоцветов, мастерстве русских горщиков и гранильщиков.
Гранильное дело Татищев всячески поощрял, ради этого во второй свой приезд привез с собой Рефта. Генерал верил в великое искусство отечественных гранильщиков, заставляющих камень сверкать замысловатыми гранями, раскрывать взору спрятанное в нем чудо.
В том же шкафу, прямо под рукой, – проспект нового горного устава. Писал его Татищев применительно к отечественным законам. Писал давно, переделывал, переписывал статьи и параграфы устава, старался давать им подробное и внятное толкование.
Шкаф, что занимает простенок между окнами, сверху наполнен образчиками яшм и тагильского малахита.
На средних полках этого шкафа еле уместились громадные тома Словаря-Лексикона и объемистая рукопись с надписью на корках «Духовная сыну моему Евграфу».
Татищев писал «Духовную» уже пятый год. Старался передать в ней опыт собственной жизни, накопленные богатства мыслей, полезную чужую мудрость, чтобы послужила обожаемому сыну легче и разумнее наметить жизненный путь.
Сын – последняя радость, главная надежда и гордость старого генерала. В своей «Духовной» он старался не поучать, а больше писал о том, что видел на свете, слышал от разных людей или сам узнал о человеческой жизни.
Татищев советовал, например, выбор книг для чтения сына, в том числе, разумеется, и книг церковных, но предостерегал от вступления в религиозные споры. Дурные, мол, от сего бывают следствия!.. Вот, как раз сверху, попалась Татищеву на глаза свежая запись собственной мысли: «Я хотя о боге и правости закона никогда сомнения не имел, но от несмысленных и безрассудных споров не только за еретика, но и за безбожника почитан бывал и немало невинного поношения и бед претерпел. Однако, презрев такие клеветы и злонамерения терпеливостью преодолев, лицемерным поступкам и фарисейским учениям не последовал».
«Имей в виду, – читал Татищев собственную рукопись дальше, – что жена тебе не раба, но товарищ, помощница и во всем другом должна быть нелицемерной. Так и тебе с нею должно быть, в воспитании детей обще с нею прилежать, в твердом состоянии дом в правление ей вручать. Однако ж храниться надлежит, чтобы тебе у жены не быть под властию: сие для мужа очень стыдно!»
Старик неколебимо верил, что сын, прочитав «Духовную», не повторит многих ошибок отца, сможет без боязни смотреть в лицо всем людям. Сын, в чьих глазах оживало тепло глаз материнских, был сейчас далеко от крепости: учится в столице, выказывает прилежание к наукам и отличную светлость ума...
Василий Никитич попил квасу, разложил на огромном столе бумаги и гусиные перья. Залюбовался блеском природных самоцветов – золотистых топазов, лежавших возле чернильницы. Подарил Татищеву эти камни горщик кержак Ерофей Марков из шарташской слободки.
Редкие по красоте топазы. Лежат всегда на глазах. Татищев не может решить, какому гранильщику отдать их в огранку. Сделать бы из них ожерелье и отослать в Царское Село, порадовать царевну, затворницу Елизавету Петровну, дочь первого Петра!..
На папке с надписью «Терпящие отлагательства» лежал кожаный мешочек с кусками голубой медной руды из колыванских рудников Демидова. Рядом – образцы серебряной руды, добытые с немалым трудом, через подкуп кержаков. Татищев собирался отправить эти образцы в Петербург при секретном рапорте директору берг-коллегии Шембергу с приезжим из столицы немцем, советником коллегии Шумахером.
Заполучив эти куски серебряной руды, Татищев понимал, что на этот-то раз Демидову не вывернуться. Теперь, после такого рапорта, Демидова непременно приструнят, заставят отдать рудники казне и, конечно, велят подчиняться воле Татищева. Это будет наградой за все унижения, которые начальнику горного дела пришлось претерпеть от самоуправства всесильных здешних заводчиков.
Но Татищев также понимал, что действовать надо весьма осмотрительно: ведь у Демидовых в столице всюду сильные заступники и покровители! Скрип дворцовых половиц в Петербурге вовремя слышен заводчикам на Урале. Акинфий Демидов сумел исподволь приручить даже хитрого Бирона; невьянский властелин не пожалел затрат!
Вражда с Демидовыми у Татищева старая. Началась она еще в первый его приезд на Пояс...
Татищев мельком взглянул на филина. Тот, нахохлившись, забился в угол клетки, таращил зеленые, как плавленая медь, зрачки. Будто и этот предостерегал: мол, с сильным не борись, с богатым не судись!
Василий Никитич придвинул к себе ведомость пробирной лаборатории с анализом серебряной руды Демидовых. В каждой букве ведомости улика! Государственный закон преступно нарушен.
Татищев уже несколько раз принимался писать секретный рапорт на заводчика, но всякий раз уничтожал написанное: получалось нечто похожее на донос. В столице могут усмотреть в нем сведение личных счетов. Там, в Петербурге, вражда командира с заводчиком давно не является тайной. Заниматься Татищеву доносами отнюдь не с руки! И он решил отправить образцы серебряной руды с ведомостью лаборатории, приложив краткую докладную записку. Составление записки откладывал со дня на день и хорошо знал, что не напишет ее и сегодня.
Сидел за своими бумагами и образцами горный командир сибирских и уральских заводов, окутанный табачным дымом. Волей императрицы Анны он поставлен во главе не виданного по богатству края. На казенных заводах он никому не давал спуску, сурово, а порой и жестоко наказывал за провинности и ослушание. Все виновные его боялись, но зато правый, кто бы он ни был, всегда мог рассчитывать на его защиту.
Знавшие Татищева со времен первого пребывания на Урале замечали, как он постарел, но при этом полностью сохранил и прежнюю крутость, нетерпеливость характера и энергию в делах. Энергия у него была особенная, свойственная именно людям петровской выучки. У императора Петра Татищев был любимцем. Пушки, спроектированные им и отлитые Демидовыми, начали Полтавскую битву и решили ее исход. Любил и отличал его царь за то, что с полуслова понимал любой замысел, любой приказ. По воле Петра Татищев исколесил всю Европу, пополняя знания как в военном, так и в горном деле. Узнал о рудных богатствах Урала, о хищническом хозяйничанье Демидовых и высказал Петру смелую мысль завести там крупные казенные заводы. Царю понравилось предложение капитана артиллерии. В руки ему Петр отдал судьбу рудных богатств Сибири и Урала.
Татищев увидел Урал впервые, также под снегом, в 1720 году, когда выбрался из кибитки, заметаемой метелью, на Уктусском заводе. Артиллерийского капитана ошеломило суровое, дикое величие здешней природы. Но убожество местного казенного заводика огорчило нового горного начальника. Лень, жестокость, безудержное обкрадывание казны – вот что застал здесь Татищев. Частные заводчики вообще не подчинялись никаким законам. Татищев сразу показал им свою крепкую руку, навел кое-какие порядки и оказался один на один со всей волчьей стаей.
Демидовы уже правили Уралом, успели создать государство в государстве из своих заводских вотчин.
Пользуясь личным покровительством царя, они смеялись над его же законами. Татищев оказался первым, кто осмелился прикрикнуть на Демидовых, чем немало озадачил заводчиков.
Татищева горько удручал главный казенный завод на мелководном Уктусе, притоке Исети. Надо было найти лучшее место для нового главного завода. В лесных дебрях углядел подходящий участок на самой реке Исети, где и возникла крепость Екатеринбург. Без проволочек он сразу начал строить завод, не дожидаясь даже ответа петербургской берг-коллегии на свое донесение о задуманном.
Решительность Татищева не на шутку напугала Демидовых. Никита Демидов поскакал к царю с жалобой, что Татищев несправедливыми придирками и ревизиями тормозит работу его заводов. Пока Демидов обивал петербургские пороги, Татищев расчищал площадку для будущего завода и запруживал Исеть.
Демидовы всеми силами мешали его работе. Сманивали мастеров. Поджигали леса вокруг строительства. Прорывали плотину. Волновали работных людей страшными слухами. Заводчик Акинфий Демидов не допустил посланного Татищевым шихтмейстера к записям в заводских книгах о выплавке чугуна.
Наказать всесильного невьянского заводчика Татищев решил смело и жестоко. Он приказал военным патрулям закрыть дороги и не пропускать в Невьянск обозы с хлебом. На демидовских заводах возник призрак голода.
Испуганный Акинфий подал отцу весть в столицу. Демидов добился свидания с царем, оболгал Татищева. Царь обещал защитить его от жестокости горного начальника.
Но опытный Никита, понимавший лучше других, что сынок Акинфий переборщил в войне с Татищевым, воротясь на Урал, прикинулся покорным слугой горного начальника и явился к тому мириться.
Однако примирение с этим опасным врагом уже не понадобилось. Царь сам встал на сторону заводчиков. Этим был нанесен тяжелый удар по престижу Татищева. Потом берг-коллегия не утвердила татищевский проект нового главного завода на Исети.
Расследовать действия Татищева приехал особый советник берг-коллегии Михаелис. Упрямый немец, не понимавший русского языка, подкупленный Демидовыми еще в Петербурге, осмотрел место для нового завода, не одобрил его и окончательно угробил проект Татищева.
Последняя ссора с Демидовыми сыграла в этом самую подлую роль. Демидов пошел дальше, не остановился и перед прямым обвинением горного начальника во взяточничестве. Царь и этому поверил.
Оскорбленный до глубины души, Татищев кинулся в столицу. Свидание с царем кончилось неудачей. Несмотря на все доводы, Петр не изменил решения, не захотел обидеть Демидовых, много сделавших для оснащения войска российского. Не удалось Татищеву снять с себя и обвинение во взяточничестве. Последовала опала. На Пояс вместо него отправился старый ученый немец Виллим Геннин. Человек этот знал толк в горном деле и подробно написал в столицу о полной правоте Татищева. Царь упрямо опять не пожелал переменить решение: он держался обещания, данного Демидову.
Татищев уехал за границу. Но, околдованный Уралом, он не мог не мечтать об осуществлении своих помыслов. Посещая немецкие, французские, польские рудники, заводы и школы, упорно копил знания, набирал опыт в горном деле для будущих уральских заводов.
Петр умер. Екатерина и Меншиков немедленно вызвали Татищева домой и определили его в берг-коллегию. После внезапной кончины юного Петра Второго Татищев во главе целой группы дворян – птенцов Петровых решительно пошел на борьбу с партией верховников, пытавшихся ограничить кондициями самодержавную власть Анны. Татищев был среди тех, кто помог Анне взойти на престол как неограниченной монархине. Он снова попал в милость и получил возможность вернуться на Урал, чтобы осуществить заветную мечту, уже хорошо выношенную мечту о сказочном крае.
Даже недоверчивая и осторожная императрица выслушала с интересом его доклад об Урале. Она согласилась с его доводами и поручила ему составить инструкцию по управлению горными заводами. Подписав ее, императрица дала в руки Татищеву могучий рычаг для управления краем. Окрыленный, он снова покатил за две тысячи верст от столицы, в знакомые места, после двенадцатилетней разлуки с Уралом. Он возвращался туда стариком-вдовцом в 1733 году. Но это был уже не артиллерийский капитан, а важный сановник, вооруженный новейшими знаниями, один из самых образованных людей в государстве. Теперь-то он хорошо знал демидовские повадки, их систему подкупов; инструкция, подписанная Анной, отдавала частных заводчиков полностью в его подчинение.
Никита Демидов уже покоился в могиле.
Богатство рода Демидовых на Урале перешло в руки Акинфия Никитича.
Татищеву пришлось поселиться в Екатеринбурге. Честь основания города-крепости принадлежала ему, но осуществил татищевский проект Виллим Геннин. Он во многом отступил от первоначального замысла русского капитана артиллерии с колючими глазами. На деле новый завод на Исети оказался далеко не таким, каким хотел его видеть и показать России Татищев.
Демидовы, конечно, никак не ждали вторичного появления на Урале своего заклятого врага. С Генниным все шло гладко, он покорно ходил у них на поводу, водил дружбу. Акинфий Демидов знал, что Татищев, верный себе, дружбу отвергнет. Значит, борьба должна продолжаться и будет не легкой, потому что минули петровские времена, вокруг престола сгрудились новые люди, не способные оценить демидовских заслуг перед государством.
Понимал и Татищев, как неимоверно окрепли Демидовы на Урале, захватив в свои руки лучшие рудные богатства края, держа остальных заводчиков в полной зависимости. Дело у Демидовых было поставлено много лучше, чем у Геннина. Акинфий собрал на свои заводы лучших рудознатцев и литейщиков; у него много рабочих рук, так не хватавших казенным заводам.
Татищеву было ясно, что Геннин, человек честный, немало сделал, чтобы улучшить работу казенных заводов, но, подпав под влияние Демидовых, смирился с мыслью, что демидовские всегда должны стоять выше казенных. Геннин привлекал на казенные заводы многих иноземных мастеров-хищников, чего не допускали у себя Демидовы.
И сам Татищев сознавал, что без хороших учителей дела не наладишь. Своих рудознатцев и литейщиков не хватало, самые талантливые не шли на казенную службу: хозяева частных заводов – Демидовы, Строгановы, Турчаниновы, Осокины – платили лучше. А мастера-иноземцы, получая большое жалованье, отнюдь не спешили передавать знания и навыки русским. Да и на подкуп иноземцы податливы! Они подчас намеренно задерживали те или иные нововведения на казенных заводах, чаще всего по тайному сговору с Демидовыми. Их железо с маркой «Старый соболь» славилось по всей Европе. Одна Англия покупала его сотнями тысяч пудов. Казенное русское железо не выдерживало такой конкуренции.
Для Татищева не было тайной, что не только горное дело Урала и Сибири, но и судьба всей России попала в руки придворных интриганов-иноземцев, Бирона и его присных.
Малейший каприз всесильного временщика мог в любой час снова лишить Татищева и чинов, и положения в крае. Татищев прилагал все силы, чтобы сделать казенные заводы доходными. Лишь тогда удастся прибрать к рукам и подчинить своей власти Демидовых. А для этого требовалось многое. Прежде всего, найти богатое рудное месторождение и завладеть им раньше Демидовых. Требовался и приток новых средств в казенную промышленность Урала. Татищев рассчитывал, что немалые средства может дать Уралу гранильное дело. Дивные природные камни-самоцветы, отделанные вдохновенной рукой мастера-гранильщика, могут обогатить край, помочь его процветанию.
Татищев старался наладить гранильное дело русскими руками, близко не подпускал к нему иноземцев. Только со шведом Рефтом Татищев советовался в трудные минуты. Никто не смел влиять на свободный полет вдохновения русских умельцев по камню, подчинять их фантазию каким-либо иноземным шаблонам...
Крепкий табак, подаренный Берингом, уже начинал одурманивать голову. Татищева клонило ко сну. Кот забрался на генеральские колени, мурлыкал усыпляюще...
И вдруг сквозь завывания метели – колокольцы.
Ближе и ближе! Кто бы это в такую непогоду? Смолкли у самой избы... Фыранье лошадей. Голоса.
С канделябром в руке Татищев вышел в столовую.
– Кто там?
– Из Питербурху офицер.
– Проси.
Герасим пропустил в столовую молодого статного офицера.
– Да быть не может! – от удивления Татищев даже перекрестился. – Господи! Князь Дмитрий!..
4
Третьи сутки, как утихла буранная метель. Екатеринбургская крепость тонет в новых, причудливых сугробах, теряется в темноте.
В татищевской столовой на круглом столике горят свечи. Пламя то держится ровно, то начинает прыгать и помигивать, и тогда по боку свечи стекает и тут же застывает оплыв, а в горнице усиливается запах разогретого пчелиного воска.
На диване князь Дмитрий, гостящий у Татищева пятый день.
Василий Никитич Татищев, заложив руки за спину, шагает по комнате. Он в парике и мундире, но на ногах не ботфорты, а домашние туфли.
Приезд петербургского гостя взволновал горного начальника. Свежие вести о сыне, о друзьях! Письмо от секретаря Академии наук профессора Тредьяковского!..
Дни и ночи почти не расставался хозяин с гостем, а когда тот изнемогал от ночных бесед, хозяин маялся с самой нанавистной ночной собеседницей – бессонницей.
Татищев был несказанно рад, что молодой гость, сын давнишнего друга, адмирала петровского флота, так живо интересуется здешним краем. Всякий вечер, перебрав петербургские новости, разговор возвращался к Уралу.
Говорил, собственно, главным образом Татищев, а гость внимательно слушал.
Теперь, воочию увидев Урал, наслушавшись рассказов Татищева, молодой князь поверил, что самые сказочные, самые красочные небылицы об этом крае могут обернуться былью, да такой, что поспорят с любой фантастической сказкой.
Татищев рисовал князю удивительное будущее этого пока еще глухого лесного края, где человеческие законы пока бессильны перед законами суровой природы, где голоса правды и справедливости слабее жестокой силы зла, где жадность и корысть открыто становятся поперек пути добру и чести.
Но суровость здешних стихий кует характеры. Она в известной мере даже уравнивает людей. В зимний буран люди, застигнутые стихией, каких бы званий и рангов они ни были, лелеют одну мысль: как уберечь тепло жизни, сохранить тепло собственного тела под рваным ли зипуном или под медвежьим тулупом.
Жестокость природы делает людей цепкими, осмотрительными. Скупы ее житейские блага, редки улыбки. Зато как ценят их здесь!
Те, кто укорачивает свой век в шахтах, трогательно любят каждый проблеск здешнего солнца, умеют сравнить в грустной песне звезды небесные с игрой самоцветных камней. Души этих людей суровы, глаза бесстрашны: чем еще напугаешь уральского рудокопа? Чем ему пригрозишь?
Те же, кто угнетает бесправную людскую жизнь, боятся здесь темных углов, крестятся перед каждой дорогой, перед буреломом и пнем, боятся собственной тени, отражения в зеркале.
Гонимые здесь не стонут. Скрежеща зубами, накапливают годами тайный огонь мстительной злобы. Непосильные горести смывают не слезами, а соленым потом. Они твердо верят, что настанет час, когда здешний лесной закон отдаст им во власть обидчика. Верят, что за надругательство над их душами и телом расплата будет беспощадной: бултыхнется истязатель в глубину лесного озерка-омута, и последней памятью о нем разойдутся круги по черной воде, подернутой зеленоватой ряской...
Да, в этом крае жизнь и смерть, радость и страдание ступают одинаковой походкой, с развальцем; все глаза хмуро ощупывают собеседника взглядом исподлобья. Людской кровью политы не одни кожаные плети надсмотрщиков, но и ножи мстителей. Здесь порой трудно отделить честь от бесчестья... Словом, многое понял князь Дмитрий из рассказов хозяина горного края. Начинало ему казаться, что человеческие характеры, выкованные под здешним молотом страданий и борьбы, дадут когда-нибудь поколения подлинных богатырей, о которых сам буранный ветер споет еще не слыханные доселе былины!
Татищев остановился у стола, заговорил твердо и непривычно громко:
– Взял я, князь, на свои старческие плечи бремя заботы о казенных заводах. Обещал императрице их наладить и законность во всем крае утвердить, узду наложить на заводчиков, кои не хотят отучиться от пакостного уральских недр расхищения, не отдавая положенную по закону часть барышей в казну.
Князь понимающе кивнул. Татищев продолжал:
– Второй раз я здесь. Оба обещания на этот раз выполню, несмотря на все помехи, чинимые здесь и в Петербурге. Слава богу, жить в ладу с природой научился, от треска сучка не вздрагиваю. Работный люд мне верит и немало тайн мне открыл. К послушанию людей надобно приводить справедливостью. Сызмальства не любил жестокости к людям. Матушка моя учила меня быть ласковым ко всем. А царь Петр приучил к требовательности суровой, до жестокости во всяком большом деле. Так обучил, что губы от прижима к зубам стали у меня тонкими.
Молод ты, князь Дмитрий, но вижу, что, наглядевшись на теперешние дела в столице, и ты понял, елико тяжко возвеличивать родное русское достоинство перед теми, в чьих руках очутилась ныне честь Российской империи. Чай, понял, что любая заморская вонь нашим столичным вельможным лизоблюдам ароматными духами кажется, а от запаха насущного хлеба они носы затыкают кружевными платочками.
Покажет им Василий Татищев трудом уральского народа, что может Россия прожить уральским железом и медью, заперев ворота для металла иноземного.
Весной хочу по-новому взяться славу Каменного пояса утверждать. Задумал еще тогда, когда насильно и несправедливо оторвали меня от горного дела. Многими бессонными ночами обдумывал. Теперь вот решил за дело браться, никого не спросясь. Ведь валил же я в этом месте леса для завода, тоже никого о сем не спрашивая? И видишь, прав оказался!
Сейчас хочу перво-наперво культуру камня ввести.
Последние слова Татищев высказал каким-то особенным голосом, будто говорил о самом близком и сокровенном...
– Разумеешь, князь Дмитрий, что за смысл в сии слова влагаю? Об уральских самоцветах веду речь. Все драгоценные камни, известные миру, есть в уральской земле. Наличествуют в ней и такие, о коих еще нигде на свете понятия не имеют. Надо только искать. В этом мне помогут здешние горщики, а гранильщики наши оживят каменья русской искрой народного вдохновения.
Не видал ты еще лиц уральских горщиков! Подчас истинным вдохновением пылают. Что за сила колдовская у них сквозь покров земной самоцветы угадывать? Жаль, что сейчас зима, не могу тебе эту колдовскую силу на деле показать. С ними, князь Дмитрий, я еще и золото в этих горах сыщу, свое уральское золото, чтобы кичливая Европа от зависти зубами заскрипела. Сколько раз за границей мне приходилось слышать обидные слова, будто у России нет золота. А вот есть!
Татищев показал на ладони несколько тяжелых камешков с прожилками кварца.
– Минералы эти, князь, всегда в горах золоту сопутствуют. Будет и у России свое золото. И найдут его именно у нас, в крае Каменного пояса... Трудностей предвижу много. Невесело запоют мои помощники на казенных заводах. Жестоко стану вышибать из них леность, от подкупов отучать. Примусь за иноземцев. Заставлю их делом русский хлебушек отрабатывать, по-настоящему рудознатцев моих обучать. Наш мужик обученный быстро иноземцев за пояс заткнет.
– А если, Василий Никитич, твои немцы подчиниться не захотят?
– Не захотят подчиниться? Сгоню из края, пешком заставлю в свою Саксонию шагать... Немцы уже многое познали про земные тайны Урала. Знают, что нет счета его рудным кладовым. Знают – и молчат. Воруют исподтишка у меня под носом. Найдут горщики новый самоцвет, а немцы постараются его достоинства умалить. Сыскал Кожевников изумруд – охаяли иноземцы и ценность его, и цвет, а он под стать индийским оказался. Они приехали сюда учить, а не учат. Онемечивают край. В крепости у нас даже чистой русской речи без немецких слов не услышишь. Я настрого приказал по-русски говорить и крепость нашу Катерининском называть.
Немцы мой замысел уже чуют. Поняли, что не испугаюсь кое-кому и по загривку дать. Заскулят небось, как щенята. Начнут в Петербург доносы слать, а я с доносчиками намерен по-демидовски поступать. Был человек и потерялся... Не то заблудился, не то звери съели... Спорить намерен до победы или до смерти.
Генерал ушел в опочивальню за трубкой, раскурил ее от свечи.
– Вчерась ты, князь Дмитрий, меня про Демидовых расспрашивал. На Урале это сила самая могучая, но сила беззаконная и темная. Настоящую жизнь рудного Урала тульский кузнец Никита Демидов разбудил. Не объявись они здесь, ковыряли бы наши мастаки руду на казенных заводах и наплавили бы железа на несколько крыш. Демидовы Урал для России открыли, Петру помогли флот создать, войско преобразовать, врагов разбить. Демидовы – тульская щука, пущенная Петром, чтобы на Урале карась не дремал. Вот я чуть было в караси и не попал, да все ж не по зубам тульской щуке оказался.
Сановная столица считает их моими врагами. Не скрою, мне они враги, но достойные. С ними не зазорно мериться силой, не зазорно у них и учиться. Почему эти недюжинные умники стали моими врагами? Потому, что хотят жить без государственного закона. Мешают мне эти законы защищать. А служим-то мы одному делу: возвеличению края. Различие наше самое пустяшное: они воры, а я с ними в компании воровать у государства не согласен. Врагом Татищева почитают за то, что он давно их козырные карты подглядел и игру распознал.
Крепко осерчал на них, когда меня из края убрали. Прошла эта обида. Хотел бы увидеть их своими друзьями, законопослушными преобразователями уральского края. Выучка у меня петровская, умею ценить и заслуги врагов. Повторяю: я и Демидов служим государству каждый по-своему. Не будь Демидовых на Урале, не было бы здесь ни меня, ни даже моего Катерининска. В чем скрыта тайна их удач? В том, что на своих заводах все ладят русскими руками, не допускают иноземцев, до всего доходят своим разумом.
Царь Петр отдал край Никите Демидову, но осилил Урал не он, а сын Акинфий. Он для края величавее отца оказался. Отец подкупал и кланялся. Сын тяжело работает и крупно ворует.
Татищев вновь от свечи раскурил погасшую трубку и продолжал:
– Живут Демидовы по-царски, пышнее иных столичных сановников. Меня бы озолотили, да в моем мундире велю шить мельче и теснее карманы...
Чем создано богатство Демидовых? Жестоким трудом подневольного люда. Но этот люд скоро по всей Руси прослывет «уральцами» за стойкость против любых напастей. Может, сами того не хотя, Демидовы не одно железо, но и новую породу людей отковали. Работный люд Демидовых ненавидит люто, клянет каторгу демидовскую. Но достаточно царскому закону задеть права Демидовых, как ненавидящий их здешний народ встает на защиту своих хозяев-угнетателей. Не потому, что ему жаль Демидовых, а потому, что он обучен Демидовым любить потом политую землю. Демидовские люди любят уральскую землю. Она им убежище. Даже каторга заводчика подчас им милей того, что несет царский закон. Ведь от него-то родные места люди на Руси покинули.
Чтобы понять силу Демидовых, надо хоть издали глянуть на Невьянск с его каменной башней, на Тагил с его длинной плотиной, на ревдинские хоромы и Шайтанский завод. Такую силу можно только умом и терпением обратать. Криком и стуком никого тут не испугаешь. Лучшие рудные богатства, ведомые на Урале, у них в руках, и нет силы, чтобы отнять у них эти беззаконно взятые богатства. Демидовы сегодня – самая страшная, самая легендарная быль Урала. И до заключительных страниц этой были еще далеко!
Поэтому и нужно казенному Уралу сперва догнать демидовский, научиться соперничать с ним, а тогда уж и положить узду на непокорных заводчиков.
Нужно время! Нужен поиск рудных богатств! Надо делать открытия, прибирать богатства к рукам раньше дошлых демидовских приказчиков. Поэтому и заставлю немцев обучать наших искателей не так, как до сей поры обучали!
Дымя трубкой, Татищев все еще ходил по горнице. Тихо поскрипывали половицы. Одна из свечей догорела и стала гаснуть.
Князь Дмитрий поднялся с дивана и плотно прикрыл дверь из столовой в кухню.
– Позвольте от души поблагодарить вас, Василий Никитич, за доверие ко мне. До сей поры вы не торопили меня изложить главную тайную причину моего приезда, важную для всего государства. Теперь же, доверенностью осчастливленный, хотел бы открыть вам сию цель.
– Ежели есть на то право, говори.
– Прибыл во вверенный вам край из Царского Села по желанию его невольной узницы.
– Неужли не позабыла меня царевна Елизавета Петровна?
– Она вас помнит и почитает верным соратником ее великого отца.
– Царевна Елизавета! В последний раз, почитай, за год перед тем, как на Пояс податься, навещал ее. Велела обучать ее стрельбе из пистолета. Верный у нее глаз, да и рука для стрельбы крепкая. Многим в отца уродилась. Сейчас чем время коротает? Кто дружбу с ней водит? Ты возле нее?
– Да.
– А она изволит пребывать все такой же быстрой и ловкой? Также радует друзей своих беззаботным смехом?
– Редко ей теперь смеяться приходится.
– Понимаю. Одиноко ей в Царском Селе. Тесно там дочери Петровой, а в столице ныне небезопасно. Времена недобрые! Долго ли до беды, если игралищем придворных партий станет и нынешним немцам поперек пути окажется.
– После моего отбытия собирались в Курганиху волков травить.
– Понимаю. От скуки это. А ведь иная дорога ей предначертана.
– Какая дорога, ваше превосходительство?
– К родительскому престолу. Вот ее истинное место, а не в Курганихе на волчьей травле.
Татищев и гость пристально посмотрели друг на друга.
– Про тайное обещал сказать, а сам молчишь? Сам сказал, что доверие ко мне питаешь.
– Верные друзья царевны, доктор Лесток, камер-юнкер Воронцов и посланник Де ла Шатерди и еще многие другие, замыслили...
– О чем? – нетерпеливо спросил Татищев.
– Смести Бироново тиранство вместе с его царственной покровительницей. Замыслили возвести на престол царевну Елизавету Петровну. Если понадобится, даже против ее собственной воли.
– Вот, стало быть, зачем вам Татищев понадобился!
– Ежели помощь ваша и будет нужна, то только при неудаче, если задуманное не сможет осуществиться. Упредила нас царевна, что ежели замысел неуспешен окажется и императрицей она не станет, то с земли русской за границу не укроется, а будет искать пристанища у вас на Каменном поясе, как тысячи прочих русских людей, обиженных, недовольных и непокорных. Царствование Анны Иоанновны несчастно для России. Разгул курляндского временщика дорого стоит государству.
– Так вот почему меня про Каменный пояс пытал? Ну что ж! Царевне пора быть императрицей. Пора по России погулять чистому ветру и выдуть с ее просторов дух Курляндского конюха. Как знать, может, в царевне отцовская воля воскреснет. Тогда сызнова сыщутся люди, способные под скипетром Елизаветы Петровны славу отцовской эпохи возродить.
– Стало быть, вы, ваше превосходительство?..
– С вами. За тысячи верст буду мысленно с вами в тот светлый час. И ежели, не приведи господь, случится какая беда, немедля везите сюда царевну. Так ото всех укрою, что вовек никто тропы не сыщет.
– Благодарю вас.
– Не благодари. Для Василия Татищева дочь Петра на престоле России – последняя заветная мечта. Хочу дожить до той минуты, живыми глазами все это увидеть. Смотрите, не сробейте: позора дочери и покойный царь не стерпит, всех вас со света сживет. Главное: дочь царя с именем первого христова апостола должна взойти на престол российский только русской отвагой и смелостью!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Над Невьянским заводом, главным уральским гнездом Демидовых, прочно свитом за тридцать три года на берегах Нейвы, полная февральская луна блестела огромным серебряным рублевиком. Ночь выдалась морозная.
От семи дозорных башен на снежных холмах-сугробах вытянулись, изогнувшись, полосы четких синих теней. Легкий ветерок расстилал по сугробам рваные холсты сыпучей поземки.
Самая длинная полоса тени пала на снега от плотинной каменной Наклонной башни. Перекинулась эта тень через гребень стены на плотину, перекрыла откосы насыпи и уползла дальше, на белизну снежных просторов пруда. Высота Наклонной башни – двадцать семь сажен, а тень ее на лунных снегах без малого вдвое длиннее.
Для душевного покоя Акинфия Никитича Демидова, по его воле, каменная башня Невьянска выстроена схоже с башнями Московского Кремля. С наклоном излажена она оттого, что в Петербурге довелось всесильному заводчику наслышаться, будто на италийской земле, в городе Пизе, стоит для устрашения народа башня, готовая упасть.
Наклон невьянской башни – на юго-запад, в сторону пруда, и в сознании невьянцев крепко угнездилась тревожная мысль, что при падении она обязательно разворотит плотину пруда, выпустит из нею запруженную воду, и тогда неистовый вал смоет с лица земли все живое на десятки верст.
Два года возводили башню, поднимали ее в высоту. Немало рабочего люда померло на ее стройке. Башню по московскому образцу строил иноземный зодчий. Для кладки обжигали особый по величине и весу подпятный кирпич. Кладку стен вязали железными прутьями и полосами. Косяки дверей и окон отливали из чугуна. Выводили башню в строгом секрете за высокими заплотами. Народ и близко не подпускали. Выложили под башней просторные подземелья, соединили потайным ходом с подземельем хозяйского дворца. А еще из башенного подземелья прорыли тайный лаз к пруду, перекрыли шлюзовой перемычкой... Откроешь перемычку – хлынет вода прямо в подземелье.
Первые десять сажен над землей башня четырехугольная и гладкая. Эта часть по-каменщицки зовется четвериком. Выше три яруса восьмигранных, или восьмерика, один над другим. У каждого яруса свой карниз и открытая ходовая галерея с чугунными перилами-решетками. Грани ярусов украшены колонками, двери и окна – наличниками. Золоченая крыша сведена на конус и увенчана шпилем, на котором прилажена ветренница под чугунным шаром с раззолоченными иглами.
Во втором ярусе башни устроены часы с голландскими курантами, белые круги мраморных циферблатов глядят на все четыре стороны. Куранты вызванивали четверти и получасья, а после каждого часа играли музыку...
Нарушая звенящую тишину лунной ночи, совсем близко от жилья выли волки.
На башне колокол вызванивал одиннадцатый час, и едва только смолк последний удар, как куранты заиграли мелодию менуэта. Мелодия ласковая и нежная, хотя не совсем чиста по тональности: знать, небрежно иноземцы отлили колокола курантов.
Отыграли куранты положенные минуты, и опять тревожили зимнюю тишину только волчьи песни.
Невьянск спал.
Спал в лунном свете старейший в крае завод Демидовых, оцепленный со всех сторон грудами слободских изб и сараев, переметенных сугробными снегами...
В самом нижнем окне башенного четверика от тусклого света искрится налет инея на промерзшей слюде. Едва приметное желтое пятно легло от окна на гребень сугроба, наметенного у стены.
В горнице башенного старшины сводчатый потолок весь в узорах древнерусского орнамента. Теплилась лампада перед образом Стефана Великопермского в литом из чугуна киоте. Свет от лампады не велик, но достаточен, чтобы заменить темень полумраком.
Заставлена горница литыми из чугуна гробами. На одном из них, возле стола, налажена постель. Поверх чугунной крышки постланы доски, а на них раскинут волчий тулуп. Занимал это ложе старшина башни, беглый стрелец Савва, родом из Мурома. Он не спал, а лишь смежил веки в дремоте. Изредка поглядывал из-под кустистых бровей на огонек лампады и зыбкие тени на сводах.
Его старческому бдению вверен невьянским хозяином догляд за Наклонной башней. За особую верность поручил ему Акинфий Никитич стеречь все башенные тайны. Савва осведомлен обо всем, что сотворено Демидовыми в уральском крае.
Наблюдал он в оба глаза и за стройкой башни, помнит, как ложилась в кладку каждая кирпичина, весившая по двадцать фунтов. Не позабыл, как выводились своды подземелий и переходов. Знал, где по каплям сочится из трещин влага. Наизусть помнил в башне любую крысиную нору. Мог в темноте, на ощупь пройти из башенных подземелий в подземелья хозяйского дворца. Не раз доглядывал за каменщиками и своими глазами видел, как хозяева, хороня концы, вмуровывали в стену подземелья изобличенных жалобщиков и доносчиков, замученных на пытках. Савве была ведома и главная тайна башни: он знал, как надо разом отворить разбухшие от сырости дубовые пластины шлюза, чтобы водой из пруда залить все подземелья башни и дворца.
Как вчерашний день, помнит Савва стройку башни. Выжившие на ней каменщики, работники и сам иноземный зодчий в благодарность за труды награждены хозяином по-демидовски: этих людей цепями приковали к тачкам и тайком сгноили в рудниках Урала и Колывани.
Савва понимал: не будь под башней тайных подземелий, хозяин не пожалел бы золота умелым строителям. Но люди, осведомленные о подземельях, были опасны хозяину. Языки у них – не на привязи, могут, совсем невзначай, проговориться о тайном устройстве башни: потому вместо золота строители, все до единого, получили наградой медленную смерть.
На крутом веретене свита суровая нитка Саввиной судьбы. Тридцать пять лет назад, еще в Туле, заплелась она в один клубок с судьбой демидовского рода. Савва на стрелецкой службе бунтовал в Москве, держась за князя Хованского. Царевна София примяла бунт. Савве посчастливилось уйти от петли, укрывшись в копоти демидовской кузницы. Силы работной в ту пору в Савве было много, а Демидовы не чурались виноватых рук, если они были сноровисты и сильны.
Вместе с Акинфием Демидовым Савва отправился на Пояс как раз в те годы, когда здешний никудышный казенный завод, называвшийся Федьковским, перелаживали на демидовский уклад в нынешний Невьянский. Ходил тогда Савва правой пристяжной у коренного приказчика Мосолова. Правил Савва стройкой новой плотины, запруживая полноводную Нейву, чтобы в котловине гор на месте непроходимых топей разлился заводский пруд. В полторы версты длиной выкатали для этого плотину, замаривая людей трудом и голодом. От всяких болезней мерли люди, бутившие камень и вбивавшие сваи; мерли, заедаемые гнусом и комарьем, падали под ударами плетей, но новый пруд для обжимных молотов и домен получился на славу.
Гибли люди сотнями, тонули в болотной жиже, обретали сырую могилу без отпевания и погребения. Богатыри строили плотину, но и богатырской силы хватало ненадолго. Не бывать Невьянску, кабы не эти беглые богатыри, покидавшие Русь из-за спора о вере. Не бывать Невьянску, кабы сын Никиты Демидова Акинфий не имел верных приказчиков вроде Мосолова и Саввы, у кого вместо сердца – камень, вместо души – звериная злоба, вместо доброго слова – матерное.
Запрудили Нейву. Обуздали ее. Савва стал приказчиком Невьянска. Это он придумал и завел Ялупанов остров в трясинах. Там в «годовых избах» простых, российских людей обращали в людей демидовских: беглого крестьянина, солдата или мастерового держали на острове до тех пор, пока он не зарастал до звериного обличья бородой и волосами. В таком неузнаваемом виде человек и становился пригодным для невьянских рудников.
Жестокостью над подневольными людьми Савва каменил в себе человеческие чувства. Это по его сметке работа на демидовских заводах и рудниках стала каторгой. Своими выдумками Савва затыкал за пояс даже Мосолова. Угождая хозяину, Савва не думал ни о собственной душе, ни о старости, а она, подкравшись исподволь, вдруг стала подвергать его окаменевшее сердце неожиданным испытаниям.
Сначала завелся страх перед темнотой. Савва стал бояться темных углов, озирался, ожидая нож в спину. Познал лютую муку ночной бессонницы. Будто сквозь стену явственно слышал людские проклятия и стоны. Дальше пошло хуже: стал размякать от зрелища пыток и мучительства. Другой раз слезу из глаз вышибало.
Акинфий первый приметил эти признаки старости у Саввы. Уверенный в его собачьей преданности, хозяин послал уставшего от жизни стрельца на покой, сделал старшиной башни.
Пятый год блюдет он ее тайну. Никакая пытка не заставит его рассказать правду о том, чему стал свидетелем за тридцать три года невьянской службы у Демидовых.
Сквозь дремоту Савва слышал и одиннадцатичасовый колокол, и игру курантов. Старик поднялся со своего ложа, нащупал под столом железный фонарь, затеплил в нем свечку. Разгоревшись, она сильнее осветила горницу и самого Савву.
Высокий. Худой. Сгорбленный. Косая сажень обвислых плеч. Ржавая седина бороды. Некогда пышная копна волос давно вылезла: остались редкие пряди над ушами да на затылке. Восковая желтизна морщинистого лица. Узловатые вены высохших рук.
Надев волчий тулуп, Савва несколько раз толкнул окованную железом, примороженную стужей дверь. Она поддалась, когда он с силой навалился плечом. Визгливо заскрипели петли, дверь отворилась в студеную темноту.
– Благослови осподи!
Старик осветил фонарем крутую лестницу вверх, стал медленно подниматься по ступенькам, прислушиваясь к вздохам часового маятника. Они все ближе, слышней. Вот и второй башенный ярус. Тут, внутри, светло от луны: она заглядывает в окна сквозь ажур чугунных решеток, устилает пол теневым кружевом.
Привычным взглядом окинул Савва внутренние стены и сводчатые потолки восьмерика. Все давно знакомо. Механизм часов на толстых чугунных балках. Как раз над головой старика, на цепях, надетых на крюки, вмурованные в потолок, повис большой колокол. Возле часового механизма прилажен на полом медном валу удлиненный барабан. Он соединен с часами сложной передачей из медных шестерен. Напротив барабана, у окон, развешаны рядами колокола, разные по тону и размерам. Утыканный шипами барабан неприметно вращается. В положенное время его шипы задевают клавиатуру из медных угольников. От тех натянуты просмоленные веревки к колоколам. Шип отклоняет угольник вниз, оттягивая язык и молоток колокола. Всякий звонит своим тоном, отбивая четверти и получасья. После каждого вызвона большого колокола вступают куранты. Барабан позволяет играть два мотива: менуэт и бравурный марш. Особым рычагом можно менять одну мелодию на другую.
От мороза все колокола поседели. Блестками сверкал на них в лунном свете иней. Савва посветил фонарем в колодец, где раскачивался маятник и висели на толстых канатах многопудовые гири: две – для часов, а третья – для пролома шлюзового люка, если при крайней надобности заест... При каждом обходе Савва заглядывает в этот колодец и каждый раз испытывает страх... Проклятая служба! Но хозяйского наказа не ослушаешься. Всегда перед полуночью старик обходит башню, поднимается до самого верхнего яруса, проверяет, не спит ли дозорный на последней обходной галерее.
Неторопливыми шагами с лестницы на лестницу Савва поднялся туда, уже тяжело дыша. Двадцать семь сажен!
В полосе лунного света, укутавшись с головой в тулуп, дремал у стены дозорный. Савва пнул его в бок.
– Спишь, ирод? В дозоре спишь?
Дозорный проворно вскочил при виде злого старческого лица, виновато залепетал:
– Поостыл малость. На дрему склонило. Страсть, как студено седни.
Заслонив фонарь от ночного ветра, Савва вышел на галерею. Далеко в такую светлую ночь видать с башни! На много верст вырублены дремучие леса. Из усторожливости! Особенно далеко утянулись порубки вдоль дорог в города Верхотурье и Екатеринбург, ибо по этим дорогам чаще всего и скакали нежелательные хозяину гости: воеводы, чиновники и всяческие столичные посланцы.
Правда, в самые последние годы дозорные все реже и реже углядывали на этих дорогах непрошеных приезжих. Савве уж давненько не приходилось переводить куранты с минорного менуэта на мажорный военный марш. А ведь раньше такие тревоги случались раза по три на неделе. Гости, слушая музыку марша, думали, что таков здесь ритуал почетной встречи, а на заводе всякий знал, что делать или куда прятаться, чтобы не означить своего существования у Демидова перед теми, кому про то знать не полагалось.
Обходя галерею, Савва видел голую березовую рощу в парке около хозяйского каменного дворца, домны, слободские избы.
Кругом – сияющие снега в ободе дальних лесов.
Невьянские снега переливались красными, золотыми, серебряными и синими алмазными вспышками. На снегу – торные, едва приметные тропы и дороги. Во всех направлениях пересекает их путаная, сверху невидимая паутина волчьих, заячьих и людских следов.
Ничего тревожного не приметил Савва. Людской жизни на этих снежных просторах будто и не бывало. Зато целые стаи волков открыто маячили на серебристой парче невьянского пруда.
Теперь-то это голодное зверье уж не так близко подходит к заводу, а бывало, что волки выли прямо под заводскими стенами и под окнами хозяйских хором. Со старых деревянных башен палили по волкам из пушек. Старик Никита волчьего воя не терпел. Велит растворить ворота, выходит в поле и давай крушить волков железным прутом. Ведь один на один эдак-то выходил, а то псов-волкодавов с собой брал.
Акинфий Никитич волчьего воя не боялся. Да ему и не слышно за толстыми стенами каменного дворца. Нынешний хозяин Невьянска, не в пример покойному родителю, не любил открытых встреч с враждебным зверьем. Впрочем, не любил таких встреч и с врагом-человеком. Приучился наносить удар в спину, не глядя в глаза убиваемым.
Обойдя ярус раза четыре, Савва почувствовал холод: не покрыта голова. У двери старик поднес кулак к лицу дозорного:
– Мотри, тверской боров, в оба зырь! Ежели потянет ко сну – о косяк тюкнись лбом для пробудки. Хуже будет, коли повелю плетью от сонливости отучивать.
Старик опять взял фонарь и стал спускаться по лестнице, крестя перед собой темноту...
В своей горнице, пропахшей квашеной капустой, Савва погрел руки на чугунных плитках хорошо истопленной печки. Стало клонить ко сну, хотел лечь на тулуп, да прислушался к гулу из подземелья. Возле киота нагнулся и открыл слуховой люк. Поют! Кандальники, чеканившие в башенном подземелье серебряные рубли, пели хором тягучую старинную песню. Выводили напев дружно. Пели от тоски по живому свету, от бессонницы, потеряв счет времени.
В Саввину горницу наползла из открытого люка затхлая, смрадная сырость.
Третий год в подземелье чеканил Акинфий Никитич серебряные рубли из своего колыванского металла. Лишь когда кто-либо из чеканщиков отдавал богу душу, остывший труп выносили ночной порой на чистый воздух, по которому так тосковали живые. Обернутое рогожей тело зарывали на погосте, забывая поставить крест, но никогда не забывая заменить умершего рабочего живым.
Демидову нужны рубли! Сколько ни чекань, все никак не насыплешь доверху пустые дырявые карманы петербургских придворных, от кого зависят царицыны милости...
Чеканили рубли под башней, в ивовых коробах прятали в тайниках дворца, а то и в чугунных гробах. Кому в голову взбредет, что Демидов хранит в гробах свое серебро!
Савва любил засыпать с открытым люком под песни кандальников. А вот сегодня не спится. Нынче заглядывала в башню Сусанна Захаровна, хозяйская полюбовница из московских купчих. Приходила полюбоваться сверху снегами под солнышком. Только какая-то хмурая была, тревожная. Ее греховная красота не оставляла равнодушным и Савву. Старик знал, что нашел ее Акинфий Никитич в Москве. Была замужем, и Демидов увлек ее супруга небывалыми посулами насчет торговли в Невьянске. Купец позарился на прибыльное дело с мягкой рухлядью и долго уговаривать себя не заставил. Не кому иному, как Савве, Акинфий наказал побыстрее и ловчее сделать Сусанну вдовицей. Савва подготовил ухорезов с Ялупанова острова. Подкараулили купеческий обоз возле Чусовой. Купец в свалке без головы остался, а ямщик, демидовский человек, примчал перепуганную насмерть купчиху прямо во дворец Демидова. Тот довольно быстро сумел утешить красавицу...
За годы Сусанна приобыкла к Невьянску, почувствовала себя хозяйкой, только что не венчанной по закону. Помыкала хозяином, вертела им, как хотела. Но от чужого взгляда ее берегли, дальше заводских ворот не пускали. Тоже, стало быть, демидовской сделалась, хотя волосами не обрастала и звериного вида не обрела. Но московские родственники давно поминки по ней сотворили, узнав, что, мол, преставилась на глухой дороге вместе с муженьком, погибнув от разбойной руки.
Лежал Савва, размышляя о странной тревоге на лице Сусанны. Не мог понять, отчего бы она. Про все демидовское Савва помнил всегда, обо всем ихнем печалился, пособить старался... Известное дело: топором без топорища лесины не срубишь...
2
Демидовский дворец в Невьянске невдалеке от Наклонной башни. Подступал к огромному двухэтажному зданию густой парк, обнесенный каменной оградой с чугунными решетками вроде тех, какие заказывали демидовским литейщикам петербургские вельможи для столичных дворцов.
Просторна анфилада парадных дворцовых покоев и залов. Строили дворец четверть века назад, после того как деревянные хоромы дважды горели. Дворец ставили по чертежам иноземного архитектора, прибывшего из Петербурга. Личным доглядом Акинфий проверял все мелочи в этой каменной громаде, памятуя совет отца, что Демидовым подобает строиться не на один век.
Мрачен фасад, обращенный к заводу. Зато в парк дворец выходит нарядным фасадом с лепными орнаментами, колоннами, балконами и крыльцами.
Лиственный парк возник на месте первоначальной уральской тайги. Хозяева сразу начали наводить в этом лесу новые порядки, расчищать участок от бурелома. Акинфий унаследовал от матери любовь к липам и березам. Сотни вековых, матерых хвойных лесин были вырублены. Пни с корнями выжжены, и на местах порубок насажены березки и липы, кусты акации и сирени, привезенные с родной тульской земли.
Тоскуя по матери и скучая по жене (отец не дозволил взять ее на Каменный пояс), Акинфий заботливо пестовал вновь насаженные березовые и липовые рощи. Молодой человек, привязанный к матери и жене, очутился здесь в первобытных условиях. Первобытной была не только природа, не только лесные звери, но и люди, с которыми сразу пришлось столкнуться. И Акинфий быстро понял, что здесь надобен особый склад характера. Пришлось кулаком вдалбливать спившемуся царскому подьячему, что завод и рудные месторождения поступают к новому хозяину и что отныне его чиновничья спесь должна стушеваться перед властью демидовского рода.
И жестокость рано свила гнездо в этой заранее уготованной к тому душе. Ее питала ранняя озлобленность от нерадостной жизни с колыбели, тяжкий для мальчика труд у кузнечного горна. Но была в Акинфии и природная ласковость, долго боровшаяся с жестокостью жизни и борьбы. Случалось ему испытывать приступы тоски, страха перед звериными повадками в здешнем быту, случалось искать душевного покоя в шелесте молодых насаженных березок.
Тоскуя по жене, забывался с другими женщинами, напоследок с Сусанной. От покорной жены начал уже отвыкать, и наконец нежданно дошла до него весть о ее смерти. С тех пор стал еще больше дорожить Сусанной.
За тридцать три года березовые и липовые рощи разрослись, окружив дворец живыми черно-белыми колоннами.
В эту зимнюю ночь они стояли омертвелые среди снегов, все в плюше инея. От этого ветви их казались ломкими, ледяными. Сугробы под ними застелены замысловатой вязью узорчатых теней. Тени от лип и берез легли и на фасад дома, на стены и колонны, словно глубокие трещины. Промерзшие стекла в окнах мороз расписал узорами фантастического аканта.
В дальнем крыле дворца, куда близко подступали березы, горит свет в трех окнах второго этажа, не задернутых шторами. Это опочивальня Сусанны.
По огромному дому разносится собачий вой, слышимый даже наруже, в парке: это в двух комнатах нижнего этажа из-за морозов поместили лучших хозяйских борзых с псарного двора.
За четверть века хозяева сказочно обставили свой дворец. Убранство его привезено из-за границы или создано лучшими русскими мастерами-умельцами. Хрусталь и мрамор, яшма и малахит, бронза и красное дерево, ковры, парча, шелк – все эти красоты и ценности щедро декорировали все покои и залы дворца. Нагромождение этих красот доходило до безвкусицы, несмотря на баснословную ценность и прелесть этих гарнитуров и декора.
Всю роскошь демидовского дома добыли хозяевам из уральской земли, под свист плетей, подневольные трудовые руки. Из мира, где замерзший воробей привлекает больше внимания, чем человеческий труп, гость, входивший с завода во дворец, попадал в мир легендарного великолепия. Вместо нищеты, ругани, побоев и стонов здесь царили негромкие женские голоса, тихие шепоты великолепных часов, перезвоны хрусталя и поскрипывание лакированных половиц.
И уж самому Акинфию Демидову порой не верилось, что лежал он некогда, забытый в люльке, пока мать хлопотала по хозяйству, предоставляя ему собственным теплом высушивать мокро на убогих пеленках; что в молодости его спину калила стужа, пока лицо и грудь заливал пот от жара пылающего горна. Теперь же, в невьянском дворце, десятки слуг предупреждали каждое желание, оберегали хозяина от малейшего неудобства.
* * *
Надрывный вой борзых разносился по всему дворцу. Он нагонял тоску на обитательниц красной комнаты, самой близкой к тем двум, что были отведены для обогрева демидовских борзых от зимней стужи.
Челядь называла комнату борзых «барской», а красную комнату «сучьей». Жили в ней девушки, предназначенные для любовных утех хозяйских гостей.
Кресло, обитое синим бархатом, стояло в комнате у самых дверей. Развалившись в нем, спала доглядчица за девушками, старуха Маремьяна – толстогубая, крючконосая, заплывшая жиром, одетая в бархатный бурнус с кружевами. Спала с разинутым ртом, укутав голову шалью. Из-за одышки она всегда засыпала сидя.
Печи истоплены жарко. Духота, насыщенная пряными запахами. Огонек лампады перед иконой. На чугунном столике с мраморной доской горят несколько свечей в канделябре, освещают лежащую на диване курносую пригожую Машку. В кресле рядом – дебелая, русоволосая Танька с вязаньем в руках, а рядом на ковре примостилась молодая синеглазая монашка. Неделю назад ее поймали верховые дозорные на екатеринбургской дороге. Монашку уже дважды жестоко били, требуя открыть свое имя и назвать обитель, откуда сбежала. Очутилась она в руках демидовских дозорных случайно: не захотела обойти Невьянск окольной дорогой, брести по лесным сугробам...
Вдоль стены пять кроватей в ряд. На одной из них спит сенная девушка Настенька.
Громко зевнув, Машка потянулась, хрустнула пальцами, сказала капризно:
– Кваску бы студеного! Жарища у нас, что в бане.
Танька искоса глянула на Машку:
– Пар костей не ломит. Жарко – разболокись. От кваса на тебя икота нападает.
– И то правда... Слышь, Тань, как воют, окаянные?
– Не глухая.
– Ведь опять соснуть ладом не дадут. Уж не к покойнику ли в доме?
– Типун тебе на язык. Не каркай на ночь глядя! – Танька перекрестилась. – Право слово, Машка, завсегда ты будто ворона.
– А скажешь, не угадываю я загодя покойников?
– Потому и помолчи.
– Ладно. Боишься покойников?
– Помолчи. Отвернись к стене – разом заснешь.
– А мне спать-то и неохота. Лучше на огоньки глядеть. Девчонкой еще огоньки пуще всего любила. Особенно в костре-теплинке. Искорки летят, головешки потрескивают, а ты глядишь и о своем раздумываешь. Стану на свечки глядеть, все – огоньки живые.
Безразлично слушая разговор новых товарок, монашка вдруг спросила:
– Пошто это у вас псов в барских покоях держат?
– От стужи берегут. Дорогие. Иные бабьим молоком выкормлены.
– Господи!
– А ты, Машка, – строго сказала Танька, – не торопись сор из избы выносить.
– Обет молчания не давала. Пусть люди знают, – громко и зло произнесла Машка. – Вон у христовой невесты даже рот распахнулся, до того порядкам нашим дивится. Думает, сбрехнула я попусту. А вот и расскажу ей, как у нас щенят борзых женской грудью вспоили.
– Замолчала бы, Машка!
– Отвяжись, Танька! Не стану молчать. Слушай, смиренница божья: ощенилась у нас, стало быть, сука да от родов и издохла. А хозяин сбирался из этого приплода самой царице подарок сделать – она, говорят, до борзых великая охотница. Велел хозяин из слободки углежогов двух баб привести, у коих грудные младенцы. Вот полных две недели щенята бабьи груди и сосали.
– А ребятишки с голодухи померли?
– На коровьем отсиделись. Невьянские ребята живучие, без хозяйского дозволения помирать не смеют.
– Неужли правду сказала? – Монашка удивленно смотрела на Таньку, а та утвердительно кивнула головой. – Страсти какие! Прямо боязно поверить.
– У нас такое не в диковинку. – Машка понизила голос до шепота и оглянулась на Маремьяну. Та по-прежнему спала с открытым ртом. – Здесь, в доме, во всяком углу загубленные схоронены, а души их ночами по покоям бродят. Много у нас страшнущего, только мы приобыкли и уж не пужаемся. Меня вот Машкой поп крестил, а по воле хозяина ноне Венеркой величают.
– Пошто здеся оказалась?
– Как-то в гости зашла да и засиделась.
Танька хихикнула.
– Ах, Машка! Ну, язык у тебя!
– Ты, сестрица, не шути надо мною, а скажи мне правду. Ведь чужая я здесь, дико мне все.
– Ежели правду, то слушай. Силком заволокли.
– Вдовицы вы, что ли?
– И то. Почитай что вдовицы.
– Мужики-то ваши... где?
– Раньше свадьбы померли. Ты дурочку из себя не строй, не прикидывайся. Должна понимать, что у Демидовых любая девка в любой час вдовой может обернуться. Опять рот разинула? Мы с Танькой из Ревды. Сиротки. Там эдакий же дворец стоит, а живет в нем полоумный братец нашего хозяина, Никита Никитич. Он-то и повенчал нас с упокойниками. Мужики, что задавлены обвалом в шахте, – чем не мужья? Ласку нашу испробовал. Не по вкусу пришлась. Не угодили. Сюда, в Невьянск, и отослал, знатных гостей согревать да в баньке парить. Пока молоды – у хозяев живем. Потом к приказчикам попадем, а уж дальше судьба известная: шахта, лесосплав, завод, погост. Хозяин у нас добрый, жалостливый. Днем о нас печалится, ночью утешает. Видишь, поближе к собачкам любимым поместил...
Машка стиснула зубы, погрозила в темноту кулаком, покосилась в сторону Маремьяны.
– Сестрицы вы мои сердешные!
– Тебе, стало быть, нас жалко?
– Как же не жалко-то? Душа за вас болит.
– Ну и дура! В рясе, а все одно дура. Себя пожалей.
– Меня господь сохранит.
– Ну уж коли сюда тебя одну отпустил, на дороге не уберег, значит, плохо твое дело. Коли защитить тебя вздумает – все одно ему здесь дверей не отворят.
– Не кощунствуй, сестрица. Грех такое и помыслить.
– Эх ты, христова невеста! Поживешь – сама всего здесь насмотришься. Я тоже иную участь в жизни ждала. Парня Ваську любила. Уж под венец хотела, да невзначай параличному хозяину на глаза попалась. А теперича что? Вишь, какое богатство кругом!
Машка с ожесточением плюнула на ковер, закинула руки за голову.
– Эх, на Настеньку-то гляньте. Как младенец спит! Чистую душу и собачье вытье не будит.
– Не обессудьте за правду: она всех подруг краше, – сказала монашка.
– Она у нас царевна-хромоножка: от рождения одна нога чуть короче другой. Душа ангельская, ласковая да безропотная. Улыбнется – так дикий зверь смиряется.
– Тоже с мертвым была повенчана?
– Нет. Сынок хозяйский, Прокопушко, ее из Осокинского завода привез себе на забаву. Выкупил девку за пятнадцать рубликов серебром. Ласковый детинушка! А приласкает так обходительно, что синячка не посадит.
Машка присела на постель к Настеньке, погладила спящую. Спросила у монашки шепотом:
– Пошто в монастырь ушла? Ведь тоже красивой уродилась, как посмотреть на тебя.
– По воле божьей.
– Чья будешь?
– Богова.
– Таишься? Нам-то откройся, не выдадим. Лешачихи Маремьяны не бойся. Глуховата и спит крепко, с чертями во сне лобызается. Откройся! Все одно тебе с нами жить. Помрет кто на домне либо кто из мужиков на Ялупане, тебя с ним и повенчают. Что настоящего имени твоего крещеного не назовешь – хозяевам все равно, потому как другое тебе придумают, не остановятся... Даже в рясе на тебя поглядеть любо. Тесно в ней телу молодому, чай, видать... Значит, гостю тебя по первости хорошему отдадут.
– Он мной подавится. Слово такое ведаю. Шепну его в оба кулака – и любой мужик немощным станет.
– Неужли?
– Право слово. Вот теперича рты воротами вы обе растворили!
– Скажи нам то слово. Знаешь, какие иной раз слюнявые господа бывают.
– Сказать могу. Только силу оно в ваших устах не наберет – лишь монашескую чистоту мое слово оберегает.
И вдруг, неожиданно для собеседниц, резко, грубо заорала на новенькую Маремьяна:
– Врешь, ворона! Пятки мои сгори огнем, если ты на самом деле монашка. Небось по наказу ворогов нашего хозяина-батюшки в рясу обряжена, чтобы тайно на него донос пронести. Девок мутить вздумала?
Кряхтя, Маремьяна слезла с кресла и просеменила к монашке.
– Не черница ты! Дьяволова пособница.
– Креста на тебе, бабушка, нет, ежели такое молвишь.
– Как креста нет? Какое слово посмела сказать? Вставай передо мной на колени, а то лупить начну.
– Лупи. Перетерплю.
– Ах ты, супротивница!
Маремьяна схватила монашку за апостольник, сорвала с головы. Рассыпались по плечам золотистые шелковые волосы. Отчаянный крик молодой монахини разбудил Настеньку.
– Чего развозились, милые? Аль не спится?
Маремьяна, погрозив монашке кулаком, залебезила перед Настенькой:
– Прости, голубушка. Вспенила меня эта паскуда своим враньем.
– До утра бы дождалась с битьем-то. Злющая ты, бабушка Маремьяна.
– Не осуждай старуху, Настенька, – наставительно сказала Маремьяна. – Сон плохой глядела, вот и осерчала на приблудшую овцу за ее скрытность да вранье.
– Опять псы воют?
– Воют, Настенька. Луна и песий сон тревожит. Вот и развылись. Здесь псы, а за околицей – волки.
– По тебе, поди, панихидку и те, и те выпевают, – зло ухмыльнулась Танька.
Маремьяна было набросилась на Таньку, но остановилась, смущенная спокойствием дородной насмешницы.
– Только тронь! Всю скулу набок сверну. Ручка-то у меня гладенька, да увесиста.
– Рук о тебя не опоганю, а вот Самойлычу завтра пожалюсь.
– Что ж, жалься. Только и про тебя можно кое-что Сусанне сказать. Она-то тебя не больно жалует. Без Самойлыча тебе хвост прижмет.
– Ведьма ты болотная. Оборотень!
– В болотах русалки, а оборотни, чай, в лесу да в поле... Совсем спятила, лешачиха! Отойди, а то дух от тебя смрадный.
– Настенька! Хоть ты урезонь Таньку!
Маремьяна, всхлипывая, вернулась в кресло. Машка подсела к Тане.
– Давай, Танюша, песни петь. Песий вой все равно спать не даст.
Танька погладила Машкины руки.
– И то! Споем вполголоса. Настенька, слушай свою любимую про вьюжицу-метелицу...
3
Акинфий Никитич в эту ночь не спал. Он дважды ложился в постель, но сон бежал прочь, хотя не было ни особых забот, ни тревожных дум. Не спал просто из-за полной луны. Шторы, правда, задернуты, но луна просочилась в опочивальню к заводчику и привела в гости бессонницу с линялыми глазами.
В лунные ночи Акинфий особенно томился по женской ласке, а Сусанна больше месяца к себе не допускает за то, что отослал в Петербург жадному на подарки Бирону тройку ее серых. Сусанна не пожелала и слышать оправданий и объяснений. Мол, подарить временщику этих великолепных коней просто крайне необходимо. На имя государыни-императрицы поступило несколько немаловажных доносов. Перехватить их может только Бирон... Вот и пришлось спешно пожертвовать конями. Не захотела всего этого понять Сусанна!
За все пятьдесят восемь лет жизни ни одна женщина не имела над ним такой власти. Сумела заворожить и околдовать. Заставила поверить, что в ее любви – вся отрада бытия. Теперь душевный покой Акинфия в руках этой женщины.
Свой душевный покой он потерял еще в Москве, когда впервые встретил взгляд ее темных, таких загадочных глаз. Из-за них-то и пошел на лихое дело. Оставшись вдовой, она с кошачьей повадкой приласкалась к мнимому избавителю, навсегда отуманив ясность его разума. Узелок завязался так крепко, что не было у Акинфия воли и силы его развязать.
Месяц заперта для него дверь в опочивальню Сусанны. Месяц он не видел ее глаз, не слышал ласковых слов. Самые затейливые заморские подарки не смягчили ее гнева. Он чувствовал себя виноватым. Он, не боявшийся смотреть в глаза Петру, Екатерине, Бирону, не смел в собственном дворце подняться на второй этаж и постучать к Сусанне.
Акинфий коротал ночь в кресле.
На спинке этого кресла вышит цветными шелками герб новых нижегородских дворян – Демидовых. Выполняя волю Петра, его вдова Екатерина Первая, сделала тульского кузнеца Никиту Антуфьева потомственным дворянином. По имени деда, Демида Антуфьева, новому дворянскому роду присвоили фамилию Демидовы...
В исподнем шелковом французском белье и длинном халате из лисиц-огневок дворянин Акинфий Демидов сидел в своем кресле у горящего камина, грел у огня ноги, измученные ревматизмом.
Березовые дрова в камине потрескивают, то разгораются, то притухают. Свет живого пламени ложится отблеском на лицо Акинфия. Дряблые щеки гладко выбриты. Под глазами отечные мешки. На выпуклом лбу морщины. Волосы сильно поседели, подстрижены коротко. Складки под подбородком.
Демидов прислушивался к собачьему вою, а мысли его, как всегда при бессоннице, лениво бередили память. Одной из этих навязчивых мыслей Акинфий боялся. Его начинала тревожить ревность. Он боялся, что Сусанна может изменить ему. Ревновал ее к сыну Прокопию, заметив, что прошлой осенью, когда Прокопий жил на заводе, он дарил Сусанну своим вниманием. Акинфий внимательно следил тогда за сыном сам и через некоторых верных людей. Однако ничего подозрительного не приметил.
Своего сына Акинфий знал плохо. Тот вырос в столице, при деде Никите; побывал во многих странах, перенял манеры и повадки настоящего барина. Знал Акинфий и про то, что сын уже славился выходками и причудами.
Когда сын приехал на Урал, отец обрадовался, видя, с каким интересом молодой человек присматривался к заводскому делу, готовясь во всеоружии стать на место отца. Но внимание сына к Сусанне расстроило Акинфия не на шутку. Он с охотой воспользовался первым же случаем отослать сына в столицу по делам.
После отъезда Прокопия на душе стало спокойней, ревность тревожила реже, но совсем не исчезла. Неожиданные капризы Сусанны невольно наводили подчас на новые подозрения. Порой лицо Акинфия покрывалось багровыми пятнами гнева. Он негодовал на собственную трусость перед этой подвластной ему женщиной. Почему он не мог по-демидовски властно подчинять себе любовницу и, напротив, сам подчинялся и уступал ее прихотям?
Спальня Акинфия до половины облицована белым мрамором с красными жилами. Верхняя часть стен покрыта полтавским дубом. Высокие окна забраны чугунными решетками и прикрыты синими бархатными шторами, обшитыми бахромой. Пышные складки бархата перехвачены серебряными шнурами с тяжелыми кистями. Такие же завесы из бархата устроены на дверях. Кое-где материя побита молью, но весь вид убранства спальней богат и торжественно спокоен.
В простенке между окнами висит большой портрет Сусанны в платье из брюссельских кружев. Написан портрет голландским живописцем год назад. Демидов отвел взгляд от портрета. От бессонницы пришло ощущение расслабляющей дурноты, желание лечь.
Просторное ложе – из резного ореха аглицкой работы – осенено бархатным балдахином в тон штор. Одна пола балдахина откинута, видна чуть примятая перина под собольим покрывалом на малиновом шелке.
Камин красиво облицован колыванской красной яшмой. Рядом высокие, в рост человека, бронзовые канделябры, отлитые по заморскому образцу на Ревдинском заводе.
Еще стоят здесь шесть кресел с обивкой синего бархата. На спинках гербы и шитые серебряные узоры. У постели – персидские ковры, под креслом хозяина медвежья шкура, придавил ее медный стол с круглой малахитовой доской. На столе – свечи, чернильница, бумаги, гусиные перья в соседстве с брошенным пудреным париком.
Мельком хозяин глянул на свое отражение в зеркале над камином, отвернулся в досаде. И в тот же миг французские часы с музыкой прозвонили одиннадцать часов. Акинфий прислушался – сквозь оконные шторы донесло снаружи удары башенного колокола. Фальшивя мелодию, куранты невьянской башни исполнили менуэт...
...Тридцать три года прошло с тех летних сумерек, когда снаряженный отцом тульский обоз прибыл на Невьянский завод. И обозом и заводом пришлось самолично управлять Акинфию. Тридцать три года Акинфий укрощал уральскую целину, смирял ее в демидовской упряжи.
Туго пришлось по первости! Взмокала на Акинфии рубаха даже в лютую стужу. Руки, привыкшие дома ковать железо, приходилось здесь держать в карманах, да со сжатыми кулаками. Кабы не прожженные подручные Мосолов и Савва и опытные тульские литейщики, не сладить бы с природой, не справиться с хмурыми обитателями этих хмурых земель.
Туго пришлось. Стиснув зубы, кровянил людские лики не желавшим ходить по демидовской струнке. Студил глаза злобой, чтобы не сморгнули перед лютой опасностью, хранили холод и твердость каленой стали.
Отец, знать, чуял в сыне скрытую волю, выбирая из трех сыновей именно его для отсыла на Урал.
Фундамент демидовского владычества в крае Акинфий забутил крепко. Повалив вековые леса, начал в новых домнах плавить из уральской руды русское железо.
Но лишь теперь Акинфий до конца осознал, какая сила помогла ему утвердиться на Урале. Этой силой была приверженность кержаков к вере и порядкам старой Руси. Именно она погнала на Урал кремневых людей, без которых не утвердить бы себя Демидовым на Урале ни звериной жестокостью, ни неуемной смелостью.
Помнил Акинфий каждый день первых лет, прожитых на Урале. Помнил, как на его глазах на Каменный пояс в царство скрытых рудных богатств в годины Петра шли разными путями Русь и Россия. Первая – звериными тропами, ночами, сумерками и мглой рассвета. Вторая – по новым дорогам. Россия ехала на возках, в камзолах вельмож и иноземных рудознатцев. Россия шла на Урал будить тишину девственных лесов барабанным боем.
Старая Русь, непокорная, не сломленная даже волею царя, была главной пособницей Демидовых в крае. Ее люди, до последнего вздоха не отрекавшиеся от вековых заветов, под пытками не открывали своих имен и родных мест. Люди, кравшиеся глухими лесными тропами неслышной лапотной поступью кержаков, беглых стрельцов и монахов, поступью всех спасавшихся от новшеств саженного царя, несли с собой в уральскую дремучесть старый быт и истовый обычай веры.
Изловленные, как звери, демидовскими приспешниками, эти-то люди и помогли Акинфию устоять в крае, прочно утвердиться на широко расставленных ногах.
Это их трудом и выносливостью был запружен новый невьянский пруд, вырублена в лесах и проложена по топям открытая еще Ермаком и забытая Русью дорога на Чусовую, по которой Демидовы повезли на реку Каму, а по ней в Россию, к царю, свое первое уральское железо.
Нечеловеческий труд кержаков врылся в камни шахтами, воспламенил жар доменных печей.
Спор Руси с новой Россией гнал народ за покоем, за тихой, светлой жизнью в «пустыню», заповедную лесную глушь, где на таежных тропах хватали людей беспощадные руки хозяйских наймитов, гнали народ, как скотину, в Невьянск и уже в новом, демидовском «волосатом» облике разводили по рудникам, шахтам и заводам.
Акинфий отлично понимал, почему царь отдал рудные богатства в руки Демидовых. Отдал потому, что хотел демидовской сметкой, упорством, жадностью и воровской хваткой растормошить беспечно ленивый сон уральских казенных заводов.
Царь не ошибся в расчетах. Норов Демидовых и нрав царской казенщины, начав спор за несметные богатства, сшиблись лбами, раскровянив друг друга. Царю тогда было недосуг разбирать споры Демидовых с царскими начальниками края. Мимо ушей пропускал Петр доносы фискалов на Демидова. Царю нужен был металл, нужен был на Урале хозяин, умеющий утвердить себя в крае хотя бы по закону «бей первый».
Во всей стране Петровой не было тогда покоя, не мог царь требовать и от Демидовых, чтобы те принесли покой на Урал.
Вся страна была залита людской кровью, сочилась она и на пробужденном Урале. Зато Демидовы давали замечательное железо, притом больше, чем весь казенный Урал со дня первой плавки.
Акинфий дорого заплатил за честь быть главным вершителем судеб горного Урала: заплатил собственным душевным покоем, семейными радостями, разлукой с женой, детьми, матерью, разлукой со всем, что когда-то было дорого. И если теперь никому не было никакого дела до того, что пережил на жизненном пути богач и делец Акинфий, сам-то он знал про себя, что истинная радость была только в родной Туле. Истинную радость жизни он испытывал в дедовой, потом в отцовской избе, тесной и низкой, почти землянке. Но в эту землянку он приходил с работы в кузнице и мог покачать в люльке своего маленького сына, обнять жену, пошептаться с ней. Все это пришлось оставить ради умножения богатства, ради возвеличения рода, ненасытного стремления к могуществу. За тридцать три года оно осуществлено, цель достигнута. Но за это он заслужил в крае ненависть тех, кто трудом и страданиями добывал ему славу и богатство.
Ненависть к нему видна во взгляде каждого подневольного человека, даже в глазах детей. Она не уймется и после его смерти, как не потухла в народе ненависть к покойному отцу. Эта жгучая народная ненависть придавит плечи сыновей, внуков, правнуков. И сильнее всего она именно к нему, утвердившему владычество Демидовых в крае. Покамест он укрывался от этой ненависти в своем дворце, где окна защищены чугунными решетками. Теперь ненависть проникает и в стены дворца, скрыто сквозит во взглядах челяди. Это еще только первые искры будущего пожара. Злоба, пока еще исподволь, нет-нет да и прошелестит в тайных шепотах, за спиной, по углам.
Еще страшнее, еще опаснее ненависти людской, народной завистливая ненависть вельмож, недоброжелательство важных чиновников, царедворцев, петербургских сановников.
Акинфий помнил, как низко приходилось отцу сгибать спину перед петровскими вельможами. Как дорого приходилось платить унижением, деньгами, подарками тем, в чьи руки попадали очередные доносы. Как дорого платил сам Акинфий своим высокопоставленным завистникам! Главным образом ради этих взяток он и начал тайную чеканку серебряных рублей в подземельях Наклонной башни. Колыванское серебро лилось в карманы жадного, завистливого окружения курляндского проходимца, наряженного императрицей в расшитый золотом камзол обер-камергера двора.
Отгремели войны со шведами. Петр, презиравший и унижавший вековую боярскую спесь, выводил на историческую сцену новых людей, ставя их к рулю государства. Люди эти, не обремененные родовой знатностью, были способны с засученными рукавами помогать ему заново устраивать государство. Лучших помощников царь награждал щедро, порождая новое барство, не всегда чистое на руку, но свободное от вековых предрассудков. Жесткие повадки петровского барства продолжали гнать народ в бродяжничество, в те же леса Каменного пояса, умножая рабочую силу Демидовых.
Кузнец Никита Антуфьев начал знакомство с Петром в тысяча шестьсот девяносто шестом году, когда царь проездом через Тулу поручил ему починить иностранный пистолет. Сын Антуфьева дворянин Акинфий Демидов получил в обиход вместо тульской кузницы весь неведомый уральский край.
После смерти, в один год с Петром, Никиты Демидова-Антуфьева троим сыновьям достались тринадцать уральских заводов, поместья на Чусовой и Каме, роскошные дворцы в Петербурге, Москве, Невьянске, Тагиле и Ревде, десятки тысяч десятин уральских угодий с рудниками и девственными лесами.
Акинфий занял в роду место отца, готовый ко всему, что его ожидало перед лицом новых властелинов на престоле и у подножия трона, перед лицом старого родовитого дворянства и многочисленных иноземных хищников, тянувшихся к богатству.
Бесшумно отворилась дверь опочивальни. Седенький камердинер Самойлыч подбросил в огонь камина свежих поленьев.
– Стало быть, не ложились?
– Нога докучает. Колено болит.
– Может, утрось застудили, верхом катаясь?
– Сусанна Захаровна меня не спрашивала?
– Барыня тоже не спят-с. Все изволят ходить-с по опочивальне. Собаки в доме ее тревожат.
– Понять не могу, с чего воют?
– Кто их знает? Без причины животное не завоет. Дозволю доложить, злее всех воет кобель Татищев.
Демидов усмехнулся. Он знал, что эта кобелиная кличка, присвоенная псу после вторичного прибытия начальника на Урал, уже стала известна ненавистному сановнику.
– Характером мой кобель весь в него, в начальника Урала. Скулит, воет и беспричинно тоску нагоняет.
– Может, припарку из мяты на колено дозволите наложить? Или лекаря разбудить?
– Ничего не надо.
Самойлыч снял со свечи нагар.
– Так не спит, сказываешь, Сусанна Захаровна?
– Никак нет-с, изволит бодрствовать.
– Поутру разузнай у дежурной девки, правда ли собачий вой ей докучал. Не позабудь.
* * *
После полуночи собачий вой как будто притих, но и тишина не отогнала от Акинфия докучной бессонницы.
Сидя в кресле, он сжимал веки. Сознание на минуты мутилось, подергивалось тонкой пленочкой сна, но тут же прояснялось. Мысли расползались, разбредались, как сытые мыши в сусеке с зерном. За окном трещали от мороза деревья так громко, что Демидов вздрагивал и морщился. Он все настойчивее думал о Сусанне. Может, и она попросту соскучилась, не спит от одиночества и потребности в ласке? Мучается бабьей гордостью, потому и морит себя и его разлукой?
Эти мысли заставили его действовать. Он поднялся. Громоздкий, широкоплечий, как медведь, вставший на задние лапы. Вылитый отец, только тучнее, да и неуклюжести больше: обленился за последние годы, меньше мыкался по краю, совсем не воздерживался в пище. Еду любил жирную, отрастил котомку живота. Теперь на нем не сходится ни один столичный камзол. Все будто с чужого плеча...
Решил идти к ней. Запахнул халат, опоясался кушаком с кистями. Надел парик: Сусанна не терпела простоволосья. Взял канделябр, выплеснул из свечей топленый воск. Его руку при этом окатили капли горячего воска. Тут же они остыли светлыми лепешками на волосатой коже.
Из опочивальни вышел в темный коридор с тяжелыми, расписными сводами. Сопровождаемый только своей тенью, миновал просторный главный вестибюль. Парадная в два крыла малахитовая лестница с бронзовыми перилами уходила во второй этаж.
Демидов, освещая себе дорогу наверх, неслышно ступал по красному ковру, уложенному поверх бледно-зеленых малахитовых ступеней с синими разводами. В такт его движениям тихонько позванивали хрустальные подвески канделябров и люстр.
Акинфий дошел до половины лестничного марша, но остановился в нерешительности, с учащенно бьющимся сердцем.
Собаки опять завыли. А могущественный их хозяин неуверенно топтался на лестничных ступенях своего сказочного дворца. И когда собачий вой поднялся до самой протяжной ноты, Акинфий Демидов смущенно побрел вниз.
Справа от вестибюля начиналась анфилада комнат. Демидов прошел под дверной аркой с колоннами: ажурные створы дверей, инкрустированные золотистыми топазами и нежно-лиловыми аметистами, были открыты. Минуя их, Демидов опять вспомнил Татищева: эти топазы и аметисты прошли обработку в Екатеринбурге у татищевских мастеров-гранильщиков...
Сразу за первой аркой находилась буфетная, где в резных шкафах хранилось столовое серебро и фарфор.
Еще одна арка, точно повторявшая первую, привела хозяина в парадный двухсветный зал. Высокие проемы нижнего и круглые окна верхнего света пропускали в зал целое море зеленовато-голубоватого лунного сияния.
В этом магическом освещении сам хозяин невольно залюбовался простором зала, удивительной игрой теней на паркете и стенах.
Зал выдержан в духе времени, отделан в прихотливом стиле барокко, притом из самых ценных материалов.
Седым английским мрамором облицованы стены. Плоские пилястры с ионическими капителями – из колыванской яшмы. Фризы, карнизы и потолок украшены лепкой и росписями. Ведет из зала в следующие парадные покои анфилады третья арка с медной ажурной решеткой.
Кружевные и парчовые шторы на окнах. Три огромные люстры с подвесками и нитями из дымчатых топазов. Два больших камина, зеркала до потолка... В этом просторе совсем маленькими кажутся простенные столы красного дерева, отделанные черепахой, бронзой и слоновой костью, заставленные вазами французского фарфора. Цвет мебели – по выбору Сусанны: белый с золотом.
В зале тепло. Не то, что при отце. Когда тот, бывало, наезжал зимой, весь дворец остывал: топить печи жарко не дозволялось. Никита Демидыч поучал, что теплое жилье размягчает тело, отнимает могучесть.
На стене зала среди бельгийских и французских гобеленов и голландских картин размещены фамильные портреты и изображения покровителей демидовского рода. Самый большой портрет – царь Петр. Император в Преображенском мундире с красными отворотами. Написал его немецкий живописец по заказу отца. Отец говорил, что Петр здесь таков, каким Никита Демидов видел его у себя в избе. Царь зашел тогда трапезничать к кузнецу и его жене, предварительно выковав в кузне подкову собственными руками. Рядом с Петром – царица Екатерина Алексеевна. Напротив, под картиной Рембрандта, портрет вице-канцлера Шафирова в пышном парике и голубом камзоле. Павлыч, как его звал царь, похож на откормленного, бравого петровского солдата, что на своих плечах вынес тяжесть петровских побед.
Луна щедро светит на фамильные портреты Демидовых. Отец, Никита, еще полный сил. Писан свейским живописцем. Острый взгляд, пролысина ото лба на темени, черная смоленая борода. Богатырское лицо сумрачно, неласково. Куда ни отойди от портрета – везде, в любом уголке зала, будут преследовать тебя эти глаза. Мать на портрете – что твоя монахиня, вся в черном. Жена Акинфия изображена в яркой шали, накинутой на плечи. Сама – круглолицая, глаза – вишни. Брат Григорий как живой – бородатый, тусклоглазый, щуплый. Но если подойти к портрету ближе – он вроде бы и не совсем тот. Живописец убрал с лица прыщи.
Хорошо написан другой брат, Никита. Богатырь в отца, только... не все дома... Написан здесь таким, каким по Туле гонялся за кошками и голубями: всклокоченная борода, в глазах – ехидный смешок, нижняя губа отвисла.
Сам Акинфий изображен на двух портретах: бородатый тульский кузнец в кожаном фартуке и – хозяин Урала, в синем шелковом камзоле и парике. По желанию Сусанны написан этот второй Акинфий совсем недавно, тем же мастером, что писал портрет самой Сусанны для опочивальни Демидова.
Между каминами глядит с портрета Александр Данилович Меншиков с пушистыми усиками, хитрыми маленькими глазами вприщур. Акинфий даже вздохнул, глядя на всесильного временщика «Алексашку». Бренная вещь – мирская слава, короток путь от всемогущества до ничтожества. Царю, самому башковитому, помощником был и даже того обманывать ухитрялся. Из казны искусно крал, Петербург в страхе держал... Петр Первый его возвеличил, царица Катерина вознесла славу временщика до зенита. Шутка ли: девяносто тысяч крепостных, города Ораниенбаум, Ямбург, Копорье, Раненбург, Почеп, Батурин, именья в России, Польше, Пруссии, Австрии; пять миллионов золотом наличными, девять миллионов в английских и голландских банках, посуда только золотая и серебряная в домах, драгоценности – царские! Куда там Демидову с его дворцом!
Но повернулось колесо фортуны. Петр Второй, по наущению Остермана, отправил светлейшего князя в ссылку. Избу себе в Березове для жилья сам рубил и умер в ней одинокой смертью.
Задумавшись об этой удивительной судьбе, Акинфий поставил канделябр на стол и сел в кресло против портрета ныне царствующей императрицы Анны Иоанновны. В пышном одеянии со скипетром и державой. А глядит ожиревшей купчихой. Скука на лице, и не женское оно, а скорее мужское. Под такими взглядами людей с портретов, живых и мертвых, подумал Акинфий, что и его может постигнуть участь Меншикова. Значит, быть всегда начеку, все знать и слышать. Читать мысли каждого, уметь прикинуться другом. Успевать задаривать, откупаться, лебезить, низко кланяться. Чтобы не вздумалось какому-нибудь Бирону шепнуть царице только одно слово. Она-то послушает! Скрипнет перо – и родовые богатства пойдут какому-нибудь саксонцу, а хозяина Урала – в подвал. И будут пытками, дыбой, плетями дознаваться, как наживал состояние. Вот в какое время живешь, а тут Сусанна, глупышка, злится из-за каких-то коней, что пошли Бирону. Слава богу, что принял, не побрезговал. Нешто долго Демидову других завести? Подумаешь, страшный расход! Вот Бирона против себя настроить – это страшновато! Акинфию известно, что делается в Петербурге, где курляндец бойко крушит петровские дубы и под корень, навек, вырубает знатные, могучие роды вельмож. Протискивается с его помощью к трону жадная неметчина, проворно взбирается по русским спинам. Уже и на Каменный пояс доползла, подбираясь к казенным заводам. Хорошо, что хоть Татищев слегка осаживает ее назад, а то, чего доброго, давно царица раздарила бы любимцам казенные заводы до последнего, а после потянулись бы алчные руки и к демидовскому добру... Ведь едва десять лет прошло после смерти Петра, а уж не узнать Петровой столицы! Ошалело барство от веселья, пьянства и разврата. Обжираются иноземцы на русских хлебах, потому что саженный царь в гробу лежит. Не кышкнет на них, не звякнет по столу кулаком, не отвесит жирной оплеухи грабителям государственной казны... Что это? Ах да, опять кобели взвыли...
Поднялся из кресла, опять стал освещать себе дорогу. Прошел синюю гостиную, где пол устлан медвежьими шкурами, второй коридор с более низкими сводами. Вот она, дверь, за которой собаки. Открыл. Пахнуло холодом, едкими испареньями мочи, вонью псины. От луны в большой комнате светло. Борзые лежали на соломе, как снежные комья. Акинфий шагнул к окнам по раструшенной соломе, сам задернул шторы. Собаки повскакали, окружили хозяина, прыгали, взвизгивали, клали лапы на грудь, лизали ноги. Акинфий ласково гладил длинные породистые головы. Когда вышел, прикрыв дверь, псы заскулили, стали царапать ее. Акинфий поравнялся с красной комнатой и неожиданно услышал смех. Которая это? Машка? Он резко отворил дверь, нежданно-негаданно возник на пороге перед оторопевшими девицами.
Маремьяна подбежала с поклонами, подобострастно выхватила канделябр из рук, поцеловала и самую руку в лепешках воска.
– Полуношничаете, сороки? Чему смеетесь?
В гробовой тишине Машка, не поднимая глаз, пробормотала:
– Просто так, про чудное речь плели.
Акинфий кивнул в сторону Настеньки, смягчился было:
– Спит хроменькая? – Но тут же, встретив взгляд монашки, сурово спросил Маремьяну: – Почему до сей поры в рясе? Что давеча велел?
– Виноваты, батюшка Акинфий Никитич, не успели платье сшить. Завтре поспеет.
– Скажи по совести, девка, чего ради рясу напялила, коли ты не монашка?
– Монахиня, всемилостивый барин! В Тобольске городе моя обитель.
– Опять врешь! С первой пытки приказчику про Уфу поминала.
– Соврала тогда, чтобы не били.
– Теперь ты демидовской обители стала. Помни о том навек.
Взяв канделябр, Акинфий хмуро, в упор глядел в лицо монашке.
– Сказы про сибирскую землю знаешь?
– Слыхивала.
– На, держи! – Акинфий протянул ей канделябр. – Посвети мне по дороге...
* * *
Вернувшись в опочивальню, Акинфий взял из рук спутницы канделябр, поставил на выступ камина. Обернулся.
– Приросла к порогу? Иди дров в огонь подкинь.
Та положила в камин несколько березовых поленьев. Огонь затрещал веселее. Исполнив приказание, девушка стала в сторонке.
– Сними-ка плат.
Она покорно сняла апостольник.
– Звать-то как?
Собеседница будто не расслышала вопроса.
– Баба?
– Девушка.
Акинфий подошел, потрогал волосы, зажал в кулаке золотистую прядь.
– Шелковые... А глазастая какая... Чего боишься?..
И вдруг под его ищущей тепла рукой что-то слегка зашуршало под черной тканью рясы. Бумага!
В то же мгновение неуловимо быстрым движением девушка рванулась из его рук к камину, выхватила из-под одежды сложенный лист бумаги и швырнула в огонь. Акинфий не успел выхватить документ из пламени, отдернул руку. Бумага превратилась в пушинку золы...
– Донос несла?
Она молча пятилась к двери. В ярости Акинфий запустил в нее поленом. Оно ударилось в дверь.
– От кого донос?
Ссутулившись, Акинфий медленно наступал на пленницу, сжимая кулаки. И вдруг как вкопанный замер... Там вдалеке, на Наклонной башне, куранты играли бравурный марш!
Акинфий кинулся к окну, отдернул штору. Тот же лунный свет. Но куранты, не переставая, исполняли свой марш...
– Вон отсюда! Назад, в сучью!
Не поднимая с полу оброненный апостольник, пленница убежала.
Демидов прислушивался к бравурному, уже давно не звучавшему мотиву... Судьба Меншикова... Эх, как-то к тому пришла весть об опале? Тоже, верно, знак какой-нибудь подавался, а может, вовсе нечаянно обрушилось?..
Получаса не прошло, как снизу, из вестибюля, донеслись голоса. Акинфий как был в халате, так и вышел в коридор. Незнакомый голос извиняющимся тоном:
– Нет, нет, зачем же тревожить барина так рано?
Акинфий ступил в вестибюль. Самойлыч с зажженной свечой расспрашивал двух гостей: один был демидовский приказчик, рыжебородый кривой Шанежка, другой – молодой офицер в медвежьем тулупе. Демидов его не знал. Чужой!
– Что приключилось? Отчего шум у меня в доме?
– Очевидно, имею честь видеть самого господина Демидова?
– Его самого.
– Имею честь представиться: Слушков. Начальник конвоя его превосходительства командира уральских горных заводов.
– Рад, что осчастливили нежданным визитом.
– Приношу извинения за беспокойство, причиняемое в такой глухой ночной час.
– Ну, полно, что за извиненья! Гостям рады. Ни днем ни ночью дверей на запоре не держим. Все ли благополучно у вас, господин Слушков? Избави бог, уж не случилось ли с вами какой дорожной беды? Милости прошу раздеваться и отдохнуть с дороги.
– Дело-то неладное, хозяин, – хмуро и глухо начал приказчик Шанежка, но офицер перебил его:
– Совершено нападение на мой конвой. Его превосходительство поручил мне сопровождать в Петербург господина советника берг-коллегни Эрнеста Иоганновича Шумахера, навещавшего генерала Татищева с особым поручением.
– Батюшки-светы! Нападение, говорите? Где же на вас душегубы напали?
– По новой дороге на ваш Тагильский завод.
– Час от часу не легче! Неужто пострадал кто от разбойников?
– Так точно. Советник берг-коллегии зарублен топором. Тут же и скончался.
– Господи, спаси и помилуй. – Акинфий размашисто перекрестился. – Но ведь вы, господин офицер, небось не один советника провожали? Почему же ваши солдаты не могли пресечь неслыханное злодеяние?
Офицер виновато пожал плечами. Демидов все более воодушевлялся:
– Пошто вздумалось вам ехать по новой дороге? Там же постоянно шалят каторжные и немирные башкирцы.
– Его превосходительство строго указали мне именно этот маршрут.
– Плохо же Василий Никитич в Екатеринбурге о наших дорогах наслышан... Сразу помер, говорите? Где же убитый-то ваш?
– Тело в возке.
– Ай-ай-ай! Счастье, что хоть вас-то не тронули.
– От гибели спасся чудом. Два моих драгуна из пяти тоже убиты.
– Должно быть, советник берг-коллегии важные поручения от Василия Никитича в столицу имел?
– Про это ничего сказать не могу. Знаю, что вез образцы новоотысканных медных и железных руд.
– Образцы, говорите? Так, так. Понимаю. На что же грабители позарились?
– Нападение совершено только ради ограбления. Разбойники унесли все вещи сановника.
– Поди, окаянные, думали деньги большие везет? Много было нападавших?
– Не менее двадцати человек. Некоторые даже с огнестрельным оружием.
– Очень прискорбно слышать про такое. Но на все, как сами понимаете, воля божья.
Все обернулись на певучий женский голое с верхней площадки лестницы:
– Что приключилось, Акинфий Никитич?
Собеседники увидели Сусанну. Со свечой в руке она стояла на лестнице. Акинфий даже не сразу нашелся ответить. На помощь хозяину поспешил приказчик Шанежка.
– Немца-советника, из Петербурху, варнаки порешили. На новой дороге к Тагилу... Тело господин офицер везет.
– Немца? И только-то? Уж я испугалась, не пожар ли в доме... Сколько шуму в такой час!
Небрежно ответила на поклон офицера. Ни на кого не посмотрела. Повернулась и ушла к себе.
Был уже предутренний час. Демидов сам угощал офицера вином, самолично провожал до комнаты, отведенной тому для ночлега. Акинфий вернулся в свою опочивальню вдвоем с приказчиком Шанежкой.
Приказчик помешал жар в камине и добавил дровец. Они сразу дружно взялись огнем. Акинфий Никитич опустился в кресло.
– Как думаешь, чьих рук дело?
– Моих.
Акинфий сурово нахмурился.
– Ясней сказывай.
– Два все, стало быть, оченно ясно. Недели три минуло, как дошел до меня слушок из крепости от своего человечка. А слушок такой, не совсем ладный. Узнал, стало быть, что екатеринбургскому енералу удалось кержаков подкупить.
Через них добыл он нашу голубую медную... С колыванских рудников. К серебришку, стало быть, рука енеральская подобралась.
Акинфий не усидел на месте. Шаркая сафьяновыми туфлями, стал ходить по опочивальне.
– Как через людей дознано, енерал руду медную опробовал. После пробы сочинил донос в столицу и ради скрытности решил отправить дирехтору берг-коллегии с сановным немцем.
– Дальше-то что?
– Обрядил я верных ребят башкирцами. Тюкнули немца. Упокоют его теперь в уральской земле. Парни обладили наказ без ошибки.
– Добро. Возьмешь полсотни серебром себе, а парням, на всякое рыло, по семи рублей.
– Вещички советника и бумага с доносом теперича у парней. Скоро в Невьянск доставят. Карманы убитого самолично обшарил. Ничегошеньки в них не нашел... Все как по маслу. А офицерик-то не из храбрых.
– Молодец, Шанежка! Уши у тебя хорошие. Не услышь ты про все сие вовремя – беспокойства бы не обобраться!
– Дознатчика, что в крепости, тоже наградить надобно.
– Беспременно! Щедро отсыплем. Услуг никаких забывать не следует. Сослужил ты мне нынче службу – не службишку!
– А как же иначе? Служу верой и правдой. Твое хозяйское горе – мое горе.
Шанежка вдруг замолчал, заметив на полу монашеский апостольник. Нагнулся, поднял и ухмыльнулся. Акинфий вопросительно смотрел на своего верноподданного.
– Узнаешь, что ли, эту монашескую справу? Кто монашке этой допрос учинял?
– Мои молодцы. Сам я при этом тоже был.
– А обыскали перед тем?
– Под рясой много не утаишь!
– Эх вы, вороны. Не утаишь! Рясы боитесь? Она под ней донос на меня хранила.
– Чей донос?
– Огонь его прочитал, да мне не сказал.
– Ну и девка! И дам же я ей теперь перцу.
– Поутру я ей сам по-хозяйски исповедь учиню. Душу вытрясу, а доносчика узнаю. Умом да смекалкой ты, Шанежка, не обижен. Немца с доносом Татищева за сто верст унюхал, а девка тебя перехитрила, сумела рясой тебя в обман ввести... Ступай да зайди на кухню, вели мне малинового квасу принести.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Над лесными урочищами по берегам Кушвы всходило радостное, весеннее солнце, расписывая небеса цветными, чистыми и прозрачными тонами.
На Каменный пояс пришли последние дни апреля.
Дружная весна, растопив сугробы, рушила последние убежища старой хозяйки – зимы. Горячие припеки солнца обсушивали почву, перенасыщенную влагой. Пробудившаяся земля, еще объятая истомной дремотой, лениво нежилась под первыми лучами нового утра.
На пушистых пихтовых и еловых лапах еще блестели по утрам последние ледяные сосульки; от прикосновения солнечного луча они роняли частые слезы. У сосен топорщились иглистые пучки ветвей. На стволах их сквозь синевато-серую кору начинал проступать медный отлив. Парным прелым духом повеяло от усыпанной хвоей земли, а на прогалинах, опушках, кромках мочажин, лишь чуть отступив от крошечных хрустальных озер талого снега, удивленно любовались весною последние подснежники.
На пригорках, обласканных солнцем, пошла в рост изумрудная мурава трав. Ее густо усыпали шишки. По опушкам зацветал багульник.
Весна заставила подобреть и ветер, научила его мурлыкать, шелестеть и бережно перебирать все травинки, одну за другой.
В лесах пересвистывались старожилы-рябчики, устраивали новоселье перелетные птицы-гости, а на зорях тихонько покашливали токующие глухари.
На большом мшистом камне, схожем с муравьиной кучей, прилепившемся к самому краю глубокого оврага, сидел крещеный вогул Степан Чумпин. Родом он с берегов Баранчи. Одет в зипун из звериных шкур; за плечами лук, на поясе два острых ножа и колчан с оперенными стрелами. Стрелы разные: с вилками – на птицу, с шариками – на белку, самые тяжелые, с железными ковьями – на сохатого. Есть, конечно, и стрела «ястреб», поющая в полете, когда надо в камышах спугивать уток или гусей.
Возвращаясь на зимовье с неудачной охоты, одолеваемый безрадостными раздумьями, Степан пришел на склон оврага посидеть и помечтать, потешить себя сладостными и несбыточными надеждами. Эти надежды и мечтания вызывала у Чумпина самая удивительная гора Каменного пояса. Этой Железной горой он сейчас и любовался со своего камня. Сидел, смотрел и задумчиво жевал серку – лиственничную смолу. Железная гора где иссиня-ржавая, где совсем черная. До половины поросшая соснами, липняком, осинником, она величаво возносилась над лесами могучим каменным заплотом из нескольких лесистых хребтов. На самом высоком ее хребте вздыбились три толстенных рудных столба. Не очень-то и высока Железная гора. Она много ниже Синей, что вздымается вдали, по соседству. Не очень-то высока, зато...
Никто еще, кроме Степана и его отца Анисима, не видел этой горы, не понимал, что она являет собой настоящее чудо уральской земли. Будто сама земля каким-то непостижимым усилием выперла из недр своих весь избыток магнитной железной руды... в одну гору. Степан навещал ее уже пятый раз, и все сильней будоражила она его разум мечтами, от которых спину приятно щекотал озноб.
Много лет назад отец Степана, Анисим Чумпин, натолкнулся на нее, гоня лося. Тогда на горе жил старик шаман и было мольбище бога Чохрынь-ойка. Шаман настрого наказал Анисиму никому не говорить о горе, таившей в себе священную силу. Она, эта сила, охраняла жизнь вогульских племен, пришедших сюда в давние времена, когда их согнал с берегов Чусовой род Строгановых. Анисим боялся злобы шамана, боялся могущественных духов горы, молчал о ней много лет, и только, возвращаясь к родным баранчинским берегам из Верхотурья, где отец и сын приняли русскую веру, старый Чумпин показал ее молодому, но велел, поглядевши, тут же и забыть.
У Степана после гибели матери жизнь с отцом была нерадостная. Да и смерть матери была страшной – ее загрызли волки, когда пошла по воду на реку Баранчу.
Чумпиных во всем преследовали неудачи, будто все боги бедствий для того и существовали, чтобы приносить горе Анисиму и Степану. Тянулись годы один хуже другого. Перед смертью Анисим, устав от своей несчастной жизни, решил открыть рудную гору русским, надеясь получить за свою находку большие деньги. Старик тайно от всего зимовья сходил на Шайтанский завод, к лютому приказчику Мосолову, но тому было недосуг. Послушав рассказ Анисима про гору, он только махнул рукой, дал две мелкие серебрушки и приказал зайти еще раз поздней осенью. Но той осени Анисим не дождался, угодил под стрелу самострела, поставленного на сохатого.
Шла третья весна после смерти отца, а жизнь Степана в зимовье оставалась прежней – одинокой и голодной. Удачи ни в чем не было; от толчков, падений и ушибов уже вытерся на его одежде мех.
Степан, конечно, понимал, что на него крепко сердились вогульские боги, только точно не знал, которые именно, а главное, за что у них такая на него злоба. Наверно, за то, что он уже дважды крестился у русских. Один раз с отцом в Верхотурье, а второй раз в Невьянске. Но ведь оба раза он получал от русского шамана новый зипун. Не плохая цена за то, чтобы надеть на шею крошечный медный амулет в виде скрещенных палочек! А может быть, богам не нравится, что он держит в отцовском «нор-колье» деревянную дощечку с нарисованным седым русским богом по имени Никола-торм. Словом, трудно было Степану угадать, кто из богов и духов и за какие провинности таит на него обиду. Уж очень их много, вогульских богов! Самый злопамятный из них, конечно, двухголовый Чохрынь-ойка, да еще, пожалуй, лесной старик Люминнор-ойка, злой хозяин всех звериных троп. Степан так и не понял, который из этих богов стал его врагом, а если бы узнал, все равно не мог бы откупиться, потому что оба страшно жадные: без пяти собольих шкурок к ним и шаману лучше за прощением и не соваться!
Еще, конечно, водится в лесах леший Менк, но как Степан ни старался, так и не смог вспомнить, чем он мог озлобить того; ведь всякий раз, идя на промысел, он вешал на сучья, в подарок лешему, целые пучки костей рябчика: говорят, леший их любит больше орехов.
Много всяких богов и духов опекают вогульскую жизнь. Их мало стесняет сила русского бога, старичка Николы-торма; они посылают на Степана всяческие неудачи, рассовывают их по всем щелям невеселой жизни.
Нет у Степана для промысла хорошей собаки и ружья. Было одно, да отец отдал кому-то за неоплатный долг.
В этот раз Степан пробирался к Железной горе с восточной стороны, по непроходимым зыбунам и болотам, еще подмерзающим ночами так, что выдерживали человека. С болот вышел к самому склону оврага, как раз, когда на вершину горы легли первые золотые блики восхода. Уселся на камне, стал смотреть, как четко рисовалась гора, врезанная в чистое небо. Железная гора кажется ему самой красивой и величавой среди всех гор, какие повидал на свете.
От места, где нахохленным филином приютился на камне Степан, до подола горы было не больше полуверсты. Еще в прежние посещения он старательно осматривал гору со всех сторон, ходил по склонам, видел там много зайчишек и рябчиков, но так и не нашел следов шамана, некогда здесь жившего и знакомого отцу. Зато нашел пустой горелый амбар бога Чохрынь-ойка с сохатиными рогами над дверкой. А на самой вершине среднего горного столба оказалась выдолбленной в камне яма для священных костров.
Давно проведал он и главную тайну горы. Когда узнал о ней – вспотел от волнения, будто в воду окунулся. Оказывается, гора не отпускает от себя камни. Если толкнуть со склона небольшой обломок руды, он сначала покатится и вдруг в каком-нибудь месте сам прирастет к склону. Поистине, в ней великая колдовская сила, если может держать на весу свои камни.
На дне оврага еще лежала узкая, почерневшая полоса снега, источенная ручьями, проткнутая вицами кустарника и загрязненная шариками заячьего помета. Из-под снега выбегала речушка на песчаное корытце, усыпанное синей галькой.
Вокруг, между камнями, склон оврага покрыт густой порослью осинника. Его набухшие почки с жадностью клевали ореховки. Степан видел, как этих веселых пичуг с короткими крылышками согнала сердитая сойка. Он погрозил ей, и сойка перелетела ближе к Железной горе, блеснув голубыми крыльями.
На противоположном отлогом склоне оврага, тоже засыпанном серыми мшистыми камнями, среди елей и голых осин, шли ввысь два сучковатых мертвых дерева с начесами лешачьих бород на сухих сучьях. На одном из нижних сучьев токовал глухарь. Развернув хвост веером, обвесив крылья и вытянув шею, крупный, красивый самец кланялся, кивал бородатой головой, щелкал клювом и призывно покашливал в любовном экстазе. Степан был голоден. Он решил добыть глухаря. Не спуская глаз с птицы, он осторожно сполз с камня на глинистую почву, почти скатился в кустарник на дне, облепив себя при этом очесами заячьей шерсти. Стал терпеливо ждать нового любовного экстаза у птицы. Когда глухарь опять затоковал, Степан, в такт покашливанию, неслышно перебежал овраг, укрылся за камнем, прицелился и пустил стрелу с вилкой. Птица дернулась на суку, подпрыгнула и камнем повалилась на землю. Степан, не торопясь, приблизился к добыче. Глухарь еще похлопал по земле слабеющими крыльями и затих.
Солнце уже давно перешло за полдень, и под его лучами вода речушки в овраге переливалась ослепительными блестками.
Степан выбрал сухое местечко между камнями и развел костер. Сначала из можжевельника и шишек, а когда пламя взялось хорошо, накидал в него валежника. Глухаря опалил над огнем, не ощипав. Обвялив мясо, наелся досыта. Оно сильно пахло смолой и было жестким. После обеда Степан напился воды и решил приготовить себе ночлег возле горы. Наломал веток пихты, наладил шалаш. Напевая песенку, какую слышал от матери, собрал для костра сухих дров и кучку валежника. Костер должен гореть ровно, до утра, не только ради тепла: вставшие с зимней спячки в поисках муравьиных куч медведи сейчас злы, бродят как шальные и ночью; могут потревожить и человека на ночлеге.
От сытной еды и теплого солнца Степана скоро разморило. Он лежал у кострища, не сводя глаз с горы. По камням, совсем не пугаясь человека, бегали бурундуки, по-вогульски «койсера», с черными полосками на спинах, переговаривались тихим посвистыванием, будто обучались птичьему языку. Им отвечали невидимые зверьки, а в осиннике подле горы изредка звучал будто надрывный плач – там, видимо, лисы охотились на зайцев.
Из-за житейских неудач Степан Чумпин все еще оставался холостым и теперь, на двадцать седьмом году жизни. Два года назад он присмотрел было жену на зимовьях у реки Тагила. Ее родитель за неудачливость жениха запросил многовато мехов. Безуспешный сезон зимней охоты убавил шансов на успех сватовства. Как бы другой, более удачливый охотник-вогул не выкупил избранницу! Весной и летом особенно нудно и тоскливо смотреть на чужих жен и ребятишек. Степан любит детей. Мастерит для них свистульки из черемухи и сопелки из старых стеблей пикапа. Ему хотелось иметь сильного, здорового, смелого сына, чтобы обучить его всем лесным и воинским хитростям и сделать первым охотником и большим человеком.
Самого себя Степан находил вовсе не плохим женихом. Не хворый, ловкий. В меру хитер. Слух и чутье никогда не обманывают. Стрелок из лучших в племени, а это немаловажно. Не трус. Словом, он не обижен богами от рождения, имеет все качества, чтобы не сердить незримых духов, и все же чем-то им не угодил. Чем именно, он понять не мог, и тревожился.
Этим летом надо было непременно придумать нечто новое, предварительно хорошо расспросив шайтанского шамана о причинах неудач. Потом сходить в русскую церковь и зажечь огонек восковой палочки перед большой доской с седым богом Николой-тормом...
Глубоко вверху лебедями плыли облака. В лесах гомонили птицы. Степан наконец откровенно сознался самому себе, зачем в этот раз навестил гору: чтобы набраться храбрости и нарушить завет отца! Открыть тайную силу горы русским. Получить много денег. Купить все, что нужно для хорошей жизни. Взять себе жену, завести ружье и раз навсегда отогнать от себя обидную славу неудачника.
Но кому из русских открыть местонахождение и тайную силу Железной горы? Степан считал русских не очень умными, просто хитрыми и скупыми. Откроешь им гору, они возьмут ее богатства себе, а ему в благодарность, когда попросит денег, наломают бока.
Степану от сородичей приходилось слышать, что где-то за горами есть у русских крепость Екатеринбург на Исети и живет в ней злющий начальник с солдатами. Он богатый. Ему бы открыть тайну горы! Но как пройти в крепость? По какой тропе, чтобы не изловили демидовские шайтаны? Ведь они никого не пропускают по своим, а также и по казенным лесам.
Идти к шайтанскому приказчику нельзя: прошлой осенью, в дни затянувшегося ненастья, он, обозленный неудачной охотой, украл возле завода овцу. Русские после этого не стали подпускать вогулов и близко к заводу. Кто пытался туда ходить за хлебом, тех пороли плетьми.
Плывут в синей вышине облака... Степан уже без тайного страха строит свои планы. Как только на сырых берегах Баранчи рассыплется по кочкам голубой бисер незабудок, он, Степан Чумпин, откроет русским тайну Железной горы. Но, прежде чем показать к ней дорогу, возьмет с них серебро. Попросит за гору две полные горсти больших серебряных монет и постарается в каждую горсть взять как можно больше серебра.
Потом, показав русским дорогу к горе, уйдет с Баранчи на Чусовую, чтобы духи Железной горы не отомстили ему за открытие их тайного жилища русским.
Прошлой осенью Степан уже совсем решился открыть русским гору, но храбрости тогда не хватило: леший Менк, как-то прознав про его замысел, дважды до синяков защипал его ночью, и он долго мучился от гнойников по всему телу.
Нынче он ни за что не откажется от задуманного. Пусть Менк хоть уши ему отгрызет во сне!
Чтобы по-настоящему удивить и напугать русских тайной Железной горы, Степан вечером полезет на гору и наломает с нее камней. Черных, блестящих на изломе, с налипшими на них мелкими крупинками, будто приклеенными смолой...
Огонь в костре горел бледновато-красными и синими язычками, вкусно обгладывая кости валежника. Сучки шипели, сырость выступала наружу белой пузыристой пеной и быстро высыхала.
От вершин леса скоро легла густая полоса тени на место, где горел костер Степана. А по небу все плыли и плыли лебеди-облака...
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Вольные ветры шершавили вихрастую хвою глухих лесов. Раскачивались и скрипели вершины лесных великанов. Торжественный лесной шум напоминал гудение басовых струн на гуслях. Слышать его перепевы приходилось лишь редким смельчакам-беглецам, лесным людям – охотникам и дошлым горщикам, искателям кладов...
Иной раз засушливым летом даже легкий ветерок трет ветку о ветку и, накалив их, запаливает огонек. Раздутый тем же ветерком, он бывает причиной страшных пожаров, сжигающих леса на многие версты. Дым застилает солнце, седина остывшего пепла осыпается на израненные пожаром леса.
Уральские лесные пожары восемнадцатого столетия, истреблявшие на целые годы все живое на пострадавших участках, не очень вредили человеку: жителей было так мало, что сгоревший лес с годами и десятилетиями возрождался вновь, опять становился дремучим и шумливым.
Своим зеленым покровом уральские леса смягчали горный пейзаж, скрадывали увалы, озера, топи, овраги и лога рек. Бороздя лесную глушь вдоль и поперек, рождаясь из студеных лесных ключей, сбегали со склонов ручьи, напаивали влагой реки Исеть, Уктус, Пышму, Камовку, Березовку, их несчитанные и немеряные речки-притоки.
Лежит в тех лесах озеро Шарташ.
Трудно толпятся вокруг него древние, дремучие боры, прикрывают береговые скалы, похожие на причудливые развалины языческих городищ и рыцарских замков. Сизая вода в озере чище горного хрусталя.
В год, когда царь Петр спорил с сестрой Софией-правительницей, кому из них Русью править, ранней весенней порой легла сюда к озеру под неслышной лапотной поступью первая, еле заметная тропа. Пришли на берега Шарташа из далекой московской волости староверы-землеробы, навеки преданные своей «суеверной обыкости» и кинувшие из-за этого свои родные места. Пришли шумливым утугом в семьдесят восемь душ. Попили из озера воды, обошли его вокруг... Подивились, как причудливо нагромоздила здесь нечистая сила камни, скалы, утесы по берегам. Нагляделись пришельцы на эти каменные дива и дали им звание Чертово городище.
Попалив день-другой костры на берегах озера, посоветовались всем миром и решили стать здесь жильем, зачав рубить избы новой раскольничьей слободки, а для усторожливости огородили ее тыном и обрыли водяным рвом.
Вместе с дедом, уроженцем московской земли, пришел и паренек-сиротка, пяти годов от роду, Ерофей Марков.
Теперь, с той поры, как капитан Татищев облюбовал под боком у слободки место для нового казенного завода на Исети, старая шарташская слобода разрослась. Рассыпались от нее по берегам новые слободки и выселки, где оседали новые и новые пришельцы, надеявшись на тихую лесную жизнь.
Ерофей Марков тем временем стал мужиком, оженился и прочно обживал с семьей новую избу, поставленную на околице слободки. Из ее окон хорошо видны просторы озера. Покойный дед обучил Ерофея читать лесную жизнь, как книгу, и прокладывать нехоженые тропы. Бродя по ним, он уже сам постиг тайные повадки самоцветных камней: тумпасов, строганцев и многих, многих других. Ерофей стал заправским горщиком, знал леса на сотни верст во все стороны от озера.
Десятый год шел, как Ерофею Маркову благодаря жене, нечаянно или в шутку запекшей в ржаном хлебе кристалл тумпаса, удалось узнать секрет, как выгонять из камня темный дым и делать камень золотистым. По краю о Ерофее пошла слава, будто у кержака-горщика легка рука на поиск камня, мол, не зря ведь в найденных им тумпасах солнышко горит ласковей и ярче, чем у других горщиков.
Сначала камни попадались Ерофею легко. Прямо возле дома находил их в лесу. Понемногу они перевелись, уходить нужно было дальше и дальше. В иных местах уже приходилось бить глубокие шурфы. Немало земли перекидали руки Ерофея.
Работа горщика в шурфах выгоняет поту побольше, чем иная пашня. В глине да в песке не просто угадать и найти желанное и искомое. Иной спорный камень случалось и слюной для опознания мыть, коли до водицы далековато, и нельзя дать ошибку – вместо самоцвета положить в котомку «дикаря». То-то посмеялись бы гранильщики.
Поисковый труд горщика Ерофею был по душе. Тихий это труд, хоть и нелегкий. Требует уменья молчать и сосредоточиваться. Неделями иной раз не выходит Ерофей из леса, ступает с тропы на тропу, спускается в лога живых речек и высохших ручьев. Лазает по скатам оползней и обвалов, оглядывает землю, налипшую на корни лесин, сваленных буранами. Везде могут найтись самоцветы, все приходится оглядывать зорко, чутко ощупывать пальцами, проверять наметанным глазом каждый камень.
Рабочая пора Ерофея в лесах тянулась от зари до зари. Только в сумерки, у дымящего костра, под комариное жужжание, он угощался немудреным припасом и засыпал сном крепким, но всегда чутким, чтобы ухо могло сразу подать весть сонному сознанию о любом недобром лесном шорохе, человек ли то, зверь ли.
Ростом Ерофей похвастаться не мог: рановато пригнула его сутулость. И не от старости она, не от усталости, а потому, что все время работал сгибая спину. Мягкие, как лен, волосы он подстригал скобой. Чтобы не мотались на лбу, отгребал их по обе стороны, закладывая пряди за уши. Чалая борода не удалась ни по цвету, ни по доброте волоса, и Ерофей втайне сокрушался, что такой бороды, как была у его деда, у него самого никогда не вырастет. Силы же в ногах и руках у Ерофея хватало.
С ранней весны вплоть до осеннего ненастья Ерофей жил в лесах, являясь домой, когда иссякали харчи. Зато зимой был лежебокой. Проворная жена управлялась по хозяйству сама. Жил Ерофей исправно. Его избу в слободе показывали новичкам, чтобы приободрить их насчет житья-бытья шарташских кержаков.
Несмотря на небольшой счет прожитых лет, Ерофея в слободе уважали, хотя по характеру он мало походил на заправского кержака: на лицо был не хмур, исподлобья не смотрел, молчать на людях не любил. Подвижность, верткость в нем – от поисковой работы. Хоть и не короток лесной день от зари до зари., все равно медлительных, неуклюжих не любит!
Старики уважали Ерофея за то, что никогда не пренебрегал их советом, а сверстники за то, что не бывал холоден к чужой беде, не кичился удачами и не скрывал от других горщиков приемов поиска, делился с ними всем, что углядывал диковинного в лесах и на горах.
Только одного не хватало им с женой для радостной полноты жизни – детей. Но и с этим постепенно свыклись; что ж, мол, всякому своя планида: в одних семьях – ребят девать некуда; в других – не дает бог ни единого...
2
Возле изб шарташской слободы цвели черемухи.
Темнота майского вечера была легкой и прозрачной. С озера порывами налетал ветерок, носил пряный аромат по всей слободе. В зеркало озера вместе с небом гляделся молодой месяц. Отраженный в недвижной воде, он походил на золотую серьгу, заботливо уложенную ювелиром в синий бархат. Народясь под дождь, месяц только третий вечер выходил прогуляться, но по-настоящему светить еще не научился.
Лесное эхо издалека несло по воде глухие стоны обжимных молотов, как бы напоминая, что крепость Екатеринбург с казенным Верх-Исетским заводом всего лишь в семи верстах от озера Шарташ.
В это утро пришел в слободу старец странник, а людская молва о его нежданном приходе сразу взбудоражила слободу.
Говорили слобожане, что пришел старец из далеких мест исконной Руси с вестью о новом пророческом знамении. Пришел разнести эту весть по лесному уральскому краю, по тайным убежищам, скитам и селениям староверов, именуемых, в честь реки Керженца, кержаками.
Нежданно для Прасковьи в тот же день раньше срока вышел из лесу с поиска Ерофей Марков.
В Березовском логу под корнями поваленной лиственницы извлек он из земли, прилипшей к корням, друзы изумруда с большими вкраплениями красного, как кровь, неведомого самоцвета.
С этой неожиданной находкой Ерофей без раздумья кинулся в Екатеринбург, к горному командиру Татищеву. В крепости самого генерала не застал, отдал друзы прямо в руки Герасиму, памятуя строгий генеральский наказ приносить всякую редкость без замедления. Впопыхах, по лесной дороге в крепость, Ерофей нечаянно обронил котомку с харчами. Потому из крепости в лес не вернулся, пошел домой...
В темени вечера, когда молодой месяц любовался собственным отражением в Шарташ-озере, возле резного крыльца старостиной избы проблескивал между стволами и шапками черемух огонь «думного костра». В его свете собрались обитатели слободы послушать сказание пришлого старца.
Позади мужей, отцов и братьев, сидевших в кольце вокруг костра, тесно сгрудились женщины под сенью цветущих черемух. Им тоже было слышно каждое слово странника. Голос у него – без хрипоты и глухости, происходящей, как известно, от табачного зелья и казенного вина.
Пришлый старец сух, костист, высок. Голова лысая, зато клин седой бороды утянулся ниже пояса. На старце чистая холщовая рубаха, штаны в синюю полоску, кое-где порванные о лесные сучья и заботливо залатанные. Он бос. А пошевелит руками – скрежещут на теле, под рубахой тяжелые цепи вериг.
Старец в начале беседы назвал слобожанам свое имя, упомянул, откуда родом и в каких лесах хоронился на Руси в антихристовы годы, сберегая преданность истинной вере. Только рассказав все это, стал говорить, зачем пришел бродить по Каменному поясу. Сказал, что обойдет его весь, а потом подастся в сибирскую сторону, еще более глухую и малолюдную.
Когда с озера прозвучал печальный и звучный крик лебедя-кликуна, старец замолчал, истово перекрестился двуперстным знамением. Лебедь – один из многих крылатых обитателей озерного берега – еще долго курлыкал, будто в тоске одиночества. Может быть, подруга отдает свое тепло будущим птенцам, еще заключенным в яичной скорлупе. Может, и вовсе остался без спутницы этот крылатый самец, но всем собравшимся было слышно, как он медленно кружит над тихой водой с печальным и призывным курлыканием, понятным и птице и человеку. Пока лебедь летал и подавал голос, старец молча глядел на людей у костра, сидевших в тревожном ожидании, с хмурыми лицами. Был в кольце слобожан и Ерофей Марков.
Снова заговорил старец, более приглушенным голосом:
– Отныне, братья мои во Христе, да будет для вас и для чад ваших святой и бессмертной душа лебедя-птицы, подавшей нам свой вещий голос в сей час вечерний.
Отныне, с часа сего вечернего, не должна рука ваша чинить смерть сей птице. Ни единому из вас не должно, вольно али невольно, убивать лебедя. Ибо волей господа живет в теле лебедя душа истинно человеческая. Переселилась в лебедей-птиц святая душа царевича Алексия, на лютую смерть посланного своим родителем Антихристом – царем Петром, сгинувшим гонителем истовой веры христианской. Господь подал о сем знамение благочестивым людям на Ильмень-озере. Увидали люди на том озере лебедя в короне царской с венцом огненного сияния вокруг главы.
Праведные старцы наши истолковали сие знамение как господен перст и порешили на веки веков почитать лебедя святой птицей. Перешла в нее бессмертная душа царевича Алексия, кою не властен был загубить на дыбе царь-отец в бренном теле сына.
Памятуйте, братья, завет ильменских старцев не касаться грешной рукой жизни лебединой. На главу всякого ослушника падет кара, и перейдет та кара на сына и внука, на всякую главу в его роде, и не будет от той кары пощады даже младенцу в утробе матери, все за тот же стародавний грех ослушника-родителя.
Повествуйте о сем завете всем истинным христианам, до коих сам не смогу сыскать путей в здешних лесах. Поучайте о сем знамении всех отступников от двуперстия, поучайте о святости лебедя-птицы, не позабывая, что за укрепление сего завета людям русским простятся многие вольные и невольные прегрешения...
Слушая старца, никто из слобожан не заметил, как закатился за леса рогатый месяц, как затемнили прозрачное небо дождевые тучи, хлынул частый, спорый весенний ливень. Головешки в догорающем костре зашипели и стали дымить. А стоявшие и сидевшие под дождем слобожане опомнились только тогда, когда старец сам обратился к ним с ласковым призывом:
– Ступайте с миром на покой, братья и сестры, памятуйте о поведанном.
Под веселый стукоток весеннего дождя, под бульканье капель в лужах никто из шарташских слобожан не смыкал глаз. Во многих избах слышалось пение священных псалмов. У раскрытых окон люди слушали, как с озера доносились встревоженные лебединые крики, то далекие, едва слышные, то совсем близкие...
3
Всю ночь шел дождь, то стихая, то усиливаясь, и закончился на другой день после обеда, когда Шарташ-озеро, леса и слободу снова озарило радостное солнце.
На рассвете, не обращая внимания на дождь, седые как лунь старики вышли на берег озера, бродили нахмуренные, погруженные в раздумья и внимательно наблюдали за плавающими лебедями.
Ерофей Марков с женой тоже беседовали до утреннего света о давешних словах старца. Потом Прасковья ушла доить корову, а Ерофей под голоса первых петухов прилег на лавку, но заснуть не смог: не шла из головы мысль о странном видении, что примерещилось ему в лесу, как раз перед находкой изумрудов. Ерофей Марков, человек общительный и словоохотливый, страдал от невозможности поделиться необычным переживаньем. Жене сказать? Испугается! Старикам-слобожанам? Не выдаст ли этим некую тайну, которую неведомые силы земли решили пока открыть ему одному? А тут еще и слово старца-кержака! Так и лежал на лавке Ерофей Марков, молчал и думал свою думу.
Тем временем из-за оконной слюды все явственнее шли в избу утренние звуки слободской окраины. Щелкал кнут пастуха. Глухо позванивали ботала на коровах, угоняемых за околицу, к поскотинам. Блеяли овцы, где-то стучали топоры. Ерофей поднялся и достал из котомки три кристалла, завернутые в мох. Изумруды. Прищурясь, горщик стал внимательно разглядывать их. Результат осмотра был тот же, что и раньше: да, на двух камнях среди густой зелени изумрудов заметны будто капельки крови. За осмотром камней застала его вернувшаяся со двора Прасковья.
– Чем залюбовался?
– Изумрудами. Глянь-кось. Не кровь ли это в них?
Боязливо перекрестившись, Прасковья взяла из рук мужа кристалл, отошла к окну и тоже долго рассматривала его со всех сторон.
– И то ведь, твоя правда. Вовсе будто свежая кровь.
– Кумекаю, родимая, что я новый самоцвет в наших местах сыскал. Поручик Рефт намедни говаривал мне, что есть на свете кровяные камни, рубины. Говорит, их одинова в уральской земле на Мурзинских канавах нашли, только неказистые и по цвету тусклые.
– Тому, что иноземцы брешут, не больно-то верь, муженек. Знаешь, Ероша, чего я тебе бабьим умом присоветую? Ступай-ка ты поскорее к нашему генералу да покажи ему эти камни.
– Да снес уж. Крупнее этих, богаче цветом. Как нашел камни, так и подался в крепость.
– Чего сказал сам-то?
– Самого дома не застал. Слуге Герасиму находку отдал.
Прасковья с обидой глянула на мужа, покачала головой, положила кристалл на стол.
– Скрытничать стал от меня, Ероша. Прежде о любой находке я пораньше генерала узнавала.
– Винюсь. Только причина – не скрытность моя перед тобой, а старец. Из крепости шел домой тебе про находку и еще кое о чем рассказать, да подле поскотины меня вестью о старце с памяти сбили. Не серчай!
– Нешто я не вижу, что ты какую-то думу таишь?
Ерофей не хотел до времени тревожить жену своим удивительным переживанием в Березовском логу. Зачем у женщины покой и сон отнимать? Может, со старцем пойти посоветоваться? Но тот хоть и святой веры человек, а пришлый, ему тайны земли уральской неведомы... С кем же поделиться вестью о непонятном, загадочном и многозначительном видении?
Ерофей неторопливо собирался к завтрашнему выходу на поиск, избегал вопрошающих взглядов жены и терялся в тягостных раздумьях.
Под вечер того же дня, свернув с Екатеринбургской дороги, тройка потных и обрызганных вороных коней под охраной десяти драгун при офицере, звеня бубенцами, пронеслась по слободе и остановилась у крыльца старосты.
Из коляски вылез хмурый Василий Никитич Татищев. Кивнул на поклон испуганного старосты, осведомился об Ерофее Маркове. Узнав, что горщик дома, велел позвать.
Сынишка старосты играл с ребятишками под черемухами. Посланный за Ерофеем, он стрелой полетел по улице, разбрызгивая босыми ногами жидкую грязь.
Татищев даже улыбнулся ему вслед.
– Ишь как лупит! Ветерок парень!
Староста еще не оправился от испуга. Решил, что командир уральского края явился чинить допрос о вчерашнем крамольном старце. Но когда генерал осведомился о Ерофее, староста даже обмяк от радости. Неужто пронесет опасность?
– Старшего твоего сына знаю. На рудознатца у меня в крепости обучается.
– Так точно. Только выйдет ли толк? Наука рудная мудреная, немецкая. Может, нашему-то, мужицкому понятию и не по силам? Слыхал я, будто не по-русскому обучают. Эка страсть! Не одинова говаривал я сыну, чтобы не лез к рудному делу.
– Ну и зря парня с панталыку сбивал. Мне свои рудознатцы позарез нужны. Русская смекалка у рудознатцев да литейщиков мне всего дороже. В их дерзании смелом – вся будущность отечества нашего, могучесть его. О сыне твоем мне докладывали. Говорят, старательный и толковый... Как меньшого зовут, которого за Ерофеем послал?
– Тихоном.
– Имя-то тихое, а парнишка прыткий. Непременно и этого ко мне в обучение присылай... Всех-то сколько у тебя?
– Парней четверо да три девки.
– Хорошо. Бог вас, видать, не обидел!
Драгуны, спешившись, стояли возле коней. О приезде главного командира знала уже вся слобода. Из окон украдкой наблюдали многие глаза за событиями у старостинои избы.
Заложив руки за спину, Татищев прохаживался по свежей траве, мокрой и усыпанной опавшими белыми лепестками. Их сбило с черемух дождем. Наконец показался Ерофей с мальчиком старосты. Оба запыхались от быстрой ходьбы.
– Здравствуй, Ерофей! Спасибо, постреленок! Скажи-ка мне, малец, чем станешь отечеству пользу приносить?
– Как велите.
– Молодец! Горным делом велю тебе заняться.
– Горщиком, стало быть, вроде дяди Ерофея?
– Уж это сам смотри: либо горщиком, либо литейщиком. В том и другом ремесле одинаковая польза и тебе и отечеству. Подрастешь – грамоту осилишь.
Татищев повернулся к Ерофею, нахмурился.
– Нужен ты мне. Проводи-ка меня к озеру.
Генерал пошел по тропе впереди Ерофея. На берегу Татищев уселся в старом рыбачьем челне, под тенью березы.
– Видишь, Ерофей, самолично к тебе в гости приехал. Великое тебе спасибо за находку. Зело обрадовал меня! Редкостную друзу отыскал. В Петербург отправлю. Пусть в столице полюбуются, какие самоцветы в нашем крае дельные горщики отыскивают. Ты опять, Ерофей, моим немцам нос утер... Знаешь, какой самоцвет открыл?
– Поведайте, коли милость будет.
– Рубин.
Ерофей перекрестился.
– До сих пор знатные рубины только в Индии обретали, превыше изумруда ценили. Даже у статуи Будды рубин в чело вправлен. Царственный камень! Не ожидал, поди, такой самоцвет отыскать? Никто в крепости из заморских умников глазам верить не хотел, как показал им твою находку. А поручик Рефт сразу догадался, кто, мол, эдаких два самоцвета редчайших в единой слитной друзе найти мог. Так сразу и сказал, что только Ерофей Марков. Вот ты каков. Честь и слава! Спасибо тебе уже сказал, но этого маловато! На досуге придешь ко мне в крепость за достойной наградой.
– Премного благодарим.
– Молодец! Впредь на поиске в оба поглядывай. Глядишь, еще что-нибудь диковинное сыщешь. Такой уж у тебя талант счастливый родной край прославлять. Притом не забывай мой наказ: всякий незнакомый камешек мне приносить и... демидовским сыщикам в лапы не попасть.
– И то и другое завсегда в памяти держу, господин командир. Даже во сне будто один глаз приоткрыт всегда.
Татищев залюбовался плавающими лебедями.
– Не пугливые. Они у вас тоже ведь царственные. Что твои самоцветы.
От этих слов Ерофей содрогнулся. Неужто этот суровый командир уже знает о беседе старца с мужиками? Он искоса глядел на худое, болезненное лицо горного начальника. А тот как ни в чем не бывало оглядывал местность.
– Что ж, лебедей-птиц, видать, у вас не трогают. Привольно им тут. После смрада доменного в моей крепости здесь воздухом смолистым подышать хорошо. А березы небось слобожане сами насадили?
– Вестимо, наших рук дело.
– Говорят, у тебя на глазах эта слобода поднялась?
– Так точно. Мальчонкой по шестому году с дедом сюда пришел. Миром и порешили здесь на жилье стать. Местечко с понятием выбирали.
– Дед давно помер?
– Давненько... Уж первый-то крест иструхлявел. Надысь новый срубил.
– Дельно. Отошедших в иной мир надо помнить и почитать. Знаешь, что на сей счет некий мудрец говаривал: глядя на могилы – сужу о живых!
Татищев опять неожиданно пристально и чуть насмешливо глянул прямо в лицо Ерофею, будто между ними, старым генералом, слугою царя Петра, и молодым еще горщиком-кержаком, было какое-то тайное соглашение, не требующее слов, обоим понятное и нужное. Оба помолчали, как бы понимающе. Шло молчаливое, скорее похожее на торг, чем на поединок, не высказанное словами испытание кержацкой твердости.
– Может, скажешь мне, царскому слуге, где друзы нашел?
Опять прошло несколько минут тишины. Что это – цена молчания о приходе и наказе старца? Цена сходная за благополучие всей слободы... Ерофей чуть улыбнулся.
– Скажу, ваше превосходительство, ибо всем миром мужики великое доверие к вам имеют. Извольте слушать: ежели от крепости напрямик считать, то, почитай, до того места верст тридцать укладется, а то и поболе. В старом Березовском логу, неподалеку от Медвежьих ям посчастливилось. Листвень там могучую зимусь бураном вывернуло. Вот под ней и нашел.
– Раньше теми местами хаживал?
– Как же? Обязательно хаживал. Поискивал в логу камни, да только, окромя строганцев, дельного ничегошеньки не находил.
– Нежданно набрел на счастье? Раньше и следов не находил, а вдруг разом и далась в руки такая диковинка? Верить ли тебе?
– Как изволите. Пошто бы мне таиться от вас? Чать, не демидовский ловчий, а наш генерал. Уж так вышло, как сказываю.
– Когда сызнова в лес?
– Завтра.
– Помоги тебе бог! Послушаешь моего совета?
– Извольте дать. Коли смогу осилить – разобьюсь, а исполню.
– Ступай прямо к тому месту и бей под лиственницей глубокий шурф. Понял меня? Уверен, что не то еще сыщешь.
Ерофей изменился в лице.
– Дозволите ли слово поперек молвить?
– Говори.
– Неохота бы приказа ослушаться, только идти туда боле не след.
– Почему?
– Увольте, ваше превосходительство, господин барин. Не посылайте меня туда на погибель. Боязно мне там. И неспроста!
– Ну, брат, озадачил ты меня! Уж теперь объясни, в чем причина твоего страха? Или приключилось там с тобой неладное что?
Горщик склонил голову и молчал.
– Неужели в этом не откроешься? Вроде бы понял, что тайны мужицкие генерал Татищев умеет хранить?
Ерофей Марков перевел дух. Что ж, с таким начальником можно говорить и о том, о чем не смог пооткровенничать даже с женой.
– Господин барин! Скажу, не таясь: сугубо непонятное со мной в лесу в том урочище приключилось, где потом и те изумруды с рубинами нашел. Будто вроде как наваждение. Видать, запрет на те места нечистая сила наложила.
– Пустое плетешь! Крест на себе носишь? Какое наваждение? Может, устал, заснул, да что-нибудь во сне и привиделось... Чего ж тебя так напугало там?
– Видение мне было.
– Ну, видишь? Просто померещилось.
– Никак нет, не померещилось! В дневную пору все приключилось...
– Ну что же ты замолчал? Я тебя не неволю. Коли тяжело говорить – отложим эту беседу.
– Да нет уж, от вас ничего теперь не скрою. Извольте дальше слушать. В Березовском логу, возле давнего пожарища, одно местечко, больно мне поглянулось. Заночевал возле него да с зарей и зачал шурф бить. До самого, почитай, полдня землю зря колупал. Песок и глина, вперемешку с галькой. Пустая порода выдалась. Нашел три немудреных строганца. От такого просчета притомился раньше времени – в карактере это у меня: когда в обиде – устаю быстрее. Бросил работенку, запалил костер, сварил толокно. Костер-то под солнышком развел, стало жарко. Скинул озям, пошел в тень под ель толокно хлебать. Хлебаю, а сам про незадачу с шурфом думаю. Тут-то и приключилось. Чтото меня тянет назад на костер мой поглядеть. Оглянулся на него и – обмер: из огня голова толстенного змея вылезает, глаза большущие, зеленые. Изо рта тоже огонь пышет, а сам весь в огненной золотой чешуе гремучей. Так я оторопел, что котелок с варевом наземь уронил, а сам от змея глаз отвести не могу. Гляжу, покачал он сперва головой над костром, потом стал кольцами из огня выползать. Выполз, значит, да эдак, горбами изгибаясь, и пополз по логу. А в длину тот змей никак не короче семи сажен. Ползет по логу, а чешуя огненная будто звенит, из-под брюха на землю во все стороны искры огненные сыплются. Далеко прополз по логу да разом эдак же и ушел сызнова под землю...
Рассказ Ерофея Татищев слушал внимательно, сняв парик и обмахивая лысину красным фуляровым платком.
– Тут хотел я, ваше превосходительство, крестным знамением себя осенить, но никак рукой пошевелить не могу, а сам будто чую: кто-то на меня зырит! Прямо вот и чую чей-то погляд на себе. Не помню, как сумел на ноги вскочить, назад обернуться. Тут опять похолодел от страху. Стоит шагах эдак в десяти от меня рослый богатырь-мужик. Одежа на нем золотая, с самоцветами. Борода тоже золотая, волнистая. И шапка и сапоги опять же золотые. Весь, стало быть, будто золотой. Глядит на меня, а я на него. Постоял он и пошел в лес. Тут, слава те господи, смог я молитву прочитать, а сам глаз с него, идущего, не свожу. Идет он по лесу, какую ветку ни заденет – с нее искры летят. Так и ушел. А в лесу тихо стало, до того тихо, что стук моего сердца, должно, тому богатырю еще долго слышался!
– Ушел, говоришь? А ты что стал делать?
– Я, стало быть, не медля кинулся костер гасить. Затоптал огонь и пошел к шурфу снасть собирать. Ударил еще в сердцах десяток раз кайлом... тут тебе первая друза! Меня аж в пот кинуло. Вот, думаю, к чему мужик тот, золотой, сюда змея своего посылал!.. Ударил с другой стороны – вторая друза, за ней третья. И еще мелких камешков таких же штуки три сразу. Потом какая-то слабость на меня напала, испугался я, выбрался из шурфа и – бегом с того места!
Татищев надел парик, положил руки на плечи Ерофею, глянул в глаза горщику.
– Правда ли видение было тебе наяву? Не сон ли то привиделся тебе у костра?
– Истинный Христос, наяву!
– Верю. Это, Ерофей, знамение великое. Талант у тебя огромен. Особенный ты человек. Это раз. И земное богатство там – велико и драгоценно. Это два. Сила земли с твоей силой встретилась и знак тебе дала: дерзай, мол! Ты не страх должен перед тем местом иметь, а веру в свою планиду счастливую.
– Стало быть, вы изволите думать, видение не от нечистой силы исходит?
– Сила земли уральской сама тебе место указала. Сила земли сего благодатного края. Понял? Давно я в разуме своем мысль держу о невиданном богатстве здешнем. Неужто сама земля догадку подтверждает? – тихо говорил Татищев, будто наедине с самим собой. Опомнился. Повернул Ерофея Маркова лицом к озеру: – То, что сейчас прикажу, помни. Но другому кому и под пыткой не открывай. Так вот: когда сгинет в твоем разуме страх, ступай на те места и с молитвой, не спеша, все вокруг и около твоего костра изрой шурфами. Всякий камешек оттуда мне неси. Земля уральская тебе знамение о самом великом богатстве подала. Знамение твое про золото.
Ерофей выронил шапку.
– Есть, брат, там золото. Ищи его и верь, что непременно сыщешь. Ты, и никто иной. На Каменном поясе русские руки русское золото для отечества сыщут.
Оба обернулись на торопливые шаги, увидели бежавшего человека.
Татищев еще издали узнал шайтанского шихтмейстера Ярцева.
– Ваше превосходительство, свидетельствую свое почтение. Прошу извинить, что осмелился потревожить.
Что такое с шихтмейстером: парика нет, мундир застегнут не на все пуговицы, ботфорты в грязи. Весь потрепан. В таком виде предстать перед начальником?
– Откуда вы? – спросил Татищев сухо. – Что у вас случилось?
– Сейчас из крепости. Воротился только что из баранчинских лесов. Ездил туда по делам службы с демидовским человеком Мосоловым.
– Просил бы только покороче. Опять, видимо, какие-то демидовские фокусы?
– Никак нет. Дело чрезвычайное. Необходимо было немедленно, безотлагательно сделать в канцелярии главного горного управления заявку на новое рудное место. Ради этого спешил, господин генерал. Открыл его на реке Кушве крещеный вогул Степан Чумпин. По его словам, там целая гора из одного железа состоит.
– Быть не может! Железная гора? Чем же они подтверждают эти басни?
– Вот образец руды из Железной горы. Получен от вогула Чумпина.
Татищев осмотрел образец.
– Удивительно! Настоящий железняк.
– Магнитный, ваше превосходительство.
– Кто, кроме вас, знает об этом открытии?
– Только приказчик Демидова Мосолов. Но теперь это уже не важно. Заявку я, как сказано, уже сделал по всей форме. Находка закреплена за казной. Потому и скакал из Баранчи в крепость как угорелый. Поспел! Ровно через полчаса следом за мной прискакал и Мосолов, и еще Василий Демидов, сынок ревдинского цегентнера Никиты Демидова-младшего. Они тоже было заявили права на это рудное место, но слишком поздно.
– Сами место видели? Побывали у той горы?
– Нет.
– Почему же так? – нахмурился Татищев.
– Времени не было. От места, где вогул передал мне образец руды, до самой горы не меньше семидесяти верст, все лесами. Если бы необдуманно я решил туда поехать на осмотр, Демидовы обязательно поспели бы раньше меня заявку сделать.
– Вы правы. Их спешный приезд подтверждает это. Место, очевидно, богатое. Службу отечеству вы несете честно, благодарю вас! Итак, вам указал рудное место крещеный вогулич?
– Так точно. Вогул Степан Чумпин, коего я встретил в лесу на берегу Баранчи.
– Ради награды небось принес образчик? Смотрите, нет ли все-таки обмана?
– Смею заметить, что такую руду видеть приходится впервые.
– Образец-то, конечно, знатный. Только велико ли месторождение? Какая к нему дорога? Как близко от Чусовой? Стоит ли овчина выделки? Боюсь, не осрамиться бы нам с такой заявкой.
– Чумпин прямо сказал: гора из железа.
– Да будет вам, Ярцев, фантазию тешить! Вогул ему сказал, а Ярцев уши развесил.
– Вогулы, ваше превосходительство, народ честный. Зря не скажут. По их словам, рудная гора возвышается над лесами.
– Ну, будет фантазировать, Ярцев. Согласен: вогулы – не вруны, но что они могут смыслить в рудном деле?
Вновь осмотрел обломок руды, причмокнул губами.
– Действительно! Такой руды и я здесь не встречал еще.
– Магнитные свойства очень сильны.
– Вижу. На изломе осколки притянуты... О вас, господин Ярцев, я всегда был хорошего мнения. Вы его опять подтвердили. Спасибо вам за верную службу.
Татищев обнял и поцеловал Ярцева. Засмеялся.
– Видимо, и парик на пути остался?
– Прошу прощения. Позабыл его в канцелярии горного управления. Спохватился, когда уже возле шарташской слободы был. Вас разыскивал. Надо было обо всем в известность поставить. От души прощения прошу.
– От души прощаю. Я тут тоже полчаса назад без парика разгуливал. Сказать по правде, немало взволновался из-за беседы с этим вот горщиком. Знаете его?
– Никак нет.
– Запомните его. Перед вами старожил сей слободы Ерофей Марков. На днях нашел в этих лесах редкую друзу: слияние двух самоцветов – изумруда и рубина.
– Вот удача!
– Да. Великая удача у Ерофея. Может быть, и у вас окажется подлинно великая удача, от коей процветут казенные заводы. На какой реке, говорите, эта ваша «Железная гора»?
– На реке Кушве.
– Хорошо, что вы, Сергей Иванович, вырвали рудное место из демидовских клещей. Что ж, воротимся в крепость, а завтра без промедления вы с горными офицерами покатите Железную гору смотреть. Только где вы теперь вашего вогула сыщете?
– Не извольте беспокоиться. Никуда со своего зимовья на Баранче не уйдет. Ведь награды ждет.
– Дождется. А если не найдете своего вогула, самого заставлю Железную гору искать... Река Кушва? Что-то не помню такого названия. Сядете ко мне в экипаж, по дороге расскажете все поподробней.
Татищев направился к слободе.
– Будь здоров, Ерофей. Не забывай, о чем беседовали.
– Как же можно про такое забыть? Низко кланяюсь...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Как вешняя вода уральских рек затопляет луга и низины, так и народная молва об открытии Железной горы разлилась по краю.
Открытая Степаном Чумпиным кушвинская руда оказалась не просто богатой залежью магнитного железняка. Люди скоро поняли, что открыто не только чудо Урала, но и чудо всей земли, всего мира.
Ожидаемого богатства – двух горстей серебра – вогул Чумпин за свое открытие еще не получил от русского генерала. Но шихтмейстеры Ярцев и Куроедов все же дали Степану рубль восемьдесят копеек за то, что он проводил их к горе. Степан просил больше, но они отказали.
Из полученных денег восемьдесят копеек Степан отдал собрату по зимовью Ватину: Чумпин передавал образцы руды Ярцеву и Мосолову в присутствии Ватина.
Открытие необычайного месторождения взбудоражило весь край. Частные заводчики исходили завистью, с пеной у рта, до хрипоты спорили о барышах, какие, по примерным подсчетам, Железная гора могла дать тому, кто примется за ее разработку.
Никита Никитич Демидов в своем ревдинском дворце кипел, выходил из себя от припадков бешеной злобы. Выместить эту озлобленность на приказчике Мосолове Никита Никитич не мог, ибо тот пользовался покровительством Акинфия, поэтому Никита срывал злость на жене, на домашней челяди и подневольном рабочем люде.
Взволновало открытие руды и крестьян и охотников, живших по берегам Кушвы в соседстве с горой. Люди эти понимали, что судьба их ждет одинаковая – и землепашца и зверолова. Да и чей бы завод ни поставили на Кушве – казенный ли, демидовский или иной купеческий, все деревни так или иначе припишут к заводу, а самих жителей заставят работать на рудниках.
Прощай, привычная, вольная жизнь!
Татищев ликовал. Находка обещала осуществить его лучшие надежды и мечты о процветании казенных заводов. С обычной для него горячностью он сразу стал готовиться к постройке нового завода, который, по беглым подсчетам, сулил стать не просто прибыльным, а необыкновенно доходным.
Руда из Железной горы, испытанная в крепостной лаборатории, в малой печи, дала с пуда одиннадцать фунтов лучшего мягкого железа. Для сплава готового товара из нового Кушвинского завода уже удалось сыскать водную дорогу до самой Чусовой. Добыча руды должна обходиться в гроши. В Петербург послали подробное донесение о чудесном месторождении. Располагая по новой инструкции правом открывать казенные заводы по своему усмотрению, Татищев решил начать сооружение Кушвинского завода тотчас же, как самолично съездит на Железную гору и убедится в том, что самые смелые чаяния сбываются.
* * *
Невьянского хозяина, Акинфия Демидова, не было на Урале в дни открытия Кушвинского месторождения. Еще в конце апреля он выехал в столицу. Весть о чудесной горе сообщил Акинфию брат Бирона. Ошеломленный сообщением, Акинфий послал к брату Никите в Ревду тайного гонца с письмом. Тот скакал и день и ночь. Прочитав послание брата из Петербурга, Никита Никитич даже занемог. Приказчики и рудознатцы на всех демидовских заводах приуныли. Их сытым, наглым рожам не на шутку грозили хозяйские кулаки. Плохие вести из Петербурга частенько оборачивались для холопов мордобоем.
Мосолов, главный виновник неудачи, считался у Демидовых старшим приказчиком и имел большие права, но тоже побаивался хозяйского гнева, вспоминая, что в былые годы не раз случалось пробовать тяжесть Акинфиевой руки. Мосолов не мог простить себе некой стародавней оплошности. Ведь еще целых четыре года назад лично к нему приходил отец Чумпина Анисим и говорил о какой-то диковинной железной горе!.. На эти слова вогула Мосолов тогда не обратил никакого внимания. Кляни теперь свою незадачливую судьбу, ищи забвения на дне стакана, злись, отводи душу на рабочем народе, кровяни ему лица направо и налево, без всякого разбора!..
Давно ли пронеслась молва по Уралу о чудесной рудной находке? А ведь уж не одна сотня людей проклинает неведомого вогула Степана Чумпина, открывшего майской ночью в зимовье на берегу Баранчи тайну горы русским начальникам и дельцам.
* * *
Недели через две после отъезда Акинфия Демидова из Невьянска в Петербург сын Демидова Прокопий, живший в столице, проведал о поездке отца и тут же сам отправился на Каменный пояс. Предугадав, какой дорогой поедет отец, Прокопий, чтобы не встретиться с ним, поплыл в Невьянск водой по Каме и Чусовой, а уж там добрался лесами до родительского гнезда. Причину этого неожиданного путешествия Прокопий таил про себя: он просто соскучился по Сусанне. Разумеется, отцовским приказчикам он привел иные доводы, чисто делового порядка.
Неожиданный приезд Прокопия озадачил приказчика Шанежку. Как быть? Он сразу вспомнил наказ Акинфия не спускать глаз с Сусанны. Не сделать ли вид, будто и он ничего не заподозрил? Не отойти ли пока в сторону? Подальше от греха? Однако после долгих раздумий он все же послал в столицу гонца с извещением, что молодой хозяин живет в Невьянске.
Открытие кушвинского рудного чуда не слишком поразило Прокопия. Конечно, он огорчился, потому что главное чудо уральских недр оказалось не в демидовских руках. Но сильного волнения он по этому поводу не испытывал: не до того было! Кроме того, он терпеть не мог своего дядю Никиту за болезненную жадность, желчность и мелочность. Полагая, что от мосоловского просчета больше всех пострадал именно Никита, Прокопий Акинфиевич втайне даже радовался дядиной неудаче.
Время шло. В мочажинах и болотах обильно рассыпался голубой бисер незабудок.
Куранты невьянской башни каждый час бесстрастно играли свой мелодичный менуэт...
2
Безветренная июльская ночь до того тиха, что лист не шелохнется на дереве. Темнота сгустилась, и не под силу людскому глазу одолеть ее. Полыхают где-то вдали вспышки зарниц, на короткие миги слепят мерцание тихих звезд. В демидовском дворцовом парке изредка кычут совы.
Плакучие березы склонили ветви над водой пруда. Поверхность его укрыта плывунами; на блюдцах листьев лежат чашечки водяных лилий. Несколько чугунных скамеек скрыты среди прибрежных берез. На одной из них – Прокопий Демидов и Сусанна. Давно вышли в парк и присели у воды. Колокола на башне прозвонили половину двенадцатого.
– Теперь Акинфия надо со дня на день ждать, – тихо говорила Сусанна. – Намедни дозналась, что проклятый Шанежка ему о тебе весть подал.
– Не велика беда, – беспечно отвечал Прокопий. – Приедет отец, а мы крадучись встречаться станем. А может, еще и задержится в Петербурге – дела у него там немалые.
– Обязательно прикатит, раз ты здесь. Сердцем чую: гложет его ревность, как голодная крыса. Подозревает, что мы любим друг друга. Думает, как бы сынок любимую не отбил. Боишься отца, Прокопушко? Молчишь? Неужто зазорно сознаться? Знаю, что боишься! А ты у меня поучись. Я вот нисколечко его не страшусь.
– Твоя сила – над ним. А я – сын ему. Значит, его сила надо мною.
– Верно. Есть моя сила над ним. Бабья. Весь народ в вотчинах Акинфия боится, а ко мне в опочивальню он без спросу войти не смеет.
– Не надо об этом.
– Ишь какой! Нельзя помянуть, что он ко мне в опочивальню ходит? Вот ты и спаси меня, увези отсюда поскорей. Все обещаешь, что к себе возьмешь в столицу. Я же не корю тебя, что хромоножку свою не позабываешь. Думаешь, не знаю, что иную ночь, тайком от меня, с ней коротаешь?
– Про это кто тебе наплел?
– Да сама видела, как эта святоша Настенька поутру от тебя убегала.
– Неправда! Не любишь ты Настеньку за старое, за то, что раньше у меня с нею было. Хочешь, вовсе сгоню ее отсюда?
– Пошто девку гнать? Она неповинна в том, что ты ее красоту приметил. На лицо не хуже меня, только умения в ней нет, хитрости бабьей, повадок ласковых. Не сумела она тебя властью бабьей так опутать, чтобы ни на кого и глянуть не мог... Так и пусть себе возле нас живет, от отца нас заслоняет.
– Тише, Сусанна!
– Ох какой ты усторожливый стал. В ночной темени даже берез страшишься.
– А в тебе откуда эдакая прыть? Нешто запамятовала, что здесь вокруг нас везде уши? Небось каждому из слуг лестно отцовскую милость шепотком заслужить.
– Чудные вы, мужики! Воровать ходите, а, по пути, своей же тени пугаетесь. Ну, молчи, молчи, только дай на груди твоей погреться...
В темноте, притаившись за толстым стволом березы неподалеку от скамейки, слушала каждое слово этой беседы девушка Настенька. Она по пятам кралась за гуляющей парой.
Покинутая, измученная ревностью, девушка не находила себе покоя больше месяца. Прокопия она любила. Холодела при мысли, что потеряла его навсегда. Сама, преодолевая стыд, подкрадывалась к его покоям в доме, забиралась в опочивальню и, не заставая его, ждала там чуть не до рассвета. Понять не могла, отчего не ласков с нею молодой хозяин в свой последний приезд.
Мучила себя догадками. Стала тайком следить за ним и узнала наконец горькую правду. С ужасом поняла, кто ее злодейка, разлучница. С горя убежала тогда в парк, кинулась оземь, изошла горючими слезами. Теперь от всей души молилась, чтобы скорей воротился из столицы хозяин-отец. В тихой Настеньке вспыхнула такая ненависть к Сусанне, что каленым угольем жгла душу, затмевала все помыслы. Но где взять сил одолеть злые чары разлучницы? Ведь сама-то взята была Прокопием лишь для временной забавы, сознавала, что полюбить его было безумием для подневольной девки. Но уж от Сусанны-то, змеи, никак не ждала тайного удара! Проклятая ночная воровка! Злоба закипала в Настенькином сердце против Сусанны. Ведь для блажи, со скуки сманила к себе Прокопия! Разве эта капризная, своевольная женщина таит в себе ту нежность, что живет к любимому человеку в ее, Настенькиной, верной душе?
Сегодня с вечера выслеживала любимого. Дождалась, когда он затемно пришел в парк. Кралась за березами, неслышная как тень. Видела и слышала, как позднее пришла Сусанна. В темноте Настенька каждым нервом чувствовала, что любовники обнимаются и целуются. Слушая их, Настенька поняла, что хозяйка дома украла любовь молодого хозяина еще с прошлой осени. Значит, все время ходила воровкой. Обманщица! Ведь как ласково разговаривала с обокраденной, как часто садилась слушать Настенькины песни в буранные ночи, не находя, знать, иного развлечения в отсутствие Прокопия.
Конечно, Настенька теперь может сгубить разлучницу. Может открыть правду хозяину. Но девушка мысленно уже дала себе зарок молчать: ведь под пыткой она могла бы выдать и Прокопия! Как ни мечтала она отомстить Сусанне, но гнала эти мысли, сознавая, что в гневе хозяин не побоится руку поднять и на сына...
Настенька явственно услышала в тишине слова Сусанны:
– Не тужи, Прокопушко, что отец нас разлучит. Ты и тогда иную ночку у меня досыпать станешь.
– Ты в уме ли? Или голова не мила стала?
– Подарочек я тебе припасла. Коль скажу, зацелуешь от радости.
– Так говори.
Сусанна засмеялась.
– А ты, оказывается, не по-мужски любопытен. Уж потерпел бы!
– Да говори же скорей.
– Ну, слушай.
Однако Сусанна перешла на шепот, и Настенька не разобрала ничего про ее «подарочек» Прокопию. Зато сам Прокопий слушал с возрастающим интересом и не раз прерывал ее шепот удивленными тихими возгласами. Вот что шептала ему на ухо осторожная собеседница:
– По весне Акинфий в Ревду на неделю уезжал. Заскучала я той порой. Обидно стало, что нет тебя близко. Села однажды в постели и плачу. Разрыдалась в голос и вдруг различаю за постельным пологом будто кошачье мяуканье. Сначала испугалась – ведь сам знаешь, в нашем доме всякое может померещиться. Думала, почудилось, но прислушалась и уже явственно слышу: мяучит кошка! Эдак с час она там мяукала, потом затихла. А я так и не смогла заснуть. Когда рассвело, я заперла дверь, зашла за полог, перемазалась вся в пыли и паутине, но не отстаю, ищу тайник с кошкой. Гляжу: у спинки кровати стена ковром занавешена. Стала я ее легонько простукивать. Не раз ведь слыхала от челяди про тайные ходы в подземелье. Отвернула край ковра, просунула под него руку да и нащупала впалость. Залезла вся под ковер и нашла-таки узенькую дверь. Толкнула ее. Заскрипела, но поддалась, отворилась. Схватила я свечу и опять за ковер. Шмыгнула в дверь, очутилась в коридорчике. Вдруг пламя свечи зашевелилось. Все-таки прошла по коридорчику еще шага четыре. Тут оступилась, увидела крутую лесенку. Спустилась по ней. Зазябла вся от страха и от сырости. Да и дух затхлый. Кончилась эта лесенка. Опять дверь, только железная. Ключ в ней. Помаялась, но повернула. Отворила железную дверь и очутилась...
Ничего не слышала Настенька из этого рассказа. От ночной сырости ее всю трясло. Она боялась выдать себя, упасть, закричать. Таиться не было больше сил. Настенька выскочила из-за укрытия и, не удержав стона, побежала.
Ее легкие шаги услышали Прокопий и Сусанна.
– Кто бы это?.. – с тревогой спросил Прокопий. – Уж не выслеживал ли нас кто-нибудь?
– А уж ты и перепугался? – раздраженно проговорила Сусанна, но и сама старалась прислушаться к затихающей чужой поступи. Через минуту в парке все стихло.
Но эту легкую поступь уловили не одни любовники. Слышал их и приказчик Шанежка. Он очутился в парке вовсе ненароком: вернулся домой из купеческой слободы сильно выпивши и свалился спать, не раздеваясь. Разбудил его колокол Наклонной башни часа через три.
Приказчик, охая, побрел вон из избы освежить ночной прохладой гудящую от хмеля голову. В парке ему полегчало. Он присел на скамью у парадного входа в хозяйский дворец.
Услышав чьи-то легкие, торопливые шаги в парковой аллее, Шанежка насторожился, проворно вскочил и спрятался за колонной дворцового портика.
Торопливые шаги приближались. Шанежка заметил женскую фигурку и, как кот за мышью, кинулся в погоню. Он быстро нагнал бежавшую и схватил за руку. Крик Настеньки бессильно замер, когда приказчик, сбив ее с ног, зажал ей рот. Шанежка подхватил ее и потащил к себе в избу.
До звона в ушах вслушивались Прокопий и Сусанна в тишину парка. Ничто больше не нарушало ее.
– Может, караульный проходил?
– Да будет тебе тревожиться, Прокоп. Слышишь, опять тихо, как в могиле? Ты лучше скажи, рад ли тому, что отыскала в горнице? Завтре покажу тебе ту тайную дверь. Знал ты про нее?
– Ничего не знал.
– Так я тебе и поверила, чтобы Демидов-сын про отцовы и дедовы тайники в доме не знал! Скажешь еще, что и про подвалы тайные не знаешь?
– Про те знаю.
– И то, что под косой башней рублевики серебряные чеканят, тоже знаешь?
Прокопий чуть не привскочил на скамье, замахал рукой на возлюбленную.
– Совсем дуреешь, Сусанна, коли о таком сболтнула!
Сусанна тихонько посмеивалась.
– Стало быть, правда? Уж больно мне любопытно было узнать, правда это али нет. Вот и узнала, что правда. Ох и бедовый Акинфий! Чую, не сносить ему головы. Теперь нечего тебе кручиниться. Станешь и при отце ко мне ходить, а чуть – за дверь тайную, и – нет никого в моей опочивальне. Пойдем! Полночь сейчас ударит.
И впрямь, будто по команде Сусанны, колокола на башне стали вызванивать четверти. Прогудел большой колокол, и следом за последним, двенадцатым ударом зазвучал менуэт...
3
Разбудил Сусанну на утренней заре настойчивый стук в дверь опочивальни. Недовольным тоном она позволила слуге войти. Это был встревоженный хозяйский камердинер Самойлыч.
– Доброе утро, хозяюшка. Прости, христа ради, за докуку. Дело у меня неотложное.
– Вот напугал! Сон хороший глядела. Неужли не мог подождать?
– Не мог, матушка. Понимаю, что виноват, но ждать было нельзя.
– Уж не занемог ли хозяин молодой?
– Не то, матушка. Приказчик Настеньку с ночи в своей избе истязует. Вся дворня слышит девкин крик. Теперь затихает, бедная. Уж не порешил ли он ее, горемычную?
– Чем я-то здесь помогу?
– Заступись за девку, матушка. Он мужик-то – зверь.
– Хорошо. Ступай! Ступай! Сейчас оденусь. Скажи ему, подлецу, что вот, мол, сейчас сама хозяйка придет уму-разуму его поучить!
* * *
Наспех одевшись, Сусанна кое-как прихватила распущенные волосы, вышла во двор и на глазах перепуганной дворни направилась к крыльцу приказчиковой избы. Подозвала дворового мужика, властно приказала:
– Открой мне!
И когда тот, распахнув дверь, пропустил ее вперед, она сама захлопнула за собой дверь, находясь уже за порогом...
В избе беспорядок. На полу сор. Перед иконами, помигивая, угасает лампадка. Окна закрыты. Смрадная духота.
Приказчик, пораженный появлением госпожи, вскочил с лавки из-за стола. В углу избы на голом полу валялась Настенька в изодранной, запачканной кровью одежде. На столе перед Шанежкой Сусанна заметила плеть с коротким черенком.
– Над беззащитной девкой измываешься, погань?
Шанежка раскрыл было рот, но лишь промычал что-то вроде «дело хозяйское».
– Чем перед тобой провинилась?
– Стало быть, в саду шаталась в полуночь. Допрос ей чинил: зачем в саду в таку пору очутилась. Плетью погладить пришлось, а не сказывает. Значит, дело у нее там немаловажное. Все равно дознаюсь. А приедет хозяин – не того еще у нас испробует.
– Дурак ты! Да я сама ее в сад за мятой посылала.
– Не знаю. Когда изловил, мяты в руках у нее не было.
– Слыхал, что тебе хозяйка сказала?
– Слыхать-то слыхал. Только не больно верю. Зачем бы ей под пыткой про мяту для тебя молчать? На слово я одному хозяину верю.
– А я кто для тебя?
– Кто бы ни была, Сусанна Захаровна, а хозяин здеся меня заместо себя оставил! Над всеми! Вот и примечай!..
– Неужли? Ужо спрошу, как воротится. Встань, Настя!
Избитая с трудом поднялась и сразу же села на лавку.
– Ступай отсюда. Умойся и немедля ко мне придешь.
Настенька шатаясь пошла из избы. Сусанна взяла со стола плеть. Шанежка поспешно отступил в угол.
– Трусишь, погань? Кровь на плети! Эх ты, оборотень одноглазый. Ежели молодой хозяин узнает, что с девкой сотворил, слепым по свету поползешь!
– Узнает ежели, говоришь? А у меня и для него тот же сказ: поймал в хозяйском саду, в полуночный час. Будто не знаешь наш народ? У всякого недоброе на уме. Особливо же у девок из сучьей. Волчицы они. Аль позабыла, что прошлым летом девка завод запалила? Почем знаешь, может, и Настя темное задумала против хозяев.
– Слышал, что я ее за мятой посылала?
– Сказывал уже: не дошло бы до плети, кабы мята у нее на уме была.
– Не веришь? Для тебя я, стало быть, без хозяина никто прихожусь?
Прищурив глаза, Сусанна что было силы толкнула ногой тяжелую табуретку. Отлетев, она ударила Шанежку по коленям так сильно, что он схватился за ушибленные ноги.
– Хозяйка я для тебя, рыжая погань?
Сусанна уже пошла к двери, но услышала слова приказчика:
– Все одно, хозяину пожалуюсь.
– Пожалуйся, коли смелости хватит. Но уж тогда и я пожалуюсь: по первости скажу, как ты рублевики воруешь из коробов, когда ночами в дом из-под башни их таскаешь.
Шанежка перекрестился:
– Како серебро из-под башни? Господь с тобою, хозяюшка!
– Какое? Демидовское! С Колывани. Из которого под башней новые рублевики чеканят.
– Христос с тобой, хозяюшка. Легче да тише про эдакое сказывай. Челядь возле избы, да и дверь настежь.
– Вспомнил, стало быть, что там под курантной башней колодники чеканят? – Сусанна зло посмеялась. – Мозжат коленки-то? Кабы могла, табуретку посильнее кинула бы. Стал бы, как ревдинский хозяин, на костылях вышагивать. Жалостлива я и добра. Характер у меня отходчив. Надо было тебя этой табуреточкой по башке угостить. Лампадку-то лучше погаси, а то святители зажмуриваются на тебя.
Выйдя опять на крыльцо, Сусанна крикнула толпящейся во дворе челяди:
– Эй! Гущи квасной Шанежке! Бедняга коленки зашиб!
И только тут заметила, что плеть приказчика осталась в ее руках. Сусанна швырнула ее назад в приоткрытую дверь приказчиковой избы...
* * *
В своей опочивальне Сусанна застала Настеньку. Она заперлась и внимательно оглядела девушку.
– Не плохо он тебе лик подсинил, красавица. В таком обличии молодому хозяину на глаза не показывайся. Сиди в горнице, пока синяки не сведешь. Зачем в сад ночью ходила?
Настенька потупилась.
– Чего молчишь? Или боишься? Отвечай.
И девушка решилась ответить этой лживой разлучнице правду. В глазах Настеньки Сусанна вдруг прочла ненависть такую жгучую, какой до сих пор еще не видывала в женском взоре. Настенька гордо скрестила руки на груди, проговорила внятно, медленно, раздельно:
– Ходила я ночью в сад поглядеть, как ты там с молодым хозяином милуешься.
Удар был слишком неожиданным. Чтобы скрыть растерянность и смущение, Сусанна было засмеялась, но обычной звонкости в ее смехе уже не было.
– И что же? Удалось тебе сие подглядеть?
– Сама знаешь.
– И подслушала тоже?
– Все слышала, до последнего словечка.
– Теперь, поди, хозяину все доложишь?
– Может, и доложу, когда время придет.
– А доживешь ли сама-то до сего времени?
– Почему же мне-то не дожить? Чай, меня молодой барин уже покинул... Ненависть моя к тебе, проклятой, помереть мне не даст.
– Поди, даже прибить меня не прочь?
– Больно ты, Сусанна, о себе возомнила много. Думаешь, ты лучше нас? Такая же! Рук о тебя марать не стану – каты демидовские и тебя подсинят, еще почище, чем меня.
– Неужли и впрямь думаешь, будто я такая же, как вы все? Стало быть, надеешься дожить до моей погибели, злобой на меня, как клюкой, подпираясь? Что же, живи пока, мне не жаль, а вот что с тобой учинят, ежели я наперед сама Акинфию скажу, что ты недоброе задумала? Моей-то басне хозяин сразу поверит. Скажу, что надумала меня со свету сжить. А Шанежка подтвердит, как он тебя в саду с ножиком изловил. Все он подтвердит, что ни повелю... Бойка ты, нечего и говорить, только я бойчее. Испугалась? Слезы злобные разом высохли... Ну-ка, красавица, бери теперь гребень да чеши мне волосы. Чтобы ни соринки в них не осталось с тех берез, что на нас с Прокопием Акинфичем осыпались, пока мы с ним от скуки звездами любовались. Тебе ли со мной тягаться, с моей ли силой? Хозяйка я в доме!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Прошла неделя. Предчувствия на этот раз обманули Сусанну: Акинфий Демидов все еще не воротился из столицы. Однако монотонная жизнь старого демидовского завода была все же неожиданно нарушена: несколько горных офицеров прибыли на завод и сообщили, что командир Урала генерал Татищев в будущий понедельник проследует через Невьянск по пути на реку Кушву, где он будет осматривать Железную гору.
Офицеры задержались в Невьянске ненадолго. Откушали с Прокопием Акинфиевичем и укатили дальше. После их отъезда Прокопий позвал Шанежку, наказал выслать землекопов и по обе стороны от завода починить дорогу на десяток верст, засыпав все рытвины и ухабы. Самойлычу молодой хозяин приказал приготовить во дворце лучшие комнаты на случай, если высокий гость надумает отдохнуть и заночевать в Невьянске.
Отдавая слуге все эти приказания на всякий случай, Прокопий в глубине души все-таки полагал, что Татищев едва ли заедет в гости к Демидовым. Но и Савве было наказано отметить приезд начальника курантами, то есть в надлежащий миг перевести их с менуэта на марш.
Точного часа проезда командира через завод никто не знал. Чтобы все же ненароком не опростоволоситься, Шанежка повелел жителям пораньше выйти в понедельник на соборную площадь Невьянска в праздничной одежде. Женщинам, девушкам и ребятишкам быть с букетами цветов.
Проезжавшие горные офицеры подняли всю эту суматоху не только в Невьянске. Все прочие заводы и селения, на протяжении от крепости до Железной горы, были взбудоражены точно так же, как и демидовский завод.
2
Утро понедельника было хмурое, но, несмотря на тучи, предвещавшие ненастье, дождь не накрапывал.
В Невьянске народ собрался на соборной площади чуть не с рассвета. Шанежка в новой поддевке и сапогах, обильно смазанных дегтем, с плетью в руках был среди народа. Он важно вышагивал перед группами мужчин, поругивался без всякой причины, грубо заигрывал с женщинами. Иная девушка взвизгивала от его щипков. На густые рыжие волосы приказчик вылил все масло из лампадки.
Прежде чем отправиться на площадь, он самолично выпустил напоказ из псарни в парк свору борзых – есть чем похвастать! – отпер ворота парка и приставил к ним двух сторожей с наказом распахнуть чугунные створы, если тройка командира свернет на дорогу к хозяйскому дворцу.
Отдавая приказания, Шанежка то и дело подкреплял их зуботычинами.
* * *
Командир горного Урала выехал из крепости в четвертом часу утра, на тройке вороных. В экипаже сидел один, обложенный подушками, и скоро задремал.
Начальник драгунского конвоя велел солдатам не шуметь и решился не тревожить сон генерала до самого Невьянска.
Пробудившись, Татищев разглядел уже невдалеке, на фоне туч, демидовскую «падающую» башню. Потом дорога пошла душистым сосновым бором, а за ним полями и лугом. Воздух сразу наполнился запахом полыни и мяты, и наконец тройка вынесла экипаж на околицу слободки, где жили демидовские углежоги. Ребятишки дружно отворили ворота в прясле рубленой крепостной стены – Татищев очутился в демидовской цитадели.
Миновав слободку, Татищев опять стал думать о кушвинской горе, но не забывал присматриваться и к демидовским владениям.
Избы в слободках ему нравились: чувствовались хозяйственные руки. Понравилась и дорога, гладкая, усыпанная шлаком, чтобы не пылила. Возле изб сады. Удивляла, однако, пустынность слободок: на улицах почти не было жителей. Даже слободские псы не гнались за экипажем: запертые во дворах, они подавали голоса из подворотен.
На радость Шанежки поезд командира проехал околицу Невьянска без четверти десять. Впереди скакали драгуны. За ними катили коляски с горным начальством, а в арьергарде рысью шла татищевская тройка вороных; ее пристяжные, картинно склонив головы на двойных мундштуках, мели дорогу длинными гривами.
Когда экипажи приблизились к соборной площади, колокол прогудел десять раз. Тройка уже неслась по площади.
Татищев как на ладони увидел отсюда плотину пруда, башню, домны, заводские корпуса, собор и фасад дворца среди тенистого парка. На площади у собора чернела огромная толпа.
Куранты башни играли бравурный марш. Генерал узнал любимый мотив, звучавший когда-то в дни Полтавы. Под звуки этого марша петровских времен генерал поравнялся с первыми шеренгами людей на площади. Татищев встал, держась за кушак кучера. Тот слегка придержал бег коней. Татищев снял шляпу, перекрестился и отдал честь собравшимся. Тут же полетели в экипаж цветы. Генерал кланялся, улыбался и помахивал рукой.
Горячая тройка, напуганная криками и песней, пошла вскачь. Кучер покрикивал: «Позволь! Позволь!» – но никак не мог перевести коней снова на рысь. Татищеву пришлось сесть; он так и не заметил приказчика Шанежку, согнувшегося в низком поклоне.
За площадью тройка снова полетела вдоль пустынной улицы, мимо лавок и лабазов, и уже через полчаса была далеко от Невьянска. Народ в недоумении расходился с соборной площади. Жизнь завода возвращалась в обычную колею.
* * *
Вечером в тот же день Самойлыч доложил Прокопию, что Настенька потерялась. Маремьяна подумала, что и она ушла на площадь встречать генерала, но день прошел, а Настенька так домой и не явилась.
Прокопий приказал искать ее по всему заводу. Но найти ее не удалось. Молодой хозяин накричал на Шанежку и выгнал из дому всю челядь искать беглянку.
Сусанна равнодушно приняла весть об исчезновении девушки, но к вечеру стала хмуриться и покусывать губы. Когда же до ее ушей долетели девичьи крики с берега паркового пруда, Сусанна побледнела и чуть не бегом пустилась к пруду. Там, у прибрежных кустов, нашли брошенную Настенькину косынку.
Пришел на берег и Прокопий Демидов.
– Багры сюда, – приказал он слугам. – Ищите в пруду! Да пошевеливайтесь быстрее...
Долгое время все поиски были тщетны. Но лишь только Сусанна вернулась в дом, уже в сумерках, при свете фонарей, из черной прудовой воды слуги вытащили тело Настеньки-утопленницы.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Акинфий Демидов вернулся домой в день похорон Настеньки.
Караульный, дремавший на солнышке возле башенных ворот, очнулся, услышав бойкий перезвон бубенцов. Он едва успел привскочить с лавочки, как мимо промчалась тройка белых лошадей. Экипаж хозяина! Караульный ахнул от неожиданности: ведь уезжал хозяин на тройке гнедых. Померещились, что ли, эти сказочные белые кони?
Экипаж въехал в пустынный двор. Акинфий Демидов в сердцах закричал:
– Сдохли, что ли?
В это время Шанежка валялся на постели в своей избе. Он так и похолодел весь, узнав голос хозяина. Вскочил с постели, посмотрел в окно, тоже оторопел, глянув на белую масть лошадей. Опрометью кинулся к хозяину, всходившему на ступени подъезда. В ту же минуту из дому вышел Самойлыч. Демидов, не ответив старому слуге на поклон, крикнул сердито:
– Где вся дворня? Куда провалилась?
Шанежка, подобострастно кланяясь, отвечал за Самойлыча:
– На погосте все... С благополучным вас возвратом, батюшка Акинфий Никитич.
– Почему на погосте все? Кого хороните?
– Настенька преставилась, царствие ей небесное. На запрудном погосте упокоится. Все туда и подались,
– Отчего померла?
– В пруду утопла.
– Купалась, что ли?
– В садовом утопла. Сама порешила себя.
– Дьяволы! Покойником в доме хозяина приветите после долгого пути.
– Тредневось горный командир мимо нас проследовал.
– Без тебя наслышан. Хорошо, что хватило у вас ума маршем встретить слугу государыни. Самойлыч, баню! Всего меня пылью запорошило.
Уже от дверей Демидов крикнул кучеру:
– Данила, коней помыть, досуха протереть и выскрести. А через часок сюда во двор в недоуздках привести... Не лошади – сокровища!
* * *
Вымытый Самойлычем в бане, Демидов напился квасу, надел новый, только что сшитый в столице шелковый камзол вишневого цвета с золотым шитьем. Оглядел себя в зеркале, крикнул Самойлычу:
– Маремьяну ко мне!
– Изволили запамятовать, сударь-с: на погосте она со всеми.
– Ишь ты! И старуха, стало быть, там? Небось когда мой час пробьет, вас за гробом плетями придется гнать?
– Чур, чур, наше место свято! Страсти какие, господь с вами, сударь-с...
Демидов резко обернулся на знакомый, давно не слышанный голосок... Сама пожаловала!
– Сусанна Захаровна! Самойлыч, вон!
Она кинулась к нему, охватила его шею, целовала часто, шептала, задыхаясь от волнения:
– Родимый! Радость моя! Воротился? Соскучилась, тоскую, а он там, в Петербурге, и бровью не ведет... Дай поглядеть на себя. Нарядный какой! Тревожилась... Здоров ли?
Сусанна увлекла Демидова в глубокое кресло, прижалась вся к его груди.
– Притомился, поди, с дороги, а я вот так сразу и к тебе?
– Милая! Всю дорогу только о тебе и думал. Скучал. Вижу теперь, слава богу, что ты прежняя. Нет, лучше прежней.
– Неужли печаль о тебе меня не состарила?
Демидов взял в ладони ее лицо.
– Рано тебе стареть!.. Скажи-ка... Прокопий-то как тут? Что-то у вас приключилось? Где он? Почему отца не встречает?
– На погосте. Жалится по Настеньке. Скоро воротится.
Акинфий позвонил лакею.
– Самойлыч, вели кому-нибудь мигом слетать на погост и сказать сыну о моем приезде.
Сусанна все нежнее ластилась к своему властелину.
– Расскажи, как жила без меня?
– Жила-поживала, тоску наживала. Вторую неделю бессонницей маюсь, тебя ожидая. Сны про тебя ласковые видела. Иной раз пробужусь от забытья и будто слышу колокольцы. Соскочу с постели – только тогда и пойму, что мерещится.
– С чего это хроменькая утопилась? Когда?
– В самый день, как командир проехал.
– Небось Прокопий обидел?
– Кто их знает! Девичья жизнь, как веточка неокрепшая – любой ветерок сломать может. Да не думай ты о грустном с приезда! Лучше расскажи, как в столице без меня проказничал. Страсть люблю такие рассказы. Меня-то когда в Петербург свозишь? Вот небось где жизнь-то веселая!
– Ох, Сусаннушка, лучше и не спрашивай. Такая жизнь, что в озноб кидает.
– Матушки государыни полюбовничек небось скучать ей не дает? Всю Россию к рукам прибирает? Так, что ли?
– Тише, родимая! Лучше не поминай про него. За одни слова, какие сейчас молвила, голову с тебя снимут да и мою не помилуют.
– Как велишь.
– Да не велю, родимая, а прошу только: про герцога поосторожнее! А лучше до поры и вовсе о нем не поминай.
– Батюшки мои! Сейчас только приметила: паричок новый. Французский, наверно?
– Нет, немецкий. Теперь в столице такие носят. Одежу тоже при дворе на немецкий лад стали шить. И еще мода завелась табак нюхать.
– Государыню, поди, увидеть довелось? Вот счастливый-то!
– Раза три удостоился сей чести. Даже в карты меня усадить изволила за своим столиком.
– Уж, верно, обыграла тебя в карты-то?
– Еще бы! Да как обыграла! Закон такой... Играть-то с ней надобно с умом. Всех обыгрывает...
– А иначе-то как? На то и государыня. Вовсе, поди, не старится?
– Гм... Сказать по правде, Ее Величество не выглядит здоровой. Сильно располнела, и цвет лица не то чтобы... благополучный... Никогда не была красавицей, а теперь... У государыни, сказывают, болезнь каменная... Но, главное, что ко мне по-прежнему ласкова и милостива.
– А Бирон-то каков?
– Тише, тише... Герцог – красавец, куда там! Ловок, строен, весел... Еще бы! Со всех сторон вельможи с поклонами до земли всякие богатства в подарок несут. Деньгами просто засыпают его. Едва ли успевает считать. Сорит ими, как шелухой от орешков.
– На моей тройке, поди, теперь раскатывает?
– Все еще не забыла моего грешка?
– До смерти тех коней не забуду.
– А вот и позабудешь! Поглядишь на новый мой подарочек – разом о старом позабудешь.
Выскользнув из объятий Демидова, Сусанна лукаво прищурилась.
– Подарочек привез? Родимый ты мой! Покажи скорей. Балуешь меня, капризницу!
– Как же не баловать? Чай, милее всех на свете!
– Хитрющий какой. Лаской-то вы нас, бедняжек, с ума и сводите. Думаешь, не понимаю, что подарочком хочешь за столичные грехи откупиться? Со знатных красавиц, поди, глаз не сводил? Знаю я тебя, проказника.
– В мыслях такого не имел. Верен тебе и дома и в столице. Как лебедь своей лебедушке.
– Знаю, знаю! Только я о другом наслышана. Мимо любой идешь, глаз не зажмуриваешь. Какие уж там лебеди! И на утиц охотишься.
– И не стыдно так о возлюбленном думать?
Демидов крепче привлек к себе женщину, страстно ее поцеловал. Она отвечала на ласку, жарко шептала ему в самое ухо:
– Скоро и ноченька настанет для нас с тобой...
– Ах ты, греховодница моя милая! Знаешь, как я...
Но в кабинет постучали. Демидов вздохнул и отстранил от себя Сусанну. Явился сын.
– Здравствуй, батюшка.
– Рад видеть тебя в родных местах, сынок.
Отец с сыном расцеловались.
– Как тебе тут в родительском доме без родителя жилось?
– Дома родительского нигде и никогда не забывал. Ни в радости, ни в печали. Так нас и матушка покойная учила.
– С чего это у тебя лицо нахмуренное? Вместо христианской печали от похорон – совсем иные чувства в твоем взоре. Приказчика моего Шанежку видел?
– Повстречал.
– Почему он-то сюда ко мне не торопится?
– И не придет, пока не принесут.
– Как понять тебя прикажешь?
– Понять нетрудно, батюшка. Твой подлец приказчик на дороге в бесчувствии валяется. Впервые в жизни довелось мне своей рукой негодяя до беспамятства избить.
– Шанежку избить? Неплохо начал. Впервые, говоришь, довелось? Это оттого, что еще мало на Каменном поясе пожил. Больше в столице да за границей обретался. Чудишь, Прокопий! Людей своими фокусами поражаешь. Дома в драку полез. Куда это годится?
Сусанна засмеялась.
– Понять должен сына, Акинфий Никитич. Молод очень. Сам-то разве мало начудил?
– Мне чудить недосуг было. В его годы я по Уралу, а не в Париже гулял. Род свой здесь укреплял и о благе отечества помышлял.
– Но и сам непокорных бил. И не просто бил, а насмерть забивал. И не всегда по справедливому суду, а, случалось, и сгоряча, – сердито проговорил Прокопий.
– Смотри, сынок, не забывайся! Сейчас не перед приказчиком стоишь! Могу и осерчать, хотя и больше года не видал тебя.
– Серчать и я умею... Шанежку, отец, убери из Невьянска.
– По какой причине?
– Дознаться довелось на похоронах, что это он Настеньку побоями в могилу загнал.
– Так ты же его за это и поколотил? Чего же тебе еще от холопа надобно?
– Коли останется здесь, стану бить, пока башку не проломлю. Такую смиренную девку посмел пытать.
– Пытал – значит, знал за нею что-то.
– Да как он посмел руку поднять на ту, что я сам...
– А вот и посмел! Я ему на это волю дал. Распетушился! Станешь хозяином Невьянска, тогда и гони лучшего, вернейшего приказчика только за то, что девку выпорол.
– В моем обиходе палачей домашних не будет. Не потребуются они мне!
– Вон как? Пожалуй, придется еще подумать, кому демидовское наследство после меня доверить. Без таких, как Шанежка, ни вотчин, ни богатств дедовых и отцовых у такого, как ты, щелкопера, вмиг не останется. И слушать тебя неохота. Будто и не Демидов. Мы, Демидовы, злобу таим, пока волю кулакам не дадим. А уж ежели дал – разом вся злость стынет. Прощать слугу виноватого – это, сынок, демидовская заповедь.
С поклонами вошел Самойлыч.
– Чего тебе?
– Акинфий Никитич, как велели: кони у крыльца.
– Какие кони? – удивилась Сусанна.
– Ступай, погляди!
Сусанна, радостно взволнованная, чуть не вприпрыжку выбежала из кабинета. Демидов повернулся к сыну.
– А ты что ж не глянешь? Подумаешь, велика беда: хроменькая девка померла. Оседлай коня, скачи новую искать. В кержатских скитах еще и не такая попадется. Идем-ка лучше конями полюбуемся.
Он взял сына под руку. Вдвоем с Прокопаем вышли на крыльцо. Во дворе Сусанна, онемев от восторга, хлопала в ладоши. Белые рысаки были поистине ослепительны.
– Вот, Сусаннушка, мой подарочек, о чем давеча поминал. Купил их в Нижнем Новгороде. Даже в столице таких не скоро сыщешь. Теперь и вспоминать не станешь о тех, что герцога носят.
В восторге Сусанна похлопала по крутой шее горячего пристяжного.
– Сторонись, Сусаннушка, невзначай и затопчет!
– Господи, какие! И во сне таких не увидишь!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Акинфий Демидов доживал дома вторую неделю, успокаиваясь от мучительных подозрений ревности, не дававших ему покоя с тех пор, как Прокопий оказался в Невьянске.
Нежность и заботливость Сусанны сначала будто удивили его, но он все же поверил в ее искренность, хотя раньше никогда не бывала она такой податливой и доброй.
Но, успокоившись от волнения сердечного, Демидов не мог успокоиться от виденного и слышанного в столице. В сущности говоря, ведь отделаться и откупиться удалось лишь от докучливых мелочей. Кое-каким ретивым шептунам, охочим до сплетен и легкой наживы, он без труда и недорого прижал языки. Но разве мог он забыть шутливый вопрос императрицы, когда платил ей новым серебром карточный долг? Оглядев блестящий рублевик, императрица тогда спросила: «Моим али своим серебром платишь, Демидыч?» Ответил он царице не растерявшись: «Все мы твои, а потому и все наше – твое, государыня». Анна Иоанновна изобразила на жирном, отечном лице подобие снисходительной улыбки и чуть-чуть погрозила пальцем умелому собеседнику. Демидов до сих пор терялся в догадках, отчего это императрица вдруг задала такой щекотливый вопрос о серебре, да еще при всем дворе. Он боялся думать, что до Петербурга уже дошли слухи про колыванское серебро и чеканку рублей под невьянской башней...
Еще глубже взволновала Акинфия некая беседа с герцогом Бироном, хотя велась она мимоходом, шутливо, будто невзначай, перед самым обратным отъездом Демидова на Урал. Бирон дал понять, что необходимо перехватить у Татищева и взять в демидовские руки рудные богатства Кушвы. Демидов знал теперь уже подробно о новооткрытой горе. Его мучило сознание, что за такое дело можно взяться только самому. А ведь для этого придется ехать к Татищеву на поклон! К генералу Татищеву, который был и остался прежним врагом Демидова. Недаром на обратном пути с кушвинского месторождения генерал Татищев, услышав, что Акинфий в Невьянске, отправился в свой Екатеринбург по другой дороге. Не посмотрел на то, что она плоха и много длиннее пути через Невьянск.
Много дум передумал Акинфий Никитич, и один, и с верными людьми, взвешивая и оценивая все способы, законные и незаконные, чтобы обойти Татищева и добиться цели любой ценой: исполнить желание Бирона, прибрать к рукам новое кушвинское месторождение. Однако все планы оказывались ненадежными. В конце концов Акинфий Демидов решил отправиться к Татищеву и попробовать заполучить руду обычным простейшим демидовским способом – подкупом.
Богач Демидов слишком хорошо знал, как мало в России людей, неподатливых на золото, когда из-за спины сонливой императрицы страной управлял озлобленный и хищный Бирон. Может, и Татищев окажется «поползновенным»? Значит, нужно действовать и пробовать. Ведь генерал уже не молод, а старость любит сытый покой. Личное состояние командира, говорят, не велико: немудреный домишко в столице и какая-то вотчина. При его-то славе умнейшего сановника в государстве! Разве сановники так идут к закату дней своих?
А у него самого, Акинфия Демидова, в столице не один дворец. Чего стоит, скажем, уступить любой Татищеву? В придачу к горке серебра за гору железа? Демидов был уверен, что любые расходы, любая взятка с лихвой вернет эта диковинная гора магнитного железняка.
Все же Акинфий со дня на день откладывал отъезд в татищевскую крепость, хотя Сусанна до того раздобрилась, что велела отправиться к генералу на ее новой тройке.
Но удерживали Акинфия в доме не риск возможной неудачи, не перспектива генеральской неуступчивости. Он с трудом должен был сознаться самому себе в том, что не хочет покидать дом, когда впервые за всю жизнь обрел неожиданное счастье в Сусанне. Пять лет он добивался от Сусанны именно того, что подарила она ему сейчас, когда совсем уж и не ждал. Акинфия теперь даже смущало, как напрасно он мучился ревностью и даже озлоблялся против сына.
Да, после возвращения из Петербурга каждый день дома был счастливым, памятным, украшенным заботой Сусанны. Она согревала душу, как материнская любовь в детстве, когда мать припасала лучший кусок именно для него. И Акинфий уже подумывал, что доброта Сусанны смягчит, отогреет ему душу, окоченевшую от жестокости. Ему уже хотелось и самому посочувствовать чужому горю, свершить доброе дело не ради корысти, а искренне, избавляя кого-то от ненужного страдания. Демидов все чаще вспоминал, каким жил в юности, когда была и в нем простая человечность, чувство товарищества и потребность по-людски поступать с людьми. Вспоминал он, какой приветливой была его покойная жена в забытую тульскую пору жизни. Он и сам был тогда приветлив и с ней и с детьми, но потом, засланный отцом на Каменный пояс, задушил в себе эту человечность...
2
В ранний час погожего августовского утра белая тройка, миновав заставу екатеринбургской крепости, лихо промчалась по Мельковке, сводя с ума всех слободских собак, свернула на Торговую площадь и стала у ворот заезжего двора Матрены Савишны.
Всполошила тройка мельковских баб. Солдатка Арина, шедшая от колодца с ведрами на коромысле, первой узнала в экипаже Акинфия Демидова. Со страху и неожиданности Арина оплескала себя водой. Как ей было ошибиться, не признать страшного заводчика, раз сама жила в Невьянске и убежала оттуда в крепость вместе с мужем! От Арины молва о приезде Демидова разнеслась по всей Мельковке, и встревоженный народ потянулся к крепости.
* * *
В то же утро, на исходе десятого часа, тройка Демидова подкатила к подъезду Главного горного управления. Акинфий ступил на широкие гранитные ступени казенного здания.
У крепостных ворот собралась разноголосая толпа. Караульный у будки не раз окликал самых горластых, гнал их от ворот.
– Чего сбеглись, как пуганые бараны? Эка невидаль: невьянский хозяин!
Какой-то мужик с хриплым голосом повел с солдатом разговор.
– Вестимо, невидаль! Демидов, чать, один на весь Камень.
– Наш енерал первый начальник здеся, – твердил часовой свое.
– Енерал сам собой, от него звания высокого не отымешь. А Демидов хоша и не государынин начальник, а все одно равного ему на Камне нету. Вот так я разумею, и аминь.
– А мне наплевать на твое разумение! Говорю, отойди от ворот на дистанцию.
Приблизился к будке и еще один мужик, помоложе, рыжий и коренастый. Сняв просительно шапку, поморгал, заговорил, переминаясь:
– Сделай милость, служилый человек, допусти в крепость демидовских коней поглядеть.
– А чего на них глядеть? Кони как кони.
– Шибко хороши.
– Не велено в крепость шатучий народ допускать. Одного тебя допусти, все стадом попрут. Слышь, как галдят? Что мне будет, ежели енерал шум услышит, а?
– Да уж больно мне охота коней этих поближе разглядеть. Допусти! Живо обернусь.
– Сказано нет! Поглядишь, когда в обрат поскачут.
– Скажи какой! Креста, видать, на тебе нет?
– А ты легче. Крест у меня на месте, под мундиром, но затылок свой и сургучных печатей от кулаков начальства из-за тебя принимать неохота. Службу несу. Небось у самого-то тебя тоже спина по плети не чешется. Поговори лишку, так и заарестую.
– Спина чесалась, да вчерась в бане отпарил. Не серчай. Неужли толку в конях не понимаешь? Допусти, сделай милость. Лебеди-кони! На таких, поди, только царица ездит.
Издали женский голос звал с надрывом:
– Филя! Филимон! Куда тебя лешак занес?
Рыжий мужик прислушался и вдруг заорал во весь голос:
– Здеся я! Чего прибегла, заноза?
Из толпы протиснулась вперед крепкая, видная собою молодая крестьянка. Сердито сказала Филимону:
– Самая пора тебе подошла со служивым лясы точить.
– Да охота на коней взглянуть, а солдат в крепость не допущает.
– Поди ты со своими конями к чемору! Аль не слыхал, что народ про Демидова плетет?
– Не слыхал.
– Знаешь, зачем к генералу прикатил?
Солдат у будки прыснул со смеху и спросил молодуху:
– Уж не тебе ли он по дороге на ухо про это шепнул? Расскажи и нам, дуракам, сделай милость.
– А вот и расскажу. Гогочешь? Усами шевелишь, как ошпаренный таракан? Думаешь, люди не знают, зачем он нежданно прикатил? Народ все чует. Царица его послала нашему генералу сказать, чтобы немцев из крепости в три шеи прогнал.
– Да за такие слова я тебя...
Женщина нисколько не испугалась солдатского окрика, лихо подбоченилась.
– А ты на меня не больно рявкай. Бабы, бабы! Слышь, не глянется служивому причина, из-за коей Демидов приехал.
Лица у женщин в толпе были злы. Солдат сказал более спокойно и примирительно:
– Не нашего ума дело. И не вашего. Про то начальство знает, кого гнать, кого звать.
– Обязательно гнать! Давно бы их надо! Зажрались так, что вовсе совесть утеряли. С самой весны мне одна немцева женка за телушку деньги не отдает.
К воротам смело подошла лядащая старушонка с кринкой, прикрытой капустным листом.
– Ну-кось, пропусти-ка меня, солдатик.
– Ноне в крепость нельзя, Захаровна.
– Да ты очумел, что ли? Всякий день хожу об эту пору. Енералу сметанку ношу. Пошто ноне строгости?
– Сама знаешь: невьянский хозяин прикатил. Мельковским ротозеям праздник изладил.
– Стало быть, Демидов-то побаивается народа. Слыхивала про него. До старости, слышь, дожила, а его плетки на своей спине не испытала. Слыхивала, ужасти как он над народом изгаляется. Вот и боится людей работных. У енерала заступы просит. Помилуй господь нас, грешных. Царица небесная, заступница сирых, спаси нас от злыдня-хозяина!
– Чего плетешь, Захаровна, на народе? Он, сказывают, от самой царицы сюды дослан, немцев гнать, – перебила старуху одна из востроносых женщин.
– Это я-то плету? Глядите! Ох и ворона ты, Григорьевна! Носик у тебя остер, и каркаешь по-вороньи. Нешто злодея такого царица к нашему енералу пошлет? Слушать даже обидно.
Солдат ласково похлопал старушку по спине.
– Ступай, баушка. Наверняка у Афанасьевны нужда в сметане.
– И то пойду от греха. И скажет же эдакое баба!
Старушка обернулась к притихшим женщинам.
– Топайте, бабоньки, по домам. Аль дома забот не стало? Чему быть, того не миновать. А на служивого – чего серчать? Он, чай, вроде нас, подневольный человек.
– Так пусть и не заносится перед нами.
– Идите, голубушки, по домам.
Старушка вошла в крепость, а народ стал нехотя расходиться. Рыжий мужик Филимон, по-недоброму оглядев в последний раз солдата, пошел со своей супругой восвояси, бормоча себе под нос:
– Ну и солдат! Так и не дал поглядеть коней-лебедей!
* * *
Неожиданное появление Демидова в коридоре Горного управления переполошило и посетителей, и многочисленных чиновников. Просители всех сословий и чиновники всех рангов сразу забыли различия в чинах и взволнованно зашушукались. Пошли самые невероятные догадки насчет приезда заводчика.
Шепот слышался во всех комнатах управления. Передавали со злорадством, что Демидову пришлось дожидаться в приемной целых двадцать минут, пока генерал вел в кабинете беседу с горным чиновником Арцыбашевым и геодезистом Шишковым.
Всем хотелось знать, о чем будут беседовать два уральских медведя, которым с первой встречи стало тесно в одной берлоге.
Старшие чины управления уже поговаривали, что накануне вечером командир придумал наконец кушвинской горе название и что донесение на высочайшее имя повезет в Петербург Арцыбашев.
Самоличный приезд в крепость Демидова расценивали как нечто чрезвычайное. Все знали, что даже при Виллиме Геннине, которого Акинфий Никитич называл своим другом, он никогда не наведывался в крепость. А тут вдруг ни с того ни с сего появился в гостях у своего врага. Все недоумевали.
Управление походило на военный штаб в дни генерального сражения. И если кто-нибудь из просителей обращался к чиновникам, те делали удивленные лица и отвечали: «Что вы, милейший! До того ли нам сейчас? Ждите! Неужели не понимаете, что произошло? У нас – господин Демидов. С ним ведет генерал Татищев беседу величайшей секреткой важности... Они в кабинете у его превосходительства».
* * *
Когда Акинфий Демидов вошел в этот кабинет и драгун-постовой плотно прикрыл дверь, Василий Никитич Татищев склонялся над бумагами.
Демидов успел окинуть взором убранство просторного, светлого покоя, заметить раскрытые настежь окна со шторами и два портрета: Петр в Преображенском мундире и Анна Иоанновна в горностаевой мантии.
Татищев порывисто встал, сдвинув массивное кресло с высокой спинкой.
– Добро пожаловать, господин Демидов! Извольте извинить, что не мог сразу оставить срочного дела. Не известили заранее о прибытии.
Он вышел из-за стола, обменялся с заводчиком крепким рукопожатием.
– Прошу.
Татищев указал на кресло, стоявшее на медвежьей шкуре. Демидов, усаживаясь, ощутил, что лопнул-таки на спине шов нового, шитого серебром, лилового камзола. Вытер кружевным платком пот со лба под париком. В переднем углу ему понравился резной, инкрустированный строганцами киот с большим образом Николая Мирликийского, а на стене – цветная карта Угорской провинции.
Татищев, давая возможность гостю первому начать деловой разговор, прошелся по кабинету, а воротясь к столу, стал молча перекладывать бумаги на бюваре. Но и Демидов молчал, удобно обосновавшись в кресле, и не торопился приступать к цели визита. Хозяин чуть поправил штору, чтобы прямой солнечный луч не беспокоил гостя, а затем вновь занял место в своем генеральском кресле.
– Вот мы в конце концов и встретились с вами. И главное – так просто! Больше всего у больших людей ценю умение поступать запросто, без чинов...
Демидов уже успел рассмотреть и чернильницу из малахита, тонкой работы, с искусно вырезанной белкой... Демидов решил, что этот малахит добыт в его вотчине.
– Как доехали из Невьянска, Акинфий Никитич?
– Благодарствую, Василий Никитич. Утро хорошее выдалось. Зарей из экипажа полюбовался. А то ведь все недосуг за делами.
– Изволили верно заметить. Довелось как раз и мне сегодня восход наблюдать. Волшебство!.. Позвольте задним числом отблагодарить вас и людей ваших за встречу, какой я удостоился у вас, проезжая через Невьянск. Тронут! Понеже среди народа встречающего были и дети. Их привет – сама сердечность, святость искренности... Понравились мне ваши слободы. Все в них – по-хозяйски. Своим чиновникам всегда в пример вас ставлю, когда заходит речь о хозяйской рачительности.
– Обидели нас, ваше превосходительство, нашего дома не навестили.
– Покорнейше прошу прощения. Отнюдь не имел намерения обиду вам учинить. Не заехал только по той причине, что не чаял вас дома застать. Имел донесение, что вы в столицу отбыли.
– Совершенно справедливо. Но в Невьянске был мой сын Прокопий.
– Какая досада! Знай я об этом, обязательно навестил бы молодого хозяина. В столице доводилось встречаться с ним. Молодой человек стремление имеет к познанию горного и торгового дела. Не ленится навещать другие страны. Это похвально. Было бы нам о чем побеседовать. Жалею! Весьма сожалею!
– Милости прошу как-нибудь осчастливить и меня своим посещением. Дозвольте осмелиться и задать откровенный вопрос: по какой причине, ваше превосходительство, до сей поры не изволили лично мои заводы осмотреть?
– Столь же откровенно отвечу. Во-первых, не хотел себе огорчение причинять, видя у вас то, чего не могу добиться у себя на казенных горных заводах. Впрочем, смею заверить: порядки на ваших заводах мне ведомы. Во-вторых, не люблю по указке ходить: дескать, сие разрешается осмотреть, а сие – упаси бог!
Демидов простодушно всплеснул руками.
– Да не правда все это! Приезжайте, смотрите все, что душе вашей угодно. Какие же у меня от государственного глаза могут быть секреты?
Татищев оценил это простодушие по достоинству. Желая покамест избрать другую тему, он остановил свой взгляд на столичном кафтане и камзоле гостя.
– Как столица здравствует?
– Грешно живет. Доносами да сплетнями.
– На то и столица. Где блеск, там и треск.
– Истинно так. Недаром говорится, что Питер – бока повытер.
– Стало быть, шумливая и беспечная жизнь столицы вам не по душе? К лесной тишине привыкли?
– Не то. Шумливость веселия я люблю. Но в столице нынче во всех какая-то злобливость подлая, волчья. Если позволите, на свой лад выскажусь. Нету у людей веры в завтрашний день, оттого они друг на друга и озлились через меру.
Татищев удивленно поднял брови.
– Вот вы как думаете, оказывается? Что ж, пожалуй, правильно думаете!
– Сами помните, как при Петре Алексеевиче было. Тоже кое-кто за свою участь побаивался, но всякий знал: царь есть над всеми. Царь, что не сочтет за труд дело пересмотреть, не погнушается оклеветанного оправдать. На батюшку моего покойного, бывало, кулаком стучал, даже, случалось, бивал самолично, но за горло не брал. Теперь не то. С ласковой улыбочкой возьмут, петельку на шею накинут и задушат. Добро, сотворенное для государя, не хотят помнить. Иные тогда были повадки, да и люди иные в Петербурге распоряжались.
– Насколько я вас понимаю, господин Демидов, вы не коронованных венценосцев упрекаете, а их дурных и корыстных приспешников?
Демидов спохватился, хотел что-то опровергнуть, но Татищев перебил его:
– Бывали и тогда, и у Петра Великого, приближенные иноземцы, военные и статские. Но то люди были по его выбору, головы, вроде Лефорта... А сейчас? Столица живет под пятой Бирона, как рыба, вытащенная из воды. Задыхается в подлости.
– Истинно так! Страшные времена. Государыня слишком долго жила среди немцев, привыкла им доверять больше, чем нам, русским.
– Это все оттого, что вельможи русские достоинство свое утеряли... Немцы... Знаете ли вы их? Ведь вы на своих заводах без них обходитесь? К вам пекарей вместо рудознатцев из столицы не присылают? Вы, господин Демидов, без них до всего русским умом сами доходите. Я также хотел бы поступать, но вы видите: вокруг меня сплошное «глю-кауф»! Шлют и шлют мне их, этих спасителей отечества! С тяжелой руки царя Петра позвали мы немцев учить нас, а сейчас учителя на место хозяев вздумали садиться. Но верю, что и эта напасть пройдет. Как все проходило. Сколупнет народ и эту коросту с тела...
Не знаю, зачем ко мне пожаловали, но визиту вашему рад. Хотелось бы после этой нашей встречи позабыть прежнее недоверие. Помните небось, что началось между нами пятнадцать лет тому назад? На одной тропе два упрямца столкнулись.
– Только по горячности характера ссору с вами, Василий Никитич, тогда затеял.
– Что было, то быльем поросло. Теперь нужно бы с двух концов за одно дело браться. Потрудиться ради благоденствия уральского края. Демидовым-заводчикам надо в ногу со мной, командиром горным, шагать. Пусть рачительность хозяина в одной упряжи с государственной законностью край наш к процветанию приведут.
Ну, подумайте сами, нужны ли нам сейчас прежние глухие дороги? Чего еще могут достичь Демидовы на Урале? Слава их в зените. Именно в вас, Акинфий Никитич, перешла вся сила от корней демидовского рода. Батюшка ваш только выпросил край у царя Петра, а вы этот край растормошили. Беззаконно поступали, совсем не думая, что кладете начало величественной жизни Урала для отечества... Могуча ваша слава, но начатая беззакониями, разве не померкнет она, как только вас не станет? Хватит ли у преемников ваших ловкости и разума, идя прежней демидовской дорогой, сохранить и преумножить добытое вами? Вы коршуном летали над краем, охотились, не зная промаха. Сумеет ли и захочет ли хищничать тот, кто придет на ваше место? В вас есть то, господин Демидов, чего не хватало даже вашему батюшке. И не пора ли вам переходить на тропу законности, чтобы надежно обеспечить судьбу ваших наследников, пусть даже ценою уменьшения доходов и прибылей.
История дает нам многие неоспоримые примеры, что в отечестве нашем, к горести его, потомки вырастают мельче предков. На Каменном поясе есть тому яркое доказательство – Строгановы.
Татищев опять походил по кабинету. В открытые окна слышались тяжелые вздохи обжимных молотов на заводе.
– Слышите, господин Демидов? Сердце казенного Урала.
– Сочтите, ваше превосходительство, эту встречу за первую жердь моста нашей дружбы.
– Господин Демидов, только бы не пришлось вам пожалеть об этих словах, если не сможет сразу исполниться то желание, что заставило вас пожаловать ко мне? Гадать о чужих помыслах не стану, но на сей раз предчувствую причину и цель вашего приезда. Хочу убедиться в том, что не обманулся в предвидении.
– Приехал по делу Железной горы на Кушве.
– Ну, разумеется! Так и предчувствовал. Рад, что не ошибся. Вчера нарек кушвинскую гору Благодатью. Название дал в честь государыни-императрицы, ибо слово «Анна» на языке Библии означает «благодать».
– Ваше превосходительство, доверьте сие рудное богатство крепким рукам Демидовых.
Татищев размашисто перекрестился.
– Да побойтесь хоть бога, господин Демидов! Гора Благодать – чудо моей жизни, величайший подарок за все, что довелось пережить здесь. В горе Благодати вижу залог будущего процветания казенных заводов.
– Но прошу вас, ваше превосходительство, не забывать, что к ней сразу потянутся длинные руки с темными, худыми замыслами. Издалека потянутся!
– Только бы не демидовские. Другие не страшны: отдавлю! Только Демидовых побаиваюсь. Если бы не вы, крепость Катерининск не пришлось бы заместо меня Геннину строить.
– В наше время, Василий Никитич, водятся руки и подлиннее и пострашнее демидовских. Руки-то притом вовсе чужие.
– Знаю, но буду бороться.
– Неужли с герцогом Бироном бороться возьметесь?
– Попробую. Слыхали уральский сказ? Он мудростью народа рожден. Сказ про то, будто на старости лет волки клыками и в железо впиваются, да так, что перегрызают.
Вы, господин Демидов, как думается мне, честнее, чем ваш отец. Просить – просите, а ларца с серебром на стол не ставите.
– За Благодать ларцем не откупишься.
– А, значит, и у вас мысль такая была? Стареет, дескать, командир. Старость податлива. Не богат Татищев, да и не святой, когда-то принимал подарки... А сказать вам, много ли Татищев нажил?.. Домишко в столице со всяким хламом памятным. Все найдется в нем, начиная от шведских ядер с поля Полтавы, но нет там ни одной вещи, чтобы душу стыдом коробила.
– Эх, Василий Никитич! Государыня все равно вашу гору Благодать какому-нибудь немцу подарит. Вот-то у вас заводчик-законник объявится!
– Страшные у вас мысли! В том и ваша сила, что не боитесь их высказывать. Но Благодать пока в моих руках. Без вашей подсказки вряд ли кто-нибудь на нее позариться посмеет. Скажите, как же вы, Акинфий Демидов, заводчик русский, поступите, когда борьба эта в столице начнется?
– В сторону отойду... Демидовы гору проморгали. У моего Мосолова и у вашего Ярцева дорожки-то к рудной канцелярии одной длины были, от берега Баранчи, когда Степан Чумпин руду им показал. Мосолов – отцовской выучки. Хозяину служит, но свои ноги бережет. Опередить себя в таком деле позволил.
– Да, у моего Ярцева смекалка получше оказалась. Сумел на вашей же шайтанской конюшне из всех коней лучшего выбрать, чтобы в крепость скакать с заявкой...
Демидов встал, и Татищев подумал, будто гость его все же пониже ростом, чем показалось вначале. Тяжелый взгляд заводчика не выражал ничего, кроме усталости.
– Позвольте, ваше превосходительство, откланяться.
– Благодарю за посещение. Как же считать мне теперь? Лежит первая жердь к нашей дружбе через былую трясину вражды?
– Лежит. Березовая, не ломкая. Была бы раньше положена – много бы обрелось в уральской земле чудес.
Татищев сам распахнул дверь кабинета, вышел с Демидовым рядом. Молча прошли они мимо примолкших чиновников. Уже на парадном крыльце обменялись глубокими поклонами. Никто не понял, кем же они расстались, врагами ли, союзниками... Но все запомнили: государственный хозяин Урала провожал до самого порога неожиданного гостя, признанного всем краем за самого самовольного уральского хозяина.
Судьба края была в их руках. Гнездо одного – в Невьянске, гнездо другого – в Екатеринбурге, сиречь Катерининске.
Татищев, воротившись в кабинет, знал, что государственный закон не примирить с демидовской волей.
Демидов, садясь в экипаж, думал, что для обещанной жерди в мост дружбы с Татищевым он срубит самую топкую березу...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
На березах невьянского парка Демидовых обильные росы после студеных утренников исподволь начинали смывать яркость изумрудной листвы...
Вернувшись из поездки к Татищеву, Демидов больше недели бродил по дворцу и заводу мрачнее грозовой тучи. В правежных избах по его наказу было перепорото немало неповинных людей.
К хозяину наезжали из разных вотчин приказчики, вызванные для разговора наедине. Выходили от хозяина с бледными лицами, забывали надевать шапки....
Вечерами Акинфий частенько сидел в отцовском кабинете. Здесь все оставалось таким, каким было при жизни Никиты Демидова, будто он только на время вышел и вот-вот воротится назад.
Закрывая стенные отверстия слуховых труб, красовался на самом видном месте портрет царя Петра, присланный Демидову в подарок из-под Кизляра. В рамке под слюдой – собственноручное письмо царя. Чернила кое-где пожелтели, но почерк Петра, его размашистую вычурную вязь сразу отличишь от любой другой руки; в письме всего шесть строк: «Демидов, я заехал зело в горячую сторону. Велит ли бог видеться? Сего ради посылаю к тебе мою персону; лей больше пушкарских ядер и отыскивай, по обещанию, серебряную руду...»
В отверстиях слуховых труб можно услышать все, что творится во дворце. Но в эти вечера, сидя в отцовском покое, Демидов не прислонял уха к дырам, а думал, как ловче отписать Бирону про неудачу с откупом кушвинской горы.
Собственный просторный кабинет казался ему темным, когда он мерил его тяжелыми шагами, так и не находя решения. Устав от бесплодной ходьбы, он запирался в опочивальне и с теми же думами ложился в постель. К Сусанне не наведывался. По утрам она встречала его ободряющими поцелуями, на короткие миги смягчавшие его хмурость.
А Сусанна принимала по ночам Прокопия и была всегда готова выпустить его в потайную дверь. Эти ночные угарные часы окончательно опутали Прокопия, связали его разум. Теперь Сусанна знала, что власть ее над Прокопием так же сильна, как и над Акинфием. Клятвами в вечной любви добилась она наконец от Прокопия согласия увезти ее тайком с собой в столицу. Ехать решили вместе и поскорее...
Сусанне хотелось на волю, чтобы жить не под демидовским надзором и не на Урале, а в столице. Там – приволье, люди, веселье. Останется с ней Прокопий или нет – это казалось ей делом второстепенным. Самое важное – полная свобода. Ведь за Уралом Акинфий не настигнет, не тронет, а за молчание о некоторых невьяиских делишках она еще потребует тогда от Акинфия подношений, не менее ценных, чем получает сейчас Бирон. Давно помышляя о бегстве, она накопила немало ценностей. Хватит не на один год...
Наконец демидовский гонец отправился в столицу к Бирону с письмом и сундуком. Подняли этот сундук на возок четверо слуг... Долг был исполнен, пришло время покончить с монашеским образом жизни. Вечером, как только посыльный уехал, Демидов постучался к Сусанке. Изнутри в двери щелкнул ключ, и на пороге опочивальни Сусанна встретила своего хозяина горячим и долгим поцелуем...
2
Обещав Сусанне освободить ее от власти отца, Прокопий действовал не только под ее влиянием. Был у него и свой расчет. Его самолюбию льстило, что на редкость красивая и властная женщина будет всецело принадлежать ему одному, станет помогать его планам в столице.
Прокопий втайне страстно мечтал о титуле. Сусанна могла стать приманкой для тех, от кого это зависело. Он не был уверен в ее постоянстве, ибо уже не раз испытал лживость такого рода «роковых» женщин, но он рассчитывал удержать ее прочно около себя не чем иным, как страхом. Знает же она, что в любой момент может из столичных дворцовых зал угодить опять на Урал и кончить жизнь в любой шахте, на цепи, прикованной к тачке.
Отнимая у отца любовницу, сын не задумывался над тем, как тот переживет разлуку с Сусанной. Но он трезво оценивал риск, учитывал трудность побега, и готовился к нему весьма осмотрительно. Преданности и уважения к отцу у Прокопия не было. Раньше он просто боялся отца, ибо тот мог оставить сына без гроша. Но, побывав за границей по торговым делам фирмы, приобрел самостоятельность, ибо в его руках была теперь прибыльная торговля. Именно благодаря стараниям Прокопия удалось прославить на весь мир демидовское железо с маркой «Старый соболь».
Подготовляя бегство Сусанны, Прокопий тайно искал в вотчинах людей, готовых устроить это опасное предприятие,
Однако при всей своей хитрости и осторожности Прокопий не видел, что за каждым его шагом следят люди Шанежки. Избитый приказчик не позабыл своего позора. Не мог позабыть, как кулаки молодого хозяина повергли его в дорожную пыль, как хозяйский сапог охаживал бока избитого, пока тот вовсе не потерял сознания. Шанежка со скрежетом зубов вспоминал те десять дней, какие он пластом провалялся в постели, и после того перестал слышать на левое ухо. Ничего он не знал еще о причинах частых отлучек Прокопия из Невьянска, но учуял в них нечто недоброе, тем более, что раньше молодой хозяин не любил одиноких прогулок.
Вероятно, Прокопий ищет себе другую любовницу вместо утопленницы – так полагал приказчик. А где же искать подходящую, как не на дорогах, где бродят «шатучие беглецы» с Руси, или в тайных скитах кержаков, где тоже немало юных красавиц девственниц.
Горя мстительным желанием поскорее дознаться до правды и лишний раз очернить сына перед отцом, Шанежка следил за Прокопием сам или поручал это катам с Елупанова острова. На тех-то он мог положиться! Больше всего Шанежка тешился надеждой, что Прокопий к тому же обкрадывает отца, ищет укромные местечки – захоронки для краденого. Ведь он и сам-то прячет в земле рублевики, сворованные из коробов, когда их выносят из-под башни. Про эти шалости приказчика как-то проведала и Сусанна. Не побоялась даже пригрозить приказчику, когда приходила к нему в избу насчет Настеньки...
Словом, и Прокопий, и Шанежка одинаково жили надеждами. Ни тот, ни другой не подозревали, как сложно переплетаются выбранные ими пути-дорожки...
А время шло себе своим чередом, предоставляя обоим равные шансы прийти этими дорожками к задуманной цели.
3
Сентябрьский погожий день стал после полудня ветреным.
Савва, поспав после сытного обеда в купеческой слободе, возвращался в свою башню по заводскому двору. На старых липах около башни беспокойно шелестела шумливая листва. Савва не любил этого тревожного шелеста, с тех пор как бежал из-под плетей в Тулу: тогда в побеге шорох листвы преследовал бунтаря-стрельца, пугал его в лесах...
...И сейчас липы шумели беспокойно. Чтобы уйти от ненавистного шума, Савва отправился по лестничным переходам на самый верхний ярус башни.
Колокол ударил три раза. Глянув вниз, Савва увидел, как из распахнутых ворот выехал старый хозяин на вороном коне. Свора собак и три псаря сопровождали хозяина.
Савва велел дозорному принести скамью, а затем почистить колокола курантов.
Оставшись в одиночестве, Савва смотрел бездумно на бегущие в небе облака.
Наступила осень. В эту пору только и полюбоваться с башни величественной красотой уральской природы. Летние ситцы еще не сменились золотой парчой, но эта перемена наряда уже наметилась, кое-где в лесах багровели осины – глаз не оторвешь, особенно под неярким лучом осеннего солнышка.
Услышав шаги, старик неожиданно увидел Сусанну. Ветер плотно обжал на ней сарафан. Она стояла у решетки перил во всей своей грешной красоте. Тихонько засмеялась и заговорила первой:
– Напугала тебя? Я-то думала, ты спишь.
– Соснул часик, после обеда. Такая уж у меня служба, чтобы днем спать. Да вот листва своим шумом меня наверх загнала.
– Ветер-то какой! Даже дышать трудно, а все равно хорошо вольным ветром подышать!
Сусанна следила, как раскачиваются ветви берез в хозяйском парке. Действительно, здесь, наверху, шума почти не слышно.
– Куда это хозяин с псами подался?
– Щенят захотелось ему на бегу посмотреть. Много щенят народилось – прямо урожаи на псов у Демидовых.
– На все, видать, нынче, после буранной зимы, урожай. Хлеба в хорошем колосе, в огородах густо. Капуста, сказывают, до того туга – хошь топором разрубай. У людей в люльках тоже не пусто. Не осуди, ежели спрошу: почему давно сюда ко мне не поднималась?
– Да так... И дела будто не делала, а тебя в башне навестить все времени не хватает.
Перегнулась через перила, поглядела вниз.
– Легче! Мотри, чтобы голову не обнесло.
– Любо мне с высоты поглядеть. Земля будто так к себе и тянет.
– Она человека завсегда тянет. Всех к себе ждет, и бедного и богатого. Кого долго ждет, а кто сам себя к ней приближает.
Сусанна испытующе посмотрела на Савву и перешла на другую сторону яруса. Савва заметил, как напряженно она вглядывается вдаль.
– Аль кого приметила на дорогах?
– Нет, нет, никого. Просто гляжу.
– А взгляд-то у тебя тоскливый, будто прощальный.
– Скажи-ка, Савва, куда вон та дорога тянется?
– А тебе зачем?
– Всякому нужна своя дорога.
– Ты лучше тропку выбери. По тропкам-то легче дойти.
Сусанна снова испытующе посмотрела на собеседника, переспросила настойчивее:
– Так куда же та дорога?
– На Верхотурье. Вроде бы недавно про нее уже спрашивала.
– Спутать боюсь.
– Аль собралась куда?
– И то собралась.
– С хозяином?
– Одна.
– Тогда о тех дорогах зря спрашиваешь. Вон на лесные гляди.
– Ишь как сразу насторожился! То-то, слуга хозяйский! Глядишь на меня, как ястреб на цыпушку.
– Зря плетешь, хозяюшка. Лучше ладом сказывай, куда собралась. Давно чую, о чем помышляешь.
– Правду сказать?
– А это уж как бог тебе на душу положит.
– Нет уж, лучше помолчу.
– На все будто хитра, а помыслы таить не наторела. Очи выдают.
– Какие помыслы? Что ты, Савва? Мне ли от тебя тайны скрывать?
– Стало быть, не волка во мне видишь?
– С зимы я в тебе волка видеть перестала. С того вечера, когда рассказал, как мужа моего зарубил, а меня хозяину отдал.
– Что же рассказал, отвел душу грешную. Углядел тогда в твоих очах тоску по вольности. Молодость твою пожалел, да, видать, толку мало.
– Почему думаешь, что толку мало? Ведь я, Савва, бежать решилась.
– Давно бы так.
– Пошто не крестишься от страху перед хозяином?
– Говорю тебе: на волю давно пора.
Сусанна засмеялась.
– Смехом боль душевную лечишь?
– Пошутила я. От вас разве убежишь?
– Значит, все-таки боишься меня? Привыкла в любом человеке доносчика видеть?
– Отворишь мне ворота, когда побегу?
– От опочивальни твоей до моих ворот не близко. Сперва надо суметь из дому уйти.
– Из дому – сумею.
– Тогда к воротам не ходи. Ладнее место есть. Про то место теперича здеся только я один знаю. Хозяин и тот, наверняка, про него позабыл.
Савва задумался, вздохнул тяжело.
– Вот слушай! По саду пойдешь мимо беседки с голой мраморной бабой. Свернешь в ложок с сосенками, а по нему – до самой стены. Калитку отыщешь. Сейчас она на запоре. А ключик от нее я сохраняю. Понадобится она – скажешь загодя. Я и отворю. Из калитки выйдешь в нейвинский лог, а по речке до мельничной запруды рукой подать. Поняла? Завтре на досуге погуляй по саду... Проверь Саввины слова. Помни: за мельницей куда хочешь подашься... Куда пойдешь-то?
– Пока не знаю.
– То-то вот и оно. Значит, про то он один знает, да помалкивает.
– О ком речь ведешь?
– Ошибки бы какой не дал Прокоп Акинфич. Молод и горяч. Он тебя готов в зубах нести за тридевять земель. Только одно беда – дороги ухабистые, да больше лесные.
– Видал меня с ним?
– Видел. Ночью. У пруда с ним обнималась.
– Не убереглась, значит?
– От меня уберечься не просто. Ночью ловчее домового шагаю. Бедовой уродилась, коли от одного Демидова к другому, зажмурясь, в руки идешь. Помогу. Беги! Под любой пыткой не выдам. Охота и мне перед смертью хоть одно такое дело сотворить, чтобы на том свете черти из меня жилы полегче тянули, сковороду подо мной послабее калили. Охота, чтобы здесь на земле, где людские жизни губил, хотя бы одна рука свечу в помин моей души грешной затеплила.
– Савва! Неужли взаправду мне помочь решишься?
– Ежели завтра не найдешь той калитки, тогда не верь мне, окаянному.
– Господи!
– А хозяина старого тебе, стало быть, не жаль?
– Сам-то он когда кого жалел?
– Разум он без тебя утеряет. Подумать страшно, что тут содеется!
– Новую, еще получше, сыщет.
– Баб-то много, знамо дело. Только такую не скоро сыщешь. Помогу! До мельницы сам провожу, а уж там не мое дело. Только бы, говорю, у Прокопа ума хватило.
Савва с сомнением осмотрел Сусанну с ног до головы. Покачал головой.
– Греховности в тебе на пятерых баб с лихвой хватит. Водятся же такие на Руси! Спокон веков. Одна вон какая была! Всею Русью было завертела. Не хвати у пучеглазого братца, Петра Ляксеевича, силенок в монастыре ее утихомирить, не таскали бы теперича наши бары поверх своих волос конские хвосты в пудре, да шелк на камзолы не переводили... Скоро побежишь?
– Когда время придет.
– Не раздумай. Не струсь. Ночку выбери вот такую же ветреную. Беги до поры, пока лист не опал. По пути всего бойся, пока за горбы Каменного пояса не выберешься. Страх разум светлит.
– А если про все, что сейчас говорили, завтра хозяину скажешь? Если нарочно прикинулся добрым? Тогда что мне будет?
– Зря с дельного на пустяк скачешь. Демидовых щенятами за собой водишь, а мне на слово поверить боишься. Аль не слыхивала, что на Руси иные душегубы перед смертью праведниками обертывались?
– Поверила, Савва.
– Перекрестись.
Сусанна исполнила просьбу собеседника.
– Вот так. А теперича на небо гляди. Ишь как облачка вольно бегут. Ничем не удержишь. Так и ты побежишь. Твоя неволя – мой грех. Пособил взять тебя в демидовскую клетку, теперича пособлю из нее вырваться. Прокопу вели в лесах почаще оглядываться.
– Выслеживают там?
– Не выспрашивай попусту. Скажи ему, пускай разом подается к Тагилу да у Марьиного омута свернет на дорогу в осокинские леса. Там, на берегу Пужливой речки поспрошает заимку Егора Сыча. Дружок мне. Жизнь ему даровал против демидовской воли. Велел мне его Никита навек успокоить, а я отпустил. Пожалел. За сказочку про жар-птицу. Вели Прокопу, как свидится с ним, примету заветную сказать. Такие слова произнесет: дескать, Савва, мол, велел сказать, что у щуки на зубок горошина накололась. Не позабудь! Лучше Егора никто тебя на волю отселя не выведет...
* * *
Спустившись с башни, Сусанна не зашла домой, решила тотчас же искать заветную калитку, а главное, ей хотелось заверить себя, что Савва – друг.
Все годы она присматривалась к старику. Всегда чувствовала его расположение. Он вызывал в ней доверие, казался, несмотря на свою страшную славу, самым человечным из ближайших демидовских подручных. И вот нынче она отважилась открыть ему свой заветный помысел.
На душе у Сусанны стало радостнее, как услышала, что Савва одобрил ее план, посулил ей помощь и предсказал удачу.
Она быстро шла по парку, тревожно шелестевшему листвой.
Танька и Машка, сидевшие возле пруда, не заметили ее в тенистой аллее. Она еще ускорила шаги, почти побежала. Вот и беседка с мраморной богиней.
Остановилась, отдышалась, огляделась по сторонам. При таком-то шуме ничье ухо не уловит осторожных шагов.
Она стала спускаться в лог, поросший соснами, кустарником, папоротником, крапивой. Изжалила руки, но больше всего заботилась, чтобы не оставлять заметных следов в зеленой поросли...
В логу полумрак. Пересвистываются птички. Здесь над головой уже не шелест листвы, а тихий шорох высоких крон, хотя ветер сильно мотает вершины сосен. Сусанна натыкалась на мочажины родничков, обходила их по склону. Идти становилось все труднее. И вдруг нежданно – бревенчатая стека. Нижняя половина покрыта бархатистым зеленым мхом-ползуном. Выше вся стена в грибках. Впереди вдоль стены видны заросли бурьяна. Пошла к ним, спугивая ночных мотыльков. Пробиралась вдоль стены и скоро увидела то, что так стремилась увидеть, – калитку! Узкую, как лаз, и совсем низкую – не нагнувшись, не пройти. Савва сказал правду.
Сусанна прижала ладони к лицу, остужая жар щек. Вот они, ворота в новую жизнь. Только эта калитка отделяет настоящее от будущего, от свободы...
Какая-то пташка выпорхнула рядом, и Сусанна опомнилась. Ведь пока она здесь, и калитка еще не позади. Нужно удвоить осторожность; чем ближе долгожданный миг побега, тем отчетливее рисуются его подробности; чем больше людей втянуто в подготовку дела, тем больше угроза разоблачения. Значит, выжидать, притворяться и готовиться изо дня в день. Этот путь к калитке она решила запомнить так, чтобы уверенно пройти его даже в темноте...
Возвращаясь по откосу лога к беседке, она, сама не зная почему, вспомнила детство в родном Чернигове. Там тоже был такой поросший разнотравьем лог за родительским домом на окраине. Но достатка в доме не было, мира семейного – тоже: родители вечно ссорились друг с другом. Отец был купцом незадачливым, срывал злость на домочадцах, которые частенько перебивались с хлеба на квас. А потом, очень рано, девочка по удивленным взглядам встречных стала догадываться о выпавшем на ее долю даре красоты. Дар был так велик, и девушка воспользовалась им так умело, что он привел ее в Москву, сделал женой богатея, открыл много дверей...
Акинфия Демидова она повстречала впервые в столичном доме. Поняла, что лишила его покоя. Из-за нее он зажился в Москве, зачастил в их дом, завел было с мужем торговые дела. Демидов всегда заводил при ней разговор о диковинном Каменном поясе, завлекая собеседницу и мужа рассказами о богатстве и удовольствиях уральской жизни. Потом Демидов стал приносить подарки, говорил, что они, мол, тоже уральские.
Сусанне нравилось внимание богатейшего заводчика, о котором по всей Москве ходили небылицы, передаваемые шепотом. Постепенно приручив мужа, прибрав его к рукам, Демидов стал наведываться и в отсутствие супруга Сусанны. Уже тогда он жарко уговаривал ее бросить мужа и тайком уехать с ним в его уральские вотчины. Сусанна отказалась наотрез и стала избегать Демидова. Тогда тот обратил все в шутку и уговорил мужа заняться торговлей на Урале, суля неслыханные барыши в Невьянске. Когда до завода оставалось уже совсем немного...
Тут произошел самый страшный перелом в ее судьбе, но теперь она верила, что невьянской полосе жизни скоро навсегда настанет конец.
Солнце уже село, когда Сусанна вышла к беседке с греческой богиней. Она мысленно сравнила себя с этой женщиной, решила, что Демидову пришлось бы долго колебаться в выборе между этой холодной и идеальной красотой богини и живой греховной красотой Сусанны... Потом тщательно осмотрела сарафан, нет ли на нем где подозрительных пятен, зелени или грязи, и пошла к дому.
* * *
Было совсем темно, когда Акинфий Демидов вернулся с пробы борзых. Самойлыч заметил, что лицо хозяина хмуро, и на всякий случай предостерег домочадцев, что хозяин не в себе.
Только егеря знали настоящую причину его дурного настроения, но они молчали, как велел хозяин, пригрозив им кулаком. Они-то знали, что Акинфий в гневе зашиб Сусаннину любимую суку, вздумавшую в поле поиграть с кобелем во время гона лисы. Обозлившись на собаку, он так хлестнул ее нагайкой с железной подвеской, что борзая замертво покатилась на пожухлую осеннюю траву...
* * *
Наступила ночь, но ветер не унялся.
В спальне хозяина окна приоткрыты, явственно слышен шелест берез. Не спится Демидову под этот шум, несмотря на усталость. Ему теперь жаль, что порешил борзую. Чего доброго, Сусанна теперь не на шутку рассердится; ведь она сама вырастила эту собаку и вдобавок дала ей кличку Надежда.
Демидов долго ворочался в постели с боку на бок и наконец решил идти к Сусанне покаяться и просить прощения. По дороге он обдумывал, как преподнести Сусанне этот неприятный сюрприз. Но сказать всю правду страшился. Лучше соврать: мол, нечаянно задавил конем на скаку...
Путь его лежал мимо комнаты Прокопия; мимоходом заметил, что дверь в эту комнату приоткрыта, горит там свет, а жильца в ней не видно. Акинфий задержался, заглянул в покой: горит возле постели свеча, а никого нет. Он громко позвал сына.
И тотчас ожила старая боль. Воскресла мука ревности, та самая, что после возвращения из столицы совсем было перестала его терзать. Сразу как-то обмякли ноги, но в волнении он почти побежал по коридору, торопился к покою отца. Бросился к слуховой дыре, припал ухом, но долго не слышал ничего, кроме воющего гудения. И вдруг обмер... Голос Сусанны! И еще чей-то!
Испуганно отшатнулся от слуховой дыры. Кинулся в коридор. Взбегая по малахитовой лестнице, ощутил странную горечь во рту – вкус собственной желчи. Бешеная злоба подгоняла его. Вот и дверь... Дернул за скобу. Заперто! Кулаками, кулаками! Услышал удивленный возглас Сусанны:
– Господи! Что там случилось? Это ты? Погоди. Сейчас открою.
Не успела Сусанна открыть дверь, как Демидов, оттолкнув ее, ворвался в опочивальню. Тяжело дыша, он кинулся в один угол, в другой... Никого. Он растерянно стоял у туалетного столика с зеркалом. Окно плотно закрыто, занавешено... Другого выхода нет... Все-таки прошипел, бросая исподлобья свирепые взгляды:
– Где же он? Куда спрятала? Сказывай тотчас!
Сусанна смерила его спокойным взглядом, спросила без волнения:
– За привидениями гоняешься? С перепоя, что ли? Кого это ты сюда ловить прибежал?
По-бычьи наклонив голову, Демидов схватил женщину за руку.
– Прокоп где тут у тебя?
Сусанна вырвала руку, погладила покрасневшее место, проговорила со злой усмешкой:
– Рехнулся, что ли, старый дурак?
– Стой! Сам же только что слы...
– Так ведь ты же еще под постель не заглянул! А то, может, и в самой постели твой сынок здесь прячется?
Тон женщины стал чуть снисходительнее и мягче. Она сладко зевнула, прикрывая рот ладошкой. Поправила одеяло на постели и легла.
– Разбудил вот меня дуростью своей! Теперь долго не засну. Иди, лови свое привидение по другим комнатам. Походишь так, и дурь из головы уйдет.
– Не шути ты со мной, Сусанна! Не до шуток мне. Ничего я понять не могу!
– Нечего и понимать. Просто надоело по-людски жить. Привычная демидовская дурь в башку ударила. Знать, скушно тебе смирять ее. Дай вот поругаюсь над беззащитной.
– Прости, Сусаннушка. Разом как-то...
– Да ведь уже слыхивала я эту песенку о Прокопе. В сыне родном и то изменника чуешь, боишься? Значит, и сам никому и ничему не верен. Спать бы лучше не мешал!
Демидов смиренно повернулся к двери.
– Да куда уж теперь, на ночь глядя? Оставайся. Уж так и быть.
Но Демидов, не прощаясь и не оборачиваясь, переступил порог, тихо притворил за собой дверь, даже плечом ее прижал и пошел по коридору тяжелой, медленной поступью. А Сусанна, проводив его взглядом, напряженно прислушивалась, нет ли шороха за стеной. Нет, тишина полная! Женщина глубоко перевела дух, погасила в ночнике свечу и утонула в подушках.
Демидов спустился на первый этаж, ощущая тяжесть во всем теле, но огромное облегчение на сердце. Пришла уверенность, что повода для ревности нет, стало стыдно, что зря обидел Сусанну.
Вышел в парк. Остановился у колонн, слушая шелест берез, но сквозь этот осенний шорох различил будто шаги в аллее. Неужто опять мерещится, как давеча голоса в слуховой дыре? Нет, и в самом деле шаги! Чья-то тень... Он выступил вперед.
– Кто ходит?
Ответил голос сына.
– От бессонницы, что ли, бродишь, Прокоп?
– Как и ты, батюшка.
Полчаса назад Прокопий, при оглушительном стуке отцовских кулаков в дверь Сусанны, едва успел выскользнуть в потайную дверь. По узкому ходу добрался до кладовой, в потемках наткнулся на мешки с мукой, ощупью вышел в санную завозню, оттуда во двор и парк. Сейчас, услышав отцов окрик, оцепенел было, но мгновенно овладел собой. Отец произнес доверительно:
– Меня осенний шелест листвы всегда тревожит, будто всегда он – к печали, к разлукам.
У Прокопия чуть дух не перехватило. Неужели отец что-то проведал? Случаен ли этот намек?
Акинфий положил на плечо сыну свою тяжелую руку.
– Давно бродишь?
– Всю круговую аллею не первый раз обхожу. Несколько верст отшагал, будто поверстные прогоны получаю.
– Поди, Настеньку забыть не можешь?
Прокопий перевел дух; разом отлегло от сердца. Нет, ничего он не заподозрил...
– Ласковая она, батюшка, была.
– Настоящая бабья ласковость слаще меду... Навек в нашей памяти остается. Пора тебе, сын, домой, в столицу. Чернявая царицына фрейлина не раз о тебе спрашивала. Знаешь, про какую говорю?
– Знаю. Пожалуй, и правду пора мне. Там я нужнее, покамест ты на Урале по-своему хозяйничаешь. Только сдается мне, отец, пора бы и тебе здесь царствовать помилосерднее. Приказчики твои безжалостные народ так озлобили, что как бы не нашла демидовская коса на камень! Уж в обиду мои слова не принимай.
– В бабушку ты, Прокопий, душой уродился жалостливый. Жалость для мужика – что ржавчина для железа. Демидовым нельзя ее в себе носить. Езжай-ка в столицу. Ко времени там будешь. Теперь за Бироном глаз да глаз надобен. Он нам кушвинской горы не простит. Осердится за то, что прозевали мы ее! Экое сокровище в казну уплыло... Так ты поживи со мной еще недельку, да и катай по опавшему листу.
– Завтра об отъезде поговорим. Пойду.
– Порадовался я, глядя, как ты по лесам стал бродить, зазнобу свою позабывая. Вижу, что есть и в тебе закваска демидовская. По-хозяйски распоряжался, людям по душе пришелся да и их посмотрел. Вижу, не чужое для тебя все то, что отец с дедом наживали. А теперь – ступай-ка спать.
– Успею выспаться. Горько сознавать, что у меня в запасе ночей как-никак побольше, чем у тебя.
– Гляди-ка, Прокоп, свеча у тебя в горнице не погашена.
– Догорит и погаснет. Ты, батюшка, как караульный: обо всяком пустяке всегда печалишься. Это, говорят, старости примета.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
В тот самый день, когда Прокопий покидал отеческий кров, началось ненастье. Не спеша сеялся мелкий, как мука, дождик, и на всех дорогах от Невьянска осень замешивала липкое тесто грязи...
Проводить отъезжающего на крыльцо вышла и Сусанна вместе с Акинфием. Буланый коренник тройки, застоявшись, бил копытом и встряхивался. Мельчайшие брызги с конской спины разлетались во все стороны. Кучер с напускной строгостью покрикивал:
– Балуй!
В стороне – вся домашняя челядь. Тоже проводить явились. Демидов ободряюще похлопал сына по плечу:
– Ехать-то будет не пыльно.
Прокопий молча и коротко обнял отца. Прощаясь с Сусанной, уловил еле внятный шепот:
– Хранит тебя господь! Ожидай!
Усаживаясь в экипаж, ответил на поклоны челяди и принял из рук Самойлыча небольшой кожаный саквояж. Сусанна покосилась на него не без тайного волнения: в нем находилась большая часть накопленных ею драгоценностей.
– Трогай!
Тройка взяла с места рысью. Весело зазвенели бубенцы. Сусанна послала крестное знамение вслед задку экипажа и поглядела на башенные часы: было без десяти минут два.
Хотя подозрения Акинфия против сына и рассеялись, он испытывал истинное облегчение после его отъезда. Демидов вернулся в дом с Сусанной, усадил ее на диван и завел разговор о том, что из Прокопия все же выйдет сметливый делец, способный справиться со столичными заботами, а там, глядишь, и с уральским хозяйством Демидовых. Потом размечтался вслух о женитьбе сына. Прокопий уже родился во дворянстве, и супругу ему надо присмотреть в столице, может быть, титулованную...
Сусанна, затаивая тоску, слушала Демидова, прижималась к его широкому плечу, а сама считала, сколько часов остается до заветного мига свободы. Еще четверо суток, целых девяносто шесть часов! Все она хорошо запомнила, что приказал Прокопий. Слушала почти машинально речь Демидова, закрывала глаза и отчетливо, ясно видела, как выскользнет из дворца тем же потайным ходом, каким уходил от нее Прокопий. Будет она в простой крестьянской одежде. У калитки в стене ее встретит Савва и проводит до мельницы. Там подождет ее с подводой Егор Сыч. Она проживет двое суток на его заимке, пережидая тревогу. Потом Егор отвезет ее окольными дорогами в Верхотурье, а оттуда она подастся в Москву. Поедет забытыми дорогами, проложенными еще Строгановыми. Как слышно, демидовские люди туда не заглядывают.
Дождь усердно кропил осенние березы, сбивая с них желтые листочки...
Вечером, уже в темени, ненастье утихло. Дунул студеный, колючий ветер.
Из окна своей опочивальни Сусанна увидела татарскую серьгу народившегося месяца на темном небе и подумала, что в ночь побега этот молодой месяц непременно будет пугать ее воображение причудливой игрой лесных теней...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Уральские вотчины горнозаводчика Петра Игнатьевича Осокина начинались от речки Пужливой, неподалеку от дороги на Тагильский завод. Дорога эта петляла в глухих лесных дебрях.
В недрах осокинских владений покоилась в земле добротная медная руда. Но чтобы добыть ее, нужны большие средства. Без денег не взять у земли ее богатство, потому что кругом – глушь, полное бездорожье и безлюдье. Речка Пужливая – тоже не помощница, слишком мелководна.
Хотя Осокин заводчик и неплохой, поднять дело с медью в одиночку не мог: как без больших капиталов поставить новый завод?
В осокинских лесах по хозяйскому приказу была поставлена заимка с караульной вышкой для охраны рудных залежей. Осокин побаивался, как бы соседушка, Акинфий Демидов, не разворовал медное богатство. Ведь он сумеет сделать это так ловко, что и следов воровства не найдешь. Зная денежную маломощность Осокина, Демидов не раз приценивался к его меди. Уговаривал продать залежи, обещал сразу же поставить завод, чтобы облегчить уральскую землю от медного бремени. Однако по-купечески упрямый Осокин на уговоры Демидова не поддавался.
За сохранностью лесных угодий от пожаров, а медных залежей – от покражи смотрел на заимке Егор Сыч. Жил он там с несколькими работниками и девушкой Лукерьей. Она была на заимке и стряпухой и домоправительницей.
Заимка стояла в глухом, на редкость красивом месте. До речки рукой подать. На многие версты кругом древние хвойные леса. Хотя немало в них бурелома и пролысин, все-таки деревья в этих лесах будто на смотр поставлены, высоченные, как на подбор. Много в лесах всякого зверья, и Егор между сторожевым делом промышлял медвежьи шкуры и иную мягкую рухлядь.
2
В избе заимки закатный луч кинул золотую полоску на оконный косяк, с окна полоска дотянулась до печного шестка, охватила еще и глиняный закоптелый горшок.
Сусанна, сбежавшая вчера ночью из Невьянска, сидела в углу под божницей с темными иконами. Савва с рук на руки передал ее Егору Сычу. Лукерья, сожительница Сыча, убирала миски из-под налимьей ухи. Крепкая и ширококостая Лукерья – настоящая лесная душа, как лешачиха уральских сказов. На лицо она хмурая. Взгляд тяжелый и направлен больше под ноги, будто все время боится запнуться. Внезапное появление в избе Сусанны ее перепугало. Не понимая, зачем и откуда взялась незваной гостьей эта бедно одетая красавица с барской, городской речью, Лукерья встретила Сусанну неприветливо и не перекинулась с нею ни единым словом.
Сам Егор не отличался добротной мужской силой. Ростом невысок, лысоват. Бороденка редкая, наполовину повыдерганная. Слегка прихрамывал на правую ногу: на охоте медведь ударил его лапой по колену.
Привык Егор Сыч за годы лесной жизни с Лукерьей к тишине и молчанию. Но свою красивую гостью он пытался отвлечь разговором от дум об опасности. Хотелось Егору лишний раз успокоить женщину и насчет надежности старика Саввы, башенного сторожа и давнишнего подручного Демидовых.
– Родом я калужанином буду, – неторопливо рассказывал Егор. – В родном месте кузнецом был. И звали меня не Егором, а Тимошкой; матушка с батюшкой меня Тимофеем окрестили, эдак ласково Тимошей кликали... Егором-то я здесь сам нарекся. На Камень же я с родных мест не с добра подался: земляка сгоряча молотком огрел, когда тот мою суженую отбивать стал. Ведь уж и не молод был, а вот, поди, не стерпела душа... Когда становой приехал в село, уж и след мой простыл. Немало горюшка хлебнул я в лесах здешних. Старик Демидов в то лето как раз в Невьянске был. А я все больше одиночкой по лесам шастал, и по первости донимал меня страх перед чащобой, держался я ближе к станкам и дорогам. Сонного меня демидовские люди и поймали. Дрался я, но пятерых осилить не смог...
Егор помолчал, подавленный страшными воспоминаниями. Сусанна слушала, не перебивая рассказчика ни словечком.
– Да. Так вот и поймали меня в изодранной одежонке. Привели в Невьянск на показ хозяину. Тогда обычай был в Невьянске: каждого пойманного мужика обязательно самому хозяину представлять. Связанным и привели. Глянул на меня Никита Демидов, велел на Ялупане-острове в яму кинуть, волосом обрастать. Огляделся я на острове и понял, что попал крепко. Этот Ялупан-остров беглый стрелец Савва для нашего брата придумал, сам же им и верховодил. Покоится тот остров в трясинах, мошкара там иных людей насмерть заедала, а у других от укусов обличие до того менялось, что родная мать ни в жисть не узнает. Ну да делать нечего, стал я жить, да кое с кем и дружить. Люди со всей матушки-Руси в том треклятом месте сидели. Иные виду богатырского, а все одно по ночам от горести ревели, как малые ребятишки, Демидова кляня.
Ты, красавица, слышь, меня нынче молчальником мимоходом назвала. И впрямь, сейчас все больше молчком живу и хожу. А помоложе я был – умел сказы сказывать. Вот через них стали ко мне на Ялупане люди тянуться. Соберутся, бывало, мужики у костра, волосатые все, как лешаки, и слушают мои сказки. Услышал мою сказку и сем стрелец Савва, стал потом частенько к нашему костру подсаживаться. Сказку про Жар-птицу я при нем уже раза два повторял, а он еще и еще рассказывать велит. Стал мне за это поблажки делать. Хлеба лишнего давал. Выходит дело, мне за сказки посытнее жилось, чем другим. Старик Демидов частенько на Ялупан приезжал – мужиков отбирать, что уже поспели волосом обрасти. Как-то утром наехал Демидыч раненько. Злющий пришел. Заметил меня, и не поглянулось ему, что волос на мне плохо растет. Обругал меня за это непристойно, а я возьми да и не стерпи. Он меня – кулаком по рылу, не зная, отчего я на Камень-то сбежал. Характером-то я горяч, кинулся на него да в руку ему зубами и впился. Как раз в ту впился, которой он меня хлобыстнул. Что тут поднялось, батюшки! Стали меня от хозяина оттаскивать, а я распалился в гневе, разжать зубов не могу, вцепился в руку, как пес голодный. Кровь даже выступила из его руки, и, когда меня оттащили от хозяина, весь я в демидовской крови измазан был и волка лютей глядел.
Привязали меня к лесине и давай в две плети поливать до беспамятства. А тут Савва на остров из завода как раз воротился. Ему-то Никита Демидыч и приказал насмерть меня порешить...
Двое суток отлеживался я после порки. Стонал, весь был в кровяных рубцах. Пришел Савва за мной, выволок ночью из закутка и повел в ночную темень, пинками подгоняя. Ну, думаю, вот и подходит конец моей жизни. Долгонько это он меня с острова через болота провожал, а когда вывел – велел мне в любую сторону стрекача дать. Кинулся я ему в ноги, а он поднял меня, да не пинком на сей раз! Сует мне в руку каравай и говорит...
Егор замолчал, вздохнул, вытер навернувшуюся от волнения слезу.
– Говорит мне тогда Савва: «Сказывай и впредь людям хорошие сказки почаще, вот и проживешь еще долгонько!» Таким-то манером и ушел я с Ялупана-острова. Стал сызнова в лесах мыкаться, охотой жил, имя себе Егорий для отвода глаз выбрал, а люди еще «Сычом» прозвали за то, что научился в любой темени дорогу видеть. Бродяжил по Камню много лет, да и прижился у Осокина. Отыскал это рудное место, открыл его хозяину, на заимке поселился да и караулю от всякого ворья. Годы на плечи ложились, что заплаты на зипун: то в цвет, то потемнее, то поярче, а оботрется – вроде бы так всегда и было... Так вот жизнь наша лесная и идет...
Старик Никита Демидыч теперича в земле лежит. Заместо него сынок Акинфий делом правит. Видывал я его в Невьянске, ходил туда потихоньку, уже без страху – в нонешнем обличии меня и Савва не сразу признал. Заходил я к нему на башню, опять сказку про Жар-птицу ему по старой привычке сказывал. Этот Савва мне вторым отцом стал, жизнь по злому приказу не отнял у меня.
Лукерья брякнула ведром на пороге. Бросила сердито:
– Доить пошла.
Егор глянул вслед своей сожительнице, только головой покачал.
– Вовсе охмурела дуреха.
– Кто она тебе? Жена?
– Да вроде как жена. Дельная девка, не пустомеля. Повстречал ее в глухой деревеньке, двора в четыре, да и приласкал. С тех пор за мной и ходит, на судьбу вроде бы не жалится. Звал ее венцом покрыться, так не пошла. Так и живем невенчанные.
– Не по нраву ей, что ты в избу меня к себе привел?
– А ты на нее не серчай. Боится, как бы ты ее место при мне не захватила. Вас разве поймешь? Иная от мужика отворачивается, близко его к себе не подпускает, а подойдет к тому другая, – прямо за него в драку лезть готова. Так вот, знать, и Лукерья тебя побаивается. Зачем, мол, здеся, незвана, негадана.
– Разве ты ей не сказал, кто я?
– Как можно! Я и сам ладом не знаю и знать не хочу, кто ты така я. Мое дело до Верхотурья тебя оберечь, а там поминай как звали.
Сусанна вдруг испытала что-то вроде озноба. Ее всю передернуло. Впервые дошла до ее сознания страшная опасность, грозившая на каждом шагу. Она с тревогой поглядела в окно на осенний, уже почерневший лес.
– Чего померещилось?
– Сама не знаю.
– Зря так тревожишься. Из демидовского капкана ушли, нигде следов не оставили. Шанежке и на ум не придет тебя здеся искать. Савва знал, кому тебя доверить. Дождемся и твоего дружка, молодого хозяина. Небось люба ты ему, коли серебром со мной за услугу рассчитывается. Посулил – не поскупился...
Гляди-кось, уж и солнышко зашло на покой. Теперича без страху одна оставайся: в объезд мне пора подаваться. В объезд мне седни обязательно ехать – в одном месте руду кто-то тайком ковыряет. Надо приметить ворюг, чтобы опосле вместе с моими мужиками-сторожами бока тем воришкам намять. А вдругоряд прихвачу – тут уж до смерти забиваем и без попа в землю кладем...
* * *
Вольный, верховой ветер тормошил еловые леса, поднимая в них гуды, стоны и скрипы. Светила совсем полная луна. Свою первую ночь свободы Сусанна дождалась, но тревога мешала сполна насладиться этой радостью.
Каждый непонятный шорох напоминал беглянке об опасности, заставлял до мелочей перебирать в памяти ненавистную прошлую жизнь, еще такую недавнюю, не отошедшую в мир далеких воспоминаний.
Сусанна лежала в избе на лавке и следила, как мигал огонек в лампадке. Спать не могла. Слушала, как совсем близко воет волк. Падала по капле вода из рукомойника в бадью. Перестук этих капель перебивал течение ее мыслей...
Она ясно, будто в каком-то тайном зеркале, видела все, что происходило во дворце в день ее бегства. Она притворилась с утра нездоровой. Акинфий забеспокоился и велел позвать лекаря. Тот поил «больную» горькими каплями и не велел ей вставать с постели. Акинфий не отходил от ее ложа, ловил ее взгляды и старался всячески угодить. А «больная» только и ждала, чтобы наступила ночь. Уговорила Акинфия уйти спать к себе. И лишь миновала полночь, она стала надевать крестьянскую одежду. Обулась в лапти. Под грудью подвязала узелок с остатками драгоценностей, даренных Демидовым. В парк решила идти не тайным ходом, а по малахитовой лестнице. Бежала по аллеям, при свете луны, пугаясь скрипа новеньких лаптей. Спускаясь за беседкой в лог, опять изжалилась вся в крапиве. От росы отяжелел подол юбки. Одним духом пробежала по откосу до стены. Толкнула калитку. Она подалась... А там за калиткой ждал Савва. Дошла с ним до мельницы. На тихий Саввин свист вышел из кустов Егор. Савва на прощание крепко обнял Сусанну. «Смелая ты девка, бог тебе в помощь. Покамест на Поясе, иди не оглядывайся, а дальше не моего ума забота. Ну, я в обрат пошел». Так она рассталась с Саввой. На заимку приехала, когда уже начинало светать. Сразу упала на лавку, проспала до полудня не шелохнувшись, а теперь вот заснуть никак не может... Лучше уж подняться, чем-то отвлечь себя от страшных мыслей. Ею все более овладевали дурные предчувствия и темный страх.
Она накинула на плечи теплый шушун, напилась воды из кадушки. Послушала, как спокойно похрапывает на печи Егор. По крутой лесенке поднялась на дозорную вышку.
От луны светлым-светло. Сиянием облиты вершины лесов. Гудят и стонут эти дали лесные... Постояла, огляделась вокруг ищущим взором. Разглядела всю заимку. Обнесена она тыном, на лугу – стога сена. От ворот заимки бежит и теряется в перелеске тропа. Изредка сквозь лесной шум прослушивается неумолкающее журчание горной речки, но где она бежит по лесам, Сусанна сверху не разобрала.
От ветра у нее захолодели руки, но возвращаться в избу не хотелось. Очень уж хороши эти леса под луной. Смотрела, будто запоминала их красоту, ибо не чаяла когда-либо еще вновь увидеть Урал. Разве только... Но сейчас, охватывая взглядом эту лесную ширь, не хотелось даже допускать мысли о новой и притом уже звериной неволе...
В лесу, совсем близко, захрустел валежник. Сусанна спряталась за опорный столбик и увидела, как на опушку вышел медведь. Зверь неторопливо пересек луг, направился к пригорку и опять убрался в ближний перелесок.
А Сусанна все стояла наверху... Где-то подал глухой голос филин. Под ветром стонали и гудели деревья-великаны. Журчала горная речка. На небе клубились лунные облака. Сусанна вспомнила, как вместе с Саввой любовалась ими с верхнего яруса Наклонной башни.
3
С того мига, когда Акинфий Демидов узнал об исчезновении Сусанны, в каждую живую душу, подвластную хозяину Невьянска, вселился молчаливый страх. Люди замерли, притихли в ожидании небывалой грозы.
Весть о бегстве Сусанны уже успела облететь все закоулки завода, заставляя и женщин и мужчин креститься в предчувствии неминуемой беды. Все знали нрав Акинфия Демидова. Полбеды, коли хозяин орет и сквернословит. Но если он молчит в гневе – дело плохо!
Акинфий сам обнаружил свою потерю: в ранний утренний час он пришел к опочивальне любовницы, тревожась о ее здоровье после вчерашнего недомогания. Уразумев, что он обманут, Демидов сейчас же разослал всадников по дорогам в сторону Чусовой, Тагила и Верхотурья. Всех воротных сторожей, карауливших въезд и выезд из семи башен, допрашивали о беглянке с пристрастием и перепороли. Один из этих караульщиков, по имени Никифор, с перепугу даже отдал душу. Слуги Демидова ходили с опухшими от оплеух щеками и разбитыми в кровь зубами. С каждым часом хозяин зверел все страшнее. Из сторожей не тронули только одного Савву. Демидов сам ходил к нему на башкю. На вопрос о беглянке старик коротко ответил хозяину:
– Сверху не видать. Небось не в карете покатила.
Обыск в опочивальне Демидов учинил самолично. Осмотрел все углы. Тайной двери за пологом постели не нашел, но понял, что беглянка унесла с собой все драгоценности, а ни единого дорогого наряда не взяла. Демидов был неколебимо убежден, что беглянке деваться некуда, далеко она не уйдет! В селениях проверили всех лошадей. Установили, что ни один экипаж, ни одна крестьянская подвода, ни одна верховая лошадь не покидали крепости и завода: лошади мужиков были на работах или в стойлах, повозки и кони заезжих купцов оказались все на месте...
Осмотрены были избы во всех невьянских слободках. Огороды, баки и сеновалы были обысканы. Ретивые дознатчики не забыли проверить даже выселки и курени углежогов... Беглянка как в землю прозалилась.
После полудня всадники вернулись ни с чем. Клятвенно уверяли Шанежку, что ни на одной из дорог нет следов и примет беглянки.
После разговора Демидова с приказчиком Шанежкой тот вышел из дворца с побелевшим лицом. Прямо с порога своей избы Шанежка долго крестился на икону, повторяя про себя хозяйское предостережение: дескать, «коли не изловишь, почитай себя мертвецом». Перспектива отправиться на дно пруда с камнем на шее приказчику не улыбалась; посему новые нарочные отправились на поиски, сам же приказчик принялся допрашивать всех, кто проживал на околицах завода.
Вечером Демидов побывал на башне и покинул ее в состоянии холодного бешенства. Взгляд его мог, кажется, превратить встречного в камень. Во дворце он сразу прошел в брошенную Сусанной опочивальню, заперся там на ключ и остался в полном одиночестве.
4
На следующее утро Шанежка уже начинал терять надежду поймать Сусанну. Он засел в избе. Глушил свое горе брагой, но чем больше пил, тем сильнее страшился хозяйского гнева.
Днем, когда полупьяный Шанежка валялся в одежде на постели, обдумывая и отбрасывая один за другим планы спасения от неминуемого наказания, дверь избы отворилась, на пороге очутился караульный, а за ним следом шагнул за порог незнакомый чернявый мужчина в грубом, самодельном кафтане, кожаных обутках и с шапкой в руке.
Шанежка обругал караульного крепким словцом.
– Не видишь – прилег с устатку?
– Да вишь, вот чужой нашего хозяина допытывается.
– Ну и веди к хозяину. Он как раз его нынче гостинцем приветит!
– Да не старого хозяина, а молодого, Прокопа Акинфиевича. Сказываю, что нету его, а этот не верит. В драку полез, велит к тебе вести.
– Ладно уж, ступай к своим воротам.
Караульный вышел, а гость с немалым любопытством принялся осматривать избу. Шанежка одернул пришельца сердитым окриком:
– Чего по избе зенками шаришь?
– Как живешь, гляжу. Думал, в хоромы попаду – демидовский приказчик как-никак. А возле тебя, оказывается, не столько богатства, сколько грязи.
– Разговорился! Сейчас в шею вытолкать велю! Говори, по какой причине тебе, лесная морда, Прокопий Акинфич занадобился?
– А вот и занадобился. Доложишь – не пожалеешь. Он-то знает, зачем я сюда явился.
– Скажи, какой скрытный! Знать, давно по зубам не получал. Могу угостить.
– Попробуй. Только сперва богу помолись. У меня кулак свинцовый, говорят. А я тебе, чать, не демидовский.
– Ишь ты, какой прыткий. Говори, к кому приписан?
– Осокинский.
– Кем у заводчика маячишь?
– Рудознатцем.
– Будет врать-то. С эдакой харей рудознатцем себя навеличиваешь!
– А харя тут ни при чем. Ваш-то Мосолов харей на благородного смахивает, а кушвинскую горку проморгал.
– Не бойся. Нашей будет.
– Не поздновато ли тянетесь?
– Отвяжись ты от меня, лешачина. Зачем, спрашиваю, тебе молодой хозяин понадобился?
– Дело есть к нему.
– Опоздал со своим делом. К старому теперь иди. Молодой с неделю как в столицу укатил.
Мужчина нахмурил брови и в сердцах даже сплюнул.
– Тьфу ты, эка пропасть! Обошел, вишь, обманом меня, значит. Одно слово – Демидов!
– Чего плетешь?
– То и плету, что обманщик ваш хозяин. Посулил два рублевика за услугу. Я ему ту услугу оказал, а он, вишь, меня обманул.
– Это какую же такую услугу ты, лешачина, мог молодому хозяину оказать? Будет врать-то!
– А вот и не вру. Дорогу ему на нашу заимку указал, на Пужливой речке. Денег у него тогда с собой не было, вот и велел мне в Невьянск за ними притопать.
Шанежка сел на постели. От удивления у него даже рот распахнулся настежь. В его отуманенной голове блеснул некий луч надежды...
– Зачем же ему эта осокинская заимка понадобиться могла?
– Про то он ничего не баял. Но сам-то я кумекаю, что старик ваш, верно, посылал туда сына насчет нашего медного богатимства дознаться.
– Когда ты его на заимку водил?
– Да вот уж боле двух недель нынче. Хворал я, потому и запоздал явиться. Вот тебе и рублевики!
– Шибко ли охота тебе рублевики обещанные получить?
– А то нет?
Шанежка шагнул было к пришельцу, но тот с опаской попятился.
– Саданешь ежели, сам сдачи получишь.
– Не врешь ли мне, дьявол нечесаный?
– А чего врать-то?
– На какую заимку молодого хозяина водил?
– Да к Егорке Сычу.
– Знаю. Он теперича с кем там живет?
– Как придется. В летнюю пору с ним мужики-сторожа живут, медную руду остерегают. А зимой больше вдвоем с девкой. У вас, я слыхал, тоже какая-то девка убегла?
– Тебе-то какое дело? Осокинским назвался, а про демидовское дознаться норовишь? Обещанные рублевики от меня получишь.
– А мне все одно, кто бы ни отдал.
Шанежка кинул на грязный стол два серебряных рублевика.
– Подбирай живо да мотай с завода. Лишнего при людях не болтай.
Пришелец не заставил себя поторопить. Спрятал деньги поглубже и ушел из избы.
Однако слова пришельца сильно взволновали Шанежку. Бражный хмель улетучился. Что мог искать Прокопий на заимке Егора Сыча? Дело показалось приказчику подозрительным, но гадать он ни о чем не стал, решил поскорее навестить заимку и узнать от Сыча, зачем наведывался к нему молодой Демидов. На заимку задумал отправиться с мужиками, отнюдь не будучи уверен, что его визиту Егор Сыч обрадуется. О своем замысле Шанежка пока поостерегся докладывать Демидову.
* * *
Взмылив коней, Шанежка и четверо дюжих демидовских работников добрались до Пужливой речки после полудня. У двоих были с собой ружья.
Подъезжая к речке, разглядели с бугорка остроконечный верх караульной вышки. Она торчала над лесными вершинами, как большой скворечник. Вот она, стало быть, заимка Егора Сыча.
Всадники спешились. Оставили лошадей на попечении одного из работников; Шанежка с остальными направились по тропе к заимке. Лесная тишина, наступившая после вчерашней бури, ободрила птиц: они несмело перекликались где-то высоко в шатрах елей, сосновых кронах и позолоченной листве берез.
От перелеска демидовские люди увидели всю заимку как на ладони. Дома ли хозяин?
Шанежка взял у работника ружье и выстрелил вверх. Гулко прокатился выстрел, разбудил эхо, и уже через минуту на вышке замаячила человеческая фигура. Демидовский приказчик знал, что людей у Сыча мало. Надо выманить из дому самого хозяина и тогда осмотреть жилье. Нет ли в нем следов беглянки?
Отсутствием сообразительности демидовские посланцы не страдали. Шанежка велел своим спутникам замаскироваться в кустарнике и поднять шум, хруст веток и треск сучьев, изображая звуки схватки с медведем. Сам же приказчик не своим голосом заорал:
– Помогите! Помогите!
Хитрость удалась вполне. Егор Сыч, услышав с вышки крик о помощи, сбежал вниз и кинулся за ворота. В руках у него была рогатина, прихваченная впопыхах в сенях избы. Тем временем Шанежка с криками «помогите!» выбежал один на открытую луговину, зашатался и рухнул наземь. Егор подбежал к лежащему, отбросил рогатину и хотел помочь незнакомцу подняться, но тот внезапно вскочил на ноги и нанес Егору сильный удар в грудь. Сторож заимки покачнулся, попытался было позвать на помощь, сделал шаг к воротам, но здоровенный Шанежка без труда свалил своего противника с ног. Приказчик свистнул, из перелеска выскочили остальные демидовские люди, связали Егора и заткнули ему рот тряпицей.
Во дворе залились лаем собаки. Шанежка, распахнув калитку, первым вбежал во двор. На него кинулись собаки, и, пока он яростно отбивался от них нагайкой, на крыльцо выбежала Лукерья. Она замерла от страха при виде четырех незнакомых мужчин, дравшихся с собаками. Шанежка бросился к крыльцу.
– Не бойся нас, бабонька. Тебя нам не надобно. Уйми-ка псов да пусти в избу.
И, оттолкнув оторопевшую Лукерью, приказчик ворвался в дом. С порога сеней он крикнул своим подручным:
– Никого в избу не пускать, пока обыщу.
Этот крик услышала Сусанна. Она сразу узнала голос ненавистного приказчика. Женщина успела схватить топор и стать к дверям, чтобы обрушить удар на вошедшего.
Но для Шанежки такие схватки были не в диковину. Он рванул дверь и отскочил в сени. Сусанна с топором подалась вперед, но низкая притолока помешала нанести удар. Оба успели глянуть друг другу в глаза. В одних был предсмертный ужас и ненависть, в других злобное торжество.
– Здравствуй, красавица! Ласковей принимай гостей! За тобой пожаловали, потому как заскучали без тебя. Вот ты где гостишь, оказывается!
Сусанна успела отскочить от дверей и замахнулась топором, чтобы не подпустить к себе своего врага. Но Шанежка схватил в сенях пустую бадейку и запустил в женщину. Та от неожиданности выронила топор. В тот же миг сильные руки приказчика притиснули беглянку к стене. В избу вбежали подручные Шанежки. Прийти на помощь Сусанне было некому: Сыч без памяти валялся на луговине с кляпом во рту, мужики-сторожа ловили в лесу тайных добытчиков осокинской медной руды...
Трое подручных навалились на Сусанну. Связанная, она не билась, не стонала, не плакала. Даже на свет не глядела – сжала, как в судороге, и веки и зубы.
– Ну, вот ты и готова! Недолго погуляла. Неужели не понимала, что от Демидовых только на тот свет дорога не огорожена? Обидела ты нашего дорогого хозяина. Небось нынче сам с тобой потолкует.
Шанежка смеялся и от радости потирал руки.
– Ну-ка теперь-то Егора живо сюда.
Двое работников привели из-за ворот Егора Сыча со связанными за спиной локтями.
– Что ж это ты, погань эдакая, супротив Демидова шагать вздумал? Или жизнь лесная, тихая не мила стала?
Шанежка погрозил Егору кулаком.
– Ну да ладно. На сей раз прощаю тебя. Дело-то сделано. Кваском теперь напой. Притомились.
Егор покорно велел Лукерье принести квасу. Шанежка напился из березового туеска, крякнул и утер бороду рукавом.
– Квасок не плохой. Бывайте здоровы, хозяева! Да про то, что были у вас в гостях, – никому ни гу-гу... Идем-ка с нами, красавица. Коней к крыльцу не подали – до лесочка дойти придется.
Женщина не пошевелилась. Двое работников подхватили ее на руки и потащили к спрятанным лошадям.
Шанежка и работники не слишком торопились на обратном пути. Сначала приказчик положил Сусанну связанной поперек седла, потом передумал и посадил на лошадь одного из работников, которому велел идти пешком. Мало ли что приказчика ждет впереди? Вдруг хозяин возьмет да и помирится со своей любовницей?
Предвкушая события в Невьянске, Шанежка радовался от гордости. Награда будет царской. Чуть-чуть пугало, что уж очень неосторожно запустил в Сусанну бадейкой.
На околицу завода прибыли поздно вечером, уже под луной, озарявшей Невьянск. Улицы завода пустынны, будто весь он вымер: народ завсегда привык по избам сидеть, когда хозяин не в духе...
В завод въехали со стороны Нейвы. Шанежка оставил Сусанну в своей избе под охраной, а сам направился к хозяину.
Демидов сидел на диване в зале и мрачно глядел на семейные портреты. Он как бы спрашивал отца, требовал его совета: как быть? Он поднес шандал со свечой чуть не к самым глазам отца и не замечал, что горячий воск струится на ослепительный паркетный пол. Услышав шорох, он злобно прошипел на вошедшего:
– Кого там несет? Вон отсюда!
Обернувшись, увидел на пороге зала Шанежку.
– Вон! Все одно не пощажу. Не надейся! Ротозей дьяволов!
– Да я, Акинфий Никитич, не за прощением пришел. Охота мне за верность спасибо твое услышать. Пымал!
– Чего?
Демидов кинулся на приказчика с кулаками, встряхнул его своей могучей ручищей.
– Врать вздумал?
– Опомнись, хозяин. Правду сказываю: пымал! Куда теперь привести ее?
– Кого привести?
– Да Сусанну Захаровну, хозяин-батюшка.
– Стой! Правда ли, что поймал? Да где она?
– У меня в избе, Акинфий Никитич. Привести велишь, что ли? Мигом представлю!
– Нет! Не надо сюда вести. Ноги ее больше в доме не будет. В подвале ее запрешь! Айда, Шанежка! Озолочу!.. А сейчас ступай, слуга верный. Никому не сказывай, что поймал. Веди ее в подземелье, и пусть-ка теперь покается, что посмела против воли моей бунтовать!
* * *
Колокол на Наклонной башне прозвонил одиннадцатый час ночи. Шанежка нес зажженный фонарь. Руки Сусанны все еще были связаны. Он вывел ее из своей избы. Молча повел через пустой, просторный двор. Он был весь голубой от осеннего лунного света, и луч фонаря казался желтым пятном среди этих голубоватых отсветов. Впереди людей тянулись тени...
Перед тем как выйти во двор с Сусанной, приказчик завязал ей рот полотенцем, чтобы не вздумала крикнуть, позвать на помощь. Пока пересекали двор, Сусанна слышала, как в стойлах жевали овес и пофыркивали лошади. Вспомнила и своих белоснежных коней, подарок хозяина. Кому-то теперь на них ездить?
Дошли до парка. Дворцовый фасад мрачно темнел в окружении полуголых берез. Ни в одном окне не было света. Синие тени берез отпечатывались на стенах дома. Под ногами шуршала опавшая листва.
По широким мраморным ступеням они поднялись на парадное крыльцо с колоннами. Луна светила так ярко, что женская тень обвила ближнюю колонну, словно ее обернули траурным крепом. Когда Сусанна прошла, черная полоса ковриком постлалась к дверям во дворец.
Шанежка открыл эти двери, и Сусанне стало страшно от непривычной тишины в доме. Озерки лунного света из окон затопили все ступени малахитовой лестницы. Она сейчас показалась Сусанне такой чужой и враждебной, будто еще никогда ноги ее здесь не бывало.
Приказчик осветил фонарем замок небольшой двери под самой лестницей. Сусанна так и не вспомнила, замечала ли она когда-либо раньше эту дверь.
Поставив фонарь на пол, приказчик, понатужась, отомкнул замок и открыл дверь, окованную изнутри медными полосами. На Сусанну из глубокого подземелья пахнуло холодом и плесенью.
– Сторожась ступай, склизь на лесенке!
Женщина покорно ступила в черную дыру. Узкой щелью сжались вокруг нее стены с низким сводом потолка. Шанежка направлял фонарь под ноги. Лестница вниз была очень крутая, привела к узкому длинному коридору. Еще одна дверь, с виду тяжелая, но Шанежка пинком ноги легко отворил ее. За ней оказалась более широкая лестница, снова в глубину. На ее ступенях скопилась влага. Опять коридор, совсем короткий, окончившийся сводчатой клинчатой аркой. За ней – довольно просторный каменный подвал, похожий не то на пещеру, не то на склеп. Потолок из ребристых нервюр опирался на две толстые колонны, сложенные из неоштукатуренного кирпича. Голос Шанежки прозвучал здесь глухо, замогильно:
– Тут теперь твой покой будет, хозяюшка невьянская. Вон и постель тебе налажена. Уж не обессудь, что заместо перины – солома. В углу ведро с водой и краюха хлеба.
Женщина не удостоила приказчика ни единым словом с самого мига поимки. Она отвернулась к стене, безучастная к его наставлениям. Шанежка достал из кармана свечу, зажег ее от фонаря. Воткнул свечу в щель между каменными плитами пола... Постоял, покачал головой.
– Эх, судобушка! Ведь, как жила-то...
Однако и этот сочувственный тон узница оставила без всякого внимания. Шанежка пожал плечами.
– Ладно! Еще намолчишься досыта. Над демидовскими рубликами царствовать станешь, с крысами в компании. Крыс здешних не бойся, они у Демидова сытые, на людей не зарятся.
Он вплотную приблизился к пленнице, развязал ей руки, снял с лица полотенце. Потоптался, пока женщина разминала руки...
– Ты, слышь, не серчай, что на заимке я тебя бадейкой шарахнул. Ведь не по злобе, а в горячке. Ежели бы не нашел тебя, не привез назад, – сегодня с камнем на шее дно в пруду целовал бы.
Сусанна, не узнавая собственного голоса, первый раз заговорила с приказчиком:
– Кто меня выдал?
– Вот те Христос, никто! На заимку нечаянно явились.
– Сюда зачем привел?
– Хозяин велел.
– Пытать станете?
– Про это не знаю. Сама понимать должна: не в себе хозяин. Совсем разум утерял, как ты убежала. Что ж, покуда прощай!
Взял в руку фонарь, ушел не оглянувшись.
Сусанна осталась одна. Осмотрелась. Страха перед подземельем у нее не было, но ее передернуло при виде крючьев и скоб со ржавыми цепями, вмурованных в опорную колонну. Вдоль стен – разные с виду сундуки, возле них еще короба... Склад серебряных рублевиков...
В одном углу, до самого потолка, сложены стопкой кирпичи. Сусанна догадалась, что Акинфий велел посадить ее в подземную залу, где вместе с отцом некогда пытал насмерть доносчиков. Сам же и рассказал ей про эту залу, когда зимой поймали монашку. Руки Сусанны сильно затекли от веревок, теперь их будто кололи иглы. Она разминала их, пока смогла держать свечу в плохо гнущихся пальцах. Со свечой обошла свою тюрьму. Заметила мох на колоннах и сводах, сырость, искрившуюся в отблеске огонька...
Где же ее постель, о которой не преминул напомнить ей Шанежка? Женщина нашла в углу, поверх плоских коробов с серебром, свежий сноп соломы. От него еще пахло овином. Сусанна тщательно разворошила сноп, разровняла солому на коробе и присела на это ложе. Только тогда и заметила, что с левой ноги потеряла лапоть, на ноге остался только вязаный крестьянский чулок.
Откуда же этот шум? Сусанна не сразу поняла, что шумит у нее в ушах. Да еще сердце стучит – больше здесь ничто не нарушает давящую тишину. Вспомнила, как вчера еще смотрела с вышки на леса под луной. И поняла, что лучшим временем всей ее жизни были часы, проведенные на заимке Сыча. Это были единственные в ее жизни часы настоящей свободы...
Оставив Сусанну в подземелье, Шанежка вернулся в свою избу. Он пытался подбодрить себя мыслями о награде, но не радовала и награда. Его брала злоба на хозяина. Ведь хотел он, приказчик Шанежка, обрадовать, осчастливить хозяина, а тот велел в подземелье запереть любовницу. Попробовал он освежить в душе радость отмщения за те унижения, что вынес по милости Сусанны. Но никакой мстительной радости не испытал, напротив, судьба пленницы студила даже его злобную и черствую душу. Знал бы – так и ловить-то не стоило! Авось не казнил бы хозяин старого, верного, самого нужного холопа...
Походив по избе, Шанежка подсел к столу, пожевал в раздумье черствого хлеба; стало клонить ко сну.
Обернулся на скрип двери. На пороге оказался Савва. Башенный старшина, не глянув на икону, перекрестился. Спросил глухо:
– Куда упрятал?
Под колючим взглядом старика Шанежка нарушил хозяйский запрет:
– В Цепную залу. Сам велел!
Проговорив эти слова, приказчик отвел глаза и уставился в пол.
– Стало быть, хозяйской награды теперь за верную службу ждешь?
В голосе старика злая насмешка. Даже хуже: упрек и ненависть.
– Понимай, Савва: ежели бы не изловил, не жить мне. Тебе-то хорошо. От всего в стороне.
– Бежать ей пособил я.
Шанежка вытаращил глаза, закрестился часто.
– Господь с тобой!
– Кабы со мной была, не угодила бы в Цепную залу. Завтра хозяину доложи, Шанежка. Пусть и меня туда же посадит.
– Ты, Савва, видать, не в себе. Кто тебя разберет, что ты в уме держишь. Только вот что скажу: все же доносить на тебя не пойду. Сам понял: понапрасну сгубил эдакую красавицу. Глянул сейчас в подземелье. Эх, больно хороша баба! Жаль мне ее стало.
– А может, и не сгубил еще? Сила в ней над Акинфием большая. Такая сила, что иной раз и государей заставляет царствами кидаться... В твоей воле, Шанежка, ее из Цепной залы на волю выпустить.
– Не смею, Савва.
– Али духу не хватает?
– Убьет за такое.
– А у тебя ног, что ли, нету?
– Везде сыщет. Меня-то никто не схоронит, волк я для любого здешнего человека.
– Трусишь? А ты хоть разок доброе дело сотвори. На-ка!
Савва положил перед приказчиком кожаный мешочек.
– Возьми вот; может, от этого храбрым станешь? Серебро. Отпустишь Сусанну – своим считай.
– Боюсь. Хозяин убьет.
– Сибирь не махонькая... Посчитай на досуге рублики в мешочке. На таких колесиках далеко укатишь. И ты про Демидова позабудешь, и они тебя не вспомнят.
– Не серчай, что изловил.
– Сам ране такой же был. Ретивый. Должно, от старости дурею. Жалость к людям душу изглодала. О всех загубленных за упокой молюсь. А за нее, молоденькую, охота мне во здравие помолиться.
Но приказчик косил в сторону и вздыхал сокрушенно. Савва встал и, не глядя на приказчика, вышел из избы. Даже дверь не прикрыл за собой.
Освещенный луной, старик шагал к своей башне, уже поняв, что его силой не вызволить пленницу из Цепной залы.
Колокол отзвонил полночь. Проиграли свою мелодию куранты.
Шанежка опять уловил во дворе шаги и старческое покашливание. Ага! Самойлыч! Хозяйский камердинер...
У старого слуги дрожали губы. Стараясь глядеть мимо приказчика, Самойлыч выговорил через силу:
– Хозяин тебя требует. И велел прихватить ключи. Сам знаешь какие...
5
Вторые сутки пленница сидела в темноте подземелья. Свеча давно догорела. За это время никто не приходил. До хлеба она не дотронулась, а воду выпила всю, так и не утолив мучительной жажды. Но хуже всего была могильная тишина, изредка нарушаемая писком дерущихся крыс.
Почему же не идет Акинфий и каковы его замыслы? Она уже успела поразмыслить, как действовать. Решила разжалобить Акинфия слезами раскаяния, лишь бы только выйти из этой нечеловеческой тьмы.
От сырости все тело стало липким. Ей было холодно. Чтобы хоть немного согреться, она вся съеживалась, зарывалась в солому. От невыносимой тишины она начинала разговаривать вслух. Произносила те слова, что собиралась сказать Акинфию, вымаливая прощение. Надежды на прощение она не теряла. Тогда она сможет вернуться в свою опочивальню, успокоить Демидова лживой покорностью, выждать время и снова пытаться бежать.
Больше всего Сусанна боялась, как бы Демидов не приказал пытать и бить ее. Она знала, понаслышке, ужасы демидовских пыток. Люди сознаются под пыткой во всем, что было и чего не было. Если Акинфий надумает применить к ней пытку, Сусанна твердо решила свалить всю вину на Прокопия.
В кромешной тьме подземелья Сусанна пыталась приготовиться к допросу, обдумать ответы, найти средства разжалобить Акинфия. Ей все еще верилось, что прежняя власть над ним не утрачена и вернет ее вновь в привычную роскошь опочивальни.
* * *
Когда Шанежка прибежал уже после полуночи на зов хозяина, тот отобрал у приказчика ключи от подземелья и грубо прогнал, не спросив никаких подробностей о том, как ловили Сусанну и как она повела себя в подземелье.
Сам Демидов вторые сутки не выходил из спальни, ничего не ел, пил крепчайшую брагу кружками, не испытывая даже легкого опьянения. Он еще никогда в жизни не ощущал в себе такой холодной, давящей злобы. Он гневался не на обманщицу, которую мысленно обрекал на самую лютую казнь, а на самого себя. Он испытывал мучительный стыд перед самим собой за то, что за столько лет совместной жизни не смог распознать этой женщины. Обманулся, как безусый юнец! Теперь он догадывался, что за все эти годы она не сказала ни одного искреннего слова и, даже лаская, лгала. Как мог он верить этому дьявольскому притворству, этим лживым чарам, до того заворожившим его, Акинфия Демидова, что смогли даже в его каменной душе пробудить давно забытую жалость и нежность?
Измученный гневом и этими мыслями, Демидов уже не раз порывался кинуться в подземелье, нещадно бить ее за все, что она сотворила с его душой. Но он смирял эти порывы, боялся, как бы не подпасть снова под колдовское обаяние этих лживых глаз и не размякнуть. Несмотря на всю свою ненависть к обманщице, он не мог избавиться сразу от ее прежней власти над ним. Всем своим трезвым, жестоким, холодным умом Акинфий ненавидел эту женщину. Сердцем же он все еще принадлежал ей, все еще любил ее, непокорную, властолюбивую и все же мягкую и нежную... И хотя ее ложь была очевидна и вырыла пропасть между ним и ею, Демидов никак не мог решиться начать экзекуцию.
Он сознавался себе с трудом, что жестоко страдает от обиды, чувствует себя оскорбленным как человеческая личность. Да как это смогла простая купчиха столь оскорбительно пренебречь таким человеком, как он, приближенный к императрице, вершитель судеб целого края, богач и заводчик Демидов? Как она, только любовница, посмела пренебречь его любовью, не понять, не ценить такого чувства!
Бегство он бы еще простил, смог бы объяснить порывом на волю, прихотью, капризом. Захотелось, мол, побегать, пошалить по-детски, потому что надоело, приелось чрезмерное богатство. Но куда и зачем она убегала? К кому? Неизвестность причин побега терзала его любопытство, будила страшное подозрение. А допрашивать холопа Шанежку ему, гордецу Демидову, претило. Пусть сама скажет!
Мучили самые мрачные предположения. Может, это все происки неких тайных могущественных врагов? Во что бы то ни стало дознаться обо всем у самой Сусанны. Конечно, можно вынудить признание пытками. Но он гнал эту мысль, откладывал допрос, ибо где-то в глубине души тлела надежда на ее раскаяние и возвращение. А сможет ли он в будущем, если чудо раскаяния свершится, снова припасть губами к телу, которое сам же предал на пытку? Он хотел увидеть, услышать ее – и боялся этого момента.
С этими мыслями Демидов под утро задремал...
Он пробудился, не зная, который час. Очнувшись от давивших его кошмарных снов о Сусанне, он вдруг внезапно представил ее вместе с сыном Прокопием. Вот в чем, может быть, причина побега? От таких мыслей воскресла с новой силой притихшая было злоба, заставила его вскочить, схватить плеть и чуть не бегом кинуться к потайной двери под малахитовой лестницей.
* * *
Измученная жаждой, Сусанна дремала, когда внезапно, чутьем угадала, что Акинфий сейчас явится. Она села на соломе, вслушиваясь в тишину. Расчетливо надорвала на груди кофту. Вслепую уложила волосы, выбирая из них соломинки. Откинулась на солому к сырой стене, закрыла глаза, притворилась впавшей в полуобморочное состояние. И почти тотчас же слабо звякнул замок. Затем приблизился шорох шагов, и, наконец, полоска света протянулась из-под входной арки. Сусанна чуть приоткрыла веки и узнала хозяина с плетью в руке. Она следила сквозь сетку ресниц, как он поставил канделябр со свечами на пол. Сам он стал над ее ложем, и рукой защитил глаза от свечей, чтобы лучше разглядеть ее. Она успела заметить, как осунулось и постарело лицо Акинфия.
Он не отрываясь смотрел на лежащую, а та, сжав веки, делала вид, что спит непробудно. Крыльями ворона распластались на соломе ее распущенные волосы. Под разорванной кофтой ровно и будто безмятежно поднималась грудь. Глаза окружены синевой. Руки под щекой...
Он не смог грубо разбудить спящую красавицу, единственную и последнюю свою любовь...
А Сусанна думала, что уж пора бы ей «проснуться». Иначе можно упустить драгоценную минуту растроганности, вызванную ее беспомощной и очаровательной позой.
Женщина пошевелилась, открыла глаза, разыграла пробуждение, радость нечаянного свидания, даже игриво потянулась к своему повелителю и только уже потом, как бы осознав действительность, слабо вскрикнула и закрыла руками лицо, искусно имитируя стыд, раскаяние, смирение.
Демидов не спускал с нее глаз. Он холодно наблюдал, как она сползла с соломы на пол, встала на колени, прошептала истово и внятно:
– Родимый! Сможешь ли простить меня, неразумную?
– Ласково выговариваешь!
– Что хочешь делай, только прости. До смерти бей, только прости мой грех невольный.
– Зачем убежала?
– С тоски. От обиды на тебя.
– Чем обидел?
– Да как же? Я всегда с лаской, а ты думы темные таишь, подозреваешь в неверности. Мне одной хочется твоей любовью владеть, а ты кинуть меня задумал, променять на другую. Вот и задумала наказать тебя, заставить тебя помучиться.
– Лжешь, подлая.
– Когда же я тебе лгала? Плохо же ты понимал меня и совсем, выходит, не любил. Только тешился, как девкой.
– Никогда в тебе правды не было. Зачем перед побегом такой ласковой змеей вокруг моего сердца обвивалась?
– Да, знать, почудилось мне, что лаской да нежностью я в твоей душе железной любовь человеческую вырощу.
Демидов ощутил прилив ярости, выпрямился во весь рост.
– Погань! Колдунья окаянная! Не ошиблась, нет. Вырастила ты во мне любовь, да только ложью и обманом. Прощения просишь? Как посмела о прощении у меня, обманутого, молить?
– Бог и тот запрета на такое моление не кладет, а ведь ты не бог, Акинфий!
– О боге вспомнила? Не поздно ли? Подумала о нем, когда ложью меня, как тенетами, опутала? Не каялась в том, что лживой лаской меня согревала? Ты, погань змеиная, была мне всего света белого милее. Вровень с материнской была во мне любовь к тебе. Не сразу на старости во мне она пробудилась, но жить мне с ней легче становилось. Жалость к людскому горю я благодаря ей чувствовать стал. Ради тебя Демидов не по-прежнему да не по-демидовски жить готовился. За что враньем душу мне заплевала? Отвечай, ежели смелости хватит, коли не вконец совесть утеряла.
– Что отвечу? Сама лучше у тебя спрошу: стало быть, любовь мою враньем признаешь? А ведь я чиста перед тобой. Пятнышка на чувствах моих любовных нет.
– Не смей так говорить! Не было у тебя ко мне любви. Даже помысла ласкового обо мне в душе твоей не заводилось. Ненависть была, лукавством и хитростью прикрытая. Говори теперь правду: кто тебе Прокопий?
– Сын твой.
– И только?
– А ты сам иную правду скажи, коли знаешь!
– К нему убегала?
– Сам не веришь тому, что говоришь.
– Прокоп ли уговаривал тебя кинуть меня?
– Сама надумала. Он про это не ведал. Какое ему до меня дело?
– Опять врешь, врешь, врешь!
Демидов взмахнул плетью, и она обожгла Сусанну. С криком боли женщина вскочила на ноги, но новый удар поверг ее на пол. Она затихла, укрыв лицо руками.
Демидов задыхался. Он сам, собственной кожей, каждым мускулом, каждым нервом ощущал те удары, что наносил Сусанне. Он сам был готов стонать от боли. Если бы он прочел сейчас в ее глазах мольбу о пощаде, услышал стон, он кинулся бы к ее ногам, сам молил бы о пощаде, о милосердии, о возвращении к прежнему.
Но в подземелье сгустилась тишина, оба сердца, карателя и жертвы, стучали не в лад...
И когда избитая женщина подняла голову, во взгляде ее Акинфий прочел бесповоротный приговор. Это были горящие ненавистью глаза раненой рыси перед последним, смертельным ударом охотника... Демидов попятился было, потом шагнул к ней, хотел поднять с пола.
– Поднимись, Сусаннушка! Господи, прости меня грешного!
– Не тронь! Без тебя встану. Руку посмел на меня поднять? К Сусанне Захаровне с плетью пришел? Забыл, как ползал передо мной? Бей еще! Чего выжидаешь? Только и силы в тебе, когда плеть в руках.
– Сусанна!
– Не позабыл, стало быть, как меня звать? Будешь помнить? А вот то, что сейчас я винилась перед тобой, – об этом позабудь. Слышишь?
– Люба ты мне.
– Экую радость сказал.
– Не шути со мной, Сусанна; не испытывай моей доброты к тебе.
– Во сне, что ли, ты добрым-то бывал? Смешно слушать о демидовской доброте. Охота тебе знать, отчего сбежала от тебя? Скажу: от злодейства твоего, от смрадного твоего дома, от богатства неправедного, а пуще всего от поцелуев твоих поганых, слюнявых.
– Врешь. Все врешь! Притворщица! Не верю ни слову. Сколько раз ты мне о своей любви твердила!
– Не веришь? Не веришь, что всегда мне тошнехонько было с тобой? До одури ты мне противен был, а про любовь от страха лгала, пока силы хватало терпеть тебя возле себя.
– Признаешься, что обманывала?
– Всегда дураком считала и дураком выставляла.
– Куда хотела податься?
– Не скажу.
– Пойми, окаянная, что тебя ждет!
– Все поняла. Не убежать мне, не вырваться из твоих когтей кровавых. Пропала я. Не видать мне солнышка. Пытками, проклятый, замучишь. На цепь посадишь. Замучишь и в эту стену замуруешь, как многих замучивал. Вон они, кирпичики-то, уж приготовил...
– Не стану тебя мучить. Люба ты мне больше всех на свете. Только открой правду, зачем и к кому бежала?
– Ничего от меня боле не услышишь. Хлещи до крови. Руки свои моей кровью умой, коли мало пролил крови людской. Хлещи!
– Не стану! Пальцем не трону. На, бери!
Демидов швырнул плеть под ноги Сусанне.
– Не станешь? Поди, снова начнешь целовать? Жаль меня стало? А вот мне тебя не жаль, душегуба. Мужа моего топором зарубить велел. Вольность мою в логове своем мызгал и в грязь втаптывал. На, получи хоть от меня за всех избитых!..
Сусанна схватила плеть с пола, вскочила на ноги, размахнулась и со всей силой хлестнула Демидова. Он не двинулся с места, не защитился, и новый удар рассек ему бровь. Кровью залило глаз, и Акинфий прикрыл лицо руками.
– Больно? Значит, и палачу больно бывает?
Сусанна хлестала его и по спине, когда Демидов повернулся к выходу. И даже когда он уже закрыл дверь, узница еще хлестала по ней, по кованым сундукам, по стенам. Попался ей под руку и канделябр с горящими свечами. Она и его опрокинула ударом плети, но когда все вокруг снова погрузилось в темноту, Сусанна упала на пол и дала волю рыданиям...
6
Дня три Демидов не спускался больше в подземелье. Ходил туда Самойлыч, носил еду, воду и свечи. Каждый раз слуга докладывал хозяину одно и то же: Сусанна Захаровна лежат-с, кушать не изволят, зарываются головой в солому...
На четвертое утро Демидова разбудил шум дождя. Его глухой, ровный шум успокоительно подействовал на Акинфия. Рассеченная бровь поджила и саднила меньше. Смягчилась и острота обиды на Сусанну. Вспомнились собственные слова, полушутливо сказанные сыну: дескать, Демидовы помнят зло только до поры, пока не изобьют обидчика.
Еще накануне вечером он решил простить Сусанну, даже не зная всей правды о побеге. Он даже боялся, что эта правда может быть непоправимой. Он сознавал, что сердцем простил обидчицу уже тогда, в подземелье, и хлестнул Сусанну сгоряча, по-мужски, от обиды. За то, что она сторицей дала сдачи, он не серчал, даже с тайной радостью вновь узнавал прежнюю непослушницу. Ему прямо понравилось, что она не боится грубой силы, не трепещет, не унижается. Ох, горда! И смела! И Демидов который раз в жизни убедился, что робеет, встречаясь с чужой, непреклонно смелой волей, теряет свою и внутренне восхищается истинно храбрым противником. Сам он умел бороться, уничтожать врагов и сражаться только чужими руками, наносить удары чаще всего в спину.
Еще лежа в постели, он приказал Самойлычу:
– Сгоняй-ка сюда живей всю домашнюю челядь!
– Кого прикажете звать-с?
– Всех, кто в доме есть, до единой души. Не таращи глаз! Порешил я подле себя наладить опочивальню Сусанны Захаровны. Вели людишкам единым духом сверху все ее добро перетаскать во французскую зальцу. Дверь в нее отворить настежь и никогда не запирать.
Растерянно-радостно кивая головой, то и дело поддакивая хозяину, Самойлыч метался по спальне хозяина, то подбирая, то роняя раскиданную одежду. Его несказанно обрадовала новая перемена в судьбе узницы.
– Не мельтеши перед глазами. Сам оденусь.
– Сейчас, батюшка! Единым духом все слажу.
Еще не смея окончательно верить твердости хозяйского решения, Самойлыч побежал распоряжаться...
* * *
Миновал полдень, а Демидов все медлил идти в подземелье, чтобы принести Сусанне прощение.
Слуги проворно перетаскивали во французскую комнату мебель из опочивальни Сусанны, а Демидов сам указывал, куда ставить убранство. Новое помещение для Сусанны ему понравилось. Теперь, рядом с его спальней, она всегда будет на глазах...
Приказав полотерам до блеска натереть паркет в зальце, Демидов поднялся в прежнюю опочивальню Сусанны. Пустая, она показалась очень большой и просторной. Обратил внимание на персидский ковер, не снятый со стены. Удивился, что раньше из-за полога кровати не замечал такого красивого узора. Пусть этот ковер положат отныне на пол в новой спальне. Он погладил упругую ткань, с удовольствием ощутил прикосновение к пушистому ворсу, но неожиданно почувствовал под ковром пустоту. Он надавил сильнее, отогнул край ковра и заметил дверь. Весь похолодев, Демидов сорвал ковер со стены. Крикнул не своим голосом:
– Самойлыч!
Вбежавшего слугу он грубо схватил за руку:
– Куда эта дверь?
– Не ведаю, Акинфий Никитич! Мало ли у нас в доме дверей! Не извольте сами ручки свои марать. Дозвольте, пыль сперва сотру!
Но Акинфий, не взвидев света, тряс старика за плечи.
– Свечей! И вон отсюда! Стой у дверей, чтобы никто не входил. Змеи вы все, а не слуги.
Самойлыч чуть не ползком выскользнул из опочивальни, тотчас же вернулся с шандалом. И когда Демидов шагнул со свечой за таинственную дверь, верный Самойлыч, поминутно крестясь, остался перед дверями опустевшей спальни...
Вымокнув под дождем, Демидов вернулся в дом из парка. Бледный, страшный, молча прошел во французскую комнату. Только увидев в зеркале свое отражение, он заметил, что все еще держит в руке шандал с потухшей свечой. Он с яростью хватил шандалом по зеркалу. Осколки разбитого стекла брызнули во все стороны. Из комнаты испуганно шарахнулись полотеры. В исступлении Демидов крошил и остальную мебель в комнате. Топтал хрупкие ножки стульев, расшвырял с постели одеяла и подушки, сорвал полог, разбил десятки ваз и фарфоровых статуэток, свалил туалетное трюмо... Учинив этот разгром, пустился бегом к малахитовой лестнице и ринулся вниз, в подземелье, рискуя сломать себе шею на крутых ступенях.
Новые, недавно смененные свечи в канделябре успели сгореть только наполовину. Тюрьма Сусанны теперь показалась Демидову недостаточно мрачной.
Сама она лежала лицом к стене, но, услышав непривычно тяжелую поступь Акинфия, обернулась и замерла в испуге, так он был страшен в приступе ярости. Будто не человек, а медведь с Сычевой заимки шел к ней на задних лапах. Женщина быстро села на соломе, а он, не мигая, как филин, уставился на узницу.
Она первая нарушила зловещее молчание:
– Явился, наконец. Давно ждала, когда приканчивать придешь.
От этих слов Демидов попятился. В мерцающем свете он вдруг заметил, что в черных волосах Сусанны появилась седина. Властное и капризное выражение ее лица вдруг исказилось страхом. Ее внезапно осенила страшная догадка о причине его исступленного гнева. Она поняла, что погибла бесповоротно. На миг прижала в ужасе ладони к губам. Глядя ему в глаза, прошептала:
– Нашел?
– Думала, не догадаюсь? Стало быть, по этой лестнице к тебе Прокоп хаживал?
Женщина вся сжалась в комок на соломе, уже потеряв всякую надежду на избавление, отказалась от борьбы за жизнь и теперь просто смеялась над ним, беспощадно и злорадно.
– Отвечай, змея!
Сусанна смеялась все громче.
– Замолчи! Дьяволица... Сына приманила?
Она, все еще сжатая в комок, прикрыла юбкой ноги и скрестила руки.
– Что ж! Ходил твой сынок ко мне. Всякую ночь без тебя в дверь, а при тебе – по тайному ходу. Помнишь, когда ломился ко мне? Он за дверью стоял и небось на помощь пришел бы, если бы папаша вовсе озверел!
– Бежала к нему? К Прокопу?
– Да на что он мне? На волю от вас обоих убегала. Сынок не умнее отца оказался. Не смог вырвать меня из твоих лап. А уж вырвалась бы, ты, Демидов, молиться бы научился сызнова! Скакал бы передо мной на одной ножке. Шутом бы вертелся. Задаривал меня за молчание всем, что ни пожелаю. Немало мне про тебя известно. Порассказала бы кое-кому в столице, как ты под косой башней рублики чеканишь. До самого Бирона довела бы меня красота, а уж он-то мастер таким, как ты, лапы скручивать. На цепи бы тебе, как бешеному псу, сидеть. Растащил бы Бирон по камешку все твое богатство. Вот какая Сусанна! Вот что надумала с тобой сотворить, вырвавшись на свободу.
– Где драгоценности, кои дарил тебе?
– Прокоп увез. Растрясет, верно, на подарки столичным полюбовницам. При мне только остатки.
Сусанна стала срывать спрятанный под грудью узелок.
– Лови. Подавись ими!
Она вскочила с постели, но от слабости споткнулась и упала на короб с серебром. Сорвала с себя узелок, швырнула под ноги Демидову.
– Дьявол ты в облике человечьем!
– Погоди, Сусаннушка! Скажи, что по злобе на себя наговорила. Скажи, что насчет Прокопа солгала.
– Не лгала. Раньше лгала, а сейчас правду высказываю. Полюбовником мне был твой сын. Обоих обманывала, только ума не хватило от вас убежать. Голова моя огнем горит. Палит меня ненависть к тебе.
– Сусанна!
Демидов вдруг опустился на колени, охватил руками ее ноги и прижался к ним головой.
– Целовать опять начнешь? Стосковался? Целуй, целуй, но помни, что и Прокопом я вся целована. Обоих вас кляня, на волю рвалась. Пожить хотелось на свободе. Птицей вольной полетать по родной земле. Теперь загрызай скорей, волк!
– Не тревожься! Не посмею тебя обидеть. Все простил. Только успокой насчет Прокопа. Не надо мне никакой правды. Одна ты нужна.
– Испугался правды? На колени она тебя поставила?
– Не надо кричать, голубушка. Успокойся! Опять вместе будем. Лучше прежнего заживем.
– Душегуб проклятый!
– Не проклинай! Не кляни, Сусаннушка! Замолчи! Замолчи!
Демидов зажал Сусанне рот. Пытаясь освободиться, она снова упала на короб с серебром. Чтобы унять ее, Демидов всей тяжестью собственного тела прижал женщину к коробу. Та извивалась, пыталась ударить его, задыхалась и уже хрипела.
– Говорю, утихомирься! Покорись! Простил тебя! Слышишь?!
Он сам хорошенько не сознавал, что руки его сошлись под ее подбородком.
Она затихала и реже вздрагивала, а Демидов, сам близкий к обмороку, в беспамятстве все сильнее и судорожнее сводил руки.
– Вот и хорошо. Утихла... Не надо правды. Только оставайся со мной.
Рука Сусанны повисла плетью.
– Нельзя тебе, Сусаннушка, одной без меня по земле ходить.
Демидов очнулся от острой боли в сведенных пальцах... Даже разжать их сразу не мог. А разжавши, увидел их отпечатки на женской шее. Женщина не двигалась. В остановившемся взгляде не было жизни. Только тогда он понял, что задушил ее.
Он приподнял было ее страшно отяжелевшее тело, но не удержал. Оно выскользнуло из его рук и упало на пол.
Медленно трезвея, охваченный ужасом, Демидов, пятясь, выбрался на лестницу.
Уже в сумерках Демидов вернулся в подземелье вместе с Саввой. Старик осмотрел подземелье и не сразу понял, в чем дело.
– Зачем привел, Акинфий Никитич?
– Сейчас уразумеешь.
Только теперь Савва увидел тело на полу.
– Никак преставилась?
– В моих руках задохлась. Кричала страшное для меня. Замолчать просил. Не упросил.
Савва приложил ухо к груди женщины.
– Отстукало. Гляди-кось, еще теплая. Жизнь каленую от отца-матери в подарок взяла, да тебе, вишь, отдала... Стало быть, разумею, что спрятать велишь? Во что мне завернуть ее прикажешь?
– Все, что хочешь, возьми наверху в сундуках.
– В парчу надо бы. В серебряную. А ты, хозяин, уходи. Мертвую трудно ли спрятать? С живыми, с теми беспокойно. Кричат, клянут, молят до последнего кирпича. Вон в ту нишу ее и заделаю. Только сперва в глаза ей глянь. Мертвы очи, а все ненависть к тебе живая в них. Глянь да ступай. Простишься с ней?
– Не могу.
Демидов выбежал из подземелья.
Савва остался наедине с Сусанной. Подвинул к ней канделябр со свечами поближе, долго рассматривал лицо мертвой, следы хозяйских пальцев на шее.
– Не ушла! А уж как рвалась отсюда! Желаньице было, а умишка да хитрости не хватило. Все молодость! Прыткая она, да завсегда спотыкливая.
* * *
Соборный священник, поднятый в полночь с постели и еще не вполне оправившийся с перепугу, служил с певчими и дьяконом в пустом соборе панихиду, поминая новопреставленную рабу божью Сусанну. Зажжены были свечи в одном паникадиле, перед иконами мерцали огоньки неугасимых лампад.
На своем обычном хозяйском месте в соборе, против амвона, стоял, сливаясь с полумраком, Акинфий Демидов.
Одет он был необычайно торжественно, в том черном кафтане с муаровым камзолом, какие были на нем, когда играл с императрицей в карты.
Голову Демидова украшал модный белый парик. Левый глаз прикрыт шелковой повязкой. Лаковые башмаки с серебряными пряжками, усыпанными самоцветными камнями, надеты впервые, как и безупречно белые чулки.
Он старательно прислушивался к возгласам дьякона, крестился истово под пение певчих и не отводил глаз с одной из икон богородицы, которой местный живописец, в угоду хозяину, придал сходство с чертами покойной демидовской возлюбленной.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
По обочинам всех дорог Российской империи, на пряслах полей и поскотин каркали сытые вороны. Падеж был на скотину и мор на людей. От недорода, болезней, повинностей государственных и разных иных народ русский вымирал целыми селами, в городах – улицами.
Тащили на погосты и старого, и малого, и сильного, и слабого, будто всяк селянин или горожанин торопился скорее найти вечное укрытие от всяческих бедствий. А живых тащили в застенки тайной канцелярии, учрежденной через год после воцарения Анны Иоанновны. Достаточно было только крикнуть: «Слово и дело!», чтобы по указке крикнувшего был схвачен, допрошен и пытан любой прохожий на улице, любой житель в доме.
В столице Петровой императрица Анна Иоанновна тяжело недужила. За стенами дворца ей не слышен был стон народа. Тишину вокруг больной императрицы нарушали только шелесты богатых нарядов да шепотки дворцовых сплетниц, фрейлин. Услаждали слух Анны колокольчики из серебра многих дворцовых часов, наигрывавших меланхолические мелодии.
Вокруг себя императрица видела лишь подобострастные лица приближенных вельмож с льстивыми улыбками. Владычица России видела вокруг себя мало русского; временами это даже беспокоило императрицу, но беспокоило все же гораздо меньше, чем донимавшая ее болезнь. Прежде Анна уж как любила покушать сытно и вкусно, по-русски, а теперь даже к пище она стала почти равнодушной.
Плохо, нестерпимо тягостно жилось в стране простому народу-кормильцу. Зато неплохо было в ней герцогу, камергеру и любимцу государыни, Бирону. Неплохо было на русских харчах Миниху и Остерману, всем, кто держал в руках видимые и невидимые бразды судеб великого народа. Все эти иноземцы мало считались с тем, что от их правления стонет сермяжная Россия, обливается горючими слезами каждая русская мать.
Жадный к личному благополучию, Бирон, оказавшийся по прихоти собственной судьбы вершителем судьбы целого государства, не был даже по натуре своей государственным человеком. Личная нажива и карьера были ему важнее любых государственных интересов. Он даже не умел прикрыть откровенное свое хищничество хотя бы видимостью каких-то государственных целей, просто и неприкрыто торопился красть, распродавать по дешевке государственное богатство, где бы его ни нащупывал, привлекая к этому грабежу целые шайки жадных сообщников. Они неспроста торопились, помня, что нашлись же у Руси Минин и Пожарский на ляха! Глядишь, снова найдется у России кто-нибудь под стать тем двум, чтобы сыскать управу на иноземцев вокруг царского престола...
Лютый крепостник немецкого склада, Бирон был беспощаден в выколачивании податей и поборов с голодного мужика. Роптал народ все слышнее, несмотря на выкрики «Слово и дело!».
Так катило время возок самодержавной Анны Иоанновны, но все глубже и глубже тонули его полозья в трясине народного бесправия под игом корыстного курляндского временщика. По заповедным углам империи уже шептались о заговоре против бироновщины, упоминая имя дочери Петра. А она, царевна Елизавета Петровна, тихонько жила в Царском Селе и только со скуки да от безрадостных вестей о делах империи, созданной и возвеличенной отцом, скакала по осенним полям, затравливая волков гончими псами.
2
Под завывания зимних ветров на Каменном поясе наступил год тысяча семьсот тридцать девятый.
Уже прошло три года после встречи Демидова с Татищевым, после того, как Степан Чумпин открыл русским тайну кушвинской Железной горы.
Прошло всего три года, но немало перемен принесли они и хозяевам Урала, и тем, кто терпеливо выносил на плечах трудовое бремя.
Уже не бродил по знакомым звериным тропам Степан Чумпин. Потерялся в лесах мечтательный вогул-неудачник. Потерялся с того январского вечера, когда ушел из Екатеринбурга, получив награду в двадцать рублей серебром от казны за указание Кушвинского месторождения. Открыватель неоценимого богатства получил всего двадцать четыре рубля семьдесят копеек, да и то не сразу. Первые два рубля семьдесят копеек дал ему шихтмейстер Куроедов за проводы к горе. Вторые два рубля дал из своего кармана Татищев, когда ездил смотреть руду. Последние двадцать рублей Чумпину выдали в Горном управлении по генеральскому приказу. Возможно, Татищев и впредь не забыл бы вогула, если бы тот не потерялся. В протоколе, подписанном Татищевым, прямо сказано: «Да и впредь, по усмотрению в выплавке обстоятельства тех руд, ему, Чумпину, надлежащая зарплата учинена будет».
Но незадачливый Степан Чумпин после выхода из крепости в сумеречный вечер 23 января семьсот тридцать шестого года исчез. Живым его больше никто не видел, но память о нем сохранилась. Молва народная напоминала о нем. Сами люди строили разные домыслы о его исчезновении. От людей, которые по весне того года рубили плотину на реке Кушве, пошла весть, будто Степана Чумпина сожгли на вершине горы Благодать его же сородичи на молебном костре.
Сожгли его за то, что осмелился против воли богов и духов открыть русским тайну священного места. Но ходила по Уралу и иная молва о Чумпине. Мрачная. Приплелось к ней имя Акинфия Демидова. Этот сказ пошел от демидовского приказчика Мосолова. Сказывали люди, что хвастал тот во хмелю по тагильским кабакам, будто по его приказу верный ему человечишко выпустил на волю православную душу из языческого тела Степана Чумпина. Не простил вогулу злопамятный Мосолов своего конфуза перед хозяевами. А случилось злое дело так: выследил холоп Чумпина возле крепости, когда тот упрятал под зипун двадцать рублей и был переполнен самыми радужными надеждами. Он весело бежал на лыжах по сугробам; мела в те сумерки колючая поземка, и не услышал Чумпин шуршания чужих лыж. А потом, в глухом овраге, упал на снег замертво, с пулей в спине.
Народ уральский принимал за правду и ту и другую молву. И каждый верил той, какая ближе душе. Истиной же было только то, что шаги Степана Чумпина на уральской земле следов больше не оставляли.
Акинфий Демидов, убив Сусанну, месяца три изнывал от припадков тоски, раскаяния и одиночества, находился во власти покаянного религиозного исступления. Всякую ночь служили по усопшей панихиды в соборе, и сам убийца жарко молился, тепля лампаду перед свежезамурованной нишей в подземелье.
Однако в канун рождества по-демидовски неожиданно Акинфий укатил в столицу и вернулся только весной, когда в крае закипела постройка нового казенного Кушвинского завода. Вернулся домой Демидов бодрым, без следа недавних переживаний. Сразу начал расшевеливать и без того не застойную жизнь своих вотчин.
Не желая отставать от кипучей деятельности Татищева, Демидов разогнал своих рудознатцев на поиски рудных мест. Поиски были успешными, заводчик засыпал Горную канцелярию новыми заявками. Если найденные места оказывались уже ранее объявленными, но сулили Демидову выгоду, он всеми правдами и неправдами отнимал их у владельцев.
Заводчики-конкуренты, такие, как Строгановы, Турчаниновы, Осокины, Всеволожские, пораженные пиратским самоуправством Демидова, пробовали отстаивать свои права и жаловаться в столицу и в Екатеринбург, но демидовские рублевики, вовремя положенные на весы правосудия, обычно перетягивали чашу в пользу уральского конквистадора.
Неприятностей у Демидова, как всегда, было немало. Татищев все же собрался послать в столицу донесение о колыванской серебряной руде, и на этот раз посланец благополучно миновал все демидовские заставы на дорогах. Но счастье и тут не изменило Акинфию, судьба не дала его в обиду. Он сам в это время был в столице, и гонец от Мосолова успел оповестить его о донесении генерала. И Демидов в ранний утренний час самолично явился к государыне, чтобы объявить ей о найденной на Алтае серебряной руде. На радостях получил он прямо из августейших рук звезду. А следом за этим, осмелев от монаршей милости, Демидов обратился в казну с неслыханным предложением: он обязался покрыть все недоимки по государственным подушным налогам и податям, прося взамен уступить ему в единоличное владение все солеварни, имеющиеся в Российской империи, и дать право повысить продажную цену соли. Цель этой грандиозной денежной операции заключалась в том, чтобы пустить по миру своих главных уральских соперников – Строгановых. Предложение заводчика вызвало настоящий переполох, не на шутку задело гордость владетельного дворянства и было отвергнуто, несмотря на то, что Демидова поддерживал сам Бирон. Он-то мог сказочно нажиться на этой спекуляции, а благополучие российского дворянства не слишком интересовало герцога.
К началу семьсот тридцать девятого года род Демидовых владел на Урале бескрайними угодьями плохо вымеренных лесных десятин. На семнадцати демидовских заводах работало более тридцати пяти тысяч человек. И все же людей не хватало, приказчики слали ходоков во все концы государства, и те посулами и мелкими подкупами заманивали работный люд. У соседей заводчиков Демидов уводил народ силой, и пресловутый Ялупанов остров был до отказа набит нестрижеными и небритыми кандидатами на демидовскую каторгу.
Легендарная слава уральского властелина все росла, доносы по-прежнему сыпались лавиной, но теперь особенно участились жалобы на воровство людей. Слухи эти тревожили помещиков, и любого потерянного крепостного ставили в счет Демидову.
Часто наезжая в столицу, Акинфий знал о таких доносах, но не придавал им особенного значения. Возвращаясь на Урал, он теперь избегал Невьянска. Управление вотчинами передал младшему брату, Никите Никитичу, которого народ прозвал Ревдинским оборотнем.
За три года Демидов только один раз встретился с сыном Прокопием и запретил тому приезжать на Урал без отцовского ведома и дозволения. На вопрос о Сусанне Захаровне Акинфий пояснил, что та пустилась в загадочный побег из Невьянска и найдена на лесной дороге ограбленной и убитой.
Прокопий позволил себе усомниться в правдивости ответа. Они сильно повздорили, и дело обязательно дошло бы до рукопашной, если бы в этот миг к Демидову не явился с визитом брат Бирона за очередной денежной подачкой.
Желая во что бы то ни стало сохранить дружбу с временщиком, Акинфий серебра не жалел, но, чтобы хоть немного отвлечь ненасытного временщика от демидовского кармана, переадресовать его интерес на иные источники обогащения, он начал исподволь приучать Бирона к мысли о сверхприбыльности нового, Кушвинского завода.
В старом Невьянске жизнь шла обычным чередом. За порядком смотрел Шанежка, а под наблюдением Саввы продолжалась денно и нощно чеканка рублевиков.
На косой невьянской башне колокола отбивали четверти, получасья и часы. Отсчитает большой колокол еще один, ушедший в вечность час, – и сыграют куранты всем знакомую мелодию...
У Василия Никитича Татищева забот и хлопот было по горло.
Столичным интригам он давно перестал дивиться и привык отмахиваться рукой от всевозможных петербургских слухов.
Навыка в выборе хороших слухачей у уральского горного командира не было. Поэтому, если он и заводил себе таких помощников, и здесь, на Урале, и там, в столице, толку от них было маловато. Узнавая о чем-либо важном, приятном или неприятном для уральского генерала, эти слухачи не торопились извещать своего начальника и были рады-радешеньки перепродать и свои сведения, и свое молчание о них всесильному Демидову. Тот, разумеется, не скупился на подачки именно тем агентам, которых Татищев почитал своими надежнейшими...
Татищев, окрыленный первыми успехами Кушвинского завода, уже выбрал, несмотря на столичную волокиту, места для новых казенных заводов на реках Туре и Имянной. Командир уже видел осуществление своей важнейшей цели – сделать казенные заводы прибыльными. Весь погруженный в работу, Татищев не интересовался тем, что задумывал против него в столице Бирон, исподтишка научаемый Демидовым. Татищева радовала каждая плавка на новом заводе, радовал и успех гранильного дела. Все обещало пойти как нельзя лучше, генерал Татищев жил и работал, полный надежд...
Тысяча семьсот тридцать девятый год пришел на Каменный пояс, как всегда, под волчье завывание буранов и вьюг...
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Ревдинский завод Демидовых, получивший свое название от имени запруженной речки Ревды, был отгорожен от Екатеринбурга лесистым хребтом. В двадцати верстах от Ревдинского зарылся в гористых лесах еще один завод – Шайтанский. Построили его на землях, откупленных у башкир за десять рублей еще Никитой Демидовым. Это он заставил кочевников башкир уйти с проданных земель к озеру Иткуль.
По завещанию Никиты Демидова-отца на Ревдинском заводе обосновался младший сын, Никита, отцов тезка. Впрочем, чаще звали Никиту-младшего кошкодавом за жестокость ко всякой живой твари.
Младший Демидов правил сам двумя заводами, не отчитываясь перед Акинфием, и насадил на этих заводах ужасающие порядки и в цехах и в быту. Болезненный, умственно неполноценный с юношеских лет, Демидов-младший будто для того только и существовал, чтобы причинять подневольному работному люду и своим крепостным мужикам лютые страдания и нести им несчастья.
В его заводских вотчинах существовала в сутки одна смена – от зари до зари, независимо от вида работы. Это у него в рабочих артелях были бесчеловечные «приставленники». Это по его приказанию крестьянам давалось минимальное число сенокосных дней, причем освобожденные от заводских работ крестьяне обязаны были в солнечные дни работать на покосах заводчика, а в дождливые – на собственных наделах.
Даже невьянские каты, видавшие разные виды пыток, бледнели перед тем, что заставлял выполнять ревдинскяй заводчик.
Строже всего наказывали за невыход на работу. Такому прогульному надевали на голову рогульку, на ноги кандалы, к шее привязывали цепь с гирей и в таком виде приказывали работать до полного изнеможения.
На заводах не освобождали от работ даже женщин о грудными детьми. Для них заводчик придумал «мягкие наказания». Виновниц сажали, например, в узкую клетку, где сбоку и сзади узницы торчали острые железные шипы, не позволявшие опереться. Несчастная жертва должна была стоять или сидеть неподвижно, и только на ночь, по великой хозяйской милости, на задние шипы клали мешки, чтобы заключенная в клетке могла заснуть прислонясь.
В вотчинах Демидова-младшего были свои законы и для заключения браков. Никто из демидовских людей не смел венчаться без письменного разрешения заводчика. В таких бумагах обычно писалось: «Крестьянин такой-то и крестьянская девица такая-то желают через бракосочетание посягнуть друг на друга, посему с разрешения владельца завода иерею такому-то предписывается таковых повенчать». Хуже всего было красивым девушкам и женщинам. Многих разлучали с мужьями для прихоти хозяина и его гостей. Многих злодейски венчали с покойниками, а потом держали в особых комнатах ревдинского дворца.
Жестокости младшего Демидова не было предела. При жизни отца, боясь его, он кое-как сдерживался, ибо за свои палаческие художества не раз бывал бит отцом до бессознательного состояния. Но когда отец умер, а самого Никиту постиг апоплексический удар, Демидов-младший стал абсолютно нетерпим, потерял всякую меру своему самодурству.
Брата Акинфия Никита боялся не меньше отца, но завещанное тем равноправие в дележе наследства позволяло младшему брату подчас задираться со старшим, хотя тот и не обращал внимания на выходки младшего.
Его бесчеловечность Акинфию была отлично известна. Не из побуждений милосердия, а только из-за нехватки рабочих рук Акинфий приставил к Ревдинскому оборотню своего доверенного Мосолова с приказом оберегать людей от бессмысленного истребления. Мосолов умел надевать узду на Демидова-ревдинского, выполняя наказ Демидова-невьянского.
Настроения ревдинского заводчика менялись ежечасно. Его могло привести в бешенство пение петуха, лай собаки, начавшийся дождь. И сразу начиналась беспричинная расправа с любым, кто первым попадался под руку.
Сознавая свою телесную немощь, Никита Никитич был болезненно подозрительным, искал забвения от мнимых обид в хмельном, напиваясь, буйствовал, избивал несчастную жену и слуг.
Облик у Никиты был демидовский, только карикатурный: высок и худ, как кощей. У него дергалась голова от нервного тика, а после апоплексического удара стали сильно пучиться глаза. Кожа на лице была темная, с сильной желтизной на лбу и скулах. Демидовская лысина ото лба к темени. Ходил неуверенными мелкими шажками, но самостоятельно передвигался только по дому. До церкви и на короткие прогулки его возили в кресле на колесах. Левая рука его плохо двигалась, но ее пальцы беспрестанно шевелились, а из глаз всегда струились слезы. Никита не любил париков и нехотя брил чахлую бороду, цветом похожую на мочало. Он с трудом двигал челюстью и поэтому неряшливо ел: на его дорогих французских камзолах и кафтанах всегда видны были сальные пятна.
С юношеских лет Никита пристрастился мучить кошек. Только теперь больше не ловил их на улицах, как бывало в Туле, а придумывал нечто вроде «кошачьего цирка». В подвале у него стояла просторная железная клетка. В ней содержались и разводились крысы, которых держали впроголодь; в том же подвале откармливали кошек, которых Никита и бросал в крысиную клетку, с удовольствием наблюдая единоборство кошки с голодными крысами. Крысы обычно загрызали свою жертву на глазах заводчика и жадно съедали. Любил Никита и более страшный цирк – медвежий. По его приказу диких зверей спускали на приговоренных к этому наказанию. Или же медведя затравливали собаками на глазах хозяина.
Из всех Демидовых Никита был самый набожный. В церковь ходил каждый день, повторял молитвы вслух и после бранных слов сейчас же крестился, шепча «прости мя, грешного!». Никто не видел на его лице улыбки, а по выражению судорожно искривленного рта слуги безошибочно угадывали степень хозяйского гнева, а также продолжительность приступа злобы.
Отец женил Никиту на дочке разорившегося дворянина. С первых же дней брачной жизни тихая, безропотная жена стала мученицей. Горя с ним она испытала много. Часто он просто выгонял жену из спальни и вселял туда «милую сердцу особу», то есть очередную любовницу. Но и любовницы никогда у него подолгу не выдерживали. Изгнав «особу», он на коленях просил прощения у жены. Ходил с ней в церковь, в ее присутствии каялся во всех плотских прегрешениях, а вернувшись домой, сразу же после церковного покаяния нередко набрасывался на нее с кулаками и поносил всякой бранью.
У них родились два сына – Василий и Евдоким. Первый был чахоточным, второй страдал падучей. Василий стал главой Шайтанского завода. Евдоким в поисках новых земель колесил по Приуралью и избегал родной дом.
Василий тихим и незлобивым характером походил на мать. На своем заводе он всеми способами пытался смягчать жестокости отца, не глумился над рабочим людом, за что тот прозвал завод не Шайтанским, а Васильевским.
Никита, одержимый завистью к славе Акинфия Демидова, его популярности у столичных вельмож, сознавал невозможность соперничать с братом в Петербурге, зато окружил себя в Ревде ореолом небывалого сибаритства. Свой ревдинский дом-дворец обставил пышно и великолепно, роскошнее, чем дворец брата в Невьянске. Ревдинский дом был огромен, да и по архитектурному замыслу богаче невьянского. Со всеми своими восемью колоннами главного фасада он красиво отражался в водах живописного пруда. Вокруг дворца был разбит сосновый парк с искусственными озерами и греческими статуями в аллеях. С балконов второго этажа открывался вид на завод, окруженный лесистыми горами. Главенствовали среди них внушительные Волчья и Магнитная.
Как все дурные и жестокие люди, Никита был страшно сентиментален. Этот хмурый человек без признаков улыбки на лице собственном часто желал видеть около себя чужие улыбки и веселую пестроту. Все в доме, начиная с одежды хозяина, было в «пукетовых цветах». Мебель расписная, стены обиты штофом.
Никита любил видеть себя в зеркалах, всегда надеясь узреть себя в каком-нибудь новом, выгодном повороте. Кроме того, зеркала давали ему возможность без труда наблюдать все происходившее вокруг, и не дай бог, чтобы в его присутствии на лицах слуг или гостей появилась тень! Поэтому на всех стенах ревдинского дома имелись всевозможные зеркала.
Девицы-служанки всегда ходили по дому в пестрых ситцах и переодевались по нескольку раз в день. Все вещи в доме были дорогие и добротные. Ковры, серебро, бронза и мрамор буквально загромождали залы, горницы, коридоры, переходы. Среди всего этого пышного великолепия ковылял или катался в своей коляске полуживой владелец, вечно занятый придумыванием новых мук для всех, кто от него зависел.
Буквально по пятам за Никитой тенью ходил крепостной лекарь, обученный за границей всем премудростям врачевания. Он лечил хозяина собственными лекарствами, большей частью настойками из разных трав, заставляя пациента пить все эти снадобья аккуратно через каждый час.
И так изо дня в день, из года в год болезнь, злость, зависть и сладострастие терзали немощное тело и разум ревдинского Демидова, а он терзал и мучил подневольный народ.
Терзал за то, что демидовская слава досталась Акинфию, что в столице не интересовались ревдинским властелином, прославленным лишь дома, среди работных людей, своей беспощадностью.
Подчас отсвет этой грязной славы падал и на Акинфия: многое, сотворенное Никитой, народ приписывал и Акинфию. Ненависть к Никите народ переносил на все демидовское. За преступления, творимые в Ревде и Шайтанке, тайные мстители не щадили ни Тагила, ни Невьянска Опустошительные пожары, запаленные подневольной рукой, поражали все демидовские владения без разбора.
2
Дружная весна начинала сгребать с Урала снежные сугробы. Но зима еще отстаивала свои права. Она продолжала подсыпать снега, крутила метелицы, подмораживала ночами талые воды, но силы спорить с весной у нее становилось все меньше.
Знаки весны были всюду. На козырьках и застрехах кровель с бахромы ледяных сосулек побежали капли – будить звонами спящую природу.
* * *
Мартовским вечером, поужинав после бани, Никита Демидов, в лисьем халате, играл с приказчиком Мосоловым в шашки. Сидели в малиновой гостиной. Шестьдесят свечей в канделябрах хорошо освещали комнату.
Над головами партнеров, расправив белые крылышки, порхали лепные ангелочки с венками незабудок. Из-за окон временами доносился со двора рев четырех медведей, запертых в амбаре.
Лежа в кресле, Никита дергал головой, а пальцы его левой руки шевелились, как паучьи лапы.
За шашками Никита все время думал о тех мрачных и вещих знаках, коими началась для него весна. Подавленный дурными предзнаменованиями, суеверный ум Никиты жаждал утешающих, успокоительных примет. Дурных знаков много: за женщин и девиц, уведенных из кержацкого лесного поселка, мстящая рука в начале прошлой недели подожгла склады около дворца. Пожар одолели. Три дня назад, когда Никита возвращался от сына Василия из Шайтанки, на его тройку напала в Боберьем логу стая волков. Еле отбились. Притом зверье сильно поранило коней, и Никита до сих пор не мог забыть, как щелкали волчьи челюсти. По прибытии домой Никита велел ударить в колокола; жители, стар и млад, до полуночи простояли на благодарственном молебне, восхваляя и славя господа за чудесное избавление хозяина от звериной напасти. Кержачка-вдовица, писаная красавица, избила Никиту прошлой ночью, когда тот пытался ее приласкать. Как цепами измолотила она его так, что Никита едва отлежался к утру. Он приговорил кержачку к телесному наказанию и сам с удовольствием наблюдал за исполнением этого приговора. И хотя женщину зверски наказали при нем, обида на нее не прошла... Все это, по его мнению, были плохие знаки, а главное, как-то все разом на него навалились.
Не понравился Никите и сын Василий. Болезнь брала над парнем полную силу, его лихорадило, мучил сильный кашель, и опять на носовых платках появились зловещие кровяные пятна.
Прохор Ильич Мосолов сидел против хозяина, подавшись к столу всем своим грузным телом. Мосолов – в прошлом тульский купец с дырявым карманом. Был вытащен за ворот на волю из долговой ямы Никитой Демидовым-старшим. Стал простым исполнителем демидовской воли.
Ловко приворовывая, он давно скопил большую деньгу, давно мог начать самостоятельные купеческие дела, но все мешкал, привыкнув к своему положению и приучившись издеваться над беззащитными людьми. Мосолову стала нравиться роль хозяйской тени, да и жадность баюкала разум: не хотелось далеко уходить от демидовских рублевиков. Сделавшись «оком» Акинфия возле младшего Демидова, приказчик жил, как господа.
Василий Демидов, владелец Шайтанки, слушался его, по молодости и хворости, без возражений. Никита заранее с ним соглашался, понимая, что рука невьянского брата в любой миг придет на помощь Мосолову.
Хозяйствовал он политично, глаз не спускал только с того, что предвещало денежный интерес. Во всем же остальном слепо потакал прихотям хозяина. На рабочий народ смотрел, как на скотину, и чаще всего разговаривал с людьми языком нагайки. А тех, кто перечил, огрызался и мог дать сдачи, Мосолов клал на вечный покой в каменистую землю Урала, чтобы не пошатнулись устои демидовской власти, заложенные на фундаменте из костей от Урала до Алтая.
Последние годы Мосолов все реже думал о возвращении к купечеству. Состарившись, успокаивал себя присказкой, что от добра добра не ищут. Где еще найдешь такую благодать, чтобы, рискуя только чужим, ставя на карту только демидовское, пополнять собственный карман столь весомо? А просчет, ошибки шли за хозяйский счет. Пример тому – Кушва...
Раздумывая о плохих предзнаменованиях, Никита играл сегодня из рук вон плохо, зато Мосолов не зевал. Душевные муки хозяина его не интересовали, а два рубля, получаемые за выигранную партию, были все же деньгами. На доске у Мосолова уже дамка, но внимание игрока поминутно отвлекает левая рука партнера с шевелящимися пальцами. Того гляди сдвинет что-нибудь на доске, будто невзначай. И Мосолов подавлял желание смахнуть эту паучью руку со стола, как смахивают таракана, ползущего к миске со щами.
Лекарь Тихоныч почтительно приблизился к партнерам с серебряным подносиком в руках. На подносике – бутылка, ложечка и блюдце с мелко наколотым сахаром. Подошел, тихонько кашлянул. Никита досадливо отмахнулся. Мосолов ждал, что хозяин, по обыкновению, обозлится, начнет плеваться и сквернословить. Но он ошибся Никита; воспользовался появлением лекаря, чтобы уйти от неминуемого проигрыша. Как только лекарь повторил покашливание уже чуть громче, хозяин изобразил испуг и мановением больной руки спихнул доску с шашками на пол.
– Ох, ох, ох, уж прости, Прохор... Напугал меня проклятый лекарь.
– Не извольте огорчаться, Никита Никитич. Партию в должок запишу.
Заводчик сурово смотрел на лекаря, но тот уже держал ложечку с лекарством. Никита выпил, заел сахаром, поморщился.
– Сочтемся ужо, Проша. Видишь, Тихоныч, подлец, каково под руку лезть, когда не до тебя! Пошел вон! Травишь меня, знахарская душонка! Что ни день, все горчее и горчее зелье.
Лекарь, молча поклонившись, вышел. Никита выбрался из кресла. Мосолов удержал его.
– Сперва рублевик с вас за порушенную партию.
– Сказано, сочтемся. Завтра.
– На сем благодарствую.
– Зазнался ты, Прохор. Скоро за всякое слово со мной деньги просить станешь.
– С меня-то взыскиваете, коли выигрывать изволите?
– Не попрекай ты меня. Не вгоняй в гроб раньше времени.
– Будьте покойны. Демидовы долговечны.
– Хворый я. Нельзя со мной так непристойно разговаривать. Обидел вот опять, теперь из-за тебя всю ночь не засну. Оскорбился. Думать стану.
– Не о чем вам думать. Покойный родитель обо всем подумал. И не на один век вперед.
Нервно ковыляя по комнате, Никита вдруг зашелся в приступе брани, кашля, хрипа, всхлипываний. Закричал пронзительно:
– Манька! Манька! Где ты там, курносая дура?
Прибежала служанка. По ее лицу человек сторонний понял бы, что ничего особенного не происходит.
– Чего изволите, барин?
– Кота! Живо тащи.
– Которого прикажете?
– Рыжего, без левого уха.
Но лишь только Манька убежала, Никита уловил за окнами звуки колокольцев.
– Слышь, Прохор? На тройке кто-то к нам.
Мосолов поторопился к окну.
– Так и есть. Гость какой-то жалует. Батюшки! Никак сам Акинфий Никитич? Его кони.
– Ох, ох, ох, верно, опять с худыми вестями.
В передней уже слышался шум. Акинфий Демидов скинул шубу с плеч, даже не глянув, чья лакейская рука почтительно подхватывает эту мягкую драгоценность.
Через несколько мгновений огромная сутуловатая фигура возникла на пороге малиновой гостиной.
Тряся головой, Никита двинулся навстречу, больше обычного выпучивая глаза.
– Ума лишился, братец! В эдакую пору вздумал затемно в гости ездить! Волки, волки округ Ревды. Волчья напасть!
– Меня не тронут. Звери чуют, кто едет. Это от тебя дух сладкий, как от бабы, а от меня дегтем несет. Здорово ли живешь?
Братья расцеловались.
– А ты тут как здравствуешь, Прошка?
Приказчик с чувством поцеловал протянутую ему руку.
– О делах беседовали?
– В шашки играли.
– Делать вам нечего. Покойно живете, без забот... Ужинали, поди? Накажи-ка, Мосолов, для меня поесть собрать. Груздей пусть не забудут.
– Ах ты господи, смутил ты меня своим нежданным прибытием. Прохор, ступай, распорядись там. Сам догляди... Ох, ох, ох, братец, какой же ты дорогой гостенек для меня!
– Редкий.
– Оттого и дорогой. Батюшку напоминаешь. Во всем ты с отцом покойным схож, царствие ему небесное.
– А нам, покамест, благоденствие земное. Вижу, осилил кондрашку. Хорошо. А за ворот, скажи-ка, много заливаешь?
– Что ты! Сторожусь вина. Одни лекарства глотаю. Замучил меня лекарь.
– А как Василий в Шайтанке?
– Плох сынок. Того и гляди, не случилось бы чего по весне.
– Будет каркать! Демидовы живучи. Меньше восьми десятков не набирают. Иначе и браться-то не стоило бы...
– Истинный господь, плох Васенька. Сделай милость, навести самолично. Радость ему от этого великая.
– Обязательно проведаю. Затем и приехал. Надо парня в теплые края послать. Для сына скупишься...
Акинфий недовольно оглядел комнату.
– А на свечи, вижу, не жалеешь?
– Пусть горят! На свечах не разорюсь. Темени боюсь.
– Хочешь, чтобы тебе и ночью солнце светило? Веселостью тешишься?
– Грешен. Люблю свет, оттого что мучеником живу. Погляди, как болесть тело иссушила, каким стал. Кожа да кости.
– По мне, ты всегда одинаков. Другим тебя не видел.
– Вот и осталась у меня одна радость – свет да веселость.
В гостиную вошла служанка Манька с рыжим котом в руках, но, увидев Акинфия, испуганно остановилась. Никита замахал руками.
– Пошла, пошла вон!
Но Акинфий успокоительно улыбнулся Маньке.
– Стой, погоди, курносая! Дай-ка мне сюда котофея этого.
Никита закричал еще пуще:
– Сказано тебе, вон!
Манька совсем растерялась; кот вырвался, заметался по зале и вдруг неожиданно кинулся под кресло Акинфия. И когда гость приласкал напуганного одноухого Рыжика, тот осмелел и даже потерся о ножку кресла.
– Хорош котофей! Так, так... Вижу, все еще, братец, крысиным цирком забавляешься?
– Редко. Ничто теперь меня не радует.
Кот настолько освоился в новой обстановке, что смело вскочил Акинфию на колени и замурлыкал.
– Жена что ж глаз не кажет? Уже спит, наверно?
– Монашествую. Женушка к родне укатила. Еще с крещения.
– Вот оно что! Потому, стало быть, и воруешь кержачек?
– Не пойму, братец, про что речь ведешь?
– Ладно, ладно. После об этом как-нибудь. Не на часок я к тебе. Поживу, пока не прогонишь.
– Господь с тобой! Да разве я такой, братец?
3
Стены столовой на две трети высоты украшены панелями красного дерева, а выше панелей обиты голубым сафьяном. Позолоченные фигурки ласточек в полете оживляют эту голубую гладь. Дескать, не столовая, а сами небеса с пичужками! Под ногами обедающих персидский ковер. С каждой стороны дубового стола по двенадцать стульев, сиденья, в цвет стенам, из голубого шелка. Два кресла с высокими спинками стоят по торцам стола, на их спинках вышиты золотом гербы дворян Демидовых. Тяжелая столешница опирается на литые из бронзы подставки в виде аллегорических птиц. Сама столешница собрана наподобие шахматной доски из одинаковых по размерам, но различных по цвету пластинок колыванской яшмы. В трех серебряных канделябрах французской чеканки может гореть до полусотни свечей.
В этот вечер их зажгли только на среднем канделябре. Стол для братьев Демидовых накрыли малой кружевной скатертью.
Акинфий доживал в Ревде четвертый день, уже навестив больного племянника Василия и оба завода, здешний и Шайтанский. Остался доволен волчьей охотой. Затравили пятерых, вернулись перед самым ужином.
После охоты Акинфий ужинал молча, с жадностью расправлялся с заливным поросенком и осетровым балыком, пропустил рюмочку под белые грибки и уж под конец вечерней трапезы сделал знак убрать слуг.
Никита раздраженно заорал на обоих ливрейных лакеев и дворецкого:
– Пошли вон. Не надобны боле!
Те исчезли, пятясь и кланяясь. Акинфий предпочитал для разговора полусвет и потушил почти все свечи. Никита тотчас же стал тревожно оглядывать потемневшие углы. Акинфий презрительно поморщился.
– Что тебе мерещится по темным углам? Блажишь, братец!
– Ах, братец, как ты бываешь груб!
Никита страшно обиделся, слезящиеся глаза щедро переполнились свежей влагой, и владелец Ревды со вздохами долго вытирал слезы кружевным платком, потом, прижав его ко рту, искусственно кашлял добрых пять минут.
Акинфий терпеливо ждал, пока брату надоест и плакать и кашлять. Он попивал из бокала рейнское, отщипывал кусочки холодной цыплятины; чтобы отвлечь брата, достал табакерку.
– Небось и до Ревды мода столичная дошла? Употребляешь?
Приступ кашля и ливень слез исчерпались. Никита понюшку взял и заинтересовался табакеркой, нашел ее «веселенькой».
– Бери себе, если глянется.
Никита взял табакерку дрожащей рукой, оставил без внимания игру мелких бриллиантов, вправленных в крышку, но заинтересовался эмалью на внутренней стороне.
– Кажись, французской работы? Русалки у воды... Как славно, братец! Ведь русалочки это, да, братец?
– Нимфы, братец. Нимфы.
– Поди ж ты. Вот и рубинов такой густоты крови я не видывал.
– Да это гранаты.
– Напасть какая! Ничего не угадываю, а все оттого, что ты темень в комнате учинил. У тебя таких каменьев еще не находили горщики.
– Хорошо поищут – сыщут...
Никита торопливо сунул табакерку в карман палевого кафтана.
– Послушай, Никита, не могу понять, откуда у твоего Василия в груди этакая болезнь завелась? В демидовском корне никто чахоткой не маялся. Грудь у любого из нас что кузнечный мех. Ведь даже тебя, слабогрудого, напасть эта обошла.
– От матери она у Васеньки. Род ее дохлый.
– Все на жену беды сваливаешь? Василия надо в теплые края. В италийскую землю. Болезнь его догладывает, а ты все ждешь чего-то. Лекаря своего из Тагила за Василием пришлю, пусть снарядит его и везет в тепло.
– Да ведь я сам, братец, мученик болящий. Самому надо в теплые края.
– Твою болезнь там не лечат, злобу-то. Больно ее в тебе много.
– А в тебе ее мало?
– Уж и окрысился!
– Зачем коришь скупостью? Обидеть норовишь больного брата? Ты жалеть меня должен.
– Не обучен. Матушка, покойница, о том не позаботилась.
Акинфий поднял глаза на стену и только теперь осознал, чего не хватает на ней... Спросил сурово:
– Где отцов портрет? Куда перевесил?
– Вовсе убрать приказал.
– По какой причине?
– Глаза! Глядит он, глядит... Никуда от них не уйти. Не стерпел. Убрал.
– Плохи дела, Никита, ежели отцовых глаз бояться стал.
– Дом-то, поди, мой?
– Твой. Все здесь твое. Кафтан палевый – заглядение. Ласточки на стенах золотые. Все твое, а не демидовское. Веселенькое, как у бабы в опочивальне. Ты первый из нас к веселой иноземщине потянулся. На дворец поглядишь – снаружи вроде демидовский, а внутрь шагнешь – будто в лавку к поставщику короля французского попал. Табакерка, мною подаренная, тебе как раз подходит. Мне-то оно не ко двору.
– Не глянется тебе, как живу?
– До тошноты не глянется. Одна вещь во всем доме мне по душе. Вот эта столешница. В ней знаки, что нога Демидовых уже на Алтае.
Никита, слушая брата, избегал его взгляда, как недавно избегал отцовских глаз с портрета. Акинфий встал и потянулся.
– Поутру домой подамся.
– В который дом-то?
– Да теперь в нижнетагильский.
– Невьянск разонравился?
– Не то. Просто пора Тагил по-демидовски налаживать. Чую, что там родовое гнездо для потомства надо вить. Невьянск по указке отца построен и излажен, а Тагил я по-своему поставить намерен.
– Косую башню не отец задумал.
Акинфий насторожился.
– Про нее-то зачем помянул?.. О башне нечего толковать, она-то не подведет. А вот своих кержачек наловленных ты, Никита, должен немедля на волю отпустить.
– Это почему же так, вдруг? Ни с того ни с сего?
– Не время сейчас Татищева дразнить. Кержаки у генерала в великом почете. Он им многое прощает и с рук спускает. Зато они чуть что не молятся на него.
– Екатеринбургский пес – генералишко в моем доме мне не указчик.
– Не генералишко, а я велю.
– А ты-то разве мне указчик?
– У Демидовых старший в семье – всегда голова. Не тебе, Никита, родовой устой менять. Не знаешь, как старые дворяне против нас поднимаются? Всякого мужика пропавшего готовы у нас искать.
– Слушай, братец, ты сперва глянул бы сам, какие там красотки. Ох, ох, ох! Любая на вес золота.
– Нагляделся!
– Поди, Сусаннушка-то уж надоела? – хитро прищурился Никита.
– Убегла.
– И не поймал? – В голосе Никиты звучало притворное участье.
– Только тело на дороге подобрали.
Хозяин Ревды захихикал.
– Люди другое что-то сказывали. Осокинский приказчик молву пустил, будто ее у них на заимке Шанежка твой поймал. Небось под косой башней в наказание держишь?
– Больно любопытный стал, братец. Будет!
– От слушков ушей не отвернешь: ведь кержачек-то я не себе, а тебе в подарочек наловил заместо ослушницы твоей. Авось и выберешь какую заместо Сусанны.
– Будет, сказал!
– Вот и ты на меня окрысился.
– Про тебя я тоже кое-что слыхивал. Люди говорят, тебя одна из них отлупила.
– Что ты! Ничего и быть такого не могло!
– Вот на ту кержачку, пожалуй, я не прочь поглядеть.
– Кто это соврать посмел, будто баба меня избить покушалась. Да я б такую... да я...
– Брось хвастаться. Небось уж ту кержачку поп отпел, а?
– Экий ты, братец, насмешник! А я наслышан, будто поп не кержачку, а Сусанну отпел, панихиды по ней ежевечерне служил.
– И то правда. Служил. Выходит, демидовское от Демидова не скроешь.
– Выходит. Да ты, Акинфий, не горюй. Та кержачка, по правде-то, покойницу твою Сусанну за пояс заткнет... Давно хочу спросить тебя о Прокопе. Как здравствует?
– По-столичному... Кротом, Никита, живешь, а все до тонкости прознал. Но об одном, ручаюсь, не слыхал. Главную мою тайну не знаешь. О Прокопе спросил, а отчего вот о втором сыне спросить не догадался?
– Христос с тобой! Окстись!
– Значит, истину говорю, что не все прознал. Есть у меня еще сынок, Никитой его при крещении в честь отца назвал. Седьмой годок пареньку пошел. Мать собираюсь своей законной женой назвать.
– Да как же все это получилось?
– Перед тем, как Сусанну повстречал. Понял? Лучше вот слушки не слушай, а меня самого обо всем спрашивай. Пора бы бросить друг за дружкой по-холопски подслушивать да подсматривать.
– А где сыночка-то бережешь?
– Про это... покамест никому знать не надобно. Языки... Мало ли что... Приказал бы девок собрать, охота песни послушать.
В столовую без спроса вбежал взволнованный Мосолов.
– Прошу прощения! К вам, Акинфий Никитич, нарочный из Тагила с пакетом.
– Зови!
Акинфий выхватил у курьера пакет, взломал сургучную печать, развернул бумагу. Прочитав, злорадно ухмыльнулся. Кивнул, чтобы Мосолов и курьер вышли.
– Про что бумага-то? – полюбопытствовал Никита.
Но Акинфий не слушал брата. Уже не ухмылка, а жестокая насмешка победителя искривила его губы. Вот-вот расхохочется.
– О чем ты, братец?
Акинфий поглядел на растерянного брата и наконец разразился хохотом. Живот его трясся. Он задыхался от злобного торжества.
– О том, что повелением Ее Величества Кушвинский и другие с ним заводы, при трех тыщах живых душ, жалуются во владение генералу берг-директору саксонцу Шембергу. Вот вам ваша гора Благодать! Слышите, господин Татищев? Кто из нас прав был? Демидов всегда словно в воду глядит, все наперед видит и знает.
Он продолжал смеяться, а на лице Никиты медленно разливалось крайнее недоумение. Акинфий говорил не с ним, а как бы с самим собою.
– Ай да герцог! Ловко я его науськал. Теперича и нам полегчает. Не все Демидову в карман за серебришком лезть, теперича можно будет лапу Биронову и к Шембергу запускать... Зови девок повеселее, попляшут сегодня для меня. Эх, ну и дела, Никита!
– Погоди, погоди, братец. Что-то не совсем тебя разумею. Ведь это же плохо, что Кушву Шембергу отдали? Командиру-то колесо в телеге сломали, это дело. А что на кушвинское богатство по твоему совету немца усадили... Как бы еще дальше немецкая лапа не протянулась... Знамения мне все время дурные были.
Акинфий хватил кулаком по столу.
– Слышишь? Демидовский стол ни от чего не покачнется, трещины не даст. Вздумают за моим добром лапу тянуть, я его лучше сам по ветру пущу. Бирона натравил на Татищева, потому успех казенных заводов нам, Демидовым, опасен. Нельзя им по прибыльности с моими равняться. Миновала беда! Скликай песенниц...
4
Уехать поутру из Ревды Акинфию помешала непогода. Накануне, натешившись плясками, он еще долго разговаривал перед сном с Мосоловым.
Акинфий дал Мосолову наставление не зевать, а действовать нахрапом. Мол, пока на новых казенных заводах не объявились посланцы немецких хозяев или даже сами эти счастливые владельцы, надобно увести оттуда лучших рабочих, мастеров и подручных. Надобно через своих агентов распустить всевозможные слухи, пугая суеверный и темный народ, чтобы тот очертя голову бежал от немцев-бусурманов под защиту к православным Демидовым. Прежде всего надо повлиять на женщин, разжигая кликушество, страх и ненависть. Хорошо бы устроить знамения, повлиять на пророчествующих стариков и стариц, а смутивши женщин, добиваться, чтобы те повлияли на мужей, братьев, отцов. Демидов щедро посулил Мосолову средства на эту тайную войну...
Отпустив своего человека, Акинфий не сразу заснул. В ушах еще звучали задушевные русские песни, то протяжные и раздольные, как широкие степи, то веселые и бурные, что твоя горная река... Родина! Как умеет она выразить себя песней! Давно Акинфий не слыхивал такого слаженного хора, как в доме брата. Сколько задушевного, дорогого в этих напевах, идущих от сердца, от родной нивы, от самой земли с ее лугами, речками, лесами!.. А достанется эта земля теперь жадным немецким рукам... Вот чего достиг своими интригами победитель Татищева Акинфий Демидов. Каково Татищеву, открывателю, основателю, зиждителю новых кушвинских месторождений и заводов? Как ему пережить такой удар, гибель всех замыслов и стараний!
Ведь понимал Акинфий, как тяжело переживать унижение самолюбивому и гордому, умному и преданному России генералу Татищеву. Так унизить русского командира! И вот теперь те немцы, которых он было совсем прибрал к рукам, опять оживут и осмелеют в татищевском Катерининске!
Акинфию даже стыдно становилось перед родной страной, что подлый Бирон, послушав подлого совета, спрятался за спину немца. Демидов выручил хищников-иноземцев! Ведь этого-то не ожидал, правду сказать, и сам Акинфий. Он полагал, что Кушвинский завод, вырванный из-под начала Татищева, будет уступлен какому-нибудь русскому вельможе. А вышло по-другому. Подлость по отношению к Татищеву свершилась, но последствия могут стать опасными не только для казны, но для самих Демидовых. Немощен брат Никита и недалек, а смекнул сразу!
Поцарствует императрица Анна еще годик или два, глядишь, Бирон доберется и до демидовских вотчин.
Раздумывая, Акинфий далеко глянул вперед. Тревожно было, что в последние годы все чаще рождались сомнения насчет правоты собственных действий. Он сознавал, что переусердствовал в коварстве. Неожиданное появление на Урале Шемберга осложнит положение частных заводчиков. Разумеется, все они, опасаясь немцев, кинутся теперь к нему, Демидову, за защитой. И уж нельзя будет отмахиваться, ибо собственные, кровные интересы требуют теперь сотрудничества с прежними соперниками против соперников новых, более хищных и более наглых.
Раздумался Акинфий и о брате, пожалел, что раньше времени сказал ему о втором сыне. Акинфий собирался этот год похозяйничать дома на Урале, а теперь при новых веяниях предстоит надолго перебраться в столицу. Уральское хозяйство останется на попечении брата, ибо нет взамен никого другого. Не обучил вовремя заводскому делу Прокопия, а пустил по заморской торговле. В этом деле Прокоп мастак, но кому же управлять горнодобывающим и заводским хозяйством? Неужто может сбыться самое большое опасение отца, что господство Демидовых на Урале, им созданное, не продлится по-настоящему и на один век, а дворцы в Невьянске, Ревде и Тагиле заполнят хозяева, не умеющие говорить по-русски?
Акинфий признавался себе, что прежде не любил слушать ничьи советы, злился на отца, когда тот поучал, а теперь, будь жив отец, его совет оказался бы кстати. Вот остался один в окружении лживой преданности и скрытой и открытой ненависти.
Так он с невеселыми думами и заснул и рано проснулся на следующее утро, разбуженный переполохом в доме. Заболел брат, перепив накануне. Акинфий навестил его в спальне и ушел с чувством брезгливости – таким жалким, ненужным показался ему остаток жизни, конвульсивно бьющейся в немощном теле брата. И это – хозяин Урала?
Мартовская погода нагоняла тоску. Акинфий освободился от нее только усилием воли, потому что случайно метель привела в Ревду совсем нечаянного гостя – заводчика Строганова.
Никиту попытались кое-как отпоить огуречным рассолом и настойками на спирту, но тщетно... Как он ни рвался отобедать в компании Строганова, какие ни примерял камзолы, кафтаны и жабо, брат не посоветовал ему казаться на глаза столь необычному и важному гостю.
Обед, за которым Акинфий был за хозяина, прошел в разговорах только о делах Урала. Демидовской кухней гость остался весьма доволен. За столом Акинфий с интересом разглядывал Строганова, ибо раньше встречался с ним только мельком в столице. К знакомству более близкому обе стороны до сих пор не слишком стремились. Простая случайность свела их под одной крышей, и оба обрадовались этой встрече. В своем собеседнике Акинфий мог наблюдать тип европеизированного барина, уже не редкий в Петербурге, но для Урала новый. Во всем облике гостя, в манерах и чертах лица нельзя было отыскать и следа от былого уклада жизни предков-конквистадоров, загнавших Каменный пояс под закон Московской Руси. Акинфий думал, что ни Аника, ни Семен Строгановы не нашли бы в этом лощеном немолодом столичном щеголе каких-либо родственных черт. Однако былое богатырство предков все же переселилось в потомка, но воплотилось не в физической силе, а в силе интеллектуальной и нравственной, в том высоком чувстве собственного достоинства, с каким держал себя гость Акинфия. В каждом его движении чувствовалось: да, он прекрасно знает, что не кто иной, как Строганов, потомок камских богатырей, и теперь, при всей его «щуплой, но изящной ладности», как мысленно определил его наружность Акинфий, явственно сквозило сознание, что именно ему, чуть усталому светскому человеку, привычному царедворцу, выпала доля держать на своих плечах всю славу былого строгановского величия, отнюдь не подавая вида, что эта тяжесть порой становится не под силу.
Акинфию нравилась манера, с которой гость ел, нравилась богатая, отнюдь не крикливая, скорее скромная одежда и очень дорогой парик; снежная белизна его локонов, под стать уральским сугробам, чуть отливала синевой. Нарочно подсиняют, что ли?
Разговаривая про Урал, гость только за десертом, да и то вскользь, упомянул, что едет в Катерининск, на свидание с Татищевым. Так подчеркнуто и сказал: Катерининск. У светского человека это прозвучало определенным намеком на антипатию к немецкому названию... О причинах поездки к Татищеву гость не распространился и попросил у Акинфия разрешения осмотреть Ревдинский завод.
Акинфий тотчас повел гостя к домнам и молотам. Во время осмотра гость говорил мало, больше спрашивал, и Акинфий проникся искренним уважением к гостю: познания Строганова в горном деле оказались настолько серьезными, что Демидов только диву давался, когда это «столичный щеголь» успел их накопить. По заводу бродили больше двух часов. По возвращении Строганов попросил разрешения отдохнуть в отведенном ему покое.
Вечером Акинфий угощал Строганова французскими винами в зеркальной гостиной.
Из окон за частой сеткой мокрого снега, косо перечеркнувшей горизонт, открывалась панорама завода. Совместная прогулка по этому заводу, предпринятая днем, сблизила гостя и хозяина. Строганов все больше нравился Акинфию, внушая все большее расположение. Нравился Демидову и вечерний костюм гостя – малиновый кафтан, отороченный по воротнику и обшлагам рысьим мехом.
Глядя в окно, Строганов покачал головой.
– Смею думать, что и завтра будет непогода, – сказал Строганов.
– А пусть себе. Над нами не каплет. Обиды на нее не имею оттого, что искренне рад нашему более тесному знакомству.
Строганов вежливо отвесил хозяину легкий поклон, но от окна не отошел. Достал табакерку, предложил Акинфию.
– Благодарю. Не приучил себя к этой моде. Чихаю сильно, видать, не по носу зелье.
– Признаться, я и сам удовольствия не испытываю, просто отдаю дань моде. Извольте извинить мою нескромность: кто строил этот дворец?
– Брат. А кто начертал его проект на бумаге, признаюсь, просто не знаю.
– С фасада очень внушителен. Облик, пожалуй, петербургский. Видимо, на всяком из ваших заводов имеется своя достопримечательность. Вашу Падающую башню, под стать Пизанской, мне уже удалось видеть.
– Как же она вам понравилась? Хотелось бы услышать мнение человека, истинно просвещенного.
– Башня весьма запоминается. Думаю, что станет немаловажным памятником вашему роду на Урале.
– Памятником, говорите вы? За что же нам такая честь?
– Родитель ваш деяниями для Урала достоин памятника. Без него не бывать бы краю таким, какой он сейчас.
– Без нас-то, может, и был бы, а вот без Строгановых не стало бы Руси на Каменном поясе!
– Однако моему предку потомки памятника не воздвигли.
– А вы не сетуйте. Памятники вещественные, излаженные рукой человеческой, крошатся и рассыпаются. Вечны только те памятники, кои народная память хранит. Есть в народе памятка о вашем предке Семене Строганове, как он, Ермака выискав, Сибирь его военной доблестью, а паче собственным разумом покорил.
– Что вы! Разве об этом кто-нибудь думает в народе?
– И немало думают. Песни об этом поют, сказы говорят...
– Отрадно мне от вас такое слышать. Тем более, что о достойных русских людях сейчас моднее забывать, нежели помнить.
Фраза показалась Демидову знаменательной. Он хотел подкрепить эту мысль собеседника, но слуга внес канделябр со свечами. Задернул на окнах кружевные шторы, и темная, слабо подсвеченная снизу громада заводских цехов в окне исчезла. Строганов достал из заднего кармана кафтана голландскую трубку, набил ее табаком и раскурил от свечи. Акинфий вспомнил, что такую же курил Петр.
– Не обессудьте и не сочтите мой вопрос праздным любопытством. Хотел бы узнать, по какой надобности решили навестить генерала Татищева? – спросил Демидов.
– Ответить на вопрос ваш мне нелегко. Не оттого, что мой визит к его превосходительству составляет тайну, а потому, что, сказав правду, окажусь перед вами в пренеприятном положении. Сочтете меня просто образцом невежливости.
– Об этом не печальтесь. Любая правда ценнее всякой вежливости.
– Извольте. Еду к генералу жаловаться на вас, господин Демидов.
В гостиной наступила тишина.
– На что же вы изволите жаловаться, государь мой? – спросил Демидов удрученным тоном.
– Ох, Акинфий Никитич! Буду жаловаться на самоуправство, вами чинимое, преимущественно на то, что похищаете нашу живую силу, рабочих людей. Притом собираюсь жаловаться не только от своего имени, но также и по поручению других владетелей горных заводов.
Демидов сделал глоток вина.
– Так, так, господа заводчики. А убеждены ли вы, что пора жаловаться действительно пришла?
– Терпели долго, но пора пришла.
– А он сердечный приятель мой, Василий Никитич! Жаль мне его. Все неприятности разом на одну старческую голову.
– Что хотите сказать этим?
– Давно ли из столицы?
– Больше двух месяцев.
– Тогда неведение ваше объяснимо.
– Извольте высказаться определеннее. Какое неведение имеете вы в виду?
– Господин Строганов, Ее Величество государыня императрица Анна Иоанновна за особые заслуги перед российским отечеством отдарила новые казенные кушвинские заводы господину берг-директору Шембергу.
При всем своем светском лоске Строганов не удержался от резкого возгласа.
– Изволите шутить, господин Демидов. И шутить жестоко, непозволительно...
– Я сказал вам сущую правду, государь мой.
Акинфий заметил, как бледность покрыла лицо Строганова.
Он чуть не простонал:
– Да разве мыслимо отдавать такое богатство в иноземные руки? В чем же заслуги этого саксонца? Перед каким отечеством? Бог знает, что у нас творят!
– О том, что творят в Петербурге, русский бог едва ли знает. Разве что немецкий помогает?
– Да, это, конечно, дело рук герцога... Простите, впрочем!
– Правду сказать изволили. При мне о герцоге можете говорить без опаски. «Слово и дело» не закричу.
– Но вы же с ним дружите?
– Деньгами ссужаю – вот и вся дружба. Деньги у Демидова берут без отдачи. Все кругом – наши должники, с тех пор как род наш пришел на Каменный пояс. Все нашим рублем оплачены. Один царь Петр ни копейки не занял, а самих нас за ворюг почитал. Ругал отца за утайку долгов казне. А ведь мы утаивали их, чтобы сановникам столичным было что в руку положить...
Неправду говорят о моей дружбе с герцогом. Об Акинфии Демидове вообще много зряшного плетут досужие языки. Да и про любого значащего человека всегда много неправды ходит в государстве. Сами подумайте: народ знает только, что правит им царица Анна. Но мы-то с вами доподлинно знаем, кто играет в бирюльки судьбой нашего государства. И как играет! Кто отдал персам завоевания Петра? Кто подвинул назад границы наши с Китаем, до того зарубленные на Амуре? Все он, нынешний временщик. Нет, не вовремя вы, господин Строганов, решили жаловаться на меня. Заводчики, кои, прикрывшись вашим именем, вас на эту жалобу подвигнули, живут мелкой корыстью. Сами боятся Демидова, вот и выставили вас вперед как жалобщика. Мол, если сам Строганов с нами, значит, и нам не страшно!
– Мысль пожаловаться на вас принадлежит именно мне. Сами посудите: за последние три года самовольство ваше перешло все границы. Владея на Урале избыточным богатством, вы всеми силами старались отнять у других даже самое необходимое. Мало того, что вы конкуренцией губите работу наших заводов, вы еще отнимаете самое насущное – наш рабочий люд. Сманиваете наших работников, суля им сытую жизнь, хотя на ваших заводах господствует страшнейшая кабала. Мне понятно, почему вам удается все это делать так смело: многим из нас не под силу начинать с вами борьбу, а в столицу жаловаться на Демидова бесполезно. Там у вас всюду заступники.
– Заводить себе заступников никому не заказано.
– У заводчиков нет для этого главного – денег.
– У них нет. Но у вас-то этого главного – горы. Все государство Российское вашей солью хлеб солит.
– Таким заступничеством я не дорожу.
Демидов пожал плечами.
– Предки ваши без этого тоже не обходились... Веселая у нас беседа пошла!
– Можно прекратить. Вы же сами попросили.
– Как же можно прекращать такую беседу? Первый раз веду разговор по душам, в открытую, козырей не пряча... Могу заметить, однако, что, насколько мне известно, Демидовы никогда не посягали на земли и интересы Строгановых.
– Ну что вы! Просто вам изменяет память. Вы бы изволили припомнить, как совсем недавно крупно задуманной операцией с уплатой казне подушных податей на... определенных, невыгодных нам условиях Демидов собирался сделать нас нищими. От гибели спасло нас неподкупное заступничество именитого дворянства. Оно заступилось за собственную честь, ибо почувствовало, что своим широко задуманным маневром вы посягнули на дворянские привилегии и задели чувство чести!
– Да полно! Честь рода Строгановых нисколько не дороже дворянству именитому, чем дворянству петровскому, к коему принадлежу я, преисполненный к вам всяческого уважения. Да и Ее Величество сочла, что нельзя жертвовать достоинством и родовой славой заслуженных деятелей отечества. Посему и не получил хода проект, который вы изволили упомянуть и к коему герцог имел гораздо более касательства, чем Демидов, даже плохо об сем проекте осведомленный. Нам чужого не надобно!..
– Потому что изволите почитать чужим... лишь весьма немногое! В частности, наших рабочих на промыслах вы как будто твердо считаете своими. Похвала моим предкам меня волнует меньше, чем увод моих рабочих. И я найду защиту, так как сами вы не остановитесь. Уверен, что найду.
– Уверены?
– Да, господин Демидов.
– Узнаете своих людей в лицо?
– Господин Демидов, это праздный вопрос. После вашего Ялупанова острова узнавать своих людей трудно.
– Выходит, Акинфий Демидов просто кудесник какой-то. Носы и уши у людей переставляет?
Строганов улыбнулся.
– По слухам, бороды им каким-то маслом мажете, чтобы быстрее и гуще росли.
Теперь смеялись оба собеседника.
– Вот так-то лучше, – сказал хозяин. – Шутка на шутку. Доля истины в ваших словах есть. У Демидовых в людях отчаянная нужда, а у Строганова их избыток. Был грех. Приказчики приводили ваших людей. Попросите вернуть – не смогу, хоть и рад бы. Сами не признаются, что от вас утекли. Но уплатить вам за оплошности и самовольство моих приказчиков готов в любой час, притом по цене, какую изволите назначить сами.
– Мне важно не это. Мне важна государственная оценка правомерности ваших действий. Я хочу услышать от господина Татищева, как он их расценивает.
– Да я вам сам сейчас скажу. Для него незаконно все демидовское. У меня и у него законность разная. Наша, демидовская, – откровенная, стоит на силе, богатстве и хозяйском расчете. Край к ней приобык. А если вздумаете смотреть на меня глазами Татищева, то я сущий беззаконник.
– А почему вы убеждены, что на Урале можно быть незаконнопослушным?
– Я никому не запрещаю следовать закону не демидовскому, а государственному...
– Но сами живете по-своему?
– Всяк живет, как ему сподручнее. Царь Петр дозволил Демидовым приручать край по-своему. Когда нужны были наши пушки и ядра против шведов, нас ничем не попрекали. Законники уж на готовенькое пришли. Говорите, людей сманиваем? Неужели на ваших заводах нет беглых и нет работной кабалы? Теперь не поздновато ли Демидова законности обучать?
– Стало быть, и с Шембергом не станете считаться?
– Посмотрим. Не раз вспотеет, ежели вздумает ссориться с Демидовыми. Вам бы не с жалобой на меня идти, а помолиться, чтобы императрица поменьше подарков немцам делала. Со мной-то, русским, на родном языке всегда сговориться можно. Не время нам сейчас между собой ссоры заводить да жалобами друг на друга заниматься. Надо на Урале тесным кругом вставать и не дать иноземцам русский Урал в чужую колонию превратить. А дело к тому может повернуться, если царица на подарки еще щедрее станет.
– Как вы узнали, что Кушвинский завод подарен Шембергу?
– Да по-простецки. Все дороги в Катерининск через мои вотчины протянулись. И люди мои раньше самого Татищева все пакеты к нему прочитывают, особливо которые из столицы.
Строганов, качая головой, придавал лицу укоризненное выражение, но глаза его смеялись. Демидов протянул ему бокал.
– Нам нужно с вами в дружбе жить. Соль да железо.
– Но соль железо разъедает?
– Если на мокрое брошена... Демидовское железо, впрочем, и соль сдюжит. Без соли кусок в горло не лезет, а штык уральского железа любому врагу пузо вспорет. О людях ваших отныне тревогой себя не докучайте... Мои приказчики их стороной обходить будут. К Татищеву не ездите. Переждете непогоду, да ко мне в Тагил пожалуйте. Картины вам покажу, в Нидерландах для меня куплены. Потом вместе надумаем, какую хлеб-соль нам для этого Шемберга приготовить, чтобы скорее лопнуло его брюхо.
– Согласен, если обещаете не трогать моих людей.
– Обещаю, но только вам одному. На других заводчиков мне наплевать.
– Но тем я обещал побеседовать с генералом.
– Что ж, генерала, пожалуй, навестите, только поговорите с ним о другом. Ну, хотя бы сожаление выскажите, что Кушву саксонцу отдали. Мы ведь с вами еще не знаем, как Василий Никитич отнесется к решению царицы. Может, не пожелает подчиниться и, обидевшись, покинет край. Не знаем, кто может завтра заступить его место. Хорошо русский, а вдруг иноземец, да не такой, как Виллим Геннин, который все же не воровал и нас, заводчиков, понимал, а иноземец-хищник, враг России в маске доброжелателя. Тогда что? Затеем промеж себя спор, он нас порознь и передушит, а сумеем взяться за руки – сможем защищаться. Демидовы перед саженным царем не дрожали, так неужли перед Бироном и отступим? Сила демидовская на Урале сейчас – в моих руках. Брат – не в счет. Ежели нет у вас веры к моему слову, не захотите руку мою, вам протянутую, пожать дружески, ну что ж, тогда поезжайте с жалобой к генералу и ищите дружбы с прочими заводчиками. Только помните, что жалобами Демидовых даже до синяков не защиплете, а обозлить – обозлите. В сердцах возьму да наотмашь и ударю. От столичных воротил откуплюсь, а здешних кулаком пришибу. Не забывайте, какие времена в государстве наступают. Может, и вам придется от Бирона ноги уносить. Куда подадитесь? А у Демидова любую осаду выдержите. Не выдам.
Совесть у меня путаная. Верчу ею, как выгодно. К одному единому преданность моя незыблема, одно для меня свято – отечество мое, вкупе с теми, живыми и мертвыми, кто его силу крепил. Не зазорно мне сознаться, что далеконько Демидовым до Строгановых. Мы Петру оружие ковали, ядра лили, когда он Россию возвеличивал, но не было бы у Петра уральских пушек, ежели бы Строгановы нам не предшествовали...
Не зря провидение божие нас с вами в Ревде свело. Дружить не прошу со мной, но уважать вас обещаю. Впервые за прожитую жизнь такую правду от человека в глаза услышал, дескать, еду на вас с жалобой, господин Демидов. Сильным и честным надо быть, чтобы так прямо и сказать. Я на такую прямоту не горазд. Будто и не боюсь герцога, а вот сказать ему в глаза, что он иноземная сволочь, на то смелости моей не хватит. А вы, должно быть, и ему правду скажете, пусть в самой лощеной, паркетной форме. Меня-то, вишь, не побоялись? А ведь многое слыхивали про Акинфия Демидова и, конечно, знаете, как он с доносчиками расправляется... Так поедете к Татищеву?
– Поеду и скажу ему. какие бы ни были трения между заводчиками Строгановыми и Демидовыми, на Урале за все русское они рука об руку пойдут. Верно понял вас?
– Куда вернее!
Оба обернулись на хриплый голос. Ведомый под руку двумя лакеями, скорее вполз, чем вошел в зал хозяин Ревды.
– Позвольте вам представить брата моего, Никиту Демидова-младшего Мы у него в доме.
Строганов поклонился. Никита заговорил торопливо и невнятно:
– Позвольте засвидетельствовать вам почтение, драгоценный гостенек. Прошу простить, немощь одолевает.
Гость пожал протянутую руку Никиты.
– Надеюсь получить прощение за нарушение вашего покоя.
– Изволите шутить, сударь. Всякому гостю в своем доме рад, а уж Строганову – подавно. За честь почитаю, несказанно счастлив, что пожаловали. Одно беда – принять по-должному не сумели из-за моей хворости.
– Брат мой, господин Строганов, за весь род Демидовых всю жизнь недужит.
– Ох, ох, ох! Каждому смертному – своя судьба написана в скрижалях. Милости прошу к столу! Давно пора отужинать чем бог послал...
* * *
За ужином засиделись.
Акинфий порадовался, что Никита не точил, как всегда, слезу в жалобах на свою горемычную судьбу, а проявлял интерес к событиям в столице, спрашивал гостя о новых зодчих, о последних постройках Трезини, о статуях Карла Растрелли.
Строганов отвечал кратко, но охотно и лишь на вопросы об интимной жизни того или иного сановника с неудовольствием пожимал плечами, ссылался на полное неведение и переводил беседу на другое. Наконец, сославшись на усталость, вежливо отказался слушать хоровое пение и удалился в свои апартаменты...
Никита страшно разобиделся, стал жаловаться брату на непростительную гордыню гостя, перешел на ругань, озлился до исступления, пока Акинфий не заставил его замолчать. Он так грозно и тихо сказал брату всего несколько слов, что тот содрогнулся, побелел и сник.
Спал Акинфий в синей комнате дворца, заставленной этажерками с фарфором. Комната ему нравилась, казалась вся какой-то мягкой – так успокоительно действовало убранство стен, обитых синим бархатом.
Большие овальные зеркала в чеканных серебряных рамах казались окнами в некий сказочный мир, а ночью, чуть подсвеченные огоньком свечи, они чем-то напоминали пейзаж с верхнего яруса невьянской башни: они поблескивали, словно тихие озера среди глубокой ночной синевы окрестных лесов...
Открыв дверь синей комнаты, Демидов поморщился от обилия зажженных свечей в двух канделябрах. Он тотчас потушил все и оставил только китайский ночник. Удивился, что не задернуты на окнах шторы, хотел позвать лакея и в этот миг заметил женскую фигуру в простенке между двумя зеркалами.
Высокая, белокурая, сероглазая. Руки скрещены. На плечах – кружевная шаль поверх сарафана из веселенькой (как все в доме Никиты) материи...
Он и она пристально разглядывали друг друга в полусвете. Мужчина ждал, когда женщина поклонится, но та оставалась неподвижной.
У Демидова мелькнула мысль, что эта женщина лицом и станом напоминает ему родную мать, ее сверстниц и соседок деревенских женщин из-под Тулы или горожанок, жен и дочерей мастерового люда.
Покойница мать, при всей ее мягкости и преданности мужу, не раз говаривала сыну Акинфию, что истинным, главным оплотом Российского государства является не кто иной, как русская женщина, независимо от сословия, достатка и образования. Мать Акинфия любила подолгу толковать о женской гордости, о ее человеческом достоинстве и подспудной силе, проявляющейся в самые решительные минуты народной жизни.
Случалось ей спорить даже с отцом, когда она выговаривала ему, что, мол, есть бабы на Руси такой смелости, какая мужикам и не снится, и что, мол, перед русской женщиной даже татары на колени падали...
Незнакомая женщина в комнате показалась Демидову красивее Сусанны, но это была иная красота, иное обаяние, чем у той. В покойной Сусанне была греховная чара, беспокойная страсть, острота вечной изменчивости, капризная игра настроений. Здесь ощущалось спокойное достоинство, выдержка и ласковая настойчивость. Та – любовница, эта – жена и мать.
Акинфий был настолько привычен к услугам холопов и холопок, что никогда не испытывал стеснения, позволяя себя одевать и раздевать. Но в этот раз, в присутствии незнакомой красавицы, присланной ублажать его, ухаживать за ним, он почувствовал какую-то мешающую неловкость. Между тем он устал, ноги истомились в узких парадных башмаках, хотелось скорее раздеться и разуться.
– Позвони лакею, – велел Демидов. – Пусть разует меня. А сама сядь, посиди. В ногах правды нет.
– Зачем же лакея-то? – проговорила женщина с удивлением. – Сама тебя разую. Не барыня. Наше дело подневольное, коли уж привел бог демидовскими стать.
– Ну, разуй, – с неохотой согласился Демидов. Ему понравился ее глубокий, мягкий голос. А в тоне женщины была еле уловимая насмешка и какое-то сознание превосходства над ним, богатым барином, притом, как в глубине души думалось самому Акинфию, все-таки еще не настоящим барином...
Женщина не очень умело, но осторожно расстегнула пряжки. Он сам помогал ей при этом, неловко наклоняясь с дивана, на котором уселся.
От кафтана и парика он тоже освободился сам. Парик она положила на столе, кафтан бережно повесила на правилке. Демидов в одном камзоле с удовольствием растянулся на диване.
– Садись, садись. Кто тебя сюда прислал ко мне?
– Почем мне знать? Дворецкий идти велел.
– Зовут как?
– Анфисой.
– Девка?
– Вдовица.
– А почему это у тебя синяки на руке?
– Небось сам знаешь. Своих-то прислужниц, поди, тоже плеткой угощаешь?
– Это уж смотря по вине. Баб-то у меня не порют... Гм... За что тебя?
Анфиса вдруг улыбнулась, чуть злорадно.
– За то, что хозяина излупила.
– Как же у тебя на такое смелости хватило?
– Баба я, вот и хватило излупить. А мужиком была бы, не тем бы его еще встретила.
– Чем хозяин тебе не по нраву пришелся?
– Оборотень-то Ревдинский? В гроб ему пора, а тоже полез, немощный... Мокрое рыло... Тьфу, прости господи!
– Знаешь, кто я?
– Знаю. Дворня сказывала, что главный Демидов. Да мне-то что до тебя за дело! Уедешь утром – и слава богу. Хорошо, что у нашего хоть гостей немного. Покамест всех вас наперечет помню, кого вот так встретить-проводить приходилось. Нешто это жизнь? Разве бог так велит? Всех терпела, а хозяина мокрорылого – не смогла. Знала, что мне будет, да подумала – лучше под плеть...
Демидов обнял Анфису, она ответила на поцелуй.
– Отчего меня не поколотишь?
– За что же колотить? Как обнял да поцеловал – сразу видать: за свое дело мужик берется!
Демидов, польщенный, захохотал.
– Стало быть, не всех колотишь?
– Будто не знаешь, что за силу да за сноровку никакая баба мужика не побьет. Ты, видать, силой живешь?
– А ты чем?
– Душой.
– Где она у тебя, душа-то?
– В очах.
– Ну-ка покажи!
Акинфий долго смотрел в глаза Анфисе, но больше не поцеловал.
– Не вижу души.
– Знать, все же чуешь, коли на сей раз не по-медвежьи облапил.
– Загадками говоришь?
– А меня так матушка обучила. Мужику загадка – все одно, что ушат студеной воды на голову. Думаете-то вы тишее нашего.
– Вот как? Помогают, значит, загадки от нашего брата.
– От твоего брата не помогло.
Акинфий опять расхохотался. Кажется, характер интересный попался!
– Родом из каких мест?
– Суздальская.
– Старую веру в лесах прятала?
– Не от хорошей жизни сюда пришла... Вера-то... тут вроде бы и ни при чем... Хоромы у помещика спалила.
– Видать, барин лаской не угодил?
– Солдатчиной мужа сгубил. Семнадцать мне было, и любила я его.
– У кержаков-то как очутилась?
– Они меня приняли. Поначалу одна маялась, да скоро поняла, что в этих местах бабе одной тут нельзя, ежели чуть краше бабы-яги. Узнала кержаков, сказала, что отец-мать староверами были и сама хочу в истинной вере жить. Молодая да работящая, вот и взяли к себе. Богу-то, чай, все одно, сколькими пальцами я крещусь, а двумя-то вроде и сподручнее.
– У кержаков мужики вроде тоже не бессильные?
– Верно. Но тех можно богом от себя отпугивать, коли не любы.
– Боятся бога?
– Которые постарше – те дюже боятся.
– А кто помоложе? Есть ведь и у кержаков удалые парни.
– Так ведь и я сама живая, поди. В жилах-то не вода...
– Скажи, Анфиса, а те хоромы, что спалила, душе твоей в снах не являются? Грех ведь? Барин, поди, горюет?
– Ты лучше спроси, как по мужу мне пришлось горевать. Места себе не находила, все думала, как он, сердечный мой, под пули турецкие пойдет. А как барин на пожаре в одних подштанниках бегал, меня только смех разбирал.
– Доискался он до виновницы?
– Доискиваться стал. Побоялась под пыткой сознаться, вот и убежала.
– А ежели здесь поймают?
– В народе молву слыхивала, будто Демидовы никого не выдают.
– Это про мужиков. Тех бережем.
– Бабы, особливо такие, как я, крепкая, иного мужика стоят. Вон у ревдинского хозяина сколько их для всякой нужды.
– Я наказал брату на волю тебя отпустить. К себе взять хочу.
– В шахту на цепь посадишь?
– Заставлю тебя загадки загадывать. Глядишь, быстрее баб думать обучусь.
– Пристанешь скоро. А еще что со мной делать станешь?
– Как-нибудь на досуге душу твою разгляжу.
– Зачем она тебе? Тебе от бабы другое надобно. Мужики что волки – все по одному следу.
– Где вас, кержачек, держат?
– В амбаре. Под замком. Шестеро нас там.
– Хочу в Тагил тебя взять.
– Там у тебя дом, что ли?
– Дворец. Челяди много. Дурят без присмотру. Сумеешь ли за всеми доглядеть, а кого и скрутить?
– С этим управлюсь. Бабы и девки для меня не в счет – своя масть. А на мужиков силенки хватит, чтобы кое-кому зажечь фонарь под глазом.
– Стало быть, и там в поджигательницы метишь? По привычке? Верно, столкуемся мы с тобой. Мне такие – с руки.
Демидов потянулся и зевнул.
– Ко сну клонит. Пора в постель.
– Давай раздеться помогу.
– Сам разденусь.
– А мне, стало быть, уходить прикажешь, что ли?
– Ночуй здесь. На диване умостишься. Все получше, чем в амбаре.
Демидов кинул ей подушку с постели, разделся и лег. Женщина затихла на диване. Со двора слышнее стал доноситься собачий лай.
– У тебя в Тагиле псов эдак же много?
– Тебя от барина твоего устеречь хватит.
– Тоже, как здесь, псы некормленые? Ведь целыми ночами соснуть не дают. И диванчик узковат.
– Приноровись! Постель мне одному тесна.
Женщина почувствовала, что собеседнику не до смеха. Заговорила умиротворяюще:
– Одна ночка – не беда. У тебя в Тагиле постель себе мягкую излажу, широкую... Теплая постель бабе нужна, как ласковое слово. Дома в девках еще была, матушка мне постель из овсяной соломы стлала. Ляжешь, пока свежа, а она похрустывает, и мягко на ней. Кержаки меня на досках спать приучили, для спасения души... В Тагиле-то, поди, у меня своя горенка будет, а, хозяин?
Не услышав ответа, Анфиса замолчала. За окнами не прекращался собачий лай. Вскоре до слуха женщины дошло похрапывание. Будущий хозяин спал. Анфиса сокрушенно вздохнула:
– Дожила до ноченьки!.. Возле такого раньше времени скиснешь.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
У подошвы горы Высокой среди холмов по берегам Тагила занял сотни десятин огромный демидовский Нижне-Тагильский завод.
Он много моложе Невьянска. Чугун потек из его домен только осенью 1725 года. Но уже на четырнадцатом году своего существования завод и его селение далеко обогнали дородностью и Невьянск, и даже Екатеринбург.
Купечество, со свойственным ему чутьем, очень рано угадало будущую большую судьбу завода. Тут пахло коммерцией крупного масштаба, поэтому многие видные дельцы заблаговременно купили себе земельные участки, строились солидно, не на один год и не в один этаж.
Хозяин Тагила, Акинфий Демидов, ценил эту заинтересованность купцов-поставщиков и иных коммерсантов, охотно привлекал их капиталы к Тагилу и вел здесь постройки и все заводские дела совсем по-иному, чем в старом своем гнезде – Невьянске.
На берегу пруда, образованного самой крупной плотиной на всем Каменном поясе, уже возвышались громады трех дворцов. Один из них, выходивший фасадом на обширную площадь, Акинфий предназначал под главную контору всех своих уральских заводов, второй отводил под жилье сыновей, а в третьем поселился сам.
Эти здания были не одинаковы по размерам и архитектурным формам, но все они отличались монументальностью, богатством отделки и выглядели куда внушительнее, чем такие же постройки Невьянска и Ревды. Оба жилых дома еще целиком принадлежали ко временам затейливого барокко, а стиль служебного здания с его многоколонным портиком и суровой простотой фасада предвосхищал новые, более гражданственные идеи российского архитектурного классицизма.
Высокие заводские корпуса Тагила тоже весьма мало походили на мрачные заводские строения Невьянска. Не было вокруг них крепостных стен с башнями. Цехи Тагильского завода обнесены каменной оградой с высокими чугунными решетками ажурного литья. Такую решетку не стыдно бы и в Петербурге поставить.
Таким образом, постепенно превращая Тагил как бы в стольный град родового царства на Урале, Акинфий старался не переносить сюда даже следов всего того мрачного, чем приходилось мостить демидовскую дорогу к славе.
Акинфий понимал: наступают новые времена, и скрывать размеры доходов и масштабы богатства придется теперь по-иному: стены любой высоты его нынче все равно не скроют. От завистников уже нельзя запереться замками на башенных воротах. Единственное, чем можно охранять и умножать добро, – это хозяйской смелостью, хитростью и верным расчетом.
Чтобы переломить прежние навыки властвования, Акинфий уже второй год старался управлять жизнью рабочего люда не кулаком и бичом, а словесным повелением, словесным поощрением и словесным же наказанием. Сам отбирал для Тагила лучших рабочих, менее склонных к бунтарству и крепко знающих свое ремесло.
Отучаться от старого было нелегко. Иногда прежние привычки брали верх, и тогда на заводских дворах опять посвистывала плеть, но уже не так, как бывало в Невьянске!
По демидовским вотчинам среди народа пошла молва, будто тагильский хозяин начал задуривать народ добротой и справедливостью. Народ принимал эти вести нахмуренно, не очень-то верил, ибо знал, что оса пчелой не обернется.
Трудно было работному люду забыть плети демидовских подручных, потому что рубцы этих плетей имелись на теле чуть ли не каждого мастерового человека... Да и Ревдинский оборотень с лихвой наверстывал все «упускаемое» в Тагиле, как бы заботясь о том, чтобы дурная слава не умирала...
Акинфий сознавал, что ни ему, ни сыновьям не стереть из народной памяти следов жестокого демидовского прошлого. Прошлого ли? Не сам ли он, поднимая Невьянск, ломал жестокостью непокорность рабочего люда? Не он ли сам действовал звериным насилием над подневольными, учил их почитать прежде всего кулаки Демидовых, действуя страхом и обманом? Легко ли теперь переходить к иным, более тонким и скрытым способам подчинения и разъединения людей? И тем не менее сам Акинфий Демидов сознавал необходимость действовать по-иному, вытравлять понемногу из народного сознания крепко вчеканенную ненависть...
Потому и ставил он свое тагильское гнездо не по невьямскому да ревдинскому образцу.
2
Майские дни на Каменном поясе, как всегда, несли сладкий дух цветущих ландышей и черемух.
Прохор Мосолов уже распустил страшные слушки среди кушвинских рабочих. Как и ожидал Акинфий, первыми встревожились женщины. С новых казенных заводов народ пустился в бега. Каждую ночь на демидовских заставах ловили беглецов, но к себе брали с разбором. Отбирали только лучших мастеров горного и литейного дела, а остальных возвращали обратно под расписку, чтобы снять с себя всякие подозрения. Отобранных беглецов отправляли поначалу в ту же Колывань по глухим дорогам: драгуны Татищева едва ли подозревали об этих таежных тропах. Схватить с понятым почти невозможно. А глядишь, через некоторое время появляется в том же Тагиле новый мастеровой с бумагой вольноотпущенного откуда-нибудь из-под Вятки, только что как чумы сторонящийся Екатеринбурга и Кушвы... Словом, по закону выходило, как ни придирайся, а Демидовы к бегству кушвинского народа не причастны!
Новый владелец Кушвинского завода герр Шемберг не замедлил прислать на Урал своих доверенных управителей – немцев герра Фохта и герра Бланкенгагена с особой петербургской инструкцией, позволявшей им совать носы в чужие заводские дела, минуя горного командира Татищева.
Все, что творилось на Кушвинском заводе, Акинфий знал через своих людей. Новые управители сразу попали впросак: они легко подписали приемочную ведомость на рабочий народ. Демидов злорадно усмехнулся этому просчету, а сами немцы-управители поняли его масштабы лишь через неделю, когда, переписав заводский народ, не досчитались трех сотен людей. Но поднять шум не осмелились, потому что сами попали бы в глупое положение перед сановным хозяином Шембергом.
И после переписи народ из Кушвы уходил, как рыба в дырявую сеть.
В дни и месяцы своих напряженных трудов в Тагиле Акинфий не преминул навестить заводчиков-соседей. Он сумел внушить им доверие, обещал не давать в обиду, пугал страшными рассказами о бунтарских замыслах рабочих; его коварная манера речи, деланое простодушие и покоряющий ореол денежного могущества возымели свое действие. Он сумел приобрести надежных союзников, тем более что при новых событиях каждый русский заводчик на Урале понимал необходимость держаться за других русских.
Ничего не подозревая о «русском заговоре», управители Шемберга, относившиеся с высокомерием и презрением к средним и мелким уральским заводчикам, сразу пошли в наступление на кровные интересы соседей: пытались браконьерствовать с чужим лесом, чужой рудой и чужими людьми. К удивлению Демидова, тихий Осокин первым нанес ощутимый ответный удар: наказал на своей земле схваченных грабителей, пожаловался командиру, пригрозил расправой. Не пожелал разговаривать с обоими «геррами». Запахло крупным скандалом, и «герры» смутились: уж коли такая встреча от Осокина, то чего ждать, скажем, от Акинфия Демидова?
Обескураженные наглецы сразу притихли. Почувствовали, что не на робких напали, и решили ограничить свои аппетиты покамест только своим хозяйством. Правда, хозяину отписывали в Петербург целые победные реляции о почете, с коим относятся к новому владельцу прочие уральские заводчики, особенно сам генерал Татищев.
Акинфий внимательно следил, как вел себя Татищев, поражался его достоинству в столь тяжелых обстоятельствах. Не понравилось было Демидову, что командир лично присутствовал при передаче Кушвинского завода. Но потом Акинфий оценил это, как хитрость: капитан петровской артиллерии просто решил выставить себя перед императрицей как покорный слуга.
Демидов уже заканчивал великолепную отделку тагильского дворца. Укупчивое колыванское серебро в короткий срок помогло доставить в Тагил и лучших мастеров, и баснословные предметы убранства – бронзу, мрамор, малахит, фарфор, ковры: персидские, китайские, текинские. Архитекторы-декораторы ставили предметы по своим местам. Притом, с соизволения Акинфия, делали по законам художества, ставили все капитально, незыблемо, навечно. Если бы кто из потомков задумал в будущем что-либо переставить, след на старом месте было бы не отмыть!
Привезенная из Ревды Анфиса с первого дня удивила Акинфия хваткой заправской домоправительницы. Ее голос был всегда ровен и спокоен, но уж если прикрикнет – слышно во всех закоулках дворца. Прислуга носилась по ее приказаниям, не касаясь ногами пола.
Собственную жизнь во дворце Анфиса обставила пышно в двух покоях. Спала на кровати кипарисового дерева, привезенной из италийской земли. Научилась одеваться по столичной моде, даже завела себе пудреный парик для выхода к столу при гостях. Стала ослепительной русской красавицей, но любовницей Акинфия так и не сделалась.
3
Тот тяжелый майский день был в природе пасмурен с утра. На рассвете Акинфий узнал: в шахте, что врыта в гору Высокую, произошел страшный обвал. Хозяин тут же потребовал верховую лошадь и поскакал на шахту.
После несчастья жизнь в Тагиле как-то притихла. Никого из жителей близко к шахте не подпускали. Жены рудокопов рвали на себе волосы; нарастало глухое волнение, ходили слухи о большом количестве жертв. Лишь в полдень пришли новые вести от спасителей: от них прибежал в слободу шахтеров посыльный успокоить жителей. Сам хозяин велел передать семьям, что раненых многовато, помер только один, притом холостой парень...
* * *
Далеко за полдень к демидовскому дворцу подкатила тройка вороных.
Анфиса, увидев в коляске незнакомого важного барина, сама вышла ему навстречу.
– Дозвольте узнать, с кем имею честь? – спросил приезжий.
– Домоправительница Анфиса Семеновна Кулина.
– Весьма рад. А где же сам хозяин?
– Акинфий Никитич скоро должен воротиться. Он в шахте на Высокой горе.
– Что ж, так и надлежало ожидать. Попрошу передать господину Демидову мое почтение. Скажите ему, что проездом наезжал к нему из Кушвы Василий Никитич Татищев.
Услышав имя грозного горного командира, Анфиса похолодела, но и виду не подала, что разволновалась. Заговорила еще учтивее:
– Помилуйте! Неужели не зайдете передохнуть? Того гляди, дождь пойдет. Прощения прошу, ваше превосходительство, но посмею не отпустить вас в дальнюю дорогу.
Татищеву понравилась и наружность этой величавой женщины, и то чисто русское неподдельное радушие, с каким она вела разговор. Дорога его утомила, пыль набилась во все поры, да и пить хотелось.
– Не обижайте моего барина отказом. Милости прошу, ваше превосходительство.
– Что ж, быть по-вашему.
Анфиса подала гостю руку, чтобы помочь сойти с экипажа. Генерал лишь слегка дотронулся до протянутой женской руки и молодцевато соскочил на землю.
– Вот радость будет Акинфию Никитичу! Сюда прошу...
Анфиса всходила по ступеням рядом с Татищевым. У дверей их встретили с поклонами четверо слуг в малиновых ливреях.
– Спиридон, проводи его превосходительство в аглицкий покой. Двух лакеев приставь. С дороги дальней наш генерал пожаловал. Испить что прикажете покамест послать?
– Квасу бы холодненького, если найдется.
– Все, что пожелаете, – мигом!
Окруженный ливрейными лакеями, Татищев направился к «аглицкому покою» и слышал, как Анфиса распоряжалась на крыльце:
– Петька, духом единым за хозяином. Немедля пусть домой вертается. Горный командир в гостях.
* * *
Ужином угощали гостя в малахитовой столовой, небольшой и интимной. Она отделана от пола до половины стены панелями полированного малахита, а выше до потолка штофной обивкой из серебристо-зеленой парчи. Из малахита и обеденный стол. Кресла черного дерева со спинками, тоже отделанными малахитом. Им же красиво облицована печь. Узор такой подобран камнерезами, что залюбуешься. Люстра на позолоченных цепочках, украшенная подвесками золотистого топаза. Все двенадцать больших свечей зажжены.
В раскрытые настежь окна идет в покой свежесть дождливого весеннего вечера и пряный запах садовой сирени.
До возвращения Акинфия с шахты Анфиса успела показать Татищеву дворец и парк со статуями греческих богинь. Татищев был восхищен британской мебелью и бронзой, итальянской скульптурой, греческими амфорами, севрскими безделушками, но малахитовая столовая больше всего ошеломила и обрадовала его, ибо здесь каждая мелочь была выполнена руками своих уральских умельцев.
Демидов сперва верить не хотел, что Татищев в доме, но, застав здесь гостя, несказанно обрадовался.
Генерала тронуло оказанное внимание. Он даже обрадовался начавшемуся дождю и принял приглашение остаться в «аглицком покое» до завтра.
Анфиса угощала ужином гостя и хозяина. За столом она умела не мешать мужскому разговору. А когда лакей подал на десерт землянику со сливками и бургундское, Анфиса наполнила бокалы и удалилась, провожаемая щедрыми комплиментами восхищенного ею гостя.
Капли дождя гулко булькали в лужах. Хозяин и гость, оставшись с глазу на глаз, чокнулись.
– Хотя вы, господин Демидов, и не сдержали слова о мостике, я, видите, все же ваш гость.
– Благодарен за оказание сей чести. Очень рад посидеть за столом с умнейшим в России человеком.
– Заехал неспроста. Скажите спасибо, что хоть вестей плохих не привез.
Демидов вежливо поклонился.
– Приходится сознаться, Акинфий Никитич, что вы оказались-таки правы в своем предвидении насчет судьбы Кушвинского завода и горы Благодати. Горько мне происшедшее. Вижу гибель заветнейших чаяний. Но воля Eе Величества... неоспорима и неисповедима...
– А неужели нельзя было удостоить таким подарком русские руки?
– Нет, в наше время подобные подарки не для русских. Чудо Урала отдано рукам саксонским.
– Да за что же берг-директору такая милость?
– Он получил орден Александра Невского, а орден сей обязывает награжденного быть крупным землевладельцем. На рождестве герр Шемберг удостоился сего ордена, а в марте, как видите, получил и земельный подарок, при этом самый прибыльный горный завод.
Акинфий вздохнул. На Татищева было жаль смотреть. Но держался он молодцом.
– Да, господин Демидов, обидно! Таких конфузий в делах военных со мной не приключалось. Сам виноват. Государем Петром был к пушкам приставлен, около них и надо было мне смиренно жизнь кончать, а не брать на себя бремя охраны земных богатств Каменного пояса. Обидно видеть русское богатство в иноземных руках. Но духом не падаю, поелику верю, что все русское сызнова придет в должный почет.
– Не покинете наш край?
– Нет. Хотя и незаслуженно обижен, но Урала не оставлю. В благоденствии сего края вижу смысл и пользу моего существования.
Татищев взволнованно смолк. Посидел, склонив голову, обвел взглядом узоры малахита на печи и панелях. Налил себе вина...
– Не друзья мы с вами. Но погоревать о потере Благодати подался к вам. Ведь привязался я к уральской земле. Из-за вас после нашей ссоры некогда покинул ее сгоряча, но понял, что разлука с ней мне непосильна. Но вы в лучшем положении, чем я. Ибо моя любовь к Уралу умрет со мной. У Демидовых же она переходит к потомкам. Скажу откровенно: Строганов навестил меня сразу после вашей встречи в Ревде. Он передал мне все, о чем вы побеседовали. Извольте теперь знать, что я действительно сожалею о своей неуступчивости, сожалею, что Бирону было бы куда труднее вырвать ее у вас в подарок Шембергу, а проще сказать – для себя.
Что ж, как говорится, после драки кулаками не машут, но я убежден: кто-то надоумил Бирона завладеть Благодатью. Хитро надоумил! Сам он не мог до этого додуматься. Эх, дознаться бы, кто подсказал!
Татищев зачерпнул ложечкой земляники, но не успел поднести ко рту, как услышал тихий голос собеседника:
– Я его надоумил.
Выпала ложечка из руки Татищева, зазвенела на столе. Лицо Татищева побледнело. Превозмогая гнев, он спросил столь же спокойно и тихо:
– Зачем же?
– Опасался, что при вашей настойчивости и знании горного дела Кушвинский завод обгонит демидовские. Больно богата ваша Благодать, и больно вы сами опасный соперник.
– Благодарствую за правдивость.
– Но когда я Бирону подсказывал этот ход, надежду имел, что курляндец прикроется русским человеком.
– Ошиблись?
– Ошибся, ваше превосходительство.
– После потери Благодати я всех подозревал, а вас, признаться, нет. Происшествие с Благодатью – это следствие нашего с вами упорного нежелания понять друг друга. Ведь все время в жмурки играли. Давняя обида не позволила мне отдать вам кушвинскую находку. Страх передо мной подвиг вас на опасный ход, и вот говорим сейчас друг другу правду, когда Благодатью и Кушвой владеет иноземец, не ударивший палец о палец, чтобы открыть, разбудить уральское сокровище.
А разве могло быть иначе? Кто мы с вами? Русские. Чем поровну поделить найденный пряник, затеяли ссору, а третий шел мимо и походя слопал лакомую находку.
– Теперь, поди, опять обидитесь на меня?
– Нет. Честно говорю, овладей вы Благодатью, я, должно быть, пошел бы вашим же путем борьбы! Посоветовал бы Бирону отнять ее у вас. Чтобы умерить демидовскую прыть ради пользы государственной. Но вы на Урале первые, и ваше право защищать свое первенство.
– Плохо, что из-за моего совета хозяйничать в край полезли иноземцы.
– Да помилуйте! Не преувеличивайте этой опасности. Гору Благодать Шемберг успеет только слегка пограбить. Зависть остальных хищников не позволит ему стать долговечным хозяином. Вспомните Меншикова. Он – не чета Бирону: и умен, и смел, и русский к тому же. Найдется и для герцога со временем какая-нибудь студеная деревушка. Он в ней замерзнет! Толку не хватит русскую печь в избе истопить. И все Шемберги туда же полетят, с Биронами вкупе. Уж верьте слову!
Вчера в Кушве Фохт жаловался: не могу, мол, понять, почему люди убегают. Голову бедный немчура теряет. Главное, и на Демидовых вину не свалишь – они же всех беглецов под расписку возвращают! Слушал я его, слушал, а сам грешным делом думал: ловко же вы людей у него уводите! Теперь даже, на мой взгляд, действуете по российской законности. Не понять иноземцу гибкой русской смекалки...
Жаль только, что поздновато нас беда заставила одинаково мыслить. Умеете, Акинфий Никитич, врагам мягко стлать, так, что спать жестковато приходится. Уйдут дельные мастера из Кушвы, а вы еще что-нибудь для немцев придумаете. И опять все законно и с расписочками. Плакать будут управители Шемберга, в голос рыдать и при этом верить, что Демидов их первый покровитель. Должен признать, что лучше вас иноземцев от Урала никто не отвадит.
– У меня и без них беспокойства довольно. Российское дворянство опять, как при Петре, против меня подымается.
– Слышал. Все винят вас в воровстве людей. Жаль мне этих жалобщиков. Краснеть им придется. Где улики? Где уж им-то сыскать, коли я сам, на Урале сидючи, обвинял вас в беззаконии, а доказательств не имел.
– Про колыванскую голубенькую руду дознались.
– Правда. Но дознался вашим способом. Подкупом. А что получилось? Вы сами отдали ее в руки государыни и получили звезду за усердие: Российскому государству серебро нашли!
– Вовремя тогда успел, слава богу. Опередил ваше донесение, иначе чесать бы затылок!
– Потому, что в ваших вотчинах эхо громкое. Я чихну в Катерининске, а вы слышите. Вот вы упомянули сейчас про дворян. Знаете, что подумал?
– Что-то не догадаюсь никак.
– За правду не обижайтесь. Я подумал, что вы сами их на себя поднимаете, чтобы власти провели розыск, угодный вам по результатам то есть, чтобы спрятать концы с помощью государственных чинов и обелиться тем самым навсегда.
– Право же, так далеко вперед не заглядывал. Но ежели будет розыск против меня, никто ничего не найдет. Может быть, защищаясь, потеряю немало, но выйду сухим из этой купели. А в прегрешениях против государства только вместе со всем дворянством покаюсь. Мучить и истязать народ в государстве не Демидовы начали. Не Демидовы погнали со всей России народ на Каменный пояс. Смута вокруг престола, смута церковная, жестокость дворянская народ сюда вела; он и помог нам рудное богатство на Урале завести.
Глядите-ка, ваше превосходительство: на Демидова поместная знать навалиться готова, а против Бирона никак не осмелеет. Один Волынский было голову поднял, да живо без нее и остался. Катают господа наши царицынского любимчика на своих загривках. Нет, не видать им моей гибели! Перед ними на колени не стану. По воле Петра я сам дворянин российский, не хуже иных. Только что подковы коням, кои возок моей жизни везут, я сам своей рукой выковал. По сему и уверен, что с этими подковами кони возок мой на любой пригорок вывезут. Ежели начнут меня тормошить, по-медвежьи стану отбиваться. Клочья моей шерсти полетят, конечно, но всех собак мертвыми возле себя положу.
Некому в столице Демидовых осуждать. У всех судий рыла в пуху, а руки в крови. Народ всем судья. Он, может быть, в грядущую пору всех нас осудит. Только, по моему разуму, до этого еще далеко. Сейчас он – как дитя малое, от нас, хозяев, страдает, от нас же и спасения ждет...
Вот так. А земляничку кушайте, Василий Никитич.
Ну, уж если придет крайность и понадобится следы прошлого надежно скрыть, огонь пущу по всей демидовской дороге. Все выпалит.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Лето выдалось жаркое и сухое.
Реки и заводские пруды обмелели так, что дохла рыба. Тысячи лесных речушек высохли до дна. Вода в родниках стала теплой. Рожь и овсы высыхали на корню, шелестели под ветром, как солома. Только на малину был урожай...
Под конец июля лесные царства по всему Уралу занялись пожарами. Уже во многих демидовских вотчинах ватажила стихия лесного огня...
К Шайтанскому заводу огонь подступал вплотную, от его жара паром курилась вода Ревды. При зловещих отсветах пожара, в удушливом дыму, проникавшем во все щели шайтанского дома, медленно умирал чахоточный Василий Демидов, которого отец так и поскупился отправить в теплые края; дядя Акинфий же просто позабыл о племяннике.
С верхнего яруса Наклонной башни в Невьянске Савва со всех сторон видел зарево пожарища. Особенно сильно бушевал огонь возле Верхотурья и Екатеринбурга, в стороне извечных уктусских урочищ. Ночами в Невьянске собакам не было покоя: из горящих лесов выбегало зверье и металось во тьме по заводу.
У местного народа была одна забота: дойдет или не дойдет огонь до их жилья.
Пугая население, отовсюду ползли одни и те же слухи, что за великие грехи против истинной веры весь Каменный пояс выгорит дотла. Народ только молитвами заслонялся от лесного огня. А тот неудержимо катился по краю, верста за верстой, оставляя черную, обезжизненную пустынную дорогу смерти.
Охваченные страхом, жители деревень сбегались к заводам и на берега рек. Из тайных лесных скитов выходили кержаки. Шли по заводским улицам, обвешанные иконами, с пением псалмов, уже не боясь обнаружить себя. Утоляли жажду из общих колодцев. На это шествие никто не обращал внимания, у всех была единственная мысль – не подпустить огонь к своему жилью.
Возле Тагила занялись огнем леса за Высокой горой. Горели они на Баранче и Кушве. Небо над Тагилом день и ночь заволакивали черные тучи смоляного дыма, сыпалась из этих страшных туч пушистая сажа, копоть стояла в воздухе.
Акинфий Демидов много раз в день поднимался на крышу дворца посмотреть на ближние пожары. Загоняя лошадей, скакали к нему со всех концов гонцы от приказчиков с одинаковой вестью: дескать, лесной огонь силы не теряет. Обычные лесные пожары для Акинфия не диковина. Перевидал множество, не раз загорался даже Невьянск. Но в это лето шалый огонь пугал даже Акинфия. Казалось ему, что стихия, как бы опережая его, хотела скорее выжечь следы демидовского прошлого.
Акинфий страдал бессонницей. Бродил по покоям дворца, погруженный в раздумья. Те, о ком он столь откровенно беседовал с генералом Татищевым, поместные дворяне, уже начали травлю. Сыпались тайные донесения из столицы. Он уже знал, кто из крупных дворян особенно ретиво старался действовать против него. Ему стало известно, что к помещикам присоединились некоторые иноземцы, мечтавшие нажиться на этой войне русских против русских. Столичные сановники мечтали повалить Демидова и растащить его богатства, а знать мелкопоместная, обедневшая молила императрицу учинить против Демидова строгий розыск, рассчитывая поживиться хоть крохами от демидовского имущества, когда вина хозяев будет установлена и начнется жестокая расплата с ним.
С каждым днем вести из столицы становились все безрадостнее. Акинфий не терялся перед ними. Его разум от страха светлел. Он уже отослал верных людей к обиженным помещикам, причем кое-кто, уже получив деньги за угнанных людей, просил теперь за молчание новые подачки. Немало было и таких, которые, не моргая, заламывали за своих дворовых непомерные деньги. Демидовское серебро со звоном ссыпалось в помещичьи карманы чуть не по всей России. И тянулись за ним все новые жадые руки.
В уральских вотчинах приказчики тщетно выпытывали у наловленных «шатучих» правду о прежнем местожительстве. Беглецы упорно молчали, их пытали, но и под пытками большинство не развязывало языков. В заводских конторах задним числом составляли купчие крепости и скрипом перьев заметали следы охоты на людей.
Русский народ крепок молчать. Самых упорных сотнями сгоняли на Ялупанов остров, а на нем сызнова пытали, выколачивая признание: чей, мол, будешь?
Столичные друзья Акинфия умело препятствовали началу розыска, за что тоже требовали платы. Денег просили даже те, у кого и своих было более чем достаточно.
Из донесений приказчиков Акинфий знал, что больше всего краденых, тяглых и беглых принято на заводах брата Никиты.
Тот на допросах забивал людей насмерть, но по своей жадности не подчинялся приказу Акинфия насчет оплаты за них подушных.
На просьбы Акинфия о заступничестве герцог Бирон осторожно отмалчивался, хотя пересылаемое серебро и подарки принимал без отказа. Атмосфера вокруг Акинфия накалялась, веяла бедой, как ветер с уральского лесного пожара.
2
В последний день июля над Тагилом пролился спасительный грозовой ливень. Под громы и молнии он лил больше часа. Ревущие потоки воды неслись с предгорий в реку и пруд. Ливень сшибал высушенную зноем листву.
Гроза притушила пожар за Высокой. Под вечер Тагил окутался дымом, похожим на туман, и всякий человек на заводе вздыхал облегченно, понимая, что дым означает: лесной пожар залит!
В сумерки Акинфий и Анфиса вдвоем пили чай на балконе. К подъезду подкатила дорожная тройка, из мокрого экипажа выскочил забрызганный грязью Прокопий Демидов. Перескакивая через лужи, он вбежал в дом.
Бросив оторопевшему слуге плащ и шляпу, оставляя мокрые следы на паркете, Прокопий вбежал на второй этаж и прямо направился к балкону.
Анфиса, не знавшая в лицо Демидова-сына, сурово нахмурилась, встречая незваного гостя:
– Куда вы? Извольте подождать!
Но Акинфий уже обнимал сына. Догадливая Анфиса поклонилась и тут же незаметно стушевалась. Отец и сын остались одни.
– Кто эта дама? – спросил Прокопий отца.
– Домоправительница моя... Простая кержачка, голоса не поднимет, а челядь у нее по струнке ходит... Чем встревожен, сынок?
– Леса твои горят, отец. Верст двадцать сейчас по кромке пожара ехал.
– Горят, сынок, сколько ни тушим. И просеки рубили, и канавами окапывали, а все горят. Экая засуха, не приведи бог! Да вот нынче первый хороший дождь. Пожар за Высокой притих. Дымом весь завод заволокло. Такой дым молочный хорошее знамение. С чего вдруг прилетел нежданно-негаданно?
– Как понимаешь, неспроста.
– Началось, стало быть? Уж не томи. Рассказывай.
– Бирон велит тебе немедля в Петербург прибыть. Помещики целыми губерниями на нас жалобы в Сенат подают. Пока эти жалобы еще в руках герцога, но принимает жалобщиков весьма ласково.
– Боюсь, что в Петербург мне сейчас ехать не время. Весь Урал в пожарах. Пока только леса полыхают. Как бы... в народ искра не перекинулась.
– Неужели может?
– Вот именно! Ты, сынок, догадлив. Лесной пожар дождем зальет, а уж бунт народный не погаснет, пока все не испепелит. Так зачем же я столь срочно герцогу понадобился? Там и без меня все ясно.
– Брат Бироиа намекнул мне, что помещики розыска требуют, а чтобы не допустить сего розыска на Урале, герцог с тебя спросит.
– Сколько же?
– Вот и хочет сам тебе при свидании сказать.
– Как здоровье Ее Величества?
– Государыня больна.
– Знает про жалобы?
– Знает. Но решения еще не утвердила.
– Ждет совета.
– На наше счастье, батюшка, в Сенате несогласие. Не выберут, кого послать на Урал с розыском против нас. Можно полагать, что князь Вяземский приедет...
Акинфий гневно стукнул по столу.
– В Петербург, видимо, ехать мне придется. Но Бирону, коли розыск назначен, ни рубля больше давать не хочу. Хватит! Спасибо, что сам эти вести привез. Радостно мне, что тревожишься за судьбу отца. Ступай теперь от дорожной грязи отмываться, так она тебя разукрасила, что и признаешь не сразу. Страху не поддавайся. Понятно, шум в столице поднят, но разве это впервые? Говоришь, могут князя Вяземского прислать? Это было бы неплохо. Жирен, медлителен, спать горазд, значит, поедет не спеша. На подачки охотен не хуже Бирона, а берет куда меньше. Мягкую рухлядь любит, а ее у меня в Невьянске припасено... на три розыска, не то что на один... Ну, ступай, ступай, а то даже Анфиса в тебе не сразу хозяина угадала...
3
Горели уральские леса.
У одной грозы, пролившейся над Тагилом, не хватило воды порушить огонь в целом крае. Не хватило у матери-природы туч укрыть ими все уральское небо.
Акинфий за ночь продумывал, что ему делать в ожидании событий, предсказанных сыном. Решение ехать в столицу в нем окончательно укрепилось, но предварительно Акинфий надумал побывать в Невьянске и Ревде.
Невьянск – уральский детинец демидовского могущества. Там – корни, уходящие в глубь темного прошлого. Именно в Невьянске тридцать семь лет назад Акинфий стал получать свои законные и незаконные барыши не только с отлитых пудов железа...
Хватило у отца и сына Демидовых ума и жестокости, чтобы проложить нелегкие дороги от тульской кузницы к дворянскому званию и легендарному богатству. Теперь должно хватить тех же качеств у одного Акинфия, когда придется отчитываться в том, как прокладывались эти дороги и откуда у заводчика набралась та людская сила, что поставила заводы и вырыла шахты.
Кому-кому, а уж Акинфию-то известен подлинник запутанной и много раз переправленной для потомства летописи демидовского рода. Писалась она с большим привиром, а творилась как раз на старом заводе в Невьянске. Откуда бы и взяться сверхприбылям, если бы подати и налоги платить по закону в казну, поступать праведно и строго блюсти государственные порядки? Кто нажил на Руси каменные палаты праведным путем? А палаты у Демидова под стать петербургским.
Тридцать семь лет никто не смел Акинфия спросить, откуда что взялось, а теперь нашлись готовые пошарить по демидовским карманам. По законным записям отпущено ему при землях и заводах двадцать шесть тысяч людских душ, а начни сейчас пересчитывать людей в его вотчинах – наберется их не меньше сорока тысяч. Откуда лишние люди? Кому уж за пятьдесят перевалило? Чей народ? В точной памяти Акинфия не стерлись заметки чуть что не о каждом, но память – не подушная книга, ее следователю не дано перелистывать... Вот тот обрадовался бы! Ибо в памяти сохранены все беззакония...
Не одна тысяча людей наловлена. Как зверей в капканы, ловили «шатучих» и староверов в лесах. Теряли счет угнанным от помещиков. Немало каторжан набежало добровольно. Сами Демидовы не знали, откуда раскольники, ибо не открывали они родных мест, решив забыть их на Каменном поясе. Обо всем этом молчит писаная летопись.
Но следователи из столицы пожелают доискаться о каждом чужом у Акинфия. Куда девать этих «чужих» от розыска? Люди не камни, в заводские пруды для сохранности не спустишь. И если розыск найдет и откроет всех, тогда не хватит у Акинфия серебра откупиться перед законом. И в леса «чужих» не упрячешь – разбегутся куда глаза глядят, потому что за Уралом и Сибирь есть.
Напасть неизбежного розыска Акинфий предвидел давно и готовился к тому исподволь. Не за одну тысячу людей, некогда наловленных, задним числом вносили какую-то плату законным хозяевам, которые с грехом пополам соглашались взять хоть шерсти клок с «паршивой овцы»... В самом деле, лучше получить за беглого хоть что-то, чем пускаться в разорительную тяжбу с богачом. Но оставались и еще тысячи «чужих», которые еще ничем не выкуплены. Оставались такие, кто до конца не сознался, от какого помещика убежал. Выходило, на заводы к Демидову они упали с небес, а это весьма кстати для злонамеренного следователя.
Акинфий не сомневался, что розыск начнется в Невьянске. Где добычлевее всего поиск, как не в старой кладовке, где больше всего позабыто уличающего хлама? Видимо, известно в столице и про Наклонную башню, и про ее подземелья, излаженные якобы для хранения медной руды. Следователи непременно пожелают посетить их.
Вот когда Акинфий радовался, что при стройке башни сумел заглянуть вперед, соединив пруд с подземельями. Пустить воду, коли придет крайность. Она все зальет: тех, кто замурован в стенах навечно, и тех, кто погребен в башне заживо, чтобы чеканить рубли. Конечно, заливать их водой жаль. Трудновато ему обойтись без собственных рублевиков, но ради спасения демидовской чести нельзя останавливаться и перед затоплением башенных подземелий.
Придумывая, как оттянуть розыск, Акинфий вздыхал. Перед следователями дороги канавами, увы, не перекопаешь. Рано или поздно посланцы Сената доедут до Урала. С Бироном же, мало того, что на подачках разоришься, еще и дело иметь ненадежно: обманет! Взвесив все, Акинфий решил розыску препятствий не чинить, а все старые беззакония успеть в земле схоронить и в воду погрузить...
Шестой раз демидовское небо заволакивают тучи грозящего следствия. Пять гроз, отшумев над заводчиками, пролились пустяшными дождями. Но это было при Петре. Он ценил заводчиков и знал, что во всем государстве только он и не запускал лапу прямо в казну. Ныне сенатская гроза собиралась не на шутку. Целый год сгущались тучи, гремел отдаленный гром, и поток обещал смыть род Демидовых с Урала, если не устоит на ногах Акинфий Никитич.
4
Оставив Прокопия в Тагиле управлять делами, Акинфий побывал у брата, а из Ревды поехал в Невьянск.
Тройка бежала под луной по знакомым лесным дорогам. На горизонте все еще полыхали отсветы пожаров, запах гари ощущался сквозь смолистый хвойный дух ночного леса.
Уставший от споров с больным братом, Акинфий уснул, хотя любил лесные дороги, когда ночью все знакомое меняется до неузнаваемости.
Разбудил его собачий лай на околице Невьянска. Удивился было молчанию бубенцов, но сразу вспомнил, что сам велел подвязать. Сейчас не до звона!..
Занималось утро. Грозной и мрачной показалась ему Наклонная башня среди темных туч. Колокол и куранты как раз отметили пятый утренний час.
Невьянск уже пробудился. Рабочие, узнавая хозяина, на ходу снимали шапки. Когда тройка остановилась у въездных ворот и сторож как угорелый кинулся к билу, чтобы поднять на ноги все селение, Акинфий остановил его окриком:
– Не смей!
У себя во дворе Акинфий, разминая затекшие ноги, прошел мимо избы Шанежки. Как пусто! Бродили по двору одни куры да голуби. Но в стойлах по-прежнему фыркали кони, а в хлевах пересмеивались доярки.
У черного входа Акинфий столкнулся со старшим кучером Михаилом. При виде хозяина тот утерял дар речи.
Темным коридорчиком, с запахом прокисшего, Акинфий дошел до людской трапезной, разобрал за дверью голос стряпухи Дементьевны. Она бранила конюхов за обжорство:
– Разленились без настоящего дела, бока отлежали, а по целому котлу уминаете. Больше не дам, проваливайте!
Узнав хозяина, все повскакали из-за стола, а Дементьевна запричитала.
– Живы, бездельники?
– Твоими заботами, батюшка!
Дементьевна кинулась было по соседству будить старого Самойлыча.
– Не тронь старика. Шанежку ко мне.
* * *
Акинфий пал на Невьянск как снег на голову. В первый же день побывал на Ялупан-острове, сам повидал согнанных туда наиболее упрямых «молчальников», Шанежку разносил беспощадно. Обнаружил на заводе большие неполадки. Убедился, что дела в его отсутствие велись спустя рукава. От хозяйского разноса приказчик покрылся холодным потом.
Поздним вечером в портретном зале, уже при свечах, Акинфий наставлял приказчика Шанежку. Камердинера Самойлыча он послал в башню за Саввой.
Хозяин мерил зал шагами, заложив руки за спину. Приказчик был белее бумаги, стоя переминался с ноги на ногу. Слишком хорошо он знал, что сулит ему сухость в хозяйском голосе.
– Конюхом тебе быть, а не делами управлять. Мараешь славу старого завода.
– С народом туго приходится. Озверел он. Зубатят в ответ.
– Зубатят? Плетей, что ли, у тебя нехватка? Свою вину на чужие плечи перекидываешь? Хитер, рыжая лиса! Слуги жалуются, что ты, морда наглая, девок во дворец водишь. Ноги чтобы твоей больше во дворце не было. Слышишь?
– Слушаюсь.
– Теперь твердо запоминай, что прикажу. Поутру сам возьмись за дознание на Ялупане. Тамошний смотритель больно жалостлив. Каленым железом молчальников жги, а правду узнай, откуда кто ко мне явился. Сколько сейчас всего на Ялупане?
– Не боле четырех сотен.
– Тех, кто не признается, держи на Ялупане, покуда мой гонец из столицы сюда не прискачет. Получишь от меня знак через брата Никиту – всех упрямцев под башню в казематы сведешь. Тогда на Ялупане годовые избы попали, отсидные ямы засыпь.
– Все исполню. А с теми, кого под башню, что прикажешь?
– А это уж не твоя забота. Там Саввино слово закон. Скоро брат сюда из Ревды наедет с Мосоловым. С Прохором не задирайся, он старше тебя по службе.
– Распорядку его чиниться?
– Смотря в чем. Слушай, о чем скажет, а ладь как сподручнее. Только одному Савве во всем чинись. Его больше брата слушайся.
– С серебром как велишь, кое там в коробах и в гробах?
– И о том Савва позаботится. Сторожам у всех ворот вели ворон ртами не ловить. Чтобы о всяком чужом человеке доносили тебе незамедлительно: судьбу Невьянска тебе вручаю. На заводе о столичном розыске никому ни слова. Оплошаешь – сам себе могилу рой. Понял меня?
– Как не понять!
– Тройку мою после полуночи тихонько подашь. Как уеду – ходи по заводу с веселой рожей, никакой тревоги сам не выдавай и в людях не разводи.
Опираясь на черемуховую трость, на пороге зала появился Савва. Он будто уменьшился ростом и глухо кашлял.
– Мир честной беседе! Наведаться к себе повелел, хозяин?
– Здорово, староста башенный! Ступай, Шанежка.
Старик проводил приказчика насмешливым взглядом.
– Видать, хозяин, насыпал ты ему соли на все места. Совсем притих. А ведь от спеси да от водки вовсе раздулся, башку потерял.
Савва с удовольствием осматривал зал, будто никогда не видел.
– Знатное место! Только всякое слово здесь будто громом отдается. Ежели беседовать позвал, пойдем лучше в отцов покой. Не по себе становится при эдаком богатстве. И глядеть-то на такое отвык.
Демидов взял канделябр.
– И то. Идем к отцу, дед Савва.
Когда вошли в покой Демидова-отца, Савва осенил себя крестным знамением.
– Садись.
– Постою. Ноги держат.
– Неможется тебе, старик.
– Весь поскрипываю, как немазаная телега. Тяжко стало, как леса кругом огнем взялись. Жалко их. Спать не могу. Никогда раньше так не горели.
Савва разговаривал стоя и не сводил глаз с портрета царя Петра.
– А я ведь помню, как сей царский лик сюда привезли. Непогода была страшнущая. Офицерик его привез. С виду молоденький, а уж важен, куда тебе... Пошто неожиданно прикатил? Неужли опять на тебя, что на медведя, ловчих спустили?
– Розыск против меня в Сенате надумали.
– Так что же из того? Впервой, что ли? Плюнь ты на этих ловчих, Акинфий Никитич. Бывали у нас царские следователи. Отъедались на даровых харчах. Иные в баньках париться любили, другие с девушками пошаливали да и отъезжали в обрат с подарочками. И вся гоньба.
– На сей раз, Савва, гоньба построже и охотник покрупнее.
– Да какой там охотник! У нас на все свой сказ есть, чтобы ответ держать. Аль позабыл, как покойный родитель твой говаривал: «Де на наших, мол, демидовских шашнях комар носика не подточит»? Видать, не я один старею. И к тебе она, знать, подобралась, старость тревожная. Тоже велит, как и мне, обо всем думать да беспокоиться. Ты тоже от того притомился.
– Дело к тебе у меня нынче немалое. Прошу тебя, сядь тут рядом и давай-ка вместе это дело обмозгуем.
– Постою. Это ты при царях и царицах сидеть за картами приобык. А я и перед нарисованным не сяду. Не неволь. Сказывай свое дело. Послушаю я, а ежели надобно, и запомню.
– Вернее тебя, Савва, у меня человека нет.
– В том сумления не имей.
– Беглых людей хозяева на меня царице нажаловались. К ответу требуют за всех пойманных.
– Ишь ты! А царица писала такой закон, по которому нельзя шатучих да кержаков ловить? Ежели бы не ловили, кто царю Петру пушки бы лил? Зря ябедничают. По-доброму с тобой куда сподручнее. Они бы лучше попросили на бедность серебришка, чем ябедничать, вроде ребятишек малых.
– С розыском важный князь прибудет.
– Да пускай его. Толк один. Князь! Чать, разум-то у него один в голове, второго про запас не носит. А с одним разумом, хотя и раскняжеским, неужто Демидов не поспорит? Для Уралу и сам ты – князь, да еще и набольший.
– Шутишь все, старик. Уж какой я князь: в холщовой зыбке мать укачивала.
– Что-то, хозяин, ты нынче по-чудному речь ведешь. Ты пояснее мне растолкуй, чего надобно для тебя изладить. Какие, скажем, канавы нарыть, чтобы у княжеского возка оси переломились. Что от розыска ты над собой не убережешься – про то я давно чую. Больно разошелся и рубликами, как овсом, раскидываться стал. Это к добру не ведет. Позабыл про людскую зависть? Стало быть, для меня опять подошла пора концы топить.
– Так думаю.
– Ну и утопим. Без пузырей потонут.
– Так ведь в башню-то... придется людей прятать, кои не объявятся.
– И их спрячем.
– Сколько под башню загнать можно?
– Ежели во все казематы, то немало.
– Под башню повелел я всех молчальников свести.
– На отсидку? Крика бы не подняли. От площади близко. Услыхать могут.
– Недолго накричат. Захлебнутся.
Савва вздрогнул, посмотрел в глаза Акинфию.
– Вон что надумал? Так ведь перво-наперво вода чекальню зальет.
– Серебро снесешь в Цепную залу. Ту не зальет.
– Кто его знает! Гляди, как хлынет. Воды в пруду вдосталь.
Демидов достал из кафтана две половинки разрубленного кольца.
– Вот гляди. На две половинки порушено. Половину с изумрудом сейчас тебе отдам, а половину с рубином с собой в столицу возьму. Ежели прискачет к тебе от меня гонец со второй половиной, тогда в третью полуночь после приезда гонца пустишь под башню воду из пруда.
Савва показал хозяину свои старческие руки. Они заметно дрожали.
– Не хватит в таких руках силы шлюз поднять, да и осмелюсь ли на такое дело?
– Грузило запасное на шлюз урони. Проломит. Канат на крюку. А канат перерубить – и твои руки сгодятся.
– Так то проще простого. Только...
– Что замолчал? Или откажешься?
– Отказываться мне нельзя. Весь грех все одно на тебе, хозяин. Ты топор, а я топорище. Рубит сталь, а не деревяшка, хотя одно без другого ни доброго, ни злого дела не сладят.
– Только один ты и будешь знать про это.
– Кому же еще и знать?
– Принимать столичных гостей брат Никита сюда из Ревды приедет.
– Зря.
– Иначе нельзя. Я в Петербурге буду. Обязательно надо кому-нибудь из Демидовых гостей принимать.
– Прокопа бы прислал.
– Гм. Как же ты узнал, что он в Тагиле?
– Сам сейчас сказал, а я ведь и не ведал сего. Только видение мне недавно было, и понял его, что недалеко Прокоп. Сусанна приходила. Покойница меня частенько навещает.
– Это тебе все сие мерещится.
– Нет, не мерещится. Не я ее загубил. Кого своей волей и злобой тебя ради губил, те мерещатся и пугают меня. Вот и Самойлыч сказывал, что она в лунные ночи по дворцу ходит, даже вещи иные со столов скидывает. – Демидов сердито поднялся с дивана. – Да ты не пугайся, Акинфий Никитич. Живые страшнее. Всякое видение только тень, ножа у нее в руке нет.
– Будет об этом! Держи половину кольца.
Савва нехотя взял из рук Демидова половину разрубленного кольца.
– Дал бы господь никогда не держать вторую половину. Пойду, стало быть? Чуть не забыл: с кержаками-то, кои рубли чеканят, как же быть?
– Сам думай.
– Ладно.
Взяв канделябр, Демидов пошел впереди Саввы. Довел старика до парадной двери, увидел колонны, исчерченные полосами теней. Ярко светила луна.
– Светленько, как днем, хозяин, ехать безопасно. А на пеньки все же поглядывай, время тревожное. – Спустившись со ступеней, Савва остановился. – У царицы в Петербурге не засиживайся. Охота мне на тебя еще разок поглядеть, уж хоть апосля всего.
Савва зашагал по двору. Длинная тень еще долго колебалась, отделяясь от подъезда. Налетел порыв ветра, пошевелил листву и погасил свечи в канделябре...
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
К югу от Невьянска глухомань хворых лесов.
Деревья любого роста – сплошь в коростах грибков и лишаев, ветви сосен и елей теряют хвою, сохнут. Не могут эти леса долго противиться ветрам: не проберешься сквозь бурелом и завалы. Путь по этой глухомани не легок и не радостен. Если удается кое-как преодолеть чащобы, ждут путника мшистые, зыбучие трясины. Даже зверь обходит эти гиблые места, а у людей здесь от страха дух перехватывает. Таков путь к Ялупанову острову, где люди российские преображаются в людей «демидовских». Островом зовется оттого, что небольшой участок болотистой и сырой тверди окружен со всех сторон зыбучими трясинами среди непроходимых дебрей хворого, угнетенного леса.
Путано вьется в болотах тропа-невидимка к острову. Даже бывалые люди ходят по ней только в дневную пору: одного неосторожного шага довольно, чтобы соскользнули ноги с тропы, потерял идущий опору и тут же ухнул по самую шею в липкое тесто зыбуна. Выбраться из него человеку невозможно. Сдавит зыбун тело, выжмет из груди дыхание, и успевает человек только вскрикнуть перед смертью.
Демидовские люди ненавидят эту губительную глухомань. Из живой твари водятся там одни насекомые, да прячутся на время линьки глухари и тетерева. Для пернатых здесь много брусники и морошки, да отпугивает гнилой, хмарный дух этих проклятых мест.
Савва случайно нашел в болотах этот островок суши, когда гнался по следу за кержаками. Беглецов он поймал уже на самом острове, осмотрел его и посоветовал Демидовым наладить на нем лесную тюрьму. Хозяевам мысль Саввы понравилась. Ему они и приказали осуществить задуманное.
С тех пор стали толпами приводить на лесной остров пойманных людей, чтобы обрастали волосами и приобретали «демидовский» облик. Приводили их сюда обычно с завязанными глазами, поэтому тропы никто запомнить не мог. Да и были многие участки ее покрыты болотной жижей, провожатый сам держал направление по створам, и потому побег на волю отсюда без проводника был невозможен.
Название острову дал сам Савва: «Лупани попробуй». Так в народной молве и прижилась эта кличка, рожденная из похвальбы тюремщика, только в сокращенном и искаженном виде: остров Ялупанов.
Более четверти века работал остров на Демидовых, перелаживая и облик, и души людей. Сколько людей обросло здесь страшенными волосами, никто точно не знал. Редкий человек, изловленный приказчиками, не смирялся духом. Большинство в конце концов покорялось здешним порядкам. Но про всех, кто убегал, люди хорошо помнили. За все существование тюрьмы ушло не более десятка смельчаков, но остальные узники не знали, удалось ли беглецам выйти из трясин на волю.
За последние годы остров частенько пустовал: реже ловили «шатучих» людей и церемонились с ними меньше с тех пор, как Демидовы стали хозяевами края.
Временами Акинфию казалось, что надобность в острове вообще миновала, но он не любил «зорить» прежние, отцовские установления, порядки и памятки, а кроме того, помнил, что в большом хозяйстве и веревочка годится.
Этим летом, когда в вотчинах пошли приготовления к приезду столичных ревизоров для розыска, на остров стали опять сгонять людей, не желавших признавать свои настоящие имена. Глухомань болотная снова ожила. Опять комары и гнус жирели на людской крови.
Людей, «не помнящих родства», набралось на острове много. Но теперь Акинфию понадобилось расшевелить память беглых. Иначе столичные ревизоры могли наткнуться на живые улики и получить неожиданные признания. Демидовские каты вновь принялись за свое ремесло. Молчальников допрашивали, но те ухмылялись в бороды и по-прежнему молчали. Кремневый этот народ раз навсегда решил не возвращаться памятью к давно забытому, не верить ни хозяйским угрозам, ни хозяйским посулам.
Каты в поте лица нещадно пороли узников. От крови разбухали ремни плетей, а избиваемые молчали. Шанежка плевался от злости на такое упрямство.
Разумеется, крепость слова о вечном молчании подчас и сдавала. Люди, вовсе не привычные к плетям, открывались, вспоминали все по порядку: откуда родом, по каким причинам убежал от прежних господ на Урал. Тех, сознавшихся, уводили с острова на привычную работу, а конторские писцы придумывали, как лучше подвести признатчика под букву закона, то есть как оправдать перед ревизорами «укрывательство» беглых.
А в августовские дни совсем тесно стало на Ялупане. Годовые избы набили людьми до отказа, да и в земляных ямах было не свободней.
Хозяин уехал в столицу, а Шанежка по хозяйскому приказу вел дознание. Как ни старался, а за день ему признавалось два-три человека. Забивать насмерть опасался. Как ни вертел, все выходило плохо, а время летело, и в любой день мог прискакать гонец от хозяина с приказом отправить людей под башню. Было же этих живых людей на острове около трех сотен.
В самом Невьянске для Шанежки тоже не стало веселья, особенно после приезда Ревдикского оборотня. Мосолов все выше задирал нос, за всякую малость обидно обзывал Шанежку. Грубить же Прохору Шанежка не отваживался, памятуя хозяйский наказ. От волнения, злости и страха Шанежка на острове дурел и сатанел.
2
Ночь над Ялупановым островом бирюзовая от луны. Над лесными топями – марево белесого тумана. Обильно пролилась августовская роса. От ее водяных бус на земле прохлада. Тени расплывчаты и неярки из-за туманной дымки.
Дымятся костры, около них спасаются от гнуса люди. Поют унылые песни о своем горемычном бытье, где не поймешь, что больше жалит, хозяйская плеть или комары. Зябко людям от сырости, но и в избах и в ямах тот же гнус, впридачу к темноте и духоте.
Уже четыре дня, как Шанежка дознание прекратил. Выдохся!
На каменистой кромке острова в какой-нибудь сажени от начала зыбкой топи трепыхалось пламя костра, разложенного под корнями вывороченного дерева. Вспышки огня искалывали лоскут дыма кумачовыми и желтыми иглами. Капли осевшего тумана на кустарнике загорались блестками.
У костра, спиной к омшелому камню, сидел седой желтобородый доменщик Кронид из Шайтанского завода. Демидовские захребетники поймали его года два назад вместе с малолетним внуком. Даже на Ялупанов остров их пригнали вдвоем. Сейчас мальчик лежал на постланном зипуне, положив на дедушкины колени русоволосую голову, повязанную кровавой тряпицей. Утром у паренька подручные Шанежки дознавали про деда: думали, не выдержит дед, сдастся и откроется, чтобы спасти внука от порки, но старик молчал, только слезы точил.
Избитый паренек у костра все еще стонал от боли. Старик жесткой рукой неумело гладил обросшую длинными кудрями голову мальчика.
Огонь в костре поддерживал мужик богатырского облика. Он сидел прямо на земле, по-татарски поджав ноги. В демидовских вотчинах дали ему прозвище Головешка – был он углежог из-под Тагила. На бугорке чуть в стороне лежали еще четверо, укрываясь от гнуса холстиной дыма. Эти четверо давно завели протяжную песню про людскую долю и бесталанную жизнь.
Издалека в топях слышался рев сохатого, загнанного в трясину зверем. Лось давно ревел, но уже все тише и тише. Наконец рев совсем прекратился. Кронид сказал сокрушенно:
– Вот и зверя задушила топь!
Никто не обратил внимания на эти слова. Кое-где подавали голоса совы. Мальчик глянул на небо и заплакал. Кронид спросил ласково:
– Чего, родимый? Аль сон какой привиделся?
– Утра боюсь. Солнышка боюсь. Опять лупить станут.
– Ну нет, Петенька, боле не тронут. И так чуть душу живу, окаянные, не выхлестали.
В беседу деда с внуком вмешался углежог, протянул мальчику хлебную корку. Тот покачал кудрявой головой:
– Пить хочу, дяденька.
– Сейчас. Родничок тут под боком.
Мальчик приподнялся, отпил ледяной воды из оловянной кружки.
– Сохатый-то пошто смолк, дедушка?
– Засосало его в топи.
– Значит, не вызволил его господь?
– Из такого клятого места и господу нелегко живую тварь вызволить.
Из-за вывороченных корней показалась голова рыжебородого мужика в драной шапке.
– Ох и ласковый у вас огонек! Как тебе, Петюшка, можется? Дивился я утрось, как ты плети переносил. Сдюжил!
Мужик подошел к костру, огляделся воспаленным взглядом, снял шапку, стал объяснять, зачем явился к чужому костру:
– К нашей стороне гарь наносит. Душит меня кашлем хуже дыма и глаза до слез грызет. Земля в трясине горит. Оттого дух непереносимый.
Кронид кивнул.
– Торфяники горят. Сухота ноне. Слава богу, леса притухли, однако земляной огонь страшнее. Сам-то чей? Как величать?
– Макарычем зовут. С Чусовой пригнали. Люди сказывали, седни приказчику осьмнадцать душ открылось.
Углежог перебил презрительно:
– То слабожильные.
– Утром и я, кажись, откроюсь. Мочи нет боле.
– Да ты что? – удивленно спросил Кронид. – Дуреешь?
Как бы оправдываясь, Макарыч добавил со вздохом:
– Шесть разиков под плетями лежал. Хватит!
– Гляди-кось, шесть приступов вытерпел, а теперь открыться решил?
Углежог обозленно плюнул.
– Открывайся, дырявая душа! Небось Демидов к прежнему барину на руках тебя отнесет. Здеся как Сидорову козу драли, а там за убег еще почище отмолотят. Хлипкой народ пошел.
– Обещают не отсылать. А здеся под плетями все одно смерть.
– Ты мне лучше, браток, скажи, с чего это Демидову наши сознания понадобились?
– Блажит на старости. Подыхать ему скоро, вот и решил в поминальник наши имена записать.
Из четверки лежавших на пригорке поднялся молодой парень, перепачканный копотью и сажей, без рубахи, с грудью, исцарапанной до крови, и сказал:
– Другая тому причина. Розыск царица супротив невьянского хозяина подняла. Наши бары ее на это науськали. Захотелось им за нас деньги получить.
– С Демидова-то? Скажешь тоже!
– Истинную правду говорю.
– От кого дознался?
– У нас в Шайтанке весь народ про то знает.
– Коли так, почему не откроешься?
– Потому, не дурак. Не желаю, чтобы барину за меня еще деньги заплатили.
– Не мути нас присказками. Коли ведомо тебе такое – помалкивай в тряпицу. А то услышит кто из катов, всех нас за тебя закопают раньше Еремени, – забеспокоился Макарыч.
– Трус ты! В самый раз тебе только признаваться да и товарищей заодно выдать.
– На такое не шел и не пойду. Пошто обидное слово молвил?
– Все одно трус. Мне на все плевать. Я и самому Демидову скажу, что ему от розыска все одно не уйти.
– Погодите! Слушайте, братаны, в топи кто-то кашлянул!
– Блазнится тебе, Кронид.
Но все ясно услышали, как в тишине зловещих зыбунов кто-то кашлял.
– Живая душа ходит! – прошептал углежог. – Кому бы это по трясине шастать? Блазнится всем нам.
Кашель повторился ближе. Людей у костра охватила оторопь, когда зашевелились ветки ближних кустов. Из тумана вышел человек. Озираясь, приблизился к костру.
– Мир вам, люди добрые. Стало быть, у теплинки греетесь? Давненько я из лесу ваш огонек приметил. Невдомек было, кто в глухомани эдакой его палит. Хотел сторонкой обойти, да еле ноги вызволил. Болота тут.
– А ты, человече, хоть знаешь, где шел и куда пришел? – спросил пришельца пораженный углежог.
– Как не знать! Лесами и болотами шел.
– По трясине ты пришел, где ни зверю, ни человеку пути нет.
– Свят, свят, свят! Чего ты сказал: по трясине? Что-то не видал ее. Все время лесом шел. Он на трясине не растет.
– Топями, говорят тебе, ты пришел.
– Шуткуешь? Да разве по топям пройдешь?
– Значит, пройдешь, коли до нас добрался!
– Будет пугать-то! Лучше сказывайте, мужики, чего тут робите?
– Демидовские мы. На дознатие согнаны. Плети по нашим хребтам пробуют.
– Чудеса! Вас плетями хлещут, а вы сидите? Чать, цепей на вас нет. Пошто не убегаете?
– Куда по трясинам убежишь? Нас сюда по тропке пригнали с повязанными очами. Вот и сидим.
Пришелец недоверчиво огляделся, зябко тер руки.
– От ваших сказов в холодок кинуло. Дозвольте обогреться.
– Что ж, погрейся.
Пришелец сел, протянул руки к огню. Теперь люди хорошенько разглядели его. Ростом низенький. Лицо в морщинках. В хилой бородке все волоски можно пересчитать. Треух надвинут по самые брови. Подол рыжего зипуна весь в бахроме. Только глаза лучистые и живые. Поблескивают там искорки душевной доброты, и не боятся они того, что видят перед собой.
– Откелева шествуешь? – спросил углежог.
– Про то покамест толковать рановато. У всякого здешнего дорожка издалека.
– И то. Знамо дело, издалека, коли на Ялупан лесами по доброй воле пришел и душу живу сберег! – В тоне углежога звучала насмешка. Видимо, он заподозрил какую-то хозяйскую хитрость, может, новый прием допроса...
Но пришелец подскочил как ужаленный.
– Стало быть, я на Ялупан вышел?
– Знамо дело.
– Спаси господи! Говорили мне про него! Худое сказывали!
Взгляды всех становились все менее дружелюбными. Углежог прямо спросил пришельца:
– Ты лучше, тухлая душа в лаптях, сказывай, зачем сюда притопал. По тайной тропе, паскуда, шел? Подлость в тебе небось приказчикова?
– Какого приказчика?
– Демидовского. Шанежкой кличут.
– Не слыхивал про такого.
– Не слыхивал, старый мухомор? Небось сам приказчик тебя и подослал к нам, чтобы ты чудотворцем прикинулся да правду про нас выпытал. Смотри, пришибем тебя, Иуду, так и греха на душе не будет!
Пришелец боязливо попятился.
– Экий ты злой! Грех какой на человека возвел. На Катерининск путь держу. Дороги не знаю, вот и иду прямиком.
– Будет завирать! Сказывают тебе, что по трясинам нет пути для человека. Стало быть, ты подлюга хозяйская. – Углежог схватил пришельца за ворот. – Сказывай, кто подослал? Душу одним разом вытрясу.
Пришелец с силой отшиб руку углежога.
– Ты это брось! Не гляди, что с виду лядащий. От сохи в моих руках силенка есть. Не балуй!
– Не трожь человека, – сурово сказал углежогу Кронид.
Пришелец вновь подсел к костру.
– Вот она, нонешняя жизнь человечья. Все друг на друга зубы скалим. Бары нас за ворот хватают, а от тех и свояки не отстают. Злобимся, ибо правды на земле отыскать не можем. Бог ее от нас далеко сокрыл. Ему господа пудовые свечи теплят, может, потому он наших копеечных и не примечает. Нет для нас правды на земле, утопла в синем окияне-море. Паренек-то небось внучонком тебе приходится?
– Угадал.
– Эк как его окровянили! Небось того же приказчика работа?
– Угадал.
– А отчего малец-то здеся? На что он приказчику надобен?
– Со мной пришел.
– Ишь ты! Не отпустил деда на муки одного? Ты, стало быть, тяжесть спора с хозяином и на его плечи наклал? На пытку пошел и парнишку прихватил?
– Жили вместях и помрем такоже.
– А пошто мальцу помирать? Он, поди, еще и в лаптях по земле не хаживал. Ты его лучше отпусти.
– Куда?
– На вольную волюшку.
– Да понимай, человек, что отселева нельзя уйти, коли хозяева не отпустят. Тебя поутру самого начнут плетями выпытывать, как сюда объявился.
– Пустое плетешь. До утра и след мой простынет. Сейчас он на росе знаток, а взойдет солнышко – и не станет памяти о моей гостьбе у вас.
– Да как же ты пойдешь трясинами?
– Да так и пойду, как шел, только в другую сторону. – Кронид в испуге перекрестился. – Зря крестишься! Нечистая сила мне не помогает. Только сам рассуди: уж ежели топи сюда допустили, значит, и отсюда путь не заказан.
– И вправду перед утром уйдешь?
– Обязательно. Передохну малость и опять в путь-дороженьку.
Пришелец зевнул и быстрым кошачьим движением свернулся в комок у огонька.
Потекли минуты.
Пришелец мирно спал у чужого костра. Люди у огня не сводили с него глаз, погруженные в свои раздумья. Паренек прижался к коленям деда. Всех охватило глубокое волнение. Ведь приход этого странника граничил с чудом и наводил на мысли, прежде просто недоступные воображению.
Проснулся гость внезапно и сразу сел. Отряхнулся, как утенок, выскочивший из воды, размял затекшие члены.
– Вот и поспал малость в тепле. Спасибо вам за приют и за то, что не шепнули про меня истязателям вашим. Озадачил, выходит, я вас своим приходом? Неужто самим уйти неохота?
– Охоте как не быть, да одной охоты мало. Сперва путь по топям распознать надо.
– Напрямик тоже нехудо.
– Неужли в самом деле просто напрямик пойдешь?
– Сейчас и пойду.
– Погляжу! – с прежней недоверчивостью сказал углежог.
– Гляди, гляди! Копеечку за то просить не стану. Погляжу на вас и чую, что веру вы в себя от барских окриков утеряли.
– Мудрено языком крутишь. Тебя, поди, вера твоя и по воде проведет?
– А то нет! Сам слышал, как ноги мои по водице шлепали.
Углежог от злости снова плюнул:
– От меня не скроешь, что подослан Шанежкой.
– Шибко тебя приказчики озлили. А ты о них меньше думай. Не в их руках сила над нашим житьем. Ну, прощайте, что ли!
Пришелец поклонился каждому особо и уже шагнул, но, остановившись, обернулся:
– Отпусти, дед, своего мальца со мной.
Кронид погладил внука по головке:
– Пойдешь, Петенька?
– Коли и ты с нами – пойду! Ты деда возьмешь, добрый человек?
– Мне все одно. Втроем пойдем, а то, коли желаете, могу всю ватагу повести.
– Трясина, человек! – с отчаянием вымолвил Кронид.
– Упрямый ты! Слыхал я уж про эту трясину. Да ведь и она тоже – всего лишь земля с водой.
– Ладно! Бери мальца. Ступай с дяденькой, Петя.
– Не пойду без тебя.
– Не ослушайся дедова наказа. Ступай, говорю!
– Погоди, Кронид, – вмешался Макарыч. – Пошто парнишку на погибель отсылаешь? Какой такой силой пришлый человек его от топей спасет?
– Есть у меня сила такая, братаны. Вера в себя. В топи, говорите, на смерть с пареньком идем? А здесь вас чего ожидает?
– Уходи! Бери мальчонку и ступай. Не терзай нам души.
Мальчик пошел рядом с пришельцем, делал мелкие шажки, вытирал кулаком слезы. До другого края болота их провожали все, кто ночевал у костра. Ватага пересекла остров: впереди – гость с мальчиком, позади – провожатые. Миновали чужие костры, землянки, кучки спящих. Подошли к кромке острова. Там опять кустарники и трясины.
– Прощайте, православные, – тихо сказал пришелец.
– Погоди! С вами решил, – не выдержал Кронид. Но первый шаг по топкой жиже сразу охладил решимость старика. Он остановился. – Нет во мне воли на это. Прощайте!
Пришелец потянул мальчика за руку, и кустарник, зашелестев, скрыл их из глаз. Оставшиеся ждали, что вот-вот послышатся возгласы: «Тонем! Спасайте!» Но люди вместо них услышали негромкое пение. Это пришелец затянул песенку.
Молодой парень с исцарапанной грудью упал на землю и зарыдал в голос:
– Мертвые мы с вами, братаны! Мертвые заживо, коли в чудо жизни поверить не можем! Поет тот человек. Слышите? Поет в топях. С песней по ней идет. Вон и Петюшка ему подпевать стал. Слышите? Вера в себя их ведет. А мы?
– Не выйти им из топей, парень! Не тужи. Кронид на верную смерть внука послал, – мрачно сказал углежог.
Старик плакал. Уже светало, и над болотами растворялась и таяла туманная мглистость. Оттуда, из этого тумана, еще доносились два человеческих голоса, мужской и детский. Но пение смолкло.
– Молчат! Слышите? Молчат! Сейчас закричат, – выкрикивал в исступлении углежог.
Но в тумане опять, словно в ответ на его выкрики, стало слышно пение ушедших...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
По Каменному поясу снова разгуливала осень, разряженная в цветные сарафаны.
По горным заводам пошла молва, что Акинфий Демидов в этот раз не смог откупиться от розыска: послан, мол, императрицей в демидовские вотчины высокий следователь, сенатор князь Вяземский, чтобы дознаться до правды о тайных делах и беззакониях, на коих держится могущество заводчиков.
Однако эти слухи не пробуждали ни особенной радости, ни светлых чаяний в народе. Он знал: хрен редьки не слаще. Откроют следователи правду или не откроют, свалят они Демидова или не свалят, все равно хомут каторжного труда с народа не снимут. Не радовались вестям и уральские заводчики. Демидова они знали, а кому достанутся его богатства в случае падения этой уральской династии, – того не знали. Времена были темные, и ждать хорошего нового соседа не приходилось: могли прийти на Урал вместо Демидовых новые Шемберги...
Прокопий в Тагиле, а Никита в Невьянске получали тревожные известия от Акинфия из столицы. Прокопий хмурился, Никита запил горькую, еще пуще лютовал и в доме и на заводе.
На Ялупановом острове шло небывалое брожение умов, с тех пор как неведомый пришелец увел мальчика. Кое-кто отважился было пойти следом за ними, но сразу же на виду у товарищей погибали, проваливались, тонули с криками о помощи. Народ на острове волновался, готовый к бунту. Когда Шанежка снова приказал пороть и допрашивать, узники избили своих палачей. Досталось и самому Шанежке: он неделю пролежал в постели и больше на остров не показывался. Теперь всю власть над работным людом на заводе и на острове перешла к Прохору Мосолову. Его повадка при дознаниях сломила упрямство многих узников; но все же, когда настало время сгонять людей с острова под Наклонную башню, неопознанными осталось всего сто двадцать четыре души.
Не выходил у Саввы из головы злой хозяйский приказ насчет затопления подземелий: мол, уйдут все концы в воду...
Со страхом вынимал он из кармана крошечный сверток с половиной разрубленного кольца. Хорошо, если минует крайность, если никогда не соединятся в руках Саввы обе половинки кольца. Ну а если не минует? Если предстанет гонец со второй половинкой? Что тогда? Как ослушаться злой и беспощадной хозяйской воли? Жизни несчастных узников теперь поистине находились в его руках.
Каждый день спускался он в башенные подземелья, всматривался людям в лица, старался прочесть в них что-то кроме злобы. Он раздумывал о них все время, но простая мысль воспротивиться злодейству не приходила ему в голову. Савва все еще верил, что дело обойдется по-хорошему и вторая половинка кольца никогда не будет прислана. Просто, мол, перебудут люди под башней в кромешной тьме, покормят на себе вшей, погрызутся между собой из-за тесноты, а там, может, и надоест им таиться... Откроют свои имена, прежних господ, рассчитается Акинфий за этих людей с хозяевами, и уедут ни с чем столичные ревизоры.
Услышал Савва от людей сказ про таинственного пришельца, уведшего с собой с Ялупани по топям паренька. Он и сам вдруг поверил: если бы пошли за пришельцем все те, кого он позвал с собой, то и эти беглецы победили бы болотную смерть и спаслись. Савва понимал, почему не отважились люди поверить в самую возможность спасения: они стали рабами страха.
Неверие в собственные силы, ужас перед колдовским могуществом злой силы, к чьей власти уже привыкли узники, – вот чего они не смогли победить в себе и сдались внутренне... Они насмерть запуганы топями так же, как и сам он не сможет ослушаться приказа Акинфия об уничтожении новых улик.
2
В сумерки, накинув на плечи теплую шаль, Анфиса бродила по тагильскому дворцу.
Началось ненастье. Частый косой дождь развел на земле мокреть, наполнил до краев разъезженные колеи дорог. Сорванные с деревьев парка желтые листья плавали в лужах. Анфиса тосковала в одиночестве. Второй вечер ожидала возвращения Прокопия из Невьянска. Слышала от людей, что Ревдинский оборотень там вовсю разошелся, издевается над подневольным заводским людом. Слышала также, будто Никита под шумок вывозит из невьянского дворца к себе в Ревду Акинфиево добро. Прокопий и поехал туда, чтобы поберечь отцовское достояние от дядюшки, с коим никогда дружбы не водил.
Тревога хозяев передалась и Анфисе. Она замечала, что новые вести от отца из столицы все больше волновали Прокопия. Ей искренне хотелось отвлечь молодого хозяина от тяжелых дум, она надеялась даже заинтересовать его собой, а для этого наряжалась красиво, душилась и румянилась по-городскому, только Прокопий не замечал Анфисиных стараний. Сама она тоже тревожилась за будущее, но не за демидовское, а за свое собственное: падет на Демидова тяжесть опалы – придавит вместе с хозяевами и ее самое, домоправительницу Анфису. Придется тогда вернуться к тяжелому подневольному труду, заводскому рабству. В тагильском доме она уже так привыкла к роскоши, что сама стала казаться себе богатой барыней, имеющей незыблемое право помыкать людьми. Да и сам молодой хозяин, признаться, очень нравился Анфисе. Неужто он совсем не замечает ее красоты? Неужто он останется к ней так же холоден, как и его отец? Она подолгу смотрелась в зеркала и видела отражение пригожей женщины, а ни отец, ни сын не льстятся... чем же еще привязать их к себе прочнее, чтобы считали ее своей, близкой, а не простой служанкой?
Когда совсем стемнело, услышала перезвон бубенцов, смотрела, как Прокопий выходил из коляски. Пошла ему навстречу, остановилась в венецианском зале... Вот и он!
– С благополучным возвращением, Прокопий Акинфич. Батюшки-светы, чем же вы это бровь поранили?
Прокопий устало и зло махнул рукой.
– Дядина отметина. Никита Никитич свечой горящей мне в бровь угодил, когда я его маленько осадил под отцовской крышей.
– Вот злыдень! Вы, поди, тоже в долгу не остались?
– Сдержался. Хворый он.
– И зря! Сама-то я не поглядела на его немощь.
– Слышал.
– Неужли вспоминал меня?
– Как же. Плетью грозится отодрать за то, что прижилась у батюшки в Тагиле.
Анфиса делано усмехнулась, но почувствовала холодок озноба. Не угодить бы и в самом деле под власть Ревдинского оборотня! Хоть бы этот, молодой Демидов, поглядел поласковее, приласкал, прогнал страх и неизвестность...
Прокопий задержал свой взгляд на Анфисе, и она смутилась.
– Как-то по-чудному на меня глядите.
– Красивая ты.
– Про это от людей слыхивала.
– А сама о себе что думаешь?
– Да будто и ничего.
Анфиса пошла к двери.
– Куда ты?
– В свои горницы. Подумать надо. Тягостно мне глядеть на вас, как тревожитесь за покой батюшки в столице.
– Я хотел тебе сказать...
– Слушаю со вниманием.
Но Прокопий махнул рукой и начал подниматься по лестнице. Следом лакей пронес хозяйский саквояж из коляски. Прокопий на половине лестницы остановился и сказал:
– А ты сегодня красиво принарядилась. Когда в Тагил ревизор князь Вяземский приедет, ты его обязательно в этом наряде встречай. Поглядит на тебя и растеряется от удивления старик.
– Слушаюсь...
3
Прокопий жил и спал в английской комнате, обставленной в духе семнадцатого века; в убранстве этого покоя подлинная мебель придворных мастеров Англии сочетала затейливость барокко с чисто британской любовью к комфорту. Не было, впрочем, недостатка и в символических предметах ратной доблести: стены были увешаны доспехами крестоносцев, тяжелыми мечами, похожими на кресты, щитами с геральдическими фигурами.
Всю обстановку для этой комнаты купили у обедневшего лорда, оставив в его родовом замке лишь ободранные стены...
Поздний час ненастной ночи. Одно окно не закрыто. От ветра шевелятся на нем шторы. Прокопий в шелковом камзоле перечитывал отцовские письма. Неразборчив стал его почерк. В некоторых словах сразу по три титульных буквы выведены. Скачет перо по бумаге, ведет неровные строчки. Скачками переходит и от мысли к мысли. О многом говорит намеками. Не любит размазывать. Надеется, что сын схватит весть с полуслова. А порой не боится говорить на редкость откровенно. С Бироном был крутой разговор... Государыня ласкова, но без искренности... Сенаторы многовато отступного просят... Вяземский-князь при встрече у одного вельможи мимо прошел... Слуги в столице изворовались... Дворяне в лицо посмеиваются... Фрейлина, известная Прокопию, без мужа обрюхатела... Сановники и чиновники помельче, как вороны, каркают о беде, что пришла для Демидовых...
Письмо, где отец описывает о царском утверждении наказа о розыске, Прокопий даже не стал читать до конца. Что ж, утвердила так утвердила!
Прикрыв глаза, он представил себе, как князь Вяземский едет по российским дорогам на Урал, как торопится в Невьянек, чтобы скорее выполнить повеление императрицы и Бирона. Прокопий мысленно увидел и отца, охваченного тревогой за участь всего богатства. Бродит небось по петербургским хоромам, страдает от бессонницы.
Для Прокопия не было тайн в дедовом и отцовском прошлом на Урале. Вплелось сюда и собственное прошлое... Настенька, утонувшая в пруду... Сусаннина опочивальня с потайным ходом, оказавшимся для нее ходом в иной мир. Савва со всеми тайнами Наклонной башни. Сумасшедший дядя, лютующий сейчас в отцовском дворце от страха перед розыском. Люди, задранные дядиными медведями. Уже не первый раз вспомнил и об Анфисе. Верно, заняла у отца место Сусанны? В этот раз просто не хватает смелости столкнуться с отцом на той же дорожке.
Чуть слышно скрипнула дверь. Анфиса появилась на пороге со свечой в руке. Синяя шелковая рубаха до пят, подвязанная черным шнуром с кистями.
– Прощения прошу за помеху. С доглядом обхожу дворец. Увидела в дверной щели свет. Подумала, что заснули с огнем. Уж замечала, что свечи тушить забываете.
Анфиса поставила свечу рядом с канделябром, вздохнула тяжело.
– Батюшкины письма читаете?
Закрыла окно. Вместо ответа на ее вопрос Прокопий подошел, обнял ее, но тотчас отпустил.
– Чего пришла?
– Свет загасить. Не верите, что ли?
– Неправду говоришь. С грехом в мыслях шла сюда?
– А с ним всякая живая баба завсегда ходит. Без него людской жизни не было бы. А вы, молодой такой, неужто бабьего греха боитесь?
– Ты мне лучше скажи, кто тебе здесь мил?
– Никто. Пожалуй, никого милее вас, Прокопий Акинфич, для меня нет.
– А отец?
– Батюшке вашему я служительница, и только.
Ожидая продолжения разговора, Анфиса постояла в нерешительности, усмехнулась невесело и взяла свой подсвечник.
– Уходишь?
– Спать пора, Прокопий Акинфич.
– Может, здесь приляжешь?
– Не люблю в чужом месте. К своему привыкла. Коли вам одному страшно станет, приходите. Сказы интересные знаю.
Поклонилась, плотно прикрыла за собой дверь...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Не удалось Акинфию Демидову отвести от себя розыск, но зато удалось пристроить в проводники князю Вяземскому верного человека, Степана Пояскова, знатока самых плохих дорог из Петербурга на Урал...
Степан Поясков был предан Акинфию до самозабвения. Выполняя наказ заводчика, он вез князя по самым глухим дорогам, вытряхая душу из сенатора-следователя на нырках и ухабах. Он часто брал князя и его спутников на испуг рассказами о разбойниках. Будучи не самого храброго десятка, князь Вяземский беспрекословно следовал советам заботливого проводника.
Поясков вез домой три пакета под хозяйскими сургучными печатями. Один – для молодого хозяина в Тагил, второй – для брата Никиты в Невьянск и третий – башенному старосте Савве. Этот пакет Демидов велел беречь пуще собственной жизни.
Путь до Каменного пояса провожатому удалось растянуть на десять дней против обычного, а уже на самом Поясе, на дорогах к Тагилу, он рассчитывал задержать гостя еще на добрую неделю. Замысел Акинфия был понятен Пояскову. Чем дольше князь пробудет в пути, тем чище приказчики заметут и спрячут старые демидовские грехи.
Вяземский со свитой ехал на шести тройках под конвоем верховых охранителей. Ямщики и охрана во всем были на стороне Пояскова: демидовские рублевики уже позванивали в их карманах.
У экипажей ломались колеса и оси, когда это было необходимо Пояскову. Словом, в дороге все шло по желанию Пояскова. Сверх ожидания легко удалось уговорить князя заехать по пути к Невьянску на Тагильский завод вместо ранее намеченной остановки на заводе Кушвинском. В Тагиле Поясков предлагал немного передохнуть. Эта перемена маршрута и остановок удалась Пояскову оттого, что он ловко хвастал своей охотничьей сноровкой. Князь сам был охотником, рассказы проводника пробудили в нем прежнюю страсть, захотелось потравить демидовскими борзыми лисиц-огневок на просеках у подножий Высокой горы.
Поясков с таким мастерством рассказывал князю охотничьи приключения, что тот таращил глаза, заслушивался этими байками до полуночи, а утром просыпал. Выезд из-за этого откладывался. Так, даже без дорожных ухабов, подчас затягивалось время пребывания в пути. Не ускользнуло от внимательного проводника, что князь отнюдь не чуждается женской красоты, не забыл тропок к сердцам красавиц и уже проявляет некоторый интерес к рассказам о тагильской домоправительнице.
2
К Нижнему Тагилу подъезжали после полудня. Солнце придавало осенним краскам игру теней. Ветерок с шелестом гнал по дороге подсохшую листву. Перед самым заводом княжескую карету занесло на повороте. Спицы у задних колес дружно треснули, колеса рассыпались. Пришлось Пояскову отправиться в Тагил за новыми колесами, поэтому он смог предупредить Прокопия о высоком госте.
Когда тройка с князем Вяземским остановилась у дворцового крыльца в Тагиле, нежданного, но желанного гостя встречал не только сам Прокопий, но и Анфиса с хлебом-солью. Разряженные в парадные ливреи слуги составляли пышный фон этой встречи. Князю она пришлась по душе. По русскому обычаю он даже облобызался с красивой домоправительницей Демидовых.
* * *
Пока князя отмывали с дороги в бане, со двора поскакал в сторону Невьянска конный нарочный от Пояскова с двумя пакетами к Никите Никитичу Демидову и башенному старшине Савве. Гонцу было приказано строго-настрого вручить пакет старшине только в собственные руки и притом непременно с глазу на глаз...
Сенатор князь Вяземский слыл любимцем императрицы. Сознавая, что наделен умом не чересчур щедро, он избрал для житейского пути, а особенно для восхождения по служебной лестнице такие приемы, как лесть, услужливость и приветливость. Несмотря на тучность, он был подвижен и не щадил сил на поклоны перед сильными: известное дело, поклоном спины не надсадишь, шеи не свернешь! Одевался князь щегольски, и всегда его по-особенному завитый парик вызывал похвалы и восхищение императрицы.
Служба его при дворе началась при Екатерине Первой, благоволил к нему Меншиков, ибо князь довольно успешно выполнял тайные поручения временщика, что, кстати, и помогло тому быстрее дойти до бесславной опалы. Однако опыт близости с Меншиковым князю не только не повредил, а даже помог, как только появился в Петербурге новый временщик при новой императрице. Вяземский быстро приблизился к обер-камергеру Бирону и сумел завоевать его расположение, давая ему кое-какие советы. Однако, снискав доверие Бирона, князь не порывал и старых связей с сановниками и родовитым дворянством.
Когда помещики выступили против Демидова и понадобился ловкий ревизор, выбор после долгих споров пал именно на князя Вяземского: Сенат поручил ему возглавить розыск на Урале для проверки демидовского хозяйничанья в этом краю железа и соли. Демидовы издавна, еще со времен Меншикова, дружили с князем Вяземским. Однако дружба эта скоро оказалась уж очень дорогой и не особенно полезной заводчикам. Бывало выгоднее совать подачки в другие карманы. Князь глубоко затаил обиду на Демидовых и теперь показал это Акинфию: когда тот явился с визитом, князь, уже назначенный главой следствия, просто не принял у себя всесильного заводчика.
Понимая всю трудность возложенного на него поручения, Вяземский обещал царице до всего тщательно докапываться, не кривя душой и совестью. В Сенате он вслух грозился вывести Акинфия на чистую воду. Дворянам обещал найти и вернуть всех крепостных мужиков, сманенных заводчиком, а в случае смерти этих мужиков потребовать с Демидовых компенсации. Эти обещания передавались по всем гостиным столицы. Знать начала верить, что владычеству Акинфия Демидова на Урале приходит конец.
Но, отъехав от Петербурга, князь переменил и тон и намерения. Шумные обещания он и в Петербурге-то давал больше для вида, чтобы придать значимость своей персоне, нагнать на заводчика больше страха и положить в свой собственный карман как можно больше золота. Князь знал о смертельной болезни императрицы и отлично замечал, что в Царском Селе повеселела царевна Елизавета Петровна. Он очень точно угадывал, что близость с Бироном не распахнет перед ним дверей в кабинет императрицы будущей. От полной опалы он, конечно, надеялся как-нибудь увернуться, но тем больше денег потребует будущая придворная жизнь, чтобы блеском и щедростью отвлечь внимание от прежних грешков... Вот эти-то деньги он и надеялся получить в результате умелого розыска на Урале.
Ушей князя не миновали слухи о демидовских рублевиках. Он рассчитывал дознаться, где же чеканит их заводчик. Посему, руководствуясь и чутьем и слухами, он решил основательно осмотреть Наклонную башню: она разумеется, выстроена Акинфием неспроста и не просто для украшения главного завода.
В башне князь надеялся нащупать ключи ко всем тайным делам Акинфия на Урале. Он знал, что заводчик ее сильно охраняет, что проникнуть в ее тайники будет нелегко, но тем больше успеха сулило это загадочное, овеянное легендами сооружение. Когда тайны башни откроются, Демидову уж не отвертеться без солидного откупа.
* * *
Первый ужин сановный гость и его свита вкушали в хрустальной гостиной. Ее залили светом. Горели десятки свечей, и огоньки отражались в хрустале и серебре столовых приборов.
Обилие блюд и редчайших вин поразило даже князя, привычного к блеску дворцовых обедов. Обходительная и хитрая Анфиса сумела обворожить князя любезностью.
После ужина князь отпустил свиту на покой, а сам остался наедине с Прокопием, которого не раз встречал в петербургских салонах.
Они перешли в охотничью комнату. Пол в коврах из лисиц-огневок. На спинках кресел – рысьи шкуры. Над камином – голова сохатого с ветвистыми лопастями рогов. Куда ни глянь – везде чучела глухарей, косачей и рябчиков.
Перед камином на искусно имитирующих березу козлах лежит деревянная плита с инкрустацией из уральских самоцветов. На ней канделябр на двенадцать свечей с хрустальными розетками.
После ужина князь не без труда держался в кресле и сонно щурил глаза. Вино слегка туманило голову, по телу разлилась истома, не хотелось и рукой пошевелить.
Прокопий рассказывал, как отец сам лично убил под Тагилом медведя-шатуна.
Князь понюхал табак, прочихался и заговорил несколько мечтательно.
– Путевод мой, Степан, по всей видимости, бывалый охотник. Рассказывал о здешних лисах, кои будто бы обильно водятся близ Высокой горы. Я ведь и сам в молодости не прочь был поохотиться. Даже, знаете, и сейчас как-то потянуло позабавиться травлей лисиц. У вас, верно, знатные псарни? Ваших борзых довелось мне повидать у герцога. Должен сказать, по статьям отменны! Говорят, Акинфий Никитич псарни содержит прямо по-царски.
– Только прикажите, ваше сиятельство.
– Просить, просить, а не приказывать вам, помилуйте. Что ж, вот и прошу я вас, милейший мой Прокопий Акинфич, помнить, что не по своей воле прибыл к вам с пренеприятным поручением от Ее Величества и Сената.
Тревоги особой моя миссия внушать вам не должна. Погляжу на все глазами государственного закона. Родителя вашего я ведь знаю издавна, только последние годы он манкировал нашей старинной дружбой, хе, хе, хе... Но не в моем характере затевать истории. Мало ли у нас в столице напраслины на добрых людей возводят? Такого наплетут, что голова туманится. А разберешься – и окажется все пустяками. Все зависть, все зависть, друг мой. Государыне трудно самой вникать в эти распри, вот и послала меня, своего верного слугу, до всего дознаться на месте.
– С дозволения вашего сиятельства, если погода за ночь не переменится, охота на лис может состояться завтра.
– Ой какой вы быстрый! По-стариковски-то небось отдохнуть бы мне с дороги... Ну да делу время – забаве час. Завтра так завтра!.. Знаете, Прокопий Акинфич, гляжу я на ваши комнаты и глазам поверить не могу, что где-то за Уральским хребтом, у порога Сибири, в житейском обиходе такая изысканная роскошь. Поистине все чудесное в нашем государстве раскидано повсюду, по всем его необъятным просторам...
Признаться, когда по дороге узнал, что сами вы, человек молодой и светский, часто здесь обретаетесь, то сокрушенно пожалел вас. Думал, скушно вам в такой глуби после столицы. А теперь вижу, сокрушение мое было напрасно. Такую роскошь не у многих даже в столице встретишь. Теперь мне понятно, почему у людей такая зависть к демидовскому богатству...
Лениво вошли в комнату две белые борзые с тонкой выхоленной шерстью. Одна борзая смело обнюхала колени князя, он с удовольствием провел рукой вдоль породистой морды. Тут же послышался голос домоправительницы:
– Вот проказница! Сразу учуяла настоящего охотника! Уж не обеспокоила ли вас наша Ласочка?
– Помилуйте, Анфиса Захаровна, такая собака украшает сей дворец, как драгоценность... А я, признаться, уже сокрушался, что не увижу вас до завтра!
– Пришла, чтобы самолично пригласить вас в ваши покои, ваше сиятельство, только не осмеливалась беседы вашей нарушить.
– Давно мне на покой пора. Отлично надумала. Страшнущими дорогами ехал и донельзя утомился. Милейший хозяин усталость стариковскую простит мне. Но на слове я вас уже поймал: завтра утром буду преисполнен сил и бодрости для предстоящей охоты.
Гостю отвели спальню, кабинет и личную гостиную Акинфия. Когда князь и Анфиса подошли к дверям в эти покои, ливрейный лакей распахнул обе створы и бесшумно прикрыл их за вошедшими. Из гостиной вели двери в кабинет и опочивальню. Здесь гостя ожидала совсем молодая прислужница в голубом сарафане. Мимоходом князь милостиво потрепал ее за подбородок.
– Не осудите, ваше сиятельство, ежели покои вам не понравятся. Все-таки не столица здесь, и лучших в доме нет.
– Напрасно об этом говоришь. Кому же такие хоромы могут не понравиться?
– В столице-то, поди, еще не таким манером живете?
– Хуже живем. Хуже, милая! Только Демидовы могут так роскошествовать... Тебе наверняка не сладко у них со своей пригожестью?
– Хозяева хорошие, а потому мне жаловаться не на что.
– Не обижают?
– Что вы, ваше сиятельство! У Демидова народ плохого не видит. Это все напраслину на нашего господина плетут.
– Знаешь, зачем я к вам приехал?
– Как можно мне, простолюдинке, такие дела господские знать! Ничегошеньки не знаю. Да я и не любопытная.
– Ах ты, умница какая! Ведь правильно рассуждаешь. С твоей красотой совсем незачем о неприятном думать.
– Дозвольте паричок снять.
– Ну что ж, услужи мне, услужи.
– Теперь позвольте камзол снять, а то боюсь, не жарко ли натопить велела.
Анфиса сняла с князя и камзол, стерла надушенным платком капли пота с княжеского лба. Князь при этом легонько обнял Анфису, но она тут же отстранилась.
– Изволите шутником быть, ваше сиятельство.
– Уж больно ты хороша собой уродилась. Опять, насмотревшись на тебя, начну былое вспоминать и бессонницей маяться.
– А я Дуняшу заставлю вас убаюкивать. Голосок у нее тоненький, что твой колокольчик серебряный.
– Ты бы лучше сама со мной посидела.
– Погостите у нас подольше, тогда и посижу.
– Обязательно я у вас денька три поживу... Ну, коли посидеть со мной не хочешь, то хоть поцелуй.
Князь уже покрепче обнял Анфису, и она подставила губы. Старик ласково зашамкал:
– Красавица. Голубица. Приласкай меня, одинокого.
Анфиса ласково освободилась из рук князя.
– Хозяин недоброе про меня подумает.
По знаку домоправительницы открылась дверь, и тотчас вошла девушка в голубом сарафане, встречавшая князя при входе в опочивальню.
– Помоги, Дуняша, его сиятельству раздеться. А как изволят уснуть, свечи погаси.
Незаметно подмигнув девушке, Анфиса удалилась. Расторопная Дуняша уже снимала с князя чулки. Он приподнял за подбородок ее лицо.
– А ведь и ты красоточка. Глаза, как вишенки. И откуда это Акинфий Никитич вас набирает?
– Мудреного в этом ничегошеньки нет. Разве мало на Урале пригожих? Вот он и собирает нас, как груздочки в лесу.
– Ах ты, шельма! А шустрая-то какая: перед князем не робеешь.
– Упаси бог! Нам нельзя ни перед кем робеть. Мы демидовские!
– Ишь ты. И целоваться умеешь?
– Не велика трудность.
– Ну и пичужечка! Искорка!
– А вы-то как притомились, лицом побледнели.
– Это оттого, что ужинал без меры. Укладывай-ка меня скорее в постель... И переел за ужином, и дороги страшнущие сказываются... Заснуть скорей надо. Неплохо у вас, совсем неплохо.
Дуняша начала гасить свечи.
– Все не гаси. И смотри, не уходи, пока не засну!..
Оставив непогашенной одну свечу, девушка вернулась к постели, но старик уже похрапывал с полуприкрытыми глазами.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Осенней ночью гулял лихой ветер по старому Невьянску. Сдирал охапками листву, крутил, подкидывал ее на воздух, гонял по земле, то сгружая в кучи под заборами, то разметая врассыпную.
Забавлялся ветер и с Наклонной башней, пробовал, крепка ли привязь у ставень, завывал на разные голоса в проемах, свистел во все щели.
Воды заводского пруда бились о плотину, штурмовали ее, будто осадные стенобитные машины.
А листва, еще не облетевшая, шелестела на деревьях так внятно, что тревожный шепот доходил до Саввы даже из-за оконной слюды...
В башенной горнице огонек лампады чуть оживляет темный лик Святителя. Молится Савва, подложив на чугунный пол под колени меховую шапку. Расстегнут ворот рубахи – душно старику, чудится ему чья-то рука на горле.
Читает молитву, а у самого мысли о мирском. Нет у молитвы силы освободить Савву от угрызений нечистой совести.
Назойливой стала старческая память, не дает уйти от пережитого и содеянного. Путается в ней старинное с недавним. Нет спасения от этой ведьмы.
Ведь не отыщи он острова в лесной глухомани среди зыбунов, не сидели бы теперь люди оттуда в башенных подземельях. Сегодня там четыре покойника – все удавленные. Савва спускался под башню, спрашивал людей, зачем они четверых жизни лишили. Ни слова в ответ не услышал. Тогда башенный старшина отобрал несколько человек на допрос к Мосолову. Тагильский углежог под плетями сказал, что самолично подбил народ задушить тех четырех. Умертвили их за то, что хотели они объявить о себе правду и выйти на волю. Мосолов спросил углежога, кто душил. Тот молчал. Приказчик ударил его по лицу кулаком, а углежог, скрипнув зубами, схватил приказчика и поднял, как куль, бросил о землю, да так, что с ним больше часа отваживались. Углежог обратил на себя внимание Саввы в первый день появления в подземелье. Савва учуял в нем великую силу, он и на молитве думал о силе углежога. Неужто и его придется со всеми вместе успокоить в братской сырой могиле?..
* * *
Башенный колокол разбудил Савву на десятом ударе. Уснул прямо на полу, измученный долгой молитвой и тяжелыми мыслями. И лишь только отзвонил наверху колокол, до слуха Саввы дошло снизу густое шмелиное гудение. Это в подземелье пели заключенные. Сквозь неплотно закрытый слуховой люк Савва может разбирать не только напев, но и слова. Савва в эти дни нарочно подкладывал кирпич под крышку люка, чтобы лучше слышать голоса узников. Могучий у них нынче запев. Никогда раньше не слыхивал Савва такой вольной и грозной песни. В ней и скорбь, и боль, и гнев. Проклинают люди своих мучителей.
Поднялся Савва с полу, присел на лежанку, а песня все громче. Тесно ей под землей, рвется она на волю сквозь каменные башенные стены.
Страшно старику от песни. Уж он и крышку люка закрыл вовсе, а песня будто все слышней. Сам камень, что ли, поет с людьми?
Вслушивается башенный старшина в слова проклятия, ловит их жадно, точно это ему самому нараспев читают приговор людской... Никак старик не может усидеть на своей лежанке, то вскочит, то замечется между чугунными гробами, из которых по его приказу уже вынесли серебряные рублевики. Их снесли в подземелья под дворцом, снесли туда, где погибла Сусанна...
Так в метаниях, в нарастающем ужасе перед песней узников прошел для Саввы еще один час его бытия. Снова высоко над головой прозвучали удары колокола. Уже одиннадцать. Поют ли еще узники, или это в Саввиных ушах продолжает звучать их песня, бередя встревоженную душу? И вдруг башенный старшина вспомнил, где ему довелось слышать похожий напев и такие же примерно слова: пели эту песню взбунтовавшиеся стрельцы, его старые товарищи, когда им ломали кости на дыбах. Это она, эта песня, помогла ему тогда обрести силу и сметку для побега, избежать казни и уйти с Демидовыми на Каменный пояс. Сколько лет прошло с тех пор, и каких лет! Какими делами наполнил он эти годы, он, беглый стрелец Савва, башенный старшина Демидовых! Да, теперь от этой песни не убежишь. Не согреет она стариковскую кровь, не оживит в старческом разуме мысль о побеге вместе с узниками. Некуда теперь Савве бежать. Он – одно из звеньев злой демидовской цепи, сковавшей людей на Урале, опутавшей некогда вольный край. Все ее звенья одинаково служат делу зла: хозяин, приказчик, доменщик, углежог, кержак, каторжник. Неразрывна эта железная цепь угнетения. То звено, что людьми зовется башенным старшиной Саввой, вковано в цепь еще старым Никитой Демидовым в малой тульской кузнице.
Савва давно смирился с тем, что ему самому всего-навсего один путь на волю – могила. Никому нет хода из-под хозяйской воли. Прохор Мосолов несколько раз пробовал уйти, и что же? Все на том же месте. Сусанна убегала, и уложил ее Акинфий в каменную стену. Вот разве что только паренек с Ялупана, что ушел с пришельцем. Нет, нет, после неудачи Сусанны не может быть веры в божественный промысел, нет в мире силы, что помогла бы разорвать демидовскую цепь. Ведь и сама Сусанна была звеном в ней. Бежала от отца к сыну. Цепь натянулась – звено ушло в свою стенную лунку...
Оборвались думы старика, когда послышался стонущий звук железного била за стеной. По билу кто-то наносил нетерпеливые удары колотушкой. Потом из-за ворот кто-то закричал сторожу:
– Отпирай скорей. Нарочный я, по хозяйскому приказу. Спишь, как кот перед ненастьем.
Савва прислушивался к перебранке хозяйского посланца со сторожем. Наконец загремел железный засов. Громко фыркала лошадь. Голос нетерпеливого гонца уже под башенными стенами.
– Старшину Савву мне!
– Спит.
– Ничего, разбужу. Веди к нему.
Скорые шаги по лестнице. Из черного зева открытой двери возник перед Саввой незнакомец в дорожной одежде. Забрызган грязью. Почти мальчишеское, еще безусое, но уже жестокое лицо. Хмурый взгляд... Еще одно звено демидовской цепи...
– Старшину мне.
– Я старшина.
– Пакет хозяйский тебе.
– Откуда?
– Из Тагила. Второй – к ревдинскому хозяину. А этот – на, получай.
Достал из-за пазухи один пакет, протянул Савве. Ощупал другой, побольше, и тут же повернулся, побежал вниз по лестнице.
Вокруг Саввы внезапно сгустилась тишина. Осматривая пакет, старик медлил его вскрывать. Потом будто не своими руками он сломал сургучную печать, уже зная, что таится за нею. Развернул бумагу – ни слова, ни строки. Только один предмет лег из бумажного свертка в Саввину ладонь... Даже не целый предмет, а всего лишь половина... Капелькой крови блеснул на разрубленной половине хозяйского кольца багровый самоцветный камень – рубин...
Старшина достал из кармана вторую половину кольца. Соединил половинки. Разруба будто и не бывало.
Еще одно звено демидовской цепи воссоединилось, стало на свое место...
Савва, башенный старшина, усмехнулся собственным помыслам. Потом сказал полным голосом:
– Не смогу я живой покорить в себе худую хозяйскую волю...
2
С получения хозяйского пакета пошли вторые сутки.
Савва недавно воротился в свою горницу с верхнего яруса башни. Смотрел закат молодого месяца. Думал про десятерых узников, кого прошлой ночью вывел из-под башни за ворота. Зачем он это сделал вчера? По какому выбору? Просто узнал по голосам и отпустил тех, кто пел громче и злее: отпустил восьмерых кержаков-чеканщиков. Лучшие мастера своего дела. А старого Кронида просто пожалел, отпустил, чтобы сыскал своего спасенного с Ялупана внука и чтобы была у того на русской земле дедова могила. Еще отпустил углежога Головешку... Вывел всех освобожденных за стену, велел шагать к лесу быстрее, а там держать на восход, в Сибирскую сторону. Расстались в темноте, никто и слова благодарного не произнес: не опомнились еще люди, да и не ради доброго слова выпустил их Савва. Пусть несут по земле песню про демидовскую цепь...
Старик и сегодня собирался еще раз спуститься в подземелье, еще раз глянуть на обреченных. Может, и еще чьи-нибудь глаза оставить непогашенными? Может, еще певцы надежные выищутся?
Освещена лампадкой Саввина горница. Тесной кажется она со вчерашнего дня. Все мерещится старику, будто потолок снижается.
Опять шаги снизу. Кому бы это? А, Прохор Мосолов.
– Не спишь, старче?
– Пора суматошная.
Савва указал Мосолову на лавку около дверей.
– Усаживайся. С чем пожаловал?
– Позавчерась ночью оборотень весточку получил. От Акинфия Никитича.
– Слыхал. Ломился кто-то в ворота.
– Едет к нам с розыском князь Вяземский.
– Скатертью дорога, буераком путь.
– В Тагиле отдыхает у Прокопа.
– Отдыхает? Притомился, стало быть? С чего бы?
– С дороги.
– Сидел бы в своем Петербурге у баб на коленях.
Мосолов вздохнул безнадежно:
– Оборотень наказал тебе после полуночи куранты на марш наладить. Не позабудешь?
Глядя на встревоженного приказчика, Савва только ухмылялся криво и зловеще.
– Недалече приезд, стало быть? Будем гостя маршем встречать?
– Эх, старче, худое подошло времечко. А годы наши не ранние. Помнишь, как, бывало, мы с тобой здесь царствовали? Раз – оторвано, два – пришито. Перед одним хозяином ответ держали. А теперь как бы вместе с хозяином к ответу не потянули. Страх берет за Акинфия.
– Не за Акинфия страх твой, Прохор, а за самого себя. Нам, брат, за его спиной не спрятаться. С ним ли, без него ли, а спросят и нас. Не махонькие были. Знали, на что идем, когда сотнями души живые губили. Семь бед – один ответ. Так что жди суда, Прохор.
Приказчик зябко поежился.
– Охота мне дознаться, Савва, каков этот князь Вяземский по характеру.
– Нонешних не сразу разберешь. Как узнаешь, лысый али курчавый, коли у всех на башках завитые конские хвосты напялены? Пусть князек этот характером ангел божий, все одно клещом в нас вопьется! Отчитываться-то перед ним – наше дело. Оборотень при нем из опочивальни вылезать не станет.
– Слыхано, будто и он годами не молод, князь этот. А коли так – на молоденьких клюнет. Кержачек подобрал свежих. Все, как на подбор, царевны с виду.
– Тебе, Прохор, девки – большая подмога. А что старик он, так это наверняка. Нешто царица пошлет молодого демидовскую цепь выверять? Молодого к демидовскому порогу царица не допустит.
– Ты уж больно попросту обо всем судишь. От всего в башне укрылся.
Прохор Мосолов ерзал на лавке все беспокойнее, оглядывал стены горницы, слюду в окнах.
– Тебе-то, Савва, перед ревизором не больно боязно стоять. Твои грехи в стенах замурованы да в земле лежат, не пикнут, жалиться не пойдут. А на меня любой заводский пожалиться не преминет.
Савва ухмылялся все загадочнее.
– А страх-то тебя теребит, Прохор. Есть и на меня доказчики.
– Где же?
– Под башней. С Ялупана все.
– Куда же ты их от князя спрячешь? Чай, первым делом князь в башню нос сунет. Денешь их куда, спрашиваю?
– Где сидят, там и будут.
– А как дознаются? Чай, они песни по ночам поют. Через отдушины слыхать.
– При князе петь не станут. Слово такое скажу. Притихнут.
– Смотри, старче, народ они отпетый. Иные злее зверя на нас с тобой. Даже я не смог плетями дознания выскрести. Это, старче, не люди, камни живые.
– Ты, Прохор, делами в башне себя не тревожь. То моя забота. Ты от своих сперва прочихайся. Савва с башенной лесенки не оступится.
– Тебе, поди, хозяин наказ какой дал?
– Дал. Да только мне одному.
– Дело твое. Только... Ведь князь с часу на час пожаловать может. Тогда что?
– А ничего. Демидовы железные, князю их не изглодать.
– Так-то так, только не бывало прежде среди народа брожения, злоба на нас не так поднималась. Мне и еда и сон на ум не идут. Только воду пью... Однако пора мне.
– В шашки с оборотнем дуться?
– Спать попробую. Может, усыплю тревогу... А ты, старче, стало быть, решил про себя тайну хозяйскую насчет башни сохранить?
– Будто сам ты мало тайн хозяйских про себя сохраняешь?
– Так. Слово на слово. А до дела – все та же верста.
Мосолов искоса глядел с порога на башенного старшину.
– Не ожидал, старче, от тебя такой упрямости.
– Вот что, Прохор! Ступай-ка лучше спать поскорее, а то мы с тобой до того договоримся, что зубы скалить начнем. Дознатчиков недолюбливаю.
– Зря. Ум хорошо, два лучше.
– Приобык в башне один думать. Один и отвечу.
Шаги Мосолова уже слышались на лестнице все глуше.
Ушел приказчик, не простившись со стариком. Савва проворчал ему вслед:
– Шагай, шагай! Чудно. Надумал ворон ворону глаз выклевать.
3
Без ветра наступила ночь.
По-осеннему пушист плотный, небесный бархат. Красили его, видно, и сажей и синькой. Остророгий месяц прокатился по темно-синему полю, усыпанному наново вызолоченными звездами.
Савва вышел на верхний ярус башни и любуется звездным мерцанием. Доносится с высоты крик отлетающих гусей. Колокол уже отбил одиннадцатый час ночи, вступили куранты. Бодрый петровский марш смешался со звуками ночи.
Еще час назад Савва отослал с башни дозорного. Он закрыл за ним дубовую дверь, которую обычно держал не на запоре.
Люди в подземелье опять пели, но уже не громко, не гневно. Сегодняшняя песня тосклива и беспросветна. Савва побывал там, под башней, еще днем. Упрашивал, прельщал людей свободой, но в ответ дождался только насмешек. Пересчитал всех по головам. Оказалось сто двадцать четыре души.
Смотрел старик на звезды с удивлением, как будто другими были они в эту ночь. Дольше всего не отрывал глаз от золотой россыпи Млечного Пути. Все мысли в голове притихли. Память совсем перестала рыться в рваном тряпье прошлого. Савва мысленно прощался со всем. Ему предстояло выполнить на земле свой последний долг перед тем человеком, кому служит целую жизнь. Демидовская цепь сковала людей. Он, Савва, всего лишь звено. Хозяин сказал: «Вернее тебя у меня нет человека». Савва никогда не найдет в себе силы ослушаться, как бы ни кричало в его душе чувство жалости к людям. Нет, чувство долга, чувство принадлежности к демидовской цепи сильнее!
Стыли у старика руки, будто он долго держал их в ледяной воде. Нельзя им стыть, ибо им поручено выполнить хозяйскую волю.
Звезды! Будто последний раз взошли они над этим жестоким миром...
Удар за ударом, в один тон, выпела медь колокола полночь. Звон в ушах заставил Савву склонить голову. Во всем его теле жар, а в руках холод. Разум приказывает ему идти, а ноги не повинуются. Вот сдвинулся с места. Пошел с лестницы на лестницу. Нащупал рукой в темноте дверь в горницу. Толкнул. Отворилась со скрипом.
Горит лампадка. Слышна из открытого люка тихая песня.
Не держат Савву ноги. Гнутся под тяжестью тела. Сел на лежанку. Для проверки еще раз соединил обе половинки кольца. Сомнений никаких – половинки совпадают.
Поют узники, не подозревающие о своей участи. Не спят. Значит, вода застанет их бодрствующими. Смерть будет мучительной, во тьме подземелья, заливаемого водой... Лучше дождаться, пока сначала умрет напев. Пусть певцы умрут позже, чем песня...
Савва ждал. Неподвижно сидел на лежанке, не то в дремоте, не то в полуобмороке. Прошел и второй час ночи.
Песня смолкла неожиданно. Савва настороженно долго прислушивался, но из подземелья не долетел ни один звук. Опять вокруг старика сгустилась мучительная тишина. Он встал. Пошатываясь, подошел к столу и зажег фонарь. Посмотрел на икону и хотел перекреститься, но не донес руки до лба. Потушил лампаду. У двери с лавки взял тяжелый топор. Вышел из горницы. Тяжело переставлял ноги на ступенях лестницы и слушал размеренные стоны часового маятника.
Тум-рум! Тум-рум!
В курантном ярусе поставил фонарь на пол. В глазах Саввы зеленые круги, в ушах шум. Смотрит он на просмоленные канаты. Средний, спаренный, удерживает тяжелое грузило. Разрубить канат – ухнет грузило на крышу водозапорного люка в шлюзе...
И Савва взмахнул топором. Один за другим падали тяжелые, глухие удары. Все глубже и глубже лезвие топора впивалось в канат. Последний удар – натянутые волокна не выдержали, топор угодил в стену, высек искры из камня.
А тяжелое грузило ухнуло в бездну. Миг тишины – лишь стонущие всхлипы часового маятника.
Тум-рум! Тум-рум!
И вдруг страшный, нарастающий рев несущейся воды. Чудовищный плеск, грохот. Волны по-разбойничьи ворвались в подземелье, заливали его, кружились в адской пляске. Седая клочковатая пена взблескивала где-то внизу в кромешной глубине и черноте.
Вода пруда заливала подземелья.
Затренькали колокола, отбивая четверти. Загудела медь большого колокола. Куранты заиграли бравурный марш. Савва бросил в колодец топор и обе половинки кольца. Припал к стене и невнятно выкрикивал:
– Прости, осподи! Прости меня, окаянного!
Старик метнулся к лестнице. Все мысли о людях внизу. Оступился и покатился по ступеням. Сразу не мог подняться на ноги. Дополз в горнице до слухового люка. Услышал людские голоса, заглушаемые плеском воды. Она рокотала теперь умиротворенно и сыто. Ясно донеслись из подземелья выкрики:
– Спасите! Топят! Спасите, проклятые!
Савва потерял сознание...
* * *
Начинался рассвет. Небо мирно расцветало розовыми, зелеными и голубыми красками, еще неяркими, еще по-утреннему приглушенными.
В избу Шанежки прибежал на рассвете слуга с приказом Никиты Никитича бежать на башню, узнать, почему большой колокол не прозвонил шести часов.
Приказчик еще издали учуял недоброе. Дверь башни, против обыкновения, заперта. Вокруг башенных стен взмокла земля. Выливалась она из отдушин подземелья...
Перепуганный до озноба, Шанежка топтался на размякшей земле. Кричал во весь голос:
– Караул! Ратуйте! Караул!
На крики приказчика сбегались дворовые. Вот и Прохор Мосолов, подобно Шанежке, побелел лицом, как неживой...
– Вода!.. Никак вода шлюз продавила. Подземелье залито.
– Савва где?
– Нигде его не видать.
Дверь в башню взломали с трудом. Мосолов и Шанежка запретили кому бы то ни было даже ногу заносить на порог. Выставили к дверям караульщика, а сами вошли в башню.
Мосолов первым заглянул в пустую горницу. В полу зиял открытый слуховой люк, на столе лежал нательный крест. Мосолов побежал по лестнице на первый ярус, а за ним следом Шанежка. Вышли на ярус и оба застыли на месте.
На языке большого колокола в петле из ременной опояски висел башенный старшина Савва. На мертвом новая холщовая рубаха, расшитая узорами по подолу и вороту...
Над старым демидовским гнездом – Невьянским заводом всходило солнце и золотило восточный фасад Наклонной башни. И отражение ее тонуло в зеркальной глади пруда...
Приказчики вышли на обходную галерею. И там, далеко на дороге, ведущей из Тагила, уже клубилась пыль под колесами шести троек...
Прохор Мосолов указал Шанежке на этот далекий кортеж и чуть не кубарем скатился с лестницы...
* * *
Всходило солнце и над всем лесным и заводским Уралом.
Под его лучами в горном царстве трех Таганаев переливались золотом, кровью и синькой осенние леса.
Сгрудились великаны Южного Урала, вздыбили свои вершины три Таганая, Уренга, Косотур и Татарка. Встречают восход в цветных, пронизанных солнцем клубящихся свитках тумана!
В это утро по бестропным, глухим пространствам вдоль берега реки Ай, уже за Златоустом, шагали выпущенные Саввой из-под Наклонной башни кержаки-чеканщики, доменщик Кронид и углежог Головешка.
Это было уже не первое, а четвертое утро после того, как покинули они невьянское подземелье. Но люди все еще брели со звериной украдкой, сторонясь заводов и селений. Шли день и ночь, без сна, без отдыха, полуголодные, не рискуя даже погреться у костра. Шли с единым помыслом поскорей убраться с Урала, где звучат куранты Падающей башни, где всюду рыщут демидовские захребетники, спастись от ужаса заводской каторги в неведомую Сибирь, где, по народной молве, работному человеку можно еще вольно жить, думать и петь в таежных уремах, среди зверей, подчас более милосердных, чем люди.
В утренних осенних лесах под шуршанье опадающей листвы просыпалась жизнь, скупая здесь на птичьи голоса. Но в душе каждого путника, унесшего ноги из кощеева царства Демидовых, пели чистыми голосами и разум и сердце. В них уже зажигалась надежда и вера, что и в сибирской стороне будет светить им солнце, пусть не такое щедрое, как на родной стороне, но все же дарующее свет и тепло обездоленному, страдающему люду России.

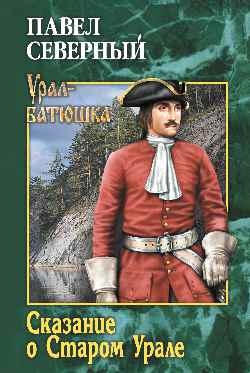

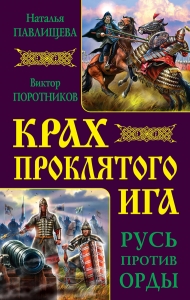
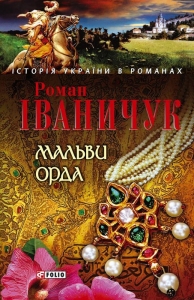



Комментарии к книге «Сказание о Старом Урале», Павел Александрович Северный
Всего 0 комментариев