Эдвард Резерфорд Дублин
Посвящается памяти Маргарет Мэри Мотли де Реневилль, урожденной Шеридан
Edward Rutherfurd
THE REBELS OF IRELAND
Карты выполнены Юлией Каташинской
Родословные
Введение
В книге «Ирландия» прослежена судьба шести выдуманных ирландских семей.
О’Бирны, ведущие свой род от союза Конала, наследника верховного короля Ирландии, и Дейрдре, дочери местного вождя во времена святого Патрика.
Макгоуэны, мастеровые и торговцы еще докельтских времен.
Харольды и Дойлы, две семьи викингов, ставших фермерами и торговцами.
Уолши, по происхождению фламандские рыцари, осевшие в Уэльсе; в Ирландию они перебрались во времена англо-норманнского вторжения в XII веке, которое возглавил Стронгбоу.
Тайди, мастеровые и мелкие чиновники, приехали в средневековую Ирландию в поисках удачи.
«Ирландия» — первая книга изумительной саги об Изумрудном острове Эдварда Резерфорда — охватывает одиннадцать веков ирландской истории, излагая ее через приключения и судьбы нескольких семей, о чьей дальнейшей жизни говорится в этом романе.
Рассказ начинается в 430 году с волнующей и трагической истории Конала, племянника верховного короля в Таре, и его страстной любви к прекрасной Дейрдре. Когда верховный король решил взять Дейрдре второй женой, влюбленные сбежали. Несколько счастливых лет они провели в укрытии, но пришла неизбежная расплата. Конал освобождает Дейрдре от ее обязательств перед верховным королем, однако ценой собственной жизни: он соглашается пожертвовать собой в древнем ритуале друидов, чтобы спасти свою любовь и землю от страданий. Здесь языческая Ирландия предстает во всей своей мифической славе: земля воинов и экстатических праздников, страна, в которой распри кланов сдерживает хитрость верховного короля, а друиды определяют судьбы людей.
Двадцать лет спустя Дейрдре живет со своим сыном Морной в маленьком поселении Дуб-Линн. Морна удивительно похож на своего отца Конала. Однажды к ним приезжает небольшая группа всадников во главе с седым мужчиной, и в нем Дейрдре узнает друида, руководившего принесением Конала в жертву. Но друид изменился: теперь он стал последователем Патрика, человека, который проповедует странную новую веру. Эта вера признает только одного Бога и отвергает человеческие жертвы. Через образ святого Патрика Резерфорд показывает, как гений и человечность этого проповедника превратили Ирландию в часть христианского мира.
Окончательный перелом в кельтской Ирландии происходит в IX веке, когда на остров вторглись викинги. Они появились на наводящих ужас кораблях и прославились как грабители монастырей. Но многие из этих завоевателей предпочли остаться в Ирландии, поселиться на плодородных землях и в процветающих портах. Они и дали окончательное имя этой стране: кельтское название острова Эриу совсем иначе звучало на языке захватчиков, так возникло скандинавское название — Ире-ленд. Викинги также переименовали Дуб-Линн в Дифлин, который в дальнейшем стал богатейшим портом Ирландии. Слияние скандинавской и кельтской культуры показано на истории Харольда и Килинн. Харольд — кораблестроитель в Дифлине, он поклоняется древним скандинавским богам, и среди его предков — храбрейшие норвежские воины. Килинн — прекрасная и одухотворенная наследница Конала — даже подумать не может о том, чтобы выйти замуж за нехристианина.
Харольд и Килинн живут в те времена, когда идет спор за престол верховного короля Ирландии. В 999 году великий король Бриан Бору начинает военную кампанию за объединение Ирландии под своей властью. В романе он получает преданного последователя в лице Харольда. Но не все готовы подчиниться власти Бриана: многие ирландцы выступают против него. А Килинн так просто ненавидит короля.
Через четырнадцать лет после того, как Бриан Бору обретает власть, Харольд и Килинн, оба недавно овдовевшие, начинают испытывать нежные чувства друг к другу, но Килинн, узнав о том, что Харольд верен королю Бриану, расстается с ним. Во время исторической битвы при Клонтарфе Бриан Бору одерживает убедительную победу, благодаря которой прекратились дальнейшие набеги викингов, но для Ирландии эта победа стала пирровой, поскольку обошлась слишком дорого, к тому же в этом сражении убивают Бриана Бору. В последовавший затем мирный период норвежец Харольд и кельтка Килинн, забыв о противоречиях, поженились и прожили счастливую жизнь.
В 1167 году, через век после Нормандского завоевания Англии, король Генрих II Плантагенет из Анжу во Франции стал готовить почву для присоединения Ирландии к Англии. Генрих позволил одному своему вельможе — умному и расчетливому Стронгбоу — устроить в Ирландии английское поселение. Изображая этот бурный период, Резерфорд вводит в повествование молодого наемника, чьи фламандские предки осели в Уэльсе. Парень по имени Питер Фицдэвид приплывает в Ирландию вместе с войсками Стронгбоу в надежде разбогатеть.
В Дублине Питер знакомится с семьей потомков Килинн. Глава этой семьи — женатый священник, имеющий детей, что было в порядке вещей в Ирландской церкви. Питер заинтересовался красивой дочерью Конна — Фионнулой. Она ничуть не против того, чтобы завести короткий роман с воспитанным английским солдатом. Их свидания прекращаются, после того как Стронгбоу просит Питера использовать девушку в качестве шпионки, и Фионнула невольно снабжает Питера сведениями, которые приводят к унизительному поражению верховного короля. И это был один из многих ударов, заготовленных для ирландцев сильным новым хозяином.
В 1171 году король Генрих лично прибывает в Ирландию во главе армии в четыре с половиной тысячи солдат, чтобы напомнить Стронгбоу: вне зависимости от его успешной захватнической политики он должен всегда подчиняться королю. Одержанные Генрихом победы в Ирландии вызывают восторг папы римского, и он посылает королю Генриху письмо, в котором хвалит за военное торжество над ирландцами. Папа дает понять ирландским церковнослужителям, что Рим их не поддерживает. В последующие годы король вознаграждает завоевателей Ирландии собственностью, отобранной им у ирландцев. Наконец и Питер Фицдэвид получает свое: в награду за два десятилетия преданной службы короне ему даруют поместье, которым сотни лет владела семья Фионнулы. Фионнула присутствует при передаче поместья и требует, чтобы Питер позволил ее брату и дальше жить на земле, веками принадлежавшей ее семье. Питера ничуть не трогают переживания женщины, но он разрешает ее брату остаться только при условии своевременной оплаты аренды. Фионнула, уже вышедшая замуж за одного из О’Бирнов, предупреждает Фицдэвида, что однажды ее дети могут спуститься с гор и вернуть себе землю, которая принадлежит им по праву.
К 1370 году англичане в окрестностях Дублина живут в постоянных стычках с ирландцами из внутренних районов острова. Резерфорд показывает это на примере пусть и крошечной, но расположенной в стратегически важном месте деревушки Долки. Неподалеку дублинский юстициар, главный представитель английского короля, отдает семье Джона Уолша древний замок Каррикмайнс, чтобы создать еще одно английское укрепление, способное противостоять сопротивлению ирландцев. Распространяется слух, что О’Бирн задумал налет на Каррикмайнс. Предостережение достигает ушей юстициара, и он созывает совет. В него входят Уолш и Дойл из Дублина, который стал успешным виноторговцем. Дойл предлагает устроить О’Бирну ловушку: тайком отправить в Каррикмайнс все отряды солдат, включая и тот единственный эскадрон, что расквартирован в Долки. На самом же деле Дойл готовится провести одну незаконную операцию, и ему необходимо убрать войска из деревушки. И пока возле Каррикмайнса ирландцы изображают нападение, Долки остается без присмотра. И в это время Дойл, потомок датских пиратов, провозит огромное количество контрабандных товаров; под покровом ночи он вместе с жителями Долки разгружает целых три корабля, тем самым избежав уплаты больших таможенных пошлин.
XV век в Англии отмечен войной Алой и Белой розы, кровавой враждой между двумя ветвями королевского дома Плантагенетов. Хотя кульминация наступила в 1485 году, когда было нанесено смертельное поражение Ричарду III и победа досталась Генриху Тюдору, англо-ирландские распри продолжались. Ирландцы короновали юного претендента на английский престол — мальчика, который якобы был графом Уориком, — и попытались свергнуть Генриха. Но результатом стало лишь еще большее подчинение Ирландии, и теперь остров делится на тех, кто живет в Пейле — прилегающих к Дублину районах, населенных в основном англичанами, — и тех, кто живет за пределами Пейла, то есть остальной ирландский мир. И перед нами предстает жизнь четырех семей в XVI веке: Тайди, Уолш, Дойл и О’Бирн.
Для тех, кто живет в Пейле, важно выглядеть по-английски. И эти правила живо описаны на примере невесты Генри Тайди, Сесили. Ее арестовывают лишь за то, что она надевает шарф, цвет которого говорит о родстве Сесили с ирландцами. Генри надеется вскоре получить право участия в выборах, став свободным гражданином Дублина. Олдермен Дойл помогает уладить дело, но предупреждает Генри, что тот должен быть осторожен. Если узнают, что его невеста — ирландка, это может все погубить. И вот такой вроде бы незначительный эпизод ярко показывает, как разделяется дублинское общество в последующие десятилетия.
Этот неустойчивый политический климат ощущается и во владениях Уолша. По своим адвокатским делам Уильям Уолш вынужден поехать на юг Ирландии. Свою жену Маргарет он просит никому не говорить об этом. И хотя его дело вполне законно, шпионы короля Генриха VIII, против которого постоянно строят заговоры, могут подумать, что Уолш отправляется в сердце Манстера с куда более зловещими целями. Однако Маргарет выдает тайну Джоан Дойл, жене члена городского совета. Уильяму в дальнейшем отказывают в возможности стать членом парламента, а муж Джоан, олдермен Дойл, получает там место. Маргарет ненавидит Джоан, и у нее вроде есть причины: когда-то давно Дойлы приобрели земли, принадлежавшие семье Маргарет.
Но всерьез меняет ирландскую историю то, что Генрих VIII решает аннулировать брак с женой, испанкой Екатериной Арагонской. Папа римский обещал дать разрешение на развод, однако в это время племянник Екатерины становится императором Священной Римской империи. И папа не осмеливается оскорбить монарха Габсбурга ради короля Тюдора. Генрих VIII порывает с Римом, и в Англии — а также в Ирландии — начинается Реформация.
Разрыв короля с папой обостряет разногласия между Генри и Сесили Тайди. В праздник Тела и Крови Христовых Сесили во всеуслышание заявляет, что новая королева — еретичка, а потом добавляет еще, что король будет гореть в аду. Генри Тайди в ужасе, и к тому же судьбе было угодно, чтобы Сесили высказалась перед человеком, который вскоре поднимет ирландцев против короля. Это лорд Томас Фицджеральд, влиятельный член аристократического мира, прозванный Шелковым Томасом, поскольку носил одежду из очень дорогого шелка.
Вскоре после праздника Тела и Крови Христовых Шелковый Томас отказывается от своих клятв верности английскому королю и объявляет себя новым защитником Ирландии. Как и многие его соотечественники, мечтающие о возрождении гэльской Ирландии, Шон О’Бирн взволнован таким поворотом событий и даже является к Уолшам, требуя, чтобы Уильям поклялся в верности Шелковому Томасу.
Сесили Тайди тоже заражается этой лихорадкой и обращается к Томасу из окна башни: она выкрикивает обещания, которые разносятся по улице. Ее публичная клятва верности Фицджеральдам ужасает мужа Сесили. Тайди понимает: Сесили уничтожила все шансы на повышение его статуса в гильдии.
Дойлы продолжают противостоять Фицджеральдам в пользу Батлеров, сторонников Тюдора.
Обеспокоенный возможными в близкое время сражениями олдермен Дойл решает отправить Джоан в Долки, относительно безопасное место. Но он не знает, что Маргарет также строит планы — планы мести: она подговаривает Шона О’Бирна похитить Джоан на пути в Долки и потребовать за нее выкуп, который будет разделен поровну между Маргарет и О’Бирном. Однако все идет не так, как задумывали похитители: Джоан невредимой добирается до места, а один из сыновей Шона погибает. Уильям Уолш, узнав о попытке похищения Джоан, рассказывает жене о невероятной щедрости Джоан, которая предложила ему деньги в долг, чтобы он справился со сложными финансовыми обстоятельствами. Маргарет пристыжена. Теперь она ясно видит, что неправильно истолковала все поступки Джоан, что презирала женщину, чьи намерения всегда были только добрыми.
А вот для О’Бирнов все обернулось куда хуже. Шон и Ева воспитывали приемного сына по имени Морис, родившегося в знатной семье Фицджеральд. Когда Морис уже стал юношей, леди Фицджеральд заявила, что настоящим отцом Мориса является Шон О’Бирн; именно поэтому мальчика отдали Шону на воспитание. Видя ярость и унижение Евы, Морис сбегает в Дублин. Там, в самом сердце английского Пейла, живет друг их семьи, и он советует Морису стереть все следы ирландского происхождения. Таким образом Морис Фицджеральд, чья родословная включает принцев О’Бирн, благородных Уолшей, храброго Конала и множество поколений вождей, становится Морисом Смитом.
Теперь уже ясно, что романтический бунт Шелкового Томаса не получает поддержки с континента, от Испании. Генрих VIII отправляет на остров целую армию, и в 1536 году ирландский парламент принимает новый закон, отрекаясь от папы римского и выражая преданность королю Тюдору. Семьдесят пять человек из тех, что действовали заодно с Шелковым Томасом, приговорены к казни. Падение Фицджеральдов — это знак бесповоротного поражения всей Ирландии.
Роман завершается сценой, в которой Сесили Тайди в ужасе наблюдает за костром, что горит перед кафедральным собором Христа. Публично сжигаются иконы в попытке очистить ирландскую веру, и это возвещает новые битвы для каждой души на острове, поскольку религия и политика начинают смешиваться, образуя гремучую смесь. Резерфорд рисует зловещую завершающую сцену, в которой святые реликвии предаются огню, а Бачал Изу — украшенный драгоценностями реликварий, в котором хранился посох святого Патрика, одна из самых почитаемых святынь Ирландии, — исчезает навеки. Это незабываемый момент, и именно теперь наследники принцев превращаются в бунтовщиков.
В «Дублине» описывается история этих семей, но появляются и новые семьи: Смит, Пинчер, Бадж, Лоу, Мэдден и другие.
Колонизация
1597 год
Доктор Симеон Пинчер знал об Ирландии все.
Доктор Симеон Пинчер был высоким, худым, лысеющим человеком, хотя ему и шел всего третий десяток, с болезненной внешностью и суровыми черными глазами проповедника. Он был человеком образованным, ученым, членом колледжа Эммануэль в Кембриджском университете. Однако, когда ему предложили место в новом Тринити-колледже в Дублине, он устремился туда с такой живостью, что его новые наниматели были заметно удивлены.
«Я немедленно приеду, — написал он, — чтобы потрудиться во славу Господа».
С таким заявлением вряд ли кто-нибудь решился бы спорить.
Но он отправился туда не только из миссионерского рвения. Еще до своего переезда в Ирландию доктор Пинчер обстоятельно ознакомился с вопросом. Он, например, узнал, что жители острова, или коренные ирландцы, как их теперь называли в Англии, были хуже животных и что им, как католикам, нельзя доверять.
В Ирландию доктор Пинчер прибыл с твердым убеждением: коренные ирландцы — это низшие существа и сам Господь намеренно пометил их — вместе со многими другими, конечно, — еще в начале времен и предназначил им вечно гореть в адском пламени. Ведь доктор Пинчер был последователем Кальвина.
Чтобы понять, как именно доктор Пинчер толкует учение великого протестантского реформатора, достаточно было послушать одну из его проповедей. Несмотря на молодость, он уже считался отличным проповедником, и его восхваляли за понятность и простоту слов.
— Логика нашего Господа, — мог сказать доктор Пинчер, — как и Его любовь, безупречна. А поскольку мы обладаем способностью рассуждать, которую в Своей бесконечной доброте даровал нам Господь, мы можем понять Его цель. — И, наклонившись немного вперед, чтобы помочь слушателям сосредоточиться, доктор Пинчер мог пояснить: — Подумайте. Невозможно отрицать то, что Бог — источник всяческого знания, для Него все века — это один лишь миг, а потому Он должен в Своей бесконечной мудрости знать все: прошлое, настоящее и будущее. Следовательно, и в данный момент Он знает, кто спасется в Судный день, а кто будет отправлен в глубины ада. Он установил порядок всех вещей с самого начала. И по-другому быть не может. И хотя в Своем милосердии Он оставляет нас в неведении относительно нашей судьбы, некоторые уже избраны для рая, а другие приговорены к аду. Божественная логика непогрешима, и все верующие должны трепетать перед ней. Тех, кто отмечен, кто будет спасен, мы называем избранными. Все остальные прокляты и погибнут. И потому, — доктор Пинчер смотрел на слушателей устрашающим взглядом, — вы можете спросить себя: «Кто же я?»
Мрачную логику доктрины Жана Кальвина о предопределении трудно было опровергнуть. В том, что сам Кальвин, глубоко религиозный человек, руководствовался наилучшими намерениями, никто бы не усомнился. Его последователи стремились жить по всем правилам, быть честными, усердно трудиться и проявлять милосердие. Но некоторые критики этой доктрины считали, что идеи Кальвина рискованны: они могли привести к излишней суровости. Перебравшись из Франции в Швейцарию, Кальвин создал свою Церковь в Женеве. Правила в его общине были намного строже, чем у протестантов-лютеран, и он верил, что государство должно принудить верующих к строгости законом. Соблюдая собственную строжайшую мораль и донося властям на соседей за любое нарушение Божьих законов, эти люди не только рассчитывали получить место в раю, но и доказывали себе и миру, что они-то и есть те самые предсказанные избранные, которым назначено было прийти сюда.
Вскоре кальвинистские общины появились и в других частях Европы. Шотландские пресвитерианцы были известны строгой приверженностью доктринам предопределенности, Английская церковь и ее сестра Ирландская церковь также прониклись духом кальвинизма. «Только набожные принадлежат Церкви» — так заявляли в их общинах.
Могли ли в общине оказаться те, кто на самом деле вовсе не был избран для рая? Вполне могли оказаться, допускали кальвинисты. Признаком этого являлось любое отступление от строгой морали. И все равно, как заявил доктор Пинчер в одной из своих наилучших проповедей, оставалось немало сомнений.
— Ни один человек не ведает своей судьбы. Мы подобны людям, бредущим через замерзшую реку, глупо не думая о том, что лед в любое время может треснуть, расколоться, бросить нас в ледяные воды, под которыми, скрытые глубоко, горят яростные костры ада. А потому не надувайтесь гордостью, следуя законам Священного Писания, а помните, что все мы жалкие грешники и должны быть смиренными. Потому что это есть Божественная ловушка, и избежать ее невозможно. Все предсказано, и ум Бога, будучи совершенен, не изменится. — А затем, оглядев несчастную паству, доктор Пинчер обычно восклицал: — Но даже если все предопределено, если вы обречены, умоляю — не падайте духом! Потому что, как бы ни труден был путь, нам велено всегда надеяться!
Могла ли быть надежда у тех, кто не принадлежал к кальвинистским общинам? Возможно. Никому из людей не ведомы Божественные помышления. Но все-таки это казалось сомнительным. В особенности для католиков будущее выглядело весьма печально. Разве они не признают верховенства папистов, разве не поклоняются святым как идолам, то есть делают то, что в особенности запрещено Священным Писанием? Разве у них не было возможности отказаться от своих ошибок? По мнению доктора Пинчера, все последователи папы римского уверенно идут навстречу гибели, а коренные ирландцы, чей дурной характер хорошо известен, скорее всего, уже находятся в лапах дьявола.
Можно ли их спасти, если они обратятся к истинной вере? Можно ли таким образом исцелить их? Нет. Их грехи, полагал доктор Пинчер, — явный знак того, что все они изначально осуждены на ад. Они, как языческие духи, что были заразой тех мест, принадлежали подземному миру. И именно такие мысли поддерживали твердое решение доктора Пинчера, когда он пересекал море, направляясь в Дублин.
А что он думал о собственной судьбе? Был ли Симеон Пинчер уверен, в самой глубине души, что он действительно один из избранных? Он надеялся, что это так. И если в его собственной жизни присутствовали какие-то грехи, пусть совершённые по неосторожности, могли они служить знаком того, что его натура развращена? Доктор даже думать об этом не хотел. Конечно, к греху было склонно множество людей. Но те, кто раскаивался, могли действительно спастись. А значит, если он сам и грешил, то раскаивался в том с полной искренностью. А его повседневное поведение, его ревностное служение Богу доказывало, как надеялся и верил доктор, что он и в самом деле не последний среди тех, кого избрал Господь.
День, когда Симеон Пинчер прибыл в Дублин, был тихим, дул лишь легкий ветерок. Его корабль бросил якорь в устье реки Лиффи. Лодочник перевез доктора на Деревянную набережную.
Не успел доктор Пинчер ступить на ирландскую землю, представленную старым причалом, как произошло странное событие и мир перевернулся вверх ногами.
Через некоторое время доктор обнаружил, что лежит вниз лицом, слышит ужасный грохот и неожиданно получает сильный удар в живот. Доктор с трудом повернулся, посмотрел вверх, моргая, и увидел человека, судя по одежде джентльмена, который отряхивал с себя пыль и с беспокойством глядел на доктора.
— Вы не пострадали?
— Не думаю, — ответил Пинчер. — А что случилось?
— Взрыв.
Незнакомец показал назад, и Пинчер, развернувшись, увидел, что посреди причалов, где он заметил высокое здание с подъемным устройством по соседству, теперь торчит каменный пень, а дома на противоположной стороне улицы превратились в почерневшие развалины.
Пинчер с благодарностью принял протянутую руку незнакомца и поднялся. Нога у него болела.
— Вы только что приехали?
— Да. В первый раз.
— Тогда идемте, сэр. Кстати, меня зовут Мартин Уолш. Тут рядом есть гостиница. Позвольте мне проводить вас туда.
Оставив Пинчера в гостинице, любезный джентльмен ушел, чтобы осмотреть разрушения. Вернулся он примерно через час.
— Странное дело. Несчастный случай, без сомнения, — сообщил он и объяснил, что, похоже, искра, выбитая лошадиной подковой из камня мостовой, попала в бочонок с порохом, который переносил в пороховой склад большой грузоподъемный кран. — Вся нижняя часть Вайнтаверн-стрит разрушена. Даже здание собора Христа, расположенного выше по склону, дрогнуло. — Уолш сухо улыбнулся. — Я слышал о чужаках, приносящих плохую погоду, сэр, но взрыв — это что-то новенькое. Надеюсь, вы не собираетесь и дальше причинять вред ирландцам.
Вполне добродушная шутка, и Пинчер прекрасно это понял. Но сам он не слишком умел шутить.
— Нет, — ответил он с мрачным удовлетворением, — если они не паписты.
— А-а… — Джентльмен грустно улыбнулся. — В Дублине их много, сэр.
Но только после того, как этот добрый самаритянин проводил его в Тринити-колледж и сдал на руки привратнику, доктор Пинчер обнаружил, что и сам мистер Уолш принадлежит римской вере. Это был неловкий момент, отрицать невозможно. Но разве могло Пинчеру прийти в голову, что этот добрый незнакомец, явно англичанин, явно джентльмен, окажется папистом? И, как и предупреждал его Уолш, он действительно с ужасом узнал, что многие благородные жители Дублина, даже самые высокопоставленные, тоже паписты.
Но это открытие всего лишь показало, понял доктор Пинчер, как много нужно здесь сделать.
1607 год
Вечер летнего дня. Мартин Уолш стоял с тремя своими детьми на мысе Бен-Хоут и смотрел через море. Его осторожный юридический ум был занят тщательными расчетами.
Мартин всегда был вдумчивым — староватым для своих лет, часто говорили о нем. Его мать умерла, когда мальчику было три года, отец, Роберт Уолш, — годом позже. Его вырастили дед, старый Ричард, и бабушка, и Мартин, привыкнув постоянно находиться в обществе пожилых людей, бессознательно перенял многие их взгляды и отношение к миру, в том числе и осторожность.
Уолш нежно посмотрел на дочь, пятнадцатилетнюю Энн. Он с трудом верил, что уже должен принять насчет нее решение. Уолш сжал письмо в кармане штанов и снова задался вопросом, как задавался уже много часов: стоит ли рассказывать ей об этом?
Вообще-то, замужество дочери — частное дело семьи. Но оно таковым не было. Не в эти времена. Уолшу очень хотелось, чтобы его жена была жива. Она бы знала, как с этим справиться. Молодой Смит мог обладать хорошим характером, а мог и плохим. Уолш надеялся на лучшее. Но тут было нужно и кое-что еще. Принципы, естественно. И сила, без сомнения. А также не поддающееся определению и имеющее первостепенное значение качество — талант к выживанию.
Ведь для людей вроде самого Мартина — для преданных старых англичан — жизнь в Ирландии никогда не была еще более опасной.
Прошло четыре с половиной столетия с тех пор, как король Англии Генрих Плантагенет вторгся в Ирландию и, заняв место древнего ирландского верховного короля, силой вынудил вождей ирландских кланов формально признать его своим владыкой. Конечно, по другую сторону Пейла, области вокруг Дублина, вожди все равно оставались вождями, и вельможи Плантагенета, вроде Фицджеральдов, которые вскоре уже перестали слишком отличаться от ирландцев, правили островом на старый лад. Но семьдесят лет назад король Генрих VIII сверг Фицджеральдов и ясно дал понять, раз и навсегда, что Англия намерена напрямую управлять западным островом. Он даже принял на себя титул короля Ирландии.
Несколько лет спустя больной английский монарх Генрих VIII, сменивший шесть жен, умер. Около шести лет правил его сын Эдуард, слабенький мальчик, еще пять лет престол занимала его дочь Мария. А потом корону надела Елизавета, королева-девственница, и уже почти полвека она оставалась на английском троне. И эти монархи пытались управлять Ирландией, и все они находили это весьма нелегким делом.
На остров присылали лордов-наместников, и одним из них доставало мудрости, а другим — нет. Это почти всегда были английские аристократы со звучными именами или титулами: Сент-Леджер, Сассекс, Сидни, Эссекс, Грей. И они всегда сталкивались с одними и теми же традиционными ирландскими проблемами: старинные английские семьи — Фицджеральды и Батлеры — продолжали завидовать друг другу; ирландские вожди не выносили королевского надзора: в Ульстере могущественные О’Нейлы до сих пор не забыли, что когда-то были верховными королями Ирландии. И все — да, все, включая преданных английских сквайров вроде Уолшей, — были только рады отправлять посланников к монарху, чтобы подорвать авторитет и власть лорда-наместника, если его решения им не нравились. Ведь наместники являлись сюда, чтобы превратить Ирландию во вторую Англию, а вовсе не для выгоды ирландцев. Вместе с ними явилась толпа искателей фортуны, так называемые новые англичане, жаждавшие получить землю. Некоторые из этих жуликов даже пытались утверждать, что происходят от давно забытых поселенцев Плантагенета и что у них есть право на ирландскую собственность.
И стоило ли удивляться, когда английские лорды-наместники обнаруживали, что Ирландия сопротивляется переменам, или новым налогам, или английским авантюристам, пытавшимся украсть землю? За время детства Мартина Уолша постоянно возникали бунты, особенно на юге, где Фицджеральды в Манстере ощущали угрозу. При этом многие не просто подозревали, а были уверены в том, что английские официальные лица намеренно пытаются возбудить беспорядки.
— Если они сумеют подтолкнуть нас к серьезному бунту, — приходили к выводу некоторые ирландские землевладельцы, — то сразу конфискуют наши поместья и наложат на них лапу. Вот что они задумали.
Но только в конце долгого правления Елизаветы было поднято настоящее восстание.
Из всех ирландских провинций Ульстер имел репутацию наиболее необузданного и самого отсталого. Ульстерские вожди наблюдали за продвижением английских порядков в других провинциях с отвращением и все нараставшим беспокойством. Самый крупный из них, О’Нейл, получивший образование в Англии и носивший английский титул графа Тиронского, обычно умудрялся поддерживать там мир. Но в конце концов именно Тирон и возглавил восстание.
Чего он хотел? Править всей Ирландией, как его далекие предки? Возможно. Или просто желал так напугать англичан, чтобы они предоставили ему владеть Ульстером как своей собственностью? Тоже возможно. Но он, как и Шелковый Томас за шестьдесят лет до него, воззвал к истинным католикам, в противоположность еретикам-англичанам, и отправил послание католическому королю Испании, прося войска. И на этот раз отряды католиков — четыре с половиной тысячи солдат — действительно прибыли. Граф Тирон и сам был опытным воином. Он разбил первые английские силы, посланные против него в Ульстер, в битве при Йеллоу-Форде, и люди поспешили к нему со всего острова. Это было всего десять лет назад, и никто в Дублине не знал, что может произойти, но затем Монтджой, жестокий и опытный английский военачальник, разбил Тирона и его испанских союзников в Манстере. И после этого Тирон уже ничего не мог поделать. В тот самый момент, когда старая королева Елизавета лежала в Лондоне на смертном ложе, граф Тиронский, последний из вождей Ирландии, капитулировал. Но англичане оказались на удивление снисходительны к нему: они позволили графу сохранить часть древних земель О’Нейлов.
На трон Англии взошел новый король — Яков, один из кузенов Елизаветы. Игра Тирона была закончена, и он это понимал. Но стало ли в Ирландии безопаснее?
Уолш смотрел на море. Справа от него раскинулся широкий Дублинский залив, уходивший к южному мысу и порту Долки. Слева — странный маленький островок с расщелиной в утесе — Ирландс-Ай, так теперь иногда называли этот островок люди. А по другую сторону залива, на севере, поднимались голубовато-серые горы Ульстера. Если он вообще собирался заговаривать на эту тему, решил Уолш, то теперь самое время.
Характер Мартина Уолша можно было угадать по его внешности. На мягких кожаных башмаках виднелось несколько пятен высохшей грязи и пыль, поскольку, доехав верхом до основания мыса, мимо замка его друга лорда Хоута, Мартин предпочел подняться на вершину пешком. Но его тщательно вычищенные утром штаны и дублет оставались все такими же чистыми. Поскольку день был теплым, Уолш скакал без плаща и даже без шляпы, и его волосы, пока еще каштановые, свободно падали на плечи, однако в небольшой остроконечной бородке уже пробивалась седина. Осторожный, чистоплотный, спокойный, негорделивый… семейный человек. И единственной посторонней вещью, которую мог бы заметить новый знакомец, был серебряный крестик, висевший на груди Мартина.
Письмо доставили Уолшу этим утром. Прочитав его и переварив содержание, Уолш мог прийти только к одному выводу: автор письма очень спешил, узнав, что Лоуренс и Энн собираются уехать.
— Я получил письмо от Питера Смита, — тихо сказал он. — Насчет его сына Патрика. Ты его знаешь?
Сыновья промолчали, хотя Лоуренс внимательно посмотрел на Энн, а потом вопросительно — на отца.
— Я с ним встречалась раз или два, отец, — ответила девушка. — Когда была с мамой в Дублине.
— Ты с ним разговаривала?
— Немножко.
— И что ты о нем думаешь… о его характере, я имею в виду?
— Что он честный и благочестивый.
— Он тебе понравился?
— Пожалуй, да.
Мартин Уолш немного подумал. Он не слишком близко знал ту семью. Смит — уважаемый дублинский торговец и католик. В этом Мартин не сомневался. А что еще? Смит жил в Дублине, лет двадцать назад он ссудил деньги одному землевладельцу к югу от города под залог имения. После этого, как то было в обычае у ирландцев, он мог пользоваться имением как своим до полной выплаты долга. На взгляд Уолша, Смит по меньшей мере наполовину был джентльменом. И в нем явно чувствовался аристократ. Вот только насчет происхождения этой семьи не было полной ясности, и Уолшу это не нравилось. Питер отвергал слухи о том, что его отец Морис — урожденный Фицджеральд. Макгоуэн утверждал, что на самом деле он был сыном О’Бирна из Ратконана в горах Уиклоу. Думайте как хотите. Однако в любом случае происхождение у него благородное. Но правда состояла в том, что Уолш практически не знал семью Смит. Он слышал, что у них несколько детей, но разузнать подробнее ему не удалось. Нужно действовать активнее. А вот его родственнику Дойлу наверняка все известно.
Что до письма Питера Смита, то тут все было понятно. После нескольких милых комплиментов в адрес дочери Уолша и ее репутации он спрашивал, не могли бы они обсудить возможность, только возможность, обручения этой драгоценности с его сыном, пораженным красотой девушки и ее чудесным характером.
— В письме говорится об обручении. Выглядит странным, что он готов просить твоей руки после столь краткого знакомства, — заметил Уолш.
Конечно, принцы могли жениться, всего лишь выслушав доклад посла и имея миниатюрный портрет невесты, но сквайры в окрестностях Дублина обычно знакомились семьями, прежде чем обвенчаться.
— Мне бы хотелось узнать его получше, отец, если он серьезно мной интересуется.
— Конечно, дитя мое. — Уолш кивнул и снова повернулся к морю.
Поэтому он не заметил взгляда Орландо, брошенного на сестру, и ее ответного предостерегающего взгляда.
Орландо был взволнован. И доволен собой. Потому что он догадался.
Впервые это произошло прошлым летом, когда Энн приехала домой из Франции. Они вместе отправились на прогулку и примерно в миле от дома встретили молодого человека. Энн и этот юноша как будто узнали друг друга, но незнакомца Орландо не представила. Они немного прошли вместе к каким-то деревьям, и там, найдя большой упавший ствол, Энн и этот человек сели поговорить, а Орландо тем временем изучал лесок. По какой-то причине Энн взяла с него обещание никому не говорить о той встрече; и Орландо весьма гордился тем, что старшая сестра так ему доверяет.
И хотя Орландо был на шесть лет моложе Энн, она играла большую роль в его жизни. Старший брат Лоуренс, которого Орландо считал героем, всегда был добр к нему, но брат учился за границей с тех пор, как Орландо вообще помнил себя, и потому дома появлялся лишь от случая к случаю. Еще два года назад Энн училась у отца Бенедикта, и уроки проходили в комнате, которую они называли классной, рядом с залом. И именно Энн, еще до того, как пришла очередь Орландо брать уроки у отца Бенедикта, научила его буквам, и именно она летними вечерами читала ему, а ее каштановые волосы падали в сторону, когда она склоняла голову, и Орландо прислонялся к ее плечу и, слушая, вдыхал нежный запах этих волос. Или же она рассказывала ему истории о разных глупых людях, и Орландо хохотал. Энн была прекрасной старшей сестрой.
Потом отец отослал ее в Бордо, в какую-то французскую семью.
— Я не хочу, чтобы моя дочь выросла как какая-нибудь провинциальная англичанка, — сказал он.
После первого года пребывания во Франции Энн вернулась довольно серьезной, но осталась приветливой и иногда взрывалась весельем. И раз уж она велела ему хранить тайну, Орландо скорее умер бы, чем выдал сестру.
В последующие недели они несколько раз отправлялись в поездки верхом на встречу с тем молодым человеком. Дважды они встречались на длинной полосе песчаного берега напротив маленького островка с расколотым утесом, и Энн вместе с юношей скакала вдоль берега, пока Орландо играл в дюнах. Каждый раз Энн просила брата хранить секрет, а родителям говорила:
— Возьму Орландо покататься по берегу.
Умнее ничего и не придумать было.
Когда этим летом Энн приехала домой, встречи возобновились. И еще Орландо получал от сестры письма, которые доставлял молодому человеку, ждавшему в ближнем лесу. Но Орландо до сих пор не знал имени юноши или характера этих встреч. А если время от времени он осмеливался спросить, ответы сестры лишь смущали его.
— Он передает мне письма для одной девушки в церковной школе во Франции. И рассказывает о ней. Вот и все.
— А он собирается ее увидеть?
— Когда-нибудь, полагаю.
— А он собирается на ней жениться?
— Это секрет.
— А как ее зовут? А его как зовут? А почему он передает письма через тебя? А почему нам нельзя узнать больше?
— Все это секреты. Ты слишком молод, чтобы понять. А если будешь приставать с вопросами, глупый мальчик, я больше не стану брать тебя с собой.
Орландо не слишком понимал, что все это значит, но вовсе не хотел, чтобы его оставляли дома, и потому спрашивать перестал. Но накануне утром Энн отвела его в сторонку и заставила пообещать никогда и никому не рассказывать о том, что он видел. И он поклялся своей жизнью, что будет молчать. Но конечно, гадал, почему это так.
И вот теперь он понял. Тот молодой человек, должно быть, и был сыном Питера Смита. И он ухаживал за Энн. И никто об этом не знал, кроме Орландо. Глаза мальчика сияли, когда он думал о своем участии в таком приключении. И если по какой-то причине Энн чувствовала, что должна обманывать отца, так об этом Орландо не думал ни секунды.
Лоуренс откашлялся. Выглядел он серьезным. Если между Мартином Уолшем и его старшим сыном и существовали какие-то разногласия, то оба старались скрыть это от Энн и Орландо, в особенности после смерти их матери. И Лоуренс уважительно дал понять отцу, что хотел бы поговорить с ним наедине.
— А мы уверены, какую веру исповедует та семья? — осторожно спросил он, поскольку они затрагивали опасную тему.
Если Реформация, как серия землетрясений, проложила глубокие трещины по всей Европе, то в Ирландии поначалу трясло едва заметно. Король Генрих закрыл несколько монастырей и раздал их земли. Потом были разные грубые святотатственные действия, вроде сожжения святых реликвий в Дублине и утраты посоха святого Патрика. Но правление Эдуарда, короля-мальчика, во время которого и произошла протестантская революция в Англии, оказалось таким коротким, что у протестантов не нашлось времени для каких-то серьезных действий за морем, в Ирландии, а потом королева Мария вернула отцовское королевство Риму. В Англии ее звали Марией Кровавой, но ее стоило и пожалеть. Гордая, царственная, она видела, как отвергли и унизили ее мать. Не стоило удивляться тому, что она была яростно предана своему католическому наследию. И осознавала ли она вообще отвращение своих английских подданных, ценивших островную независимость, когда выходила замуж за кузена, Филиппа II Испанского? Но, оставшись бездетной, брошенная Филиппом, Мария вскоре умерла, а англичане велели ее испанскому муженьку больше к ним не соваться. Однако в Ирландии правление Марии оказалось достаточно спокойным. Монастырские земли, розданные Генрихом, не вернулись, правда, Церкви: ирландские джентльмены-католики не были настолько набожными, чтобы отказаться от того, что упало им в руки. Но в духовном плане правление Марии было возвращением к нормальной жизни.
И только во время долгого правления Елизаветы в Ирландии вновь начались религиозные проблемы. Но за это вряд ли можно было винить саму королеву.
Лозунгом королевы Бесс всегда был компромисс. Решено было, что должна существовать Общенациональная церковь, иначе возник бы беспорядок. Но Английская церковь, как представляла ее себе Елизавета, выглядела весьма умной смесью, которая, как все надеялись, удовлетворит и умеренных католиков, и протестантов. Послание королевы к подданным было предельно ясным: «Если внешне вы будете подчиняться правилам, верьте в душе во что хотите».
Но история была против Елизаветы. Вся Европа уже разделялась на вооруженные религиозные лагеря. Католики были полны решимости сражаться с еретиками-протестантами. Король Филипп Испанский, потерпев неудачу со своей кузиной Марией, предложил даже руку Елизавете, чтобы сохранить Англию для своего рода и для католицизма. Но подданные Елизаветы уже приняли протестантство, а некоторые даже стали пуританами, и когда в 1572 году французская королевская семья организовала массовую резню протестантов в ночь святого Варфоломея, когда были убиты тысячи ни в чем не повинных женщин и детей, католикам в Англии досталось не на шутку. Но самый сильный удар по надеждам Елизаветы на компромисс нанес сам Рим.
— Папа римский отлучил королеву от Церкви.
С этой новостью однажды явился домой дед Мартина Уолша Ричард.
Это было одно из событий раннего детства, которые Мартин запомнил.
— Ох, как бы мне хотелось, — не раз и не два повторял потом дед, — чтобы он этого не делал!
Католики больше не обязаны были хранить верность королеве. И вскоре государственный совет, боясь, что католики могут оказаться предателями, начал их преследование. Прибывших с континента священников арестовали как шпионов и мятежников. Кого-то из них казнили. А когда Филипп Испанский наконец отправил свою могучую Армаду за море, чтобы завоевать остров еретиков, — и мог бы преуспеть, если бы сильный шторм не разбросал его галеоны вдоль побережья, — большинство англичан пришли к самому простому выводу: католики — это враги.
Кроме, пожалуй, Ирландии.
— Во времена моего отца, — вспоминала иногда королева Елизавета, — иезуиты явились к О’Нейлам, чтобы защитить какого-то изменника, так О’Нейлы просто прогнали их.
А когда невезучие галеоны испанской Армады были выброшены на берег, граф Тирон безжалостно перерезал всю их команду просто для того, чтобы показать английской королеве: коренным ирландским лордам можно доверять. В Англии поняли: католическая вера как таковая вовсе не обязательно приводит ирландских вождей к конфликтам с короной. Что до старинных семей англичан, гордых своей преданностью, то почти все джентри и большинство торговцев были по-тихому католиками, и королева вместе с государственным советом пыталась найти равновесие.
Если Ричард Уолш не желал отвергать Рим ради Церкви Елизаветы — Церкви Ирландии, если ей угодно, — то он все же мог сказать с кривой улыбкой: «Они так старательно следуют правильному внешнему виду, что почти начинаешь задумываться, а католики ли они вообще?» Тот, кто не посещал службы, должен был платить штраф, но эти штрафы не всегда удавалось получить. Даже католических священников, если они не доставляли хлопот, оставляли в покое. Но куда более серьезным и более оскорбительным было то, что католикам запрещалось занимать официальные должности.
— Но они же не могут на самом деле применять это правило, — любил напомнить Ричард. — Чаще всего единственный местный джентльмен, который годится для службы в магистрате, как раз католик!
И на это правило обычно не обращали внимания. При всех этих обстоятельствах люди вроде Ричарда Уолша могли сохранять двойственную преданность.
Но годы шли, и становилось все хуже. Явились новые англичане и стали занимать место под солнцем. Мало-помалу старых английских католиков вытеснили с официальных должностей. Законы против их веры ужесточились.
— С нами обращаются как с чужаками в нашей собственной стране! — начали жаловаться старые англичане.
После смерти королевы Елизаветы трон перешел к ее кузену Якову Стюарту, шотландскому королю. Его энергичная мать, королева Мария Шотландская, была католичкой, и ее заговоры против еретички королевы Елизаветы в конце концов стоили Марии головы. Но ее сын Яков был приведен к протестантству шотландскими лордами. Однако, возможно, новый король проявил бы больше симпатии к преданным сквайрам-католикам в Ирландии. Имелись намеки на то, что он на это способен. До прошлого года.
5 ноября 1605 года. Эта дата потрясла всю Англию. Группа заговорщиков-католиков во главе с Гаем Фоксом попыталась взорвать здания парламента, палаты лордов, палаты общин и самого короля Якова, но об этом узнали многочисленные королевские шпионы. И в последующие века этот возмутительный исторический эпизод превратился в популярный стишок:
Запомните на века события пятого ноября. Порох, измена и сговор. Ведь нет причин забывать, как мог бунт колыхать[1].И после этого у английских пуритан и английского парламента не осталось никакого доверия к католикам.
И в каком положении оказались Уолши? В трудном. А возможно, могли однажды оказаться и в опасности. Так это понимал Мартин Уолш. И в таком случае какой ему нужен зять? Католик, конечно же. Уолш совершенно не желал иметь внуков-протестантов. Ему нужен был человек вроде него самого: преданный, но умный и воспитанный. Человек, который не позволит, чтобы сердце управляло головой. Готовый к компромиссу. Был ли молодой Смит таким человеком? Уолш не знал.
И только теперь он заметил, что все это время старший сын внимательно смотрел на него. Мартин улыбнулся:
— Не бойся, Лоуренс, я хорошенько все разузнаю, можешь быть уверен.
Но Лоуренс не улыбнулся в ответ. И Мартину даже показалось, что взгляд его сына был подозрительным и холодным. Наконец Лоуренс заговорил.
А Мартин, слушая его, слегка морщился и грустно глядел на Лоуренса. Отцу нелегко презирать собственного сына.
Лоуренсу очень хотелось промолчать. Ему было ненавистно огорчать доброго отца. Если бы только между ними не пролегла эта ужасная пропасть лжи, хотя Лоуренс все равно не знал, что с ней делать. Пропасть разверзлась из-за его образования.
Мартин купил чудесное имение в Фингале, на краю древней Долины Птичьих Стай, в самом сердце старого английского Пейла. Хотя его друг лорд Хоут присоединился к елизаветинской Церкви Ирландии, большинство местных джентри, вроде соседей Толботов из Мэлахайда, были католиками и нанимали католических наставников для обучения своих детей. Ведь самые серьезные компромиссы всегда встроены глубоко в систему. Деньги для содержания дома, например, доставлялись из поместья, которое жена Ричарда, урожденная Дойл, купила по дешевке, когда были разорены монастыри. Их родственники Дойлы — явно ради мирской выгоды — присоединились к Ирландской протестантской церкви десять лет назад. Лоуренсу это было противно, однако его отец, оставаясь добрым католиком, воспринял все философски и сохранил прекрасные отношения с протестантской родней. Вот только когда дело дошло до образования, подобный компромисс стал невозможен.
— Англичане не просто протестанты. Они превращаются в пуритан, — заявил Мартин. — Ты не можешь там учиться.
Но разве у них был выбор? В Ирландии всегда не хватало собственных университетов, но в недавнее время появилось новое учебное заведение — Тринити-колледж, его основали в Дублине, чтобы восполнить такую недостачу. Однако вскоре стало ясно, что Тринити-колледж предназначен в основном для новых английских протестантов, а потому католики, естественно, держались от него в стороне. И в таком случае оставались лишь семинарии и колледжи в континентальной Европе. И как многие другие джентльмены вроде него, Мартин Уолш отправил сына на континент — в Испанию, в Саламанку. И там, слава Богу, думал Лоуренс, он увидел совсем другой мир.
Когда могущественная Католическая церковь была вынуждена столкнуться с протестантской Реформацией, кое-кто воспринял это с яростью, но чаще храбрые и благочестивые католики смотрели на все иначе.
— Протестанты правы, — соглашались они, — когда говорят, что в Католической церкви слишком много продажности и суеверий. Но это не причина, чтобы разрушать тысячелетнюю духовную традицию. Мы должны очистить и обновить Святую церковь, и тогда вера воссияет новым ярким светом. И это священное пламя нужно будет защищать. Мы должны подготовиться к борьбе с врагами за нашу Церковь.
В результате родилось движение, известное как Контрреформация. Католическая вера — чистая, неиспорченная, простая, но сильная — намеревалась сопротивляться. Лучшие мужчины и женщины были готовы к битве. И где же Церковь могла найти рекрутов для этой великой цели? Конечно же там, где обучались лучшие молодые люди. В семинариях и церковных школах.
Лоуренс любил Саламанку. Он жил в Ирландском колледже и посещал университет, где был интересный и разнообразный курс обучения.
А в начале третьего года его пригласил к себе проректор и спокойно поинтересовался, чувствует ли Лоуренс в себе призыв к религиозной жизни.
— Мы с вашими преподавателями сошлись на том, что вам следует продолжать учебу и серьезно заняться богословием. Вообще-то, мы думаем, что у вас есть все необходимые качества для того, чтобы стать иезуитом.
Вступить в орден иезуитов — это была воистину великая честь. Члены этого ордена, основанного всего семьдесят лет назад Игнатием Лойолой, сразу стали элитой Церкви. Учителя, миссионеры, руководители… Их задача состояла не в том, чтобы удаляться от мира, а наоборот, взаимодействовать с ним. И если Контрреформация собирала армию солдат Христовых, то иезуиты были ее авангардом. Для этого требовалось все: ум, сильный характер, мирские умения. И Лоуренсу казалось, что с тех самых пор, как его семья впервые обрела силу веры в Ирландии четыре столетия назад, все готовило его к этой роли.
— Возможно, — сказал ему проректор, — наше предназначение — разжечь в Ирландии еще более яркое и чистое пламя, чем то, что горело там всегда.
И Лоуренса более чем удивило то, что отец не обрадовался этой новости.
— Я надеялся, у тебя будут сыновья, — пожаловался он.
И хотя Лоуренс вполне его понял, тем не менее такой подход показался ему недостойным.
— Ты все такой же милый, — грустно заметил как-то его отец, — но я чувствую, между нами что-то встало.
— Не знаю, о чем ты, — с искренним удивлением ответил Лоуренс.
— Эти вспышки в твоих глазах. Ты больше не один из нас. Ты мог бы быть французом или испанцем.
— Мы все принадлежим к Вселенской церкви, — напомнил ему Лоуренс.
— Да, знаю… — Мартин Уолш невесело улыбнулся. — Но отцу трудно быть судимым собственным сыном.
Отчасти такая жалоба была справедливой. Этого Лоуренс отрицать не мог. Но подобная проблема возникла не только в его семье. Лоуренс знал и других молодых людей, которые, вернувшись из семинарий, обнаруживали, что в беззаботной вере их родных недостает серьезности и точности. Он понимал своего отца и сочувствовал ему, но изменить ничего не мог.
Вот почему история со Смитом и сестрой, как казалось Лоуренсу, была потенциально очень серьезной. Какое влияние может оказать такой союз на его семью? Лоуренс пытался припомнить что-нибудь, что он слышал о тех людях. Вроде бы там было двое сыновей. И один не сумел закончить обучение.
Но куда более важным был вопрос их веры. Крепки ли они в своих убеждениях? Склонны ли они к уступкам? Если бы только Лоуренс чувствовал уверенность в твердости отца в этом вопросе, но уверенности Лоуренс не ощущал.
Но даже и в таком случае было немного бестактно с его стороны сказать теперь отцу:
— Надеюсь, нам не грозит вероятность того, что этот Смит станет еретиком, как твой кузен Дойл.
Едва произнеся это, Лоуренс понял, что следовало выразиться как-то иначе. Его слова прозвучали почти как обвинение, как будто Дойл и Мартин были настолько близки, что Мартин каким-то образом нес за него ответственность и ничего не предпринял. Лоуренс увидел, как отец поморщился.
— Я уже говорил тебе, Лоуренс, что ничего подобного нет. Возвращайтесь в Испанию, сэр, и посвятите себя учебе.
И уж совсем непростительным было то, что в момент гнева Лоуренс сказал:
— А ты можешь быть уверен, отец, что я добьюсь расследования.
Он произнес эти слова тихо, чтобы их не услышали Орландо и Энн. Однако смысл слов был предельно ясен: отцу более нельзя доверять. И отцовский авторитет Мартина пошатнулся.
О чем они там говорят? Энн прислушивалась, но не могла разобрать. Выглядели оба сердитыми. Может, узнали, что она их обманывала? Но Энн не хотела никакого обмана. Совсем не хотела. Просто она влюбилась. Но и этого она тоже не хотела. А потом вдруг стало слишком поздно.
Когда Энн впервые встретила Патрика, ее мать была жива. Два года назад. Они поехали на праздник на равнине Керраг. Сюда со всех концов страны съехались и англичане, и ирландцы. Энн немного послушала волынки, пока родители смотрели лошадиные бега, а потом решила прогуляться по большой лужайке и тут заметила неподалеку молодых людей из Уиклоу, которые затеяли игру в хёрлинг. И хотя это была ирландская игра, несколько юношей из Дублина составили свою команду. Игра была жаркой, и парни из Уиклоу легко выигрывали, однако перед самым концом двое дублинцев дерзко прорвались вперед, и младший из них сравнял счет. Через мгновение игра закончилась, и Энн собралась уже уйти, как увидела, что те двое юношей из Дублина идут в ее сторону. Сама не понимая, что делает, Энн подождала, пока они не подойдут ближе. Оба широко улыбались, как мальчишки.
— Вам понравилось? — спросил с вежливой улыбкой тот, что был постарше, с темными волосами и правильными чертами лица. — Я Уолтер Смит, а это мой брат Патрик. Как видите, мы свою битву не выиграли. — Уолтер рассмеялся и внимательно посмотрел на Энн, но она этого не заметила, поскольку ее взгляд остановился на Патрике.
Он был выше брата. Худощавый и крепкий. И в его манерах было нечто мягкое. Лицо овальное, на подбородке двухдневная щетина. Судя по всему, борода у него росла очень быстро. Каштановые волосы коротко подстрижены и надо лбом начали редеть. Карие глаза смотрели спокойно, и смотрели они на Энн.
— Ты видела, как я играл?
— Видела. — Энн засмеялась.
Он доволен собой, подумала она.
— К концу я постарался, — добавил Патрик.
— Да они просто нам позволили, — улыбнулся его брат. — Из жалости.
— Ну нет! — Младший казался разочарованным. — Не слушай ты этого парня! — Ласковые карие глаза теперь смотрели прямо в глаза Энн, и девушка, к собственному удивлению, почувствовала, что розовеет. — Как тебя зовут? — спросил он.
Энн вовсе не знала, стоит ли ей ожидать новой встречи с Патриком Смитом или его братом. И потому через несколько дней она испытала легкое волнение, когда, приехав с матерью в Дублин, заметила его рядом с собором Христа. Патрик тут же подошел, вежливо представился ее матери и немножко поболтал с ними — достаточно, чтобы выяснить: по четвергам она обычно ездит в Мэлахайд повидаться с жившим там старым священником. И на следующей неделе он ждал у дороги на Мэлахайд и скакал рядом с Энн примерно с милю.
Вскоре после этого Энн уехала во Францию, а в том же году ее мать умерла. Через несколько дней после того, как пришла эта весть, Энн получила письмо от Патрика. Он выражал соболезнования и сообщал, что думает о ней. В течение следующих долгих месяцев, когда Энн чувствовала себя невероятно одинокой, она довольно часто думала о Патрике. И хотя она любила своего брата и знала, что отец бесконечно любит ее, ничто не могло заполнить болезненную пустоту в ее жизни — там, где прежде всегда ощущалась любовь матери.
Патрик встретил Энн через несколько дней после ее возвращения. И Энн придумала, что нужно брать с собой Орландо. В конце концов, девушка вроде нее просто не могла исчезать куда-то день за днем, ничего не объясняя. Что же до прогулок наедине с молодым человеком, да еще и без дозволения отца, — такое было просто немыслимо. Поэтому Энн нашла отговорку.
Ей это не нравилось. Она была обычной девушкой, но девушкой серьезной. И следовала истинной вере своих предков. Она любила своих родных и доверяла им. И каждый вечер молилась за душу матери и просила Деву Марию вступиться за нее. Энн было противно обманывать отца: она знала, что это грех. И если бы ее мать по-прежнему была с ними, Энн непременно рассказала бы ей о Патрике Смите, но отец — это совсем другое дело. И все равно ей хотелось его совета. Она бы и попросила о нем, но кое-что удерживало ее. Страх. Страх, что отец запретит ей впредь видеться со Смитом.
А она в нем нуждалась. Когда они вдвоем гуляли по тропинкам, Энн чувствовала себя легко и радостно, как ни с кем другим. Когда Патрик подходил ближе, Энн иногда почти дрожала. Когда его мягкие карие глаза заглядывали в ее глаза, ей казалось, что они сливаются воедино. Волнение этих встреч и растущее чувство того, что ее любят, заполняло пустоту, оставшуюся после смерти матери. И к тому лету Энн уже думала, что ей не прожить без Смита.
Но что бы сказал отец, если бы узнал? Конечно, он бы вмешался. А уж ее брат Лоуренс… Энн даже думать не хотела о том, что мог бы сказать он. Нет, если родные узнают о ее встречах с Патриком Смитом, всему придет конец.
А неделю назад Патрик просил ее выйти за него замуж. Они оба понимали, что все нужно устроить очень осторожно, должным образом. Его отец должен встретиться с ее отцом. Две семьи должны оценить друг друга, им ведь предстояло породниться. И знал или нет отец Патрика об ухаживаниях его сына, все равно молодые люди сошлись на том, что Мартина Уолша ни во что посвящать не следует.
— Я просто не осмелюсь теперь признаться ему, — сказала Энн. — Отец решит, что мы его обманывали, и это причинит ему боль, а возможно, и настроит против нас.
Один ужасный момент Энн боялась, что может проболтаться Орландо, но мальчик помнил свое обещание и помалкивал. Энн решила еще раз поговорить с ним — очень твердо, — перед тем, как уедет утром.
Если им повезет, то к тому времени, когда она окончательно вернется из Франции, они с Патриком будут помолвлены. А ее дорогой отец будет думать, что это он все устроил.
Мартин Уолш отвернулся от Лоуренса и задумчиво посмотрел на Энн. Она уже стала красивой молодой женщиной и так напоминала ему дорогую жену. Но все равно она была еще девочкой. Невинной. Которую нужно защищать. Ладно, он поговорит со своим кузеном Дойлом о семье Смита. Но в одном Уолш был уверен: счастье Энн он поставит превыше всего. Это должно быть его целью.
За спиной Энн через пролив виднелся маленький островок с расколотым утесом, и он, казалось, купается в гаснущем оранжевом пламени. А далеко на северо-западе вырисовывался холм Тара. Солнце, ставшее кроваво-красным, опускалось за него. Мартин снова развернулся, чтобы посмотреть на юг, через Дублинский залив. Темнело. На дальней стороне залива тьма накрывала и маленький район Долки. А еще дальше к югу, где в вечернем свете можно было видеть вулканические конусы, береговая линия сливалась с угрюмым серым морем.
Компания спустилась с вершины Бен-Хоута и поскакала на запад, через древнюю Долину Птичьих Стай, к дому. Солнце уже спряталось за Тарой, но небо над головами было еще светлым, из-за горизонта на севере разливалось сияние, позволявшее видеть все вокруг.
До дома им оставалось совсем немного, когда в полумиле впереди они увидели двоих всадников, ехавших по дороге с севера, к Дублину. Бесформенная тень позади, ведшая за собой вьючную лошадь, была, без сомнения, слугой, однако мужчина впереди производил сильное впечатление. Даже на таком расстоянии, даже в меркнущем свете его высокое худое тело, слегка наклонившееся вперед, походило на палку или, поскольку мужчина слегка раскачивался, на некое одинокое черное перо, чертившее на пейзаже чернильную линию.
Орландо, поглощенный странным зрелищем, не слышал, как выругался его отец, и не заметил, что его просят остановиться, пока не ощутил на руке ладонь Лоуренса.
— А кто это? — спросил мальчик.
— Человек, с которым тебе не захотелось бы встречаться, — очень тихо произнес отец.
— Протестант. — По тону Лоуренса было понятно, что он мог сказать и проще: «Сам дьявол».
Все молча наблюдали за тем, как похожая на жердь фигура пересекает пустую равнину, явно не замечая присутствия зрителей.
— Это доктор Пинчер, — наконец сказал Уолш.
Именно тем утром доктор Пинчер обогнул могильный холм на склоне над рекой Бойн. Как и все те, кто ходил этой дорогой, он смотрел вниз, туда, где величаво скользили лебеди, и отмечал спокойствие и тишину этого места. Как и другие, он глядел на огромные, поросшие травой могильные холмы, которые высились, словно молчаливые гиганты вдоль узкой гряды, а в его мозгу шевелилась мысль: что это за дьявольщина и как все это здесь очутилось? Если бы кто-нибудь смог ему объяснить — однако никто этого не делал, — что древние насыпи некогда были гробницами, сооруженными в соответствии с точными астрономическими расчетами, доктор Пинчер был бы изумлен. А если бы кто-нибудь из ирландцев рассказал ему, что под этими курганами скрываются светлые залы легендарного народа Туата де Данаан, народа великих воинов и мастеровых, который правил этой землей еще до того, как сюда пришли кельты, доктор Пинчер только бы презрительно фыркнул. Доктор не говорил по-ирландски, да и легенды ирландцев его не интересовали. Но перед самым большим курганом он заметил россыпи белого кварца. Пинчер подумал, возможно, они могут представлять какую-то ценность.
В то утро доктор Пинчер пересек Бойн ниже по течению от древних захоронений и поехал дальше на юг. Несколько дней доктор провел в Ульстере, и это было интересно. Очень интересно. И потому весь день он был занят размышлениями и ни слова не сказал слуге. Доктор Пинчер даже не остановился, чтобы перекусить.
Он уже десять лет прожил в Ирландии, и его мнение об ирландцах ничуть не изменилось. Король Яков дал верное определение: он называл коренных ирландцев-католиков дикими животными.
Кто-нибудь мог бы подумать, что такое мнение кажется странным, если учесть, что мать короля, королева Мария Шотландская, была преданной католичкой и что правители Шотландии ведут свое происхождение от ирландских племен. Но поскольку новый монарх Стюарт был помазанником Божьим, да еще и ученым, то верность его суждений не подвергалась сомнению. К тому же постоянные попытки ирландцев уклоняться от британских правил лишь доказывали, что они не способны сами управлять своей страной.
В Долине Птичьих Стай доктор Пинчер заметил Уолшей, но не обратил на них внимания.
Что бы он ни думал об ирландцах, положение преподавателя в новом учебном заведении приносило Пинчеру некоторое удовлетворение. Тринити-колледж был решительно протестантским, и Пинчер был там не единственным, кто проповедовал доктрину кальвинизма. Так что вряд ли стоило удивляться тому, что католики избегали Тринити, а правительственные служащие и прочие вновь прибывшие из Англии с энтузиазмом его поддерживали. Пинчер с успехом читал лекции по классическим языкам, философии и теологии и вскоре добился того, что его пригласили читать проповеди в кафедральном соборе Христа, где он завоевал у слушателей хорошую репутацию. Деньги, получаемые им за преподавание и проповеди, позволяли доктору жить весьма неплохо.
В особенности потому, что он не был женат. Вообще-то, он подумывал об этом и время от времени встречался с молодыми женщинами, которым казался привлекательным, но все они обязательно говорили или делали что-то такое, что подсказывало Пинчеру: они его недостойны. Поэтому он так и не женился. И все же у него была семья. Его сестра после чересчур долгого девичества наконец вышла замуж за почтенного человека по фамилии Бадж. И около полугода назад доктор получил письмо, в котором сообщалось, что сестра родила сына. Мальчика назвали Барнаби. Барнаби Бадж. Это было солидное, благочестиво звучавшее имя. И до тех пор пока он сам не женился и не обзавелся детьми, Пинчер считал этого малыша своим наследником.
«Я намерен кое-что сделать для него» — так Пинчер написал сестре. И хотя писал он это, руководствуясь естественной семейной привязанностью, все же у него были и дальнейшие планы. Потому что, по правде говоря, с течением времени его сестра стала иногда проявлять недостаток уважения к брату. Но это была только его собственная вина. Пинчер не мог этого отрицать. Он ведь помнил некоторые моменты своей юности и глупую историю, которая заставила его поспешно уехать из Кембриджа. Увы, сестра знала обо всем. А Пинчеру эти воспоминания даже причиняли боль. Но его выдающаяся карьера в Дублине давно перекрыла прошлое. Репутация доктора была надежной. Он много работал, и он ее заслужил. Долгие годы он трудился ради спасения. Был осторожен и благоразумен. Но все равно до сих пор не имел ощутимого доказательства своего положения: собственности. И лучше всего — земли. Но теперь, похоже, все это было рядом.
Ульстер. Божья награда.
В тот день, скача на юг, доктор Пинчер несколько раз вспоминал Двадцать второй псалом и находил его весьма подходящим к случаю. «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться». Видит Бог, он всегда был преданным слугой. И должен теперь верить, что Бог его вознаградит. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих… чаша моя преисполнена…» Да, избранную паству следует кормить, даже устраивать для нее пиры на глазах ирландцев. «Он покоит меня на злачных пажитях…» Ах, именно это он и видел всю неделю. Зеленые пастбища Ульстера. Вознаграждение Божье. Очень скоро сеятель бросит семя на благодатную почву.
Один благочестивый человек рассказал доктору о ферме в Ульстере. Арендатор собирался отказаться от нее через год или около того, и, скорее всего, ту ферму можно будет купить за хорошую цену. Земля там прекрасная. Если доктор побеспокоится прямо сейчас, то сможет получить обещание, что ему предложат ту землю в первую очередь.
Вот Пинчер и поехал в Ульстер и пришел от него в восторг. Конечно, там все одичало, но земля была плодородной. В особенности доктор был рад обнаружить расположенные вдоль побережья общины шотландцев, настоящих кальвинистов вроде него самого. Они уже перебрались через море и основали собственные небольшие фермы и рыбацкие деревушки. Что до собственности, о которой шла речь, то Пинчер осмотрел ее и поговорил с кем надо. Местечко, если он пожелает, может перейти к нему. Но куда более вдохновляющей для благочестивого человека была мысль о том, что вокруг живут добрые люди.
Подумать только, говорил себе Пинчер, ведь эту землю можно распахать, заселить…
Колонизация. На самом деле процесс колонизации начала католическая королева Мария Тюдор. И хотя ирландцы были католиками, она им не доверяла и потому пожаловала английским джентльменам земли в южной части Ленстера, где были основаны два поселения с военными гарнизонами для защиты тех мест. Попытались создать и другие колонии, в особенности в Манстере, где после большого бунта в период правления королевы Елизаветы отдельные участки земли правительство взяло под свой контроль в надежде, что поселенцы смогут научить ирландцев, как должны жить настоящие английские йомены. Но успеха там не добились, и все равно королевский совет не терял надежды. Что касается Пинчера, то ему казалось, что колонии — это блестящая возможность исполнять Божью волю. Разве не то же самое происходило в новых колониях — Виргинии и прочих — в Новом Свете? Вооруженные общины благочестивых пилигримов посреди туземных язычников, которые в свое время будут либо обращены, либо вытеснены в дикие места, а то и истреблены.
Колонизация проводилась достаточно просто. Огромную площадь следовало разделить на участки разных размеров. Англичане или шотландцы, готовые вложить деньги, — их называли предпринимателями — могли рискнуть и получить земельный надел, перевезти туда крепких арендаторов из Англии: йоменов, мастеровых и прочих, конечно же убежденных протестантов, — и потом наслаждаться постоянным доходом. Таким образом они стали бы владельцами идеальных общин. А скромные вкладчики вроде самого доктора могли не упустить блестящей возможности приобрести землю в аренду, а потом сдать ее в субаренду за приличные деньги.
В общем, не приходилось удивляться тому, что сердце доктора переполнялось радостью, когда он обдумывал идею: огромная часть Ульстера избавлена от папистов…
Могло ли это осуществиться? Кто знает? В свое время — да, верил Пинчер. А пока он мог начать, если все пойдет хорошо, с небольшого участка земли.
Поэтому он пребывал в отличном расположении духа, когда, добравшись до Долины Птичьих Стай, заметил католиков Уолшей, но не позволил этой картине испортить ему настроение.
После той их неловкой первой встречи Пинчер лишь изредка видел адвоката-католика. Он подозревал, что Мартин Уолш его недолюбливает, хотя Уолш был слишком джентльменом, чтобы как-то это показать. А вот к сыну Уолша, иезуиту, Пинчер испытывал ненависть и отвращение. О других двух детях Уолша он ничего не знал. Но в общем доктор Пинчер не проявлял особой враждебности к семьям вроде Уолшей. В конце концов, невозможно было отрицать тот факт, что Уолш — настоящий джентльмен, хотя и папист. И до тех пор пока он предан английской короне, а Мартин Уолш был ей действительно предан, не было нужды лишать их права владения, как каких-нибудь простых ирландцев. Пинчер на самом деле не был уверен в том, какой должна быть судьба людей вроде Уолша. Конечно, их следовало понемногу лишать власти. С некоторыми, вроде иезуита Лоуренса, обращаться следовало со всей строгостью. Другие постепенно исчезнут сами собой. Такова была основная мысль Пинчера.
И вдруг его осенила счастливая мысль. К тому времени, когда его племянник Барнаби Бадж достигнет зрелого возраста, останется ли младший сын Уолша по-прежнему папистом, наслаждающимся плодами имения Уолшей? Нет, так Пинчер не думал. Он даже решил с полной уверенностью, что к тому времени с такими, как Уолш, будет полностью покончено.
В самом начале августа Уолш сообщил Орландо:
— Ты скоро познакомишься с молодым Смитом. С человеком, за которого выйдет замуж твоя сестра.
Орландо знал, что отец занимается этим делом с тем самых пор, как Энн и Лоуренс уехали на континент. До этого были долгие разговоры с кузеном Дойлом, с некоторыми священниками из Дублина, встречи с самими Смитами. И после каждой такой поездки Уолш возвращался домой погруженный в мысли, но своими размышлениями ни с кем не делился. И поэтому, когда Орландо услышал, что в субботу днем молодой человек приедет к ним и останется у них на ночь, а потом утром пойдет вместе с ними на мессу, мальчик был чрезвычайно взволнован и переполнен радостью за сестру.
— Думаю, он тебе понравится, — благодушно сказал ему отец.
— Ох, я уверен! — ответил Орландо.
И как же старательно он готовился к встрече! И не забывал о данном сестре обещании. Никто не должен узнать о тайных встречах возлюбленных. Ни словом, ни жестом он не должен выдать себя. При встрече с молодым Смитом следовало вести себя так, словно он видит его впервые в жизни. Снова и снова Орландо повторял это в уме. Он обдумал каждую из глупых ошибок, какие мог бы совершить, и был готов к любой из них. Когда приблизился важный день, Орландо, встревоженный и взволнованный, был уверен в себе. Он их не выдаст.
Утро Орландо провел с одним из рабочих на ферме. Он как раз помогал разгружать телегу торфа, привезенного с болота на севере, когда увидел вдали всадника, скакавшего к их дому. Отец был внутри, и на мгновение Орландо подумал, не следует ли ему побежать навстречу молодому Смиту, дать ему знать, что он честно хранит их тайну. Но после краткого колебания решил, что это может вызвать подозрения и что лучше пусть все идет так, как он и задумывал. Поэтому он просто развернулся и пошел в дом, где нашел отца и сообщил, что к ним едет какой-то незнакомец.
А потому именно его отец вышел навстречу молодому человеку и позвал конюха, чтобы тот занялся конем, а Орландо, изображая смущение, держался в тени в прихожей.
С того места, где он стоял, Орландо казалось, что он смотрит сквозь туннель, поскольку за открытой дверью ярко светило солнце. Орландо слышал голоса снаружи, видел тени, мелькнувшие перед входом, а потом появились две фигуры. Впереди шел отец, и он загородил солнечный свет. Вот они вошли и направились к Орландо. Настал его черед.
— Ну, — услышал он голос отца, — вот мой сын.
И тут, моргая на солнечный свет, что опять лился сквозь дверь за их спинами, Орландо с ужасом и явным недоумением уставился в лицо молодого Смита.
Потому что это был вовсе не молодой Смит. Это был кто-то совсем другой.
Затея принадлежала Дойлу. Когда Мартин Уолш приехал к нему, чтобы поговорить о письме Питера Смита, Дойл ответил без колебаний:
— У Смитов отличная репутация, кузен Мартин. Их отец — достойный человек, и вполне состоятельный. И добрый католик, если желаешь знать, хотя кто-нибудь другой, наверное, сможет рассказать тебе больше. И у него двое сыновей. Который из них сватается к твоей дочери?
— Его зовут Патрик.
— А-а… — Дойл покачал головой. — Это вряд ли. Тебе нужен Уолтер, старший. Он не обручен пока, насколько я знаю.
— А что ты имеешь против Патрика?
Дойл протяжно вздохнул, выпустив воздух сквозь зубы:
— Ничего преступного, кузен. Никаких дурных поступков. Ну, младший сын, конечно. Но его характер… — Дойл помолчал. — Его отправили в семинарию, видишь ли. Но он так и не закончил обучение. Он вообще ничего не заканчивает. Не хватает настойчивости, упорства. Слабость, я бы сказал, которую он прикрывает галантными манерами.
— Галантен?
— О да! — Торговец усмехнулся, изображая некую пародию на изысканный стиль. — Он буквально образец совершенства во всех умениях аристократов. Он прекрасно ездит верхом, стреляет из лука, бегает как олень. Пишет стихи, поет и танцует. Говорят, женщины буквально тают под его взглядом.
— Понятно, — мрачно пробормотал Мартин.
— Они предлагают Патрика, кузен, но тебе нужен Уолтер. Он умен и работоспособен, и он очень приятный парень. Смит же будет лишь рад породниться с семьей Уолш, так что можешь выставлять свои условия.
Дойл рассказал Мартину еще очень много полезного, и когда Уолш наконец расстался с ним, последние слова Дойла продолжали звучать в его ушах: «Помни, кузен Уолш, не позволь им подсунуть тебе Патрика».
Мартин Уолш навестил Смита и попросил познакомить его с обоими сыновьями. И ему стало понятно, что оценка Дойла была абсолютно правильной. Патрик, решил Уолш, честолюбив, но льстив и вкрадчив. Уолтер, хотя и был вежливым, не прилагал особых усилий к тому, чтобы произвести впечатление, и явно был нужным Уолшу человеком. Когда Уолш сказал Смиту, что предпочел бы Уолтера, на лице торговца на мгновение возникло выражение беспокойства.
— Но девушка и Патрик так нравятся друг другу, — возразил он. — Они как два голубка.
— Она его почти не знает, — твердо возразил Уолш.
— А-а… — Смит как-то странно посмотрел на Уолша, но тут же взял себя в руки. — Тут нужно подумать, — сказал он.
Переговоры продолжались две недели, и Уолш все больше убеждался в том, что его кузен Дойл ни в чем не ошибся и что Смит скорее пожертвует старшим, лучшим сыном, чем потеряет возможность породниться с Уолшами. Мартин несколько раз беседовал с молодым Уолтером и нашел его превосходным во всех отношениях. И в конце концов помолвка была устроена к всеобщему удовлетворению… или так думал Уолш.
Орландо просто не знал, что сказать или что подумать. Весь этот день и весь следующий он почти не разговаривал. В доме во время трапезы Орландо, сидя на трехногом табурете, таращился на Уолтера Смита как идиот. К счастью, отец принял это за детскую застенчивость и не обратил внимания. А Орландо все гадал: знает ли Энн об этом? Должен ли он сказать ей, а если должен, то как это сделать? Вечером в воскресенье, когда Уолтер Смит уехал, Орландо подошел к Мартину:
— Отец, я хотел бы написать сестре.
— Письмо сестре? Рад это слышать, — благодушно откликнулся Уолш. — Можешь добавить несколько слов к письму, которое я уже пишу.
Орландо думал вовсе не об этом, однако ничего не мог поделать. И потому под аккуратными строками письма, написанного отцом, последовало сообщение детской рукой Орландо:
Отец говорит, что я должен радоваться за тебя, потому что ты просватана за Уолтера Смита. Он, похоже, прекрасный джентльмен, но я никогда не видел его раньше.
Орландо постарался потратить как можно больше чернил на последние слова, чтобы они выглядели ярче. Отец посмотрел на каракули сына, коротко высказался о его дурном почерке, но больше ничего не добавил.
После этого Орландо оставалось только ждать. Он по-прежнему брал уроки у старого священника. В доме царила тишина.
Внезапный приезд Энн десять дней спустя застал всех врасплох. Получив письмо от отца и Орландо, девушка в тот же самый день покинула Бордо, ни у кого не спросив разрешения и никого не поставив в известность. Отдав в залог золотое распятие и цепочку, подаренные ей отцом, Энн раздобыла денег на дорогу и добралась до побережья, где нашла корабль, отправлявшийся в Дублин. Ее отец не знал, то ли ему восхищаться храбростью дочери, то ли гневаться на ее непослушание.
А она сказала ему, что любит Патрика. Мартин был потрясен ее страстными речами и даже написал Лоуренсу, прося совета. Еще сильнее Мартин расстроился из-за того, что даже не подозревал о том, что его дочь испытывает такие сильные чувства к молодому человеку, но и гнев, и боль из-за обмана дочери утонули в ее слезах.
— Я думал только о твоем счастье, дитя! — заверил ее Уолш.
И тем не менее, как бы ни страдала в этот момент девушка, Уолш понимал: на самом деле его решение было верным. Энн могла быть влюблена в Патрика, но в перспективе он не дал бы ей счастья. А Уолтер мог это сделать. И Уолш мягко и горячо пытался объяснить это дочери.
— Бывают случаи, Энн, когда нельзя допускать, чтобы чувства взяли верх над разумом, — убеждал он ее, но Энн просто не слушала. — По крайней мере, познакомься с Уолтером, узнай его поближе, — предложил Уолш.
Но она хотела видеть только Патрика, ее истинную любовь, и несчастный Мартин Уолш, желая как никогда сильно, чтобы его милая супруга была сейчас жива, просто не знал, позволять ей это или нет. Прошла неделя. Энн залила слезами весь дом. Они несколько раз разговаривали, но без результата. Уолш гадал, не лучше ли будет отправить дочь обратно в церковную школу. И прикидывал, не следует ли пригласить в гости Уолтера Смита, чтобы Энн сама увидела, какой он хороший человек, но боялся, что Энн решительно отвергнет юношу и тот больше сам не захочет иметь с ней дело. Передумал ли он сам насчет Патрика? Уолш знал: это было бы ошибкой. Однако страдания дочери доставляли ему сильную боль. На вторую неделю Энн выглядела такой бледной и апатичной, что Уолш готов был послать за доктором.
А потом приехал Лоуренс.
Он примчался чрезвычайно быстро. Мартин, к собственному удивлению, обрадовался приезду старшего сына. Лоуренс сразу заметил, что сестру следовало бы выпороть, однако, видя изумление отца, больше к этой теме не возвращался. И все-таки приезд Лоуренса стал как будто благословением.
Лоуренс был тих и очень спокоен. С сестрой он держался мягко, ни в чем ее не упрекал и лишь каждый день спрашивал, могут ли они помолиться вместе. Он дружески обращался с юным Орландо, раз-другой взял его на прогулку, и они даже вместе поохотились на кроликов.
Для Орландо приезд Энн стал облегчением. Несколько часов он провел с ней наедине и поведал все, что узнал об Уолтере Смите.
— Я никому не сказал о ваших встречах, — заверил он сестру.
— Знаю. И я не стану никому говорить, как ты нам помогал. Хотя теперь, — она покачала головой, — это вряд ли имеет значение.
Орландо знал о разговоре сестры с отцом, видел ее слезы, но в последовавшие после приезда Энн дни она ничем с братом не делилась. Ясно было, что Энн не хочет обсуждать с ним свои проблемы. Но как-то днем Энн позвала его и тихо сказала:
— Послушай, братишка, ты мог бы кое-что сделать.
На следующее утро Орландо уехал на прогулку один. В тот день уроков у него не было, а отец был слишком занят, чтобы это заметить. Орландо гнал своего пони по дороге через Долину Птичьих Стай и к середине утра уже подъезжал к Дублину. Перебравшись через Лиффи по старому мосту, Орландо въехал в городские ворота и направился к Вайнтаверн-стрит, где стоял дом Смитов. У входа на задний двор он нашел какого-то юного слугу и спросил, дома ли Патрик Смит. Патрик оказался дома, и Орландо попросил передать, что его ждет снаружи один друг. Через несколько минут молодой человек вышел.
Когда Орландо увидел его, то чуть не вскрикнул от радости. Патрик Смит выглядел точно так же, как Орландо помнил, он ничуть не изменился. Красивый, улыбчивый, с мягкими карими глазами, в которых отразилось удовольствие при виде Орландо.
— Ты наверняка уже слышал, Орландо, что твою сестру обручили не со мной, а с моим братом, — негромко сказал он.
— Она приехала. Дома сейчас.
— Она здесь? — Патрик явно был сильно удивлен. — Пойдем-ка прогуляемся к заливу. Расскажешь мне обо всем.
И Орландо рассказал ему о слезах сестры и ее спорах с отцом.
— Она хочет выйти за тебя! — выпалил Орландо. Трудно было сказать, поразила Патрика эта весть или доставила радость. — Она хочет тебя повидать, но отец ей не разрешает. Так что тебе следует встретиться с ней тайно.
— Ясно. Но ты должен понять, Орландо, что и мне отец запретил видеть твою сестру.
Орландо уставился на него:
— Но ты ведь найдешь способ? — Мальчик просто представить себе не мог, что этот красивый молодой герой позволит такой мелочи встать на своем пути. — Ты ведь хочешь ее увидеть?
— Ох, хочу! Не сомневайся.
— Тогда я могу сказать ей, что ты приедешь? — И Орландо объяснил, как нужно организовать встречу.
— Но мне ведь придется уехать без ведома отца. Или брата. — Патрик немного помолчал, глядя на залив. — Так что я приеду, как только смогу ускользнуть. Возможно, завтра. Или через день-другой. Очень скоро.
— Я буду ждать тебя там, — кивнул Орландо.
И он ждал. Место было выбрано с умом: заброшенная часовня, в которую редко кто-нибудь заходил, стояла на самом краю владений Уолша. И ждать должен был именно Орландо, а не Энн, поскольку ее отсутствие могло возбудить подозрения. А когда приехал бы Патрик, Орландо должен был поспешить в дом, расположенный не так уж далеко, и привести Энн, а потом остаться на страже.
На следующий день Орландо прождал три часа, до сумерек. Пошел дождь, но мальчик все равно ждал и вернулся домой промокшим. На третий день погода была отличной, однако Патрик Смит не появился. И на четвертый день тоже.
— Почему он не едет? — рыдала Энн. — Разве ему все равно?
— Приедет. Он же сказал, — возражал Орландо. И ждал и на пятый день тоже. — Наверное, мне лучше опять съездить в Дублин, — решил он тем вечером.
— Нет, он не приедет, — тихо ответила ему сестра. — Не надо больше ждать.
И вскоре после этого Орландо снова услышал ее рыдания. Но хотя Энн стала совсем грустной и вялой, Орландо еще несколько дней ждал у часовни. А потом приехал Лоуренс, перевернув привычный ход вещей, однако Патрик Смит так и не появился и никак не дал о себе знать.
В первый день после приезда Лоуренс взял Орландо на прогулку, и мальчик волновался, желая вернуться поскорее и побежать к назначенному месту встречи, но Лоуренс задержал его надолго. И задал Орландо несколько вопросов.
Это были вроде обычные вопросы, об уроках и прочем, чтобы успокоить мальчика. Но в какой-то момент Лоуренс сказал:
— Я беспокоюсь за Энн. Мне больно видеть, как она горюет. Как думаешь, ей действительно так уж нужен этот Патрик?
— Думаю, да, — ответил Орландо.
— А Уолтер Смит… О нем что ты думаешь?
Орландо постарался дать о молодом человеке наилучший отзыв, исходя из впечатлений от его первого визита.
— Он вполне хороший человек, — признал Орландо, и Лоуренс одобрительно кивнул:
— А можно его сравнивать с Патриком, а?
— Ох, ну… — Орландо чуть было не начал говорить, но тут заметил ловушку и мысленно обругал старшего брата. — Не могу сказать. Энн говорит, Патрик выше ростом.
— А сам ты его не видел?
Темные глаза Лоуренса буквально пронзали Орландо насквозь. Он словно видел все постыдные тайны его ума.
— Энн с ним познакомилась, когда была с мамой, а меня там не было, — ответил Орландо, встряхнув головой.
Умный ответ, и даже правдивый.
— Хм… — пробурчал Лоуренс.
Он не стал возвращаться к этой теме. А вскоре после разговора уехал в Дублин на целый день. На следующее утро Орландо подслушал его разговор с отцом.
— Скажешь ей сам? — довольно раздраженным тоном спросил отец.
— Это лишь к лучшему, уверяю тебя, — ответил Лоуренс. — Я постараюсь быть помягче.
Похоже, так и было.
— Я сидела на скамье перед домом, просто сидела на солнышке, — рассказала позднее Энн младшему брату. — А он подошел и сел рядом. Он был таким милым. И заговорил о любви.
— Лоуренс — о любви?
— Да. Похоже, он был когда-то влюблен. Ты только подумай! — Энн улыбнулась, потом нахмурилась. — Уверена, он говорил правду.
— Он на твоей стороне, против отца?
— Ох нет! Он говорил о Патрике. Сказал, что первая любовь всегда сильна, но мы не можем узнать человека по-настоящему, понять, вправду ли он нам подходит, если не знаем его достаточно долго. А я спросила: «Тогда как можно найти счастье, если обручают людей, которые друг друга почти не знают?»
— Наверное, он не ответил.
— Ответил. «Их родители могут судить более здраво, чем сами молодые… ну или надеются на это». Вот что он сказал. А потом засмеялся. Я так удивилась! «Тут нет речи о семейном состоянии, — добавил он. — Они ведь братья, в конце-то концов. Это вопрос характера. Сейчас ты влюблена в Патрика, но пройдут годы, и я тебе обещаю… — он так горячо на меня посмотрел! — обещаю, что именно Уолтер будет хорошим мужем и ты станешь куда счастливее, чем можешь вообразить». Вот так.
— А ты что ответила?
— Я спросила, станет ли отец принуждать меня к браку с Уолтером. А он воскликнул: «Нет! Нет! Не станет. Сама его спроси. Он хочет, чтобы ты до весны вернулась во Францию. А когда приедешь домой, познакомишься с Уолтером, узнаешь его. Но если он тебе не понравится, я хочу сказать, если ты будешь думать, что не сможешь полюбить его и уважать, тогда помолвку расторгнут».
— И больше он ничего не сказал?
— Сказал. Я все молчала и молчала, тогда он взял меня за руку, улыбнулся и сказал: «Помни, Энн, эту поговорку, в ней много мудрости: „Голова управляет сердцем — легче жить. Сердце управляет головой — лучше умереть“».
— И все?
— Нет. Кое-что еще. Я не должна больше видеть Патрика.
— Он тебе запретил?! — воскликнул Орландо. — Если хочешь, я поеду в Дублин и привезу его!
— Нет, ты не понял. — Энн поморщилась. — Он уехал. Его нет в Дублине. Уплыл на корабле.
— Куда?
— Кто знает? В Англию, во Францию, в Испанию… да хоть в Америку. Его отослали из дому, и он не вернется, пока я не выйду замуж за кого-нибудь…
— Это Питер Смит устроил? Не мог же сам Патрик…
— Нет. Неужели не понимаешь? Это Лоуренс. Он за моей спиной обо всем договорился. О, надо было мне догадаться! Я его ненавижу! — внезапно закричала Энн.
А потом разрыдалась.
Но три дня спустя Энн вполне спокойно уехала с Лоуренсом, чтобы вернуться во Францию. В конце концов, она все равно ничего не могла изменить.
После отъезда Энн и Лоуренс дом вернулся к обычной жизни в великой тишине Фингала. Орландо возобновил занятия. Мартин Уолш ездил в Дублин один-два раза в неделю. По воскресеньям они отправлялись к замку Мэлахайд, где священник служил мессу или проводил службу в старом каменном здании. Сентябрь выдался теплым. Погода стояла прекрасная. Мартин Уолш, наслаждаясь покоем своего имения, несколько дней вообще не ездил в Дублин, но вот однажды днем, вернувшись с прогулки, Орландо увидел, что к ним скачет кузен Дойл. Крупный мужчина быстро спешился и дружески кивнул Орландо:
— Отец дома? А! Вон он! — продолжил он, когда Мартин Уолш появился в дверях. — У меня новости, кузен… Или ты уже знаешь их?
— Я ничего не знаю.
Уолш посмотрел на Орландо и вопросительно глянул на Дойла.
— Мальчику можно слышать. Скоро вообще все узнают. Это новости из Ульстера. — Дойл коротко вздохнул. — Граф Тиронский ушел.
— Умер?
— Нет. Сел на корабль и уплыл. И с ним О’Доннелл, граф Тирконель, и еще кое-кто. Эти графы смылись, кузен Уолш, повернулись спиной к Ирландии, и они не вернутся.
Уолш уставился на Дойла. Мгновение-другое он просто молчал. Потом в недоумении встряхнул головой и задал простой вопрос:
— Почему?
Граф Тиронский. Орландо, конечно, никогда его не видел, но в его воображении граф всегда присутствовал — высокий, темноволосый, героический, почти подобный богам, последний великий принц древней Ирландии, наследник верховного короля О’Нейла, живший в Ульстере. Орландо даже думал, что Тирон может еще однажды вернуться и выгнать из Дублина королевских чиновников, а потом, без сомнения, он бы вернул себе трон предков в королевской Таре. Хотя Орландо был из старых англичан, в его глазах древняя сила Ирландии выглядела куда более волнующей и пугающей. Что до О’Доннелла, так он был великим ирландским принцем Донегола. Север и северо-запад, остатки прежних племенных земель. Тирон и Тирконель — последние правящие принцы Ирландии… И они сбежали.
— Почему? — Дойл пожал плечами. — В Дублине говорят, что О’Доннелл строил заговор с испанским королем, как Тирон прежде, и узнал, что до правительства дошел слух об этом. Так что сбежал, пока можно было.
— Но Тирон? У него же все было в порядке. Ему оставили свободные земли на его собственных территориях У него не было причин бежать.
— Я бы согласился. Но он смотрит по-другому. Английские чиновники начали суету вокруг Ульстера. И никто не поверит, что граф Тиронский никак не связан с О’Доннеллом и королем Испании. — Дойл вздохнул. — Кроме того, ирландские принцы не рождены для таких вот времен. Они ведь никогда не станут слугами короля.
— Ну, быть графом Тиронским едва ли значит быть слугой.
— Но для него это так. Ирландцы — свободные люди, Мартин. У них есть кланы, древние племена, семейные владения, но их дух свободен. А принцы отвечают только перед собой. Тирон никогда не станет выполнять приказы какого-нибудь надутого английского чиновника, у которого за спиной нет ничего, кроме его временной должности, и к которому Тирон в любом случае отнесется как к еретику. Это не в его натуре.
— И потому он бежал.
— Улетел, как птица. Как орел, я бы сказал.
— И что он будет делать?
— Блуждать по Европе. Найдет какого-нибудь католического принца, которому сможет служить, не теряя честного имени и религии. Будет командовать армией. Помни, он знаком со всеми католическими королями и с их армиями. Для него это будет честью.
— Да, верно. — Уолш задумчиво кивнул. — Поешь с нами, выпьешь со мной вечером?
Дойл улыбнулся:
— Я так и собирался.
Тем вечером они рано поужинали в просторном зале дома, и Орландо имел возможность понаблюдать за обоими мужчинами, пока те разговаривали: его отец был спокойным, с уверенными манерами, а Дойл, смуглый и немного ниже ростом, выглядел более напряженным. За ужином они, само собой, говорили о политических последствиях бегства Тирона и о том, что вообще все это означает.
— Без сомнения, правительство конфискует земли графа, — заметил Уолш. — Найдут какой-нибудь законный предлог.
— Подозреваю, кончится тем, что там создадут колонию. Все, кому нужна недорогая земля, наверняка сегодня радуются, — сказал Дойл.
Но похоже, его самого это не слишком радовало.
Когда ужин закончился, мужчины остались сидеть за столом, неторопливо попивая вино. Орландо понимал, что он здесь совсем не нужен, но остался в зале, тихонько устроившись у большого открытого очага, а мужчины, казалось, забыли о его присутствии. И пусть они говорили мало или же он не понимал того, что они говорят, Орландо просто в такой важный момент хотел остаться в обществе отца и его кузена. Мальчик внимательно наблюдал за обоими. Несмотря на юный возраст, Орландо ощущал их настроение и пропитывался им, и это стало частью его души на всю оставшуюся жизнь.
Да, это было очевидно: в тот вечер оба мужчины были полны грусти и чувства потери. Дойл, потомок викингов и многочисленных поколений дублинских торговцев, формальный протестант — или принадлежащий к Ирландской церкви, — и Уолш, его двоюродный брат, джентльмен-католик, чья семья служила опорой старым английским сквайрам в Ирландии уже почти пятьсот лет. Двое мужчин в самом сердце английского Пейла, но и двое ирландцев при этом, а потому для них обоих отъезд графов Тиронского и Тирконеля стал личным ударом. Они оба эмоционально ощущали себя куда ближе к ирландским принцам, чем к любому из англичан, присланных из Лондона.
— Бегство графов, — протяжно произнес Дойл, — означает конец эпохи.
— Пусть Бог дарует им лучшую судьбу. — Уолш поднял бокал с вином.
— За это я выпью, — кивнул Дойл.
И юный Орландо, молча наблюдавший, понял, что каким-то непонятным образом мир, в котором он жил, изменился навсегда.
На следующее утро, после отъезда Дойла, отец позвал Орландо.
— Ты идешь со мной, — сказал он, а когда Орландо спросил, куда именно, ответил: — В Портмарнок.
Маленькая прибрежная деревушка Портмарнок лежала у дороги, шедшей через пески и дюны на юг, и частично проходила по краю древней Долины Птичьих Стай. Орландо предположил, что нужно оседлать пони, однако отец сказал ему:
— Нет, мы пойдем пешком.
Дул легкий ветер. По небу скользили облака, и небо становилось то серым, то голубым. Орландо с довольным видом шагал рядом с отцом, время от времени обмениваясь с ним несколькими словами; они шли на восток, к Портмарноку. Дойдя до края своей земли, они миновали маленькую заброшенную часовню, в которой Орландо ожидал Патрика Смита.
— Просто стыд, что наше собственное правительство запрещает нам ее использовать, — заметил Уолш.
Они шли дальше, и теперь вокруг видны были свидетельства средневекового заселения этих мест старыми англичанами: поля пшеницы и овса; высокие темные живые изгороди; каменные стены; тут и там стояли каменные церкви или небольшие укрепленные дома. Но вскоре они добрались до менее ухоженных территорий, где пасся скот. Открытая пустошь мягко уходила вниз, к морю, и это напоминало о тех давних временах, когда предок Дойла, Харольд Викинг, и другие вроде него создали свои фермы в долине Фингала.
Однако цель отца и сына, до которой они добрались меньше чем за час, была старше всего этого. Она стояла в одиночестве, в стороне даже от рыбацких хижин.
— Твой брат не одобряет это место, — с легкой гримасой заметил Уолш. — И не одобрил бы то, что я сюда иду.
Орландо впервые услышал от отца некий намек на трения между ним и Лоуренсом.
— Но я все равно прихожу сюда время от времени.
Посмотреть здесь было, в общем-то, не на что. Частенько, направляясь к берегу, Орландо проходил мимо этого места, правда оставаясь примерно в четверти мили от него. Просто какой-то старый колодец, окруженный невысокой каменной стенкой. В свое время над ним построили коническую крышу, но она давно развалилась, поскольку за ней никто не присматривал. Колодец был довольно глубоким, но, наклонившись через его край, Орландо рассмотрел слабый мягкий блеск воды далеко внизу. Колодец возле их дома был почти таким же глубоким, но никогда не казался Орландо особо интересным, а вот этот колодец был совсем другим. Орландо не знал почему. Возможно, потому, что он находился в относительно уединенном и пустом месте, однако в его воде было что-то странное и загадочное. Но что? Может, это был мерцающий вход в другой мир?
— Это колодец Святого Марнока, — тихо произнес отец рядом с Орландо. — Твой брат Лоуренс утверждает, что когда-то он был языческим местом. До прихода святого Патрика, это точно. Лоуренс говорит, что такие вещи — всего лишь суеверия, недостойные веры. — Уолш вздохнул. — Может, он и прав. Но мне нравятся древние времена, Орландо. Я прихожу сюда как простой крестьянин, чтобы помолиться святому Марноку, когда у меня неприятности.
Святой Марнок. Один из десятков местных святых, почти забытых всеми, кроме здешних жителей, хотя иногда у них имелся свой день и источник или священное место, где их можно было вспомнить.
— Мне тоже нравятся давние времена, — сказал Орландо.
Он и вправду так чувствовал, тем более что это сближало его с отцом.
— Тогда ты можешь помолиться за свою сестру и попросить святого наставить ее на ум.
Подойдя к колодцу, Уолш опустился на колени и какое-то время молча молился. Орландо, также вставший на колени, ждал, пока не встанет отец, но как только Уолш поднялся, Орландо подошел к нему поближе, и, к удивлению мальчика, отец обнял его за плечи:
— Орландо, можешь мне пообещать кое-что?
— Да, отец.
— Обещай, что однажды ты женишься и обзаведешься детьми, что подаришь мне внуков.
— Да, отец. Обещаю. Если такова будет Божья воля.
— Будем надеяться на это, сын мой. — Он немного помолчал. — Поклянись мне здесь, у этого колодца, перед святым Марноком.
— Клянусь, отец. Перед святым Марноком.
— Хорошо. — Уолш кивнул самому себе, а потом, посмотрев на сына, улыбнулся. — Это хорошо, что ты поклялся. И мне бы хотелось, чтобы ты навсегда запомнил этот день, когда твой отец привел тебя к священному источнику Святого Марнока. Запомнишь этот день, Орландо?
— Да, отец.
— На всю жизнь. Идем.
И, продолжая обнимать сына за плечи, Уолш повел его по длинной тропе через дюны, на широкий песчаный берег. Как раз был отлив, и песок далеко ушел в море, мягко сверкавшее на солнце.
Справа от них берег уходил светлой полосой к Бен-Хоуту, чей горб высоко поднимался из воды. Перед ним приютился маленький островок Ирландс-Ай, как стоящий на якоре корабль. А вдали в другой стороне, в дымке северного горизонта, словно спали синие горы Морн, охранявшие Ульстер.
Орландо поднял голову и посмотрел на отца. Взгляд Мартина Уолша устремился в море, Уолш явно затерялся в собственных мыслях. Орландо опустил глаза на разбитую раковину, лежавшую у его ног. Облако прикрыло солнце, море погасло.
— Конец эпохи, Орландо… — Голос отца был едва слышен. Потом мальчик почувствовал, как пальцы отца слегка сжали его плечо. — Помни свое обещание.
В начале следующего года в Бордо стоял сырой, ветреный день. Именно в этот день Энн Уолш получила письмо от своего отца.
Моя дорогая дочь!
Ты должна подготовиться, потому что у меня самая печальная весть для тебя. Две недели назад Патрик Смит сел на торговый корабль в Корке, куда он прибыл неделей раньше. В то утро, когда они отплыли, погода была хорошей. Но ближе к вечеру поднялся сильный шторм, и он пригнал корабль назад к ирландскому побережью и выбросил на скалы. И к моему великому огорчению, должен тебе сообщить, что в этом крушении погибли все, кто был на борту.
Я знаю, моя дорогая Энн, как это печально должно быть для тебя, и могу только горевать вместе с тобой и повторять тебе, что всегда думаю о тебе.
Твой любящий отецЗначит, все кончено. Ее любовь потеряна навсегда, без надежды на возвращение. Энн разрыдалась и плакала подряд несколько часов.
Но после первого всплеска горя пришел гнев. Не на отца, ведь не он это сделал, а на Лоуренса. Это он, с горечью думала Энн, это Лоуренс своим вмешательством и хитростью, своей самоуверенной убежденностью убил Патрика. Если бы не Лоуренс, Патрик ни за что не уехал бы, никогда не очутился бы в Корке, не утонул бы. И, забыв о слезах, в приступе боли и ярости, Энн прокляла своего брата и пожелала ему самому оказаться на месте Патрика и умереть.
Потом Энн бесцельно уставилась в окно, за которым лил дождь, и долго смотрела на стекавшие по стеклу капли и на серую мглу за ними, чувствуя бесконечное опустошение. Ей теперь было все равно, что будет с ней дальше.
1614 год
Тадх О’Бирн всех обошел. Он это знал, потому что наблюдал.
— Очень много пили на этих поминках, — сообщил он жене. — Но я всех обошел. Я был первым. У меня голова такая — крепче крепкого.
— Верно, — согласилась жена. — Такая.
— Я гора! — провозгласил Тадх, хотя и ростом, и физической силой он не догонял большинство мужчин.
Его звали Тадх, или Тадк, как чаще писалось; самое обычное имя. Англичане частенько переделывали его в Тига, да и то произносили скорее как «Тайг».
— Было несколько Тадхов О’Бирнов, — говаривал он иногда. — Могущественные вожди!
И они действительно были такими. Проблема состояла в том, что сам Тадх вождем не был. А должен был быть, по крайней мере по его собственному мнению. Именно он.
А не Бриан О’Бирн.
Шестьдесят лет прошло с тех пор, как умер Шон О’Бирн из Ратконана, и ему наследовал его сын Шеймус. Однако когда дело дошло до избрания наследника Шеймуса, то его старший сын, по общему мнению собственной семьи и всех значительных людей в округе, был признан никудышным. И выбор клана пал на третьего из четверых сыновей Шеймуса, прекрасного парня, который тогда по ирландским законам и обычаям перебрался в Ратконан и представлял клан, когда то было необходимо. Бриан О’Бирн был внуком этого отличного парня. А Тадх О’Бирн — внуком никудышного.
Поминки были по отцу Бриана. Люди собрались не только из этой части гор Уиклоу, но и издалека: О’Тулы, О’Моры, Макмурхады и О’Келли. И конечно, О’Бирны: О’Бирны из Даунса, О’Бирны из Килтимона, О’Бирны из Баллинакора и Кнокраха; О’Бирны со всех частей гор Уиклоу. Все явились отдать последнюю дань уважения Тоирдхилбхаку О’Бирну из Ратконана и приветствовать его красивого молодого сына Бриана, наследника. И почти никто из них не обратил никакого внимания на Тадха О’Бирна, который, по общему мнению, был ничем.
— Ты только посмотри на это! — Тадх с такой горечью сосредоточился на молодом Бриане О’Бирне, что и знать не знал, слушает ли его жена. Да ему и все равно было. — Это же просто мальчишка! — насмехался он. — Мальчишка, который забрался в отцовскую кровать!
Пусть Бриану О’Бирну было всего двадцать лет, пусть он был высок, светловолос и красив, Тадх все равно гордился своей внешностью. Ему уже стукнуло тридцать четыре. Его темные волосы падали кольцами на плечи в традиционной ирландской манере. Для сегодняшнего случая он сменил обычную оранжевую льняную рубашку на белую, подпоясанную на талии, и набросил на плечи светлый шерстяной плащ. Многие мужчины были в темных камзолах из уважения к случаю, но Тадх никогда не имел камзола. И на большинстве мужчин были узкие штаны или шерстяные чулки, но, поскольку день был теплым, Тадх остался с голыми ногами, обувшись только в тяжелые броги — башмаки из недубленой кожи. Он вполне мог быть пастухом или рабочим.
А перед ним был его молодой кузен, юный вождь, наследник Ратконана, который должен был принадлежать Тадху: молодой Бриан со светлыми, коротко подстриженными волосами, в черном дублете, украшенном вышивкой, в коротких штанах, в шелковых чулках и отличных кожаных ботинках. Он даже носил золотое кольцо. И все это заставило его родственника Тадха сплюнуть и пробормотать:
— Англичанин. Предатель.
Но это было неверно. Такую одежду могли носить джентльмены во многих частях Европы, включая и жителей главной надежды коренных ирландцев, самого католического из всех королевств — Испании. И кое-кто из богатых и наиболее важных ирландских джентльменов на этих похоронах были одеты так же. Но трудно было сказать, выбрали они такой наряд, потому что это была общая мода Англии, Франции или Испании или потому что хотели выглядеть более убедительно в глазах английской администрации Дублина. Правда, английские чиновники вовсе не считали, что модная одежда в английском стиле должна гарантировать дружелюбие по отношению к английской короне. «Некоторые из этих чертовых ирландских бунтовщиков во времена королевы Елизаветы даже в Оксфорде учились!» — с отвращением вспоминали они.
Но Тадху не было дела до всех этих тонкостей.
— Англичанин, — шипел он.
И на уме у него была только одна мысль: «Настанет день, когда я свергну его».
Собрание было выдающимся. Молодой Бриан чувствовал вполне позволительную гордость: такое множество важных людей приехали издалека не только для того, чтобы отдать дань уважения его отцу, они явно испытывали к нему, Бриану, самые добрые чувства. И Бриан, в свою очередь, любил всех их.
А более всего он любил Ратконан. Ратконан практически не изменился со времен его прадеда Шона, а прошло уже сто лет: скромный укрепленный дом с квадратной каменной башней, не в лучшем состоянии. Дом смотрел со склонов гор Уиклоу на далекую голубую дымку моря. И фермерские домики по соседству были такими же, и маленькая церковь, где в дни Шона О’Бирна служил мессы отец Донал. И даже потомки отца Донала там до сих пор остались. И один из них стал священником, хотя, в отличие от отца Донала, не был женат и не имел детей, потому что теперь лишь немногие священники жили так, как было принято в старой Ирландии. А его брат стал ученым и поэтом и весьма успешно учил детей окрестных жителей, что давало ему средства к существовании. У него были дети, количество которых никто точно не знал. Священник и ученый, скотоводы и пастухи, обитатели Ратконана и их соседи — таков был маленький мирок, который Бриан О’Бирн, учившийся у священника, одевавшийся у дублинского портного и получавший наставления мудрого и любящего отца, должен был унаследовать и которым гордился.
Он гордился и тем, что был О’Бирном. Вместе с О’Тулами этот клан был наиболее известным в горах Уиклоу, однако вы не могли бы показать на любого из них и с уверенностью сказать: «Вот этот точно О’Бирн». Одни были темноволосыми, другие светлыми, одни высокими, другие коротышками. Шесть веков перекрестных браков даже в одном регионе обычно создает множество типов внешности. Не могли вы с уверенностью сказать и того, каких политических взглядов они придерживаются. В основном к концу долгого правления Елизаветы О’Бирны из северной части гор Уиклоу, поближе к Дублину, начали сотрудничать с английскими властями, хотели они того или нет, однако никто из них не зашел так далеко, чтобы стать протестантом. Но за южными перевалами гор сильные вожди клана О’Бирн сохраняли независимость. Когда граф Тиронский нанес удар по английской короне, именно один из южных О’Бирнов был его самым важным союзником.
— Это именно О’Бирн договорился с испанским королем. Это он начал ту кампанию за дело католической веры, — гордо говорил Бриану его отец.
— Но ты ведь не одобряешь действий Тирона, — напоминал ему Бриан.
Да, О’Бирны из Ратконана вместе с северными О’Бирнами держались в стороне от того конфликта.
— Это так, — с некоторым сожалением согласился отец. — Но все равно это было здорово!
Отец Бриана был духовным вождем всего региона в течение двух очень тяжелых десятилетий. Высокий, храбрый, красивый, древний ирландский принц до кончиков пальцев. Никто не смог бы усомниться в том, чему и кому принадлежит его сердце. Но он был осторожен и мудр. Когда великая авантюра Тирона рухнула, он горевал, но не удивлялся. В 1606 году, за год до Бегства графов, огромная дикая горная часть страны была наконец преобразована в английское графство — последняя часть Ирландии, которую, несмотря на ее близость к Дублину, с трудом удалось привести под английское правление. Правда, высоко в горах и на пустынных перевалах об этом трудно было догадаться. И тем не менее, хотя бы теоретически, ирландской независимости в горных краях пришел конец. Но и к этому отец Бриана отнесся философски.
— Во времена прошлых поколений мы устраивали набеги на английские фермы на равнине. А они посылали в горы солдат, и иногда их удавалось загнать в ловушку и перебить, а иногда они побеждали нас. Но те дни миновали. Есть и другие, лучшие пути и способы жить. — Так он говорил своим соседям. А Бриану нередко повторял: — Если ты хочешь сохранить Ратконан и все то, что любишь, то должен быть мудрым. Подыгрывай англичанам. Учись меняться.
— Но как именно меняться, отец? Что это за перемены?
— Не знаю, — честно ответил ему отец. — Ты должен быть мудрым в соответствии со своим временем. Это все, что я могу посоветовать.
И теперь, слишком скоро, началось время Бриана. Его отец вовсе не был стар, но его более года терзала болезнь, и к концу он совсем ослабел и готов был уйти.
Похороны начались уже довольно давно. Тело было уложено по всем правилам. Причитали плакальщицы. Но большинство гостей прощались с вождем тихо. Еды и напитков было вдоволь. Тихо рыдала волынка, но вскоре должна была зазвучать более бодрая музыка. Почти все приехавшие уже выразили свои соболезнования Бриану. Теперь он сам ходил между ними, убеждаясь, что все правила гостеприимства и вежливости выполняются. Он даже заметил Тадха О’Бирна, который хмурился и что-то бормотал. Бриан предпочел бы держаться подальше от этого человека, но полагал, что обязан подойти к нему. И он как раз собирался с силами, чтобы исполнить долг гостеприимства, когда, посмотрев на склон горы, вдруг заметил незнакомца, которого никогда прежде не видел. Тот медленно ехал по дороге к дому.
Это был высокий худой мужчина в черной одежде, даже его высокая шляпа без пера была черной. За ним ехал слуга, одетый в серое. И хотя дорога была освещена солнцем, казалось, что на горные перевалы упало небольшое мрачное облачко.
Бриан гадал, кто это мог быть.
Доктор Симеон Пинчер пребывал в дурном настроении, когда встретился с Дойлом. Но удивляться тому не приходилось. Доктор Пинчер пребывал в дурном настроении уже год.
В Ирландии, как и в Англии, парламент собирался нерегулярно, а лишь время от времени, когда нужно было решить какой-то особый вопрос. Однако в прошлом году парламент в Дублине был созван, и это было весьма впечатляющее собрание. Если прежние парламенты, во времена Тюдора и Плантагенета, состояли в основном из джентльменов из английского Пейла вокруг Дублина, то в этом были представители всех частей острова.
Поначалу возникли сложности. Старые англичане, в основном католики, угрожали, что не станут принимать в этом участия, но наконец взялись за ум и за дело, и Пинчеру казалось, что они движутся в правильном направлении. Было подтверждено, что все государственные служащие должны приносить клятву верности. Они должны поклясться, что признают духовное верховенство короля над папой римским, или в противном случае потеряют работу. Дальше речь зашла о том, что и всех юристов необходимо заставить дать клятву. Но это должно было лишить практики верных католиков вроде Мартина Уолша, и от идеи отказались. Упорные католики, которые упорно отстаивали свою веру, должны были платить штрафы, хотя, как ни грустно, парламент не был готов приказать им признать Ирландскую церковь.
— Но я их заставлю! — решительно заявил Пинчер.
И были немедленно выпущены прокламации против иностранного образования и против католических священников. И все же доктор полагал, что, несмотря на свои ошибки, парламент в целом шел в верную сторону. И главным тут было соотношение сил.
Потому что протестантов насчитывалось больше, чем католиков. Сто тридцать два на сотню. И лишь немногие из католиков являлись коренными жителями, ирландскими лордами, в основном это были старые англичане. Но вот кем были протестанты? Была ли это старая гвардия, избравшая Ирландскую церковь, люди вроде лорда Хоута или Дойла из Дублина? Ну, некоторые из них — да. Но в основном люди, пополнявшие число протестантов, люди, которые могли изменить многое в будущем, были новичками на острове: жители колоний. И это, как ни странно, как раз и злило Пинчера. Нет, он злился не на колонистов, ничего подобного. Он злился на себя.
«Это все недостаток веры, — признавался он в письме к сестре. — Храбрости не хватает».
Задуманная им покупка не удалась.
Сложности возникли из-за масштаба событий. Когда семь лет назад доктор Пинчер ездил в Ульстер, он увидел там возможность создания процветающей колонии. И потому, когда после Бегства графов и конфискации земель Тирона и Тирконеля зашла речь о колонии в Ульстере, доктор Пинчер не стал покупать ферму, которую мог купить в тот момент, в надежде на нечто лучшее. Однако в Ульстере и Коннахте стали доступны такие огромные пространства, что весь масштаб операций изменился. Вкладчики манипулировали другими цифрами. Лондон забрал всю область Дерри и переименовал ее в Лондондерри. И те, кто мог, захватывали не сотни, а десятки тысяч акров.
Да и внешний мир менялся. Дублин, который знали Уолш, Дойл и даже Пинчер, был городом конца Елизаветинской эпохи. Но в последнее десятилетие в Лондоне произошли перемены. Настал век дерзких торговцев-авантюристов. Король Яков, проведший скучную юность в Шотландии, предавался роскоши. Английский двор разложился; жадность и излишества стали лозунгом. Нахальные и алчные искали быстрой прибыли. И именно такими были те, кто завладел Ульстером.
Видя, что в Ульстер хлынули подобные крупные фигуры, Пинчер был вынужден отступить. Он твердил себе, что его долг — учить и проповедовать. Денег он накопил немного. И вообще, все это дело оказалось слишком трудным для него. Это был новый, чужой мир. Пинчеру хватило честности, чтобы признаться себе в том, что он побаивается этого мира. Он просто отошел подальше.
И вот теперь, видя, как все эти новые джентльмены из колоний приезжают в Дублин, он испытывал огромное чувство неудачи. Он, как один из тех глупых девственниц из евангельской притчи, оказался не готов и, когда наступил момент, не сумел оказаться в нужном месте. Лишь накануне один из молодых ученых из Тринити-колледжа подошел к доброму доктору, который сидел под деревом, углубясь в мысли. А поскольку подошел он сзади, доктор не заметил его приближения, и молодой ученый услышал, как Пинчер вполне отчетливо бормочет: «Предусмотренная выгода; оправданный возврат». Потом доктор грустно покачал головой; и молодой преподаватель, изумленный его словами, но чувствуя, что подошел не вовремя, тихонько удалился.
В общем, Симеон Пинчер признавал свою вину и был полон решимости ее исправить. А пока он искал к этому средства, его не покидало состояние сдержанного раздражения.
Однако в то утро, когда он разговаривал с Дойлом, доктор Пинчер был готов к некоему предприятию, которое, судя по всему тому, что он слышал, должно было, скорее всего, принести ему, и вполне надежно, тот доход, который уж точно ему полагался. И, соображая, как ему лучше спланировать необходимую поездку, он вошел во двор собора Христа и там заметил небольшую группу знакомых ему людей. Пинчеру пришло в голову, что один из них может быть ему полезен.
В первую очередь доктор поздоровался с Дойлом, вежливо склонив голову. Это был человек весьма состоятельный, опора Ирландской церкви, член гильдии Тринити. К тому же Пинчер был в некотором роде в долгу перед Дойлом.
В прошлое воскресенье Пинчер должен был читать проповедь в соборе Христа и знал, что, кроме его обычной паствы, там должны были присутствовать несколько членов парламента, протестантов. Для Пинчера это была хорошая возможность показать себя. Вот только тут была одна проблема.
Предполагалось, что члены городского совета должны по воскресеньям вместе с мэром приходить в собор. Но поскольку многие из них были папистами и до того уже успевали посетить мессу, то они, торжественно проводив мэра до собора и усадив его на место, преспокойно уходили на расположенный рядом постоялый двор и там пили, возвращаясь лишь к концу проповеди, чтобы проводить мэра обратно. Пинчера ужасало не только это бесцеремонное, чисто ирландское поведение. Он боялся, что то же самое произойдет и в тот день, когда проповедь будет читать он сам. Для остальных это могло выглядеть так, словно олдерменам скучно слушать доктора. Поэтому Пинчер заранее поговорил с Дойлом.
Пинчер иногда подозревал, что Дойл его недолюбливает. Но в прошлое воскресенье торговец встал на его сторону. Когда кое-кто из членов городского совета явно собрался уйти, Дойл так на них посмотрел, что они с неохотой снова опустились на скамьи. И даже не заснули, пока доктор Пинчер проповедовал. Так что Пинчер ему обязан. Без сомнений.
Рядом с Дойлом стоял молодой Уолтер Смит. Серьезный юноша. Жаль, что он папист. Из-за этого Пинчер обычно старался его не замечать, но помнил, что Уолтер Смит женат на дочери адвоката Уолша, а Уолш с Дойлом были двоюродными братьями. И потому из уважения к Дойлу Пинчер вежливо кивнул и Уолтеру Смиту.
Третьим в компании был Джереми Тайди. И ему доктор Пинчер улыбнулся:
— Добрый день, мастер Тайди.
— Добрый день, ваша честь.
За Тайди Пинчер благодарил Бога. Надежный человек. Три поколения Тайди служили в соборе Христа и признавали Ирландскую церковь. Джереми был рожден и воспитан для этого, он знал каждый дюйм здания собора, от просторного подвала до вершины башни. Ему было всего двадцать лет, когда его назначили церковным сторожем, благодаря заслугам его рода, а теперь ему было двадцать пять. Но из-за слегка сутулых плеч и остроконечной бородки Джереми выглядел намного старше, что нравилось его нанимателям.
Тайди присматривал за могилами и склепами, вместе с церковнослужителями подготавливал все для служб и звонил в большой колокол, который регулировал жизнь и самого собора, и города. И несмотря на весьма скромное жалованье, Тайди всегда был рад взять на себя лишнюю работу, чтобы угодить всем. Надежный. Уважаемый. И к Тринити-колледжу он относился с великим почтением.
— Это ведь семья моей матери, Макгоуэны, поставили все двери и окна в колледже, ваша честь, — напоминал он не раз доктору Пинчеру. — И до чего же это приятное место, сэр!
— Да, действительно, — соглашался Пинчер.
— Место, которое очень даже подходит прекрасным ученым из Кембриджа вроде вас, сэр.
Но что-то в мягком голосе церковного сторожа смущало Пинчера? Тайди ведь был таким вежливым, таким уважительным, таким вкрадчивым… Может быть, даже слишком уважительным? Доктор слегка нахмурился и неуверенно посмотрел на сторожа.
Люди из Кембриджа вроде него самого… Что подразумевал Тайди? Пинчер не мог понять. Может, и ничего. Но могло ли быть так, спрашивал себя ученый доктор, что сторож каким-то образом прослышал о той глупой истории в Кембридже? Но как? А тогда почему он упоминает о Кембридже при каждой их встрече? Нет, сказал себе Пинчер, такого не может быть. Это было давным-давно, в другой стране. И, кроме того…
Вообще-то, ведь именно Тайди как-то упомянул, что один церковный служащий слышал о некоем прекрасном жилище с многообещающим куском земли, которое должны были вскоре продать. И благодаря этой своевременной информации и встрече со служащим Пинчер теперь намеревался отправиться в новую поездку, на этот раз на юг, и это могло принести некоторый доход, которого он определенно заслуживал.
Когда Пинчер рассказал троим мужчинам о маршруте, которым он собирался ехать, и спросил совета насчет возможных остановок, Дойл, подумав немного, предположил:
— Думаю, вы могли бы остановиться в Ратконане, у О’Бирнов.
Услышав это имя, Пинчер побледнел. Папист? Ирландский вождь? Несмотря на многочисленные знакомства с разными О’Бирнами, несмотря на традиции ирландского гостеприимства по отношению к путникам, зародившиеся еще в незапамятные времена, несмотря на тот факт, что Уиклоу теперь находились под властью Англии, доктор Пинчер слышал слишком много историй о дикости О’Бирнов в прошлом, что поневоле занервничал при мысли о подобной встрече. Но он увидел, как молодой Уолтер Смит согласно кивнул, и даже Тайди выглядел абсолютно безмятежным. А Дойл улыбнулся.
— Вас там прекрасно встретят, — заверил он Пинчера. — О’Бирны в Ратконане живут вполне по-английски.
А Тайди, без сомнения, для того, чтобы успокоить доктора, добавил:
— Они там очень уважают ученых из Кембриджа вроде вас, ваша честь.
И вот он подъезжал к дому в Ратконане, и увиденная им картина наполнила его ужасом.
Ирландские похороны… Конечно, Дойл просто не знал, что в семье О’Бирн кто-то умер, когда предлагал сюда заехать, и Пинчер гадал, что же ему теперь делать. Нужно ли попытаться найти другой дом? К югу отсюда лежали руины древнего монастыря Глендалох. Наверное, он мог бы добраться туда к сумеркам. Но есть ли там подходящее для ночлега место? Доктор не был в этом уверен. У него уж точно не было желания ночевать в какой-нибудь крестьянской хижине, а то и вообще под открытым небом в диких горах Уиклоу. Нужно ему сразу повернуть обратно или лучше сначала спросить, как добраться до какого-нибудь другого места? Доктор еще колебался, когда увидел красивого светловолосого молодого человека, одетого на английский лад; тот шел навстречу Пинчеру.
— Я Бриан О’Бирн, — вежливо представился он, и Пинчер, глядя на него, увидел пару совершенно необыкновенных зеленых глаз.
Объяснив свое дело и то, что его прислал Дойл, Пинчер извинился за вторжение.
— Дойл просто не мог знать о смерти моего отца, когда посылал вас сюда, — ответил молодой человек.
— Простите, что побеспокоил вас, — произнес Пинчер.
Не знает ли О’Бирн, где тут можно найти ночлег? Но молодой Бриан и слушать ничего не хотел:
— У нас наверху есть спальня, где вы можете провести ночь вполне удобно… хотя я не могу обещать вам тишину.
И вот, просто не зная, куда еще можно поехать, и не желая оскорбить молодого вождя, Пинчер весьма неохотно позволил отвести себя в старую каменную башню.
Перед домом собралась огромная толпа, несколько сотен человек. Прямо под открытым небом стояли столы, заваленные едой и сластями. Некоторые гости пили вино, но большинство, похоже, предпочитали крепкий эль либо виски. Оставив слугу присматривать за лошадьми и надеясь, что парень не напьется к тому времени, когда будет нужен, Пинчер вместе с Брианом О’Бирном вошел в дом. Он отлично знал, к чему следует подготовиться, когда хозяин повел его к комнате в глубине нижнего этажа башни. Там, на большом столе, покрытом белыми простынями, лежало тело Тоирдхилбхака О’Бирна, побритого и обмытого. Даже в смерти было видно, что это красивый человек; в его сложенных руках доктор увидел распятие. Больше в комнате никого не было, все остальные уже давно отдали дань уважения, и здесь осталась только женщина средних лет, кузина покойного. Она сидела на табурете в углу, чтобы покойный не был в одиночестве. Комната хорошо освещалась целой рощицей свечек на узком столике у стены, и их восковой аромат создавал в помещении атмосферу, напоминавшую церковь.
Стараясь не смотреть на проклятые четки и распятие, Пинчер пробормотал то, что, как он знал, должен был сказать: все прекрасно организовано, но сам он, к сожалению, не был знаком с вождем, а потому приносит извинения за беспокойство.
После этого доктор вежливо попятился из комнаты и поднялся за молодым хозяином по винтовой лестнице в просторную комнату, где стояла деревянная кровать, не хуже его собственной в Дублине. Немного погодя Бриан О’Бирн вернулся, лично принеся еды и вина, а поскольку поминки продолжались, то с его стороны это было более чем любезно и цивилизованно. Пинчер вынужден был это признать. Хозяин также дал понять: если путник пожелает присоединиться к гостям внизу, ему будут более чем рады. Предложение было сделано из самых добрых побуждений; и конечно, оно было вежливо отклонено. Так что остаток вечера доктор Пинчер, предназначенный для куда более высоких вещей, чем компания каких-то ирландцев, провел в комнате.
Если бы еще не шум… Традиционные причитания женщин, дикарские жалобные песни и возгласы горя… Все это доктор всегда находил отвратительным.
«Даже в горе, — написал он как-то сестре, — они подобны дикарям».
Правда, плач и причитания закончились, к счастью, до того, как доктор сюда приехал. Но худшее было еще впереди.
Некоторые моменты таких поминок он еще мог понять: съезжались друзья и соседи, говорили о тяжкой утрате, добрыми словами вспоминали усопшего… Понятным было даже то, что люди рассказывали разные истории об ушедшем. Все это казалось Пинчеру вполне правильным. Он даже не имел ничего против еды и выпивки, если люди соблюдали умеренность. Ведь и в самом деле, если умирал ребенок или молодая семья лишалась родителей, то похороны и поминки были грустным и торжественным событием, и люди поддерживали горюющих. В этом доктор определенно не видел ничего дурного.
Но когда уходил человек, проживший долгую жизнь, и его смерть была вполне ожидаемой, когда наряду с рассказами милых историй из его жизни гости начинали загадывать загадки или играть в разные игры — даже с участием самого трупа! — то это в глазах Пинчера выглядело как фундаментальное отсутствие серьезности и чувства приличий. Да, он считал, что туземцы-ирландцы проявляли таким образом свою языческую натуру и безнравственность. И для него это было отвратительно.
А то, что в этом древнем ритуале могла скрываться великая мудрость, что после катарсиса горя, выраженного полностью и от души, могло прийти облегчение, что с помощью игр и шуток люди как бы делились жизнью с умершим, что это могло быть целительным и как бы служило примирением с ужасом смерти, — такое и в голову не могло прийти доктору Пинчеру, потому что не укладывалось в его монотонную картину вселенной. Он совершенно не понимал, почему люди ведут себя таким образом.
Солнце уже садилось, когда он услышал женское пение — медленный, мрачный, носовой ритмичный напев, который, как знал доктор, здесь называли кронан, — нельзя сказать, чтобы он был неприятен для слуха. Мелодия звучала какое-то время, пока сгущались сумерки. Поскольку при этом доктор не слышал никаких других звуков, то он предположил, что все внизу слушают в молчании. Выглянув в окно, когда кронан закончился, доктор увидел первые звезды, вспыхнувшие в темноте. А потом, после совсем короткой паузы, в воздухе разлился гулкий напев одной волынки. И тут даже доктор Пинчер сел на кровать, чтобы послушать.
Горестная песнь волынки. Звуки плыли над склонами гор, жалобные, но странно успокаивающие. И Пинчер невольно испытал то особое чувство, то меланхоличное, но волнующее тепло в сердце, которое могут породить только звуки волынки. Он слушал и желал, чтобы это продолжалось вечно. Однако вскоре мелодия умолкла.
Потом опять последовала пауза, а затем зазвучала ритмичная мелодия, отчасти грустная, но в ней уже слышалось больше бодрости; к волынке присоединилась скрипка. Мелодия была приятной, решил Пинчер, но ему казалось, что музыки уже вполне довольно и что было бы вполне приемлемо, если бы гости, отдав дань уважения, начали бы разъезжаться. И был рад, когда музыка смолкла.
Доктор Пинчер лег на кровать и закрыл глаза. Снизу до него доносились негромкие голоса, даже смех. День был длинным. Пинчер надеялся, что заснет. Ведь утром он должен уехать как можно раньше. Если бы только он мог заставить замолчать все эти голоса и просто полежать спокойно, он бы отдохнул. Пинчер дышал медленно, ритмично, закрыв глаза. И почувствовал, что наконец засыпает.
А потом снова заиграли скрипки. Громко. Сразу несколько, в сопровождении свистулек. Весело и громко. Раздались крики, смех. Это было уже просто нечестиво: звучала джига! Пинчер в бешенстве вскочил с кровати и бросился к окну. Внизу горели факелы. Он увидел вокруг башни группы людей. Они танцевали. Это походило на языческую оргию или картину, которую можно увидеть на изображениях ада. Они отплясывали джигу!
Пинчер смотрел на это в ужасе. И они ведь не просто плясали, нет, музыка все продолжалась и продолжалась, как будто люди соревновались: кто сможет плясать дольше?
И в этот момент, хотя, конечно, он с самого начала это знал, но именно в этот момент, слыша все, видя все собственными глазами, глядя вниз на эту ужасную джигу, доктор Пинчер подумал, что он по-новому, с чудовищной ясностью понимает: если даже они улыбаются вам или носят английскую одежду, то все равно эти ирландские паписты на самом деле хуже последних тварей. Все, все они прокляты и обречены на вечные муки. Сомнений не оставалось. С криком гнева Пинчер отвернулся от окна, бросился на кровать лицом вниз и попытался заткнуть уши.
А танцы и музыка продолжались. Иногда звучала джига, иногда мелодии, незнакомые Пинчеру. Ему приходилось слышать о том, что ирландцы исполняют танец с мечами. Насколько он их знал, такое вполне возможно. А что он знал наверняка, так это то, что отдохнуть ему не удастся.
Возможно, если бы ему удалось отвлечься от шума внизу, то он смог бы заснуть. Пинчер пытался думать о завтрашней части пути. Это его хотя бы немного успокоило.
И Тринити-колледж, и кафедральный собор Христа владели огромными землями. Время от времени некоторую их часть можно было получить в аренду на выгодных условиях; именно на это уже давно и надеялся Пинчер. Но возможность, которая представилась ему теперь, была даже лучше.
Из всех землевладельцев-протестантов во всей Ирландии не было никого богаче и благочестивее Ричарда Бойла, великого поселенца-протестанта. Во время правления королевы Елизаветы ему подарили обширные земли в Манстере, и он стал покровителем многочисленных приходов, от которых добрые проповедники-протестанты могли получать доход.
— Я недавно слышал, что один из приходов на севере Манстера может вот-вот освободиться, — сообщил Пинчеру чиновник. — А вы как раз такой человек, которого Бойл вполне бы одобрил на то место. Но, правда, места там диковатые. Нужно сначала все хорошенько расчистить, прежде чем что-то сможет вырасти. Но вы ведь не против?
— О нет, — ответил Пинчер. — Я совсем не против.
Лесной край. Много веков подряд обширные леса, некогда покрывавшие бóльшую часть острова, были ценным источником древесины. Как правило, ее вывозили. Некоторые из величайших английских соборов имели крыши из ирландского дуба. А во время великого строительства в Англии Тюдора древесины нужно было все больше и больше. И в результате ирландские леса сдались перед топорами. Вокруг Дублина большинство дубов уже вырубили, но дальше на юг все еще стояло много отличных старых лесов, которые можно было использовать. А это обеспечивало мгновенный одноразовый урожай наличности, то есть аренда в тех местах становилась очень выгодной. Иногда целые горные склоны могли оголиться за какие-нибудь несколько месяцев.
— Я зажгу свет там, где раньше царила тьма! — с чувством заявил Пинчер.
Дорога через горы, как ему сказали, проходит через самые красивые во всей Ирландии места. И Пинчер надеялся, что через пару дней он доберется до места назначения, и это наконец принесло ему облегчение. Он закрыл глаза и попытался представить свое путешествие. И хотя он продолжал слышать музыку снаружи, он, должно быть, все-таки задремал, а около полуночи осознал, что музыка наконец прекратилась, и почувствовал, что теперь в состоянии погрузиться в глубокий сон.
Он и в самом деле на мгновение решил, что уже спит, когда внезапный скрип заставил его резко сесть в постели. Тяжелая дубовая дверь его комнаты медленно приоткрылась.
В комнатах внизу было множество спальных мест, и в зале тоже, и по всему дому горело множество свечей, чтобы люди не наступали друг на друга, если им понадобится встать ночью. И в свете нескольких свечек Пинчер увидел в проеме двери жуткую фигуру, собирающуюся войти в его комнату. Дикарская ирландская одежда, голые ноги, бледное лицо с горящими глазами и огромная, уродливая масса волос, которые падали кольцами на плечи… И неудивительно, что при виде такого призрака доктор Пинчер вцепился в одеяло и разинул рот, готовый закричать: «Помогите!» или «Убивают!», если фигура сделает еще шаг.
Но Тадх О’Бирн не спешил входить. Он замер в дверях, предпочитая осторожно качнуться на месте раз-другой, прежде чем позволить себе войти в неведомое. Он не был пьян. Может, и был какое-то время назад, но теперь пребывал в состоянии, когда мысли и действия, хотя и осторожные и здравые, были несколько замедленными. Он пытался устроиться поспать в главном зале на полу рядом со скамьей, на которой лежала в глубоком сне его жена. Но никак не мог устроиться достаточно удобно. Подумал о том, чтобы выйти наружу. Ночь была нехолодной, и хороший ирландец вроде него самого, как он с гордостью говорил, был бы только рад поспать на земле, как пастух или герой древних времен. Но в конечном счете решил остаться внутри и, осторожно перешагнув через несколько тел, сумел, хотя и не быстро, добраться до вот этого места и открыть дверь. Не видя в темноте дрожащего проповедника, он весьма разумно спросил:
— Есть тут местечко для того, кто хочет поспать?
Вопрос, заданный на ирландском, Пинчер не понял, но ответить все-таки следовало.
— Уходи! — закричал философ.
Тадх О’Бирн хотя и удивился ответу на английском, однако прекрасно его понял. Тадх немножко подумал. Прежде всего, если не считать языка, важно было то, что ответ исходил от одного-единственного источника. Тадх прислушался, нет ли здесь звуков другого дыхания, но ничего не услышал. И следующий вопрос задал по-английски.
— Там с тобой женщина? — вежливо поинтересовался он.
— Конечно нет! — прошипел доктор Пинчер.
Хотя Тадх был не слишком искусен в философии, все же через мгновение-другое он сообразил, что фигура в темноте, желая того или нет, была виновна в нелогичности. Потому что если в комнате никого больше не было, а незнакомец не занимался женщиной, то уходить отсюда причин не имелось. Не желая быть невежливым, Тадх еще раз все мысленно проверил, убеждаясь, что он прав. Никаких слабых мест в своих рассуждениях он не нашел. И именно когда Тадх пришел к окончательному выводу, доктор Пинчер совершил огромную ошибку. Говоря очень медленно и отчетливо, так как предполагал, что человек перед ним, судя по его внешности, должен быть и пьян, и глуп, он произнес:
— Это… моя… кровать.
— Кровать? — Это слово заставило Тадха снова задуматься. — У тебя здесь есть кровать?
Тадх мог презирать предполагаемую развращенность своего родственника Бриана, когда речь заходила о пуховых перинах, но в этот момент перспектива разделить с кем-то мягкую постель, вместо того чтобы спать на твердом полу, показалась ему неплохой. Войдя наконец в комнату и закрыв за собой дверь, он с удивительной точностью добрался до кровати и протянул руку туда, где, отпрянув назад в отвращении и даже в ужасе, доктор Пинчер невольно освободил место, нужное Тадху.
— Ну вот, — приветливо произнес он. — Вполне хватит места для нас обоих.
И он бы мгновенно заснул рядом с ошеломленным проповедником, если бы его не охватило вдруг любопытство. Кем мог быть этот английский чужак, которому выделили отдельную комнату во время поминок по О’Бирну из Ратконана?
— Прекрасный человек, — высказался он в чернильную тьму. — Нет сомнений, Тоирдхилбхак О’Бирн был прекрасным человеком. — Он немного помолчал, ожидая какого-то отклика, но незнакомец рядом с ним был так же молчалив, как труп внизу. — Ты долго его знал? — поинтересовался он.
— Я его совсем не знал, — холодно произнес Пинчер.
Пинчер уже понял, что со стороны этой мерзкой фигуры его жизни ничто не угрожает. Теперь в его уме крутился главный вопрос: сойти ему с кровати и улечься на твердый пол самому или остаться на месте и терпеть близость и вонь чужака.
— Но ты, без сомнения, приехал на его поминки из уважения, — произнес Тадх. Любой бы сказал, что это правильный поступок, пусть и необычный для англичанина. — Ты не против того, чтобы я узнал твое имя? Я Тадх О’Бирн, — любезно сообщил он.
Ну почему, пытался понять Пинчер, все эти ирландцы должны носить столь варварские имена? Того, как это звучало для него — Тиг О’Бирн рядом с ним, покойный Турлок О’Бирн внизу, — уже было более чем достаточно, но то, как они сами это произносили — Тадх и Тоирдхилбхак, — превосходило всё разумное. Пинчер мысленно проклял всех этих людей. Он не имел никакого желания беседовать с Тадхом, но, с другой стороны, если он откажется ответить, это может вызвать у существа ярость.
— Я доктор Симеон Пинчер из Тринити-колледжа в Дублине, — неохотно сообщил он.
— Из Тринити-колледжа? — Значит, это был англичанин и еретик. Но все равно ученый, наверное. — Осмелюсь предположить, что ты учил латынь и греческий, так?
— Я читаю лекции на греческом по логике и теологии, — холодно произнес Пинчер. — И проповедую в соборе Христа. И я член колледжа Эммануэль в Кембридже.
Пинчер надеялся, что этот впечатляющий перечень заставит неожиданного гостя замолчать.
Тадх, возможно, и не слишком привык общаться с англичанами и еретиками, но, конечно, был поражен. Это ведь был джентльмен и ученый, знающий человек, который проделал длинный путь из Дублина, чтобы выказать уважение к вождю О’Бирну. Да, с ним следовало быть учтивым. Некоторое время Тадх лежал молча, гадая, что он мог бы сказать столь выдающейся личности. И тут ему на ум пришла одна мысль. Важный человек делил с ним постель и, без сомнения, воображал, что он, Тадх О’Бирн, личность малозначащая. И Тадх был просто обязан объяснить незнакомцу, что и он тоже не последний в своем клане. Конечно, не такой образованный, но, по крайней мере, джентльмен.
— А ты, пожалуй, и не знаешь, кто я таков? — предположил он.
— Пожалуй, нет, — вздохнул доктор Пинчер.
— Ну, так именно я, — с гордостью сообщил Тадх, — на самом деле и есть законный наследник Ратконана.
Результат его заявления был в высшей степени удовлетворительным. Тадх почувствовал, как доктор слегка вздрогнул.
— Но я так понял, что это Бриан…
— Ах… — Теперь Тадх оседлал любимого конька. — Он получил это. Да, получил. Но есть ли у него на это право? — Он помолчал, чтобы его вопрос проник в ум собеседника. — Нет. Это я принадлежу к старшей линии, видишь ли. Да, его семья получила Ратконан, но прав на него у них нет. Их притязания ложные!
Но дело было в том, что именно по закону, по тому древнему ирландскому закону и обычаю, которые Тадх так горячо отвергал, предки Бриана были должным образом избраны, а его собственные — отвергнуты. И тот факт, что Тадх, как добрый ирландец, никак не мог претендовать на положение Бриана и что любой добрый ирландец объяснил бы ему это в весьма простых выражениях, и даже тот еще более удивительный факт, что лишь по английским, но никак не по ирландским законам старший сын имел особое значение, — все эти факты самым чудесным образом растаяли в ночной тьме или, скорее, были поспешно похоронены Тадхом, как какой-нибудь преступник торопливо закапывает труп.
— То есть ты хочешь сказать, — Пинчер пытался разобраться, — что Бриан О’Бирн на самом деле не имеет настоящих прав на эту собственность?
— Не имеет. По английским законам. — Тадху неприятно было это говорить, но он знал, что другого способа произвести впечатление на человека из Тринити-колледжа нет. — По королевским законам он никаких прав не имеет. Это я законный наследник.
— Очень интересно, мне кажется… — пробормотал доктор Пинчер и после краткой паузы добавил: — Пожалуй, мне хотелось бы поспать.
И Тадх О’Бирн, высказавшись к собственному удовлетворению, преспокойно заснул. Но доктор Пинчер не спал. Спать ему уже не хотелось. Он размышлял. То, что он только что узнал, если все было верно, имело огромное значение. Но конечно, отвратительный негодяй, лежавший сейчас рядом с доктором, не мог надеяться получить от этого какую-нибудь выгоду. Бог того не допустит. Но если тот любезный молодой человек, который пригласил доктора в дом, действительно не имеет законного права на поместье, то существует множество юридических способов отобрать у него все. Пинчер гадал, есть ли в Дублине кто-нибудь, знающий обо всем этом. Пожалуй, нет. Ценность имения вроде Ратконана может быть во много раз выше того, что он рассчитывал получить в Манстере, и не важно, как близко там растут дубы.
Пинчер думал о том, как бы обернуть столь неожиданные новости к своей выгоде.
Уже некоторое время Орландо казалось, что отец слегка не в себе. Он прекрасно замечал постоянные небольшие перемены в его настроении, потому что видел отца почти каждый день.
Хотя Орландо было уже шестнадцать, он все еще жил дома. Мартин Уолш мягко воспротивился нескольким попыткам Лоуренса отправить Орландо в Саламанку.
— Нет, пусть лучше остается со мной, — твердил он. — Он может получить отличное образование у местных учителей. Я сам буду учить его юриспруденции.
Однажды Орландо подслушал спор между отцом и старшим братом.
— Поосторожнее, Лоуренс, — заявил отец. — Правительственные чиновники в Дублинском замке весьма подозрительно относятся к заграничным колледжам. Моя преданность не вызывает у них сомнений, но помни, в замке есть люди, которым хотелось бы запретить практику адвокатам-католикам. Они уже и без того знают, что ты иезуит. А поскольку поместье после моей смерти наследует Орландо, то будет куда мудрее, если они не увидят, как он отправляется в семинарию. Лучше ему держаться поближе ко мне.
Орландо слышал, как Лоуренс что-то пробормотал в ответ, но не разобрал слов. А отец произнес весьма решительно:
— Думаю, нет. И больше не будем говорить об этом.
Мартин Уолш обычно уезжал по делам в Дублин на день-два в неделю. И довольно часто брал с собой Орландо, и юноша прекрасно видел, как уважают и любят его честного и осторожного отца.
— Адвокатам, — нередко говорил сыну Мартин, — известно множество человеческих тайн. Но люди должны знать, что могут вполне довериться адвокату. Адвокат знает все, Орландо, но ничего не говорит. Помни об этом.
Иногда он мог показать на какую-нибудь хорошенькую девушку и добродушно спросить Орландо, не хочет ли он жениться на ней. Орландо обычно отвечал, что она недостаточно хороша и что ему нужно что-нибудь получше. Тогда отец спрашивал, сколько детей хотелось бы иметь Орландо.
— Шесть мальчиков и шесть девочек, чтобы была ровно дюжина, — улыбался Орландо.
И Мартину это нравилось.
Довольно часто они навещали его сестру. Энн родила трех девочек, но супруги продолжали надеяться на мальчика, которого хотели назвать Морисом. Энн слегка располнела за время замужества и всегда была занята домом и детьми, однако в остальном Орландо казалось, что сестра все та же. Ее муж Уолтер добился немалого успеха. И чем старше становился Орландо, тем больше ему нравился Уолтер, добрый, мужественный человек, явно бесконечно преданный жене. Хотя и ясно было, что однажды он унаследует большое состояние отца, старого Питера Смита, Питер с гордостью говорил:
— Да он во мне совсем не нуждается. Он уже сам сколотил состояние.
Старый Питер Смит предпочитал проводить время в своем поместье в Фингале, но Уолтер и Энн почти все время жили с детьми в городе. У них был красивый дом с остроконечной крышей на Сент-Николас-стрит, неподалеку от толсела — старого городского дома собраний. Единственное, о чем они никогда не говорили, — это гибель Патрика Смита. Но Орландо все равно был уверен: сестра должна быть счастлива нынешней жизнью.
Иногда к концу дня, когда они уже возвращались домой в Фингал, Орландо замечал, что отец выглядит немного усталым и подавленным. Он предполагал, что это просто утомление после долгих часов работы. Волосы Мартина почти совсем поседели. По вечерам Мартин обычно садился в свое кресло и задумчиво смотрел в пол, и тогда видно было, что его лицо осунулось и постарело. И иногда Орландо замечал, как отец внезапно морщится и качает головой. Но потом Уолш поднимался из кресла, выпрямлял спину, делал глубокий вдох, выпячивал грудь и сам себе одобрительно кивал. И Орландо уверял себя, что его отец все еще силен и не покинет их много лет.
Обычно все дела Уолш вел в Дублине, не дома. И потому однажды вечером Орландо был удивлен, когда по дороге домой его отец заметил:
— Я получил сообщение от доктора Пинчера. Он хочет навестить меня завтра утром. По личному делу, так он говорит.
Хотя Орландо лишь изредка видел высокого тощего доктора из Тринити-колледжа, черный облик Пинчера, пересекавшего Долину Птичьих Стай в вечер перед отъездом Энн в монастырскую школу, неизгладимо отпечатался в памяти юноши.
— И что ему нужно? — спросил он отца.
— Понятия не имею, — ответил Уолш.
Поэтому Орландо с немалым любопытством наблюдал на следующее утро, около одиннадцати часов, за подъезжающим к их дому по освещенной солнцем дороге одиноким всадником, тощим как жердь и одетым в черное. Его встретил Уолш и, поздоровавшись, пригласил в дом. Орландо ужасно хотелось войти вместе с ними и послушать.
Двое мужчин сидели за столом напротив друг друга. Уолш, одетый в удобный темно-зеленый дублет, выглядел точно так, как и должен выглядеть сквайр. Доктор Пинчер был с головы до ног в черном, за исключением маленького белого воротника, отделанного узкой кружевной полоской.
— Я приехал спросить, сможете ли вы действовать от моего имени, — начал Пинчер, — в деле, которое я желал бы сохранить в тайне.
— Ничего необычного в вашей просьбе нет, — с легкостью ответил Уолш. — Но мы с вами прежде никаких дел не имели.
— Возможно, вы удивлены тем, что я готов довериться в таком деле… — Он замялся.
— Католику?
— Именно так.
Пинчер вежливо склонил голову. И хотя у него не было сомнений в том, что протестантская вера ставит его в глазах Бога намного выше папистов, Пинчер все же с некоторой неловкостью осознавал, что Уолш стоит выше его, будучи прирожденным джентльменом, каковым сам Пинчер не являлся.
— Я рад довериться адвокату-католику, сэр, — Пинчер позволил себе улыбнуться, — хотя мог бы усомниться в католике-хирурге.
Доктор Пинчер нечасто шутил, но это была одна из его шуток.
Уолш постарался улыбнуться как можно душевнее.
— Прошу, продолжайте, — предложил он.
— Это вопрос о праве собственности, — начал Пинчер.
Его поездка в Манстер оказалась весьма успешной. Приход с маленькой церковью и еще более маленьким домом был безупречен. Пинчер мог время от времени читать там проповеди, предоставив ежедневные заботы какому-нибудь бедному викарию. Земля в Манстере была великолепной. Пинчер уже нашел посредников, которые рубили бы деревья и доставляли бревна к побережью для погрузки на корабли. Предложенные цены были лучше некуда. И Пинчеру было ясно, что даже половина тамошнего леса может принести ему основательную прибыль. Он без труда познакомился с Бойлом, которого друзья доктора из собора Христа и Тринити-колледжа успели заверить, что Пинчер — именно тот человек, которого следует поощрить. И Пинчер сразу получил тот приход. Но теперь доктор видел и другой, более яркий свет, пролившийся на его жизнь, усиливший его веру и давший ему храбрость устремиться к более высокой цели.
Приехав в порт Уотерфорд, чтобы разузнать все о подходящих кораблях, Пинчер решил вернуться в Дублин на одном из прибрежных судов, которое как раз собиралось отплывать. Это была приятная поездка. И пока Пинчер смотрел на скользивший мимо берег, он заметил, что его мысли постоянно возвращаются к той странной ночи, которую он провел в Ратконане. То ли это была слепая удача, то ли невидимая рука Провидения, но у Пинчера не было сомнений в том, что ему достались потенциально важные знания.
Пока Пинчер объяснял Уолшу, чего он хочет, лицо адвоката оставалось бесстрастным, хотя раз-другой легкое подергивание выдавало, похоже, какие-то чувства.
— Значит, — подвел Уолш итог, — вы уверены, что по английским законам Бриан О’Бирн не может быть законным владельцем Ратконана. И вы желаете, чтобы я как следует во всем разобрался. Если это окажется верно, вы, возможно, пожелаете иметь меня своим советником, в одиночку или с кем-нибудь еще, чтобы то поместье досталось вам.
— Совершенно верно.
Королевские чиновники, да и другие алчные люди давно уже требовали тщательно изучить вопрос наследования земель, поскольку надеялись найти такие владения коренных ирландцев, которые можно было бы законно отобрать у традиционных владельцев, чтобы английские власти могли передать их верным людям или выставить на продажу.
— Значит, если там окажется некое спорное наследование, вы узнаете об этом раньше других, которые, без сомнения, также хотели бы захватить владения Бриана О’Бирна.
— Именно так, — кивнул доктор Пинчер.
— А если титул молодого О’Бирна окажется юридически необоснованным, есть ли там другие претенденты?
— Возможно. Простой ирландец, который, я уверен, не имеет никаких документов, подтверждающих его право.
— Могу ли я спросить, — осторожно произнес Уолш, — почему вы оказали мне честь, приехав сюда, а не отправились к кому-нибудь еще?
— Я отлично знаю, сэр, что вы лучше, чем кто-либо, знакомы с земельным правом и поместьями в этой части Ирландии.
Да, это действительно было так. Целых пять поколений, задолго до того, как монастыри были разогнаны королем Генрихом VIII, со времен Плантагенета, предки Мартина Уолша постоянно занимались делами Церкви и ее землями по всей восточной части Ирландии. Едва ли было хоть одно поместье в Ленстере или Миде, владельцев которых Уолш не знал бы, да и многие в Ульстере и Манстере были ему хорошо знакомы. И то было знание многих поколений. Мартин уже несколько лет учил этому и Орландо. Если Пинчеру хотелось провести тайное расследование обстоятельств в Ратконане, он вряд ли мог найти лучшее место, куда обратиться.
Уолш кивнул. Потом слегка наклонился вперед:
— Я всего лишь адвокат, сэр, но вы философ. Могу я задать вам один вопрос, на который не могу ответить сам, поскольку недостаточно образован?
— Я к вашим услугам, — ответил доктор Пинчер.
— Ну, в общем, это скорее относится к философии, чем к закону, — негромко начал адвокат. — Если даже мы обнаружим, строго в юридическом смысле, что Бриан О’Бирн не имеет прав на Ратконан с английской точки зрения, должны ли мы тревожиться о том, что молодой человек может потерять имение? Если по совести, как вы думаете?
— Я бы сказал — нет.
— И почему?
— Потому что он владеет им не по закону, а по варварскому обычаю и нечестно.
— По обычаю простых ирландцев. — Уолш кивнул. — Да, все так. А ирландские обычаи, поскольку они варварские, мы не принимаем в расчет. Это, так сказать, неестественно.
— Вы правильно уловили, — сказал доктор Пинчер, довольный тем, что они поняли друг друга.
Мартин Уолш смотрел на него без какого-либо выражения. Он думал, что забавно было бы спросить этого философа, не следует ли считать алчность смертным грехом, по его личному мнению, но запретил себе это. И вместо того негромко произнес:
— Должен вам сказать, что кое-где есть люди, и даже в Дублинском замке, которые желали бы проявить осторожность. Если, как многие могут предполагать, молодой О’Бирн в Ратконане вполне благонадежен, то такие люди могут решить, что куда мудрее не пытаться лишить его земель, которые многие считают принадлежащими ему по праву. Здесь пока что не было бунтов. И он не бросил свои земли, как Тирон. И что бы ни говорил закон, такие люди могут сказать, что подобное лишение прав владения было бы неразумным и лишь привело бы к новым проблемам.
Это был тот самый совет, который сам Уолш получил от королевских чиновников.
— Но мы с вами, — заметил Пинчер, — можем думать и по-другому, я надеюсь.
Возможно ли, гадал Уолш, что весь этот разговор был своего рода ловушкой? Мог Пинчер быть подослан кем-нибудь из властей или, что более вероятно, какой-то группировкой, желавшей проверить его взгляды и пределы его преданности? Такое вполне возможно, но едва ли. Убеждения и взгляды Уолша были точно такими же, как у большинства знакомых ему старых англичан, и в Дублинском замке это прекрасно знали. А его преданность сомнению не подвергалась.
Нет, решил Уолш, этот Пинчер затеял то самое, о чем говорил. Даже прожив в Ирландии семнадцать лет, человек из Тринити-колледжа был настолько ослеплен собственными предубеждениями, что вообразил, будто он, Мартин Уолш, только лишь потому, что принадлежит к старым англичанам, радостно бросится искать причины лишить земель О’Бирна, поскольку тот ирландец. Интересно, имел Пинчер хоть какое-нибудь представление о том, как возникло довольно необычное взаимоуважение двух семей, после того как Уолш из Каррикмайнса гонялся за О’Бирном много столетий назад? Догадывался ли он, что в крови молодого Бриана О’Бирна есть несколько капель крови Уолша, не говоря уже о том, что дочь самого Уолша Энн была замужем за человеком, который, хотя и носил имя Уолтера Смита, был почти наверняка О’Бирном по происхождению? Такие глубокие и перепутанные корни наверняка даже не интересовали Пинчера.
— Я проведу расследование, — сказал Уолш, — но сразу должен вас предупредить, что не уверен, можно ли будет довести это дело до успешного завершения.
После этого доктор Пинчер ушел, получив от Уолша обещание написать ему, когда появятся какие-то новости.
В начале дня Уолш позвал Орландо и предложил прогуляться.
— Куда мы идем, отец? — спросил Орландо.
— В Портмарнок.
Дул легкий ветер, в меру прохладный. Уолш был рад тому, что Орландо наслаждается совместной прогулкой. Сам юноша и вообразить не мог, как успокоительно действует на отца его присутствие, а Мартин не собирался сообщать ему об этом. И они просто шагали рядом, в основном молча. Конечно, сыну были интересны причины визита доктора Пинчера, но лучше ему ничего об этом не знать; к тому же Уолш хотел поговорить с ним о некоторых гораздо более важных вещах.
Они уже начали спускаться по длинному пологому склону, что тянулся через прибрежное пространство, когда Уолш посмотрел на сына и негромко спросил:
— Скажи, Орландо, ты когда-нибудь нарушал закон?
— Нет, отец.
— Я так и думал. — (Какое-то время они шли молча.) — Я часто говорил с тобой о конфиденциальности и доверии, которые должны быть правилом общения клиента и его адвоката. Доверие священно. Нарушить его — все равно что нарушить закон. Это противоречит всему, за что я выступаю. Это предательство.
— Я знаю, отец.
— Ты знаешь. — Мартин Уолш глубоко вздохнул и задумчиво кивнул. — И все же, сын мой, — тихо продолжил он, — в твоей жизни может настать момент, когда тебе придется задуматься о таких вещах. Возможно, о том, что будет иметь значение куда более важное, чем ты воображаешь.
Добавлять что-то еще необходимости не было. Уолш знал: Орландо запомнит его слова. И вернулся мыслями к неотложной проблеме. Те действия, о которых он размышлял, безусловно, стали бы предательством. Но это ведь должно быть правильным? Может быть. Если об этом когда-нибудь станет известно, Уолш наживет могущественных врагов. Однако, рассмотрев все обстоятельства, Мартин все же склонялся к тому, чтобы воспользоваться шансом и действовать немедленно. У него было ощущение, что времени остается немного.
Когда вдали показался Портмарнок, Уолш снова повернулся к Орландо.
— Когда я не знаю точно, что делать, я всегда молюсь, — заметил он. — Как молишься ты, Орландо?
— Читаю те молитвы, которые знаю, отец.
— Хорошо. Но они — это только средство, инструмент, ты ведь понимаешь. Слова молитв — это путь, ведущий нас к освобождению ума от всех других размышлений, пока мы не становимся готовы услышать голос Бога.
— А ты когда-нибудь слышал этот голос, отец?
— Так же, как слышу человеческие голоса? Нет, Орландо. Хотя некоторые его слышали. Голос Бога обычно тих, и его лучше слышно в тишине.
Когда они добрались до святого источника, Уолш опустился на колени и какое-то время молча молился, а Орландо, не желая ему мешать, встал на колени в стороне и тоже попытался молиться. Наконец Уолш закончил молитву и несколько мгновений задумчиво смотрел на колодец, а потом, жестом позвав Орландо, медленно пошел обратно. Они почти не разговаривали, потому что Уолшу хотелось продлить тихое, отстраненное состояние, но уже на полпути к дому он протянул руку и положил ее на плечо сына.
Наконец они добрались до дома. Уолш, велев Орландо подготовиться к долгой поездке на следующий день, прошел в свой кабинет и, взяв чистый лист бумаги, начал писать. Писал он тщательно, потратив несколько часов на эту работу, а потом аккуратно сложил и запечатал письмо восковой печатью. После этого Уолш почувствовал себя настолько усталым, что даже не стал ужинать, а сразу отправился в постель.
Однако на следующее утро он встал с первыми лучами солнца, чувствуя себя отдохнувшим.
Когда Орландо выслушал распоряжения отца, он был в высшей степени изумлен. Никогда прежде его не просили сделать что-то подобное.
— Ты поедешь в Дублин, к твоему кузену Дойлу. Скажешь, что я сам приеду около полудня. А пока вот моя записка к нему с просьбой снабдить тебя всем, что тебе может понадобиться. Ты попросишь крепкую отдохнувшую лошадь и смену одежды. После этого ты покинешь Дублин так, чтобы тебя никто не заметил, и поедешь на юг. — Тут Уолш дал сыну запечатанное письмо, которое написал накануне вечером. — Это постоянно держи при себе. Ни при каких обстоятельствах оно не должно попасть в чужие руки. Когда к вечеру доберешься до цели, останься там до утра. Потом можешь вернуться той же дорогой.
— И куда я еду? — спросил Орландо.
— В Ратконан, — ответил отец и отдал дальнейшие распоряжения.
День был прекрасным, небо чистым, и сердце Орландо пело, когда он отправился выполнять задание отца. Орландо не знал содержания письма, однако уже то, что его отправили с таким заданием, да еще с предписанием никогда в жизни ни единой душе не говорить о том, что он сделал, весьма его волновало. Тайные послания, которые в детстве он передавал своей сестре, были чудесным приключением, но то, что отец, которого Орландо почитал, доверил ему столь важное дело, — это переполняло юношу гордостью и счастьем.
Он без труда сменил одежду в Дублине и, наполовину скрыв лицо под поношенной шляпой с широкими полями, выехал из города и поскакал через Доннибрук к горам Уиклоу. Никто из Дублина не наблюдал за ним, когда Орландо миновал фруктовые сады на юге. Никому, скорее всего, и в голову не могло прийти, куда именно он направляется. Орландо иногда пускал лошадь легким галопом, иногда шагом и так пересек равнину и поехал дальше к горам. В полдень он отдохнул около часа, а к концу дня уже был в Ратконане.
Следуя указаниям отца, он не назвал своего имени, но когда вышел О’Бирн и спросил, что ему нужно, отдал ему письмо и пояснил, что ему приказано убедиться в том, что О’Бирн его прочитал. Бриан с легким недоумением пригласил юношу в дом, и они вошли в зал.
Орландо был удивлен, увидев, что О’Бирн совсем молод, всего на несколько лет старше его самого, а с взъерошенными светлыми волосами и вовсе казался мальчишкой. Но главное впечатление на Орландо произвел властный взгляд странных зеленых глаз. Сев за большой дубовый стол, О’Бирн медленно и внимательно прочел письмо, и раз-другой на его лице отразилось удивление. Потом он встал, принес бумаги, перо и чернила и написал несколько слов. Закончив, посмотрел на Орландо:
— Ты его сын?
— Да.
— Ты знаешь, что в этом письме?
— Отец сказал, что мне лучше не знать.
— Он прав, — кивнул Бриан О’Бирн.
Содержание письма всерьез потрясло его. Ему вкратце сообщалось, что его наследство может оказаться под угрозой, и далее следовал совет принять немедленные меры. Мартин Уолш был изумлен не столько наглой алчностью Пинчера — видит Бог, адвокат встречал и не такое в человеческих душах, — сколько абсолютной политической глупостью, допускавшей законное воровство земель у таких уважаемых ирландцев, как Бриан О’Бирн. Это была именно такая глупость, которая могла однажды сделать остров неуправляемым. И именно из высокого чувства долга адвокат, после долгой молитвы, решил нарушить конфиденциальность и вмешаться.
Английские власти совсем нередко нарушали право владения землей в отношении людей вроде Бриана О’Бирна. Но Уолш знал в Дублинском замке одного-двух чиновников, которые смотрели на все так же, как он сам, и их имена он сообщил в письме к молодому О’Бирну. А также по осторожной подсказке Дойла на помощь Бриану могли прийти джентльмены-протестанты. Но, учитывая мнение парламента и его сторонников, не говоря уже о докторе Пинчере, который выискивал подобные возможности, Уолш советовал О’Бирну немедленно и без шума отправиться в Дублин, пока гончие не унюхали его след. Однако по причинам, которые он не мог назвать, его собственное участие в деле должно было остаться в тайне. «Я нарушил клятву адвоката, чтобы сообщить это вам», — честно признавался он.
— Передай своему отцу, Орландо Уолш, что О’Бирны из Ратконана навеки в долгу перед ним, — с чувством произнес Бриан.
— Я должен убедиться, что вы сожгли письмо, — сказал Орландо.
— Убедишься.
О’Бирн подвел юношу к очагу, и они вместе смотрели на письмо, пока оно не превратилось в безобидный пепел.
— Ты должен поужинать со мной, — заявил Бриан.
— Я переночую в конюшне и никому не назову своего имени, — возразил Орландо.
— Ах да, конечно. — Бриан улыбнулся. — Но обещаю тебе, Орландо Уолш, ты всегда будешь моим другом.
На рассвете следующего дня Орландо отправился в обратный путь. Небо над горами Уиклоу оставалось ясным. С моря дул легкий бриз. Орландо так гордился собой, так радовался тому, что благополучно выполнил задание, что не мог дождаться встречи с отцом, желая наконец рассказать ему все.
К середине утра ветер переменился и задул с севера, слегка похолодало. Когда Орландо добрался до высокого склона, с которого открывалась панорама Дублинского залива, он увидел длинную серую полосу облаков, надвигающуюся со стороны Ульстера и уже бросающую густую тень на Фингал вдали. Но Орландо быстро продвигался вперед и еще до полудня въехал в город и поскакал к дому кузена Дойла.
Дойла с женой дома не было, но слуга сообщил Орландо:
— Он сказал, чтобы ты отправлялся дальше, как только прибудешь.
А поскольку Орландо и сам собирался поступить именно так, то тут же пересел на собственную лошадь и покинул дом кузена.
Облачная тень повисла над ним сразу после того, как он пересек Долину Лиффи. И день становился все темнее и мрачнее, хотя раз или два справа от Орландо над серебристым простором моря прорывались солнечные лучи. Сердце Орландо было переполнено счастьем, пока он скакал по знакомой равнине. Он улыбнулся, глядя, как стая серых чаек внезапно взлетела с равнины перед ним и с громким криком унеслась в свинцовое небо. И юношу охватило теплом, когда, миновав знакомый маленький лесок, он увидел свой дом.
А потом Орландо с удивлением заметил стоящую в дверях сестру.
— Привет, Энн, — сказал он.
— Слава Богу, ты приехал! Он тебя ждал.
— Знаю. — Орландо улыбнулся, но сестра бросила на него странный взгляд:
— Нет, Орландо, ты не знаешь… — Орландо шагнул к дому, но Энн взяла его за руку, останавливая. — Подожди еще несколько минут. С ним сейчас Лоуренс. — Энн глубоко вздохнула. — Твой отец плохо себя чувствует, Орландо. Очень плохо.
Орландо почувствовал, что бледнеет.
— Когда?..
— Сегодня, рано утром. Он послал нам сообщение в Дублин, и мы сразу приехали. Но никто не знал, где ты.
— Я выполнял одно поручение отца.
— Он так и сказал. Сказал, что ты должен будешь заехать к кузену Дойлу, и мы отправили туда сообщение, чтобы ты сразу ехал домой. И где только тебя носило? — Энн покачала головой. — Ну, это уже не важно. Он хотя бы может говорить, пока что. Подожди внизу. Я им скажу, что ты приехал.
И Энн ушла.
Орландо ждал в одиночестве. Дом казался до странности затихшим. Прошло какое-то время. Потом по лестнице спустился Лоуренс.
Брат был в черной сутане. И выглядел мрачным. Увидев Орландо, он не улыбнулся, а просто подошел и сжал его руку:
— Ты должен подготовиться. У отца сейчас кризис. Это был апоплексический удар, и ты увидишь, что он сильно изменился со вчерашнего дня. Ты к этому готов? — (Орландо молча кивнул.) — Хорошо. Я молился вместе с ним. Но твое присутствие его утешит. — Лоуренс помолчал, с интересом глядя на Орландо. — Кстати, а где ты был?
— Я не могу тебе сказать, Лоуренс. Я делал кое-что по поручению отца.
— Мне-то ты уж точно мог бы объяснить свое отсутствие, так? — Вопрос был задан вполне благодушным тоном, и все же в нем звучало некоторое неодобрение.
— Я обещал отцу.
— Понимаю. — Легкая морщинка собралась на его лбу, но иезуит тут же ее прогнал. И посмотрел на лестницу, где появилась Энн. — К нему можно?
— Да. — Энн ободряюще улыбнулась младшему брату.
— Он что, умирает? — спросил Орландо.
Никто ему не ответил.
Орландо поднялся по старой деревянной лестнице и подошел к двери комнаты отца. Она была приоткрыта. Орландо рывком распахнул ее.
Отец был один. Он полусидел в резной деревянной кровати. Его лицо странно осунулось, глаза провалились, но он нежно посмотрел на Орландо и постарался улыбнуться:
— Мне жаль, Орландо, что тебе приходится видеть меня таким.
Мгновение-другое Орландо был не в силах говорить.
— Мне тоже жаль.
Он хотел сказать совсем не это, но не нашел нужных слов.
— Подойди. — Отец жестом подозвал его поближе. — Ты сделал то, о чем я тебя просил?
— Да, отец. Все сделано.
— Хорошо. Я горжусь тобой. Он что-нибудь сказал?
— Что навеки в долгу перед тобой.
— Он сжег письмо?
— Да. Я проследил.
— Правда, теперь это уже практически не имеет значения… — Отец произнес это скорее для себя, чем для сына. И вздохнул. В груди у него захрипело. А потом он улыбнулся. — Ты хорошо поработал. Очень хорошо.
Орландо так хотелось что-нибудь сказать, объяснить отцу, как сильно он его любит. Но он не знал, как это сделать. И просто беспомощно стоял. Несколько мгновений его отец, закрыв глаза, молчал. Он как будто собирался с силами. Потом наконец посмотрел в глаза Орландо. Юноше показалось, что во взгляде отца он заметил некую настойчивость и страх.
— Ты помнишь, что обещал мне, Орландо? Насчет твоей женитьбы?
— Да, отец. Конечно я помню.
— Ты обещал мне иметь детей.
— Да.
— Они будут?
— Да, отец. Не меньше дюжины. Обещаю.
— Это хорошо. Спасибо. Возьми меня за руку. — (Орландо взял холодную руку отца, и тот сжал ладонь сына.) — Ни один отец не мог бы иметь лучшего сына, чем ты, Орландо. — Мартин снова улыбнулся и закрыл глаза.
Какое-то время прошло в тишине, и слышно было лишь свистящее дыхание Уолша. Орландо продолжал стоять рядом, все так же держа холодную отцовскую руку.
Потом, не открывая глаз, отец тихо произнес:
— Энн…
Энн, стоявшая за дверью, мгновенно вошла в спальню.
— Да пребудет с тобой Господь, сын мой, — сказал Уолш.
И Энн выставила Орландо в коридор.
Она велела ему идти вниз. Через несколько мгновений наверх снова поднялся Лоуренс. А Орландо лишь ждал в отчаянии. Примерно через полчаса Энн спустилась вниз и сообщила, что их отец умер.
Небо все еще было серым, когда на следующий день рано утром Орландо вышел из дому, неторопливо прошел по тропе мимо заброшенной часовни и вскоре уже был на пологом склоне, что уходил к морю. Юноша не встретил ни души на пути к святому колодцу в Портмарноке.
Опустившись у колодца на колени, Орландо стал молиться. Но хотя слова слетали с его губ, он не мог сосредоточиться по-настоящему, как советовал отец.
Орландо встал и трижды обошел вокруг колодца, на этот раз произнося «Отче наш». Он знал, что даже такой маленький обряд может дать результаты. Потом снова встал на колени. И все равно не мог найти той тишины, которую искал. Орландо пытался думать о древнем святом, чье присутствие благословляло воду колодца. Но ничего не получалось. Тогда Орландо подумал об отце и прошептал:
— Я обещаю, отец. Обещаю. Не меньше дюжины.
И разрыдался.
Прошло больше часа, прежде чем он вернулся домой. И увидел Лоуренса, который искал его.
— Где ты был, Орландо? — спросил иезуит.
— У колодца в Портмарноке, — честно ответил Орландо.
— А… — Лоуренс явно задумался. — Думаю, пора, — сказал он вполне благодушно. — Пора тебе отправляться в Саламанку.
1626 год
В возрасте тридцати четырех лет Энн Смит имела все основания быть благодарной судьбе. Она познала печаль: пару раз у нее случались выкидыши и двое ее детей, мальчики, умерли в младенчестве. Но почти все матери, которых она знала, испытали подобные страдания, однако такие раны излечивались. И у Энн все же оставалось четверо здоровых детишек, три девочки и мальчик, а в будущем могли появиться и другие.
И еще у нее был брат Орландо. Энн в общем ждала, что он женится сразу, как только вернется из Саламанки. Она знала об обещании, данном им отцу, и о его горячем желании не подвести отца. Как-то раз, когда Энн со смехом заметила, что он может удовлетвориться и меньшим количеством детей, он ответил:
— По крайней мере, я могу постараться.
И он произнес это с таким пылом, что Энн решила ничего больше не говорить. И уж конечно, не было недостатка в семьях, которые желали бы выдать своих дочерей за молодого Орландо Уолша. Но ему понадобилось несколько лет, чтобы стать адвокатом, как его отец, а уж потом он смог осесть с чудесной девушкой из семьи сквайра-католика в английском Пейле. И управлять имением. Многие из прежних клиентов отца обращались к нему. Правда, Энн пока что не слышала, чтобы его жена Мэри забеременела, но они ведь были женаты всего год. И Энн казалось, что в отношении Орландо у нее были все причины для оптимизма.
Но вот если посмотреть на мир в целом, то сразу были видны причины, почему у добрых католических семей вроде Уолшей надежды было маловато.
В Англии правил новый король. Старый король Яков был сыном пылкой католички Марии Шотландской, и лорды-пресвитерианцы из его родной Шотландии зорко следили за тем, чтобы Яков, пусть и не желавший преследовать католиков, все же оставался убежденным протестантом. Но теперь Яков умер, а год назад его сын король Карл — серьезный молодой человек — потряс подданных-протестантов, женившись на сестре короля Франции, одного из самых ярых приверженцев католицизма. И до сих пор было неясно, какие религиозные симпатии испытывает сам Карл.
— Но это наверняка должно нас радовать, — сказала как-то Энн своему брату Лоуренсу. — То, что король выбрал в супруги женщину истинной веры.
И хотя Лоуренс всегда был осторожен в высказываниях, даже он ответил:
— Будем надеяться, — и ободряюще улыбнулся сестре.
Ирландия же превратилась в странное место. Графы бежали, Манстер и Ульстер были превращены в колонии, протестанты держали верх в парламенте. И все же Энн казалось, что за прошедшие со дня ее свадьбы почти двадцать лет повседневная жизнь большинства простых католиков изменилась на удивление мало. Протестанты могли принимать законы против них, но эти законы исполнялись лишь частично. Даже здесь, в Дублине, в самом сердце английской власти, жизнь была наполнена любопытными аномалиями. Кафедральный собор Христа, великий средневековый памятник ирландской католической традиции, стал теперь домом так называемой Церкви Ирландии, конечно английской и протестантской. Его посещали правительственные чиновники из Дублинского замка и протестанты из Тринити-колледжа. Но почти все приходские церкви в городе, куда ходили общины торговцев и ремесленников, оставались католическими. По закону католические священники не имели права существовать.
— Но мы не позволим этому нам мешать, — говаривал добрый муж Энн, Уолтер Смит.
В их собственной приходской церкви Смит и его товарищи-торговцы содержали целых шесть католических священников, но если бы какой-нибудь чиновник спросил, кто это такие, ему бы ответили: «Певчие». Конечно, все знали, что это священники. Даже доктор Пинчер, наверное, это понимал. Но людям из Дублинского замка совсем не хотелось оскорблять богатых и полезных дублинских торговцев, и шестеро священников спокойно продолжали делать свое дело.
— До тех пор, пока… — как-то сухо заметил Уолтер, — пока их не попросят спеть.
В общем, вряд ли это было уж слишком большой надеждой для людей вроде Энн, ее мужа Уолтера и брата Орландо — людей состоятельных и доброго нрава, преданных английской короне, — что кто-то сумеет убедить нового короля вернуть католической общине те права, которых она заслуживала.
Никто бы не смог усомниться в солидном, надежном, любящем муже Энн. Стоило только посмотреть на него. Уолтер не располнел с годами, но его тело стало шире, крепче. Волосы отливали стальным серым блеском. Он завоевал авторитет и уважение. Важная религиозная община Святой Анны устроила свою часовню в церкви Святого Оуэна, но все записи и архивы хранились в обитом железом сундуке в доме Уолтера Смита. Он, однако, всегда легко нес свое бремя. Спокойный и энергичный, неизменно добрый. Любой бы, встретив его, сказал, что этот крепкий человек средних лет прежде всего католик-семьянин, и был бы прав. Он создал для Энн прекрасную семью. Их старшая девочка была похожа на мать. Все так говорили. И вскоре она, без сомнения, должна была выйти замуж. Вторая больше походила на Уолтера; третья напоминала Энн об одной ее тетушке, которую она знала в детстве. А вот юный Морис был из тех, кого люди замечают. Назвали его в честь дедушки Уолтера. Фигурой и лицом он напоминал Энн брата Уолтера, Патрика. И одно это уже делало его весьма привлекательным. Но что действительно поражало любого, так это его глаза необычайного зеленого цвета. Теперь ему было восемь лет, и он отличался острым умом.
— Ну, тут еще надо посмотреть, что из него выйдет, — весело говорил его отец. — Станет он скромным торговцем вроде меня или умным юристом, как его дядя Орландо. И мне так приятно, — мягко добавлял он, обращаясь к Энн, — что, когда я смотрю на своего сына, я как будто снова вижу лицо моего дорогого брата Патрика.
Они не часто говорили о Патрике, но так лишь проявлялась типичная для Уолтера доброта и чуткость, ведь он знал, что Патрик был ее первой любовью. А Энн, со своей стороны, могла нежно коснуться его руки и сказать:
— Мы оба по нему грустим, но ты сильнее, чем я. Мне повезло, что я вышла за тебя.
И видит Бог, это было правдой.
Голова управляет сердцем — легче жить.
Совет ее брата Лоуренса не был плохим. Я счастлива, думала Энн, и понимаю это. Весь Дублин сказал бы так. Вся Ирландия с этим согласилась бы. Мне по-настоящему повезло. Вот только Энн не понимала, почему ей приходится напоминать себе об этом.
Священник, обвенчавший их, был знающим человеком. Старый друг ее отца, мужчина за пятьдесят, с обширным животом и мягкими манерами. Он тридцать лет служил приходским священником и много чего повидал. Перед венчанием он подозвал Уолтера и ее и дал им простой и мудрый совет. В будущем, в их повседневной семейной жизни, сказал он, они должны всегда, прежде чем что-то сказать или сделать, подумать, как ваш поступок будет выглядеть в глазах другого. Будет ли он добрым и уважительным по отношению к их чувствам? «За долгие годы наблюдений и опыта, — сказал священник, — я убедился: если вы будете поступать так, как я вам только что сказал, это почти наверняка обеспечит вам счастливый брак». И Энн всегда выполняла этот совет, и Уолтер тоже. Энн знала, что священник совершенно прав. И хотя уже почти десять лет назад он ушел в лучший мир, его слова по-прежнему звучали в памяти Энн, как будто он произнес их только вчера. «Это обеспечит вам счастливый брак». Радостное обещание. С одной только маленькой оговоркой: «Почти наверняка».
Он знал, что говорит, тот добрый священник. Но почему, почему такие вещи нельзя обещать наверняка? Почему это должно быть, почему Бог предопределяет, что двое хороших людей, любящих друг друга, могут не быть счастливы?
Уолтер нечасто смеялся от души. Когда по вечерам кто-нибудь из детей смешил его, он лишь негромко посмеивался. Наверное, ничего неправильного не было в таком смехе, думала Энн. Но ее этот смех раздражал. Она часто повторяла себе, что не следует быть такой глупой, не следует обращать на это внимание, но почему-то не могла. Раз или два она даже мягко поинтересовалась у мужа, почему он так делает, почему он просто не улыбнется или не рассмеется вслух.
— Не знаю, — любезно ответил он. — Я всегда таким был. А что?
И Энн чуть не брякнула: «А то, что меня это бесит». Но ее остановил страх задеть его, причинить боль, возвести между ними барьер.
— Да ничего. Просто так спросила, — сказала она.
В любом случае само по себе хихиканье не было, конечно, важным. Проблема была в том, что крылось за ним: в мыслях и безмятежной уверенности Уолтера, что Энн безусловно разделяет с ним его взгляды.
Уолтер Смит был человеком не только благочестивым, но и мудрым и мирским. Он заботился о семье. Энн не сомневалась, что, случись необходимость, ее муж с радостью отдал бы жизнь за них. И выше всего он ценил домашний уют и порядок.
— Спасибо тебе, — с чувством говорил он жене, — за мой прекрасный дом.
И хотя он был достаточно умен, чтобы не выдать жене своего знания, Энн отлично видела: он точно знает, где стоит каждая кастрюля, сковорода или лежит клубок пряжи. Всегда спокойный, всегда справедливый, он и детей поощрял к тому, чтобы они вели упорядоченную жизнь; и конечно, Энн поддерживала его в этом. Им стоило восхищаться. Но неужели он никогда не желал большего?
Энн навсегда запомнила, как однажды они вместе стояли на старой городской стене, а с гор Уиклоу на них надвигалась огромная масса туч, темных и величественных. Энн зачарованно следила за ними, а раскаты грома становились все громче, и молнии зловеще сверкали все ближе к городу.
— Ох, разве это не великолепно?! — в волнении воскликнула Энн. — Уолтер, разве это не прекрасно?
— Нам бы лучше вернуться домой, а то мы здорово промокнем, — заметил он.
— Да плевать! — засмеялась Энн. — Промокнем — значит промокнем. — И повернулась к мужу. — Неужели тебе никогда не хотелось позволить грозе настичь тебя?
— Идем, Энн, — тихо сказал он.
И она, против своего желания, отправилась домой вместе с мужем.
А его брат Патрик поспешил бы загнать ее под крышу? Наверняка нет. Он, наверное, был бы ужасным мужем. Почти наверняка был бы. Но он остался бы рядом с ней, чтобы насладиться буйством диких стихий и той грозы.
В ту ночь, когда Уолтер, как обычно, занимался с ней любовью в привычном порядке, Энн изо всех сил старалась скрыть то, что ее тело оставалось тяжелым, одеревеневшим, неотзывчивым. Такое случилось не в первый раз и не в последний. А он, конечно, и не догадывался о ее маленьком обмане, да она бы и не допустила, чтобы он догадался.
Но когда бы ее дорогой муж ни издавал свое счастливое хихиканье, предполагавшее, что вся семья разделяет его довольство их спокойной, упорядоченной жизнью, Энн испытывала то же самое тошнотворное ощущение в области сердца. Однако, посмотрев на детей, таращившихся на отца с таким доверием и радостью на лицах, она тоже улыбалась и говорила им:
— Вам повезло, дети, что у вас такой хороший отец.
И целовала мужа. И никому бы и в голову не пришло, что ей хочется закричать.
Джереми Тайди, отправляясь на работу в собор, редко брал с собой сына.
— У мальчика есть и другие дела, — говорил он жене.
Но сегодня он велел семилетнему сынишке идти с ним, и потому юный Фэйтфул Тайди послушно стоял теперь рядом с ним.
Когда в собор вошли два человека и направились к ним, мальчик внимательно наблюдал за мужчинами. Отец скромно поклонился им, Фэйтфул выждал мгновение, но потом, заметив, что более высокий мужчина смотрит на него, тоже склонил голову.
— Ах да. — Улыбка доктора Пинчера была весьма сдержанной, но это все же была улыбка, любой бы понял. — Фэйтфул Тайди. Достойное имя. «Верный». — Он повернулся к Дойлу. — Займемся делом?
Никто не знал, когда все это началось, но в те четыре с половиной века, что англичане присутствовали в Ирландии, каким-то образом возник обычай скреплять сделки над гробницей Стронгбоу, могущественного лорда, который первым привел огромную свиту англо-норманнских рыцарей на эти земли. И сегодня торговец Дойл и доктор Пинчер из Тринити-колледжа стояли возле огромного каменного надгробия в темноватом пространстве собора и закрепляли свою сделку на камне. Перья и чернила были не нужны. Тайди был свидетелем. И если говорить о жителях Дублина, то для них эта сделка была такой же официальной и надежной, как если бы она была записана в самой Книге Жизни.
Именно Тайди, узнав, что Дойл собирается вложить деньги в некое новое предприятие, поговорил с торговцем и предположил, что Пинчер может быть заинтересован в участии. Такова была стратегия Тайди: оказывать услуги доктору, когда только он сможет, и именно поэтому он теперь выступал свидетелем договора. Тайди знал: это дело могло в особенности привлечь Пинчера, и даже не из-за возможных прибылей, а потому, что оно также продвигало протестантскую веру.
После чудовищной резни, когда во Франции пятьдесят лет назад были убиты тысячи гугенотов, эти безобидные и достойные французские протестанты — в основном торговцы и ремесленники — покидали родную страну в поисках более терпимых земель. Эти трудолюбивые люди уже создали маленькие общины в Лондоне и Бристоле, а недавно некоторые из них начали перебираться в Ирландию. Их вера обычно была скромной версией кальвинизма. Пострадав от преследований в католической Франции, они хотели лишь одного: жить в мире со своими соседями. «Такие тихие, трудолюбивые гугеноты могут послужить хорошим примером для ирландцев», — рассудили английские власти. В южном городе Бирре гугеноты основали стекольное производство, и люди вроде Дойла с радостью использовали их умения и в других скромных предприятиях. Нынешняя затея, к которой только что присоединился доктор Пинчер, была небольшим производством железных изделий.
Покончив с делом, Дойл повернулся к Пинчеру и заметил, что тот выглядит не слишком здоровым. И в самом деле, Пинчер был бледен и дважды чихнул во время короткой процедуры.
— Это ерунда, — слабым голосом ответил Пинчер. — Или ничего такого, — добавил он, обращаясь к Тайди, — чего не могла бы вылечить чашка изумительного бульона, что готовит ваша жена.
Мистрис Тайди была доброй женщиной, чьи природные инстинкты заставляли ее проявлять материнскую заботу обо всех, с кем она встречалась на территории собора. Она испытывала огромное почтение к учености доктора Пинчера, но считала, что ему необходима жена, которая ухаживала бы за ним, и частенько приносила доктору печенье и засахаренные фрукты, а еще следила за тем, чтобы его постельное белье всегда было в порядке. Такую заботу Пинчер принимал с благодарностью.
— Я пришлю ее к вам, — заверил доктора церковный сторож, когда Пинчер уходил.
Дойл задержался, чтобы поговорить с Тайди.
О Джереми Тайди с полной уверенностью можно было сказать одно: он знал свое дело. Несколько лет назад освободилось место церковного служителя, и его отдали сторожу, так что теперь Тайди выполнял две обязанности, а заодно и получал двойное жалованье: пять фунтов восемь шиллингов в год. И если старший служитель был хранителем всего, что относилось к деловой жизни собора: записей о разных встречах, огромных свитков с перечислением собственности и земель, отчетов о ренте и арендных договорах, а регент церковного хора отвечал за музыку, то Джереми Тайди был теперь стражем всех прочих повседневных дел на территории собора.
Дойл хотел обсудить с Тайди печальное дело. Накануне умерла теща торговца, и необходимо было организовать похороны. И вообще-то, Дойл чуть не отложил встречу с Пинчером из-за этого. Но похороны предстояли не ирландские. Никаких громких поминок, а лишь тихое протестантское оплакивание, и Дойлу все равно надо было пойти в собор и переговорить с Тайди.
Дойл женился весьма умно. Его теща принадлежала к важной группе семей старых англичан, которые присоединились к Ирландской церкви. Ашшеры, Боллы и десятки других — это были имена людей, которые занимали важное положение в Ирландской церкви и в управлении. Следовательно, похороны должны были стать большим событием, с присутствием всех этих семей, а также и общины католиков Дублина, которые должны были прийти из дружбы и уважения.
Некоторое время мужчины обсуждали процедуру. Дойл знал: если ответственность берет на себя Тайди, ничто не будет упущено. К тому же пять шиллингов за услугу были приняты с энтузиазмом. И Тайди в качестве дополнительной любезности предложил поговорить с регентом о музыке. Когда Дойл и Тайди закончили обсуждение самой службы, Тайди перешел к последнему пункту:
— Вы желаете, чтобы звонил колокол?
— Конечно, — кивнул Дойл.
Большой колокол собора Христа звонил не только к началу кафедральных служб. Каждое утро в шесть часов и каждый вечер в девять он подавал Дублину сигнал о начале и конце рабочего дня. Были и другие причины к тому, чтобы звонить в колокол. Он мог издавать печальный звон, сообщая об уходе в вечность некоего джентльмена, или радостно гудеть, передавая весть о рождении какого-нибудь важного наследника. За колокол тоже отвечал Тайди, и его жалованье предусматривало звон к началу службы. А дублинские гильдии платили ему еще и прекрасную стипендию в двадцать фунтов в год за утренний и вечерний звон; все другие случаи оплачивались отдельно.
— Я могу устроить такой же перезвон, как для леди Лофтус, — предложил Тайди.
Леди Лофтус — вдова знатного горожанина, умершая год назад.
— И сколько это будет стоить? — спросил торговец.
— Двенадцать шиллингов и шесть пенсов, — ответил Тайди.
— Многовато.
Хотя Дойл и был весьма богат, но такая цифра его несколько ошеломила.
— Она была очень набожной леди, сэр, — пояснил сторож.
— А-а… — Дойл вздохнул. — Ладно.
И, договорившись о времени отпевания на следующий день, он ушел.
В течение всего разговора юный Фэйтфул Тайди стоял рядом, молча наблюдая за всем. Теперь отец окликнул его.
— Ну, Фэйтфул, — спросил он, — что ты об этом думаешь?
— Ты получишь двенадцать шиллингов сверх пяти шиллингов обычного жалованья? — спросил мальчик.
— Именно так.
— Дойл богатый, — заметил изумленный Фэйтфул.
— Верно. Но ты должен обратить внимание не на Дойла, а на доктора Пинчера, сынок, — пояснил ему отец.
— На Старую Чернильницу?
Таким неуважительным прозвищем дети наградили всегда одетого в черное проповедника.
— Ты должен относиться к нему с уважением! — резко произнес его отец. — Этот человек, Фэйтфул, — тихо добавил он, — однажды выведет тебя на путь к богатству.
Орландо уже прислал сообщение, что придет на похороны, и Энн тоже собиралась, ведь Дойл был их кузеном. Однако в тот день средняя дочь Энн слегла в постель с лихорадкой, и Энн предпочла остаться дома, а представлять их семью должны были Уолтер и их старшая дочь. Они как раз выходили из дому, когда появился брат Энн.
К ее удивлению, Орландо пришел не один, а с мужчиной, которого она никогда прежде не видела, — красивым, светловолосым, на несколько лет моложе ее самой, как она предположила. Мужчина остановился у входа за спиной Орландо.
— Это Бриан О’Бирн из Ратконана, — сообщил Орландо. — Мы вместе собрались ехать в Фингал, а поскольку он не знаком с тещей Дойла, то я подумал, что он мог бы подождать меня здесь, в доме, пока не закончатся похороны.
— Разумеется, — беспечно ответил Уолтер. — Энн все равно остается, так что она составит ему компанию.
Он шагнул навстречу гостю, а тот вежливо склонил голову в сторону Энн. Энн, конечно, слышала об О’Бирнах из Ратконана, но, насколько она помнила, ни с кем из них прежде не встречалась, а потому в ответ просто улыбнулась, предлагая войти. У самой двери стоял юный Морис. Он с изумлением уставился на лицо гостя и вдруг воскликнул:
— Смотрите-ка, у него зеленые глаза, как у меня!
О’Бирн сделал шаг вперед и тоже всмотрелся в мальчика.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Морис, сэр.
— Что ж, Муириш, — произнес он имя на ирландский лад, — у тебя и в самом деле зеленые глаза. — И мягко рассмеялся.
Прошло уже почти девяносто лет с тех пор, как Морис Фицджеральд, сын Шона О’Бирна, уехал в Дублин и стал на английский манер называться Смитом. Бриан предположил, что хозяин дома знает о том, что они дальние родственники, но все равно заговорил с осторожностью.
— В роду О’Бирнов, — небрежно заметил он, — зеленые глаза появляются не в каждом поколении, но они всегда возвращаются, рано или поздно. — Бриан вопросительно посмотрел на Уолтера, и тот кивнул, давая знать, что понимает. — А мальчику это известно? — тихо спросил Бриан, чтобы Морис не услышал. Уолтер отрицательно качнул головой. — Ну и от меня не узнает. — Потом он заговорил громче, обращаясь к Морису: — Видимо, в твоем роду то же самое, Муириш.
В это мгновение зазвонил большой колокол собора Христа, и через несколько мгновений Уолтер и Орландо ушли.
Следующий час прошел для Энн весьма приятно. Пока она занималась хозяйством, присматривая и за больной дочерью, Бриан О’Бирн сидел в гостиной с Морисом, явно очарованным гостем. У Уолтера Смита имелись шахматы, он учил сына играть, чем Морис весьма гордился, и вскоре мальчик спросил ирландца, знаком ли тот с игрой. Забавно было смотреть на этих двоих, с изумрудными глазами, когда они сидели напротив друг друга, углубившись в игру. Энн также забавлялась, видя, что О’Бирн весьма ловко позволяет Морису выигрывать.
— Шах и мат! — слышала она время от времени радостное восклицание сына, а затем мягкий, приятный голос О’Бирна грустно соглашался:
— Да, ты прав, Муириш, я побежден.
Энн и сама поговорила с гостем, расспросила о Ратконане, узнала, что Бриан женился несколько лет назад и у него двое детей. Он также с чувством пояснил, что в долгу перед ее отцом. И что именно поэтому, когда недавно ему нужно было провести одну вполне законную сделку, он отправился прямиком к ее брату Орландо. Похоже, ее брату понравился этот красивый ирландский джентльмен, и Энн вполне его понимала. Она даже заметила, что надеется снова с ним встретиться.
Прошло уже почти два часа, и Энн нужно было уделить внимание дочери. Тогда Бриан О’Бирн предложил им с Морисом прогуляться и встретить Уолтера и Орландо, когда те будут возвращаться.
Бриан с мальчиком направились к старому толселу и подземной усыпальнице собора, где после окончания службы проводили захоронение. Бриан с Морисом стояли на другой стороне улицы, на некотором расстоянии, и негромко разговаривали, пока наконец все не начали расходиться. Кое-кто пошел к дому Дойла, где должны были подать закуски; другие останавливались группами, разговаривая. Через несколько минут вышли Уолтер Смит и Орландо. О’Бирн остался стоять на месте, а Морис побежал им навстречу и подвел к своему новому другу. Все вместе они несколько минут наблюдали, как расходятся люди.
— Я уже поговорил с кузеном Дойлом и его родными, — сообщил Орландо О’Бирну. — Так что мы с вами можем прямо сейчас отправиться в Фингал.
О’Бирн поблагодарил Уолтера Смита за гостеприимство, попрощался с юным Морисом и собрался уходить. Когда они с Орландо повернулись, то увидели доктора Пинчера на другой стороне улицы. Он выглядел бледным, словно больным. Но ни один из них не обратил на это внимания.
Бледность доктора Симеона Пинчера отчасти действительно была вызвана простудой, которую не вылечил до конца даже бульон мистрис Тайди, но настоящей причиной стала маленькая сценка, которую он только что увидел. Его словно ударили под дых, и он смертельно побледнел.
Прошло десять лет с тех пор, как он предпринял попытку лишить О’Бирна прав на владение Ратконаном. После внезапной смерти Мартина Уолша он позволил пройти двум месяцам, прежде чем нашел другого юриста и с ужасом узнал, что за это время молодой Бриан каким-то образом получил законное право владения. Было это простым совпадением или тут крылось нечто более серьезное? Трудно представить, чтобы человек вроде Мартина Уолша мог нарушить конфиденциальность, к которой его обязывала профессия. К тому же Пинчер не видел никаких особых связей между уважаемым адвокатом из Фингала и ирландцем с гор Уиклоу. Да, все это, конечно, подозрительно и загадочно. Доктор постарался кое-что разузнать в Дублинском замке и выяснил лишь то, что Бриан О’Бирн постарался легализовать свое положение, а несколько джентльменов-протестантов, близких к властям, настояли на том, что было бы мудро дать безобидному молодому человеку то, о чем он просит. В общем, дальнейшие розыски смысла не имели, и Пинчер с неохотой бросил это дело. Но ощущение того, что он просто не может чего-то понять, осталось.
И что же он увидел только что? Прямо перед ним, на другой стороне улицы, Орландо Уолш, торговец Уолтер Смит и Бриан О’Бирн стояли рядом и беседовали, как близкие друзья, а когда Уолш и О’Бирн отправились по своим делам, бросив взгляд через улицу туда, где стоял Пинчер, они как будто вообще его не заметили. И что все это означало?
Пинчера охватило жуткое чувство, что он видит нечто вроде заговора. Эти люди явно состояли в неких приятельских отношениях, которых Пинчер не понимал до конца. Конечно, он знал, что сестра Орландо замужем за Смитом, но как сюда вписывается ирландец О’Бирн? Пинчер понятия не имел, но, пока он смотрел на другую сторону улицы, его охватило сильное, тошнотворное ощущение, что его просто одурачили.
На следующий день он как следует расспросил Тайди, но сторож объяснил, что он, как добрый прихожанин Ирландской церкви, почти ничего не знает о католических семьях.
— О Дойлах я еще могу расспросить, ваша честь, и об Уолшах, возможно, ведь они англичане. Но О’Бирн… — Тайди развел руками. — Я удивлен, что вы можете просить меня о таком, сэр.
— Нет-нет, конечно нет, — вынужден был сказать Пинчер, не желая оскорблять Тайди.
Но сам он предпринял кое-какие шаги. И две недели спустя один из служащих Дублинского замка сообщил ему:
— Вообще-то, есть слух, что дед Смита был урожденным О’Бирном.
Вот оно что. Теперь Пинчер понял. Он пришел к Мартину Уолшу с доверием, потому что, католиком он был или нет, Уолш оставался английским джентльменом. А оказалось, что Смит, выдававший себя за английского торговца, на самом деле был не кем иным, как грязным ирландцем с диких гор Уиклоу. И Уолш должен был это знать, но позволил ему жениться на своей дочери. А потом Уолш, выслушав доверчивого доктора Пинчера, тут же нарушил профессиональную клятву и передал полученную информацию О’Бирну. Это все объясняло. Сомнений не оставалось.
Его просто обвели вокруг пальца. Завели в ирландское болото. Они сделали из него дурака, эти проклятые католики, с их вечной ложью и двуличностью. Они смеялись над ним за его спиной, и это продолжалось годы. Пинчера охватила ярость. Но если его сделали дураком, то кто они сами? Предатели. Простые, откровенные предатели. Старый Мартин Уолш мог выглядеть джентльменом. Но, повторял себе Пинчер, мне с самого начала следовало знать, что человек, у которого сын — иезуит, может быть только предателем. Старые англичане или туземцы-ирландцы с гор и из болот — все они одинаковы. Они католики, и только это имело значение. И с этого момента доктору Пинчеру стало раз и навсегда ясно одно: низость и презренность натуры, которые он до сих пор приписывал лишь простым ирландцам, свойственны всем, кто исповедовал католическую веру. Их религия не только обрекала их на вечные муки, но и изначально превращала в злодеев. И доктор пообещал себе, что он, когда придет час, лично нанесет удар по Смиту, Уолшу и О’Бирну, которые осмелились насмехаться над ним.
Что до Ратконана — имения, которое он надеялся украсть у О’Бирна, не имея к тому никаких оснований и поводов, — то теперь Пинчеру уже казалось, что это законный наследник украл земли у него самого. И эту мысль он также запер в сердце, как некое сокровище в сундуке.
В таком горестном состоянии ума доктор богословия провел много месяцев.
Письмо, приведшее доктора Пинчера в бешенство, пришло весной 1627 года. Написала его сестра доктора. И говорилось в нем о Барнаби.
Возможно, мистрис Тайди была права, думая, что доктор Пинчер нуждается в супруге. Но доктор Пинчер так долго жил одинокой аскетичной жизнью, что для него было бы весьма трудно изменить привычки так, чтобы рядом мог поселиться другой человек. Что до потребностей тела, то в молодости он подавлял их, как солдат во время военной кампании, потому что боялся испортить свою репутацию. А с течением времени эти нужды так уменьшились, что доктор, став старше, уже боялся совсем другого, и его колебания стали уже чем-то вроде призвания.
Но если Симеон Пинчер и был убежденным холостяком, его честолюбие в отношении родных ничуть не ослабело, даже наоборот, с годами оно росло. Он пока что не получил земельных владений, которых жаждал, но все же обладал некоторым состоянием и был заметной фигурой в Дублине. Несколько лет назад он предложил сестре, чтобы его племянник Барнаби получил образование в Тринити-колледже, где Пинчер присматривал бы за ним и проследил бы, чтобы мальчик получал все самое лучшее. Однако сестра написала в ответ, что сын, хотя и отличается благочестием, вовсе не склонен к наукам и предпочитает поступить в обучение к известному торговцу мануфактурными товарами. Торговец, заверила доктора сестра, весьма ученый человек и пообещал, что Барнаби под его присмотром будет читать все те книги, что принесут ему пользу.
Отказавшись от этой надежды, Пинчер решил подождать благоприятного случая, но теперь, когда Барнаби исполнилось двадцать лет, он снова написал сестре, предлагая племяннику приехать в Дублин, где он мог бы познакомиться с прекрасными людьми. И это дало бы ему самому возможность поближе узнать молодого человека, который получит все после его смерти, подчеркнул Пинчер. Он думал, хотя об этом не упомянул в письме, о том, что Барнаби увидит, какой важный человек в Дублине его дядя. Ответ сестры на его любезное приглашение вызвал бешеную бурю в душе доктора.
Ее письмо начиналось вполне мило: она должным образом благодарила брата за то, что тот не забывает о племяннике. Потом сестра напоминала, что если он хочет возобновить отношения с родными, повидать родную сестру, познакомиться с ее замечательным мужем, а заодно и с племянником, то ему только и нужно, что приехать в Англию, где его ждет самый теплый семейный прием. Если тут и крылся мягкий упрек, доктор должен был признать, что высказан он был очень сдержанно. И в самом деле, почему за все эти годы он ни разу не подумал о путешествии через море, чтобы повидать сестру? Отчасти из гордости… или, скорее, из тщеславия. В этом Пинчер честно признался самому себе. Он хотел вернуться домой с триумфом, обладая большим имением. Это не говорило о большой любви к родным, и Пинчер справедливо осудил себя за подобные мысли. Но почему он так стремился произвести впечатление? Да потому, что его сестра всегда давала понять, на свой тихий лад, что она не слишком высокого мнения о брате. И даже теперь, через тридцать лет, ему не хватало скромности, чтобы увидеть справедливость ее суждения и признать собственную близорукость. При этой мысли почтенный доктор смущенно склонил голову.
И если бы письмо сестры на том и заканчивалось, доктор мог бы собрать все свое смирение и, закутавшись в него, как в плащ, вернуться в лоно семьи, как и должно доброму христианину. Но письмо не закончилось.
Дальше сестра писала, что не хочет, чтобы ее сын поехал в Ирландию. Барнаби, объяснила она, уже превратился из тихого мальчика в молодого мужчину, обладающего великой верой. И вообще-то, он даже подумывает покинуть берега Англии. Ее брат должен знать, что некоторые из английских пуритан надеются основать колонию в Америке, и Барнаби с пылом рассуждает о том, что надо бы покинуть родной очаг и кров и присоединиться к этому приключению, как только подвернется возможность. И кто бы стал его винить, если истинная протестантская вера под угрозой со всех сторон, а королю Карлу и его королеве-папистке совершенно нельзя доверять? «Мы просто дрожим от страха за Барнаби, — писала сестра. — Но не за его душу».
Так зачем же, спрашивала она, ради чего Барнаби поехал бы в Ирландию, где, по общему мнению, папистское идолопоклонничество вовсе не уничтожено, а наоборот, процветает? Колония в Ульстере была создана ради того, чтобы превратить всю эту землю в большое протестантское поселение, но по всем отзывам новые английские землевладельцы допускают, чтобы земля вернулась к тем же самым католическим ирландским тварям, которые и занимали ее прежде. А в Манстере землю предложили английским джентльменам, в основном йоменам и честным ремесленникам. «Но говорят, что никто, кроме злодеев и авантюристов, у которых есть основания скрываться, не живет там». Что касается самого Дублина, то: «Похоже на то, брат, что вы там с радостью дозволяете папистам использовать церкви, сидеть в городском совете и, насколько я знаю, есть за вашими столами».
Доктор Пинчер ошеломленно уставился на письмо. Оно еще и потому выглядело столь огорчительным, что отчасти утверждения сестры были справедливы. Конечно, в Манстере были и добрые английские поселенцы, но большинство солидных йоменов, торговцев и ремесленников, являвшихся опорой Англии, вовсе не имели оснований к тому, чтобы оставить свое надежное положение и отправиться за море, а многие из тех, кто приехал в Ирландию, вернулись обратно. И немалое количество тех, кто занял земли в Манстере, действительно были людьми сомнительной репутации, которые надеялись задешево прослыть джентльменами в Ирландии. Что до Ульстера, то и вовсе слова сестры нельзя было отрицать. Новые колонии там не удалось создать как следует. Английские и шотландские предприниматели просто не могли найти достаточное число надежных протестантов для огромных просторов. И потому они частенько позволяли местным ирландцам вернуться на землю — ирландцы все равно считали ее своей — на условиях краткосрочной аренды и за максимальные деньги, которые только можно было получить. И вместо тихого края ферм йоменов и торговых городков Ульстер снова превращался в пеструю смесь готовых к войне поселений и земель с непомерно высокой арендной платой. А в столице тем временем добрые протестанты в Тринити-колледже и Дублинском замке могли чувствовать то же, что и доктор Пинчер, но изменить ничего не могли. То же самое происходило даже в соборе Христа: община собора представляла собой анклав, гордо существующий посреди моря упорствующих папистов. К тому же Пинчер знал, что земли собора Христа до сих пор находятся в субаренде у католических джентльменов, которые используют свои владения даже для того, чтобы держать там личных священников.
Однако самый тяжкий удар сестра приберегла под конец. Много лет назад, когда ее брат покидал Кембридж — «о чем я предпочла бы забыть», напоминала она ему, — она надеялась, что он изменит свою жизнь к лучшему. Но из того, что она слышала об Ирландии, в том можно сомневаться, писала она. И потому она и не думает посылать к нему Барнаби.
Неужели она никогда не забудет? Неужели она никогда не простит ту историю в Кембридже? Что именно: его преступление или ложное обвинение сильнее всего раздражало сестру? — гадал доктор Пинчер.
Как ни странно, началось все в церкви. Пинчеру предложили прочесть проповедь в деревне неподалеку от Кембриджа. Среди прихожан были сэр Бертрам Филдинг и его жена. И Пинчера пригласили пообедать с ними на следующей неделе. Все было как обычно. Именно так молодые люди приобретали друзей и продвигались по службе.
Леди Филдинг была симпатичной большегрудой женщиной лет тридцати пяти, как предположил Пинчер. Он заметил, как вспыхнули ее большие карие глаза, когда он вошел в их дом. И она также дала Пинчеру понять, что он ей понравился, сжав его руку при прощании. Но он ничего особенного тогда не подумал.
Было ли случайностью то, что три дня спустя женщина встретилась ему на пути, когда Пинчер совершал обычную дневную прогулку вдоль реки? Нет. Он ведь без задней мысли упомянул о своей привычке во время обеда в ее доме. Замышляла ли она кое-что заранее, когда уговорила Пинчера показать ей колледж? Без сомнения. Намеренно ли она попросила показать ей его комнату? Конечно. Ох, конечно же!
До того момента Пинчер был девственником. Это было необычно, и все же такое случалось. Он хранил чистоту ради службы Господу. Возможно, предположил он после, как раз это и привлекло женщину. Она была полна решимости не оставить его таким же невинным, каким он был до встречи с ней. И она отлично знала, как его соблазнить. С тихим восторженным мурлыканьем она раздела его, обнажив бледное тело Пинчера, и научила исследовать ее собственное тело. И до сих пор стыд в душе Пинчера смешивался с восхищением и гордостью — увы, с гордостью! — при воспоминании о том, что они проделывали вместе.
Они встречались потом много раз. Это оказалось совсем не трудно. Ее муж несколько раз уезжал в Лондон. И она частенько приходила в его комнату в колледже. Все происходило во время университетских каникул, так что большинство студентов разъехалось. Почти шесть недель Пинчер предавался греху похоти и, что было и того хуже, содействовал нарушению супружеской верности.
Пинчер так никогда и не узнал, каким образом сэр Бертрам обнаружил их связь. Возможно, он что-то заподозрил. А возможно, он просто выследил жену.
И тогда случилось нечто ужасное. В тот вечер Пинчер находился наедине с леди Филдинг в своей комнате и вдруг услышал оглушительный стук в дверь. Он подумал, что в колледже пожар. Набросив на себя ночную рубаху, Пинчер открыл дверь.
Следующие несколько минут ему очень хотелось бы забыть. Сэр Бертрам был не только таким же высоким, как Пинчер, но и весьма крепким. К тому же он прихватил с собой меч. И именно вспышка отраженного света свечи на лезвии меча заставила Симеона Пинчера бежать. А что еще он мог сделать? Но не успел он проскочить в дверь, как сэр Бертрам схватил его за рубаху сзади. И та затрещала. И лишь когда Пинчер, спотыкаясь, скатился по лестнице и выскочил во двор, он с ужасом осознал, что его старая рубаха осталась в руке сэра Бертрама и что сам он абсолютно наг.
А сэр Бертрам гнался за ним! Пинчер ощутил острую, обжигающую боль в плече. Филдинг ударил его мечом плашмя. Пинчер бежал со всех ног, но его преследователь был удивительно проворен. Сэр Бертрам еще раз ударил Пинчера, и на этот раз острие меча вонзилось в спину, вспарывая плоть.
Они мчались по двору, голый Пинчер и разъяренный преследователь. Слава Богу, это не было средь бела дня, но все равно света хватало, чтобы любой мог увидеть позор Симеона. Ему бы выскочить через будку привратника на улицу, но он не мог сделать этого без одежды. И поскольку Филдинг явно не собирался прекращать преследование, Пинчер был вынужден закричать, зовя на помощь. Одно или два окна, выходившие во двор, открылись. Пинчер все же не представлял, что могло бы произойти, если бы не привратник, втащивший обезумевшего Пинчера в свою сторожку и захлопнувший дверь перед разъяренным сэром Бертрамом. Десять минут спустя сэр Бертрам и его жена покинули колледж, а Симеон Пинчер, закутавшись в одеяло, данное ему привратником, вернулся, дрожа от потрясения, в свою комнату. И лишь очутившись у себя спальне и сбросив одеяло, Пинчер заметил, что весь залит кровью. Шрам на спине остался у него на всю жизнь.
Пинчер прекрасно понимал, что привратнику не составило труда догадаться о том, что именно происходило между студентом и леди. Но к счастью, свои догадки он оставил при себе, пока Пинчер отсиживался в сторожке. Однако спросил, нужно ли вызвать инспектора. Пинчер в ответ отрицательно качнул головой:
— Этот человек просто сумасшедший.
И пояснил, что леди пришла к нему за духовным советом. Но ее муж, постоянно воображавший, будто жена изменяет ему с каждым встречным, ворвался в его комнату, сорвал с него одежду и стал за ним гоняться.
— Позже я подумаю о законных действиях, — добавил Пинчер.
Он вовсе не был уверен в том, что привратник поверил в его сказочку. Скорее всего, нет. Но Пинчер рассудил: лучше всего держаться именно этой версии, а потому тем же вечером повторил ее главе колледжа.
— Стоит сожалеть о такой непристойности, — мрачно заметил глава.
— И я сожалею более всего, — согласился Пинчер, — поскольку был жертвой.
— Очень хорошо, что не слишком многие могли это видеть. Вы намерены предпринять какие-то юридические действия?
— Я не уверен. Этого человека следует пожалеть. Но более всего я опасаюсь, — весьма умно добавил Пинчер, — что, если я начну судебное преследование, это может повредить колледжу. И ради репутации учебного заведения, мне кажется, лучше ничего не делать.
— А-а, — кивнул глава. — Вполне разумно.
И уже через час привратник и все, кто находился в то время в колледже, получили строгий приказ более не говорить о случившемся. А Пинчер предположил, что и Филдинг, по всей видимости, также не желал выносить историю на публику.
Но как бы надежно ни охраняли стены колледжа его репутацию, слух все же просочился наружу. И через несколько дней об этом заговорили и в других колледжах. И естественно, история начала приобретать разные подробности. Пошли разговоры о неких оргиях, даже о языческих ритуалах, во время которых голые мужчины и женщины предавались разврату. Вскоре Пинчер заметил, что люди на улице посматривают на него с любопытством. Его имя было замарано. Однажды он даже увидел, как проходившая мимо леди шарахнулась в сторону от него. На следующий день он не отправился на свою обычную прогулку, а остался в комнате.
Но настоящий удар оказался таким, какого Пинчер и вообразить не мог. К нему в комнату явился адвокат — маленький мужчина с узким лицом, напомнивший молодому человеку хорька. Пришел он от сэра Бертрама Филдинга.
— Сэр Бертрам намерен возбудить иск против вас, — сообщил адвокат. — И его супруга готова свидетельствовать.
— В чем?
— В изнасиловании.
Пинчер в изумлении уставился на юриста:
— Ее изнасиловали? Кто?
— Вы, разумеется. Вы на нее напали.
— Ничего подобного я не делал!
— Ее слово против вашего. Люди видели, как вы бегали по двору без одежды. — Адвокат покачал головой. — Дурное дело. Вам в любом случае конец. Ни один колледж ничего подобного не потерпит. Я бы сказал, это конец всех ваших надежд. — Он немного помолчал, наблюдая, как на лице Пинчера отражается бесконечный ужас. — Но, думаю, вы все-таки могли бы этого избежать.
— Как?
— Уйти из колледжа.
— Уйти?
— Вообще покинуть Кембридж. Куда-нибудь уехать. Если вы так поступите, мне кажется, дело можно будет замять. Говорить будет нечего. И все закончится. Думаю, вы могли бы так поступить.
Пинчер молчал. Он вспомнил о письме, которое совсем недавно получил из Дублина и на которое не потрудился ответить.
— Мне нужно немного времени, чтобы подумать, — медленно ответил он. — Но если дело дойдет до суда, я буду отрицать все обвинения и откровенно расскажу все о той леди, не щадя ее репутации.
— Что ж, справедливо, — кивнул адвокат. — У вас есть месяц. Как вам это?
В тот же день Пинчер написал в Тринити-колледж.
Но он совершил одну печальную ошибку. Придя к сестре перед своим отъездом из Англии, он все ей рассказал, ожидая от нее сочувствия. Но не дождался. Ни слова жалости, милосердия или любви. Ни тогда, ни до сих пор, даже после стольких лет.
И какой была с тех пор его жизнь? Что он мог бы продемонстрировать племяннику, если бы тот приехал в Дублин? Весьма скромное состояние? Положение в Тринити? Борьбу за протестантскую веру в мире презренных компромиссов? Но где же священный, божественный огонь? И что бы почувствовал к своему дяде добродетельный юноша — восхищение или отвращение? Боже милостивый, вдруг осознал Симеон Пинчер, ведь, скорее всего, второе… Его сестра права. Пинчер забыл, как должна выглядеть его жизнь в глазах английского пуританина. Он слишком долго жил в Ирландии.
Весь день он просидел на месте, глядя в пространство перед собой. В начале вечера пришла жена Тайди, принесла ему пирог с мясом. Пинчер рассеянно поблагодарил ее, но не сдвинулся с места. Но потом встал, поднес к тлевшим в камине углям длинную тонкую свечку и зажег с ее помощью большую свечу, которую и поставил на стол перед собой.
И лишь много позже, после того как он долго просидел, грустно глядя на огонек и думая об Уолше и О’Бирне, о своей сестре и ее набожном сыне Барнаби, доктор Пинчер пришел к решению, изменившему весь остаток его жизни. Он теперь знал, что ему делать. Но подготовиться к этому он должен был тщательно и тайно.
Два месяца спустя Орландо Уолш созвал семейный совет в Фингале.
Были приглашены и его брат Лоуренс, и Уолтер Смит, и Дойл, который, хотя и принадлежал формально к Ирландской церкви, не обладал слишком сильными религиозными чувствами и всегда был верным родственником. Но что удивило остальных гораздо сильнее, так это то, что Орландо пригласил на совет своего друга О’Бирна.
— Я хочу, — объяснил он Лоуренсу, — узнать мнение ирландского джентльмена. А О’Бирну можно доверять.
Ведь предстояло обсудить очень важные дела.
Это было мужское собрание. Жена Орландо, Мэри, как раз уехала навестить свою матушку, О’Бирн и Лоуренс приехали одни. Энн, правда, приехала с Уолтером Смитом, потому что ей приятно было навестить дом своего детства.
— Я буду только рада оставить вас. Обо мне не беспокойтесь. Я найду чем заняться, — весело сказала она брату.
Погода стояла чудесная. Был канун Майского дня.
Когда мужчины собрались в гостиной вокруг дубового стола, Орландо с удовольствием окинул всех взглядом. Уолтер Смит, Дойл и О’Бирн были одеты так, как и положено джентльменам из Дублина: короткие штаны и чулки; сам Орландо надел облегающие штаны. В сельской местности это было в порядке вещей: даже в английском Фингале джентльмены носили смесь английского и ирландского платья, и Орландо, обращаясь к О’Бирну, заметил с улыбкой:
— Да я больше похож на ирландца, чем ты!
Лоуренс был в своей обычной сутане; седеющие волосы добавляли его внешности суровости.
За годы, прошедшие после смерти отца, Орландо научился лучше понимать брата и уважать его соответственно. Когда Орландо решил пойти по стопам отца и выбрал профессию юриста, он учился у одного адвоката в Дублине и быстро выдвинулся. В то время он часто проводил вечера с Лоуренсом в доме иезуитов. И два брата стали как бы двумя сторонами одной и той же фамильной монеты: один представлял собой священство, другой — землевладельцев и профессионалов, чья религиозная жизнь всегда являлась сугубо личным делом.
Разница между ними была лишь в одном. Лоуренс по-прежнему оставался более холодным интеллектуалом, чем брат. Его неизменное отвращение к сомнительным реликвиям, священным источникам и всем проявлениям скрытого язычества в традиционном католицизме острова могли бы порадовать пуритан. А Орландо, отчасти из любви к памяти отца, а отчасти из-за собственного характера, продолжал почитать кое-что из всего этого. Как раз той самой зимой он, отправившись в Ратконан к О’Бирну, вместе с другом поскакал в Глендалох и провел целый день в том месте, где стоял древний монастырь, и почти час молился в маленькой хижине святого Кевина. И каждый месяц Орландо обязательно предпринимал маленькое пешее паломничество к колодцу в Портмарноке. И если Лоуренс был полон решимости очистить и усилить Святую церковь, Орландо, более эмоциональный, желал бы вернуть то, что было утрачено, хотя и не смог бы четко выразить свои желания в словах.
И обсудить теперь он хотел как раз жизнь католической общины Ирландии.
Если недавняя женитьба английского короля Карла на французской принцессе казалась благоприятным знаком для ирландских католиков, то в последние недели стали приходить даже более ободряющие новости. И, начиная разговор, Орландо вкратце описал положение дел:
— Все мы знаем, что король Карл нуждается в преданных подданных-католиках в Ирландии. И с момента его брака мы надеялись, что он сделает больше, чтобы проявить свое дружеское отношение к нам. И теперь похоже на то, что он делает первый шаг.
С конца прошедшего года со стороны королевских приближенных подавались намеки ирландским друзьям. Несколько писем, которыми обменялись известные люди Ирландии с некоторыми придворными, питали эти первые семена, а в последние несколько недель все начало приобретать некие очертания.
— Мы должны согласиться с тем, что положение преданных сквайров-католиков в Ирландии должно улучшиться, поскольку король дал понять, пока частным образом, что готов проявить к ним благожелательность. Я так все понимаю. — Орландо окинул взглядом собравшихся.
— Да, так поговаривают в Дублине, — согласился Дойл. — Мы все это слышали, и католики, и приверженцы Ирландской церкви. И также очевидно, что подобные слухи напрямую идут из Лондона. Правительство в Дублинском замке никакого отношения к этому не имеет. Они слышали новости, конечно, но им ненавистна сама идея. Они бы предпочли видеть католиков подавленными, а не ободренными.
— Но им все равно придется выполнять королевскую волю, — напомнил Орландо. — Выбора-то у них нет. Так что новость весьма хороша. — Он улыбнулся О’Бирну. — По крайней мере, для нас, я думаю.
— Да, для старых англичан, — грустно кивнул О’Бирн. — Что же до меня самого, то это еще как посмотреть.
— Думаю, и тебя это коснется, — сказал Орландо. — Если король благоволит к некоторым католикам, он должен благоволить ко всем им. Даже здесь, в Фингале, — добавил он. — Я могу назвать с десяток землевладельцев-католиков ирландской крови — Конраны, Доуды, Кеннеди, Келли, Мэлони, — и все они джентльмены, как и ты, Бриан. И не вижу причин проводить разницу между ними и мной. Не говоря уже о том факте, что среди простого люда Фингала, от слуг в этом доме до рыбаков и фермеров-арендаторов, четверо из пяти — ирландцы, ты и сам знаешь. И если нам позволят исповедовать нашу религию, то и им тоже.
— Если разрешение верить по-своему уменьшит желание англичан красть наши земли, — сухо произнес О’Бирн, — то мы, без сомнения, должны быть благодарны.
— Ну а мне кажется, — возразил Орландо, — что на этом этапе мы в любом случае должны быть благодарны.
— Возможно, — вступил в разговор до сих пор молчавший Лоуренс. Его руки с длинными пальцами спокойно лежали на столе. Он серьезно оглядел всех. — Но я все же не разделяю вашего оптимизма. Прежде всего вы, похоже, принимаете идею, что новый король благоволит католической вере.
— Но он ведь женился на католичке, — напомнил Орландо.
— Это было политическое решение. Союз с Францией.
— Но он сам вряд ли протестант.
— Ну, по поведению и по характеру он, без сомнения, ближе к нам, чем к своим подданным-протестантам в Англии, — допустил Лоуренс. — Но могу вам сказать: нет никаких свидетельств тому, что он намерен вернуть свою страну или хотя бы свою семью под власть Рима.
Лоуренс немного помолчал, а трое мужчин переглянулись. Все они знали: иезуиты обладают самой лучшей сетью по сбору сведений во всей Европе.
— Тогда во что же он верит? — спросил Орландо.
— Его отец убедил себя, что короли правят по божественному праву, и, похоже, сын перенял эту веру. Король Карл уверен, что не обязан отвечать перед людьми за свои поступки, что он ответствен лишь перед Богом, лично и напрямую, и вообще не должен думать о мудрости, накопленной за века Святой церковью. — Лоуренс скривился. — Подобная уверенность, вы знаете, демонстрирует такую огромную самонадеянность, какой ни один служитель Католической церкви не потерпел бы и минуты. — Иезуит пожал плечами. — Если он продолжает держаться этой глупой веры, то наверняка предпочтет Риму собственную церковь в Англии, он ведь ее глава. Признав главенство Рима, король вынужден будет признать и авторитет папы.
— Но он готов благоволить к католикам.
— В Ирландии — возможно. Но будьте уверены, — Лоуренс побарабанил пальцами по столу, — он потребует кое-чего взамен.
— И что это может быть?
— Деньги, Орландо. Ему нужны деньги. — Лоуренс сложил пальцы домиком, как будто собираясь прочесть небольшую лекцию. — Вспомните недавнюю историю английского двора. Некий красивый молодой человек является ко двору и очаровывает старого короля Якова, который дарует ему куда больше, чем тот заслуживает, и делает его герцогом Бэкингемским. А Карл, вместо того чтобы отослать Бэкингема прочь, еще больше осыпает его милостями. Уже и то плохо, что весь христианский мир раскололся на два воинственных лагеря: католиков и протестантов. Однако Бэкингем, не имея понятия об искусстве управления государством, теперь вовлек Англию в дорогие военные походы, в которых невозможно найти смысл, хоть религиозный, хоть какой-то другой. И уже дважды английский парламент отказался давать королю деньги, если он не избавится от этого никчемного Бэкингема, а Карл, уверенный, что не может ошибаться, никого не слушает. И теперь у него нет денег, и он пытается добыть их любыми способами. Продается все: дворянские звания, торговые привилегии, даже государственные должности. Он даже вынуждает честных английских джентльменов, людей вроде тебя самого, Орландо, ссужать ему деньги, угрожая тюрьмой, если они откажутся. — Лоуренс покачал головой, на его лице было написано отвращение. — Следовательно, мы можем не сомневаться в том, что если король предлагает помощь ирландским католикам, то лишь потому, что желает взамен получить большие деньги.
Лоуренс договорил, и все какое-то время молчали. Возможно, Лоуренс судил резко, но к его мнению следовало прислушаться.
— Я надеюсь, — наконец заговорил Орландо, — что ты ошибаешься. Но если ты прав, то мы должны использовать этот шанс и извлечь из него как можно больше. — Он показал на лежавшие на столе бумаги. — Как и следовало ожидать от адвоката, я подготовил некоторые предложения.
Предложения, которые теперь начал излагать Орландо, исходили не от него одного. Уже много недель юристы обсуждали между собой новые идеи. По всей Ирландии проходили встречи вроде сегодняшней. И касалось все это не только католиков.
— Это несколько небольших реформ, против которых не стал бы возражать даже доктор Пинчер из Тринити-колледжа, — пояснил Орландо.
Но все же это были меры, которые, пусть скромные каждая сама по себе, в целом могли серьезно изменить жизнь ирландских католиков. Они включали и отмену штрафов за исполнение католических обрядов.
— И снять с юристов-католиков вроде меня запрет на занятие официальных должностей, — сказал Орландо. — Здесь у меня почти тридцать таких предложений. Если мы сумеем добиться принятия хотя бы большей части из них, это могло бы означать конец изоляции католиков на острове.
Началось обсуждение предложений. Пятеро мужчин внимательно изучили их одно за другим. У каждого нашлась какая-то полезная идея. Уолтер Смит проявил практичность и осторожность, рассматривая, как каждая из идей могла бы работать на практике в общении с чиновниками и торговцами в Дублине. Дойл предвидел возражения со стороны Ирландской церкви. Несколько хороших предложений было высказано по вопросу наследования. А последнее предложение развеселило О’Бирна.
— Ты хочешь создать некую милицию?
В прошлом, когда английское правительство желало содержать в Ирландии войска, из Лондона приходилось переводить деньги, чтобы выплачивать им жалованье. Но кое-кто весьма разумно предположил, что старые англичане из Пейла могли бы сберечь немало денег правительства, создав собственную милицию.
— Правительство будет просто сборищем идиотов, если тебе такое позволят! — смеялся О’Бирн. — Ты тогда опять захватишь всю Ирландию!
— Тем больше причин просить об этом, — с улыбкой ответил Орландо и продолжил уже серьезнее: — Но в чем бы мы ни убедили короля теперь, мы должны все же доказать ему, что вполне преданы его власти. И наши главные надежды в будущем покоятся на том, чтобы показать правительству: какие бы права нам ни дали в части нашей религии, мы вовсе не намерены бунтовать или искать помощи за границей. Король должен видеть, что преданным католикам-джентльменам в Ирландии — и тебе в том числе, О’Бирн, и другим вроде тебя — следует доверять. А уж добившись доверия, мы сможем и дальше отстаивать свои права. — Он посмотрел на новые часы, которые с год назад с гордостью установил в углу гостиной. — Почти полдень, — заявил он. — Пора обедать.
Энн наслаждалась утренними часами. Бóльшую их часть она провела в кухне со слугами, которые готовили обед. Старшая из них, Кэтлин, служила в доме со времен детства Энн, и они приветствовали друг друга теплым поцелуем. Энн было приятно слушать, как женщины болтают между собой на фингальском диалекте. Она с удовольствием помогала накрывать на стол и расставлять старые предметы, знакомые ей с давних пор: тяжелую солонку, стоявшую на столе на почетном месте, и медные подсвечники, и оловянные блюда, и серебряные пивные кружки с выгравированным на них фамильным гербом — из них пил отец Энн, а теперь — Орландо. И все в целом, думала Энн, было как будто милым путешествием в прошлое.
К тому же у нее нашлось несколько часов для болтовни, и к полудню Энн уже знала все сплетни обо всех местных семьях. Конечно, и ее собственную семью сплетницы не обошли стороной. А в том, что касалось семьи Уолш, Энн обнаружила лишь один интересный предмет для обсуждения.
— Мы ждем младенца, — сообщила ей Кэтлин. — В этом доме.
Казалось странным и немного огорчительным, что Мэри до сих пор не забеременела. Они с Орландо были женаты уже три года, и Энн знала, как страстно ее брат хочет иметь детей. У Уолшей никогда не было проблем с производством на свет наследников, да и сама Мэри была из большой семьи. И у Энн не было причин подозревать, что ее брат не ведет нормальную семейную жизнь.
— Ее потому и нет сейчас здесь, — доверительно сказала Кэтлин, когда они с Энн оказались в стороне от других женщин. — Всего месяц назад мы с ней тут стояли вместе, и она вдруг повернулась ко мне и спросила: «Почему у меня нет детей, Кэтлин? Ты можешь мне объяснить?» Я не нашлась что ответить. «Видит Бог, это не потому, что я не стараюсь», — сказала она. А потом бедняжка заплакала. Она ничего не объяснила, когда отправилась повидаться со своей матушкой, но можешь быть уверена, они именно об этом говорили, ведь ее мать вырастила десять детей!
Энн подумала, что старая женщина безусловно права. Она и сама жалела Мэри и решила впредь постараться чаще навещать ее. Хотя вряд ли я могу дать ей хороший совет насчет семейной жизни, подумала Энн. И еще она слегка переживала за брата. Он никак не показывал своих чувств, но если его жена так убивалась из-за отсутствия детей, то Энн легко могла вообразить боль, которую втайне испытывал Орландо. И Энн гадала, стоит заговорить с ним об этом или помалкивать, пока он сам не скажет.
Обед, за который все уселись слегка за полдень, был настоящим фингальским пиром. В этих местах было особенно много разных морских деликатесов. Рядом с Мэлахайдом имелось много устричных отмелей, возле Хоута собирали съедобных моллюсков и мидий, а в Клонтарф, чуть южнее, привозили соленую сельдь. В качестве главного блюда подали солонину, говядину и утку c кровяной колбасой, горохом и капустой. Был подан еще один овощ, весьма заинтересовавший О’Бирна, поскольку ирландец никогда прежде такого не пробовал. Это был картофель, новинка из Америки.
— Я засадил им с четверть акра несколько лет назад, — с гордостью сообщил Орландо. Ему нравилось думать о себе как о прогрессивном земледельце. — Никто в Фингале пока такого не пробовал. А урожай с одного акра этой американской картошки больше, чем с любых других посадок.
Было уже половина третьего, когда Уолтер Смит благодушно заметил:
— Если мы после всего этого не отправимся на прогулку, я пойду спать.
— Мы прогуляемся, — заявил Орландо. — К морю.
Энн была рада присоединиться к мужчинам на этой прогулке. Они пошли по тропе, что вела через поля к Портмарноку и морю. Ее радовало то, что вокруг как будто ничего не изменилось: возле дома она видела поля пшеницы и овса, а на открытом пространстве, уходящем вниз, к морю, паслись овцы и коровы.
Орландо и О’Бирн шли впереди, за ними — Лоуренс и Дойл. И хотя на нем была сутана, ее старший брат прихватил с собой охотничье ружье Орландо — великолепное кремневое ружье из Франции, с помощью которого надеялся добыть несколько уток, чтобы увезти их с собой в монастырь иезуитов в Дублине. Энн и Уолтер шли последними. И тихо разговаривали. Уолтер рассказал ей о том, что они обсуждали утром, а Энн сообщила то, что слышала о жене Орландо.
— Как думаешь, я должна поговорить с ним об этом? — спросила она.
— Ты можешь, мне кажется, навести его самого на эту тему, но большего я не стал бы делать, — посоветовал Уолтер. — Впрочем, ты его сестра, тебе, наверное, лучше знать. — Он вздохнул. — Слава Богу, что у нас есть наши милые дети!
— Да, — кивнула Энн. — Слава Богу!
Из уважения к взглядам Лоуренса Орландо не повел всех к святому колодцу в Портмарноке, а направился сразу к песчаным дюнам на берегу. Они шли все вместе вдоль берега в сторону Хоута. День был теплым. Вскоре они увидели какого-то рыбака — он сидел возле маленькой лодки и чинил сети. Когда они остановились, чтобы обменяться с ним несколькими словами, О’Бирн повернулся к Орландо и спросил о маленьком островке, что виднелся над водой перед мысом Бен-Хоут.
— Мы называем его Ирландс-Ай, — ответил Орландо. — Там никто не бывает, кроме рыбаков.
О’Бирн обратился к мужчине у лодки:
— Можешь отвезти меня туда за шиллинг?
Предложение было весьма щедрым, и рыбак с радостью согласился.
— Кто поедет со мной? — О’Бирн повернулся к остальным.
Мужчины энтузиазма не проявили, но Энн улыбнулась:
— Я поеду, если Уолтер не возражает. Я не бывала там с тех пор, как отец возил меня туда в детстве.
Уолтер посмотрел на спокойную воду. Рыбак был седым, но выглядел достаточно сильным, чтобы справиться с любым течением.
— Если хочешь, — спокойно ответил он.
Они легко пересекли неширокий пролив. Энн и О’Бирн сидели на корме, лицом к рыбаку, а тот медленно, но уверенно работал веслами. Когда они миновали отмель, О’Бирн весело заметил:
— Сегодня ведь канун Белтейна?
— Верно, — тихо откликнулся старый рыбак. — Ночью люди выйдут в холмы.
Древний кельтский праздник Майского дня не был забыт. Во многих местах люди по-прежнему поднимались на холмы, чтобы увидеть восход солнца, и Энн даже кое-где слышала, что пастухи до сих пор продолжают в этот день прогонять скот между двумя кострами на древний языческий манер. Она спросила Бриана О’Бирна, слышал ли он о чем-то подобном.
— Я даже видел, как это делают, — ответил тот.
Возможно, из-за его зеленых глаз, напоминавших Энн о ее сыне, или, возможно, потому, что светлые волосы делали его моложе, но было что-то необыкновенно мальчишеское и очень привлекательное в этом ирландском джентльмене.
— Уверена, вы и сами так поступаете в Уиклоу, — мягко поддразнила Энн его.
— Мы в Ратконане вовсе не язычники, — ответил он с улыбкой, хотя Энн отметила, что на самом деле он ничего не отрицал.
— А что до девушек… — продолжила Энн.
Она слышала, что далеко не каждая девственница, проводившая в горах ночь Белтейна, возвращалась, сохранив свою девственность.
— Я не могу отвечать за своих предков, — засмеялся О’Бирн.
Остров приближался. Они уже могли рассмотреть камни на берегу. Энн наслаждалась ощущением теплого воздуха и солнечного света.
Рыбак подвел лодку к маленькому пляжу, усыпанному галькой. Энн поднялась на поросший травой холмик и оттуда помахала через пролив мужу. Тот махнул рукой в ответ. Мужчины, успокоенные тем, что она благополучно добралась до островка, теперь пошли к южной части прибрежной полосы, где почва была болотистой. Лоуренс наверняка надеялся подстрелить там какую-нибудь дичь. А Энн с О’Бирном стали осматривать островок.
У основания утеса, расколотого почти пополам, Энн увидела, что камни образовали естественное убежище.
— Здесь мог бы жить какой-нибудь отшельник, — сказала она.
Они обошли весь островок и вернулись к рыбаку. Тот прихватил с собой одну из сетей и теперь спокойно продолжал починку. Похоже, он не спешил возвращаться. Энн и О’Бирн прошлись еще немного и сели возле одного из каменистых бассейнов. Солнечные лучи играли на воде. Они наблюдали, как по дну ползет краб, и Энн охватило чувство бесконечного покоя, словно она снова вернулась в детство.
— Странно, — немного погодя заговорила она, — странно сидеть рядом с человеком, у которого зеленые глаза моего сына. — И она улыбнулась О’Бирну.
— А Муириш до сих пор не знает о нашем родстве?
— Нет. Его отец не хочет. — Энн протянула руку к воде и окунула в нее пальцы. — Мой муж очень осторожен, — добавила она, чуть заметно пожав плечами.
О’Бирн бросил на нее внимательный взгляд:
— Твой муж разумный человек. Думаю, на его месте я вел бы себя так же. — Он немного помолчал. — Когда первый Муириш сменил свое имя на Смит, он принял это решение ради своих потомков. Они теперь англичане. А что до зеленых глаз, так они время от времени появляются во многих семьях. — О’Бирн хихикнул. — Уверяю тебя, твой муж не единственный потомок Шона О’Бирна! Осмелюсь предположить, мы все в Уиклоу так или иначе родня, как старые англичане в Фингале. — Он с удовольствием потянулся. — Наверное, все как-то связаны между собой. И если уж на то пошло, в моих венах течет еще и кровь Уолшей из Каррикмайнса.
— Вот как? — Энн была восхищена. — Вы родня?
— Ну, это было века назад. — О’Бирн засмеялся. — Но это значит, что и ты, и твой муж через О’Бирнов тоже им родня.
— А я и не знала. — Энн долго и задумчиво смотрела на камни, потом вдруг просияла и взглянула на собеседника. — Я связана дальним родством со своим мужем, а теперь еще и с тобой? Вот так подарок!
Почему ей так нравился Бриан О’Бирн? Из-за его глаз? Или он напоминал ей Патрика, потерянного навсегда? Энн не знала.
— А ты можешь меня представить живущей в диких горах Уиклоу? — спросила она.
— О да, — тихо ответил Бриан. — Могу.
Потом он рассказал ей несколько историй об О’Бирнах и О’Тулах в далеком прошлом, о жизни на диких, свободных просторах гор и о сражениях между ирландскими вождями и английскими отрядами Тюдора. Энн многое знала из истории, но ей никогда не приходилось слышать, как это рассказывает ирландец, и она впервые ощутила горы Уиклоу не как угрожающую, опасную территорию, а как некий великий рай, землю древней свободы и святых мест, которые англичане не просто захватили, но и осквернили. И ее это тронуло до глубины души.
Потом Бриан сказал:
— Нам пора возвращаться.
— Да, пора, — ответила Энн.
Но ни один из них не тронулся с места. Времени как будто прошло совсем немного. Наконец Бриан посмотрел на солнце, которое уже начало опускаться к горизонту, встал сам и помог Энн подняться. И они, продолжая говорить, медленно пошли обратно к лодке, где рыбак, починив сеть, спокойно заснул.
Когда они опять пересекли пролив, то нашли только ожидавших их Уолтера и Орландо. И они не улыбались.
— А где Лоуренс и кузен Дойл? — спросила Энн. — Он подстрелил хоть одну утку? Я не слышала выстрелов.
— Они устали вас ждать и пошли домой, — холодно произнес Орландо.
Бриан О’Бирн поспешил извиниться за то, что заставил их ждать.
— Мы вроде недолго там были, — сказала Энн.
Орландо и Уолтер переглянулись.
— Вы провели там два часа, — тихо бросил Орландо.
— Ох, я и не заметила… Нет, не может быть! Там время идет по-другому, — беспечно ответила Энн. — Бриан рассказывал мне о горах Уиклоу.
— Там есть убежище, в каком мог бы жить сам святой Кевин, — поспешил добавить О’Бирн. И повернулся к Уолтеру. — Я как-то раз возил Орландо в Глендалох, ты знаешь. И он там молился почти час в хижине святого Кевина.
— Пойдем-ка вместе, Бриан, — сказал Орландо, как только О’Бирн рассчитался с рыбаком. — Энн и Уолтеру лучше остаться вдвоем.
По дороге домой Энн взяла Уолтера за руку и нежно ее сжала.
— Я совсем не заметила, что прошло так много времени, — сказала она. — Я думала, вы ищете уток в болоте.
— Мы искали, — кивнул Уолтер.
— Знаешь, мне бы хотелось, чтобы мы все вместе как-нибудь съездили в Ратконан, — предложила Энн.
Однако Уолтер не ответил.
Солнечным воскресным утром в июне 1627 года доктор Симеон Пинчер направлялся из Тринити-колледжа в собор Христа. Для доктора было обычным делом шагать спокойно и целенаправленно, однако сегодня он вышагивал как какой-нибудь герой древности, Гектор или Ахиллес, собравшийся на битву. И ведь действительно, он намеревался вступить в величайшее сражение своей жизни, из которого, доктор не сомневался, должен выйти победителем.
Потому что сегодня доктор Пинчер намеревался одним дерзким шагом превратиться в главу — по крайней мере, в духовного главу — всей протестантской общины Дублина, а возможно, и всей Ирландии.
Через восточные ворота доктор вышел на Дейм-стрит и с одобрением отметил, что большой колокол собора Христа уже начал звонить.
— Я буду звонить лишних десять минут, ваша честь, ради вас, — пообещал ему Тайди накануне. — Это будет великий день. День вашей проповеди, сэр.
Пинчер напомнил себе, что должен вручить Тайди шиллинг за его любезность. А может, и два.
Но если Пинчер собирался на великую битву, то он, как хороший полководец, заранее готовился к ней самым тщательным образом. Во-первых, он точно рассчитал время. Уже в течение нескольких месяцев старшины Ирландской церкви отмечали растущие надежды католиков на некую поддержку со стороны короля, а в последние недели, когда люди вроде Орландо Уолша изложили свои предложения, опасения в протестантских кругах превратились в настоящую панику. Что-то нужно было предпринять, с этим соглашались все.
Во-вторых, Пинчер тщательно выбрал место сражения. Он не собирался вторгаться на неведомую территорию. Плацдарм был уже подготовлен, когда в апреле не кто иной, как бескомпромиссный епископ из Нью-Хэмпшира приехал в Дублин и прочел весьма злую и жесткую проповедь о греховной терпимости к католицизму. «Терпеть католиков, — решительно заявил он, — значит бесчестить Господа».
Проповедь восприняли с восторгом, но никаких практических шагов за этим не последовало. Пинчер, впрочем, убедился, что его войска вполне готовы, а союзники стоят на своих местах. И уже в течение месяца он вел разговоры с друзьями в Тринити-колледже и с сочувствующими чиновниками в Дублинском замке. Сам представитель короля был на этой неделе в отъезде, но многие из его служащих должны были присутствовать на проповеди, и в целом должно было собраться много тех, кто поддерживал доктора. До людей вроде Дойла также дошел слух, что этим утром в соборе Христа должно было произойти нечто особенное, потому что для достижения нужного эффекта Пинчер нуждался в большой и разнообразной аудитории.
Когда он подошел к огороженной территории собора, то с удовольствием увидел, что немало олдерменов-католиков — тех самых, кто обычно пьянствовал по соседству во время проповедей, — из любопытства собрались перед входом. К концу проповеди многие из них станут его смертельными врагами. Вот и хорошо. Пинчер именно того и хотел. Он желал стать тем, кого они ненавидели. Это и сделает его духовным наставником и вождем.
Армия протестантов ждала, чтобы ее повели вперед. И если сестра доктора в Англии до сих пор в нем сомневалась, если даже он сам раз-другой усомнился в себе, то сегодняшние действия навсегда избавят его от сомнений. Именно это и было предопределенной для него ролью, той, ради которой Господь заставил его ждать. Он был предназначен не просто для того, чтобы стать одним из избранных, а для того, чтобы вести их.
И все же немного позже, когда Пинчер занял свое место, он и сам был удивлен успехом своей подготовительной работы. Собор был набит битком. Это было одно из величайших собраний, какие только ему приходилось видеть. Пришли все: от преданных душ вроде жены Тайди и его друзей из колледжа, от постоянных прихожан Ирландской церкви вроде Дойла до самых отъявленных католиков вроде торговца Уолтера Смита и его супруги. Дублинский замок также был представлен, как на то и надеялся Пинчер. Разработанный им план сработал. Они все пришли, чтобы услышать его.
Утренняя служба в соборе Христа была прекрасной, хор великолепным. Что до нового современного органа, который установили всего десять лет назад, то регент и органист наняли дополнительных музыкантов, чтобы обогатить звучание. Сегодня играли скрипки, свирели и корнеты. Пинчер не слишком одобрял все эти дополнительные украшения, считая их чересчур пышными и помпезными для протестантской службы, но во всем остальном собор Христа выглядел достойно. Стол для причастия, простой и гладкий, скромно стоял на своем месте. Свечей и украшений было немного. Без сомнения, главным сегодня был не хор, не алтарь, даже не собравшиеся, хотя они и были весьма важны. Главным в протестантской церкви была кафедра проповедника. Это католики могут приходить в церковь, чтобы насладиться мерцанием свечей и телом Христовым, чудом и таинством, а пресвитерианцы приходят затем, чтобы услышать проповедь.
И они ее получат. Когда подошло время, Пинчер встал со своего места и поднялся по ступенькам на кафедру. Лицо его было бледным, одежда черной как чернила. Все замерли в ожидании, и Пинчер обвел взглядом толпу. При этом он широко раскинул руки, словно карающий ангел, а потом хлопнул по кафедре перед собой и, наклонившись в сторону собравшихся, как будто они вдруг стали его добычей, воскликнул ужасным голосом:
— Не мир пришел Я принести, но меч![2]
Слова Господа. Десятая глава Евангелия от Матфея. Самые устрашающие слова Спасителя. Собравшиеся разом вздрогнули.
Проповеди в век Стюартов производили сильное впечатление. Это были мощно выстроенные тексты, подобные огромному зданию. Сначала шел фундамент — библейский текст. Затем, словно многочисленные колонны и арки, трансепты и капеллы, шли соответственные тексты, вполне понятные намеки и вспомогательные темы, потому что пастве нравилось видеть ученых проповедников. И все это торжественно излагалось и повторялось, приумножалось, надстраивалось одно над другим, сопровождаясь крепким великолепием протестантской прозы. И в результате проповедь выстраивалась в риторический храм — настолько огромный, сложный и гулкий, что к концу можно было лишь гадать: а предполагали ли сами авторы священных текстов, что можно соорудить из их простых и скромных слов?
Почему, вопрошал Пинчер своих слушателей, почему же наш Спаситель пришел не для того, чтобы принести мир? Потому что это было невозможно: одно лишь то, что сам Он был добр и свят — тут следовало несколько грамотных аллюзий, — Он не мог этого сделать. Но разве не все возможно для Господа? Все, кроме одного, потому что Он сам это установил. И это единственное — то, что Он назвал грехом. Мы знаем грех. Пинчер сурово оглядел слушателей. Они знали грех. Человечество познало грех с самого начала, с тех пор, как змий — тут снова последовало несколько ссылок и упоминаний о принце Тьмы, — с тех пор, как змий обманул Еву, а она соблазнила Адама.
— С того момента, как человек впервые проявил непослушание и принес в мир смерть благодаря плодам запретного древа! — воскликнул Пинчер. — С тех пор мы не знаем мира!
Мир придет только в конце света, когда дьявол будет наконец повержен Спасителем. Грех будет уничтожен. И нет другого способа одолеть дьявола, кроме как повергнуть его.
— Не мир пришел Я принести, но меч!
Человек пал, продолжил Пинчер, рай был утрачен. И мы, подобно Адаму, блуждаем по земле, где дьявол расставляет ловушки и соблазны для нас и растит запретные деревья на каждом повороте. Съешь их плоды — и попадешь в вечный адский огонь, и не будет у тебя надежды на спасение. Господь предупреждал Адама, чтобы тот не ел плодов запретного древа, но мы продолжаем чаще падать в бездну, чем избегать ее, ведь дьявол подсовывает нам запретные деревья под видом хороших.
— Змий умен и хитер! — сообщил Пинчер. — Он говорит нежно и мягко.
Он использует Еву, вечную соблазнительницу. Она предлагает нам некий фрукт, прекрасный снаружи, но гнилой внутри. Как же нам узнать соблазнительницу и фрукт в их истинном виде? Он им объяснит, заявил Пинчер. Дерево познается по его плодам — вот что следует всегда помнить.
На этом он сделал паузу и снова окинул слушателей грозным взглядом.
— И есть в мире некое дерево, — громко продолжил он, — чьи плоды нам известны!
Суеверия, идолопоклонничество, богохульство, лицемерие: о каком дереве он говорит? Но что еще это может быть, если не Римская церковь, которая порождает подобные плоды?
— Римская церковь — размалеванная шлюха, со всеми ее благовониями и картинками, с ее литургиями и шествиями! — воскликнул Пинчер. — Бойтесь, говорю вам, бойтесь папистской Евы, шлюхи, Иезавель! Отверните от нее лица свои! Сразите ее! Не мир пришел Я принести, но меч!
Слушатели при этом дружно вздохнули. Основные мысли проповеди были им вполне знакомы, но слышать вот такое злобное и враждебное нападение в присутствии столь многих джентльменов католиков Дублина — это уже было нечто большее, чем просто проповедь. Это было объявление войны. Пинчер, однако, чувствовал себя на волне и неумолимо перешел к следующей теме.
Меч, напомнил он слушателям, — это оружие, которое четко все разделяет. Добро отделяется от зла, и это деление абсолютно. И пусть все понимают, почти кричал он, пусть они не верят, что кто-то из людей может служить двум господам! Те, кто идет на компромисс со злом — тут Пинчер сделал страшные глаза, — те, кто не отказывается от зла, будут отделены мечом от всего доброго. Они будут прокляты. Прокляты окончательно, прокляты навеки. И прямо здесь есть — тут Пинчер позволил себе обвиняюще посмотреть на некоторых, — есть кое-кто, кто стремится к компромиссу и кто имеет дьявола среди своих друзей. И что же он хочет этим сказать, риторически вопросил Пинчер. Есть ли у него примеры?
И вот настал тот момент, к которому доктор так долго готовился.
Да, примеры у него есть.
Список грешников был длинным. И, кроме самых ярых сторонников доктора, во всем собрании едва ли нашелся бы человек, которого он не проклял бы. Он страстно перечислял. Грешники — это те, кто терпит, чтобы иезуиты открыто жили рядом с кафедральным собором; это те, кто поддерживает папистских священников в часовнях и в частных домах, а то и вовсе в городских церквях. Церковные земли сданы в аренду или субаренду католикам, которые содержат там папистов. Это бунтари, не платящие штрафов. Весь тот образ жизни, который позволял терпеть религиозные различия в Ирландии, был безжалостно выставлен доктором напоказ и проклят.
— Господь наш обещал, что кроткие наследуют землю! — грохотал он. — Но в Ирландии вместо того ее унаследовали предатели!
Собравшиеся все отлично поняли. Потрясенное молчание как будто накрыло всех гигантской волной. Но Пинчер и к этому был готов. И с губ двадцати или тридцати истинных протестантов в ответ за его восклицанием также сорвалось: «Аминь!»
— Раскайтесь! — закричал доктор.
Какой же будет судьба Дублина, требовательно вопрошал доктор, если они не станут следовать протестантской вере? Разве не предсказал сам Господь судьбу городов, которые слышали Его слово, но не раскаялись? Да, это сказано в Евангелии от Матфея! Кто терпит Содом и Гоморру, тот в Судный день окажется где?
— Аминь… — откликнулись голоса.
— Не мир пришел Я принести, но меч! — Доктор сделал очередную паузу и, к удивлению слушателей, посмотрел на них благосклонно. — Но праведный путь труден.
Что, если католик, возможно, является вашим соседом, человеком, рядом с которым вы выросли, к которому привыкли, с которым связаны в повседневной жизни, которого даже любите? Что тогда делать? Мы должны проповедовать истинную веру. Ничего плохого в том нет. Мы можем убеждать нашего соседа, уговаривать его раскаяться и отречься от глупого пути. Мы можем молиться за него. Мы должны молиться за него! Но если после всего этого он продолжает упорствовать в грехе, как бы мы ни старались, мы должны тогда проявить суровость, мы должны отвернуться от него, чтобы не запятнать самих себя. Мы должны даже сразить его. Что говорил наш Господь?
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя… И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну»[3].
— Так что беритесь за мечи, истинные христиане! — восклицал Пинчер все громче и громче. — И отрубайте все то, что ведет вас дорогой ада!
— Аминь… — ответили ему.
Но теперь собрание явно взволновалось. Большинство слушателей сидели в потрясенном молчании. Некоторые начали переговариваться, одни с одобрением, другие — нет. И что касается последних, то тут явно ощущалось их настроение: они полагали, что дело зашло слишком далеко и пора с этим кончать.
Однако, если они думали, будто Пинчер уже все сказал, они ошибались.
Теперь он, понизив голос в прелюдии к точке кульминации, наклонился вперед почти доверительно. Мы не должны предполагать, напомнил он слушателям, что дьявол дремлет. Он постоянно строит свои козни, и не только для того, чтобы спасти от гибели свою империю, но и для того, чтобы взять власть над миром. Даже теперь — голос Пинчера начал постепенно повышаться, — даже теперь слуги римской шлюхи строят свои заговоры, чтобы подорвать веру протестантов, чтобы восстановить власть папы римского, который есть Антихрист, и погубить благочестивых жителей Ирландии. И эти слуги римской шлюхи пытаются совратить даже самого короля, изменить божественные законы. И если позволить им преуспеть, то вскоре сами протестанты окажутся растоптанными. Растоптанными и поверженными католическими ирландскими ордами — ирландскими полчищами, которые, подчеркнул доктор, поведут те самые люди, которых вы сейчас называете соседями и друзьями. Неужели его слушатели допустят, чтобы такое произошло?
— Позволите ли вы, — восклицал Пинчер, — чтобы вас превратили в гниющий труп согласия и покорности, труп, который лениво дремлет, пока дьявол трудится, а благочестие уничтожается?! Или вы, как солдаты Христовы, восстанете, наденете латы и пристегнете к поясам мечи?
Ведь если они этого не сделают, предостерегал Пинчер, то им придется пожинать плоды своей лени. Они рискуют оказаться в вечном огне. Бог видит все, кричал Пинчер все громче и громче. Господь их испытывает! Неужели они поддадутся соблазну, откажутся от права первородства и позволят католической шлюхе погубить их бессмертную душу, ведь она прямо сейчас соблазняет короля сделать то, чего он делать не должен! Или они поднимут крест и меч Христовы и ударят по католической шлюхе?
— Ударьте! — кричал доктор. — Поразите шлюху!
— Аминь… — послышалось в ответ.
— Поразите Иезавель!
— Аминь. Аминь.
— Я принес не мир! — в последний раз выкрикнул доктор, и его голос разнесся по всему собору. — Я принес меч!
— Аминь. Аминь. Аминь.
И доктор Симеон Пинчер, раскинув черные руки, воспарил над кафедрой, как ворон.
По окончании службы он не присоединился к толпе, собравшейся перед собором. Он был слишком горд и слишком мудр для этого, а потому осторожно вышел через другую дверь и быстро зашагал по Дейм-стрит к своему жилищу.
А за его спиной царило смятение. Пуритане, поддержавшие Пинчера, ликовали. Проповедь, соглашались они, превзошла даже обличительную речь епископа из Нью-Хэмпшира. А ведь Пинчер был своим, местным. И раз уж теперь у них есть такой оратор, говорили они, папистам придется туго.
А католики, естественно, были в ужасе. В особенности их волновали два вопроса. Говорил Пинчер лишь от своего имени (и от имени своих друзей) или за ним стояли другие, более могущественные? И не было ли это сигналом того, что король, вместо того чтобы помогать католикам, передумал и готов был обрушиться на них?
Но многие — отчасти католики, отчасти члены Ирландской церкви — имели иное мнение. Они не разделяли презрение Пинчера к компромиссу, и их встревожило то, что его нападение может ухудшить политическую ситуацию, и без того уже напряженную. В особенности был расстроен Уолтер Смит, и его очень удивило, что, когда он встретился снаружи с Дойлом, торговец, принадлежавший к Ирландской церкви и определенно веривший в компромисс, говорил обо всем весьма спокойно.
— И что нам теперь делать? — взволнованно спросил Смит.
— Делать? — Дойл насмешливо посмотрел на него. — Да ничего не делать. Пинчер только что уничтожил самого себя.
— Как это? В Дублинском замке и в Лондоне найдется много таких, кто согласится с каждым его словом.
— Без сомнения. Но все равно он себя уничтожил. — Дойл мрачно улыбнулся. — Ты явно слушал недостаточно внимательно, — негромко продолжил он. — Да, его проповедь звучала устрашающе. Но он совершил одну фатальную ошибку.
Холодным январским днем 1628 года из Дублина отправилась на корабле делегация в Лондон. Она состояла из восьми членов общины старых англичан и троих протестантов-поселенцев. Орландо Уолш в делегацию не вошел, хотя его имя рассматривалось, но там оказался его кузен Дойл.
Целью делегации было договориться о соглашении с английским Тайным советом. В течение лета и осени предложения, которые Орландо обсуждал с родственниками весной, наконец-то прошли еще через множество рук и превратились в двадцать шесть пунктов «Вопросов милости и щедрости к Ирландии», которые должны были быть представлены королю.
В момент их отъезда ситуация в Дублине не слишком изменилась после проповеди Пинчера. Доктор теперь вышагивал по Дублину как человек, отмеченный судьбой. Для многих протестантов он был героем. Для большинства католиков он превратился в объект ненависти. Люди вроде Уолша и Дойла смотрели на него с презрением: это был образованный человек, превратившийся в примитивного демагога и подстрекателя. А небогатые католики, когда он проходил мимо, следили за ним с нескрываемой угрозой во взглядах. Доктор наслаждался всем этим. Он никогда прежде не получал такой славы.
Но больше всего радовало Пинчера чувство, что теперь его жизнь обрела смысл. Для человека важно знать, что он прав, но еще важнее знать, что он борется за правое дело и весь Дублин, вся Ирландия это знают. Даже его сестра теперь это знала, поскольку Пинчер отослал ей полный отчет обо всем прямо на следующий день после той проповеди. И если она до сих пор не ответила письмом со словами одобрения, то Пинчер ждал такого письма со дня на день.
Однако пока власти из Дублинского замка не предпринимали никаких действий. Все ждали результата экспедиции в Лондон.
В Англии был созван новый парламент, и король с его советниками были слишком заняты, пытаясь выбить из упрямых членов парламента разрешение на новые налоги. Дойл неплохо знал характер англичан, а потому достаточно легко добился встречи с джентльменами, которых собрали в парламент со всей страны. Некоторые из них были солидными землевладельцами или профессионалами вроде его кузена Уолша. Да, они были протестантами, но лишь малая их часть действительно выглядела глубоко религиозными людьми. Но все они, похоже, сильно боялись католиков, опасаясь, что те могут принести в Англию инквизицию. И почти все они искренне верили в то, что коренные ирландцы мало чем отличаются от диких зверей. Дойл считал их страх перед католиками избыточным, а их мнение об ирландцах смехотворным. А вот их политические опасения — это было совсем другое дело. Они злились из-за того, что безответственный фаворит короля Бэкингем втянул страну в бессмысленные войны; они боялись, что король Карл, с его открытым неуважением к парламенту и с его незаконными методами добывания денег, намеренно пытается подорвать английские свободы. И в этом, решил дублинский торговец, он с ними вполне соглашался.
Однако в разговоре с некоторыми парламентариями, а в особенности с городскими торговцами Дойл столкнулся с куда более резкими высказываниями. Все эти пуритане и пресвитерианцы, все эти мрачно одетые мужчины смотрели на мир с суровым неодобрением. Они напоминали ему доктора Пинчера, только их было много. Как-то раз, когда он случайно упомянул о том, что собирается посмотреть представление, один пуританский торговец совершенно серьезно спросил его, не опасается ли он за свою бессмертную душу.
— Театры — это для ленивых и развращенных! — воскликнул лондонец. — Их все нужно закрыть.
Дойл объяснил, что пьеса на свой лад очень полезна.
— Это написано Шекспиром. Ты и его бы запретил? — спросил он.
— Его в особенности! — ответил собеседник.
С такими людьми Дойл просто не мог найти ничего общего.
— Они ненавидят короля не столько за тиранию, — объяснил Дойлу один его друг, — сколько за то, что он не пуританин. И их число растет. — Тут друг Дойла улыбнулся. — Если ваша миссия здесь удастся, король Карл завоюет в Ирландии больше друзей, чем в Англии.
И это замечание Дойл крепко запомнил.
Шли недели. Король Карл и его парламент продолжали каждый стоять на своем, и Дойлу стало казаться, что Тайный совет проявляет все больше интереса к тому, чтобы договориться с ирландской делегацией. Обычно они встречались в зале старого Вестминстерского дворца или рядом с королевским дворцом в Уайтхолле. Часто после этого ирландская делегация в полном составе обедала в ближайшей таверне. Дойл, будучи членом Ирландской церкви, а также и тем, кто оказывал поддержку католикам, заметил, что к нему прислушиваются со все растущим уважением. Как-то раз в конце марта, когда Дойл только что вышел из зала, где шло обсуждение, его отвел в сторонку один из английских советников, пожилой джентльмен с седой бородой, — для разговора наедине. В тот вечер, собрав всю делегацию в своих комнатах в гостинице, Дойл подвел итоги встреч:
— Королю хотелось бы сделать для вас все, что он может. Но тут есть две проблемы. Первая — сила партии пуритан в его королевстве. Вторая — суммы налогов в Ирландии должны быть увеличены для всех, включая и протестантов в колониях. Он не может дать католикам все то, чего они хотят, но сделает все возможное, чтобы им помочь.
— И что именно? — спросил самый молодой член делегации.
— Он не может и не хочет позволить Ирландии иметь свою милицию. Парламентарии здесь, в Англии, усмотрят в этом угрозу — католическую армию, которую можно направить против них. Так они это видят. И я из собственных наблюдений могу подтвердить, что это действительно так. И тем не менее, — продолжил он, — король готов позволить вам, католикам, носить оружие. Он, если хотите, признает вашу преданность, а это важно.
— А что насчет штрафов за неподчинение и клятвы верности? — спросил другой джентльмен-католик.
— Клятва остается для тех, кто ищет государственных должностей. Протестанты иного не потерпят. Что до штрафов, он не посмеет официально от них отказаться, по крайней мере в настоящее время. Но он даст вам личное заверение, что требовать их выплаты не станут. И более того, король готов обещать, что католических священников не будут тревожить, пока они ведут себя благоразумно. Другими словами, он готов оставить нынешнее положение вещей и не поддастся требованиям таких, как Пинчер.
— Мы надеялись на нечто большее.
— Кое-что предложено. Вопрос наследования и угроза того, что наследники должны приносить клятву верности. Если ваша семья владеет землей шестьдесят лет, то этой неприятности можно будет избежать.
Это могло помочь очень многим семьям старых англичан; даже ирландцы вроде О’Бирнов в Ратконане, с удовлетворением отметил Дойл, могли отныне и навсегда чувствовать себя в безопасности при новых правилах.
— По крайней мере, это шаг в правильном направлении, — согласился джентльмен, задавший вопрос о клятве.
— Но есть и еще кое-что, — продолжил Дойл. — И это вопрос денег. — Он немного помолчал. — Они не станут их требовать. Но надеются, что мы можем сами предложить.
— И на какую сумму они надеются? Что именно мы можем предложить?
— Сорок тысяч фунтов.
— Сорок?.. — Это был общий глубокий вздох.
— Каждые три года, с уплатой по четвертям года. Со всей Ирландии, конечно, включая протестантских поселенцев и так далее.
— Это очень большие деньги, — заметил джентльмен-католик.
— Король, — сухо сообщил Дойл, — очень нуждается в деньгах.
На следующее утро Дойл написал Уолтеру Смиту и своему кузену Уолшу, спрашивая их совета насчет того, как можно собрать такие суммы. Но прошло три недели, прежде чем он получил от них ответ: они думают, это можно сделать.
Было начало мая, когда все тот же старый советник снова отвел Дойла в сторонку и попросил прийти на частную встречу с некоторыми его друзьями на следующий день. Естественно, Дойл согласился и наутро встретился со старым джентльменом у небольшого памятника на Чаринг-Кросс, к северу от Уайтхолла. Они вместе пошли на юг, к Вестминстеру, и Дойл был весьма удивлен, когда его спутник вдруг повернул к двери дворца Уайтхолл.
— Сюда, — сказал он, предлагая Дойлу войти в коридор.
В конце коридора находилась внушительная дверь, охраняемая двумя солдатами. Едва завидев подходивших, они распахнули ее.
И через мгновение торговец из Дублина оказался лицом к лицу с королем.
Да, это действительно был Карл, король Англии, ошибиться было невозможно. Дойл видел достаточно его портретов: длинные волосы, аккуратная остроконечная бородка и глаза Стюартов, очень красивые и немного грустные. Но кое-чего из портретов понять было невозможно.
Этот мужчина был крошечным. Великолепно одетым, в дорогом дублете с кружевным воротником… но крошечным. И тут Дойл вспомнил, как однажды встретился в таверне с художником, который ему пожаловался:
— Они хотят, чтобы я написал такой портрет короля, где тот выглядел бы героически. А я им сказал, что для этого мне придется посадить его на коня.
Даже в туфлях на высоком каблуке, что были нынче в моде при дворе, король едва доставал макушкой до груди дублинского мужчины. Но если Дойла удивило сложение короля, то не меньше его изумили и руки Карла. Они были необычными: очень изящными, с самыми длинными пальцами, какие только видел в своей жизни торговец. И кто бы мог вообразить, подумал Дойл, что вот этот элегантный, слегка похожий на паучка человек совсем недавно заявил парламенту, причем весьма недвусмысленно, что их единственная цель — делать то, чего хочет он, а если они решат спорить, то он просто отошлет их всех по домам. Вскоре Дойл обнаружил еще одну черту в странной личности короля: в частных разговорах король Карл всегда был очень вежлив.
Пожилой англичанин, представив Дойла монарху и подождав, пока Дойл не отвесит поклон, отступил назад, оставив Дойла в одиночестве стоять перед королем. А король Карл с легкой улыбкой любезно поблагодарил дублинца за терпение и помощь во время долгих переговоров.
— Я слышал много докладов о твоем поведении, мастер Дойл, — тихо произнес король. — И знаю, что ты человек вполне благонадежный и судишь обо всем с мудростью.
— Благодарю, ваше величество. — Дойл снова поклонился.
— Ты уверен, мастер Дойл, что возможно примирение с ирландскими католиками?
— Да, — честно ответил Дойл. — У меня много родственников-католиков, ваше величество, и я связан с ними тесными узами, а потому знаю: они преданы вам, а их семьи были верны британской короне вот уже более четырех веков. Такие люди — настоящие, преданные друзья вашего величества.
— Мне это известно, — сказал король с задумчивым кивком, — и в скором времени, уверяю тебя, я буду рассчитывать на их дружбу. Мне бы хотелось сделать для них больше уже сейчас, но в Англии есть джентльмены пуританских убеждений, которые вовсе не так благосклонно на все смотрят и которые создают трудности на этом пути.
Теперь король посмотрел туда, где стоял пожилой спутник Дойла. Это было сигналом к тому, что разговор закончен.
Но Дойл осознал, что, прежде чем расстаться с монархом, он должен сделать еще кое-что. Такой возможности он искал с прошлого лета. Раз или два в Дублине он поднимал эту тему, но успеха не добился. И теперь, понимал Дойл, ему подвернулся такой шанс, о каком он и мечтать не мог.
— Некоторые пуритане испытывают преданность многих живущих в Дублине, — сказал Дойл и весьма умно добавил: — А в связи с этим затрудняется сбор денег. И эти пуритане, я думаю, просто не могут быть друзьями вашего величества.
Взгляд короля мгновенно вернулся к торговцу.
— Как это?
— Я говорю о тех, кто открыто проповедует против правительства вашего величества и даже против тех, кто стоит ближе всего к вам. И они возбуждают разлад в народе, — мрачно пояснил Дойл, — с которым даже самые умные из нас не в силах справиться.
— Прошу, продолжай.
Торговцу понадобилось совсем немного времени, чтобы дать подробный отчет о проповеди Пинчера. Представленная им позиция, подчеркнул Дойл, делает невозможным не только мирное сосуществование со старыми англичанами. Этот злобный и опасный пуританизм стоит также весьма далеко от скромной Ирландской церкви, к которой принадлежит сам Дойл. Действительно ли король желал именно этого, уважительно спросил Дойл.
Король внимательно и серьезно выслушал его.
— Нет, наша воля не такова, мастер Дойл, — ответил он. — И это следует прояснить. Но, боюсь, в Дублине много таких, кто поддерживает подобные мнения.
— Такие есть, ваше величество. Но куда больше таких, кто не пойдет туда, куда ведет доктор Пинчер. — Дойл помолчал, а король задумчиво кивнул. Теперь Дойл был готов к завершающему ходу. Он сделал вид, что колеблется, а потом нанес удар. — И это ведь нападение не только на Церковь вашего величества и правительство, что я и само по себе нахожу бунтарским… но главное — слова, задевающие личность королевы…
Брови короля взлетели вверх.
— Королевы?
Дойл выглядел чрезвычайно смущенным. Дело в том, наконец пояснил он, что Пинчер постоянно упоминает о Католической церкви и королеве в самых оскорбительных выражениях: католическая шлюха, блудница, Иезавель. И твердит, что эту шлюху необходимо свергнуть.
— Возможно, на самом деле он ничего такого не имел в виду, ваше величество, но мне не нравятся такие слова о королеве. — (Последовало краткое пугающее молчание.) — Но может быть, — продолжил Дойл откровенно неискренним тоном, — что я просто неверно его понял. Однако люди поняли именно так.
Говорил ли действительно Пинчер о свержении королевы в своей проповеди? Нет, так Дойл не думал. Но подтекст, не слишком скрытый второй смысл? Да, возможно. Может, Пинчер и не называл королеву шлюхой напрямую, но он уж точно выражал отвращение к ее католицизму, бесился из-за ее брака с королем Англии и видел в ней посланницу зла. Подстрекал ли он слушателей убить ее? Конечно нет. Но такой вывод вполне можно было сделать из его слов. И когда королевский советник принялся расспрашивать Дойла о той проповеди и о точных словах проповедника, Дойл уже не сомневался в том, что думает король Карл.
В тот вечер он написал с некоторым удовлетворением своему кузену Орландо Уолшу: «Думаю, с доктором Пинчером покончено».
Святой источник
1637 год
Отец Лоуренс Уолш любил бывать в компании брата и сестры. Он также любил осень, а в это воскресное утро на знакомую дорогу к замку Мэлахайд падали золотые листья.
Орландо взял с собой жену Мэри, а Энн и Уолтер Смит — сына Мориса.
Когда они добрались до небольшого замка Толботов, то увидели собравшихся снаружи людей. Здесь были домашние слуги, жители деревни рядом с Мэлахайдом и даже фермеры из более дальних мест; приехали и две семьи местных джентри. Представители семьи Толбот приветствовали вновь прибывших, а когда увидели Лоуренса, то спросили, не желает ли он помочь священнику, который уже готовился к службе. Но Лоуренс дал понять, что был бы рад побыть со своими родными, если он не слишком нужен священнику.
Наконец все вошли в дом и из маленького холла тихо поднялись по лестнице в большое помещение, известное как Дубовая комната. По воскресеньям эта комната служила часовней для местной общины. Отец Лука, пожилой священник, выглядевший теперь более худым и согнутым, чем когда Лоуренс видел его в последний раз, приветствовал иезуита улыбкой. Запах благовоний наполнял комнату. И хотя через окно лился свет, свечи на боковых столиках заставляли мягко сиять темные деревянные панели. Но самым главным в комнате была большая дубовая панель над очагом, перед которой стоял небольшой алтарь. На этой панели была вырезана изумительная картина «Успение Богородицы».
Лоуренс посмотрел на нее с нежностью. Картина находилась здесь с тех пор, как он вообще это помнил, а он приходил на воскресную мессу в замок Мэлахайд с самого детства. Как только все собрались и на несколько мгновений опустились на колени для молчаливой молитвы, старый священник начал службу.
Что именно, гадал Лоуренс, делало эти мессы настолько особенными? Он ведь не раз присутствовал на мессах в городе, и они были прекрасны. И его вера никогда не была сильнее. Но было нечто иное в таких вот собраниях в деревенских жилищах, некая интимность и теплота, в которых, был уверен Лоуренс, чистое пламя веры разгоралось необычайно ярко. Сама по себе природа мессы была, конечно, сокровенной и глубокой. Но то, что служба шла в доме семьи Толбот, делало ее отличной от городских. Суть, похоже, была в том, что, как и самые ранние христиане, люди были вынуждены встречаться тайно… И может быть, размышлял Лоуренс, само это преследование было чем-то вроде благословения. Потому что здесь, в Дубовой комнате замка Мэлахайд, он всегда ощущал прямую связь с самыми ранними временами Всеобщей церкви.
Лоуренс посмотрел на Орландо и его жену, погруженных в молитву, и на Энн — ее глаза немного потемнели и провалились в последнее время, — и на ее солидного седовласого мужа Уолтера… и поблагодарил Господа за их набожность. Даже молодой Морис, которому исполнилось уже восемнадцать, хотя и не проявлял особого религиозного рвения, каким была отмечена жизнь самого иезуита и Орландо в таком же возрасте, явно был охвачен атмосферой, в которой вырос, и испытывал благодарность к благочестию семьи.
Месса продолжалась. Agnus dei… Ora pro nobis… Мягкая латынь литургии текла плавно, латинские слова приносили утешение людям по всему западному христианскому миру, они давали им опору в жизни уже более тысячелетия… И наконец свершилось чудо мессы. Да, думал Лоуренс, Римская церковь воистину Церковь вселенская, ее столпы — это моральные предписания, ее своды дают убежище каждой христианской семье. Оказавшись в нем, никто не видит разумных причин уйти. И когда Лоуренс в конце службы поднялся с колен, его охватило огромное чувство покоя.
Пришедшие на службу не сразу покинули Дубовую комнату. Отец Лука обошел их, для каждого найдя несколько слов. Старый священник был рад увидеть Энн, не появлявшуюся здесь довольно долго, и узнать, что этим летом последняя из ее дочерей также вышла замуж.
— Значит, остается лишь этот юноша, — сказал священник, подмигнув Морису. — Но ему пока незачем думать о таких вещах.
Орландо и Мэри он приветствовал особенно тепло. И ясно было, что старик испытывает к ним особые чувства.
У них до сих пор не было детей. Хотя Лоуренс прекрасно понимал, что не следует испытывать Божественное провидение, тем не менее он тоже расстраивался и недоумевал, почему Господь не благословил его брата с женой ребенком. Поначалу Лоуренс не слишком беспокоился. Он помнил, как Энн впервые заговорила на эту тему десять лет назад, в тот день, когда они все вместе ходили к морю, в Портмарнок, но даже тогда он верил: нужно лишь проявить немножко терпения и все будет хорошо. Однако годы шли, а ребенка так и не было. Почему же, почему, гадал Лоуренс, Господь не дал им столь обычного благословения? Конечно, и речи быть не могло, что это наказание за какой-то грех. Оба супруга были глубоко религиозными людьми и были преданы друг другу. Вообще-то, отсутствие детей даже усилило их набожность. Лоуренс искренне любил жену брата. Мэри обладала одним из тех лиц, которые на поверхностный взгляд не становятся лучше с годами. В юности она была хорошенькой девушкой с каштановыми волосами, с носом-пуговкой и нежными щеками. Теперь эти щеки стали немного жестче и краснее, а нос как будто расплылся. Карие глаза, немного выпуклые, серьезно смотрели на мир. Но на более глубокий, религиозный взгляд доброта делала эту женщину прекраснее прежнего. Она была, как говорится, тихая душа. Мэри безупречно вела домашнее хозяйство, слуги были всем довольны, а муж имел все, что только могла дать хорошая жена, и заботился о ней, как и положено хорошему супругу. Но Лоуренс догадывался, что под безмятежной внешностью, которую Мэри демонстрировала миру, скрывается огромная боль.
И хотя Орландо никогда об этом не говорил, Лоуренс отлично знал, как брат страдает из-за отсутствия детей. Его вера могла, конечно, твердить ему, что он должен принять Божью волю; и, будучи религиозным, он и принимал… умом. Но сердце жаждало иметь семью, наследника и, более того, — исполнения клятвы, данной отцу, а потому в тайных уголках его души эта боль, должно быть, пожирала его каждый день.
— Знаешь, он каждую неделю ходит к святому колодцу в Портмарнок, — призналась Энн Лоуренсу несколько лет назад. — Он не говорит об этом Мэри, но мне сказал.
И каким бы ни было отношение Лоуренса к суевериям, он вряд ли мог в чем-то винить брата.
— Осмелюсь предположить, — заметил он тогда, — что человек может молиться и там, как в любом другом месте.
Однако как старательно Орландо ни скрывал свои походы, Мэри должна была о них знать. Она должна была знать и о его тайной боли, равной ее собственным страданиям, а то и сильнее, и, конечно же, винила во всем себя. Боже мой, размышлял иезуит, если бы я думал, что в том будет польза, то сам на коленях дополз бы до древнего отцовского колодца.
Когда все вышли наружу, солнце сияло на золотой листве деревьев на фоне ясного синего неба. Перед тем как сесть в седло, Орландо дал понять брату, что хотел бы по дороге поговорить с ним наедине.
Обратно они скакали парами. Энн с Уолтером ехали впереди, Мэри — рядом с юным Морисом, который, как обычно, развлекал ее милой болтовней, а Орландо и Лоуренс немного отстали.
Несколько минут они ехали в молчании. Орландо как будто глубоко ушел в собственные мысли, и Лоуренс, не желая ему мешать, просто ждал начала разговора. Он предполагал, что речь пойдет о политической ситуации.
Жизнь самого иезуита изменилась мало. Но произошло несколько поразительных событий. В Англии убили фаворита короля герцога Бэкингема. Никто о нем не жалел, по крайней мере, английская дипломатия с тех пор стала более разумной. В Дублине люди радовались падению доктора Пинчера. Их кузен Дойл привез обнадеживающий отчет о том, как он погубил репутацию проповедника в разговоре с королем. После возвращения делегации из Лондона им были обещаны некоторые милости, а деньги для короля собраны, пусть и с некоторыми трудностями. Но за этим так и не последовали уступки католикам, а через пару лет английские протестанты вновь начали преследовать ирландских католиков. Однако в конце концов стало казаться, что все идет к лучшему, когда несколько лет назад доверенный офицер короля, человек грубоватый и властный, некий Уэнтуорт, был прислан править Ирландией. Уэнтуорт благоволил к официальной Ирландской церкви и быстро расправился с пуританскими раскольниками.
— Мне кажется, мы можем полагать, — сказал тогда Лоуренсу Орландо, — что король показывает нам, что он действительно друг католиков, как и говорил когда-то.
Но Лоуренс не видел причин менять свою первоначальную оценку.
— Уэнтуорт — доверенное лицо короля Карла. В том сомнений нет. И, будучи таковым, он имеет лишь один интерес: усилить власть короля. Он будет с одинаковым рвением поддерживать или громить хоть католиков, хоть пуритан, лишь бы добиться своего. Но только и всего.
В недавнее время было заявлено о создании новых колоний для протестантов на западе острова, в Коннахте.
— Видишь? Ничего не изменилось, — сказал Лоуренс.
— Но все равно, — напомнил ему Орландо, — католиков по-прежнему оставляют в относительном покое.
А потому Лоуренс был удивлен, когда почти сразу после их отъезда из замка Толботов Орландо повернулся к нему и тихо сказал:
— Я очень беспокоюсь за Энн.
— Энн? Мне показалось, она сегодня несколько бледна, — заметил он. — Но ничего более. Она нездорова?
— Не совсем так. — (Они проехали еще немного.) — В каком-то смысле это даже хуже. — Он глубоко вздохнул. — Мне кажется, она влюбилась.
— Влюбилась?! — Лоуренс был настолько потрясен, что едва не подавился этим словом, и тут же посмотрел вперед, желая убедиться, не слышат ли их всадники впереди. — И в кого?
— В Бриана О’Бирна.
Несколько мгновений Лоуренс молча переваривал услышанное.
— Ты уверен?
— Да.
— Но ты ведь не хочешь сказать, что она могла бы…
— Да, — ответил Орландо. — Хочу.
Когда Джереми Тайди смотрел тем утром на своего сына Фэйтфула, то испытывал вполне законную гордость. Мальчик превратился в молодого мужчину, отлично сложенного.
— Он выше меня ростом, — не раз с удовольствием говорил жене Тайди.
У Фэйтфула были каштановые волосы, хотя у отца они были светлыми; умные, широко расставленные глаза. Учился он усердно и хорошо. Но, по правде говоря, он не всегда хотел учиться.
— Я мог бы зарабатывать деньги, вместо того чтобы читать книги, — жаловался Фэйтфул.
Да и жена не всегда поддерживала Тайди.
— Ты только посмотри на бедного доктора Пинчера! Что с ним сделала эта учеба! — повторяла она не раз. — Уверена, если бы он не учился столько, давно был бы женат.
Втайне Тайди не мог с этим не согласиться. Однако он не позволял подобным разговорам отвлекать сына от того, что было необходимо.
— Я думаю о его будущем! — объяснял он.
Он обладал более широкими взглядами, чем жена.
И теперь, думал Тайди, его мальчик готов. Момент, которого он ждал все эти годы, наконец настал. После утренней службы Тайди сообщил жене:
— Пора ему повидаться с доктором Пинчером. Я хочу, чтобы ты сегодня это устроила.
Доктор Пинчер был рад видеть мистрис Тайди.
В последнее время он чувствовал себя не слишком хорошо. Но до настоящего момента ему и в голову не приходило, что он просто стареет. Об этом ему напомнила зубная боль. В таком возрасте, когда многие мужчины успевали уже испортить себе зубы табаком или черной патокой, что привозили из Нового Света, строгость доктора Пинчера защитила его от такой напасти, и в результате он сохранил все зубы, длинные, цвета старой слоновой кости. Но месяц назад он вдруг испытал острую боль, и пришлось выдернуть один зуб; так что теперь справа в нижней челюсти образовалась дыра, которую доктор, отправляясь на прогулку, грустно изучал языком: она напоминала ему о смертности тела.
Но это маленькое memento mori лишь добавлялось к общему чувству неудачи, что преследовала его в последние десять лет.
Он так и не оправился по-настоящему после того, как его посадили в тюрьму.
Это была наистраннейшая история. Пинчер так и не понял, почему это произошло.
В те первые головокружительные месяцы после его великой проповеди он наслаждался славой. Важные люди — некоторые крупные землевладельцы, даже его патрон Бойл, недавно ставший графом Корком, — писали ему или искали встречи, чтобы выразить свою поддержку.
— Это необходимо было высказать! — с чувством заявляли они.
Но потом, вскоре после того, как вернулась посланная в Англию делегация, произошло нечто немыслимое.
В Тринити-колледж явились солдаты прямо в то время, когда доктор читал лекцию. Они арестовали его на глазах студентов. И прежде чем доктор понял, что происходит, он уже стоял перед людьми из Дублинского замка, перед людьми, которых прекрасно знал, и они мрачно смотрели на него.
— Подстрекательство к бунту, доктор Пинчер! — заявили они. — Возможно, даже государственная измена. Вы высказывались против королевы.
— Как это? Когда?
— В вашей проповеди в соборе Христа. Вы называли ее блудницей и Иезавелью.
— Нет!
— А король думает, что называли.
Это было абсурдно, чудовищно, несправедливо. Но Пинчер ничего не мог поделать. Не было никакого следствия, не было шансов оправдаться. Его просто бросили в тюрьму и оставили там ради удовольствия короля. Ему даже намекнули, что возможны другие последствия. Не исключено, что фатальные. И он в муках и рыданиях проводил дни в тесной каменной камере. И тогда обнаружил кое-что еще. Если он думал, что у него есть друзья, так их не было. Ни одного. Ни чиновники из Дублинского замка, ни его поклонники из паствы, ни коллеги из колледжа — никто не пришел к нему. Никто не сказал ни слова в его защиту. Он стал персоной, отмеченной королевской немилостью, и находиться рядом с ним было опасно. Лишь два человека подали Пинчеру какую-то надежду.
Первой была мистрис Тайди. Она приходила каждый день и приносила доктору бульон, печенье, немножко эля или вина. Как некий ангел-хранитель, она его не предала. И не просила ничего, хотя, конечно, доктор ей платил. Он гадал, придет ли сам Тайди, но тот не появился. Но это было не важно, достаточно было и мистрис Тайди. Пинчер честно признавался себе, что без нее он мог впасть в полное отчаяние.
Вторым был Бойл. Без нового графа Корка, насколько знал Пинчер, он мог просидеть в тюрьме до конца своих дней. Но в 1629 году с Божьей помощью важный землевладелец стал главным судьей и к Рождеству того же года распорядился освободить доктора. Более того, покровитель доктора нашел для него землю в Южном Ленстере, а там Пинчер, к немалому своему удовлетворению, обнаружил густые леса, которые можно было вырубить.
И доктор Пинчер вернулся к жизни. Его друзья-пуритане, хотя и не навещали его, все же смотрели на него как на героя. Разве он не пострадал за веру? Студенты аплодировали ему, когда он снова пришел читать лекцию. Но теперь он, как всякий публичный человек, познал горькие плоды пустой восторженности и научился быть благодарным за то, что имеет.
Но одна вещь по-прежнему приводила его в недоумение. Как вообще могли возникнуть такие обвинения? И Пинчер гадал, не мог ли чего-нибудь наговорить кто-нибудь из католиков, входивших в делегацию к королевскому двору, и однажды даже спросил об этом Дойла.
— Если они и говорили что-то, — честно ответил Дойл, — я об этом ничего не знаю.
В общем, загадка продолжала оставаться загадкой.
К тому же и его надежды на возвышение пуританства не оправдались. Поначалу, в то время, когда доктора освободили, были проявлены некоторые новые строгости к католикам. Но все мечты доктора о пуританской церкви были разбиты вдребезги три года спустя, когда на остров прибыл новый лорд-наместник короля Карла.
Уэнтуорт. Само это имя звучало для доктора как проклятие. Ему никогда не забыть то ужасное воскресенье, вскоре после появления нового лорда-наместника. Доктор тогда немного опоздал к утренней службе в соборе Христа. Когда он вошел туда, все уже были на местах, а Уэнтуорт и его большая свита сидели на королевских скамьях. Пинчер, торопливо войдя в собор, нашел для себя местечко в задней части нефа. Спеша, он почти не посмотрел по сторонам, а просто сразу опустился на колени для короткой молитвы и лишь после нее медленно поднял голову и посмотрел в восточную часть храма, на хоры. И похолодел от ужаса.
Вся восточная сторона была полностью изменена. Стол для причастий исчез со своего обычного места в центре хоров, где к нему было легко подойти, его передвинули, а в восточной части на помосте воздвигли высокий алтарь, на который набросили великолепный, весь расшитый золотом, алтарный покров. На алтаре в прекрасных серебряных подсвечниках горели высокие свечи, по шесть в каждом. Перед алтарем стоял служитель в роскошном стихаре, который вполне подошел бы для какой-нибудь папистской церкви в Испании, а то и для самого Рима. Пинчер в ужасе смотрел на страшную картину. Он даже приподнялся с места. И лишь чувство самосохранения удержало его от того, чтобы закричать: «Папизм! Идолопоклонничество!»
И виноват, конечно, проклятый Уэнтуорт. Сомневаться не приходилось. Это был тот самый сорт англиканского ритуала, которому благоволили король Карл и его королева-католичка. Стоящий в отдалении высокий алтарь, свечи, священники в богатых ризах — форма и обряды поставлены над проповедью, власть короля и назначенного им епископа — над истинным учением и властью морали. Разврат и отказ от праведного слова, папизм во всем, кроме названия, то есть все то, что презирали и ненавидели пуритане. Здесь, прямо в соборе Христа — в том месте, где доктор Пинчер проповедовал, в центре протестантского Дублина, в истинном храме кальвинизма посреди дикого моря ирландских суеверий, — создавалось логово папистов и идолопоклонников. И после появления Уэнтуорта Пинчер уже и надеяться не мог на то, что ему снова предложат читать здесь проповеди.
И он совершенно ничего не мог изменить. Собор, центр английской власти, навсегда останется таким. Пинчер с радостью бы отказался от посещения собора, но в его положении это могло бы привести к бесконечным проблемам. И теперь, униженный, он шел в церковь с такой же неохотой, с какой приходили туда католики в прошлые годы. А перемены в соборе Христа шли рука об руку с терпимостью к католикам, что проявлялось не только в компенсациях за новые колонии протестантов в Коннахте. Казалось, доктор становился свидетелем гибели всего того, ради чего трудился.
Но одна только мысль о том, чтобы уехать из Ирландии и вернуться в Англию, вызывала у него отвращение. Это означало бы отказаться и от своего положения в Тринити-колледже, где доктор, несмотря на все перемены, продолжал оставаться важной фигурой. И, кроме того, кто бы в Англии приветствовал его возвращение? Похоже, никто.
Его сестра больше не писала ему. В течение последних лет он отправил ей несколько писем, но ни слова не получил в ответ. Пинчер даже предпринял тайное расследование, чтобы узнать, не умерла ли она или, может, переехала куда-нибудь. Но выяснил, что она живет все там же и пребывает в отменном здравии. О Барнаби он вообще ничего не знал. И похоже, ему стоит подумать о каком-то другом наследнике. Он мог сделать, например, солидное пожертвование колледжу, увековечить свое имя. Но и это говорило бы о признании полного семейного краха. И тем утром во время церковной службы Пинчер вдруг остро осознал, что он стар и одинок.
И потому он втайне был благодарен мистрис Тайди за ее приход.
Было время, когда доктор чувствовал некоторую обиду на Джереми Тайди. Но понимал, что это неразумно. Тайди его не предавал. Когда они встречались, церковный сторож всегда качал головой и говорил:
— Странные дела творятся нынче в соборе Христа, ваша честь.
Но Пинчер, справедливо то было или нет, почему-то никогда не ощущал, что это неодобрение достаточно сильно. А вот преданная мистрис Тайди — это совсем другое дело. Доктор, думая обо всем том, что она делала для него, мог лишь изумляться: как она, тихая простая душа, находила столько сил, чтобы творить добро.
— Я ничему не училась, сэр, — нередко говорила она. — Я даже читать не умею.
А доктор улыбался в ответ.
— Господь ценит нас по делам нашим, — уверял он женщину.
Как-то раз она пришла к нему по-настоящему расстроенной. Некая ее знакомая из города, такая же простая женщина, никому в жизни не сделавшая ничего плохого, вдруг тяжело заболела и, похоже, вот-вот могла умереть. Но та женщина была католичкой.
— Вы всегда говорите, сэр, что Господь сам избирает тех, кто будет спасен, и тех, кто будет проклят…
Возможно ли, спрашивала она, что Господь может потихоньку даровать спасение ее бедной подруге-католичке, несмотря на ее веру?
Не желая разочаровывать добрую женщину, доктор тогда ответил:
— Правда в том, мистрис Тайди, что Божественную мысль человеческий ум понять не может. — А потом, тронутый облегчением, отразившимся на лице женщины, довольно пылко заявил: — Но могу с уверенностью сказать, мистрис Тайди, что вы наверняка попадете в рай.
Сегодня она принесла небольшой сливовый пирог, в который добавила, надеясь, что это не грех, немножко бренди. Пинчер с благодарностью принял дар и спросил, как поживает ее семья. А когда мистрис Тайди сообщила, что ее муж и Фэйтфул очень хотели бы навестить его сегодня, доктор любезно ответил:
— Разумеется. Пусть приходят в четыре.
Была середина дня, когда Пинчер, съев два ломтика сливового пирога, решил немного пройтись, чтобы взбодриться.
Выйдя из Тринити-колледжа, он прошел через ворота в старой городской стене и зашагал по Дейм-стрит к собору Христа. Доктор проходил мимо одних из трех городских часов, которыми теперь гордился Дублин, когда услышал, как колокола отбивают три. Он направился дальше на запад, миновал другие ворота и повернул вниз по склону к древнему мосту через Лиффи. Пинчер рассчитал, что у него есть время для того, чтобы прогуляться на другую сторону реки и успеть вернуться к тому моменту, когда придут Тайди с сыном. Подойдя к воде, Пинчер отметил, что ветер образует на поверхности реки мелкую рябь.
Пинчер шагнул на мост. Там никого не было. Доктор пошел на другую сторону. Его длинные худые ноги были, слава Богу, до сих пор сильны. Ветер, летавший над водой, холодил его щеки. Пинчеру нравилось это ощущение. А через несколько мгновений он заметил двух джентльменов, которые тоже ступили на мост и шли теперь ему навстречу. Они, безусловно, также решили предпринять прогулку для здоровья. Тот, что повыше, был одет в темно-зеленое, а тот, что пониже, — в красновато-коричневое. Доктор дошел до середины моста. Встречные быстро приближались к нему. И тут доктор увидел, что невысокий мужчина — Томас Уэнтуорт.
Да, это действительно был ирландский лорд-наместник. Он носил усы и аккуратную, маленькую треугольную бородку, не скрывавшую его чувственных губ. Опухшие глаза лорда посматривали воинственно и угрюмо. Темно-каштановые волнистые волосы были хорошо уложены, однако казалось, что в любой момент они могут агрессивно вздыбиться. Грубый человек, которому король даровал власть, подумал Пинчер. Уэнтуорт узнал доктора и направился прямиком к нему. Увернуться от встречи было невозможно. Уэнтуорт остановился в трех шагах от Пинчера и уставился на него. Его спутник в зеленом, один из чиновников из Дублинского замка, тоже замер на месте.
— Доктор Пинчер.
Пинчер напряженно склонил голову. Уэнтуорт продолжал грубо таращиться на него, как будто что-то обдумывая.
— У вас есть в аренде земли в Южном Ленстере?
— Есть.
— Хм…
И с этими словами лорд-наместник прошагал мимо Пинчера. Мужчина в зеленом поспешил за ним.
Пинчер, онемев, застыл на месте. Потом сделал несколько шагов и опять остановился. Ему хотелось развернуться и пойти домой, но это значило идти следом за Уэнтуортом. И потому доктор все же перешел через реку и не поворачивал обратно до тех пор, пока Уэнтуорт не исчез из виду. И лишь тогда, дрожа от ярости и досады, поспешил домой.
Он понимал, что это значит. Да, Уэнтуорт вел себя оскорбительно, однако доктор не воспринимал это как нечто личное. Этот человек всегда был таким. Лорд-наместник, разумеется, был занят собственным обогащением. А что еще делать человеку такого положения? Но возможно, впервые со времен Стронгбоу, который явился в Ирландию четыре с половиной столетия назад, представитель короля на острове действительно желал и старался увеличить доход своего повелителя.
Не проходило и месяца без того, чтобы Уэнтуорт не отбирал у кого-нибудь землю или аренду. Чаще всего страдали от этого новые английские поселенцы. Но ведь было правдой и то, что колонизаторы частенько захватывали куда больше земли, чем им было положено по закону, и Уэнтуорт заставлял их платить. Часть таких лишних земель снова отдавалась в аренду, чтобы корона получала свои деньги, часть продавалась. И если все эти правила сначала прилагались к землям короля, то потом они коснулись и церковных земель. Церковная аренда отбиралась или переоформлялась с новой и безжалостной деловитостью. И вот теперь, похоже, алчный взгляд лорда-наместника упал и на небольшое имение доктора Пинчера в Южном Ленстере.
В последние годы Пинчер не оставлял эту землю без внимания. С тех самых пор, как его выпустили из тюрьмы, он раз в год отправлялся на юг, когда погода выпадала хорошей, и проверял, как идут дела на юге Ленстера, и, конечно, навещал свой приход в Манстере, где обычно читал проповедь и занимался счетами. В целом доходы были вполне приличными, и доктор мог даже немного увеличить жалованье викарию. Но пока что в Ленстере была вырублена только часть леса.
Аренда доктора была абсолютно законной. Договор подписан и скреплен печатью на годы вперед. Конечно, плата была невероятно низкой, но законной. И доктору даже на миг не приходило на ум, что его законные владения могут стать интересными грубому и примитивному Уэнтуорту. Он хочет меня раздавить, думал Пинчер, и только что сообщил об этом. А если Уэнтуорт преуспеет и Пинчер потеряет свой доход, то что будет в итоге? Уэнтуорт получит больше денег, чтобы тратить их на свои проклятые свечи, золотые алтарные покровы и папистские обряды в соборе Христа, с горечью думал доктор. Он был настолько расстроен, что даже не в силах оказался пройти мимо собора Христа, а вместо этого повернул к Деревянной набережной. По крайней мере, одно было совершенно ясно, решил доктор. Прежде чем Уэнтуорт отберет у меня все, я обстригу то место догола.
В общем, он пребывал в расстроенных чувствах, когда, дойдя до своего жилища, увидел Джереми Тайди и его сына Фэйтфула, терпеливо ожидавших его.
Разумеется, Тайди не был виноват в том, что доктор Пинчер без особого энтузиазма выслушал его просьбу. Церковный сторож вряд ли мог бы лучше изложить свое дело. Начал он весьма скромно. Все эти годы доктор с уважением относился к нему и его жене, хотя они всего лишь простые люди. Но преданные, тихо добавил Тайди. И с этим Пинчер согласился, слегка наклонив голову. И именно благодаря восхищению перед ученым доктором молодой Фэйтфул не только стал строгим последователем кальвинистской доктрины, но и получил образование. И вообще-то, даже весьма превзошел многих в занятиях. Пинчер знал, что мальчика отправляли в одну из маленьких протестантских школ в Дублине, но его успехами не интересовался.
И вот теперь, похоже, Тайди желал, чтобы его сын сделал величайший в своей жизни шаг и поступил в Тринити-колледж в качестве студента. Его отец был готов понести любые связанные с этим расходы, хотя, естественно, для человека вроде него это стало бы настоящим самопожертвованием. Но Тайди подумал, что доктор Пинчер может увидеть в том некоторое неуважение, если в таком деле сначала не посоветуются с ним. И Тайди надеялся, что, возможно, ученый доктор даже как-то поддержит кандидатуру Фэйтфула.
Такого рода просьбы веками практиковались в Оксфорде и Кембридже. Сыновья преуспевших йоменов и торговцев, скромных ремесленников и крестьян, приходили в прославленные колледжи и поднимались с помощью Церкви или закона до больших высот. И сами преподаватели колледжей могли в свое время быть бедными студентами. И хотя Тринити-колледж изначально задумывался как учебное заведение для сыновей новых поселенцев-протестантов, которые называли себя джентльменами, там было немало и более скромных молодых людей. И почему в таком случае, думал церковный служка, доктор Пинчер так хмуро его слушает?
Отчасти, конечно, Пинчер хмурился, потому что продолжал злиться на Уэнтуорта. Но сейчас, глядя теперь на Тайди, он чувствовал и некоторую обиду. Тайди мог оплакивать перемены в соборе Христа, но оставался на своем теплом месте, а он, доктор Симеон Пинчер, был оттуда изгнан. Тайди, без сомнения, продолжал наслаждаться всеми доходами от своей службы, и эти доходы позволяли ему отправить сына в университет. А теперь он еще и просил замолвить словечко за своего отпрыска. Фэйтфул Тайди пришел бы в Тринити-колледж при покровительстве Пинчера, то есть случилось бы то, что доктору не удалось в отношении родного племянника Барнаби. Это не на шутку раздражало.
Доктор повернулся к юноше:
— Ты хорошо учился?
— Да, сэр.
— Хм…
Так ли это? Пинчер вдруг заговорил на латыни, спросив, читал ли молодой человек Цезаря.
К удивлению доктора, юноша с готовностью ответил на том же языке, дав полный ответ и закончив цитатой из трудов великого римлянина. Пинчер задал еще несколько вопросов. На все юноша с блеском ответил на латыни. Пинчер уставился на Фэйтфула и обнаружил, что его точно так же внимательно изучают, уважительно, но проницательно. Светлые, широко расставленные глаза спокойно смотрели на доктора.
Доктор был потрясен, однако не показал этого. Есть ли у юноши рекомендации из его школы? Тайди подал ему письмо, которое Пинчер, не прочитав, бросил на стол. Как ни был он раздражен, он уже решил помочь молодому человеку просто ради его доброй матери, если не ради чего-то другого. Но он не собирался вот так сразу дать понять этим людям, что его легко растрогать, а потому продолжал смотреть строго, почти хмуро. И именно этот его взгляд заставил Джереми Тайди выложить последнюю карту:
— Я бы не стал вас беспокоить, ваша честь, если бы вы не были всегда так добры к нам, а ведь вы такой большой ученый из самого Кембриджа!
Из Кембриджа. И этот странный раболепный тон… Пинчер невольно поморщился.
— Посмотрим, Тайди, что тут можно сделать, — произнес Пинчер более мягким тоном и махнул рукой, давая понять, что разговор окончен.
Отец и сын Тайди прошли около сотни ярдов, когда Фэйтфул повернулся к отцу.
— А что там такое с Кембриджем? — спросил он.
— А-а… — Старший Тайди улыбнулся. — Ты заметил?
— Как только ты заговорил о Кембридже, его словно укусили.
— Это мое тайное оружие, можно сказать. Я давно это заметил. Наверное, он что-то такое натворил в Кембридже, о чем лучше никому не знать. Но он думает, что мне все известно. И нервничает. Таким образом я даю ему понять, что готов позаботиться о нем, если он позаботится обо мне.
— Но что там произошло?
— В чем его секрет? Понятия не имею.
— А разве тебе не хочется узнать?
— Мне это знать незачем. И даже лучше не знать. Меня касается лишь одно: когда я упоминаю о Кембридже, он делает то, что мне нужно.
Фэйтфул молча переварил эту порцию житейской мудрости.
Когда они подошли к собору Христа, отец велел Фэйтфулу зайти с ним в собор. Больше там никого не было. Собор был в их распоряжении, и Тайди повел сына туда, где висела длинная веревка, привязанная к колоколу, скрытому далеко в вышине; колокол сзывал прихожан на молитву. Тайди остановился около веревки и внимательно посмотрел на сына.
Джереми Тайди готовил свою маленькую лекцию много лет. И теперь пришло время произнести ее.
— Видишь этот канат, Фэйтфул? — (Сын кивнул.) — И что это такое? — продолжил его отец. — Просто кусок веревки. И все. Ничего больше. Человек может на ней повеситься, а может по ней взобраться куда-нибудь. Что до меня, сын мой, я сделал свою жизнь, дергая за нее. — Он немного помолчал и покачал головой, изумляясь странной простоте предмета перед ним. — Да, дергая за эту веревку, Фэйтфул, я заработал право жить на территории этого собора. А что дает нам это право?
— Привилегии, — ответил его сын.
— Привилегии, — повторил его отец. — Как и при соборе Святого Патрика или любом другом большом соборе Ирландии. А что такого особенного в привилегиях собора?
— Мы находимся под защитой настоятеля.
— Верно. Мы не отвечаем перед мэром Дублина, и перед королевским шерифом, и даже перед самим лордом-наместником. Огороженная территория собора — это нечто вроде маленького самостоятельного королевства, Фэйтфул, и здесь один бог и хозяин — настоятель. И мы наслаждаемся этими привилегиями. Мы почти свободные граждане. Я могу даже торговать, и при этом мне не нужно принадлежать к городской гильдии или иметь статус свободного гражданина города, а ведь за оба этих статуса нужно много заплатить. И я ничего не плачу дублинским гильдиям со своих доходов. — Тайди улыбнулся. — Я наслаждаюсь всеми городскими привилегиями, но налогов не выплачиваю. И все потому, что дергаю вот за эту веревку.
И действительно, у соборных служек было множество преимуществ. Как все подобные древние учреждения, собор Христа существовал сам по себе. Все, кто работал на него, от сторожей и певчих и до самых скромных подметальщиков и уборщиков мусора, находили в его укромных уголках убежище и хлеб насущный. Им доставались всевозможные приработки и благотворительные дары, от обуви и одежды до еды и дров. Когда, например, большие свечи на алтаре почти догорали, Тайди заменял их, а остатки уносил домой. Его семья наслаждалась светом отличных восковых свечей, но никогда за это не платила. И Тайди получал от мирян деньги за любые свои услуги, но главным, конечно, было то, что он звонил в колокол.
— Не имеет значения, кто они, Фэйтфул, — англиканцы или кальвинисты, паписты или пуритане, им всегда хочется услышать звон колокола! — сообщил Тайди. — А мне только и нужно, что дернуть за эту веревку. Любой дурак может это сделать. Но так у меня появилось целое состояние.
Хотя Тайди никогда и никому не позволял даже заподозрить такое, но у него теперь действительно имелось состояние, равное состоянию доктора Пинчера.
— И вот теперь, Фэйтфул, — заключил Тайди, — ты поднимешься по этой веревке в другие, более высокие сферы. Ты можешь стать адвокатом и даже джентльменом. И однажды ты посмотришь на меня как на бедного невежественного человека. Но помни: только эта веревка позволила тебе забраться туда.
А пока в соборе Христа звучала эта проповедь, доктор Пинчер, так и не тронувшийся с места после ухода Тайди, был погружен в глубокие размышления. Но они не касались семьи церковного сторожа.
Однако если у доктора Пинчера появилось еще больше, чем прежде, причин ненавидеть лорда-наместника, то в этом он не был одинок. Партия пуритан ненавидела его за англиканство; новые английские поселенцы ненавидели его за нападки на их земли. Сам граф Корк, встретив как-то Пинчера в Тринити-колледже, признался:
— Обещаю, мы однажды свергнем этого проклятого Уэнтуорта!
Далеко от острова, в Англии, насколько знал Пинчер, ситуация была другой, но еще более напряженной. Там пуритане испытывали такое отвращение к Церкви короля Карла, что начали перебираться в американские колонии, причем не поодиночке, как в предыдущее десятилетие, а целыми кораблями. Маленькая армия полезных мастеровых, мелких фермеров и даже часть образованных людей навеки покидали английские берега. А еще большее политическое значение имел гнев сквайров. Благодаря новым налогам, которые Карл сумел провести через судебные органы, король обнаружил, что если он не будет вести дорогостоящие войны, то сможет обойтись и без разрешения парламента на новые расходы. И в результате Англией вот уже семь лет правил лишь король, без парламента. Парламенты созывались уже много веков подряд, и короли всегда к ним прислушивались. В парламент могли входить джентльмены из разных графств и юристы, но главным было то, что они представляли собой древние английские свободы, и для многих крупных землевладельцев, возглавлявших местные общины, стало окончательно ясно: король Карл, веривший в свое божественное право делать все, что ему вздумается, шел по пути установления тирании. Джентльмены в Ирландии, возможно, стояли несколько в стороне от всего этого, но и они отлично осознавали, что политическая ситуация представляет собой нечто вроде пороховой бочки.
Рано или поздно, размышлял Пинчер, Уэнтуорт падет. Так всегда происходило с английскими лордами-наместниками в Ирландии. Но куда важнее было другое: когда Карла наконец что-то вынудит созвать парламент, тогда и придет расплата. Пуритане в Англии и Ирландии жаждали мести. Какую форму могла принять эта месть, Пинчер не представлял. Но он готов был начиная с этого момента копить счета. И если его личным врагом был Уэнтуорт, то теперь доктор становился и врагом короля.
Доктор Пинчер, хотя сам того и не осознавал, сделал первый шаг по пути к государственной измене.
Если бы не молодой Морис, Бриан О’Бирн никогда бы их не увидел. Энн так ему и сказала. Случилось это вскоре после середины лета. Уолтер Смит и его жена приехали на два дня к торговцу в Уиклоу, знакомому Уолтера. И с ними приехали Морис и Орландо. На обратном пути, поскольку стояло раннее утро, они решили подняться в Глендалох. Они обошли древние развалины, восхищаясь круглой башней и тишиной двух горных озер Святого Кевина, и к полудню собрались домой. Дни были длинными. И даже если совсем не торопиться, можно было добраться до Дублина задолго до наступления темноты. Они как раз проезжали мимо дороги на Ратконан, и Орландо сказал им, куда ведет эта дорога. Тогда Морис воскликнул:
— Ратконан! Мне бы очень хотелось его увидеть!
— Если поедешь по этой дороге вон до тех деревьев, — Орландо показал на деревья невдалеке, — то сможешь увидеть старинный дом-башню. Но дальше не заезжай и постарайся, чтобы тебя не заметили, потому что я не сообщал Бриану о своей поездке.
Но конечно, Морис поскакал дальше. Его увидел сам О’Бирн и, узнав юношу, помахал ему, подзывая. А через минуту-другую Бриан появился на главной дороге и упрекнул Орландо за то, что тот решил промчаться мимо его дома. О’Бирн любезно пригласил в дом Уолтера и Энн. Отказаться было бы невежливо, хотя Уолтер заметил:
— Мы не можем задержаться надолго.
Но Энн улыбнулась и сказала:
— Мне бы хотелось увидеть башню.
Морис тем временем гнал коня к дому.
Когда они приблизились к старой башне, Бриан покосился на Уолтера и негромко произнес:
— Твой фамильный дом.
— А-а… — Уолтер позволил себе лишь чуть заметно улыбнуться.
— Твоему сыну, похоже, он нравится.
Морис уже подскакал к круглой башне и теперь смотрел на нее с откровенным восторгом. О’Бирн оглянулся на Энн. Она одобрительно оглядывалась по сторонам.
— Ты пасешь там скот? — спросила она, показывая на дикие горные склоны наверху.
— Да, летом.
Он отлично помнил сестру Орландо. Время от времени Бриан и Орландо встречались, но Энн Бриан не видел с того самого дня, как они вместе отправились на островок, а случилось это больше десяти лет назад. Энн на удивление мало изменилась. Прибавилось несколько морщинок, чуть больше стало седых волос; ей, видимо, было за сорок. И она по-прежнему, подумал Бриан, ведет размеренную жизнь со своим скучным мужем.
Его собственная жизнь в Ратконане также не была насыщена событиями. У него уже имелся целый выводок детей. Двоим мальчикам давал уроки священник; девочек учили читать и писать, но не более того. Жена Бриана умерла год назад, родив седьмого ребенка. Потеряв жену, Бриан сильно горевал, но прошел год, и пора было подумать о том, чтобы найти замену. Красавец Бриан О’Бирн из Ратконана вряд ли столкнулся бы с трудностями, решив найти себе молодую женщину в Уиклоу. Все были бы рады разделить с ним постель, управлять его прекрасным имением и заботиться о его чудесных детях.
По просьбе Энн Бриан показал им свои владения. Гости восхитились древним каменным домом и прекрасными видами. Морис в особенности проявлял энтузиазм. И каждый раз, когда появлялся кто-нибудь из детей Бриана, Морис рассматривал их, проверяя, достались ли им зеленые отцовские глаза, но ни у кого их не было. Потом Морису захотелось подняться на склон с О’Бирном, посмотреть на летние пастбища, и Бриан с готовностью согласился. Энн тоже захотела пройтись с ними.
— Ну тогда и мы тоже пойдем, — с легким вздохом сказал Уолтер.
К тому времени, когда осмотр был закончен, перевалило за полдень. Бриан убеждал их поесть с его семьей и остаться на ночь. И поскольку Уолтеру было ясно, что всем, кроме него самого, этого хочется, ему пришлось согласиться.
Ужин в Ратконане был общим, традиционным. На старый ирландский манер за стол садились все обитатели дома. И к ним нередко присоединялись соседи или путники. Священник благословил еду. А после ужина обычно кто-нибудь начинал играть на скрипке или рассказывал одну-две истории. И в тот длинный летний вечер собралась весьма оживленная компания, прозвучало несколько историй о Кухулине, о Финне, о местных духах; играла музыка, все немного потанцевали.
Бриан О’Бирн с интересом наблюдал за гостями. Орландо чувствовал себя как дома, с довольным видом притопывая ногой в такт музыке. Уолтеру Смиту явно было не так уютно. Как любой, родившийся в Ирландии, он, конечно же, был знаком и с подобными легендами, и с музыкой. И хотя солидный седовласый дублинец вежливо улыбался, можно было заметить, что ему не слишком радостно. Никто бы и не догадался, думал О’Бирн, что этот человек одной с ним крови. Зато Морис, красивый юноша с зелеными глазами, мог быть сыном самого Бриана. Глаза Мориса сияли, лицо раскраснелось. Он даже успел заинтересоваться хорошенькой девочкой с фермы. Да, Морис, без сомнения, был на своем месте в Ратконане. Но О’Бирн думал и о том, что, кем бы ни были предки человека, характер у него все равно индивидуальный.
Что до Энн, так за ней Бриан особенно внимательно следил весь вечер. Она явно наслаждалась. Как и ее брат, она притопывала ногой в такт музыке. В какой-то момент, когда другие танцевали, Бриан увидел, как Энн наклонилась к мужу и что-то ему сказала, в ответ он слегка качнул головой, и она с чуть заметным раздражением пожала плечами. Через несколько мгновений Морис пригласил мать на танец. Она двигалась грациозно, и О’Бирну захотелось самому к ним присоединиться, но он решил, что умнее будет оставить все как есть. И даже когда Энн раз-другой посмотрела через зал в его сторону, он сделал вид, что ничего не заметил.
А потом, после танцев, именно Морис подвел к Бриану свою мать с некой просьбой. Ее сыну так понравился Ратконан, пояснила она, что он интересуется, не позволит ли ему О’Бирн провести здесь недельку-другую. Можно ли молодому человеку пожить у него?
— Да конечно же, Муириш! — искренне ответил Бриан. — Тебе здесь всегда будут рады. Но сначала, я думаю, ты должен спросить разрешения у отца.
И в несколько последовавших затем мгновений, пока Морис шел к отцу, чтобы прервать его серьезную беседу со священником, О’Бирн понял: Энн Смит могла бы принадлежать ему. Она стояла перед ним, слегка разрумянившись от танца. Бриан с улыбкой заметил, что местных девушек будет не отогнать от дома, если ее красавец-сын появится здесь, а она засмеялась и коснулась его руки.
— Я ему завидую, если он будет жить здесь, в горах, с тобой, — сказала она, глядя ему прямо в глаза.
В эту секунду вся та невысказанная близость, которую они ощутили в далекий день на островке, вернулась и нахлынула на них. Бриан посмотрел на Энн и кивнул.
— А мне бы хотелось, чтобы и ты приехала вместе с ним, — тихо и серьезно произнес он, и Энн задумалась.
— Не знаю, возможно ли такое, — наконец тоже тихо и серьезно ответила она. — Может быть…
Краем глаза Бриан видел, что мальчик уже разговаривает с отцом. Уолтер Смит, слегка нахмурившись, посмотрел в их сторону. Бриан извинился перед Энн, подошел к дублинскому торговцу и вежливо обратился к нему:
— Твой сын только что спрашивал меня, можно ли ему приехать сюда ненадолго. Ему будут рады здесь в любое время. Но я объяснил Морису, что сначала он должен поговорить с отцом, а не со мной.
— Вы очень любезны… — сразу отреагировал Уолтер. — Но я боялся, что он доставит вам ненужные хлопоты.
— Ничуть не бывало. К нам постоянно приезжают разные люди. И я предпочел бы Мориса многим из них.
— Ну, прямо сейчас он не сможет здесь погостить, — сказал Уолтер. — У меня есть для него поручения в Дублине.
— Время от времени я сам бываю в городе. И когда приеду в следующий раз, зайду к вам. Если тебе захочется отправить его в Ратконан, он сможет поехать со мной. А если нет, то это можно будет сделать в любое другое время. А пока, — Бриан с улыбкой повернулся к юноше, — тебе лучше не давать отцу повода жаловаться на тебя, Муириш, или мне не захочется тебя приглашать, уверяю. — Он весело посмотрел на Уолтера Смита, как один отец на другого. — Ведь правильно?
— Безусловно, — согласился Уолтер с очевидным облегчением.
Бриан О’Бирн обычно вставал с рассветом, и на следующее утро, проснувшись, увидел, что небо уже сияет, а солнце готово вот-вот подняться. Выйдя из дому, он прошел немного за ворота, к тому месту, откуда открывался прекрасный вид на побережье и далекое море. Ему нравилось наблюдать за восходом солнца.
Он так пристально смотрел на восточный горизонт, что не заметил, как кто-то подошел к нему. Это была Энн.
— Что ты тут делаешь? — спросила она.
Бриан показал на горизонт, и в это мгновение сияющий край солнечного диска начал подниматься в небо. Бриан услышал, как Энн коротко вздохнула, наблюдая за тем, как солнце отделяется от воды. Они стояли рядом, когда сияющее божество начало величественно подниматься в небо. Оба молчали. Бриан почувствовал, как пальцы Энн легко легли на его руку.
— Я увидела тебя из окна, — тихо сказала Энн. — Все еще спят. Ты часто наблюдаешь за восходом?
— Всегда, если погода ясная.
— Ах… Это должно быть приятно.
Бриан кивнул и оглянулся на дом. Солнечные лучи уже упали на его стены, но древняя башня как будто не замечала их, словно сама все еще спала. Бриан позволил своим пальцам обхватить запястье Энн. Она ничуть не напряглась. Бриан покосился на нее. Она слегка повернула голову в его сторону и улыбнулась.
— Наверное, я скоро приеду в Дублин, — произнес он.
— Думаю, приедешь.
И тут какой-то звук сзади заставил их отпрянуть друг от друга. Но, оглянувшись, они никого не увидели. И тем не менее Энн вернулась к дому одна и пошла в спальню, где все еще спал ее муж, а О’Бирн отправился в конюшню, проверить лошадей.
И ни один из них так и не узнал, что тот звук издал Орландо и что он видел, как они виновато отодвинулись друг от друга.
О’Бирн не появлялся в Дублине до конца августа. А когда приехал и зашел, как обещал, к Смитам, то с огорчением узнал, что Уолтер с сыном отправились на два дня в Килдэр и должны вернуться как раз сегодня. Жаль, подумал Бриан. Упущенная возможность. Но зато они с Энн несколько минут провели наедине в гостиной. Стоя рядом с ней, Бриан заглянул Энн в лицо, а она посмотрела на него, и они поцеловались так, словно это было самой естественной вещью в мире.
Чьи-то шаги в коридоре у гостиной снова заставили их отскочить друг от друга, но Бриан, прежде чем уехать, предложил:
— Когда твой муж в следующий раз уедет, дай мне знать.
И вот теперь, накануне вечером, прибыл посланец с письмом от Энн, сообщавшим, что Уолтер снова собирается уехать. И Бриан О’Бирн, охваченный легким волнением, собрался в Дублин.
Энн Смит, сидя дома на следующее утро, гадала, приедет ли Бриан О’Бирн. И еще она испытывала мучительные сомнения. Что, собственно, она собирается сделать?
О чем только она думает? Как вообще могла допустить, чтобы все зашло так далеко? Иногда она этого просто не понимала. Но если бы она осознала, как именно О’Бирн оценивает ее внутренние мотивы, ей пришлось бы признать, что его оценка справедлива. Но даже он не мог бы понять, как повлияли на нее долгие годы самоотречения и напряженности, ее разочарования, следовавшего за состоянием смертельного безразличия, которое иногда охватывало Энн. Иной раз она и вспомнить не могла, что это значит — чувствовать себя живой. Не понял бы он и того, как теперь, вдруг вернувшись к жизни, Энн словно ощущала вокруг некий магический свет, преобразивший весь мир. Мораль и даже религия как будто были сметены прочь чем-то вроде силы самой судьбы.
Но как бы то ни было, в те несколько их встреч: много лет назад на острове, потом в Ратконане и даже здесь, в доме Энн, — оба они чувствовали себя чем-то единым, и события, казалось, разворачивались по собственной воле. И что бы ни было предназначено судьбой, могла бы сказать себе Энн, это уже произошло. События почти вырвались из-под ее власти.
Но теперь она сама сделала шаг. Позвала его. Что уж тут отрицать. И лишь позднее возникли сомнения.
Был ли это страх оказаться пойманной? Энн не была в том уверена, но ей казалось, что Орландо мог о чем-то догадываться. В тот день, когда они поцеловались с О’Бирном, ирландец едва успел уйти, как явился Орландо, и вид у него был странный. Он приехал в Дублин на один день, объяснил он Энн, и зашел узнать, не вернулся ли Уолтер. А потом, слегка нахмурившись, спросил:
— Это не О’Бирна я заметил на улице?
А Энн заколебалась как дурочка, пусть всего на мгновение. Но, быстро опомнившись, ответила со смехом, хотя и немножко нервным:
— Да. Он заходил справиться насчет Мориса.
Она видела, как во взгляде брата мелькнули подозрение и сомнение. Орландо собирался уже что-то сказать, но, слава Богу, Энн позвали из кухни, и она смогла избежать дальнейшего разговора.
Две недели спустя, когда вся семья собралась в доме в Фингале и поехала на мессу в Мэлахайд, Орландо ничего не сказал, но Энн не была уверена в том, что его подозрения рассеялись.
И тем не менее на самом деле не страх перед братом удерживал Энн. Это была ее привязанность к доброму мужу.
Прошлым вечером все было так, как любил Уолтер Смит. В доме собрались, кроме Энн и сына, еще и их дочери с мужьями и детьми. Они ели и пили, провели вместе счастливый вечер, играли в разные глупые семейные игры. Уолтер улыбался. Несколько раз он издал раздражавшее Энн хихиканье, но на фоне общего веселья она почти не обратила на это внимания. И, наблюдая за мужем, она думала: вот хороший человек, который любит меня и которого я тоже люблю за его доброту. И утром, нежно попрощавшись с ним, Энн проводила мужа взглядом и вернулась в дом, размышляя: нет, я не могу так с ним поступить. Ее замужество нельзя было считать ужасным. Она должна отступить, прекратить всю эту историю с О’Бирном, пока еще не слишком поздно.
Энн даже задумалась, не отправить ли Бриану другое письмо, отменить встречу. Но это вряд ли помогло бы. Он, скорее всего, уже в пути. Да и в любом случае, если она не собирается совершать ошибку, она, по крайней мере, должна сказать все ему в глаза. Это, решила Энн, единственный правильный выход.
В начале дня она сидела в гостиной, когда услышала, как кто-то подъехал к дому. Энн встала, заметив, что ее сердце вдруг бешено заколотилось. И пошла к двери. Но это оказался не О’Бирн.
Это был Лоуренс. Ее старший брат вошел в гостиную и сел, жестом показав Энн, что желал бы поговорить с ней наедине. Несколько минут он негромко говорил о семье, заметив, что Энн должна чувствовать себя одинокой, когда Уолтер в отъезде. Он произнес это очень мягко, потом на какое-то время замолчал. Было ясно: у него еще что-то на уме. Энн ждала.
— Я все думаю, Энн, — голос брата звучал мягко, — нет ли чего-нибудь такого, о чем ты хотела бы мне рассказать?
— Не уверена, что понимаю тебя, Лоуренс. — Энн постаралась, чтобы на ее лице ничто не отразилось.
— Нет ли чего-нибудь такого, — Лоуренс вопросительно посмотрел на сестру, — в чем ты хотела бы признаться? Исповедаться?
— У меня есть исповедник, Лоуренс.
— Но я священник, Энн. Я могу выслушать твою исповедь, если пожелаешь.
— Но я не желаю, Лоуренс.
Она заметила, как по лицу иезуита скользнула тень раздражения. И как будто на мгновение вернулся Лоуренс ее детства — строгий, придирчивый. Никто, кроме сестры, не заметил бы этого. Но иезуит тут же взял себя в руки и продолжил:
— Как хочешь, Энн, конечно, как хочешь. Но позволь мне, как твоему любящему брату, сказать кое-что. Много лет назад я убедил тебя выйти за Уолтера вместо его брата. Ты это помнишь.
— Ты сказал мне: «Голова управляет сердцем — легче жить». Прекрасно помню.
— Ну а теперь я скажу кое-что другое. Я попрошу тебя, Энн, принять во внимание сердце — сердце твоего мужа. Ты не можешь оказаться настолько жестокой, чтобы разбить его. — Лоуренс говорил пылко, с чувством. Потом сделал паузу, его взгляд стал суровым. — На что бы ни соблазнял тебя дьявол, остановись. Отступи. Ты стоишь на дороге к вечному адскому огню, и если пойдешь по ней дальше, то ничего другого и не заслужишь. И потому молю тебя вернуться, пока не поздно.
Энн молча смотрела на брата. Конечно, она сразу поняла, что это Орландо известил его. Кое-что из сказанного Лоуренсом было правдой, но это ничего не меняло к лучшему, а Энн пока что и не пришла к тому самому решению. Но то, что Лоуренс затеял игру в старшего брата, раздражало Энн.
— В чем ты меня обвиняешь, Лоуренс? Говори прямо, — с угрозой произнесла она.
— Я не обвиняю…
— Рада это слышать, — холодно перебила она его. — А то уж, похоже, ты обвиняешь меня в предательстве по отношению к мужу.
В голосе Энн прозвучало ледяное презрение. Лоуренс был ошеломлен.
— И ты готова поклясться, — с отзвуком гнева в тоне потребовал он, — что между тобой и Брианом О’Бирном не происходит ничего недостойного?
— О’Бирн весьма любезно предложил Морису пожить у него, — твердо ответила Энн. — Это все. Что до твоих предположений, то они оскорбительны и наглы.
— Надеюсь, тебе можно верить.
— Ты назвал меня лгуньей? — Энн побледнела от ярости. — Убирайся из моего дома, Лоуренс! И не возвращайся, пока не научишься хорошим манерам! — Она резко поднялась и указала на дверь. — Убирайся немедленно! — приказала она.
Энн дрожала от гнева. Ее брат, точно так же взбешенный, встал и собрался уходить.
— Ты дурно обошлась со мной, сестра, — сказал он и вышел из гостиной.
После ухода иезуита Энн долго еще стояла с вызывающим видом. Можно подумать, она та самая девочка, что влюбилась много лет назад! Как он посмел читать ей лекцию? И обвинять в чем-то, чего она не делала? Как он посмел назвать меня лгуньей?!
В таком случае, в злости подумала Энн, я могу преспокойно делать что хочу.
И она еще пребывала в том же настроении, когда чуть позже приехал Бриан О’Бирн.
Вскоре после визита семьи Смит в сентябре Орландо признался жене в своих страхах насчет Энн и О’Бирна.
— Просто поверить не могу, что моя сестра способна на такое, — сказал он, качая головой.
Мэри тоже была поражена, но, наверное, не так сильно, как ее муж.
Есть роман между Энн и Брианом или нет, Мэри это не слишком взволновало, но ее мысль заработала в другом направлении. Прежде всего она подумала о том, что уже в течение многих лет время от времени приходило ей в голову. И как-то вечером в начале октября, когда они с мужем сидели рядом у камина, она тихо сказала:
— Орландо, ты должен иметь наследника. Ведь совершенно ясно, у меня детей не будет.
— У меня есть ты, Мэри. Этого достаточно для любого мужчины, — ответил он с нежностью.
— Ты очень добр, что так говоришь. Но мне бы хотелось, чтобы у тебя был наследник. — (В комнате стало очень тихо, только слегка шипел огонь.) — Ты мог бы завести ребенка от другой женщины, а я воспитаю его как родного. Он будет Уолшем, и ты оставишь ему поместье. Я ничего не имею против. — Мэри вздохнула. — Вообще-то, скажу тебе, давно нужно было это сделать.
Орландо уставился на нее во все глаза.
— Ты удивительная женщина, — наконец сказал он.
Мэри покачала головой. А ее муж, в своей бесконечной доброте решив, что она нуждается в утешении, воскликнул:
— Если ты воображаешь, будто я мог бы подумать о другой женщине, кроме тебя, Мэри, то сильно ошибаешься! Во всем мире нет для меня никого, кроме тебя.
— Я говорила о ребенке, Орландо.
— Мы должны склониться перед Божьей волей, Мэри, — ответил Орландо. — Если мы этого не сделаем, наша жизнь не будет иметь смысла.
Он подошел к жене, взял ее руку и горячо поцеловал, благодарный за то, что она предлагает ему такую жертву.
В следующее воскресенье они вместе отправились на мессу в Мэлахайд, и Мэри показалось, что Орландо молился с особым пылом. А днем он один отправился в Портмарнок.
В общем, хотя Мэри и тронула доброта мужа, ей он ничем не смог помочь.
Энн и О’Бирн были очень осторожны. У О’Бирна имелся один друг-торговец, чей большой дом, разумеется, стоял неподалеку от рынка, западного, где обычно бывало множество людей. Прогулявшись по рынку и сделав несколько мелких покупок, Энн могла проскользнуть в этот дом, не привлекая ничьего внимания. И если весьма уважаемая супруга торговца Уолтера Смита уходила днем на несколько часов, а вернувшись, замечала, что после рынка навестила какую-то бедную женщину или зашла в церковь, ни у кого и мысли не могло возникнуть о чем-то другом. С октября 1637 года и до следующей весны О’Бирн множество раз ездил в Дублин, обычно на два или три дня, и каждый раз они с Энн встречались и занимались любовью днем, не возбуждая ни малейших подозрений. Однажды О’Бирн встретил на улице Орландо, расспросил его о семейных делах и абсолютно правдиво сказал, что у него, к сожалению, нет времени, чтобы заглянуть к Смиту. Дважды он видел и Уолтера, и тот тепло приветствовал Бриана и приглашал зайти. Каждый раз у О’Бирна находился предлог, чтобы отказаться, но в то же время он не забывал напомнить:
— Я все жду, когда вы пришлете ко мне юного Муириша. Присылайте на неделю, на месяц, на год — как вам захочется.
Для О’Бирна все это было волнующим приключением. И в особенности ему доставляло удовольствие то, что, преодолев первоначальную застенчивость, Энн превратилась в пылкую и изобретательную возлюбленную. А для Энн, так долго ждавшей, это стало самым страстным романом в ее жизни.
Но их любовная связь была ограничена условиями. Она могла быть только тайной, все происходило за закрытыми дверями. Возлюбленные не могли выйти вместе на улицу, не могли даже провести вместе ночь. Но Энн не слишком это беспокоило.
— Единственное другое место, где я хотела бы оказаться вместе с тобой, — это горы над Ратконаном, — заявила как-то она. — И я мечтаю, чтобы такое осуществилось.
Но хотя придумать предлог для поездки в горы было возможно, Энн тем не менее не представляла, как бы такое могло случиться. Однако весной совершенно неожиданно подвернулась возможность.
В конце марта, после бесконечных просьб Мориса, Уолтер наконец согласился, чтобы его сын отправился к О’Бирну на месяц. Энн видела, что в последнее время муж чересчур занят делами. Иногда он выглядел слегка подавленным, хотя и уверял жену, что поводов к тревоге нет. И еще он похудел. Когда Энн заговорила об этом, Уолтер с грустной улыбкой отметил, что в его возрасте другого и ждать не приходится.
— Мой отец был точно таким же, — сказал он.
Энн не сочла это убедительной причиной, но промолчала. Уолтер также заставлял сына очень много работать, и потому Энн была приятно удивлена, когда он вдруг позволил Морису уехать.
Они с О’Бирном обсудили возможность Энн проводить Мориса и остаться в Ратконане на несколько дней, но в итоге решили, что это могло бы вызвать подозрения.
— Я совсем не хочу, чтобы ко мне снова явился Лоуренс, — заявила Энн.
Поэтому О’Бирн сам приехал за Морисом и отвез его в Ратконан.
— Мне не следует ездить в Дублин, пока юноша у меня, — сказал Бриан возлюбленной.
Однако за неделю до того, как Морис должен был вернуться домой, к Смитам прискакал один из пастухов О’Бирна с сообщением, что Морис сломал ногу и его отъезд из Ратконана придется отложить.
— Думаю, Уолтер, я должна поехать к нему! — заявила Энн, и муж не мог с ней не согласиться.
Взяв с собой конюха, Энн вместе с тем пастухом отправилась в Ратконан.
Приехав, она обнаружила, что ее сын пребывает в отличном настроении. Он, правда, стоял, держась за большую скамью в зале, а нога его была закована в лубки.
— Я как последний дурак поскользнулся на камне в горном ручье! — сообщил Морис матери. — Но я в порядке.
Однако О’Бирн был неумолим.
— Муиришу необходим полный покой еще неделю, — заявил он. — Я не хочу, чтобы он остался хромым.
Похоже, главная проблема состояла в том, чтобы удержать младших детей Бриана и не дать им виснуть на Морисе.
Наедине О’Бирн сказал Энн:
— Вообще-то, я не уверен, что нога сломана. Возможно, просто сильное растяжение. — Он усмехнулся. — Но я подумал, что это может быть поводом для твоего приезда.
Энн отослала конюха обратно в Дублин с докладом Уолтеру о состоянии сына. Оставшись в Ратконане, она включилась в местный распорядок жизни. Днем она могла сидеть с Морисом и читать ему или еще как-то развлекать сына. Вечером О’Бирн обычно играл с юношей в шахматы. А ночью Морис спал в кухне, где за ним присматривал повар, а его мать спала наверху, в гостевой комнате, в которую, когда все засыпали, О’Бирн мог потихоньку пробраться. Один раз, когда Энн высказала опасение, что их страсть производит слишком много шума, Бриан тихо засмеялся:
— Уверяю тебя, сквозь эти каменные стены никакой звук не просочится. Хоть лев тут рычи.
Днем Энн время от времени отправлялась на прогулку, чтобы размять ноги, но поскольку у О’Бирна имелось немало дел, она редко видела его. Однако на четвертый вечер Бриан сообщил ее сыну:
— Муириш, завтра мы переводим скот в горы. Жаль, что ты не можешь к нам присоединиться.
— А мне можно? — спросила Энн. — Я всегда хотела подняться на склоны.
О’Бирн с сомнением посмотрел на Мориса:
— Да, но мы должны быть уверены, что Муириш не будет двигаться.
Морис улыбнулся. Было ясно, что он относится к О’Бирну как к любимому дядюшке.
— Я могу отвечать за свою безопасность, если повар сумеет удержать твоих детей в сторонке, — со смехом сказал он.
И в результате было решено, что Энн на целый день уйдет с пастухами в горы.
Следующее утро выдалось восхитительно теплым. Почти майским. Коровы неторопливо отправились в путь, а пастухи покрикивали на них и время от времени подгоняли палками, чтобы те не разбредались по сторонам. И хотя вышли они рано, стоял уже почти полдень, когда стадо добралось до верхнего пастбища. Но Энн наслаждалась каждым мгновением. Вокруг раскинулось необъятное высокое плоскогорье. Небо было ярко-синим. Вид на далекую прибрежную равнину изумлял. А прямо под ними горные ручьи мчались к густо поросшим лесом склонам.
После небольшого отдыха часть пастухов возвращалась обратно, и О’Бирн спросил Энн, не хочет ли она вернуться с ними.
— Я бы предпочла еще побыть здесь, — ответила она.
Какое-то время О’Бирн провел со стадом, пока не убедился, что все в полном порядке, а потом, повернувшись к Энн на глазах у оставшихся мужчин, заметил:
— Отсюда прекрасная дорога к Глендалоху. Не хотите увидеть его?
— А вы как думаете? — спросила Энн пастухов.
— О да, очень красивая дорога. Стоит того, чтобы пройтись туда, — ответили ей.
И вот, сообщив пастухам, что вскоре вернется, О’Бирн вежливо повел Энн по тропе, уходившей на юг. Он шел довольно быстро, однако Энн без труда поспевала за ним. Но вот они оказались вне поля зрения пастухов, и Бриан немного замедлил шаг и положил руку Энн на талию, и дальше они пошли в обнимку.
Когда они брели по открытым пространствам и по извилистым лощинам, Энн впервые в жизни чувствовала себя необыкновенно счастливой. Впереди виднелись горы, теплые солнечные лучи согревали ее лицо. Энн испытывала восхитительное ощущение от прикосновения руки Бриана к ее талии… и была невероятно свободной и уверенной. Все это пьянило. Она радостно засмеялась, а немного погодя что-то пробормотала, сама того не осознав, и была весьма удивлена, когда О’Бирн спросил, что она имела в виду.
— Ты сказала: «Сердце правит головой», — пояснил он.
— Я так сказала? — Энн снова засмеялась. — Да просто мой брат Лоуренс говорил это однажды. Но он ошибался.
Энн никогда еще так не радовалась жизни.
Они прошли пару миль и наконец добрались до места. Изгиб лощины естественным образом образовывал некое маленькое травянистое укрытие около горного ручья, защищенное еще и окружавшими его деревьями и камнями. Не дожидаясь О’Бирна, Энн подобралась к самой воде. Постояв там немного, она сняла туфли и шагнула в ручей. Вода оказалась холоднее, чем она ожидала, и, когда Энн вышла на берег, ступни слегка покалывало от холода. Энн смеялась. Она сделала несколько шагов к укрытию среди камней. Босыми ногами она ощущала траву. О’Бирн сидел на камне чуть выше и наблюдал за ней.
Энн чуть отвернулась. Расстегнуть пряжку на плече было совсем нетрудно. И через мгновение ее одежда уже упала на землю. Энн глубоко вздохнула, ощущая ласку ветерка на обнаженной груди. И закрыла глаза. Теплый воздух нежно касался ее спины, ног, каждой клеточки ее тела. Энн слегка вздрогнула, а потом повернулась, чтобы посмотреть на О’Бирна. Он все еще неподвижно сидел на камне, глядя на нее. Энн улыбнулась.
— Не спустишься оттуда? — спросила она.
— Пожалуй, могу. — Он легко соскользнул с камня.
Бриан был сильным, думала она, но при этом гибким, как кошка. И вот он уже стоит перед ней. Энн почуяла легкий запах пота на его груди.
— Должна ли я и тебя раздеть? — игриво спросила она, и Бриан улыбнулся:
— А тебе хочется?
— Хочется, — призналась Энн.
Ей никогда прежде не приходилось заниматься любовью на открытом воздухе. Твердая земля под ней казалась приятной, как и длинные стебли травы, что грубовато прижимались к ее коже, оставляя на ней длинные вмятинки и небольшие зеленые пятна. Запах травы впитался в ее волосы, а журчание ручья звучало как музыка. Один раз, перекатываясь по земле, любовники чуть не свалились в воду, и Энн расхохоталась. Впервые она ощущала себя настолько переполненной жизнью. Они провели там более получаса, лаская друг друга.
Потом они двинулись в обратный путь. Энн казалось, что здесь, в огромных диких просторах гор Уиклоу, в ней что-то изменилось, как будто в этот день ее оставило чувство потери, терзавшее столько лет, и она вновь стала свободной и цельной.
Два дня спустя внимательный осмотр ноги Мориса удовлетворил всех. Хотя лодыжка была сильно растянута и даже порвана мышца, перелома все-таки не было. И потому, проведя последнюю ночь с возлюбленным, Энн с сыном собрались возвращаться в Дублин.
— Я приеду в Дублин через три недели, — наедине с Энн пообещал ей Бриан.
— Не знаю, как проживу без тебя так долго, — ответила она.
И всю дорогу с высот Уиклоу к долине Дублина Энн благодарила судьбу за то, что нашла О’Бирна и что ее муж ничего не знает.
В жаркий июльский день лета 1638 года Уолтер Смит совершил некое открытие.
Возвращаясь с почты на Касл-стрит, где отправлял письмо одному купцу в Лондон, он встретил Орландо. Почта была одной из тех новинок, которые Уэнтуорт ввел в Дублине во время своего жесткого правления. Другими новинками стали фонари, освещавшие теперь темные улицы старого Дублина по ночам, а недавно появился и театр. Однако грубые манеры лорда-наместника успели к этому времени оскорбить почти всех, а его попытки наложить лапу на огромные земли в Ленстере и Голуэе почти не оставили ему друзей среди старых англичан-католиков, так что Уолтер Смит был немало удивлен, когда его родственник, зашагав рядом с ним, бодро заметил, что политическая ситуация улучшается.
— Как это? — поинтересовался Уолтер.
— Я думаю о Шотландии, — произнес Орландо, как будто это было совершенно очевидно.
Вот только Уолтер так не считал.
Для большинства англичан последний год работы королевского правительства стал настоящим бедствием.
Для короля Карла было вполне характерно то, что он не понимал даже ту страну, из которой вышла его семья. Шотландцы вполне ясно дали понять его бабушке, королеве Марии Шотландской, что желают иметь Пресвитерианскую церковь. И потому истинным безрассудством было воображать, будто они примут теперь те англиканские службы, которые насаждались в Англии и Ирландии. А король Карл именно это и пытался сделать. Если доктор Пинчер был ошеломлен папистскими службами в соборе Христа, то шотландцы пришли в ярость, когда король приказал проводить такие же службы и в их стране. В соборе в Эдинбурге произошел бунт, и вся Шотландия сопротивлялась. Но Карл был глух к этим искренним протестам. Ведь он король, а значит, прав во всем. К весне 1638 года в Шотландии возникло мощное движение протеста, в котором участвовали все жители, от богатейших аристократов до самых скромных рабочих. В итоге были созданы Торжественная лига и Ковенант, религиозно-политическое объединение, — и Шотландия окончательно вышла из-под контроля. Теперь король Карл пытался собрать армию, чтобы отправиться походом на север, против сторонников Ковенанта.
— Ты разве не видишь, что это может оказаться для нас хорошей новостью? — сказал Орландо. Прежде всего, объяснил он, это может вынудить английское правительство отвернуться от пуритан, а сюда входит и пресвитерианство, и таких шотландцев немало в Ульстере. — Король может пожалеть, что он вообще создал в Ирландии протестантские колонии.
Кроме того, подчеркнул он, у короля может возникнуть настоящая благодарность к солидной поддержке Английской католической церкви в Ирландии.
— Пришло время, Уолтер, когда старые англичане должны напоминать королю, причем как можно чаще, что мы его преданные друзья.
— Ты веришь, что он может даровать нам больше уступок?
— Ты не понял мою мысль до конца, Уолтер! — воскликнул Орландо. — Я имел в виду куда большее. Вполне возможно, если эти неприятности с протестантами продолжатся, король может даже снова вернуть власть в Ирландии нам, старым англичанам. Старым семьям сквайров, которым он может доверять. — Орландо улыбнулся. — Мы, католики, можем снова получить власть в Ирландии, если правильно разыграем свои карты.
Уолтеру показалось, что его родственник излишне оптимистичен. Но знать наверняка было невозможно. Орландо вполне мог оказаться прав.
Они дошли до огороженного двора собора Христа.
— Зайдешь к нам сегодня? — спросил Уолтер.
— Хотел бы. Но у меня назначена встреча, — ответил Орландо.
— Ну, тогда передам твой привет сестре, — сказал Уолтер.
— Да. Конечно передай, пожалуйста, — быстро произнес Орландо.
Уолтер не спеша направился к дому. Думал он о том, что за последний год немного прибавил в весе. Но нельзя сказать, чтобы ему это не нравилось. Наоборот, некоторый жирок на теле он ощущал как утешительное явление. Иногда, сидя в одиночестве, он чувствовал, что его тело как бы подрастает, становится ближе к нему, словно некий друг, и, как и положено доброму другу, защищает его от нападок жестокого мира.
Ему было жаль, что Орландо не смог зайти к ним, потому что любил брата жены. Но Уолтер не был удивлен. Он давно уже заметил, что Орландо испытывает странное нежелание встречаться с Энн. Если его приглашали в гости, он находил какие-нибудь отговорки, как сегодня, и обещал, что скоро к ним зайдет. А когда все-таки приходил, то, хотя и приветствовал сестру поцелуем, все же в его обращении с ней чувствовалась некая сдержанность. А иногда, сам того не желая или думая, что Уолтер ничего не замечает, Орландо посматривал на него с жалостью или беспокойством, а если они просто сидели молча, Уолтер ощущал неловкость в этом молчании. И Лоуренс тоже держался как-то осторожно, прячась, как под маской, за иезуитской любезностью.
Что ж, это было вполне понятно. Они ведь думали, что он ничего не знает.
Но он знал. Он знал почти с самого начала. Он отлично помнил тот вечер (казалось, это был невероятно давно), когда заметил на себе задумчивый взгляд жены. Возможно, ничего странного в том не было. Но Уолтера поразило другое: в ее взгляде не было недовольства или враждебности; она как будто изучала его, рассматривала издали. Может быть, гадала, как бы он отреагировал на то или другое? Или оценивала какие-то черты его характера? Так она могла бы смотреть, если бы сравнивала его с кем-нибудь или пыталась понять, какие чувства к нему испытывает. Конечно, особо размышлять об этом даже и не стоило. Но что бы ни таилось на уме у Энн, ее взгляд заставлял предположить: она втайне отдалилась от него, между ними возникла сдержанная холодность.
Уолтер это заметил, но ничего не сказал. Да и что он мог сказать? Но в последующие дни и недели он наблюдал. И увидел.
Осторожный взгляд в зеркало на свою фигуру, хотя это незачем было делать для мужа. Мгновенное выражение нетерпения в глазах в ответ на что-нибудь сказанное им, а ведь раньше даже если Энн и чувствовала нечто подобное, то никогда этого не показывала. Иногда она как будто улетала куда-то в мыслях. В другие дни все ее тело буквально сияло. А потом Уолтер обратил внимание на странное поведение Лоуренса и Орландо. Но даже тогда он не мог поверить в подобное. До того самого дня, когда он пошел следом за женой на западный рынок и увидел, как она вошла в какой-то дом и не вышла обратно. К вечеру он уже знал, что она встречалась с О’Бирном.
Но даже после этого он далеко не сразу поверил. Его любящая, добродетельная жена ведет себя подобным образом? Несколько дней он пребывал в некоем отупении, в состоянии немого ошеломления. Должно быть, выглядел он ужасно, потому что как-то раз, вернувшись днем, Энн удивленно посмотрела на него и с тревогой и нетерпением спросила:
— Ты заболел? Ты похож на привидение!
Он ответил, что просто очень устал и все это ерунда, и даже сделал вид, будто раздражен из-за какой-то путаницы в делах. После этого он старался не показывать своих чувств. Он еще не был готов к столкновению, но заставил себя рассмотреть ситуацию как можно более бесстрастно.
Собиралась ли его жена бежать с О’Бирном? Или, если он затронет эту тему, может ли она так поступить? Так Уолтер не думал. Энн проявляла всю возможную осмотрительность и осторожность. Едва ли она хотела навлечь бесчестье на себя и своих детей, в особенности на Мориса, который пока еще жил дома. И все же, напоминал себе Уолтер, раньше он и представить не мог, что жена на такое способна. Мог ли он положить конец этой истории, дав знать, что ему все известно? Может быть. Но как бы ни воспринимала эту связь его жена, О’Бирн был достаточно молод и наверняка вскоре женится. Для О’Бирна, по мнению Уолтера, встречи с Энн были просто промежуточным эпизодом. А что потом? Уолтер останется с женой, которая с трудом будет терпеть его. Большинство мужчин выбрали бы именно этот вариант, полагал Уолтер. Однако для него все выглядело не так просто.
Он любил жену, однако никогда не забывал о том, что сначала Энн влюбилась в Патрика, его брата. И все эти годы он старался быть хорошим мужем, чтобы Энн смогла полюбить и его. Уолтеру казалось, что ему это удалось. Она ведь говорила, что он сделал ее счастливой. И вот теперь, похоже, он все-таки не сумел добиться ее любви, потерпел неудачу, а она, по доброте душевной, должна была все время скрывать, что совсем не любит его так же, как он любит ее. И как она все это выносила?
Безусловно, виноват только он сам. Она ведь не взбалмошная женщина. Тут и думать нечего. Порядочная и добрая. Она представляла собой все то, что должна представлять собой жена и мать. И Уолтер любил ее страстно. Вот только она, похоже, так и не полюбила его. И от этого Уолтер испытывал боль куда более сильную, чем ему по силам было вынести.
И ведь не с кем об этом поговорить. Из семьи его отца уже никого не осталось. И конечно же, он даже заикнуться о таком не мог кому-нибудь из детей. Бесчестить мать в их глазах? Никогда! Родные Энн явно все знали. Какой он муж, если явится в слезах к родным жены, когда она ему неверна? Для этого Уолтер был слишком горд. Нет, ему приходилось в одиночку переживать и свою боль, и свой гнев.
Потому что гнев все-таки оставался. Гнев мужчины, над которым посмеялись: посмеялась его собственная жена, посмеялся О’Бирн. И даже в каком-то смысле над ним насмехались Лоуренс и Орландо, потому что они знали. И гнев слегка остужал любовь Уолтера. Правда, история пока не стала всеобщим достоянием. В этом Уолтер был уверен. Братья Энн могли знать, но вряд ли им захотелось бы выдать постыдную тайну сестры. А в семье О’Бирна кто-нибудь знал об этом? Скорее всего, нет. И если догадка Уолтера верна, О’Бирн и дальше будет осторожен. Ведь если история выйдет наружу, если об этом узнает весь Дублин, а значит, и его дети тоже, то, как бы ни любил Уолтер жену, ему придется прогнать Энн из дома. В этом Уолтер был полон решимости.
А если все останется в тайне, что тогда? Есть ли у него хоть капля надежды? Когда история подойдет к концу — а это непременно произойдет — и Энн вернется к своей прежней жизни, что ему делать тогда? Как он будет себя чувствовать? Возможно ли, что Энн будет испытывать к нему хоть каплю любви? Или хотя бы проявит некоторую гибкость? Потому что он этого заслуживал. Уолтер подумал и об этом. Наверное, с ее стороны хватило бы и слов, но слов искренних.
Вообще-то, такое было уделом жены: ждать возвращения сбившегося с пути мужа, но Уолтеру известны и случаи, когда роли менялись. И потому пока, ради их семьи, он сделал вид, будто ни о чем не догадывается. Их семейные отношения кое-как продолжались, но если Уолтер, ложась спать, говорил, что слишком устал, Энн ничего не имела против. И жизнь шла тихо и спокойно, как всегда. Иногда, когда Уолтер лежал рядом с женой в постели, ему казалось, что от ее кожи пахнет другим мужчиной… или от ее волос? Но он закрывал глаза и делал вид, что заснул.
Уолтера оскорбляла и еще одна вещь — любовь Мориса к О’Бирну. Конечно, Уолтер прекрасно понимал, почему мальчик так очарован. Красивый ирландец, с такими же зелеными глазами, действительно представлял собой необычную личность. И Уолтер с горечью думал: О’Бирн кажется его сыну куда более интересным, чем собственный отец. Даже это О’Бирн отнял. И последней уступкой Уолтера стало то, что он позволил сыну поехать к О’Бирну. Мальчик тоже хочет меня бросить, думал он. И что я могу поделать? Разве я могу его винить?
Но когда Энн отправилась за сыном в горы под вполне благовидным предлогом, Уолтер едва не лопнул от досады и сдержался лишь потому, что понимал: если он начнет слишком уж возражать, то не сможет сдержаться и скажет, что знает всю правду. Однако поездка жены стала последним ударом. Да, он мог хранить молчание ради семьи, но уже не был уверен, что после возвращения жены будет в состоянии возобновить их супружеские отношения.
И все же он продолжал кое-как влачить существование. Занимался делами, а в конце дня сидел в своем кресле в гостиной и чувствовал, как его тело наращивает новые слои, чтобы смягчить болезненные уколы. В глазах жены он оставался тихим и мягким. Иногда Уолтер наблюдал за ней и думал: поймет ли она когда-нибудь, что он все знает? Вот только в этом была некая загадка. Энн не видела, поскольку не желала видеть. А не желала она видеть, поскольку ей было наплевать. А наплевать ей было потому, что она любила другого. Вот таким стал круговорот жизни Уолтера, и он продолжал полнеть.
В доме было тихо, когда он вернулся. Слуги хлопотали на кухне. Ни Энн, ни сына дома не оказалось. Обычно в таких случаях Уолтер устраивался в своем кресле и иногда немножко дремал, но после разговора с Орландо сна у него не было ни в одном глазу, а потому, ища себе занятие, он решил подняться на чердак и просмотреть документы гильдии, которые хранились там в сундуке. Уже несколько лет Уолтер собирался их разобрать, но все руки не доходили. Слегка пыхтя, он поднялся по лестнице.
Чердак был довольно просторным. Его потолок был обшит досками, и тут было сухо и тепло даже зимой. Бóльшую часть старых счетов гильдии забрал Уэнтуорт, чтобы передать новой гильдии, протестантской, недавно созданной. Но Уолтер сумел сохранить кое-что и вовсе не собирался все это отдавать. Большой, обитый медными полосами сундук стоял в середине помещения на полу, и Уолтер аккуратно отпер три замка тремя разными ключами. Здесь хранились бумаги еще его отца, и Уолтер как будто прикоснулся к некой средневековой тайне.
В дальнем конце чердака было закрытое ставнями окно. Уолтер распахнул ставни, и внутрь полился солнечный свет, затем подтащил сундук к треугольному пятну света и, сев рядом с ним прямо на пол, начал доставать бумаги.
Как и ожидал Уолтер, большинство бумаг содержали в себе записи о разных мелких событиях: о небольших выплаченных суммах, о контрактах с мастеровыми на ремонт часовни и надгробий… В общем, ничего интересного. Однако, зарываясь в документы все глубже, он добрался до очень старых бумаг, относящихся ко времени правления Елизаветы, католички Марии, короля-мальчика Эдуарда IV. В тот период, как свидетельствовали документы, некая чаша и какое-то количество церковных подсвечников, принадлежавших гильдии, а также другие ценные предметы культа были отправлены на хранение в надежное место на тот случай, если протестанты попытаются ими завладеть. Добравшись до периода правления Генриха VIII, Уолтер обнаружил документ совсем другого рода. Это был лист плотной бумаги, аккуратно сложенный и запечатанный красной восковой печатью, которая явно никогда не нарушалась. Уолтер поднес документ поближе к свету. Похоже, печать принадлежала кому-то из семьи Дойл. Снаружи крупными буквами почерком, показавшимся Уолтеру смутно знакомым, было написано:
ПОКАЗАНИЯ МАСТЕРА МАКГОУЭНА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСОХА
Уолтер гадал, что бы это могло означать. Что за посох? Видимо, некий предмет, принадлежавший гильдии. А Макгоуэн, конечно, был каким-то дублинским торговцем или мастеровым. Но что бы это ни было, это казалось достаточно важным, чтобы запечатать документ. Конечно, многие письма и документы запечатывались. И все равно дело могло оказаться интересным. Уолтер повертел бумагу в руках.
Должен ли он сломать печать? А почему бы и нет? Он хранитель этого сундука, а документу явно не меньше ста лет. Он просунул палец под край печати.
— Уолтер?
Он обернулся и удивился тому, что не услышал, как жена поднялась по узкой лестнице. Энн стояла у входа и с любопытством смотрела на мужа.
— Дверь на чердачную лестницу была открыта, — пояснила Энн. — Вот я и подумала, почему бы это. Что ты здесь делаешь?
— Просто разбираю старые документы.
Год назад он бы сразу продемонстрировал ей найденный документ. А теперь просто уронил его обратно в сундук.
— А что? Ты меня искала?
— Да.
Энн заколебалась, внимательно глядя на него, и на мгновение Уолтеру показалось, будто это тот самый взгляд, который он заметил в тот день, когда догадался, что между ними не все хорошо. Энн смотрела изучающе. Но потом Уолтер заметил и кое-что еще. Энн пыталась это скрыть, но не слишком успешно. Это был страх.
— И зачем бы? — мягко спросил он.
— Спустимся в гостиную. Можно и там поговорить.
Уолтер не тронулся с места.
— Что, плохие новости?
— Нет. Думаю, не плохие. — Энн улыбнулась мужу, но страх из ее глаз не исчез. — Новости хорошие, Уолтер.
— Так скажи прямо сейчас.
— Пойдем вниз.
— Нет. — Уолтер ответил мягко, но твердо. — Мне тут нужно еще кое-что сделать. И я бы предпочел, чтобы ты сказала прямо сейчас.
Энн помолчала.
— У нас будет еще один ребенок, Уолтер. Я жду маленького.
Это была большая радость, когда в конце января 1639 года Энн Смит благополучно разрешилась от бремени мальчиком. Все родственники явились с поздравлениями. Дочери Энн приезжали почти каждый день несколько месяцев подряд. Они были в восторге и удивлении оттого, что их родителям выпала такая удача после многих лет, и они постоянно беспокоились о здоровье матери, а заодно и немножко поддразнивали отца, шутя насчет его неизменной плодовитости… Он воспринимал все с веселым видом.
Прошлым августом Уолтер отправился повидать Лоуренса и долго и откровенно разговаривал с ним.
— Это нужно ради чести твоей сестры, — закончил он, — и ради наших детей, и ради моего собственного достоинства.
И иезуит не без восхищения согласился с ним.
После того разговора и Лоуренс, и Орландо стали регулярно навещать Смитов. Видя этот единый семейный фронт, никто бы и не подумал, по крайней мере в Дублине, что дитя в добродетельной утробе Энн Смит может принадлежать кому-либо, кроме ее мужа.
А для Энн месяцы ее беременности были странной смесью радости и одиночества. Весь спектакль начался с того первого разговора с Уолтером на чердаке. Энн пришлось немного прогуляться сначала, чтобы подготовиться к роли, которую она должна была сыграть.
— Наверное, это случилось в апреле, перед тем как Морис ушиб ногу, — сказала она.
— А-а… — Уолтер внимательно смотрел на сундук перед собой. На его лице не отражалось ни удовольствия, ни боли. — Да, вполне возможно.
Он вообще не смотрел на жену. Медленно, почти с отсутствующим видом, он вернул документы в сундук. Потом тщательно запер по очереди все три замка. И только после этого поднялся на ноги и посмотрел прямо в глаза Энн, и этот ужасный взгляд сразу дал ей понять, что муж все знает. И под этим взглядом она задрожала.
— Дети обрадуются, узнав, что у нас будет еще один ребенок, — очень тихо произнес Уолтер.
Это был одновременно и акт милосердия, и приказ, и Энн не могла понять, то ли она испытала облегчение, то ли в ее сердце вонзился нож. Вполне заслуженно. И пока муж смотрел на нее сверху вниз, Энн думала: «Боже мой, но он просто страшен! Страшен и справедлив. Им стоит восхищаться».
И она восхищалась мужем. Но ничего не чувствовала. Она понимала, как никогда прежде, насколько он был хорошим и благородным человеком. И ничего не чувствовала. Она могла думать только о Бриане О’Бирне. Это ведь был его ребенок. Никаких сомнений у Энн не было.
Все то время, пока ребенок рос в ее животе, она тосковала по О’Бирну. Энн мысленно видела Бриана в его доме высоко в горах. Как ей хотелось быть с ним, ощутить его руки на своем животе, чтобы он познакомился с новой жизнью, разделил ее счастье. Его отсутствие было подобно непрерывной ноющей боли. Энн очень хотелось написать ему. Выяснив, что можно воспользоваться услугами новой почтовой службы, она под видом делового письма отправила осторожно составленное сообщение, намекая, что надеется на его скорый визит в дом Смита-торговца. А потом стала ждать.
Сердце управляет головой. Так сказал Лоуренс. Она никак не предполагала, что ей придется вынести терзания разлуки и неуверенности. И все же, говорила она себе, она все равно поступила бы так же, потому что роман принес ей свободу, а ее жизнь наполнилась новой радостью. Конечно, Энн теперь видела всю иронию ситуации: радость досталась ей лишь благодаря любезной доброте мужа. Она тут была ни при чем. Жизнь такая, какая она есть. И больше сказать нечего.
Наконец Бриан появился, вместе с Морисом. О’Бирн весьма умно выжидал в городе в таком месте, где, как он знал, должен был проходить ее сын. И Морис, завизжав от радости при виде О’Бирна, тут же потащил его к ним домой. Когда они с Энн на несколько мгновений остались наедине, она напомнила:
— Ребенок твой. Я знаю. — (И он улыбнулся.) — Я так мечтала сбежать с тобой. Сбежать в горы, как в старой Ирландии.
— Да, ты могла бы. — Бриан тихо рассмеялся. — Ты бы так и поступила, если бы было можно. Думаю, ты еще более дикое существо, чем я.
— Может, и сбегу, — сказала Энн.
Он нежно погладил ее волосы:
— Тебе лучше здесь.
— Ты любишь меня? — Энн с сомнением посмотрела на Бриана.
— Неужели у тебя такая короткая память? — Он продолжал гладить ее волосы.
— Я теперь становлюсь такой огромной.
— Ты прекрасна! — произнес Бриан с искренним чувством, а потом тихо добавил: — Ты невероятно красива, и ты это знаешь. Невероятно красива!
Они услышали, как в дом входит Уолтер. О’Бирн коснулся губами щеки Энн и вышел из комнаты. Затем в коридоре раздались мужские голоса: Бриан, как положено, поздравлял Уолтера. Муж ответил негромко, но решительно:
— Она теперь останется со своей семьей.
И Энн поняла: больше О’Бирну нельзя будет прийти в их дом.
Ты так прекрасна! Слова, по сути не имевшие особого смысла, наполнили Энн радостью и покоем на много недель вперед.
Когда ребенок родился, вокруг него началась настоящая суета. Особенно Морис не мог удержаться и то и дело прибегал посмотреть на малыша и проверить, будут ли у него зеленые глаза.
— У младенцев глаза часто бывают голубыми, — объяснила ему Энн. — Сначала нельзя понять, какой их настоящий цвет.
Но глаза крохотного мальчика не были зелеными. Они оставались голубыми.
И только какое-то время спустя после его рождения Энн стала замечать неладное.
Если бы лорд-наместник Уэнтуорт весной 1639 года окинул взглядом находившуюся под его попечительством Ирландию, то вполне мог бы почувствовать удовлетворение. И в самом деле, он, без сомнения, сделал все то, что хотел сделать.
Правда, колонии вовсе не были похожи на те упорядоченные протестантские колонии, какими им следовало быть. А те, что предполагалось создать в Голуэе, не были и начаты. А если бы Уэнтуорт зашел в дом какого-нибудь торговца или ремесленника в Дублине или к кому-нибудь из сквайров в округе, то, пожалуй, нашел бы у них оскорбительные памфлеты на себя самого. Но это вообще был век памфлетов. А поскольку Уэнтуорта одинаково ненавидели и католики, и протестанты, ему было на них наплевать. Он вовсе не искал популярности. Его интересовала только добыча денег для короля. И порядок.
— Я верю в обстоятельность, — любил повторять он. — В обстоятельность.
И он определенно доказывал это. В Ирландии его могли ненавидеть, но люди оставались запуганными, и на острове было тихо — тише, чем во многих других владениях короля.
А вот попытки короля Карла запугать шотландцев оказались безуспешными. В соответствии с Ковенантом к северу от их границы никакой папистской церкви быть не могло, и шотландцы крепко за это держались. Карл сначала бесился, потом попытался договориться. Но шотландцы бесстрастно наблюдали за его потугами.
— Он бы рад был принудить нас, только силенок не хватает, — вполне справедливо замечали они.
И крепко стояли на своем. Поэтому к весне 1639 года король Карл решил продемонстрировать силу. Он начал собирать войска и желал найти джентльменов, которые хотели бы их возглавить. Но это оказалось непросто.
В теплый апрельский день возле старой Деревянной набережной люди наблюдали за тем, как с корабля, вставшего на якорь, на лодках перебираются на берег пассажиры. И тут дублинцы заметили нечто удивительное: с потрясающей живостью из лодки на том самом месте, где сорок лет назад его нога впервые ступила на ирландский берег, выскочил доктор Симеон Пинчер. Он, как всегда, был одет в черное. Но теперь на голове доктора Пинчера вместо строгой пуританской шляпы, какую он всегда предпочитал, красовался мягкий головной убор из шерсти, который в будущем назовут тэм-о-шентером, или шотландским беретом. А когда лодочник, надеясь на чаевые, спросил: «Все в порядке, сэр?», доктор ответил бодрым голосом, который, как мог бы поклясться лодочник, принадлежал шотландцу:
— Ай, парень, все нормально.
Доктор Пинчер побывал в Шотландии.
Многие в Тринити-колледже сочли, что доктор Пинчер стал несколько эксцентричен. Но вреда в том никакого не было. Пожилым университетским преподавателям вполне дозволялось быть эксцентричными. Так что, когда доктор прошел через ворота колледжа к своей квартире, вид странного головного убора на его голове вызвал у студентов только улыбки. И если кальвинистский зачинщик, будораживший общину собора Христа в прежние годы, теперь выглядел вполне безобидным, то это всех устраивало.
Еще не дойдя до своего жилища, Пинчер отправил прислужника колледжа с двумя поручениями: первым было принести пирог от жены Тайди; вторым — найти молодого Фэйтфула Тайди и передать ему, чтобы пришел в квартиру доктора ровно в четыре часа. Едва войдя домой, Пинчер налил себе маленький стаканчик бренди и сел за письменный стол.
Фэйтфул Тайди, придя точно в назначенное время, тщательно следовал указаниям отца.
Как только доктор Пинчер прибыл в Тринити-колледж, он стал относиться к Фэйтфулу как к личной собственности. Молодой человек, все еще за глаза называвший ученого доктора Старой Чернильницей, в общем возражал против того, чтобы его использовали как посыльного, но отец посоветовал ему набраться терпения.
— Фэйтфул, как часто он зовет тебя?
— Ну, примерно раз в неделю.
— Это не так уж часто. Ты ему кое-чем обязан. Так что просто выполняй все… — Старший Тайди кивнул. — Может, он и стар, Фэйтфул, и уже не тот человек, что когда-то жил в Дублине, но никогда нельзя сказать заранее, не пригодится ли он тебе в случае чего, так что служи ему хорошенько.
Немного позже Фэйтфул явился к отцу с другой жалобой:
— Он заставляет меня носить письма в одно место рядом с собором Святого Патрика и оставлять их у двери.
— Ничего страшного.
— Письма всегда запечатаны. И адресованы какому-то мастеру Кларку.
— Ну и что?
— Я никогда этого человека не видел. Я просто оставляю там письма. Один раз я стал расспрашивать соседа, кем может быть этот мастер Кларк, а тот ответил, что понятия не имеет, что это за человек. На мой взгляд, что-то странное есть во всем этом деле. Мне бы хотелось как-нибудь подождать и посмотреть, кто забирает письма. Или даже сломать печать и прочесть письмо.
При этих словах старший Тайди сильно заволновался:
— Не делай этого, Фэйтфул! Это не твое дело. А если там кроется что-то подозрительное, то чем меньше ты будешь знать, тем лучше. — Он серьезно посмотрел на сына. — Ты просто доставляешь письма от доктора Пинчера из Тринити-колледжа. Ты ничего не знаешь об их содержании или о том, кто их получает. Ты ничего плохого не совершал. Понимаешь меня?
— Да, отец.
И как раз такое же письмо, возможно, к несуществующему мастеру Кларку Пинчер и вручил Фэйтфулу ровно в четыре часа в тот день, с приказом оставить письмо в обычном месте. Фэйтфул тут же ушел.
А доктор Пинчер встал, потянулся, налил себе вина и отрезал большой ломоть пирога. Он чувствовал себя довольным всем окружавшим его миром.
Его поездка в Шотландию была весьма успешной. Он ездил в Эдинбург и встречался там со множеством ученых проповедников, пасторов и пресвитерианцев-джентльменов. Ему понравились и люди, и место, и он даже думал: «Если бы в юности я приехал сюда, а не в Дублин!»
Вскоре ему стало ясно, что Ковенант, великое национальное соглашение, в котором поклялись шотландцы, был на деле весьма грозным инструментом. Король Карл мог отправиться на север с любыми силами, но шотландцы ничуть его не боялись.
— Бог на нашей стороне, — сказал доктору один джентльмен. — И численность тоже.
Пинчер также понял, что все эти джентльмены связаны с некоторыми пуританами в Англии. И королю нелегко было бы найти поддержку против шотландских сторонников Ковенанта среди своих английских подданных. И Пинчер вернулся в Дублин, еще более полный решимости продолжать собственную тайную войну.
Документ, который только что получил Фэйтфул, должен был попасть в руки третьего лица, которого звали вовсе не Кларком, а потом — анонимно доставлен к печатнику. И через несколько дней в Дублине, в колониях Ульстера и во многих других местах должен был появиться энергичный маленький памфлет. К концу жизни Пинчер открыл в себе литературный талант. И предметом его нападок был не кто иной, как сам лорд-наместник.
Грозила ли Пинчеру опасность, если бы его авторство оказалось раскрытым? Возможно. В Англии случалось даже такое, что бунтарским авторам отрезали уши. Но Пинчер прожил уже достаточно долгую жизнь, а поскольку личных амбиций у него осталось немного, ему было на все наплевать. Миссией всей его жизни было поддерживать чистое пламя кальвинистской веры в Ирландии и пуританизм, проповедовать Слово Божье, а также уничтожать папистское зло. Пинчер действовал достаточно осторожно: он не нападал на короля, но мог оскорблять — и оскорблял! — проклятого Уэнтуорта.
Но конечно же, все было на самом деле куда глубже и опаснее, и именно поездка в Шотландию в огромной мере ободрила доктора. Что, если пресвитерианцы в Ульстере, многие из которых были шотландцами, заключат такой же договор, как их родня за проливом? А если бы нашлись и другие, от могущественного графа Корка до пуритан в Дублине, и смогли бы нажать на правительство? Если удастся убрать Уэнтуорта, то дела пойдут еще лучше. Как такое могло бы случиться и к чему это привело бы, доктор пока не загадывал. Но общее направление было понятным. Божьи слуги уже на марше, и папистскому королю Англии рано или поздно придется отступить перед ними.
В тот вечер доктор написал письмо одному джентльмену-пресвитерианцу в Ульстере. Имя этого джентльмена сообщили Пинчеру в Шотландии. Закончив писать, доктор улыбнулся самому себе. Он собирался отправить это письмо через собственную новую почту Уэнтуорта.
Поначалу Энн не поняла. А ей бы следовало насторожиться сразу, когда Морис заметил:
— Какое-то у него странное лицо.
А Уолтер взял малыша на руки и сказал:
— Да ведь он только что родился.
Она могла осознать, но в первом всплеске счастья видела только то, что хотела видеть. Остальные уже все поняли, но именно Уолтер решил, когда следует ей сказать, и сделал это сам, очень мягко, как только понял, что Энн уже готова.
— Энн, похоже, малыш… нездоров. — Он помолчал. — Неполноценен.
— Неполноценен? В чем? Как?
— Он будет дурачком.
На мгновение Энн отказалась ему поверить, но потом присмотрелась внимательнее и увидела правду: широкое лицо, скошенные глаза, плоский затылок. Монголоидные черты не оставляли сомнений. Энн и раньше видела подобных детей. В старые времена в некоторых странах, как она слышала, таких детей считали отпрысками оборотней и сжигали у столба. В Ирландии с ними чаще всего обращались добродушно. Но росли они медленно, никогда не достигали нормального роста, почти не говорили. И как правило, умирали, так и не став взрослыми. Неужели ее драгоценное дитя, дитя, дарованное ей О’Бирном, зачатое в дикой красоте гор Уиклоу, могло быть таким? Разве такое возможно? Как же так?
А Уолтер, сказав это жене, поцеловал малыша и положил ей на руки.
— Он Божье создание, и мы все равно будем его любить, — тихо заметил он.
Это было так похоже на Уолтера с его неизменной щедростью, что Энн не могла не быть благодарна. Муж оставил ее с ребенком, и она, прижав к себе малыша и поплакав какое-то время, переполнилась бесконечным желанием защитить кроху, а мысль о том, что жизнь сына будет короткой, лишь усиливала это чувство. Когда Уолтер пришел снова, Энн с вызовом посмотрела на мужа.
— Он просто не совсем совершенен, — заявила она.
Однако Энн интуитивно ощутила: для Уолтера это стало немалым облегчением. Для него было бы уже слишком иметь в доме здорового, красивого ребенка О’Бирна и чувствовать его присутствие как насмешку над своей старостью. Наверное, ее муж мог даже втайне надеяться на то, что ребенок окажется мертворожденным. И в его глазах это неполноценное дитя можно было в каком-то смысле не принимать в расчет, в особенности рядом с его родным красавцем Морисом. И еще Энн не сомневалась: Уолтер, хотя никогда и не скажет этого вслух, наверняка должен был счесть неполноценность ребенка знаком Божьего недовольства поведением Энн. Да и большинство людей подумали бы так же. И если ее муж был слишком добр, чтобы говорить об этом, Энн с уверенностью ожидала чего-то в таком роде от Лоуренса, когда тот неделю спустя пришел к ним, и была весьма удивлена реакцией брата. Взяв малыша на руки и внимательно осмотрев его, иезуит сказал:
— Врачи отмечают, что такие дети обычно родятся у немолодых матерей. Но почему — никто не знает. — После небольшой паузы он продолжил: — Если хочешь, чтобы потом, позже, за ребенком присматривали добрые люди, я могу это устроить. Я знаю одно такое место.
— Я предпочла бы сама заботиться о нем.
— Ну, это уж вы с мужем сами решите. — Он внимательно посмотрел на сестру. — Твой муж, Энн, выше всяких похвал. Истинный христианин.
— Знаю, Лоуренс.
— Я рад. — И после этих слов, к облегчению Энн, он покинул их дом.
Ребенка назвали Дэниелом.
По правде говоря, Морис Смит нечасто причинял отцу неприятности. Но это не мешало Уолтеру тревожиться за него. Как любой родитель, он боялся того, что могло случиться, и волновался из-за того, что уже произошло.
Мышление Уолтера было довольно своеобразным. Он знал о кровном родстве с ирландцем О’Бирном, но всегда считал себя истинным, настоящим англичанином, и признаки его ирландской крови, вроде рыжих волос, зеленых глаз или сумасбродства, могли проявиться, а могли и не проявиться в членах его семьи. Но главным страхом Уолтера, в котором он никогда не признавался жене, был страх, что Морис может оказаться таким же, как брат Уолтера Патрик, — красивым, обаятельным, но слабым. Это Уолтер как раз и считал ирландским наследием. И потому пока мальчик рос, он постоянно наблюдал за ним. Если ему казалось, что Морис не делает уроки или не выполнил поставленную перед ним задачу, Уолтер обычно тихо, но твердо добивался того, чтобы работа была сделана. Когда же Морис подошел к возрасту зрелости, его отец решил, что в целом сын вполне крепок характером.
Одно лишь продолжало тревожить Уолтера. Да, Морис много работал. Но не таилась ли в нем некоторая бесшабашность, некое бурление? Если это было просто кипение молодых сил, то все в порядке. В молодом человеке и должен гореть высокий дух. Это Уолтер вполне мог бы понять. Но что, если то было нечто более глубокое? Тогда имелось только два возможных объяснения: ирландская кровь или наследие Уолшей. Неужели долгие века жизни бок о бок с О’Бирнами и О’Тулами на пограничных землях в Каррикмайнсе повлияли на семью? Возможно. Они должны были быть представителями старого английского порядка, то есть так думал Уолтер, когда женился на Энн, но с тех пор он был вынужден признать, что в них скрывалась тайная необузданность и ненадежность, прикрытая набожностью. И не эта ли самая неустойчивость недавно проявилась в Энн?
Но и до обнаружения неверности жены страх Уолтера перед тем, что сына может привлекать ирландская жизнь, охлаждал его дружеские отношения с Брианом О’Бирном. И только бесконечные мольбы мальчика и то, что он не мог объяснить ему настоящей причины своих возражений, заставили наконец Уолтера дойти до того момента, когда он просто пожал плечами в тайном отчаянии и позволил Морису поехать в Ратконан. И каким же бедствием это обернулось.
Весной 1639 года Морис заявил, что хочет съездить в Ратконан повидать О’Бирна, и Уолтер сначала пытался отговорить сына, а потом был вынужден просто запретить. Морис протестовал:
— Но он наш друг, и моего дяди Орландо тоже! Я уже жил в его доме!
Однако Уолтер был тверд в своем решении. Морис бросился к матери. Он чувствовал, что она не согласна с отцом.
— Ты должен повиноваться отцу, — сказала Энн.
Позже, в апреле, сразу после возвращения доктора Пинчера из его путешествий, Уолтер сообщил:
— Я еду по делам в Фингал на пару дней. Остановлюсь на ночь у Орландо и вернусь к следующему вечеру.
Энн не придала этому значения, однако наутро после отъезда мужа она вдруг увидела, что и сын тоже куда-то собрался, и спросила, куда именно он едет и когда вернется. Морис ответил, что хочет повидать одного друга и вернется завтра. Энн показалось, что сын держится как-то уклончиво, и поинтересовалась:
— Что это за друг?
— Ты его не знаешь, — сказал Морис.
Однако Энн почувствовала, что сын говорит неправду. Она стала настаивать и заявила, что если он не скажет правду, то никуда не поедет. Наконец Морис признался, что собирается в Ратконан.
— Я вернусь раньше отца, — сказал он. — Ему и знать незачем.
Энн уставилась на него. Она понимала, что именно должна сказать: Морис не может туда ехать. Ее долгом было поддержать мужа. Но после того единственного визита она ни слова не получила от О’Бирна. Ей страстно хотелось хоть какой-нибудь вести от него. И если Морис собирался с ним повидаться, он мог хотя бы рассказать ей о нем, о том, как там дела… а может, и привезти какое-то тайное послание…
— Ты ему расскажешь, если я поеду?
Теперь Морис делал ее своей сообщницей. Конечно, он этого не понимал. Ох, если бы обстоятельства были другими! Тогда Энн могла бы отправить с сыном письмо. Но она хотя бы узнает что-то.
Энн колебалась. Потом наконец выбрала самый трусливый путь.
— Ты должен слушаться отца, — сказала она. — А если нет, то я и знать ничего о том не желаю. Не желаю знать! — С этими словами она развернулась и ушла. И через несколько минут услышала, как застучали конские копыта.
В тот же день в сумерки вернулся Уолтер. Его дело потребовало меньше времени, и ему незачем было ночевать у Орландо. И конечно, очень скоро он поинтересовался, где его сын. Энн сидела в гостиной, держа на коленях кроху Дэниела.
— Куда-то ускакал утром. Сказал, что, может быть, сегодня не вернется, — абсолютно правдиво ответила Энн.
— И куда он отправился?
— Не захотел сказать.
— И ты ему позволила?
— Я подумала… Мне показалось, что это может быть девушка…
Уолтер замолчал. Было совершенно ясно, что именно произошло. Существовало только одно место, куда стремился Морис. Значит, он просто выжидал до сегодняшнего дня, когда, как он подумал, можно будет съездить, а отец ничего не узнает. Уолтер был в ярости оттого, что его сын мог поступить столь вероломно, однако у него хватило здравого смысла не обвинять юношу во всех грехах. Молодые люди нередко творят такое. А вот его жена — это совсем другое дело. Она утверждает, будто ничего не знала? Уолтер обвиняюще уставился на Энн. Она вздрогнула и опустила глаза. Уолтер медленно кивнул. Вот как, значит. Она позволила их сыну отправиться к ее любовнику, открыто выступив против воли мужа. В глубине души Уолтера закипал обжигающий гнев. Он несколько долгих, ужасных мгновений смотрел на младенца. А потом вышел из комнаты.
На следующий день, когда Морис вернулся, его отец был абсолютно спокоен. Он даже не спросил сына, где тот был. Но сообщил, что Морис не может исчезать на ночь без разрешения, а также заявил, что у него больше нет лошади и не будет до следующего Рождества. И сразу отправил сына с какими-то поручениями в город.
Позже Энн узнала от Мориса, что у О’Бирна дела идут хорошо, что он бодр, как всегда, и собирается в Дублин.
— Скоро?
— Он не сказал. Но посылает тебе свои наилучшие пожелания.
В следующие недели Уолтер Смит был очень занят делами. И еще Энн казалось, что в нем происходят какие-то перемены. Потерял ли он действительно какую-то часть своего лишнего веса, она сказать с уверенностью не могла, потому что физической близости между ними не было. Но в нем появилась какая-то новая живость и жесткость, он проживал дни так, будто, по крайней мере мысленно, больше не нуждался в Энн.
А она все ждала какой-нибудь вести от О’Бирна.
Чиновники Уэнтуорта предложили Дойлу войти в некую важную комиссию, и он предположил, что, должно быть, о нем вспомнили в связи с той историей в Лондоне, больше десяти лет назад, когда речь шла о благосклонности к католикам.
— На вас смотрят как на достойного доверия представителя Ирландской церкви, — сказал Дойлу один из чиновников.
— Наверное, — сухо заметил позже Дойл в разговоре со своим кузеном Орландо, — я должен воспринимать это как комплимент. — И хотя он не имел ни малейшего желания оставлять семью, отправляясь куда-то с какой-то миссией, он продолжил: — Но я был бы дураком, если бы отказался.
И потому одним летним утром он вместе с большой группой джентльменов и чиновников из Дублинского замка поехал на север. Поездка должна была занять около месяца.
Цель миссии была проста: убедиться, что в Ульстере не происходит ничего опасного.
Когда позже той весной король Карл вместе со своей не слишком пылкой армией добрался до шотландской границы, его встретили сторонники Ковенанта. Произошло несколько стычек, но король Карл ничего не добился и заключил перемирие. Правительство оказалось в безвыходном положении. А тем временем королевские представители рыскали по Ульстеру и задавали вполне очевидный вопрос:
— Собираются ли шотландцы в Ульстере тоже устраивать беспорядки?
Дойл, продвигаясь все дальше на север, не уставал удивляться. Члены комиссии и их сопровождающие уже являли собой немалый отряд, но за ними шли еще и вооруженные всадники, пехотинцы и мушкетеры, и все это выглядело небольшой армией. Король отправил к шотландцам вовсе не бестолковых новобранцев. Это были хорошо обученные солдаты. Когда Дойл выразил свое восхищение в разговоре с одним из чиновников, тот ответил с улыбкой:
— Даже пресвитерианцы должны найти это убедительным.
Уже в Ульстере Дойл с изумлением узнал, что Уэнтуорт был намерен установить мир, просто вынудив ульстерских шотландцев принести клятву верности королю. Конечно, ничего нового в этом не было. Король Англии Генрих VIII проделал то же самое, когда сам нарушил клятву верности папе римскому, а некоторым преданным католикам вроде сэра Томаса Мора, отказавшимся это сделать, пришлось умереть. И именно отказ дать такую же клятву теперь не позволял Орландо Уолшу и остальным католикам из старых англичан занимать государственные должности. В традиционной Ирландии клятва верности была делом обычным, хотя, что было весьма умно, она сопровождалась заодно еще и передачей заложников.
А теперь от шотландцев требовали так называемой Клятвы Отречения. Приносивший эту клятву должен был отречься, то есть не признавать Ковенант и отдать свою преданность королю Карлу. Дойл предполагал, что этого потребуют от видных людей и от глав семей. Но ему следовало лучше знать Уэнтуорта.
— Полностью и до конца — вот мой девиз! — заявил тот.
И они заглядывали в каждый дом, на каждую ферму, на каждое поле и в каждый амбар.
— Там, где есть шотландец, будь он хоть последним нищим, — было сказано чиновникам, — если ему стукнуло шестнадцать, он должен дать клятву.
Именно так и поступала комиссия. Большинство шотландцев жили в восточной, прибрежной части Ульстера, но представители короля добирались туда, куда им было нужно. В каждом районе они разбивались на небольшие группы, но в сопровождении солдат, и просто шли от двери к двери. Любой шотландец, хоть местный житель, хоть гость, вынужден был давать клятву. Дойл сам выслушал ее от сотен человек, протягивая им небольшую потрепанную Библию.
Шотландцам это не нравилось. Черная Клятва — так они это называли. Но выбора у них не было. Через три недели Дойла поблагодарили и позволили вернуться домой. И он несколько дней в одиночестве путешествовал по провинции, прежде чем отправился назад.
По дороге домой, проезжая через Фингал, он свернул в сторону, чтобы переночевать у своего кузена Орландо.
Он с наслаждением поужинал с Орландо и его женой, а потом Мэри оставила мужчин наедине. Орландо очень хотел узнать о действиях комиссии, а Дойл в равной мере хотел поделиться мыслями с умным адвокатом-католиком. Орландо спрашивал: хотят шотландцы в Ульстере также образовать Ковенант или собираются переправиться через море и там присоединиться к своим?
— Когда вы туда отправились, в Дублине многие были напуганы как никогда прежде, — объяснил он.
— Не думаю, что там есть какая-то опасность, — ответил Дойл. — Конечно, сообщение через пролив между Ульстером и Шотландией существует. И всегда существовало. Но положение здесь и там совершенно разное. В Ульстере шотландские пресвитерианцы в меньшинстве. Им приходится вести себя тихо, хотя, без сомнения, они хотели бы помочь Шотландии, если бы могли, и они с восторгом наблюдали, как там унизили короля Карла.
— Я пытаюсь вообразить огромную общину докторов Пинчеров, — с улыбкой сказал Орландо.
— Знаешь, они весьма честны, горды и трудолюбивы. А кое в ком я заметил некоторый мрачный юмор, несмотря на обстоятельства. По правде говоря, Орландо, они мне понравились куда больше, чем доктор Пинчер. — Он немного помолчал, размышляя. — И еще в них есть некая сила, которой нет у доктора Пинчера и которая очень меня пугает.
— Пугает сильнее, чем доктор Пинчер?
— Да. Как я на все это смотрю? Пинчер тверд в своей религии. Мне может не нравиться его вера, и ты, католик, должен ее презирать. Но я не сомневаюсь в его искренности. Он верит страстно. А они не столь суровы. Но они не просто верят. Они знают. — Дойл пожал плечами и сухо улыбнулся. — А ты ведь не можешь на самом деле спорить с человеком, который знает.
— Но я тоже знаю, кузен Дойл. Я католик, и я знаю, что моя Церковь — истинная, что это вселенский голос всего христианского мира.
— Да, это так, и все же не совсем так. У тебя есть не только апостольская преемственность, но и полтора тысячелетия традиции, на которую ты опираешься. Католические святые не раз показывали себя. Католические философы усердно доказывали свою правоту, а Церковь время от времени проводит реформы внутри себя. Католическая церковь огромна, она древняя и мудрая и может судить на основе этого. В ней есть место для всего человеческого, гуманного, и она проявляет гибкость во многом, демонстрирует добрую волю… — Дойл помолчал, усмехаясь. — По крайней мере, на это следует надеяться.
— Ладно, давай вернемся к прежнему, — суховато произнес Орландо. — Ты увидел в шотландцах нечто злобное?
— Нет. Хотя люди могли бы озлобиться, когда с ними вот так обращаются. Они не злобны, они уверены. Они знают. Вот и все, что я могу тебе сказать.
— Ну, мы хотя бы должны быть благодарны за то, что там держится мир.
Дойл задумчиво кивнул, прежде чем продолжить, поскольку на уме у него было другое. Именно поэтому он и завернул к своему кузену-католику.
— Там есть еще кое-что, Орландо. То, что я увидел в Ульстере, встревожило меня куда сильнее. И это вообще не касается шотландцев.
Дойл замечал это несколько раз во время работы в комиссии. Но потом, когда до возвращения домой он побывал еще и в других местах, задумался куда глубже. Ему нетрудно было встретиться со многими важными людьми в Ульстере. Англичане знали Дойла как человека, достойного доверия, а ирландцам было известно о его связях с католическими семьями. Одни держались с ним с вежливой осторожностью, другие — более откровенно. Ничего определенного, конечно, не было сказано, однако Дойл получил вполне ясное представление.
— Что меня всерьез беспокоит, — продолжил он, — так это то, как все последние события влияют на ирландцев. — Он увидел, как Орландо слегка вскинул брови в молчаливом вопросе. — Я говорю о самых что ни на есть благонамеренных ирландцах, о землевладельцах вроде сэра Фелима О’Нейла, лорда Магуайра и прочих. Это потомки древних принцев Ирландии, люди, которые после Бегства графов видели, как английское правительство отобрало бóльшую часть их земель и земли их друзей. Но они более или менее примирились с новым режимом. Они заседают в ирландском парламенте. Они сохраняют свое достоинство и отчасти свое древнее положение. Я разговаривал с некоторыми из этих людей, Орландо, и наблюдал за ними.
— И что ты думаешь?
— Думаю, они выжидают. Присматриваются и выжидают. Они понимают, что Уэнтуорт весьма силен, а король Карл слаб. Шотландцы с их Ковенантом доказали это. И в равной мере важно то, что они видят, как протестанты теперь ссорятся между собой.
— И какой из этого можно сделать вывод?
— Я вижу два вывода. Первый и менее опасный: они используют слабость короля, чтобы добиться больше уступок для себя. Ведь и в самом деле, они просто в восторге от бунта пресвитерианцев в Шотландии, потому что это заставит короля еще сильнее нуждаться в преданных ему католиках.
— А второй?
— Второй пугает намного сильнее. Они могут спросить себя: а почему бы нам не создать собственный Ковенант, католический? Король настолько слаб, что, скорее всего, не сможет этому помешать.
— Этому может помешать Уэнтуорт.
— Возможно. Но однажды…
— Однажды Уэнтуорта здесь не станет. — Орландо кивнул. — И ты, наверное, гадаешь, нет ли у меня каких-то сведений. — Он улыбнулся. — Как у католика, да. У преданного католика.
— В общем, да.
Именно это Дойл и думал. Он внимательно смотрел на кузена. Орландо вздохнул:
— Что до первого — насчет давления на короля ради того, чтобы он признал преданность католиков… Ну, я постоянно твержу об этом. И найдется немало ирландских джентльменов, которые, я уверен, просто ради покоя и порядка присоединились бы ко мне. И мы можем только порадоваться, если шотландцы вынудят его к этому. Что до последнего — а это ведь было по эффекту чем-то вроде бунта Тирона — могу сказать, положа руку на сердце, что ничего такого не слышал. Такие надежды могут существовать, где-то в будущем, но пока ничего такого не говорят. А если бы я услышал подобные разговоры, не сомневайся, выступил бы против. Старые англичане должны хранить верность королю. Мы для того и созданы.
Его слова отчасти успокоили Дойла, и вскоре после их беседы он отправился спать. Но Орландо еще какое-то время сидел в одиночестве. Он думал обо всем том, что сказал Дойл, и его мысли возвращались в детство и к воспоминаниям о тех древних ирландских вождях, чьи имена звучали как заклинание. Да, они сбежали с острова. Но их магия не умерла. И их наследники были живы — О’Нейлы, О’Моры… Принцы Ирландии. И в процессе этих размышлений на ум Орландо пришла одна мысль.
Интересно, а не знает ли чего-то Бриан О’Бирн?
Это была идея Мэри Уолш: пригласить Уолтера Смита и Энн провести два дня в сентябре в Фингале с ней и Орландо. С ними приехал и малыш Дэниел, а вот Морис — нет.
— Поскольку у него нет лошади, — вежливо пояснил его отец, — ему нужно либо идти пешком, либо остаться в Дублине.
А чтобы сын не скучал, отец нагрузил его работой, которую следовало закончить к их возвращению.
Мэри давно уже хотела устроить этот визит, хотя и не была очень близка со Смитами. Независимо от поведения Энн, Мэри думала, что как-то неестественно для Орландо и его сестры не быть друзьями, и надеялась таким образом помочь им обоим.
Смиты приехали вечером, и семьи поужинали вместе. Мужчины явно были рады обществу друг друга. Мэри знала: Орландо в какой-то мере считает себя ответственным за то, что именно он ввел О’Бирна в жизнь Энн, хотя Мэри и твердила ему:
— Ты едва ли можешь винить себя в том, что она сделала по собственной воле.
В прошедший год Орландо редко виделся с О’Бирном, несмотря на то что ему чрезвычайно нравилось общество ирландца. Но привязанность Уолтера к Орландо ничуть не стала слабее. И теперь, когда она видела, как мужчины с удовольствием разговаривают и смеются и на рубашке Уолтера остались крошки после ужина, а на кружевной манжете Орландо красуется винное пятно, Мэри испытывала огромное удовольствие.
Но Энн — это совсем другое дело. Орландо тепло приветствовал сестру, и теперь Мэри внимательно наблюдала за Энн, сидевшей рядом с мужем и тихо улыбавшейся. Но она как будто была где-то далеко. Перед ужином Мэри позвала ее в гостиную, и они посидели там вместе, и Энн играла с малышом. Немного погодя Энн спросила, не хочет ли Мэри подержать Дэниела.
И как же это было прекрасно — ощутить на руках тепло крохотной жизни, почувствовать, как младенец прижимается к ней. Мэри взяла маленькую ручку и, как это делала когда-то ее собственная мать, пересчитала пальчики на ней. Глядя на широкое лицо и раскосые глаза, она чувствовала тоску, похожую на боль, и думала: как я была бы рада, если бы у меня был хотя бы такой…
Позже они с мужем у себя в спальне обсуждали прошедший вечер, Мэри спросила Орландо, что он думает о своей сестре и ее муже. Похоже, ответил он, они вполне ладят между собой.
— Тебе так кажется? А ты не заметил, что, когда они сидят рядом, они как будто отстраняются друг от друга?
— Они улыбаются.
— Они отстраняются. За весь вечер они ни разу не прикоснулись друг к другу.
— Я не заметил. — Орландо вздохнул. — Хотя ты наверняка права. Я бы сказал, что это очень трудно — иметь между собой такого вот ребенка, ежедневное напоминание о том, что случилось. Ты думаешь, состояние ребенка еще больше ухудшает дело? Такие дети растут очень медленно, требуют массу внимания… Да, я бы сказал, это лишь к худшему.
— Она любит его до безумия.
— Я говорил об Уолтере. — Орландо посмотрел на жену. — Как думаешь, можно что-нибудь сделать, чтобы снова свести их?
— Супруги частенько мирятся.
— Но Энн следовало бы сделать первый шаг. Это ведь именно она нанесла ему обиду.
— Согласна.
— Ты не могла бы с ней поговорить, Мэри?
— Я недостаточно хорошо ее знаю. И она на десять лет старше меня. Так что это тебе следует с ней поговорить.
— Я не могу. — Орландо покачал головой. — Лоуренс уже пытался. Ты ведь знаешь, она ему просто солгала.
— Но разве ты не должен? При сложившихся обстоятельствах?
Орландо с искренним удивлением глянул на жену:
— Нет, не могу!
Мэри немного помолчала. А потом наклонилась к мужу и поцеловала его:
— Я буду за нее молиться, Орландо.
Видит Бог, она уже достаточно много молилась за саму себя. Может быть, молитва за другого человека будет услышана?
— Молиться мы должны, конечно. — Орландо снова вздохнул. — И мы будем молиться, Мэри.
Утром мужчины отправились навестить священника в Мэлахайде. А женщины остались в доме. Хотя часть ее времени занимал ребенок, Энн все же помогла Мэри и женщинам в большой кухне. Мэри прекрасно видела, как рада Энн оказаться в своем старом доме. И малыш, кажется, тоже был счастлив. Раз-другой в течение этого утра, когда женщины оставались наедине, Мэри чуть было не заговорила об Уолтере, но почему-то каждый раз момент казался ей неподходящим, и она так ничего и не сказала.
Обед прошел отлично. Мужчины пребывали в прекрасном настроении, они были в восторге от встречи со старым священником. Свинина, поданная на стол, имела большой успех. Во время обеда Мэри снова наблюдала за тем, как держатся Энн и ее муж, ища хоть каких-то знаков интимности между ними. Как всегда, они были друг с другом вежливы и дружелюбны, но ей все равно казалось, что между ними стоит невидимая стена, словно этих двоих развели по разные стороны некой границы.
После обеда именно Мэри предложила:
— А давайте прогуляемся к колодцу в Портмарноке?
Орландо глянул на нее с легким недоумением, но Уолтер сразу согласился.
— Энн, пойдем с нами, — предложила Мэри. — А женщины в кухне присмотрят за Дэниелом.
По дороге в Портмарнок Мэри шла рядом с Уолтером, а Орландо с Энн шагали немного впереди. Мэри все гадала, поговорит ли Орландо с сестрой о ее семейной жизни. Скорее всего, нет. Что до нее самой, то она не считала возможным напрямую затронуть эту тему, но могла бросить намек.
— Орландо ходит к святому колодцу, чтобы помолиться, хотя мне об этом не говорит. — Она грустно улыбнулась Уолтеру. — Он молится о ребенке, которого Бог нам так и не даровал. — Мэри вздохнула. — Как думаешь, может, таким образом Господь нас испытывает?
— Пожалуй.
— И если мы пройдем испытание и продолжим молиться, я верю, на наши молитвы обязательно последует ответ. А ты в это веришь?
— В этой жизни? Не знаю.
— А я верю, Уолтер. Искренне. Мы сами можем не видеть результата, но каким-то образом на наши молитвы есть отклик.
— Тогда я буду молиться за тебя, Мэри, — с мягкой улыбкой произнес Уолтер.
— А я буду молиться за тебя, — тихо ответила она. — Ты проявил такое христианское прощение… Я буду молиться, чтобы ты получил все то уважение и счастье, каких заслуживаешь. — И она легко коснулась руки Уолтера.
Он ничего не ответил, а Мэри не решилась сказать больше, но через какое-то время Уолтер пробормотал, скорее обращаясь к самому себе, чем к спутнице:
— А я простил?
Они дошли до колодца. Вокруг было пусто. Солнце затянуло высоким перистым облаком, но слабый ветерок был теплым.
— Колодец Святого Марнока, — сообщил Орландо. — Наш отец часто приходил сюда, чтобы помолиться.
— Здесь само место подталкивает к молитве, — заметил Уолтер.
Они обошли колодец, внимательно рассматривая его. Орландо, заглянув в него, тихо опустился на колени, явно на своем обычном месте, и склонил голову. Энн, возможно не с такой готовностью, встала на колени по другую сторону колодца и замерла в напряженной позе, как скульптуры на гробницах в церкви. Уолтер как будто колебался сначала, а потом отошел немного в сторону, за спину своей жены: то ли не желал стоять с ней рядом, то ли не хотел ее отвлекать. Мэри встала на колени чуть дальше, так чтобы видеть их всех. Она наблюдала и в то же время пыталась от всего сердца молиться за Энн Смит и ее мужа, за то, чтобы они воссоединились. И все стояли так несколько минут, каждый обращаясь к Богу со своей просьбой.
Мэри первой заслышала стук конских копыт. Он доносился с той тропы, по которой пришла сюда их компания. Мэри бросила удивленный взгляд. Потом Энн. И как раз перед тем, как всадник к ним приблизился, Уолтер тоже неохотно прервал молитву, и Орландо одновременно с ним поднял голову, держа в руке четки.
Это оказался Морис. Его лицо разгорелось. Он выглядел взволнованным и, кажется, даже не заметил, что прервал их разговор с Богом, или ему было все равно.
— Я прямо из дому! — закричал он. — Мне сказали, что я найду вас здесь.
— Я не разрешал тебе садиться в седло, — ровным тоном произнес Уолтер.
— Прости, отец! — воскликнул Морис. — Но я знаю, ты простишь, когда услышишь… — Он окинул всех победоносным взглядом. — Уэнтуорта отозвали!
Произведенный его словами эффект был именно таким, какого Морис и ждал.
— Уэнтуорта отозвали?! — Орландо был просто ошеломлен. Потом он повернулся к Уолтеру. — Да, это всем новостям новость!
— Ему приказали вернуться в Англию и спасать короля от проблем. Он, похоже, единственный человек, которому доверяет король Карл. И Уэнтуорт готовится к отплытию. Я услышал это в замке сегодня утром. Весь Дублин уже знает. Ну вот, отец, был ли я прав, когда поспешил сообщить тебе?
— Прав, — кивнул Уолтер.
— И еще есть кое-какие новости, — усмехнулся Морис. — Как раз перед тем, как я уехал, как вы думаете, кого я встретил на улице, если не Бриана О’Бирна?
Мэри увидела, как напряглась Энн. Лицо Уолтера окаменело. Лишь Орландо откликнулся:
— И что, Морис?
— А то, что он снова женится. На какой-то леди из Ульстера. И представьте, из семьи О’Нейл! Она родственница сэра Фелима О’Нейла.
Мэри была само внимание. И видела, как на мгновение Энн поморщилась, а потом наклонилась вперед, как будто ее ударили в живот, но тут же взяла себя в руки и выпрямилась почти с величественным спокойствием. Однако Энн не произнесла ни звука, а от ее лица отлила кровь, и оно внезапно стало смертельно белым и изможденным.
Оба мужчины также заметили это. Первым опомнился Орландо:
— Родственница Фелима О’Нейла? Но он один из самых влиятельных людей в Ульстере.
— Бриан так и сказал.
— Да, отличный брак. — Мэри поняла, что ее муж пытается отвлечь внимание Мориса от Энн, потому что он быстро продолжил: — А Уэнтуорт? Известно, кто займет его место?
— Нет, об этом я ничего не слышал, — ответил Морис. — Мама, ты в порядке? Что-то ты бледная.
— Твоя мать устала, прогулка была долгой, — твердо произнес Уолтер. — И раз уж ты привел нам лошадь, Морис, то можешь теперь отдать ее своей матери, а сам вернуться домой пешком с дядей и тетей.
Морис моментально спешился и передал отцу поводья.
— Да, пойдем с нами, Морис, — произнесла Мэри. — Мы тебя так давно не видели.
И они с Орландо, взяв молодого человека за руки, пошли по тропе в обратную сторону, оставив Уолтера и Энн наедине.
Энн очень медленно приходила в себя. Она отвернулась в сторону, не смея глядеть мужу в глаза.
— Мне бы хотелось проехаться по берегу, — сказала она. — А ты лучше иди с остальными. Я вас догоню.
— Я подожду тебя здесь.
— Я могу и задержаться.
— Я дождусь.
Энн медленно проехала между дюнами, выбралась на открытое песчаное пространство. Там никого не было. Энн повернула на юг, к Бен-Хоуту. Над водой, освещенный бледным солнцем, возвышался маленький островок с треснувшей скалой, похожий на готовый к отплытию корабль. Энн смотрела на него и думала: мне предстоит состариться в одиночестве.
Она поехала дальше. Над мелководьем носились кроншнепы. Несколько раз до Энн доносились крики чаек. Море было спокойным, но на песок набегали маленькие волны. Начинался отлив.
Он оставил меня навсегда. Он оставил меня. Он оставил нашего ребенка. Оставил, не сказав ни слова.
И ее пронзила такая огромная боль, что у Энн не было сил ехать дальше. Она соскользнула с лошади и упала на колени на песке. И так стояла, слыша, как снова и снова плещут маленькие волны, а море медленно отползало все дальше, дальше…
Как это говорил Лоуренс?
Сердце управляет головой — лучше умереть.
Не был ли он в конце концов прав? Да, думала Энн, он был прав. И, ослабев, почти вдвое согнувшись от боли, она смотрела на пустое отползавшее море и слышала, как волны повторяют: «Лучше умереть. Лучше умереть. Лучше умереть».
Много времени прошло, прежде чем Энн медленно встала и поехала обратно к колодцу, где ее ждал Уолтер.
Кромвель
1640 год
Морису никто не говорил, что они задумали насчет младенца. И потому для него все стало полной неожиданностью.
Вскоре после Рождества он проводил мать и малыша Дэниела в Фингал, где они провели три прекрасных дня. Почти все это время Морис был со своим дядей Орландо, а его мать и тетя Мэри занимались ребенком. Но потом, как раз перед тем, как они уже собирались возвращаться в Дублин, его мать вдруг сообщила, что ребенка они оставят здесь.
— Так лучше для Дэниела, — сказала она с улыбкой, хотя Морис видел страх в ее глазах. — Так лучше для всех. — И ничего больше не добавила.
Морису пришлось спросить объяснений у отца.
— Это твой дядя Орландо придумал, — ответил ему Уолтер. — Видишь ли, твоя тетя Мэри очень тяжело переживает то, что у нее нет детей. И он написал мне, спрашивая, нельзя ли привезти к ним Дэниела, а потом я обсудил это с твоей матерью, и мы подумали, что так будет лучше. Малыш принесет радость твоим тете и дяде, и я совершенно уверен, малыш будет там счастлив.
Морису грустно было потерять маленького братика, но он решил, что родители знают лучше.
— А я могу его навещать? — поинтересовался он.
— Конечно можешь, — ответил отец.
Первые месяцы того года прошли быстро. Пришли новости о свадьбе О’Бирна. Морису хотелось туда поехать, и он спросил родителей, не поедут ли они на свадьбу, но ему ответили, что не поедут.
— А могу я поехать, с дядей Орландо? — спросил Морис. — Он ведь наверняка туда соберется.
Но и Орландо не поехал.
Немного времени спустя после того разговора Морис как-то увидел, как его мать сидит в одиночестве, уставясь в пространство, и выглядит очень грустной. Он уже хотел подойти к ней и спросить, что случилось, но его остановил отец. Он взял Мориса за руку и тихо сказал, что ему нужна кое-какая помощь снаружи. Когда Морис заметил, что мама выглядит уж очень печальной, Уолтер сказал:
— Твоей матери просто нужно немножко побыть в одиночестве.
Позже в тот же день Морис увидел, как отец тихо обнял мать за плечи, что делал совсем не часто; и юноше показалось, что в следующие дни и недели мать выглядела куда более радостной.
В марте в Дублине стало шумно, поскольку пришло время созыва парламента. Уэнтуорт вернулся ненадолго, чтобы председательствовать. Король был так им доволен, что даровал ему титул графа Стаффордского. Парламент привел в город важных людей разного рода. Приехали новые англичане-землевладельцы, те, кому были выделены большие земли в Ульстере и Манстере, а также джентльмены-протестанты, которые представляли новые области и должны были гарантировать Уэнтуорту большинство протестантов Ирландской церкви. Но оставалось немало старых англичан-джентльменов и некоторое число ирландских аристократов. Как-то раз, когда Морис шел по улице вместе с отцом, Уолтер Смит показал ему одного из ирландских принцев, самого сэра Фелима О’Нейла. Зная о связи этого человека с О’Бирном, Морис с большим интересом взглянул на аристократа из Ульстера. Но если он ожидал увидеть погруженную в раздумья яркую личность времен Бегства графов, то увидел лишь обычного мужчину хорошо за тридцать, которого вполне мог принять за джентльмена из Фингала, вроде его дяди Орландо. Принц смеялся, говоря о чем-то с двумя такими же мужчинами, пока они не спеша шагали по улице.
— А те двое с ним — это Рори О’Мор и лорд Магуайр, — тихо сообщил отец. — О’Нейл — родня великому Тирону. Далекая родня, конечно, но ходят слухи, что он по уши в долгах. По правде говоря, и двое других тоже немногого стоят. Вряд ли ирландские вожди стали бы ими гордиться.
— Но они занимают важные места в парламенте.
— Они как бы выступают за старую Ирландию и за католицизм. Но они в парламенте также и для того, чтобы ухватить что-нибудь для себя.
— Ну, думаю, большинство членов парламента заседают там по той же причине, — откликнулся Морис.
— Пожалуй. — Его отец улыбнулся. — Хотя в прошлом у них отобрали очень много земель, — продолжил он более серьезно, — а потому вряд ли их стоит винить, если они пытаются защититься и не потерять еще больше.
Цель же Уэнтуорта была весьма проста: заставить ирландский парламент добыть денег и солдат для короля, чтобы воевать с Шотландией. И парламент достаточно быстро уступил.
— Они проголосовали за деньги, чтобы избавиться от Уэнтуорта, — сухо сказал по этому поводу Уолтер Смит.
И в самом деле, к апрелю Уэнтуорт вернулся в Лондон, где собирался английский парламент.
Но англичане вовсе не были в настроении помогать королю Карлу. В течение одиннадцати лет король правил, обходясь без парламента, причем оскорблял парламент сбором незаконных налогов и мелкой тиранией, а к тому же навязал им Церковь, ненавистную большинству его подданных-пуритан. И в последнее десятилетие почти половина населения перебралась в Америку. Так что пришло время расчета. Лидеры парламента состояли в союзе с шотландцами и знали, что сила на их стороне. Смит, как-то раз встретившись с Дойлом, заговорил о ситуации в Лондоне.
— Они наступают королю на пятки, — сказал ему Дойл с мрачной улыбкой.
Король Карл был в бешенстве. И меньше чем через месяц пришла весть: «Он отправил их всех по домам».
Именно в том месяце Морис увидел первые войска, которые согласился собрать ирландский парламент. Морис встретился с Дойлом у входа в Дублинский замок, когда отряд примерно из ста человек промаршировал вверх по холму и вошел в ворота.
— Должно быть, это те люди, которых призвали в Килдэре, — заметил торговец.
Морис обратил внимание на то, что солдаты — это в основном бедные люди, рабочие-католики и прочие в таком же роде. Однако во главе отряда ехал верхом маленький мужчина с грубым лицом, показавшийся Морису иностранцем.
— Это тот полковник, который собирает войско, — пояснил Дойл. — Солдаты могут быть католиками, но офицеры — протестанты. Некоторые, вроде вот этого, просто наемники с континента, парламент заплатил им за то, чтобы они набрали и обучили людей. — Дойл вздохнул. — Вот так и появляются армии, Морис. Это просто бизнес вроде любого другого.
А еще Дойл сообщил, что пока армия будет стоять в Ульстере.
Они с Дойлом направились к собору Христа, и тут Морис увидел старика с девушкой. Пожилой мужчина, которому Дойл очень вежливо поклонился и который ответил ему улыбкой, был маленького роста, едва выше плеча Мориса, но одет очень аккуратно. У него было узкое лицо, белоснежная борода и добрые глаза, самого светлого голубого цвета, какой только приходилось видеть Морису.
— Это Корнелиус ван Лейден, — тихо сообщил Дойл, как только они прошли мимо. — Торговец из Голландии.
Морис знал нескольких голландцев, живших в городе, но этого старика определенно никогда прежде не видел.
— Он только недавно приехал, — пояснил Дойл. — У его сына здесь было дело, но он умер, и старик приехал, чтобы разобраться со всем. Он говорит, ему здесь понравилось и он решил остаться. Я слышал, он только что получил в аренду землю на севере Фингала.
— Он протестант?
— Да. Как почти все голландцы. И у него здесь очень большие связи. Он знаком с лордом Хоутом, и, похоже, старый друг самого Ормонда.
Одна из двух великих ирландских династий, Фицджеральды, в основном придерживалась католической веры, но глава Батлеров, богатый лорд Ормонд, присоединился к протестантской Ирландской церкви.
— Этот голландец — прекрасный старик, — завершил Дойл. — И богатый.
— А девушка? — спросил Морис.
— Его внучка. — Дойл бросил на Мориса быстрый взгляд. — Хорошенькая, тебе не кажется?
Морис оглянулся, чтобы бросить взгляд на девушку. Старик держал ее под руку, медленно шагая по улице. Морис подумал, каково это — прикоснуться к ее руке. Он решил, что девушка немного моложе его самого. Стройная, изящная, с длинными золотистыми волосами, нежной кожей сливочного цвета и с безупречными белыми зубами… Девушка посмотрела на Мориса с некоторым интересом. Выглядела она скромной, но что-то подсказывало, что по натуре она чувственна. Морис продолжал таращиться на нее, пока не почувствовал, как Дойл его подтолкнул.
— Она протестантка, Морис, — тихо сказал Дойл, весело глядя на него. — Ты не можешь на ней жениться.
— Конечно не могу, — ответил Морис.
А сам подумал, увидит ли он ее еще раз.
Лето выдалось унылым. Часто шли дожди. В областях вокруг Дублина урожай был плохим, а в Ульстере, насколько слышал Морис, он вообще погиб. Что же до той девушки, он больше ее не видел. Морис предполагал, что она может быть в Фингале, если только не вернулась вместе с дедом в Нидерланды.
Особой военной активности Морис не замечал. Призыв в армию шел в целом успешно. И уже было собрано более девяти тысяч человек. Но солдаты и их командиры оставались в Ульстере, где их разместили на фермах и в городках.
— Поскольку урожай погиб, там люди очень недовольны тем, что им приходится содержать и кормить такое количество солдат, — сказал ему отец.
Но в конце лета пришли и другие новости. Шотландцы перешли английскую границу. Королевская армия отступила. Вскоре после того торговцы, прибывшие в порт, сообщили:
— Король уступил шотландцам. Они будут по-прежнему держаться своей веры, а король вынужден теперь выплатить им возмещение убытков.
— Они его унизили, — заметил Уолтер Смит. — Он этого не потерпит.
В сентябре Морису было позволено навестить его дядю Орландо и повидать малыша Дэниела. Визит оказался весьма удачным. Морис провел там несколько дней. Дэниел выглядел счастливым. Непонятно, правда, было, помнит ли мальчик свою родную мать, но он безусловно считал теперь своей матерью Мэри Уолш, и было радостно смотреть, как она играет с ним и нянчит его, как собственное дитя. Орландо держался весьма дружелюбно и познакомил Мориса кое с кем из соседей. Однажды утром они отправились к Толботам в Мэлахайд, а заодно заглянули в деревню и на устричные отмели в устье рядом с замком.
Когда они уезжали оттуда, Орландо сказал:
— Мне нужно еще заехать в Свордс. Если хочешь, поехали со мной.
Маленький городок Свордс лежал в четырех милях вглубь суши от деревни Мэлахайд. Прежде там находился монастырь, у дороги, что вела на север, к Ульстеру, и это был богатый район, выставивший двух членов в ирландский парламент.
Пока Орландо встречался там с каким-то торговцем, Морис осматривал все вокруг. На шумной главной улице находился чистый постоялый двор с вывеской «Башмак». В городке имелись также небольшой укрепленный замок, две старые церкви, а во дворе одной из них стояла красивая круглая башня, явно построенная еще во времена викингов. Она величественно поднималась к небу.
Морис уже возвращался обратно по главной улице, когда увидел ту девушку. Она сидела перед мастерской шорника. На этот раз ее волосы были заплетены в косы и спрятаны под чепчик. От этого она казалась чуть старше и намного женственнее. Морис подошел к ней:
— Ты внучка Корнелиуса ван Лейдена?
— Да. Если он тебе нужен, так он там. — Девушка показала на мастерскую.
— Я бы предпочел поговорить с тобой, — дерзко заявил Морис.
Девушка одарила его ледяным взглядом:
— И кто ты такой?
Морис быстро представился, объяснил, кто он, и добавил:
— Я родня торговцу Дойлу, из Дублина.
— А-а… — Лицо девушки посветлело. — Да, мы знаем его.
Морис выведал, что девушку зовут Еленой, что их имение находится всего в нескольких милях к северу отсюда, у побережья, и что она провела там с дедом все лето, но вскоре они вернутся в Дублин.
— Может быть, я увижу тебя там? — предположил Морис.
— Может быть.
В это мгновение вышел ее дед, и Морис представился ему.
— Сын Уолтера Смита? Ну да.
Старый джентльмен был вежлив, но весьма сдержан и сразу дал понять, что у них с внучкой есть дела. Морис ушел, но заметил, что в тот момент, когда дед не мог этого видеть, Елена оглянулась через плечо.
В конце 1640 года Фэйтфул Тайди решил, что с него довольно.
— Как же я буду рад, когда закончу Тринити! — заявил он отцу. — Лишь бы избавиться от этого старого черта!
И в самом деле, он начал даже сомневаться в том, что у доктора Пинчера все в порядке с головой.
В течение ноября стало понятно, что Пинчер пребывает в состоянии подавленного возбуждения. Король Карл, униженный шотландцами и не имевший денег на то, чтобы выплатить им компенсацию, был вынужден снова собрать английский парламент. Но как только парламент собрался, его разъяренные члены стали действовать решительно. Уверенные, что король и его министр задумали католический переворот и что католическая армия, собранная в Ирландии, будет брошена на них, они обвинили во всем получившего недавно титул графа Уэнтуорта.
— Его заперли в Тауэре, в лондонской тюрьме! — ликующе сообщил Пинчер молодому Фэйтфулу.
Парламент нанес сокрушительный удар по королю Карлу и был готов уничтожить его главного советника.
— Отдайте его нам, — заявили парламентарии, — или не получите ни единого пенни.
Кое-кто подозревал, что парламентариям хотелось и самого короля окончательно взять под свою власть.
Поскольку обвинение предстояло доказать при судебном разбирательстве, нужны были доказательства злодеяний Уэнтуорта, и потому посыльные носились туда-сюда между Лондоном и Дублином. Уэнтуорт, пока он был лордом-наместником в Дублине, своим деспотизмом нажил немало врагов, как католиков, так и протестантов, и Пинчер теперь не делал тайны из своей ненависти к нему, тем более что это уже не было опасно. Однажды утром Фэйтфул увидел, как из квартиры старого доктора выходит один из тех людей, что готовили обвинения против Уэнтуорта.
В декабре стало известно о дальнейшем развитии событий. Некоторые из пуритан, заседавших в лондонском парламенте, теперь открыто предлагали упразднить всех епископов и установить в Англии Пресвитерианскую церковь. Когда Пинчер услышал об этом, на его лице отразилось нечто вроде восторженного экстаза.
Но почему же в таком случае сейчас, когда все его враги повержены, доктор Пинчер был одержим идеей, что ему что-то угрожает?
— Надвигаются темные силы, Фэйтфул! — настаивал он. — И мы должны быть готовы к встрече с ними.
Прошло Рождество. В январе и феврале 1641 года в Дублине было вполне спокойно. По мере приближения суда над Уэнтуортом становилось понятно: английский парламент полон решимости уничтожить его любыми законными средствами. Говорили, будто есть некие доказательства того, что Уэнтуорт намеревался направить собранную в Ирландии армию против самого парламента.
— Нет, этот суд ему не пережить! — заявляли его враги.
Но, похоже, все это не удовлетворяло Пинчера. Как-то раз, когда Фэйтфул осмелился заметить, что не видит причин для тревоги, Пинчер вразумил его:
— Ты должен видеть дальше сегодняшнего дня, Фэйтфул Тайди. Уэнтуорт — зло! Но он силен. Когда он исчезнет, государственный корабль останется без капитана. А тогда может случиться что угодно.
— Но если англичане и шотландцы вынудят короля дать им Пресвитерианскую церковь, — начал было Фэйтфул, — то тогда здесь, в Ирландии…
— Смотри не только на Англию! — перебил его доктор. — Смотри дальше Шотландии! Ты должен окинуть взглядом Европу, весь христианский мир, Фэйтфул, если хочешь понять то, что происходит в Ирландии. — И добавил, как обычно: — Силы тьмы собираются.
А в начале декабря доктор начал давать Фэйтфулу самые утомительные поручения. В определенное время — и молодой человек никогда не знал, как именно выбирает это время Пинчер, — Фэйтфул должен был слоняться возле дома какого-нибудь известного католика. Часто это бывал дом иезуита, отца Лоуренса Уолша. Иногда Фэйтфулу было велено выходить рано утром, иногда — после наступления темноты.
Морису никто не говорил, что они задумали насчет младенца. И потому для него все стало полной неожиданностью.
Вскоре после Рождества он проводил мать и малыша Дэниела в Фингал, где они провели три прекрасных дня. Почти все это время Морис был со своим дядей Орландо, а его мать и тетя Мэри занимались ребенком. Но потом, как раз перед тем, как они уже собирались возвращаться в Дублин, его мать вдруг сообщила, что ребенка они оставят здесь.
— Так лучше для Дэниела, — сказала она с улыбкой, хотя Морис видел страх в ее глазах. — Так лучше для всех. — И ничего больше не добавила.
Морису пришлось спросить объяснений у отца.
— Это твой дядя Орландо придумал, — ответил ему Уолтер. — Видишь ли, твоя тетя Мэри очень тяжело переживает то, что у нее нет детей. И он написал мне, спрашивая, нельзя ли привезти к ним Дэниела, а потом я обсудил это с твоей матерью, и мы подумали, что так будет лучше. Малыш принесет радость твоим тете и дяде, и я совершенно уверен, малыш будет там счастлив.
Морису грустно было потерять маленького братика, но он решил, что родители знают лучше.
— А я могу его навещать? — поинтересовался он.
— Конечно можешь, — ответил отец.
Первые месяцы того года прошли быстро. Пришли новости о свадьбе О’Бирна. Морису хотелось туда поехать, и он спросил родителей, не поедут ли они на свадьбу, но ему ответили, что не поедут.
— А могу я поехать, с дядей Орландо? — спросил Морис. — Он ведь наверняка туда соберется.
Но и Орландо не поехал.
Немного времени спустя после того разговора Морис как-то увидел, как его мать сидит в одиночестве, уставясь в пространство, и выглядит очень грустной. Он уже хотел подойти к ней и спросить, что случилось, но его остановил отец. Он взял Мориса за руку и тихо сказал, что ему нужна кое-какая помощь снаружи. Когда Морис заметил, что мама выглядит уж очень печальной, Уолтер сказал:
— Твоей матери просто нужно немножко побыть в одиночестве.
Позже в тот же день Морис увидел, как отец тихо обнял мать за плечи, что делал совсем не часто; и юноше показалось, что в следующие дни и недели мать выглядела куда более радостной.
В марте в Дублине стало шумно, поскольку пришло время созыва парламента. Уэнтуорт вернулся ненадолго, чтобы председательствовать. Король был так им доволен, что даровал ему титул графа Стаффордского. Парламент привел в город важных людей разного рода. Приехали новые англичане-землевладельцы, те, кому были выделены большие земли в Ульстере и Манстере, а также джентльмены-протестанты, которые представляли новые области и должны были гарантировать Уэнтуорту большинство протестантов Ирландской церкви. Но оставалось немало старых англичан-джентльменов и некоторое число ирландских аристократов. Как-то раз, когда Морис шел по улице вместе с отцом, Уолтер Смит показал ему одного из ирландских принцев, самого сэра Фелима О’Нейла. Зная о связи этого человека с О’Бирном, Морис с большим интересом взглянул на аристократа из Ульстера. Но если он ожидал увидеть погруженную в раздумья яркую личность времен Бегства графов, то увидел лишь обычного мужчину хорошо за тридцать, которого вполне мог принять за джентльмена из Фингала, вроде его дяди Орландо. Принц смеялся, говоря о чем-то с двумя такими же мужчинами, пока они не спеша шагали по улице.
— А те двое с ним — это Рори О’Мор и лорд Магуайр, — тихо сообщил отец. — О’Нейл — родня великому Тирону. Далекая родня, конечно, но ходят слухи, что он по уши в долгах. По правде говоря, и двое других тоже немногого стоят. Вряд ли ирландские вожди стали бы ими гордиться.
— Но они занимают важные места в парламенте.
— Они как бы выступают за старую Ирландию и за католицизм. Но они в парламенте также и для того, чтобы ухватить что-нибудь для себя.
— Ну, думаю, большинство членов парламента заседают там по той же причине, — откликнулся Морис.
— Пожалуй. — Его отец улыбнулся. — Хотя в прошлом у них отобрали очень много земель, — продолжил он более серьезно, — а потому вряд ли их стоит винить, если они пытаются защититься и не потерять еще больше.
Цель же Уэнтуорта была весьма проста: заставить ирландский парламент добыть денег и солдат для короля, чтобы воевать с Шотландией. И парламент достаточно быстро уступил.
— Они проголосовали за деньги, чтобы избавиться от Уэнтуорта, — сухо сказал по этому поводу Уолтер Смит.
И в самом деле, к апрелю Уэнтуорт вернулся в Лондон, где собирался английский парламент.
Но англичане вовсе не были в настроении помогать королю Карлу. В течение одиннадцати лет король правил, обходясь без парламента, причем оскорблял парламент сбором незаконных налогов и мелкой тиранией, а к тому же навязал им Церковь, ненавистную большинству его подданных-пуритан. И в последнее десятилетие почти половина населения перебралась в Америку. Так что пришло время расчета. Лидеры парламента состояли в союзе с шотландцами и знали, что сила на их стороне. Смит, как-то раз встретившись с Дойлом, заговорил о ситуации в Лондоне.
— Они наступают королю на пятки, — сказал ему Дойл с мрачной улыбкой.
Король Карл был в бешенстве. И меньше чем через месяц пришла весть: «Он отправил их всех по домам».
Именно в том месяце Морис увидел первые войска, которые согласился собрать ирландский парламент. Морис встретился с Дойлом у входа в Дублинский замок, когда отряд примерно из ста человек промаршировал вверх по холму и вошел в ворота.
— Должно быть, это те люди, которых призвали в Килдэре, — заметил торговец.
Морис обратил внимание на то, что солдаты — это в основном бедные люди, рабочие-католики и прочие в таком же роде. Однако во главе отряда ехал верхом маленький мужчина с грубым лицом, показавшийся Морису иностранцем.
— Это тот полковник, который собирает войско, — пояснил Дойл. — Солдаты могут быть католиками, но офицеры — протестанты. Некоторые, вроде вот этого, просто наемники с континента, парламент заплатил им за то, чтобы они набрали и обучили людей. — Дойл вздохнул. — Вот так и появляются армии, Морис. Это просто бизнес вроде любого другого.
А еще Дойл сообщил, что пока армия будет стоять в Ульстере.
Они с Дойлом направились к собору Христа, и тут Морис увидел старика с девушкой. Пожилой мужчина, которому Дойл очень вежливо поклонился и который ответил ему улыбкой, был маленького роста, едва выше плеча Мориса, но одет очень аккуратно. У него было узкое лицо, белоснежная борода и добрые глаза, самого светлого голубого цвета, какой только приходилось видеть Морису.
— Это Корнелиус ван Лейден, — тихо сообщил Дойл, как только они прошли мимо. — Торговец из Голландии.
Морис знал нескольких голландцев, живших в городе, но этого старика определенно никогда прежде не видел.
— Он только недавно приехал, — пояснил Дойл. — У его сына здесь было дело, но он умер, и старик приехал, чтобы разобраться со всем. Он говорит, ему здесь понравилось и он решил остаться. Я слышал, он только что получил в аренду землю на севере Фингала.
— Он протестант?
— Да. Как почти все голландцы. И у него здесь очень большие связи. Он знаком с лордом Хоутом, и, похоже, старый друг самого Ормонда.
Одна из двух великих ирландских династий, Фицджеральды, в основном придерживалась католической веры, но глава Батлеров, богатый лорд Ормонд, присоединился к протестантской Ирландской церкви.
— Этот голландец — прекрасный старик, — завершил Дойл. — И богатый.
— А девушка? — спросил Морис.
— Его внучка. — Дойл бросил на Мориса быстрый взгляд. — Хорошенькая, тебе не кажется?
Морис оглянулся, чтобы бросить взгляд на девушку. Старик держал ее под руку, медленно шагая по улице. Морис подумал, каково это — прикоснуться к ее руке. Он решил, что девушка немного моложе его самого. Стройная, изящная, с длинными золотистыми волосами, нежной кожей сливочного цвета и с безупречными белыми зубами… Девушка посмотрела на Мориса с некоторым интересом. Выглядела она скромной, но что-то подсказывало, что по натуре она чувственна. Морис продолжал таращиться на нее, пока не почувствовал, как Дойл его подтолкнул.
— Она протестантка, Морис, — тихо сказал Дойл, весело глядя на него. — Ты не можешь на ней жениться.
— Конечно не могу, — ответил Морис.
А сам подумал, увидит ли он ее еще раз.
Лето выдалось унылым. Часто шли дожди. В областях вокруг Дублина урожай был плохим, а в Ульстере, насколько слышал Морис, он вообще погиб. Что же до той девушки, он больше ее не видел. Морис предполагал, что она может быть в Фингале, если только не вернулась вместе с дедом в Нидерланды.
Особой военной активности Морис не замечал. Призыв в армию шел в целом успешно. И уже было собрано более девяти тысяч человек. Но солдаты и их командиры оставались в Ульстере, где их разместили на фермах и в городках.
— Поскольку урожай погиб, там люди очень недовольны тем, что им приходится содержать и кормить такое количество солдат, — сказал ему отец.
Но в конце лета пришли и другие новости. Шотландцы перешли английскую границу. Королевская армия отступила. Вскоре после того торговцы, прибывшие в порт, сообщили:
— Король уступил шотландцам. Они будут по-прежнему держаться своей веры, а король вынужден теперь выплатить им возмещение убытков.
— Они его унизили, — заметил Уолтер Смит. — Он этого не потерпит.
В сентябре Морису было позволено навестить его дядю Орландо и повидать малыша Дэниела. Визит оказался весьма удачным. Морис провел там несколько дней. Дэниел выглядел счастливым. Непонятно, правда, было, помнит ли мальчик свою родную мать, но он безусловно считал теперь своей матерью Мэри Уолш, и было радостно смотреть, как она играет с ним и нянчит его, как собственное дитя. Орландо держался весьма дружелюбно и познакомил Мориса кое с кем из соседей. Однажды утром они отправились к Толботам в Мэлахайд, а заодно заглянули в деревню и на устричные отмели в устье рядом с замком.
Когда они уезжали оттуда, Орландо сказал:
— Мне нужно еще заехать в Свордс. Если хочешь, поехали со мной.
Маленький городок Свордс лежал в четырех милях вглубь суши от деревни Мэлахайд. Прежде там находился монастырь, у дороги, что вела на север, к Ульстеру, и это был богатый район, выставивший двух членов в ирландский парламент.
Пока Орландо встречался там с каким-то торговцем, Морис осматривал все вокруг. На шумной главной улице находился чистый постоялый двор с вывеской «Башмак». В городке имелись также небольшой укрепленный замок, две старые церкви, а во дворе одной из них стояла красивая круглая башня, явно построенная еще во времена викингов. Она величественно поднималась к небу.
Морис уже возвращался обратно по главной улице, когда увидел ту девушку. Она сидела перед мастерской шорника. На этот раз ее волосы были заплетены в косы и спрятаны под чепчик. От этого она казалась чуть старше и намного женственнее. Морис подошел к ней:
— Ты внучка Корнелиуса ван Лейдена?
— Да. Если он тебе нужен, так он там. — Девушка показала на мастерскую.
— Я бы предпочел поговорить с тобой, — дерзко заявил Морис.
Девушка одарила его ледяным взглядом:
— И кто ты такой?
Морис быстро представился, объяснил, кто он, и добавил:
— Я родня торговцу Дойлу, из Дублина.
— А-а… — Лицо девушки посветлело. — Да, мы знаем его.
Морис выведал, что девушку зовут Еленой, что их имение находится всего в нескольких милях к северу отсюда, у побережья, и что она провела там с дедом все лето, но вскоре они вернутся в Дублин.
— Может быть, я увижу тебя там? — предположил Морис.
— Может быть.
В это мгновение вышел ее дед, и Морис представился ему.
— Сын Уолтера Смита? Ну да.
Старый джентльмен был вежлив, но весьма сдержан и сразу дал понять, что у них с внучкой есть дела. Морис ушел, но заметил, что в тот момент, когда дед не мог этого видеть, Елена оглянулась через плечо.
В конце 1640 года Фэйтфул Тайди решил, что с него довольно.
— Как же я буду рад, когда закончу Тринити! — заявил он отцу. — Лишь бы избавиться от этого старого черта!
И в самом деле, он начал даже сомневаться в том, что у доктора Пинчера все в порядке с головой.
В течение ноября стало понятно, что Пинчер пребывает в состоянии подавленного возбуждения. Король Карл, униженный шотландцами и не имевший денег на то, чтобы выплатить им компенсацию, был вынужден снова собрать английский парламент. Но как только парламент собрался, его разъяренные члены стали действовать решительно. Уверенные, что король и его министр задумали католический переворот и что католическая армия, собранная в Ирландии, будет брошена на них, они обвинили во всем получившего недавно титул графа Уэнтуорта.
— Его заперли в Тауэре, в лондонской тюрьме! — ликующе сообщил Пинчер молодому Фэйтфулу.
Парламент нанес сокрушительный удар по королю Карлу и был готов уничтожить его главного советника.
— Отдайте его нам, — заявили парламентарии, — или не получите ни единого пенни.
Кое-кто подозревал, что парламентариям хотелось и самого короля окончательно взять под свою власть.
Поскольку обвинение предстояло доказать при судебном разбирательстве, нужны были доказательства злодеяний Уэнтуорта, и потому посыльные носились туда-сюда между Лондоном и Дублином. Уэнтуорт, пока он был лордом-наместником в Дублине, своим деспотизмом нажил немало врагов, как католиков, так и протестантов, и Пинчер теперь не делал тайны из своей ненависти к нему, тем более что это уже не было опасно. Однажды утром Фэйтфул увидел, как из квартиры старого доктора выходит один из тех людей, что готовили обвинения против Уэнтуорта.
В декабре стало известно о дальнейшем развитии событий. Некоторые из пуритан, заседавших в лондонском парламенте, теперь открыто предлагали упразднить всех епископов и установить в Англии Пресвитерианскую церковь. Когда Пинчер услышал об этом, на его лице отразилось нечто вроде восторженного экстаза.
Но почему же в таком случае сейчас, когда все его враги повержены, доктор Пинчер был одержим идеей, что ему что-то угрожает?
— Надвигаются темные силы, Фэйтфул! — настаивал он. — И мы должны быть готовы к встрече с ними.
Прошло Рождество. В январе и феврале 1641 года в Дублине было вполне спокойно. По мере приближения суда над Уэнтуортом становилось понятно: английский парламент полон решимости уничтожить его любыми законными средствами. Говорили, будто есть некие доказательства того, что Уэнтуорт намеревался направить собранную в Ирландии армию против самого парламента.
— Нет, этот суд ему не пережить! — заявляли его враги.
Но, похоже, все это не удовлетворяло Пинчера. Как-то раз, когда Фэйтфул осмелился заметить, что не видит причин для тревоги, Пинчер вразумил его:
— Ты должен видеть дальше сегодняшнего дня, Фэйтфул Тайди. Уэнтуорт — зло! Но он силен. Когда он исчезнет, государственный корабль останется без капитана. А тогда может случиться что угодно.
— Но если англичане и шотландцы вынудят короля дать им Пресвитерианскую церковь, — начал было Фэйтфул, — то тогда здесь, в Ирландии…
— Смотри не только на Англию! — перебил его доктор. — Смотри дальше Шотландии! Ты должен окинуть взглядом Европу, весь христианский мир, Фэйтфул, если хочешь понять то, что происходит в Ирландии. — И добавил, как обычно: — Силы тьмы собираются.
А в начале декабря доктор начал давать Фэйтфулу самые утомительные поручения. В определенное время — и молодой человек никогда не знал, как именно выбирает это время Пинчер, — Фэйтфул должен был слоняться возле дома какого-нибудь известного католика. Часто это бывал дом иезуита, отца Лоуренса Уолша. Иногда Фэйтфулу было велено выходить рано утром, иногда — после наступления темноты.
— Но я постоянно мерзну, — жаловался Фэйтфул отцу.
Например, если к иезуиту кто-нибудь приходил, Фэйтфул должен был это отмечать и стараться выяснить имя гостя. Если отец Лоуренс куда-то отправлялся, Фэйтфул должен был следовать за ним, доложить доктору, куда именно тот пошел и, если возможно, с кем виделся. Правда, случалось, что доктор не беспокоил Фэйтфула неделю-другую.
— Ему, похоже, в радость посылать за мной, — жаловался Фэйтфул. — А когда я докладываю ему о том, что видел, он всегда говорит, что я тружусь во славу Господа.
— Ты все равно должен это делать, — ответил его отец.
Год 1641-й шел дальше, а Пинчер как будто и не собирался дать Фэйтфулу передохнуть.
— Говорю же вам, — твердил Фэйтфул своим родителям, — старый дурак просто сходит с ума!
Сразу после Пасхи в доме Орландо и Мэри Уолш случилось нечто прекрасное. В течение прошедшего года Орландо был постоянно занят работой, и хотя он внимательно следил за политическими событиями, участия в них не принимал. Но зато в его домашней жизни произошли великие перемены.
Поначалу присутствие в их доме малыша Дэниела казалось Орландо полным нарушением привычного хода вещей. Конечно, он не сомневался в том, что они с Мэри поступили правильно, предложив Смитам отдать им малыша, ведь там ребенок причинял только беспокойство. Но все равно малышу требовалось уделять много внимания, и Орландо иногда втайне думал, что эта затея была ошибкой. Однако по мере того, как шло время, его мысли изменились.
И все дело было в переменах, произошедших в Мэри. По мере того как шли месяцы и Мэри привыкала к материнским обязанностям, она, без сомнения, незаметно менялась. Ее лицо как будто смягчилось. Когда Орландо наблюдал за ней и ребенком, ему казалось, что жена буквально сияет. Она стала более спокойной, чаще смеялась. На их дом опустилось облако тепла и мягкости. На Рождество Мэри призналась мужу:
— Странно, но я буквально чувствую, что этот малыш — мой собственный.
— Я тоже, — с улыбкой ответил Орландо, обнимая жену.
И даже если это было не совсем правдой, его любовь к Мэри была столь велика, что он, почувствовав волну радости, охватившей ее при этих его словах, и сам поверил. Они теперь были маленькой счастливой семьей — маленькой, но полной. Орландо даже перестал ходить к святому колодцу в Портмарноке.
Близилась Пасха, начался уже Великий пост. Для Орландо сорок дней поста всегда были особенным временем. Он продолжал, как обычно, заниматься делами в имении и Дублине, но дома старался создавать пространство, куда события в Дублине и Лондоне по возможности не проникали бы. Орландо желал, чтобы так было и весь год. Однако он всегда считал, что сорок дней поста, великое чудо сорока дней, проведенных Христом в пустыне, давали возможность восстановить духовные стены его дома там, где они были нарушены, гарантировать то, что они и дальше будут, как им и следовало быть, надежной границей, отделяющей тихий центр от бушующего мира. И Мэри с ним соглашалась. Поэтому, как и в предыдущие годы, мясо и рыба, яйца и сыр, молоко и вино были изгнаны с их стола и оставлено лишь то, что дозволяла Церковь, хотя малыш Дэниел, конечно же, питался как обычно. Но, кроме этой обычной диеты, Орландо и Мэри решили пойти дальше и воздержаться от супружеских отношений. И сорок ночей они, лежа в одной постели, не позволяли себе ничего плотского. А потом этот почти шестинедельный телесный пост обернулся для них обоих необычайной новой нежностью.
Настала Страстная неделя. В Вербное воскресенье Орландо, подчинившись внезапному порыву, отправился к святому колодцу в Портмарноке. И там он ощутил такую огромную любовь к своей жене и к своему дому, что не стал ни о чем просить, а лишь благодарил Господа за благословенного малыша Дэниела и за счастье Мэри.
Оставшуюся неделю, темные и удивительные дни Страстной пятницы и Пасхальной субботы, они с Мэри посвятили тихому посту и молитве. А потом поехали в замок Мэлахайд, чтобы зажечь пасхальную свечу и присутствовать на службе и, конечно, на пасхальной мессе.
Оба очень устали в ту ночь, Мэри в особенности. Но в пасхальный понедельник пост закончился, и они поздно поужинали и вернулись в свою спальню. И тогда, обняв жену с огромной любовью и нежностью, Орландо вдруг почувствовал, что произошло нечто необычайное.
Бриан О’Бирн заметил отца Лоуренса Уолша и заколебался. Встречаться с иезуитом ему было неловко.
Хотя было еще лето, моросил непрерывный дождь. Казалось, он шел уже много недель. Лето 1641 года оказалось еще хуже, чем лето 1640-го. Два года без урожая.
О’Бирн уже несколько месяцев не был в Дублине, но в Ратконан пришло письмо родственника его жены, сэра Фелима О’Нейла. Сэр Фелим сообщал, что желает немедленно видеть Бриана. О’Бирн уже провел с ним целый вечер, а в этот день, немного позже, должен был снова с ним встретиться. А пока он воспользовался свободным временем, чтобы пройтись по рынку и заняться одним небольшим делом. Он всячески избегал дома Смитов. И совершенно не имел желания встречаться с Уолтером, а Энн теперь ушла в далекое прошлое, поскольку Бриана устраивала новая жена. Он с радостью повидал бы молодого Мориса, но это вряд ли возможно.
В том, что касалось братьев Энн, Бриан просто не знал, как все обстоит. Уже пару лет он не видел своего друга Орландо, но слышал, что Орландо с женой усыновили ребенка, которого он сделал Энн, а как они относятся к нему самому, Бриан понятия не имел, да и не хотел выяснять. Однако он отлично знал, что Лоуренс, конечно, весьма не одобряет всю эту историю.
И потому О’Бирн был весьма удивлен, когда отец Лоуренс подошел к нему с улыбкой и воскликнул:
— А вот и тот, кого я хотел увидеть!
О’Бирн мгновенно насторожился. Инстинкты у него работали отлично. К такому дружескому приветствию должны были быть причины. Он вежливо поздоровался с иезуитом и, посмотрев на умное аскетичное лицо, мысленно поинтересовался: «И что ты хотел бы разузнать?»
— Ты ведь встречался с сэром Фелимом, да?
Вопрос. Бриан тут же подумал: «Ты ведь и сам прекрасно это знаешь».
Он позволил отвести себя в сторону, где широкий верхний этаж дома какого-то торговца, нависший над улицей, закрывал их от дождя.
— Интересные времена настали для католиков, О’Бирн, — произнес иезуит.
В мае английский парламент добился своего. Суд над Уэнтуортом на самом деле был настоящей пародией, но короля все же вынудили подписать смертный приговор Уэнтуорту, и ему отрубили голову при огромном скоплении веселившегося народа. Время шло, нового лорда-наместника в Ирландии до сих пор не назначили, но две менее важные фигуры, которых именовали лорд-судья, управляли островом из Дублина. А потом сорвавшийся с цепи английский парламент распустил девять тысяч рекрутов в Ульстере, поскольку те казались им серьезной угрозой. Король Карл теперь почти не имел военных сил в Ирландии.
Поэтому вряд ли стоило удивляться тому, что члены ирландского парламента тоже начали прикидывать, как им поступить, чтобы лишить короля силы.
— Пусть Ирландия станет отдельным королевством, — поговаривали некоторые из старых англичан. — Король Карл, конечно, так и будет королем, но мы не стали бы больше отчитываться перед лондонским парламентом. Ирландией будут править ирландцы.
Под «ирландцами» они, конечно, подразумевали самих себя. И это было привлекательной идеей для преданных джентльменов вроде Орландо Уолша, который мог вполне разумно надеяться, что любое такое правительство закончит тем, что станет католическим. И тогда наконец король наверняка будет вынужден даровать им все свободы и покончить с планами дальнейшей колонизации — в ответ на их поддержку.
О’Бирн и сам не знал, что он чувствовал по этому поводу. Коренная ирландская аристократия вроде сэра Фелима принадлежала, без сомнения, к правящему классу; и он сам, благодаря связям жены, мог иметь от этого выгоду. Но О’Бирн сомневался, будет ли польза мелким ирландским землевладельцам.
Кроме того, могут ли все эти католические надежды к чему-то привести? Католиков проклинали новые английские протестанты в ирландском парламенте, не говоря уже об английских пуританах. Король-то еще мог уступить, но протестанты — никогда.
Встреча накануне вечером была весьма секретным делом. Сразу по приезде в Дублин О’Бирн узнал, как именно родственник жены хочет им воспользоваться.
— Я желаю, чтобы ты кое-куда пошел и потом рассказал мне все, — объяснил он. — Для меня слишком опасно появляться там. Так что будь внимателен и расскажешь, что думаешь.
Учитывая их родство, О’Бирн просто не мог отказаться. И, следуя наставлениям, он отправился в дом одного джентльмена-католика в приходе Святого Оуэна. В течение трех часов туда пришли и другие люди, по одному. Лорд Магуайр. Потом еще три или четыре человека. Потом О’Мор. Разговор шел о масштабных вещах. О’Бирн узнал даже кое-что весьма пугающее. А когда он уходил вместе с остальными, с него взяли клятву никогда не рассказывать того, что он слышал.
И потому теперь Бриан ответил иезуиту уклончиво:
— Интересные времена? Ну, пожалуй.
— И взгляды сэра Фелима должны быть интересны, — тихо продолжил иезуит.
— Он очень хороший человек. Никаких сомнений, — искренне произнес О’Бирн. — Его родство с моей женой весьма отдаленное, ты знаешь, но он делает нам много добра.
И минуту или две он надоедал отцу Лоуренсу историями о прекрасной натуре О’Нейла.
— Ты ведь знаешь, сейчас за нами наблюдает вся Европа, — сказал иезуит, внимательно глядя на О’Бирна.
Отец Лоуренс наверняка знал гораздо больше О’Бирна. И у отца Лоуренса были причины чувствовать удовлетворение. Тем более это касалось не просто вопросов влияния и образования.
По всей Европе в течение нескольких последних десятилетий силы католической Контрреформации добились значительного успеха. Во Франции кальвинисты остались в меньшинстве, и им лишь позволяли существовать, но тихо. Сильная Лютеранская церковь Германии, хотя ей и помогали сочувствующие англичане, датчане и голландцы, была вытеснена из многих областей и спасена от полного уничтожения только протестантской шведской армией. На востоке, в Польше, половина протестантских церквей уже исчезла. В Центральной Европе протестантов выгнали из Австрии, а могущественная коалиция Испании и Германии при поддержке папских сил разгромила большие протестантские коммуны в Богемии и Моравии, вернув эти области к католицизму.
— На континенте также есть добрые ирландцы, которые готовы послужить святому делу, — тихо продолжил отец Лоуренс.
Уже два поколения подряд ирландцы, покинувшие родные берега, вступали в армии католической Европы. Ирландские вожди и принцы стали искусными военачальниками на континенте и заняли высокое положение.
— И возможно, — сказал иезуит, внимательно наблюдая за О’Бирном, — им подвернется случай послужить своей родной земле.
О’Бирн немного помолчал, прежде чем что-то сказать. Он не знал, какую пользу католические силы в Европе могли бы принести Ирландии в настоящее время или о чем могли мечтать ирландские изгнанники. Но отец Лоуренс, конечно, знал. А О’Бирну совсем не хотелось оскорблять иезуита. Но не ему было приводить Лоуренса на встречу с другими, и он поклялся не говорить о том, что слышал накануне вечером… Если они сами захотят, чтобы отец Лоуренс что-то узнал, то расскажут ему в скором времени. И О’Бирн избрал тактику полного неведения.
— Ты так думаешь? — спросил он и в ответ получил сердитый взгляд. Пора было менять тему. — А как дела у Орландо? — поинтересовался он.
И вот тут, к своему огромному изумлению, он узнал, что Мэри Уолш беременна.
— Должно быть, это случилось сразу после Пасхи, — пояснил иезуит. — Они никому не говорили до недавнего времени, даже мне. И если все пойдет хорошо, она, уверен, родит в декабре. — Отец Лоуренс улыбнулся. — После стольких лет! Это воистину дар Божий.
С этим О’Бирн мог только согласиться.
И он гадал, можно ли ему теперь навестить старого друга.
Фэйтфул Тайди увидел, что они расходятся, и отметил время, а потом проследил за иезуитом до его жилища. Когда тот ушел в дом, Фэйтфул тоже смог отправиться восвояси. Он совсем не думал, что случайная встреча на улице иезуита и О’Бирна из Ратконана могла представлять какой-то интерес. Но тем не менее тщательно записал и это для старого Пинчера.
Уолтер Смит был человеком честным, но верил в трезвый расчет. Дело, которое он вел много лет, принесло ему богатство. Когда Энн влюбилась в О’Бирна, Уолтер понял это намного раньше, чем она сама осознала. Что касается правил поведения на людях, то им Уолтер следовал самым тщательным образом. И осенью 1641 года он был полон скромных надежд.
Продолжала ли Энн любить О’Бирна? Возможно. Но он причинил ей огромную боль и разочаровал ее. Она жаждала свободы в горах Уиклоу, но осталась на равнине. О’Бирн мог выглядеть романтической фигурой, но, по оценке Уолтера, был чрезвычайно холоден. И теперь, когда ребенок О’Бирна надежно скрыт от глаз в Фингале, тепло и защита любящей семьи и уютного дома в Дублине могли выглядеть для нее не так уж плохо. Это, да еще чувство вины и благодарность за прощение мужа помогли жене Уолтера вернуться к нему, и теперь, как он предполагал, они были так же счастливы, как многие другие пары их возраста.
И он был весьма доволен Морисом. Его сын превратился в трудолюбивого молодого мужчину. Зеленые глаза Мориса иногда изумительно вспыхивали, добавляя ему красоты, и он, без сомнения, должен был привлекать женщин. Но парень постоянно занимался делом, и Уолтер уже не на шутку гордился им.
Когда же Уолтер думал о политической ситуации, то верил, что у них есть основания для осторожного оптимизма. В Дублине было тихо. В августе парламент отправился на каникулы, и Фелим О’Нейл и его друзья разъехались по своим имениям, чтобы спасти то, что осталось от урожая. Король Карл все еще ничего не достиг в переговорах с шотландцами. Видя такую слабость короля, Уолтер предполагал, что Карла могут склонить к тому, чтобы он пошел на некоторые уступки ирландским католикам. Но даже если это и не удастся, Уолтер надеялся на сохранение некоторой привычной терпимости к ним.
Только одно слегка его тревожило. Солдатам, которых летом отправили по домам, так и не заплатили, и время от времени целые их банды появлялись в округе.
— Очень жаль, что правительство не позволило им наняться в какие-нибудь европейские армии, — сказал Уолтер сыну. — По крайней мере, мы бы от них избавились.
Но больше всего с наступлением октября его стали беспокоить запасы на зиму. На той земле, что была у него в Долине Лиффи, удалось спасти часть урожая, и, если верить Орландо, большинство фермеров в Фингале также с этим справились. Но дальше к северу, в Ульстере, ситуация была намного хуже. В Дублине цены на хлеб, которые и так росли с прошлого года, стали еще выше. Богатые люди вроде него самого могли это пережить, но бедное население нуждалось в помощи.
— В годы юности моего деда, до того как протестанты разорили монастыри, — любил повторять он, — это было обязанностью религиозных общин — кормить бедняков в трудные времена.
Сам Уолтер, Дойл и несколько других торговцев уже обсуждали, какие меры можно будет предложить городскому совету, если дела пойдут совсем плохо.
По субботам в Дублине был торговый день. Со всей округи в город катили телеги, нагруженные разнообразными товарами, и поток людей стекался на рыночную площадь, чтобы купить что-нибудь или просто повеселиться. Субботы были веселыми, хлопотливыми днями. И суббота, 23 октября 1641 года, началась так же, как все другие. Почти так же.
Слух начал распространяться рано утром. Морис, отправившийся на рынок, принес его домой.
— У всех городских ворот стоят солдаты, а замок заперт и охраняется. В Ульстере бунт. Говорят, и здесь, в Дублине, тоже раскрыли какой-то заговор. И никто не понимает, что происходит.
Вскоре после этого к ним заглянул Дойл с очередной порцией новостей.
— Прошлым вечером какой-то парень напился на постоялом дворе и начал хвастаться, что они с друзьями утром захватят Дублинский замок. Кто-то сразу поспешил к властям, и поздно ночью того человека схватили и допросили. Поначалу никто не отнесся к нему серьезно, но потом стало известно о пожарах в Ульстере. Мы до сих пор ждем вестей оттуда. В Дублинском замке все бурлит. В городе облавы. Судя по всему, это католический заговор, — добавил Дойл, покосившись на Уолтера. — Хотя, похоже, плохо организованный.
— Я ничего об этом не знаю, — абсолютно искренне ответил Уолтер.
— Я и не думал, что ты знаешь, — любезно откликнулся Дойл и отправился дальше.
Морис тут же снова пошел на рынок, чтобы постараться разузнать больше.
И конечно же, для Уолтера Смита стало немалым сюрпризом, когда полчаса спустя Энн сообщила ему, что пришел какой-то пожилой джентльмен и хочет поговорить с ним наедине. Уолтер вошел в гостиную и увидел сидевшего там старика, которого никогда прежде не встречал. Тот, с трудом поднявшись на ноги, вежливо поклонился и представился:
— Я Корнелиус ван Лейден.
Морис толкался на рынке не меньше часа и лишь тогда услышал кое-что новое. К нему подошел знакомый торговец. И выглядел он встревоженным.
— Они арестовали тридцать человек. И представляешь, один из них — лорд Магуайр!
Глава парламента. Видимо, заговор раскрыли, но если в него были вовлечены столь важные люди, то дело должно было оказаться серьезным. И Морис только было начал расспрашивать торговца дальше, как увидел свою мать. В сопровождении одного из их слуг она спешила к нему.
— Морис, — настойчиво сказала она, — ты должен немедленно вернуться домой!
Никогда прежде не видел Морис свою мать в таком состоянии. Она казалась буквально обезумевшей. До дому было недалеко, но она успела ему рассказать, в чем его обвиняют.
— Скажи мне, что это неправда! — умоляла она.
Как он мог ей объяснить?
— Это правда, — сказал он.
Но, как ни странно, мать словно не услышала его.
— Это меня должен винить твой отец! — воскликнула она, грустно качая головой, но в ее словах не было никакого смысла.
— О да, вы с отцом никогда бы такого не сделали, — с легкой горечью произнес Морис. — Я знаю.
— Ничего ты не знаешь! — огрызнулась Энн и больше не сказала ни слова, пока они не пришли домой.
Отец Мориса пылал гневом. Его глаза сверкали. Но бледно-голубые глаза старого голландца просто смотрели на Мориса, но с такой уверенностью, что Морис почувствовал себя бесконечно виноватым не только перед семьей, но и перед милостивым Господом. И опустил взгляд.
— Ты осмелился ухаживать за внучкой этого джентльмена! — Лицо его отца напряглось от сдерживаемого гнева. — Без нашего ведома! Ты даже словом об этом не обмолвился! Ничего не сказал мне! Или вам, сэр. — Он повернулся к старому Корнелиусу ван Лейдену.
— Это правда, отец.
— И это все, что ты можешь сказать?
— Мне следовало поговорить с тобой.
— Но ты обманул меня, поскольку прекрасно знал, что я тебе скажу! Неужели ты не понимаешь, какое бесчестье навлек на себя и на всех нас? И что гораздо хуже, ты, похоже, не понимаешь тот страшный вред, который причинил этому джентльмену и его семье, не говоря уже о его внучке? Морис, ты что, не видишь порочности своего поведения?
Пусть даже голландец был протестантом, но можно было не сомневаться, Уолтер уже проникся уважением и сочувствием к старому Корнелиусу ван Лейдену и был не только разгневан, но и бесконечно смущен.
— И как давно это продолжается? — резко спросил он сына.
На самом деле это тянулось не так уж долго. Морис несколько раз встречался с Еленой в Дублине прошедшей осенью, но только весной они начали гулять вместе. И даже целовались. Потом зашли немножко дальше. Но еще дальше Морис заходить боялся. Да, в их среде случались браки между католиками и протестантами, но все зависело от семьи. Если бы Елена была дочерью Дойла, чей протестантизм имел весьма прагматичный характер и кому было бы наплевать, к какой Церкви будут принадлежать дети его дочери, то все сложилось бы по-другому. Но семья ван Лейдена была искренна в своей вере, так же как Уолтер Смит и Уолши — в своей. А ведь именно Елена оказалась менее застенчивой, чем Морис, и более готовой к экспериментам. Но бóльшую часть лета она провела в Фингале, так что они редко имели возможность встречаться.
— Мы подружились весной, но летом почти не виделись…
Это действительно было правдой.
— И как далеко у вас зашло дело? — Голос Корнелиуса ван Лейдена прозвучал тихо, но настойчиво.
Морис уставился в пол. Как много известно этому старику? Что именно рассказала ему Елена?
— Не слишком далеко…
Морис осторожно поднял глаза и посмотрел на двух мужчин. Он видел, отец готов был спросить, что это значит, но передумал.
— Подожди снаружи, Морис! — велел Уолтер. — С тобой я поговорю позже.
Как только дверь за сыном закрылась, Уолтер Смит повернулся к Корнелиусу:
— Нет слов, чтобы выразить, как мне стыдно, сэр, что мой сын причинил вред вашей семье.
— Ну, девушка тоже виновата, — просто ответил старик. — Так всегда бывает.
— Вы очень великодушны.
— Вот если бы был ребенок…
— Понимаю. Понимаю. — Уолтер застонал. — Даю вам слово, сэр, он никогда больше и близко к ней не подойдет! И будет помалкивать об этой истории, — многозначительно добавил он.
— Да, так было бы лучше. — Старый голландец вздохнул. — Будь мы одной веры, наш разговор мог бы быть совсем другим.
И это действительно так, подумал Уолтер, ведь если бы девушка была католичкой, она могла бы составить прекрасную партию для его сына. Но тут уж ничего нельзя изменить. И вскоре старый Корнелиус ван Лейден ушел.
Наедине с сыном Уолтер Смит не сдерживался. Он обвинил Мориса в том, что тот совратил девушку. Плохо, даже если бы она просто была из уважаемой семьи, но она еще и протестантка, а от этого все намного хуже.
— Что они о нас подумают?! — кричал Уолтер.
Если бы дело зашло дальше, подчеркнул он, если бы она забеременела, то пришлось бы либо заключать невозможный брак, либо репутация Елены была бы навсегда погублена. Морису повезет, если его не выгонят из дома.
— Ты представь, твоя мать или я… — И тут Уолтер, внезапно вспомнив роман Энн с О’Бирном, замолчал и в отчаянии стиснул руки. — Ты никогда больше с ней не увидишься. Поклянись!
— Клянусь, — неохотно ответил Морис.
Уолтер Смит, наверное, нашел бы и еще что сказать, но как раз в это время снаружи донесся звон большого колокола собора Христа, и не такой, как обычно, а очень громкий, слегка неровный, настойчивый. Должно быть, Тайди повис на канате всем телом. Отец и сын выбежали на улицу.
Мимо спешили люди. Похоже, началась всеобщая паника. Уолтер остановил какого-то подмастерья и спросил, что случилось.
— Война, сэр! — закричал юноша. — Весь Ульстер взбунтовался! И они идут сюда!
Хотя весть о бунте в Ульстере была определенно тревожной и хотя в течение недель это могло разлететься по всей Ирландии, однако в последовавшие затем месяцы Уолтеру Смиту или кому-то из его семьи даже в голову не могло прийти, что наступил один из величайших поворотных моментов в истории Ирландии. А спустя века это изображалось либо как массовый националистический мятеж, бунт католиков против их угнетателей-протестантов, либо как массовая резня невинных протестантов.
Но это не было ни тем ни другим.
22 октября ирландские сквайры в Ульстере начали некие согласованные действия. Поскольку у них не было профессиональных военачальников, лидером был признан Фелим О’Нейл. В конце концов, в его венах текла древняя кровь верховных королей. Цель бунта была весьма скромной. Решив, что ни ирландские, ни английские парламентарии не могут обеспечить безопасность их землям или достаточную свободу католического вероисповедания, сэр Фелим и его друзья задумали нажать на правительство, захватив провинцию и отказываясь сдвинуться с места до тех пор, пока им не дадут некоторые свободы. Но они прекрасно понимали, что, если как-то пострадают шотландские поселенцы в Ульстере, на них из Шотландии двинется могучая армия сторонников Ковенанта, и потому О’Нейл отдал строгий приказ оставить шотландцев в Ульстере в покое.
Но это не помогло. Сэр Фелим О’Нейл не был солдатом. Несколько маленьких внутренних городков впустили его, но крепко защищенные порты Ульстера находились в руках шотландских пресвитерианцев. Сэр Фелим привел своих людей к их стенам, однако на горожан это не произвело особого впечатления, и ни один из портовых городов взять не удалось.
Хуже того, во внутренних районах лорд Фелим не мог справиться ни с жителями, ни с собственными солдатами. И вскоре банды грабителей начали рыскать по стране. Довольно часто им помогали и кое-как собранные отряды О’Нейла. Нападая на фермы протестантов — английских или шотландских, им было все равно, — эти банды грабили их, забирая все подряд, а если люди пытались сопротивляться, то частенько просто их убивали. Понадобилось немного времени для того, чтобы поселенцы-протестанты начали совершать вылазки из укрепленных мест, желая отомстить таким же образом. Это не было организованной массовой резней, но продолжалось день за днем, неделя за неделей, распространяясь далеко за пределы Ульстера. Вокруг воцарялись хаос и смерть. Протестанты гибли сотнями, потом тысячами. Поселенцы, многие из которых лишились даже одежды, начали вскоре пробираться к портам, чтобы сбежать в Англию или добраться на юг в безопасный Дублин, находившийся всего в пятидесяти милях.
А тем временем дублинское правосудие поспешно воззвало к главе могущественного клана Батлер, богатому и властному лорду Ормонду, который, слава Богу, был членом королевской Ирландской церкви, протестантом. Его попросили взять командование над теми силами, которые смогло бы собрать правительство, чтобы справиться со страшной угрозой.
В течение всего ноября в Дублин стекались беженцы. И не приходилось удивляться тому, что многие из них искали укрытия в большом соборе Христа. И еще меньше можно было удивляться тому, что их с готовностью принимала жена церковного служителя.
Жена Тайди никогда в жизни не была так занята. И если кто-нибудь из соборных клириков вдруг замечал несколько детских лиц, выглядывавших из окна какого-нибудь ранее пустуемого строения на огороженной территории собора, или вдруг наталкивался на семейство, разбившее лагерь рядом с древней гробницей, и спрашивал служку:
— Разве это так уж необходимо, Тайди, чтобы все эти люди жили на территории собора?
Тайди лишь отвечал со вздохом:
— Я просто не могу ее остановить, сэр.
А поскольку все жители Дублина были едины в своем гневе на то, что происходило с богобоязненными людьми на севере, и преисполнены христианского милосердия к страдальцам, то и в самом деле приходилось с этим мириться. И потому никто даже не жаловался на солидный счет, который представил служка за колокольный звон в течение нескольких часов, когда впервые пришла весть о бунте.
К тому же в деле оказания помощи Тайди стал главным героем.
И если прежде люди смотрели на доктора Пинчера как на эксцентричного чудака, если Фэйтфул Тайди думал даже, что старик сходит с ума, то теперь никто так не считал. Разве не доктор предупреждал о католической угрозе? Разве не он был уверен, что зреет католический заговор? Он. И теперь доктора считали настоящим пророком.
Доктор Пинчер выплыл в новой роли величественно, как лебедь. Каждый день он являлся в собор Христа, где жена Тайди встречала его как героя и вела посмотреть на вновь прибывших. Его тощая чернильно-черная фигура вышагивала между ними, и он каждому мог поклониться и добрым тоном сказать:
— Держитесь! Я знаю, что такое страдать за веру.
В особенности доктор был доволен в тот день, когда один мрачный шотландский пресвитерианец заявил:
— Мы сами во всем виноваты. Это Божье наказание нам за то, что мы дали Черную Клятву.
В середине ноября доктор снова начал проповедовать в соборе. Число верующих значительно увеличилось за счет беженцев из Ульстера. И снова он начал проповедь со слов, уже звучавших однажды и теперь казавшихся более чем уместными:
— Не мир пришел Я принести, но меч!
Но на этот раз ему не нужно было предостерегать паству насчет католической угрозы. Они и сами уже прекрасно все знали. И поэтому доктор выбрал более вдохновляющую тему. Потому что разве не сказал наш Господь: «Сын человеческий должен страдать»?
Божий меч, напомнил доктор, отделяет избранных от прóклятых.
— Вы соль земли! — восклицал он. — Вы свет мира! — (По собравшимся пробежал благодарный гул.) — И потому радуйтесь, — убеждал их доктор, — радуйтесь своим страданиям!
Католические идолопоклонники могут владеть оружием и искать крови. Но придет время, и меч Господень поразит их.
— Неправедные погибнут, а мы, избранные Богом, будем приведены в Израиль и там построим новый Иерусалим! — Теперь голос доктора набрал силу, и Пингер, невзирая на свой возраст, загремел: — И оттуда никому уже нас не изгнать даже за тысячу лет!
По общему мнению, это была лучшая из слышанных ими проповедей.
В течение этого времени католические отряды сэра Фелима О’Нейла осаждали, без особого успеха, порт Дроэда, расположенный в пятидесяти милях от Дублина выше по побережью. А в Дублине судьи тем временем продолжали допрашивать под присягой любого, кто мог дать хоть какие-то свидетельства на тот счет, кто же стоял за всем заговором. Информаторы появлялись то и дело, вот только трудно было понять, насколько правдивыми были их показания, а что они просто выдумали. В последнюю неделю ноября дублинские власти сумели отправить шестьсот плохо обученных солдат на помощь Дроэде. Однако два дня спустя пришла весть:
— Католические бунтовщики разбили их.
Для дублинских властей пришло время принять более серьезные меры.
Именно при таком положении дел жена Тайди стала свидетельницей одной удивительной встречи. Они с доктором Пинчером шли навестить семью, поселившуюся на Дейм-стрит, когда миссис Тайди заметила идущего им навстречу отца Лоуренса Уолша. Она ожидала, что мужчины сделают вид, будто не заметили друг друга, но после триумфа своей проповеди доктор Пинчер не был расположен избегать кого-либо.
— Я удивлен, священник, что ты вообще смеешь показываться на улице после того, что вы, паписты, натворили! — воскликнул он.
— Я не отвечаю за убийство невинных, — спокойно ответил отец Лоуренс.
Но Пинчер не обратил внимания на его слова.
— О’Нейл и его дружки — предатели! Они заплатят за все своей жизнью! — мрачно возвестил он. — И ты тоже, священник. Ты тоже!
— Однако я слышал, — задумчиво произнес отец Лоуренс, — что сэр Фелим действует при поддержке короля.
Во всем ульстерском бунте ничто не бесило протестантов сильнее, чем это. Отчасти для того, чтобы смутить оппозицию, а отчасти для того, чтобы побудить старых англичан-католиков присоединиться к нему, сэр Фелим действительно заявил, что действует в интересах короля. Он также предъявил некое письменное соглашение в доказательство своих слов. Правда, потом выяснилось, что документ был поддельным. Но мог ли король использовать эту католическую армию против собственного протестантского парламента? Вполне возможно, полагал доктор Пинчер. Он одарил отца Лоуренса взглядом, полным неприкрытой ненависти.
— Не воображай, будто я ничего не знаю, священник! — с горечью произнес он. — По всей Европе паписты годами это готовили. Но вам придется либо обратиться в истинную веру, либо убить всех нас.
Отец Лоуренс бесстрастно посмотрел на него. Но в каком-то смысле Пинчер был отчасти прав. Святая церковь желала восстановить прежний христианский мир. И в течение поколения и дольше храбрые души в Ирландии и многие образованные люди на континенте терпеливо ждали шанса освободиться. За пределами Ирландии это были ирландские солдаты в европейских католических армиях, и огромная сеть священников и бродячих монахов, и внимательно следившие за событиями правители-католики — все ждали случая. И отец Лоуренс помнил с десяток заговоров и планов, строившихся в эти годы, одни были вполне осуществимыми, другие — просто абсурдными. И он знал наверняка, что идея захватить Дублинский замок родилась на континенте. Но по его собственной оценке, ни одна из этих фантазий и ни одно из расплывчатых обещаний помощи из-за моря не могли материализоваться, пока не было настоящей католической армии в самой Ирландии — правильно организованной и имеющей план действий.
Именно поэтому, когда он услышал намеки на то, что задумали сэр Фелим и лорд Магуайр, он проявил серьезный интерес. Поскольку ему в первый раз показалось, что здесь может быть реальный шанс.
Однако, глядя с укором на Пинчера, иезуит никак этого не выдал.
— Удивляюсь тому, что ты говоришь, — вежливо заметил он. — Насколько я понимаю, сэр Фелим О’Нейл, проявляя преданность королю, просит лишь обещать, что у верных короне католиков не станут отбирать земли и что милости, дарованные уже давно, будут соблюдаться. По правде, он захватил Ульстер, чтобы принудить к этому правительство. Но у кого он этому научился? Разве не у твоих друзей из шотландского Ковенанта?
На это доктору Пинчеру возразить было нечего. Все прекрасно знали заявление сэра Фелима: «Это шотландцы научили нас, как действовать!»
И отец Лоуренс не удержался и вежливо спросил:
— Или ты и участников Ковенанта тоже назовешь предателями?
Пинчер в ответ только злобно нахмурился. Но он вовсе не собирался позволять иезуиту взять над ним верх.
— Я узнаю` предателя, когда с ним встречаюсь, священник, и как раз теперь я одного такого вижу. Твой брат, без сомнения, еще один. Вся ваша семья — настоящее осиное гнездо. Но не сомневайся, земля под вами провалится!
Отец Лоуренс отвернулся. Продолжать такой разговор не было смысла.
Когда он ушел, Пинчер посмотрел ему вслед с открытой ненавистью. И неожиданно доктор, почти забывший о жене Тайди, услышал за своей спиной ее голос:
— Я знаю, иезуит — нечестивец, сэр, но мне жаль, что вся их семья — предатели.
Пинчер посмотрел на женщину сверху вниз и понял, что в ее словах нет ни капли иронии.
— В папистах ничего хорошего быть не может, — раздраженно пробормотал он.
Теперь — в любой день. Теперь это могло случиться в любой день. Для Орландо Уолша, ожидавшего рождения ребенка, его дом превратился в личный рай — особо благословенный, отделенный от сердитых звуков внешнего мира, который казался далеким, почти нереальным и вообще не имевшим значения.
Беременность Мэри протекала легко, никаких тревог они не испытывали. Его жена была здорова, и Орландо не сомневался: ребенок тоже родится здоровым. Задумывался ли он хоть раз о том, что его дитя может оказаться похожим на малыша Дэниела? В общем, нет. Орландо был готов с благодарностью принять то, что дарует ему Господь. Но он был уверен: после стольких лет преданного ожидания дар Божий будет безупречным во всех отношениях.
— Если родится девочка, думаю, нам следует назвать ее Донатой, — говорил он Мэри. Доната — Дарованная.
— И Донатом, если будет мальчик, — отвечала жена, и Орландо с готовностью соглашался.
В начале декабря несколько небольших отрядов католиков в поисках еды и фуража явились на протестантские фермы в Фингале. Они требовали провизию, но некоторые фермеры отказались ее дать. Произошли стычки, и несколько человек были ранены. Но в имении Орландо пока было тихо.
На второй день из Свордса к нему приехал человек, с которым Орландо был немного знаком.
— Мы вынуждены защищаться сами, Орландо Уолш, — сказал мужчина. — В Дублине не хотят хоть что-то сделать для нас.
И действительно, в течение всего предыдущего месяца чиновники из Дублинского замка просто не обращали внимания на сквайров из Фингала. Орландо это не удивляло. Он прекрасно знал, как рассуждают в замке.
— Мы католики, так что они на самом деле нам не доверяют, — мягко ответил он. — Все дело в этом.
— И они все равно не могут нас защитить, — заявил человек из Свордса. — Или не хотят. Тот единственный отряд, который правительство к нам прислало, был сразу разбит. Мы ничего больше не ждем, но у нас есть фермы, и их нужно защищать. Именно поэтому ты должен пойти с нами.
Джентльмены из этих мест, как сказал этот человек, собираются встретиться с людьми сэра Фелима. Орландо объяснил, что не может никуда поехать, учитывая состояние его жены, но согласился с тем, что такие переговоры могут иметь смысл.
— Если повезет, то, поскольку большинство из нас католики, Фелим О’Нейл и его солдаты могут согласиться оставить нас в покое, — сказал потом Орландо жене.
На третий день декабря Орландо получил вызов в судебную палату в Дублине. Похоже, к землевладельцам Фингала наконец-то начали проявлять интерес.
— Они нас всех созывают на встречу в Дублине, — сказал он Мэри. — Через пять дней. — И увидел, как на ее лице отразилась тревога. — Нет, я не поеду, если ребенок еще не родится, — пообещал он и заметил облегчение в ее глазах.
Да ему в любом случае совсем не хотелось туда ехать. Орландо не желал участвовать ни в каких военных операциях, если удастся этого избежать.
В полдень четвертого декабря к ним приехал Дойл. И выглядел он мрачным.
— Вы оба должны немедленно перебраться в Дублин, — сказал супругам торговец.
— Мэри не может никуда ехать в ее положении, а я не хочу оставлять поместье в такой неопределенной ситуации, — пояснил Орландо.
Но Дойл покачал головой.
— Ты просто не понимаешь, какие сейчас настроения в Дублине, — заявил он. — Чиновники в замке буквально в панике, а город будоражат люди вроде Пинчера.
А когда Орландо упомянул, что некоторые сквайры из Фингала отправились в Тару на встречу с людьми Фелима О’Нейла, Дойл чуть не взорвался.
— Нет, ты не знаешь! Ты ничего не знаешь, Орландо! Ты вообще меня слышишь? Главное в том, — продолжил он уже чуть более спокойно, — что ты и все вроде тебя теперь под подозрением.
Орландо уже получил письмо от Лоуренса с пересказом его разговора с Пинчером, но до этого момента даже не догадывался, что угрозы старого доктора и разговоры о предательстве могут быть восприняты настолько серьезно.
— Перебирайся в Дублин! — настаивал Дойл. — Докажи свою преданность короне! А иначе тебя будут подозревать.
Орландо рассердило то, что кто-то может всерьез сомневаться в его благонадежности, но все равно не видел возможности уехать прямо сейчас.
— Скажи в суде, — ответил он, — я приеду на встречу в Дублине, если к тому моменту моя жена благополучно разрешится от бремени.
— Я-то им скажу, — кивнул Дойл, — но буду молиться, чтобы дитя успело вовремя появиться на свет.
На следующее утро джентльмен из Свордса приехал снова. Он очень торопился и даже не спешился.
— Все решено! — крикнул он. — Мы присоединяемся к Фелиму О’Нейлу!
— Решили бунтовать?
— Ничего подобного! Это просто заявление. Каждый джентльмен-католик в Ирландии присоединится к союзу и заявит о преданности королю. Восьмого декабря состоится общий съезд в Свордсе, через три дня. Я должен объехать все поместья в этих краях, передать это. Смотри не забудь!
— Но как раз в этот день мы должны быть в Дублине! — возразил Орландо.
— Можешь наплевать на этих проклятых протестантов в Дублине! — нетерпеливо воскликнул человек из Свордса. — Держись со своими!
Но Орландо и ему ответил так же, как Дойлу:
— Я приеду, если моя жена разрешится от бремени.
— А если ребенок действительно успеет родиться? — спросила потом его Мэри.
— Я никуда не поеду, — тихо ответил Орландо.
Ему казалось, что это самый безопасный вариант.
Два дня спустя от Дойла приехал слуга с письмом. Торговец умолял Орландо немедленно ехать в Дублин. Но Орландо не поехал. В ту ночь у Мэри начались роды.
На следующий день, 8 декабря, рано утром, ребенок появился на свет. Он был здоров, и это был мальчик. Назвали его Донатом.
Морис Смит был в восторге, узнав, что его тетя родила. Он ведь уже неделю пытался сообразить, что же ему делать, — с того момента, как получил письмо от Елены.
Письмо передал ему на рынке один из слуг ван Лейдена и попросил дать немедленный ответ, чтобы можно было сразу же отвезти его в поместье голландца в Фингале. Морис до сих пор не получал писем от Елены. И отметил, что, хотя ее английский далеко не совершенен, почерк у девушки твердый и ровный. Письмо было кратким. Елена писала, что дед держит ее в Фингале вот уже два месяца и, хотя сам часто ездит в Дублин, ее брать с собой отказывается. А теперь, когда бунтовщики подходят все ближе, она боится. Как думает Морис, что ей следует делать?
Зайдя в контору писца, где ему ссудили перо и чернила, Морис написал ответ. Он заверял девушку, что ей ничего не грозит. Бунтовщики могут просто потребовать провианта; они могут даже забрать кое-какие ценности. Но хотя они ведут себя безобразно, когда встречаются с некоторыми ненавистными им английскими поселенцами-протестантами, вряд ли станут причинять вред безобидному старому голландцу и его внучке.
Но Морису было понятно, что подлинный смысл письма Елены был другим. Девушка действительно напугана, ей хотелось, чтобы он приехал и успокоил ее, и Морису очень хотелось именно так и поступить. Но разве это возможно? Ухаживание за Еленой изначально было ошибкой. И Морис дал отцу слово больше никогда не встречаться с ней.
Так что же заставило молодого человека добавить в конце письма: «Я приеду так скоро, как только смогу»?
И вот пришло письмо от Орландо с известием о благополучных родах, а также с просьбой к Морису поскорее приехать к дяде, потому что он должен стать крестным отцом малыша, а крещение совершит старый священник из Мэлахайда, и тоже как можно скорее.
Уолтер радовался.
— Это большая честь, Морис! — сказал он сыну. И еще Уолтер увидел в этом определенную пользу. — Когда будешь там, ты должен как следует постараться и убедить своего дядю перебраться в Дублин. Он не явился восьмого декабря, но это можно объяснить рождением Доната. Твой кузен Дойл постарался на этот счет. Но как только ребенка окрестят, твой дядя должен явиться в замок и немедленно подтвердить свою благонадежность. Я ведь тоже попал бы под подозрение как католик, если бы не жил в Дублине. Объясни ему все это, скажи, что я присоединяюсь к просьбе Дойла. Заставь его приехать!
Церемония была недолгой, но чудесной. Состоялась она в доме. Присутствовали Морис, леди из соседнего имения, ставшая крестной матерью, счастливые родители, старый священник из Мэлахайда и маленький Дэниел, который самым чудесным образом молчал во время всего обряда.
Морис остался у дяди еще на день, а вечером, наедине с Орландо, передал ему сообщение отца. Дядя выслушал его внимательно, задумчиво кивнул и поблагодарил, но ничего не сказал.
Утром Морис уехал. Но как только он оказался достаточно далеко от дома, он, вместо того чтобы повернуть коня на юг, к Дублину, поскакал в сторону Свордса. От Свордса он повернул на северо-запад и часом позже уже подъезжал к ферме ван Лейдена с каменными и бревенчатыми строениями.
Здесь ему пришлось остановиться. Он не мог просто подойти к двери, боясь столкнуться со старым дедом, а потому долго ждал, пока не увидел, как в его сторону идет какой-то работник. Сказав мужчине, что он разведчик, посланный из Дублина на поиски бунтовщиков, Морис быстро узнал, что в округе таковых никто не видел, а старый хозяин сейчас в Дублине, хотя его ожидают обратно сегодня днем, а Елена смотрит за домом в его отсутствие. Попросив работника найти ее, Морис медленно поехал к дому. И через мгновение появилась Елена.
Она как будто была рада его видеть. Несмотря на холод, они немного прогулялись, чтобы их разговор никто не услышал. Поначалу Елена казалась немного напряженной, и Морис вполне это понимал, потому что и сам был таким. Но ей, похоже, больше всего хотелось услышать заверения в том, что на ферму не нападут люди Фелима О’Нейла.
— Я говорила дедушке, что нам нужно переехать в Дублин, там безопасно, — жаловалась девушка. — Но он не хочет, чтобы там оказалась я. — Она скривилась. — Это из-за тебя.
Морис снова ей повторил, что бунтовщики не воюют с голландцами.
— Они же не преступники и не звери, — напомнил он Елене. — Обещаю, вам с дедом ничто не грозит!
Никогда прежде не видел он Елену такой испуганной. Но они ведь и встречались всего несколько раз. Морис наслаждался обществом девушки, им было весело друг с другом. И к тому же добавлялось волнение, поскольку их отношения были под запретом. Морис обнаружил, что Елена на удивление чувственна. Но, по правде говоря, ни один из них не испытывал ни настоящей любви, ни даже страсти. Однако теперь, видя страх Елены, Морис испытал внезапный прилив нежности. Обняв девушку, он постарался ее успокоить. Они провели вместе почти час. На прощание они поцеловались, и Морис, хотя и ничего не сказал Елене, всерьез подумал, не могут ли они и в самом деле пожениться. Но как такое могло бы произойти — он не представлял.
Уже был полдень, когда Морис снова въехал в Свордс. Чтобы добраться до Дублина до темноты, ему нужно было поспешить. В сумерках городские ворота закрывали, и что бы он стал объяснять родителям, если бы не смог въехать в город. Но Мориса мучила жажда, и он, проезжая по главной улице и увидев какую-то таверну, не смог устоять и решил выпить маленькую кружку эля. Он не сомневался, на это время у него есть.
В таверне было темновато. Окна в ней были маленькими, а день стоял пасмурный. Большой очаг в дальнем конце зала тоже давал мало света. Узкий стол со скамьями протянулся вдоль одной из стен. Пол усыпан соломой. В таверне сидело всего несколько человек. Хозяин быстро принес Морису эль, и молодой человек пристроился у дальнего конца стола, поближе к огню, и стал не спеша пить. На другом конце стола, в тени, двое мужчин играли в дайс, и на столе между ними лежала небольшая кучка монет. Один из мужчин был маленьким, морщинистым, а второй сидел спиной к Морису. Через несколько минут этот человек грустно засмеялся и подвинул монеты к маленькому.
— Хватит, — сказал он по-ирландски. — Я уже достаточно проиграл для одного дня.
Его голос показался Морису знакомым. Маленький встал, собрал монеты и собрался уходить. Второй обернулся, посмотрел на Мориса и вытаращил глаза.
— Эй, Муириш! — воскликнул он по-английски. — Как ты здесь очутился?
И через мгновение Морис уже сидел рядом со своим другом Брианом О’Бирном.
Они долго разговаривали. Морис рассказал Бриану обо всем: о рождении Доната, чему О’Бирн искренне порадовался, о Елене, — и тут ирландец покачал головой:
— Забудь об этом, Муириш! Твой отец прав. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Сам О’Бирн, как он пояснил, ездил в Ратконан, а теперь возвращался в Дроэду. Он присоединился к Фелиму О’Нейлу с самого начала бунта.
— Я бы в любом случае пошел с ним, Муириш, — сказал он. — Но раз уж еще и моя жена с ним в родстве… — Он пожал плечами. — Это судьба.
О’Бирн заказал еще эля. И пока они пили вместе, Морису казалось, что его старый друг пребывает в несвойственном ему настроении. В какой-то момент О’Бирн посмотрел на него и внезапно заметил:
— Твое место в Ратконане, ты ведь знаешь. Я с самого начала это понял.
— Да, там я чувствую себя как дома, — согласился Морис, хотя и не понял, что заставило О’Бирна это сказать.
Но в любом случае ирландец словно и не слышал его.
— Это твое место, — пробормотал он как будто самому себе, потом посмотрел на огонь и вздохнул. — Может, так оно и будет… — задумчиво добавил он.
И после этого так глубоко ушел в свои мысли, что Морису не хотелось ему мешать.
Глянув в окно, Морис увидел, что дневной свет уже меркнет. Затем он перевел взгляд на красивого ирландского вождя с такими же, как у него самого, зелеными глазами. Свет очага падал на его лицо, придавая Бриану задумчивый и романтический вид. И внезапно Морис, то ли из страха, что опоздает в Дублин и о его встрече с Еленой станет известно, то ли из желания побыть с этим человеком, которого он любил и которым восхищался, воскликнул:
— Я хочу поехать с тобой! Возьми меня в Дроэду!
О’Бирн бросил на него долгий взгляд и медленно улыбнулся, но покачал головой:
— Нет, Муириш, я уже достаточно бед принес вашему дому. И не стану уводить еще и сына Уолтера Смита.
Для Мориса его слова не имели никакого смысла, и он хотел было спросить, что имел в виду Бриан, но тот еще не договорил.
— Скажи мне, Муириш, — спросил он, — тебе нравится игра, риск?
— Не знаю.
— Каждый ирландец любит опасные игры, Муириш, — продолжил О’Бирн. — Это у нас в крови.
Может, все дело было в игре отсветов огня на его лице, но Морису показалось, что его друг стал до странности печальным.
— Этот бунт, Муириш, видишь ли, просто опасная игра. Катание костей.
— Игрокам иногда везет.
— Верно. — О’Бирн рассеянно улыбнулся. — Хотя некоторым везет всегда. Я бросал кости, когда ты пришел, Муириш. Но я проиграл.
— Мне хочется поехать с тобой.
— Мы еще встретимся, Муириш. А пока возвращайся в Дублин. Ты должен уезжать, потому что у меня тут есть еще дела.
И Морис уехал. Он скакал как можно быстрее и добрался до Дублина как раз перед закрытием ворот.
После ухода Мориса О’Бирн еще какое-то время сидел в одиночестве за столом. Если у него и были дела, на то не было похоже. Он просто задумчиво бросал на стол кости.
Наконец О’Бирн встал. Утром он должен отправляться на север, и кто знает, когда он снова поедет этой дорогой? Его весьма тронул рассказ молодого Мориса Смита об Орландо и Мэри. Это было воистину прекрасно — после стольких лет Бог даровал им дитя. О’Бирн слышал о таких случаях, но сам подобных людей не знал. Похоже на библейскую историю: чудо. О’Бирну очень захотелось снова повидаться с другом, пожать ему руку, поздравить. Если бы он выехал прямо сейчас, то добрался бы до поместья Уолшей до темноты.
И вскоре О’Бирн уже скакал на юг, к дому Орландо. На уме у него было много чего, когда он мчался сквозь сгущавшиеся декабрьские сумерки.
И ему даже в голову не могло прийти, что за ним кто-то следует.
Фэйтфул Тайди не слишком обрадовался, когда доктор Пинчер велел ему следовать за священником в Свордс. Хотя Фэйтфул послушно проследил за ним, он ничего не узнал, кроме того, что священник провел вечер в доме одной старой леди. Оказалось, это его мать. И все равно после сбора католиков Фингала в Свордсе, о чем сразу узнали в Дублине, этот город считался почти вражеской территорией. И потому, когда Фэйтфул зашел выпить в таверну, он тихонько забился в угол и держал глаза и уши открытыми.
И его бдительность была вознаграждена, когда он увидел вошедшего в таверну красивого ирландца. Фэйтфул знал, что это О’Бирн из Ратконана. Фэйтфул внимательно наблюдал за ним, видел, как он разговаривает с молодым Морисом Смитом, а потом поехал следом за О’Бирном до самого имения Орландо Уолша. Поскольку уже темнело, Фэйтфул вернулся в гостиницу в Свордсе. Но на следующее утро поспешил в Дублин, чтобы обо всем доложить Пинчеру.
Знаменитый доктор с жадностью выслушал отчет о прошлом вечере.
— И ты видел, как О’Бирн уехал один?
— Он долго разговаривал с Морисом Смитом.
— Да забудь ты об этом мальчишке Смите! — воскликнул Пинчер. — Он пустое место. Неужели не понимаешь? Ключ ко всему — О’Бирн! Он связан с сэром Фелимом О’Нейлом, величайшим предателем из всех предателей! И он поехал прямиком к Орландо Уолшу?
— Никаких сомнений.
— Так, я его поймал! — закричал Пинчер с восторгом, который и не пытался скрыть. — Я могу уничтожить Орландо Уолша!
В течение всего того декабря Орландо Уолш сидел в своем имении с семьей тихо, как мышка.
Было слишком заметно, что зимы стали холоднее, чем во времена его детства, а уж этот год оказался самым холодным из всех, какие только могли припомнить люди.
Близилась середина зимы, с севера неслись завывающие ветры. День и ночь на Фингал сыпался снег, пока не лег слоем больше чем в два фута. А после того начался ураган и все вокруг замерзло. В некоторые дни небо было ясным и снег сверкал. Но если от тепла подтаивала его поверхность, то к вечеру мороз снова превращал каждую каплю воды в лед. С карнизов крыши большого амбара повисли сосульки величиной со взрослого мужчину. К Рождеству Орландо услышал, что реку Лиффи рядом с Дублином сковало льдом.
Вокруг имения Уолша было спокойно. К северу вроде бы продолжались налеты на фермы протестантов. На юге протестанты из Дублинского замка высылали отряды, чтобы сжечь собственность католиков, попавших под подозрение.
— Они просто подталкивают их к бунту, — говорил Орландо жене. — Чтобы доказать, что все католики — предатели.
А тем временем могущественный лорд Ормонд, единственный человек, имевший реальное влияние в правительственном лагере, собирал военные силы, которые обещал привести к Дублину.
Наутро после Рождества тот джентльмен из Свордса опять приехал.
— Мы вооружаемся, Уолш, — сообщил он Орландо. — Наверняка будет сражение. Ты к нам присоединяешься?
— Нет, — ответил Орландо.
— Боишься? — Мужчина ухмыльнулся. — Мы уже однажды разбили их.
— У меня нет желания воевать с Ормондом, — просто ответил Уолш.
Прежде всего великий вельможа мог, скорее всего, собрать силы, с которыми пришлось бы считаться. Но он был и главной надеждой. Могущественный глава клана Батлер мог поклясться поддерживать Протестантскую церковь короля, но при этом был человеком сдержанным, и у него были десятки родственников-католиков.
— Нам следует договариваться с ним, а не сражаться, — сказал Орландо.
— Но все остальные с нами! — заявил человек из Свордса.
Это вовсе не было правдой. Орландо отлично знал, что немало землевладельцев-католиков, включая его соседей Толботов из Мэлахайда, держались в стороне. Другие позволили младшим сыновьям или братьям уйти, но сами благоразумно остались дома. Поэтому Уолш больше ничего не сказал и позволил гонцу уехать.
Несколько часов спустя у его дома появилось около десяти человек. Это были рабочие, но не местные. Орландо не понравилось, как они выглядели, но он был осторожен и держался вежливо. Глава отряда сообщил, что он бродячий монах-францисканец. Орландо не слишком ему поверил, но счел за лучшее не спорить. Убедившись, что перед ними дом настоящих католиков, мужчины держались вполне прилично. Орландо спросил, что у них за дело, и монах ответил, что они производят разведку насчет помещений и фуража, потому что армия О’Нейла пойдет этой дорогой. А вот это уже почти наверняка было ложью. Тем не менее Орландо впустил их в дом и накормил, втайне молясь о том, чтобы им не захотелось остаться на ночлег. Но они, к счастью, решили отправиться дальше. Монах сказал, что они едут на север, за Свордс. Когда они уже уезжали, Орландо услышал, как один из них сказал:
— Как только найдем каких-нибудь протестантов, тут же повесим.
После этого визита все было тихо.
Морис Смит смотрел с моста на Лиффи. Это было потрясающее зрелище. Огромные простыни льда накрыли почти все ее воды. Солнце заставляло лед сверкать. Дети скользили по нему неподалеку от берега, а какой-то предприимчивый парень уже наладил прогулки на санях вверх по течению реки.
Первое января. И по крайней мере протестанты пребывали в праздничном настроении. Накануне Ормонд и его отлично обученные солдаты промаршировали по мосту на ледяную равнину Фингала. Добравшись до Свордса, они встретились с необученным отрядом, собранным местными сквайрами-католиками, и без труда разбили их в короткой стычке. К вечеру того дня Тайди уже звонил в большой колокол собора Христа, возвещая победу, а доктор Пинчер вышел на улицы, крича, что протестанты в Дублине должны понимать, что эта победа — доказательство того, что Бог на их стороне.
Морис совсем недолго простоял на мосту, когда заметил небольшой кортеж, въехавший на мост с северной стороны. Пятеро всадников, одетых основательно, в соответствии с погодой. Они подъехали ближе, и Морис увидел, что их шапки покрылись коркой льда. Видимо, им пришлось долго скакать через снежные равнины. Ему стало интересно, кто это такие. На мосту всадники придержали лошадей и поехали шагом. Когда они проезжали мимо Мориса, он обнаружил, что в середине отряда скачет женщина. Ее лицо было наполовину прикрыто, но оно показалось Морису знакомым. Женщина поймала его взгляд и как будто вздрогнула. Они почти миновали его, когда Морис сообразил, что это Елена.
Но ее деда в отряде не было. В этом Морис был уверен и потому крикнул вслед:
— Елена!
Если бы она проскакала мимо, Морис понял бы, что ему следует держаться подальше. Но она, после короткой паузы, остановила лошадь, и сопровождавшие ее мужчины сделали то же самое. Взволнованный Морис побежал к ней.
А Елена, повернувшись, чтобы посмотреть на него сверху вниз, сдвинула черный шарф, прикрывавший нижнюю часть ее лица. И хотя девушка раскраснелась от холода, ее лицо все равно выглядело странно бледным и вытянувшимся, словно она внезапно стала намного старше.
Елена молча бросила на Мориса ледяной взгляд.
— Так твой дед передумал? — спросил Морис и улыбнулся; Елена продолжала смотреть на него. — Я хочу сказать, отправил тебя в Дублин. — Морис замолчал, ничего не понимая.
— Мой дедушка умер, — наконец сказала Елена; ее голос звучал холодно, как будто девушка говорила с незнакомцем.
— Умер?!
— Да. Умер. К нам явился отряд твоих дружков, — с горечью произнесла она. — И ими командовал священник!
— Священник?
— Священник, монах… — Елена передернула плечами. — Какая разница? Кто-то из ваших нечестивых орденов. Они явились, чтобы украсть что-нибудь. И начали грабить. Забрали даже медальон моей матери. Сорвали прямо с моей шеи. Дед стал протестовать, и они убили его. Прямо у меня на глазах. Мне просто повезло, что они и меня тоже не убили. Или не сделали чего-то похуже.
— Но это ужасно…
Морис почувствовал, как от его лица отлила кровь, и вспомнил совет, который сам же дал Елене, уверяя девушку, что ей ничто не грозит.
— Да. Это ужасно!
Морис слышал боль в голосе Елены, но в ее глазах горели только гнев и презрение. Морис беспомощно смотрел на нее. Перед ним был совсем другой человек. Чувственная девушка, которую он знал, исчезла. Ни следа от нее не осталось. На ее месте появилась молодая женщина, и эта женщина смотрела на него с отвращением.
— Правду говорят люди, — продолжила она с холодной яростью, — вы, католики, не просто нечестивцы. Вы животные! Разрежь паписта — и найдешь дьявола! — Она резко бросила эти слова.
И слова упали между ними, и они были хуже любого проклятия. На мгновение Морис был так потрясен, что даже заговорить смог не сразу.
— Елена! — умоляюще произнес он наконец. — Я в ужасе от того, что случилось…
Но она не позволила ему продолжить.
— Не желаю ничего слышать о твоих чувствах. И впредь даже близко ко мне не подходи, грязный папист! — Она пришпорила лошадь, но, прежде чем умчаться прочь, выкрикнула еще раз: — Папист!
В конце января к их дому подъехал седобородый купец и спросил Орландо Уолша. Купца вежливо провели в холл. А Орландо, пока не очутился в двух футах от него, не понимал, кто перед ним.
— Я приехал попрощаться, — объяснил Лоуренс.
Для иезуита ситуация становилась все хуже и хуже с каждым днем. Политики пребывали в смятении. В Англии король Карл и его парламент дошли до полного разрыва. Король покинул столицу. Парламент вполне успешно сам управлял городом. По другую сторону пролива, в Ирландии, лорд Ормонд продолжал поддерживать военный порядок в областях вокруг Дублина, но что теперь означало ирландское правительство, представляло оно короля, или парламент, или их обоих, никто толком не знал. В самом Дублине протестантские чиновники вели себя так, словно город находился в осаде. Ворота тщательно охранялись. Никаких чужаков не пускали в город без особого разрешения.
— Даже ты теперь не сможешь туда войти, брат, — сказал Лоуренс, — потому что ты католик. — Что до его собственного положения, объяснил он, Пинчер занимается постоянной агитацией в Дублинском замке. — Они могут в любой день арестовать меня. Я десять дней отращивал бороду и сбежал из города, переодевшись.
— Мы можем тебя спрятать, — сразу же предложил Орландо, но Лоуренс покачал головой:
— Нет, брат. Ты и твоя семья окажетесь из-за меня в большой опасности. Да и в любом случае меня уже ждет судно в Клонтарфе. Я уезжаю за границу.
— Что, навсегда?
— Не совсем. — Лоуренс немного помолчал. — Сэр Фелим — хороший человек, Орландо. Но он не военный, он не тот командир, в котором мы сейчас нуждаемся, и сам мог бы это понять. Но есть другой О’Нейл, который мог бы справиться с делом, если бы приехал.
— Ты говоришь об Оуэне Роэ О’Нейле?
— Да.
Из всех принцев Ирландии, поднявшихся до командующих большими католическими армиями на континенте, никто не был более известен, чем этот потомок древних верховных королей. Племянник самого графа Тирона, он, как твердили слухи, был посвящен в планы захвата Дублинского замка прошлой осенью. Но человек, живущий по-царски в качестве европейского генерала, все-таки нуждался в некоторых побудительных мотивах, чтобы рискнуть своей жизнью и состоянием и принять участие в бунте, пусть даже ради священной земли его отцов. Но если бы он решил приехать, то уж никто — ни его родственник сэр Фелим, ни кто-то другой из католиков — не стал бы сомневаться в том, чтобы передать ему командование.
— Ты думаешь, он приедет?
— Я собираюсь добавить свой голос к тем, кто уже умоляет его прибыть без промедления. И если мне это удастся, я вернусь вместе с ним. — Лоуренс улыбнулся. — А пока, если ты дашь мне стакан вина, я поздороваюсь с твоей женой и благословлю твоего сына, а потом отправлюсь дальше.
Провожая взглядом уезжавшего брата, Орландо почувствовал прилив бесконечной любви к Лоуренсу. Да, Лоуренс мог быть суровым и несгибаемым, но он всегда и все делал только ради блага. Он был преданным слугой истинной веры. Никто бы в том не усомнился. И возникни такая необходимость, Лоуренс умер бы за свои убеждения.
Прошло две недели. Погода немного улучшилась, стало теплее. Снег таял, и после нескольких солнечных дней Орландо увидел на прогалинах подснежники и даже один-два крокуса перед домом. Приходили вести о военных стычках в разных местах, но в Фингале теперь было спокойно. Лорд Ормонд знал свое дело. Несколько местных сквайров, взявшихся за оружие, бежали из страны, другие сдались лично ему и были отправлены в Дублин. Орландо слышал, что одним из них был тот самый джентльмен из Свордса, который несколько раз приезжал к нему. Но самого Орландо пока никто не беспокоил, и он уже начал надеяться, что его не тронут.
Как-то ранним утром, когда Мэри и малыш еще спали, а Орландо тихо играл с Дэниелом, приехал Дойл. Большое, грузное тело кузена заполнило весь дверной проем, когда он входил в дом. Дойл быстрым шагом пересек холл, нетерпеливо сбросив плащ на скамью, и заявил, что у него срочные новости.
— Завтра они собираются вынести приговор тебе. Я узнал от Тайди, служки, а он, конечно, все узнает от Пинчера. Тебя собираются объявить вне закона.
— Вне закона?!
Это был средневековый английский приговор, причем самый отвратительный из всех. Человек, объявленный вне закона, не имел прав на защиту. Его можно было ограбить или убить совершенно безнаказанно. Изгнанник мог лишь бежать, спасая свою жизнь, или отдаться на милость властей. Таким способом древнее государство вынуждало своих врагов уничтожать самих себя.
— Ты не единственный. Половина джентльменов, причастных к бунту, также приговорены. Некоторые уже бежали из страны, как ты знаешь. А их поместья, конечно, будут отобраны. Ты должен спасти то ценное, что сможешь.
— Но я никогда не вмешивался в бунт! — возразил Орландо.
— Знаю. Но твой брат — иезуит, и он исчез. А ты католик. Ты не переехал в Дублин… — Дойл в ярости встряхнул головой. — Я за тебя заступался и думал, что убедил их в твоей невиновности. Но я недооценил Пинчера. У этого человека везде свои шпионы. И говорят, ты встречался с О’Бирном, а он был в самой гуще бунта, и это как раз в то время, когда тебе следовало быть в Дублине. У Пинчера был шпион в Свордсе, и он проследил за О’Бирном до твоего дома. Не знаю, кто этот шпион, да это и не важно. Но обо всем было доложено судебным властям, а они желают лишить собственности как можно больше католиков. Чиновникам в замке наплевать сейчас на законность. Им достаточно обвинений Пинчера. — Дойл немного помолчал. — Ты знаешь людей, которые сдались Ормонду?
— Да. — Орландо подумал о джентльмене из Свордса.
— Ну вот, — продолжил Дойл, — когда Ормонд отослал их в Дублин, знаешь, что сделали судьи? Одного из них отправили на дыбу. — Он снова в отвращении покачал головой при мысли об этой жестокой пытке. — Они жаждут крови.
— Но если они отберут землю, мы просто погибнем! — в ужасе вскричал Орландо. — И что мне делать?
— Если ты сбежишь из страны или отправишься к бунтовщикам, то заявишь о своей виновности. Если останешься здесь, тебя арестуют. Я попытаюсь убедить чиновников посмотреть на все иначе. И конечно, мы позаботимся о Мэри и детях, но пока, думаю, тебе лучше спрятаться. — Дойл задумчиво посмотрел на Орландо. — Ты можешь найти такое место?
Вдали все еще вился дым, когда в тот мягкий мартовский день пришли солдаты, несколько сот.
Держа на руках младенца, Мэри Уолш ждала их у двери своего дома, рядом стоял маленький Дэниел. К ним подскакала группа офицеров.
Мэри знала, что они должны появиться, и после долгого разговора с Орландо в его укрытии она тщательно подготовилась. Солдаты представляли собой пугающее зрелище, и Мэри, пожалуй, еще труднее было бы скрыть свой страх, если бы в центре офицерской кавалькады она не увидела фигуру, которую и надеялась увидеть.
Джеймс Батлер, двенадцатый граф Ормонд, был хорошо сложенным мужчиной с широким умным лицом. Хотя ему было всего тридцать два года, он вырос в таком богатстве и с таким положением в обществе, что явно с легкостью командовал людьми. Спешившись, он подошел к Мэри и вежливо спросил, где ее муж.
— Его нет дома, лорд Ормонд, — так же вежливо ответила Мэри.
Взгляд графа замер на лице Мэри.
— Тебе известно, что мы должны его арестовать?
— Я слышала об этом, милорд, но не понимаю почему, ведь он всегда был предан королю. Возможно, — сухо добавила она, — судебным властям в Дублине известно что-то такое, чего не знаю я.
Хотя граф Ормонд ничего не ответил, но Мэри заметила, как на его лице мелькнуло выражение аристократического презрения, сказавшего ей, что именно граф на самом деле думает о дублинских властях.
— Мне бы хотелось войти в дом, — тихо произнес он.
Следом за графом в дом вошли два офицера и полдюжины солдат. Офицеры и солдаты обыскали дом от чердака до подвала. И снаружи, не сомневалась Мэри, солдаты рыскали по фермерским строениям в поисках Орландо. Пока продолжались поиски, сам лорд Ормонд оставался в большом холле у входа, где Мэри любезно предложила ему вина, и лорд не отказался. Пока они ждали, Мэри, зная, что должна воспользоваться этим временем, попробовала зайти немного дальше:
— Скажите мне, милорд… Мы все еще видим вдали дым, и он поднимается уже несколько дней. Похоже, судьи отдали приказ уничтожить фермы католиков? Сжечь все, что выращено? Но если это так, как будет кормиться Дублин и ваше собственное войско?
Это было еще одним примером бесконечной глупости людей из Дублинского замка — отдать приказ о бессмысленном разрушении. Они хотели заодно уничтожить еще и местных рыбаков.
— Да, ты права, — ответил лорд, не глядя на Мэри. — Я убеждал их прекратить все это. И надеюсь, к завтрашнему дню дым исчезнет.
— Но это очень печально, — заметила Мэри. — Нас собираются уничтожить без какой-либо вины. Сколько еще честных старых англичан должны вот так пострадать?
— У меня нет желания превращать в предателей сквайров Фингала, — честно ответил ей граф. — Но что бы ни утверждали они сами или сэр Фелим, факт в том, что они подняли бунт против королевского правительства. Именно так думает король, уверяю тебя.
— А я могу вас уверить, что мой муж к ним не присоединялся. Все это время он был здесь, со мной. Клянусь вам! Вы не найдете ни единого бунтовщика, который сказал бы вам, что он был с ними.
— И он не оказывал им помощи?
— Нет, если не считать группы бандитов, которые как-то сюда явились. Мы им дали еды и умоляли уйти поскорее, что они и сделали, слава Богу. Вот и все.
Ормонд заметил, что, на его взгляд, это преступлением не является.
— А теперь твой муж отправился к бунтовщикам?
— Нет.
— Сбежал за море?
Это был опасный вопрос. Если бы они подумали, что Орландо так поступил, власти могли перестать искать Орландо здесь, но это также означало бы его виновность.
— Нет, милорд, за море он не убегал.
— Мы найдем его здесь?
— Не думаю.
— Тогда где он? — тихо спросил Ормонд.
Вот оно. Настал момент, которого так страшилась Мэри. Но они с мужем заранее договорились о том, что она должна была сказать.
— Милорд, — вежливо начала Мэри, — я его жена, а потому просто не скажу вам. — Она задержала дыхание. Брови ее поднялись. — Если только, — чуть слышно добавила она, — вы не отправите меня на дыбу.
Мэри наблюдала за Ормондом. Не зашла ли она слишком далеко?
Но слава Богу, он не обратил на нее свой гнев, а смущенно поморщился — это Мэри увидела отчетливо. Они оба замолчали.
Минуту спустя солдаты вернулись, и офицеры доложили:
— Ничего не нашли.
Орландо жестом показал, что они должны подождать его снаружи.
— Дублинские власти желают конфисковать это имение, мадам, — заметил граф, когда они остались наедине. — И они все равно его получат. Однако я вижу, мне здесь явно нужен некоторый гарнизон. Около сотни человек, — холодно уточнил он. — И в имении должны вестись все необходимые работы, чтобы мои люди хорошо питались. Ты меня понимаешь?
— Думаю, да.
— Если твой муж предан королю и его правительству, то он должен быть предан и мне.
— На это, — с чувством произнесла Мэри, — вы вполне можете рассчитывать, милорд.
— Я не могу отменить обвинения, предъявленные твоему мужу. Это не в моих силах. Но если он здесь и будет снабжать моих солдат по моему приказу, его не тронут… пока. Это все, что я могу тебе обещать.
— И я вам благодарна… — Мэри слегка замялась. — И как долго все это может продолжаться?
— Кто знает? — Лорд вздохнул. — Все слишком неопределенно. Я вообще не представляю, от кого буду получать приказы через месяц. Мы просто должны жить сегодняшним днем. — Он бросил на Мэри долгий взгляд. — Найдите своего мужа к завтрашнему дню, мадам.
Мэри кивнула. Лорд коротко поклонился ей и ушел. Она едва успела присесть в реверансе.
Ранним утром на следующий день над морем висел светлый туман, когда Мэри шла к берегу. И поэтому сначала Орландо, смотревший с маленького островка с расколотой скалой, где он прятался последние три недели, не заметил жену.
Но потом, когда лучи восходившего солнца упали на берег, он увидел ее: Мэри махала ему рукой с песчаного пляжа. И он столкнул в воду куррах и заработал веслами, стремясь к жене, и солнце освещало его сзади. Орландо спешил узнать, какие вести она принесла.
Доктор Пинчер таращился на письмо. Он все еще не пришел в себя от изумления.
Апрель 1642 года был не слишком радостным. В Англии раскол между королем Карлом и его парламентом стал так велик, что стоило опасаться гражданской войны. Здесь, в Ирландии, хотя лорд Ормонд хорошо постарался, наводя порядок вокруг Дублина, бунт распространился еще шире. Вожаки старых англичан и ирландских сквайров с древними именами вроде Барри и Маккарти теперь вооружали людей в Манстере и дальше. Даже собственный дядя лорда Ормонда, католик, присоединился к бунтовщикам. И с каждым днем слухи о том, что великий генерал Оуэн Роэ О’Нейл наконец согласился приехать в Ирландию и взять на себя командование католическими силами, становились все тревожнее, все настойчивее.
Но эти проблемы как будто отошли далеко на задний план в мыслях Пинчера, когда он читал и перечитывал полученное письмо.
Прежде всего это письмо извещало о смерти сестры. Пинчер не испытывал печали и был вынужден честно себе в том признаться. За последние сорок пять лет он не получил от нее ни единого доброго слова. И хотя Пинчер верил, что сестра попадет скорее в рай, чем в ад, он все же поймал себя на мысли о том, что райские кущи весьма просторны, так что в будущем они с сестрой могут встречаться не слишком часто.
А остальная часть письма была еще более обнадеживающей.
Пинчер рассматривал почерк: твердый, мужской. Это, думал Пинчер, хороший знак. Стиль не слишком ученый, даже не элегантный, но это был стиль простого набожного джентльмена. К таким выводам Пинчер пришел, когда прочитал письмо в третий раз. В религиозных убеждениях писавшего тоже не могло быть сомнений. Это был глубоко верующий человек.
Его племянник Барнаби Бадж.
Пинчеру польстило, что племянник писал ему в такой уважительной манере, и доктор поневоле гадал, не устранила ли смерть его сестры тот невидимый барьер, который был воздвигнут так давно. Что ж, такое вполне возможно, предположил Пинчер. Может быть, при личном знакомстве племянник мог бы даже полюбить его. В конце концов, Барнаби был его наследником.
Несмотря на свой возраст, доктор Пинчер был готов набраться храбрости и, если понадобится, предпринять вояж за море, чтобы повидать племянника. Но похоже, такой необходимости не было. Потому что в конце письма обнаружилась самая прекрасная из всех новостей. Барнаби надеялся вскоре приехать в Ирландию. И вообще-то, он, может быть, даже остался бы там.
«Вверяясь Божьему провидению, — писал он, — я принял всерьез предложение нашего парламента и вложил в это дело пятьсот фунтов».
Всего месяц назад английский парламент, гадая, как ему финансировать и армию Ормонда в Ирландии, и возможный вооруженный конфликт с королем дома, наткнулся на новую идею получить пользу от Ирландии. Там уже испытали поселенцев и колонии; там уже продавали друзьям правительства земли непокорных ирландских вождей по мизерным ценам, но Акт от 19 марта 1642 года демонстрировал новый уровень английской изобретательности. Это было настоящим вдохновением.
Потому что теперь английский парламент решил положиться на всех добрых протестантов: «Дайте нам денег сегодня, и в должное время получите землю в Ирландии». Это было прямое обещание земли, пусть недоступной прямо сейчас, но которую должны были конфисковать в будущем у тех, кто нынче взбунтовался. Таким способом английские парламентарии надеялись собрать около миллиона фунтов — гигантскую сумму. Рассматривая условия Акта, Пинчер подсчитал, что им понадобится не менее двух с половиной миллионов акров: четыре тысячи квадратных миль, почти четверть всей Ирландии, что было во много раз больше всего того, чем владели те, кто к этому моменту присоединился к бунту.
— Не тревожьтесь, — сказал доктору один из чиновников Дублинского замка, которого Пинчер принялся расспрашивать об этом. — Если они сумеют собрать деньги, мы найдем им бунтовщиков.
При таких условиях пятьсот фунтов стерлингов могли обеспечить Барнаби тысячу акров, настоящее поместье джентльмена. И с помощью дяди он мог пойти даже дальше. Доктор Пинчер был весьма разочарован, когда Орландо Уолшу разрешили остаться на своей земле. Но теперь ему казалось, что на все следует посмотреть иначе, считать это лишь отсрочкой казни. Ормонд не будет вечно нуждаться в Уолше. А к тому времени, когда Уолша выкинут с земли, Барнаби Бадж сможет получить это имение. И разве не мог именно в этом заключаться Божественный план?
И доктор Пинчер принялся гадать, как скоро сможет приехать Барнаби и каким он окажется.
1646 год
Бриан О’Бирн и его жена остановились на пустой улице. В городке Килкенни было тихо. Стоял холодный декабрьский полдень. И О’Бирн не знал, что делать.
За последние пять лет ему пришлось пережить многое. Опасность. Немного радости — жена подарила ему чудесного сына два года назад. Некоторое одиночество, даже моменты сильной подавленности. Но ничто не было таким трудным, как выбор, стоявший перед О’Бирном теперь.
Он посмотрел на жену. В Джейн О’Бирн не было ничего особенного: приятная светловолосая женщина с маленькими аккуратными зубками, которая вполне могла бы быть женой любого землевладельца в любой из четырех провинций. Но она принесла Бриану О’Бирну деньги и кое-какие важные связи и прекрасно это осознавала.
Они провели в Килкенни уже три дня. Завтра Бриан должен был ехать в Манстер. Джейн возвращалась в Ратконан, где пока было безопасно. Три дня были хлопотливыми и радостными, но О’Бирн просто не мог сказать жене, что у него на уме. И он продолжал гадать, как ему затронуть важную тему, когда услышал, как сзади его кто-то окликает. О’Бирн обернулся.
Отцу Лоуренсу было уже слегка за шестьдесят. Его редкие седые волосы были коротко подстрижены. Лицо стало более худым, его покрыли глубокие морщины, но жилистое тело наполняла энергия. Лоуренс приветствовал Джейн и внимательно посмотрел на О’Бирна:
— Похоже, в последний раз мы именно здесь и встречались, в Килкенни.
Четыре года назад. Но казалось, прошла целая вечность. Та встреча была встречей всех заметных католических деятелей Ирландии. О’Бирн приехал с сэром Фелимом. И именно тогда они решили, что восстание начнется в Ульстере, где будет больше шансов на успех, а потом католики по всей Ирландии должны были создать единую дисциплинированную организацию, вроде шотландского Ковенанта. Они избрали Верховный совет — сэр Фелим стал одним из его членов — и создали сеть руководителей в каждом графстве. Они назвали это Католической конфедерацией, а штаб-квартирой выбрали городок Килкенни в Южном Ленстере. И если английское правительство держало за собой Дублин, а шотландские поселенцы — порты в Восточном Ульстере, совет в Килкенни с тех пор контролировал великие дороги Ирландии.
— И я еще раз видел тебя здесь, в Килкенни, — продолжил иезуит, — в день, когда приезжал папский нунций. Но ты не заметил меня в толпе.
25 октября 1645 года. Символический день, который никогда не будет забыт: прибытие папского нунция, архиепископа Ринуччини, личного представителя папы римского в Католической конфедерации в Килкенни. Возрождение католической Ирландии.
Они встречали его как самого` святого отца. О’Бирн прекрасно помнил толпу, выстроившуюся вдоль дороги за городом на много миль. Лучшие ученые этих краев приехали, чтобы встретить архиепископа. Один из них, увенчанный лавровым венком на римский манер, произнес приветствие на латыни. Потом, держа над головой нунция балдахин, они проводили его к дверям церкви Святого Патрика, где ожидали ирландские священнослужители. После службы архиепископа Ринуччини привели в местный замок, где собрался Высший совет Конфедерации. Благодаря сэру Фелиму О’Бирну позволили войти в большой зал, где нунций, восседая на троне, покрытом роскошной красной с золотом тканью, обратился к ним всем на латыни, передавая ободряющее послание от святого отца. Это было прекрасным событием.
И когда О’Бирн оглядывал это большое собрание джентльменов, солдат и священников, его поразила некая мысль. Здесь присутствовали сотни человек, и одни были ирландцами вроде него самого, другие — старыми англичанами вроде Уолшей. Почти все они говорили на обоих языках. И кем бы ни были их предки, эти люди принадлежали Ирландии и их объединяла католическая вера. Более того, многие из них получили образование в великих университетах Франции, Испании и Италии или служили, как Оуэн Роэ О’Нейл, в католических армиях континентальной Европы. И вот они собрались здесь, и папский нунций обращался к ним на той самой латыни, на которой говорил сам святой Патрик. Это была истинная Ирландия, подумал О’Бирн: древний член великой вселенской семьи католического христианства. Именно такой и должна быть священная земля Ирландии.
Хотя они с отцом Лоуренсом никогда не были близкими друзьями, О’Бирн рад был узнать кое-какие новости об Орландо.
— Конечно, я не могу поехать навестить его, — пояснил иезуит. — Дублинские протестанты взяли Фингал под свою полную власть. Но он живет в своем имении. Ему приходится кормить сотню правительственных солдат. Его оставили в покое, так как его защищает лорд Ормонд.
Невзирая на тот факт, что парламент и король, которому он служил, стремились к войне, лорд Ормонд, поскольку обладал авторитетом, как никто другой, был оставлен в Дублине в качестве представителя англичан-протестантов. О’Бирн искренне порадовался тому, что его друг Орландо обзавелся таким могущественным покровителем.
— А Смиты? А молодой Морис?
— Они в Дублине. Их терпят, хотя городской совет уже полностью протестантский. Морис теперь доверенный партнер в отцовском деле. И моя сестра Энн в порядке, — добавил он без дальнейших пояснений.
— Я рад этому, — сказал О’Бирн.
Отец Лоуренс задумчиво посмотрел на него. Потом перевел взгляд на Джейн.
— Итак, Бриан О’Бирн, — тихо спросил он, — могу я узнать, на чьей ты стороне?
Поначалу все было намного проще. Когда он сопровождал сэра Фелима в Килкенни, цели Конфедерации были ясны: заставить короля Карла прекратить преследование католиков в Ирландии. Когда прирожденные ирландские вожди из разных провинций присоединились к ним, они могли и не разделять энтузиазма старых англичан в отношении короля, но держались заодно с роялистами ради силы Конфедерации. В результате Конфедерация приобрела двух отличных генералов с европейским опытом: Оуэна Роэ О’Нейла, ирландского принца, на севере, и Томаса Престона, католика из старых англичан, на юге.
Протестантская оппозиция была далеко не так организованна. Лорд Ормонд, вельможа из старых англичан, протестант, находился в Дублине. На севере генерал Монро возглавлял десять тысяч пылких шотландцев, которые перебрались через пролив, чтобы помочь своим собратьям-пресвитерианцам в Ульстере. В Манстере протестантские силы возглавлял лорд Инчиквин, настоящий ирландский принц, потомок самого Бриана Бору, но он принял протестантскую веру и искренне ненавидел Римскую церковь.
Поначалу Конфедерация действовала неплохо, и лорд Ормонд был рад заключить перемирие. Но тем временем в Англии король Карл, продолжая воевать с парламентом, вроде бы начал побеждать. Даже в Шотландии появились небольшие группы роялистов.
Для О’Бирна то были славные дни. Сэр Фелим благоволил к нему, жена подарила ему ребенка.
Но потом все начало разваливаться. За проливом ковенанторы разгромили шотландских роялистов, а в Англии появились новые генералы Ферфакс и Оливер Кромвель и разбили армию короля. В этом году Карл был вынужден сдаться, и теперь шотландцы держали его в тюрьме. Похоже, дело шло к концу.
Или нет?
— Королей можно использовать, даже брать в плен, — любил повторять сэр Фелим.
И вот король Карл стал пленником, и казалось, торговаться можно больше, чем когда-либо. Шотландцы готовы были вернуть его на трон в том случае, если он даст клятву их пресвитерианскому Ковенанту. Английский парламент был готов к тому же, если король позволит руководить собой. Католическая конфедерация в Ирландии могла бы подписать мирный договор, чтобы Карл использовал армию Ормонда в Англии, да что там, они даже сами готовы были отправиться в Англию, чтобы помочь ему, но только если он вернет ирландским католикам их права. Что до самого Карла, то он не желал угождать никому из них. Он просто тянул время в надежде, что если ему удастся разделить своих врагов, то он и сам сумеет снова взойти на трон.
Но здесь, в Ирландии, возникла проблема другого рода. Конфедерация действовала успешно. Ормонд и Инчиквин были приперты к стенке, а Оуэн Роэ О’Нейл, дерзкий ирландский принц, одержал ошеломительную победу над Монро и его шотландцами в Ульстере.
— Это наш шанс, — говорил О’Бирн жене, — шанс напасть на Дублин и захватить его. А потом мы, возможно, смогли бы выбить протестантов из их крепостей в Ульстере.
Но ничего такого не произошло.
Отчасти проблема была в тщеславии генералов: ирландец О’Нейл и старый англичанин Престон отказывались получать приказы друг от друга. Их даже невозможно было убедить действовать совместно. Но за этим скрывалась более глубокая трещина, в самом сердце Конфедерации. Старые англичане по-прежнему хотели вести переговоры с королем Карлом.
— Лучше он, чем пресвитерианский парламент, — говорили они.
И сэр Фелим соглашался с их мнением.
Но О’Нейл и его ирландские друзья были куда как более радикальны.
— Лучше уничтожить протестантов раз и навсегда, и их короля тоже, и самим править Ирландией! — заявляли они.
Энергичный Оуэн Роэ О’Нейл: ирландец до мозга костей. Бриан О’Бирн знал, где лежат его тайные симпатии. Уже шесть недель назад он планировал оставить сэра Фелима и присоединиться к Оуэну Роэ О’Нейлу.
Но отцу Лоуренсу ответила Джейн О’Бирн:
— Конечно, мы здесь с сэром Фелимом.
О’Бирн промолчал. Отец Лоуренс улыбнулся:
— Вы преданы своей родне. Но есть власть более высокая, чем семья. Я говорю о Святой церкви.
— Не все согласны с папским нунцием, — заметила Джейн.
— Да, он резковат, — согласился отец Лоуренс. — Но к несчастью, он также и прав.
Архиепископу Ринуччини не понадобилось много времени здесь, в Ирландии, чтобы его ясный латинский ум увидел слабость логики в позиции старых англичан.
— Во-первых, — указал он, — король Карл — еретик, которому никто не доверяет. Во-вторых, он никогда и не подумает дать вам то, чего вы хотите.
С самого момента своего образования Конфедерация составляла весьма впечатляющий список требований к королю, и в него входили не только свобода исповедания католической веры и ее законное положение, но и возвращение многих земель, принадлежавших католикам. Конфедераты также хотели, чтобы ирландский парламент стал независимым. А в результате Карл стал бы королем отдельной страны.
— Мы понимаем, что не получим всего, чего хотим, — говорили нунцию представители партии старых англичан.
— Вы не получите вообще ничего, — отвечал он. — Король Карл с удовольствием использовал бы ирландскую армию против своих врагов. Но он не может даровать свободу католикам, потому что его собственный протестантский парламент никогда ему этого не позволит. Все ваши идеи строятся на заблуждении.
Но если английский парламент готов дать им даже меньше, чем король, то что в таком случае им делать, спрашивали нунция.
— Прекращайте связи с Англией, — отвечал он. — У вас нет выбора.
Но кто после этого защитит их от Англии? Ведь английский парламент всегда будет видеть в независимой католической Ирландии угрозу.
— Вы сами можете защититься, — резко говорил нунций. — Но придет и помощь. Из Франции или Испании. Даже из самого Рима.
Но они ведь англичане, старые англичане Ирландии, напоминали ему. Их семьи веками были преданы английской монархии.
— Для нас это слишком трудно.
— Если вы католики, — отвечал на это папский нунций, — то на первом месте для вас должна стоять вера.
И теперь, при поддержке Оуэна Роэ О’Нейла, папский нунций взял верх над Верховным советом. Он даже пригрозил отлучить от Церкви каждого, кто станет возражать его бескомпромиссным взглядам. Старые англичане и умеренные ирландцы вроде сэра Фелима все еще отказывались следовать за ним. Конфедерация раскололась.
— Но чего он хочет в итоге? — резко спросила Джейн. — Мы что, должны выгнать из Ирландии всех протестантов?
— Протестанты в Ирландии очень разные, — заметил иезуит. — Среди них есть люди вроде моего кузена Дойла, не обладающие сильными религиозными чувствами. Возможно, Дойл принял бы католицизм так же легко, как его отец стал протестантом. Есть также колонисты, и некоторые из них убежденные протестанты. Но это деловые люди. Они или усмехнутся и примут все как есть, или продадут все и уедут. Что до чиновников в Дублинском замке, то они весьма крикливы. — Он улыбнулся. — Но на мой взгляд, они чуть что сбегут, как кролики. — Иезуит немного помолчал. — Настоящая проблема в другом месте.
— Ты говоришь об Ульстере?
— Да, именно. Шотландцы. Это уже совсем другое дело. Посмотри на сильный Ковенант, который они создали в Шотландии. Они несгибаемы в своей вере. Они не потерпят какой-нибудь английский молитвенник и точно так же не потерпят католическое правительство. Другие могут поддаться, но пресвитерианцы в Ульстере — никогда.
— То есть мы должны их изгнать?
— Думаю, да.
— И куда они отправятся?
— Возможно, обратно в Шотландию. Или в Америку.
После этого отец Лоуренс ушел. А Джейн О’Бирн повернулась к мужу:
— Когда я думаю обо всем том, чем ты обязан моим родственникам — и о той дружбе и помощи, которую они тебе дали, — я надеюсь, ты не предполагаешь бросить сэра Фелима.
Ее взгляд был суров и даже сердит. Она ничуть не боялась мужа.
О’Бирн промолчал. Раньше он всегда делал с женщинами что хотел. И то, что он нервничал из-за жены, было для него совершенно новым переживанием.
В общем, в последующие недели Бриан О’Бирн не предпринял никаких шагов. Пришло Рождество, наступил январь. Оуэн Роэ О’Нейл все равно встал на зимние квартиры, так что и делать-то было нечего.
Но в феврале, когда О’Бирн был в Ратконане, пришли новые вести.
— Лорд Ормонд передал Дублин под власть английского парламента. А сам покидает Ирландию, — сообщил Бриан жене.
— Но это невозможно! Ормонд — ставленник короля!
— Да, он человек короля. Но он боится, что ему не удержать Дублин. И едет к королю Карлу. Они надеются собрать побольше сил и вернуться. А тем временем члены английского парламента высылают новые отряды, чтобы усилить гарнизон.
Сэр Фелим и старые англичане, похоже, ошиблись в расчетах.
Джейн О’Бирн посмотрела на мужа, и в ее взгляде он заметил непривычную неуверенность.
— И что теперь будет с нами?
Когда доктор Пинчер размышлял о мире в 1647 году от Рождества Христова, он понимал, что лишь Божественное провидение позволило ему прожить так долго, и благодарил за это Господа. Когда Дублин передали под власть английского парламента, доктору исполнилось уже семьдесят пять, и он был одним из самых старых людей в городе. Здоровье у него было хорошим для его возраста. И может быть, думал Пинчер с тайной гордостью, я еще их всех переживу. Он, по крайней мере, был полон решимости дожить до полной победы протестантской веры.
И до того, чтобы увидеть, как устроится в Ирландии его племянник.
Вскоре после начала войны между королем Карлом и его парламентом Барнаби Бадж написал дяде, что он восстал против короля и присоединился к круглоголовым, как прозвали армию парламента за короткую стрижку. Немного позже Барнаби написал дяде, чтобы сообщить о формировании новых сил — образцовой армии, состоящей из благочестивых людей, готовых учиться военной дисциплине и искусству сражений. Командовали ею генералы Ферфакс и Оливер Кромвель, и эта армия вскоре уже сметала все перед собой. Последующие письма рассказывали о военных действиях, и доктор Пинчер испытывал не только подъем духа, но и некоторый страх.
— Я молю Господа о том, чтобы Он благополучно доставил к нам моего племянника, — не раз признавался он жене Тайди, на что та отвечала, стараясь его успокоить:
— О, сэр, я уверена, Господь так и сделает!
В течение всего 1647 года приходили определенно ободряющие вести. Парламент отправил в Дублин закаленные в боях отряды и опытных командиров. Силы Конфедерации в Ленстере и Манстере теперь отступили; а когда Оуэн Роэ О’Нейл сделал попытку подойти к Дублину, его быстро отогнали. В равной мере доктора радовало и то, что протестантские власти города сделали жизнь католиков такой невыносимой, что уже несколько семей известных католиков-торговцев, включая Уолтера Смита, решили уехать. Пинчер случайно встретился на улице со Смитом как раз в день его отъезда и спросил, где он предполагает жить теперь.
— Пока у Орландо Уолша, — ответил Уолтер.
Хотя протестантский отряд, стоявший в имении Уолша, находился теперь под властью дублинского парламента, все же договор, защищавший Орландо, оставался пока в силе.
— По крайней мере, ваши солдаты-протестанты защитят нас, — сухо заметил торговец.
Лишь одно обстоятельство беспокоило доктора Пинчера. Это было нечто такое, чего он никак не мог предвидеть, и это случилось в Англии. Доктор так тревожился, что написал Барнаби, прося все объяснить.
«Эта армия, — так начиналось его письмо, — как будто забыла, что служит правительству…»
В том, что доктор Пинчер был прав, сомнений не было. Пуританская армия, добиваясь побед, становилась все более нетерпимой к джентльменам-пресвитерианцам в английском парламенте, сидевшим там в тепле и уюте и все еще пытавшимся договориться с павшим королем.
— Пусть его судят! — требовали они.
Они ворвались в Лондон и перепугали горожан, а Оливер Кромвель отправил одного из своих самых доверенных молодых офицеров, Джойса, схватить короля и перевезти его в армейскую тюрьму. И если король Карл в тюрьме условно все-таки оставался королем, а парламент — властью, то теперь реальной властью обладала армия.
Но больше всего Пинчера потрясли другие взгляды пуритан.
Если Церковь короля Карла, с ее епископами и ритуалами, выглядела для большинства пуритан ничуть не лучше папизма, все равно можно было поспорить насчет того, что же должно ее заменить. Но одно было предельно ясно: должен сохраняться порядок. Джентльмены в парламенте и солидные лондонские торговцы теперь уже благоволили к английской версии Пресвитерианской церкви. Вместо священнослужителей каждая община могла выбирать старейшин, а они, в свою очередь, могли избрать центральный совет, чья власть была бы уже абсолютной. И все это могло стать Новой национальной церковью.
Но пока они все вместе рисковали жизнью, переворачивая мир вверх дном, военные также обсуждали этот вопрос и пришли к совершенно другим выводам. Они решили, что с них довольно парламентариев. Если они могут сражаться против власти короля — помазанника Божьего, то почему они должны преклонять колени перед парламентом?
— По какому праву, — вопрошали они, — парламент должен нам объяснять, как именно следует почитать Господа? Бог говорит с каждым человеком напрямую.
И раз уж религиозные общины не были папистскими, то они должны быть вправе следовать собственной совести и основывать независимые Церкви в той форме, какая им нравится.
Такие доктрины оказались заразительными. Пинчер обнаружил это однажды утром, встретившись с Фэйтфулом Тайди. Пинчер был слегка разочарован тем, что, покинув Тринити-колледж, молодой человек почти не заглядывал к нему. Но поскольку Фэйтфул служил помощником в капитуле, они время от времени встречались. Парламентарии в Лондоне дали знать, что намерены узаконить Пресвитерианскую церковь и в Ирландии, и Пинчер был рад это слышать. Потому что если этим военным позволят и дальше держаться своего, заметил он в разговоре с Фэйтфулом, наступит хаос, полное разрушение всего религиозного и морального порядка.
— Но если хорошо об этом подумать, — беспечно ответил Фэйтфул, — то разве не то же самое говорили католики, когда протестанты бросили вызов римской власти? — Он пожал плечами. — Так какая разница?
Пинчер, оцепенев, уставился на него.
— Разница в том, что мы правы! — опомнившись, взревел он.
Пинчер подумал, что после окончания Тринити молодой Фэйтфул становился все более дерзким. Но его потрясло то, что Фэйтфул вообще мог так думать.
Некоторые гражданские идеи военных были ничуть не лучше. Одна часть этих наглецов затеяла новый, совершенно отвратительный спор. Они утверждали, что все люди должны быть равны. Левеллеры, или уравнители, — так называли себя эти злодеи, сторонники социального равенства. В их идеях были и разночтения, но они хотели, чтобы у всех людей было право избирать свое правительство, а некоторые, зашедшие уж слишком далеко, ставили под сомнение право человека на его личную собственность. И доктор Пинчер пришел от всего этого в такой ужас, что сообщил об этом в письме племяннику.
«Эти левеллеры, — написал в ответном письме его племянник, — опасные и нечестивые люди». Но с ними разберутся должным образом, уверял Пинчера Барнаби. Однако все новости, доходившие до Дублина, как раз заставляли предполагать, что число левеллеров растет.
И если доктор Пинчер был встревожен радикальными настроениями армии круглоголовых, то в этом он не был одинок. По всей Британии в том году люди начали задаваться вопросом: а эти солдаты вообще признают хоть какую-то власть, кроме своей собственной? Неужели власть устанавливается только мечом? А мы не поменяли тиранию короля Карла на еще более худшую?
В Шотландии, в особенности пресвитерианцы, присматривались к армейской религиозной независимости — и им не нравилось то, что они видели.
В Дублине доктор Пинчер провел тревожную зиму, его постоянно знобило. Наконец пришла весна 1648 года, но доктор чувствовал себя все таким же подавленным.
А потом произошла целая цепь ошеломляющих событий. Люди по всей Англии начали вставать на защиту короля. И не потому, что он им нравился, конечно же нет, а потому, что они вовсе не желали оказаться под властью армии. Даже несколько кораблей королевского военно-морского флота взбунтовались. В Шотландии один из великих лордов начал собирать армию роялистов. Лорд Ормонд с помощью королевы, жившей теперь в Париже, и сына короля Карла, неловкого, но хитрого юнца, также Карла, запустил своих агентов в Ирландию. Лорд Инчиквин теперь решительно заявлял католикам, что он стоит за короля. В течение месяца был собран Высший совет, он проголосовал против папского нунция и тоже заявил о верности королю Карлу. Только Оуэн Роэ О’Нейл воздержался.
Похоже было на то, что вот-вот готова была разразиться гражданская война.
Бедняга доктор Пинчер был так расстроен всем этим, что слег в постель дважды за одну неделю и отдался на милость жены Тайди, которая приносила ему целительный бульон.
И лишь письмо Барнаби принесло ему некоторое утешение.
Я сейчас с генералом Кромвелем. Он не только наш лучший командир, но и мудрый, добрый и благочестивый человек. Он силен в вере. И он решительно расправится и с роялистами, и с левеллерами, обещаю тебе.
Пинчер уже много слышал об этом генерале, но до сих пор тот не производил на него особого впечатления. Кромвель был членом парламента, превратившимся в солдата. Он наследовал большие поместья и сам был по праву рождения богатым человеком. И как богатый сквайр, Кромвель едва ли потерпел бы уравнительные социальные идеи левеллеров. Но вот его религиозные убеждения были не так понятны. Пинчер вообще не был уверен, что Кромвель пресвитерианец, к тому же он позволил использовать свое имя в одном памфлете, где говорилось о религиозной независимости. Пинчер прочел его с отвращением.
Но время шло, и способности Кромвеля к командованию никто уже не стал бы оспаривать. Пока силы парламента были направлены против бунта роялистов в восточной части Англии, Кромвель пронесся по западной части, от Уэльса до Шотландии, и каждый встречавшийся ему противник был разбит вдребезги железным молотом его испытанных в боях отрядов. К осени все было кончено. Армия круглоголовых победила.
И эта армия была уже сыта всем по горло. Ворвавшись в Лондон и обнаружив, что немалая часть пресвитерианцев в парламенте все еще пытается вести переговоры с Карлом, они вышибли всех прочь и заявили:
— Мы будем судить короля Карла сразу после Рождества.
И в январе 1649 года состоялся суд. А к концу месяца круглоголовые казнили Карла. В последовавшие затем недели сама монархия и наследственная палата лордов были упразднены, избран государственный совет, а Англия провозглашена Английской республикой.
Это было нечто невероятное. Казнить короля при всей видимости законности этого… Такого никогда прежде не случалось. Мир перевернулся вверх ногами, и Пинчер совсем не был уверен, что этот мир ему нравится. Но он давно уже заметил, что Кромвель, постоянно занимавший главное место в совете, вел вполне консервативную линию. Он даже, если верить Барнаби, не слишком желал казнить короля. Надежных пресвитерианских джентльменов вернули в парламент; на армейских радикалов просто не обращали внимания. Отдав им голову короля, Кромвель постепенно возвращал Англию к ее нормальному состоянию. Возможно, осмелился надеяться Пинчер, Кромвель сумеет обеспечить богоугодный порядок и в Ирландии тоже.
А на Пасху того года от Барнаби пришло письмо, оживившее доктора Пинчера.
Кромвель собирается в Ирландию. Приедет к вам летом. И я приеду вместе с ним.
В тот день в лагерь прибыло несколько групп людей. О’Бирн со своего места на склоне видел и небольшую компанию всадников, проехавшую по дороге внизу, но не обратил на нее особого внимания.
Августовское солнце обжигало его лицо. Был полдень. Вдали возвышались стены и островерхие крыши Дублина. Справа, отчетливо видимые сквозь легкую дымку, раскинулись светлые синие воды Дублинского залива. А здесь, на склонах Ратмайнса, в нескольких милях к югу от столицы, тысячи человек ждали, как ждали весь день накануне. Они ждали Кромвеля. О’Бирн повернулся к стоявшему рядом с ним молодому солдату:
— Пойди проверь, что за люди только что приехали.
Ему в общем не было до этого особого дела, но молодой человек был нетерпелив, его следовало чем-то занять.
Армия, ждавшая Оливера Кромвеля и желавшая остановить его, представляла собой странное сборище. Для начала, далеко не все солдаты были протестантами. Да, верховное командование было возложено на протестанта лорда Ормонда, который теперь вернулся на остров ради сына убитого короля. Но в войске, приведенном им сегодня в Ратмайнс, были не только протестанты, но и католики из старых англичан. А еще в королевскую коалицию входили протестантские силы из Манстера, приведенные лордом Инчиквином. В Восточном Ульстере к коалиции присоединилась армия ульстерских шотландцев, которые, будучи пресвитерианцами, объявили себя врагами религиозной независимости армии Кромвеля. Только главные военные силы местных ирландцев не стали присоединяться, потому что Оуэн Роэ О’Нейл продолжал оставаться в изоляции, в Западном Ульстере. Но в целом лорд Ормонд собрал четырнадцать тысяч человек.
И это объединение было устрашающим. Они уже загнали Оуэна Роэ О’Нейла в Ульстер. Парламентский гарнизон в Дублине был снова приперт к стенке. А лорд Инчиквин удивил всех, двинувшись с юга и захватив укрепленный порт Дроэда, ворота в Ульстер, а потом и почти все ульстерские крепости, кроме Дерри. И совсем недавно эскадра кораблей роялистов подошла к южному берегу Ирландии, где они надеялись вместе с местными каперами потрепать флот Кромвеля.
Лорд Ормонд отлично выбрал позицию. Если бы Кромвель высадился на юге, Ормонд преградил бы ему дорогу к Дублину. Если бы флот Кромвеля зашел в Дублинский залив, его корабли оказались бы в пределах дальности стрельбы артиллерии Ормонда, расположенной на берегу.
Однако Бриан О’Бирн, оглядывая лагерь на склонах под ним, задавал себе один вопрос: зачем он здесь?
Он и сам толком не знал. Его жена и сын были в это время с ее родными в относительной безопасности в Ульстере. А сам он еще несколько дней назад находился в Ратконане и теперь хотел вернуться туда, спрятаться и постараться избежать неприятностей. Ничего хорошего не было в этой войне: он досыта насмотрелся на нее. И если уж ему необходимо сражаться, он бы, скорее, встал рядом с Оуэном Роэ О’Нейлом. Но у него было слишком много обязательств перед конфедератами и перед родней его жены. Он должен сражаться вместе с ними, хотя его сердце было не здесь.
И не только О’Бирн испытывал неохоту драться. Самое главное сопротивление приходу Кромвеля в Ирландию исходило совсем с другой стороны: от его собственных войск.
Конечно, отчасти тут поработали левеллеры. Но главное было в другом. Вся масса его железной идеальной армии отказывалась воевать в Ирландии. Кромвель угрожал, Кромвель умолял и льстил, но набожные английские солдаты не слушали его. Отказывались они по нескольким причинам. Одни хотели получить свои деньги, другие желали политических реформ в самой Англии. Но главный аргумент, который повторяли воины всех рангов, был воистину удивителен.
— Вера человека — его личное дело, — говорили они. — С какой стати мы должны заставлять ирландцев быть протестантами?
Никто и никогда прежде не слышал ничего подобного. Правители, исходя то ли из личного цинизма, то ли из политической необходимости, могли иногда терпеть другие религии в своих владениях, хотя, конечно, любой католический король прекрасно знал, что его подданные-протестанты угодят в адское пламя, а в протестантских общинах отлично понимали, что именно это произойдет с католиками. Но никакой политический орган с тех самых дней, когда Римская империя сделала христианство государственной религией, даже и предположить не мог, что вера человека может быть абсолютно личным его делом, что она никого не касается, кроме его самого. Эта идея ошеломляла и своей новизной, и ослепляющей простотой. И даже в армии Кромвеля, который готов был допустить, что протестанты могут быть разными, мысль о том, что к великому злу католицизма можно относиться так, словно это просто какая-то вполне благочестивая секта, и что на великий раскол между католиками и протестантами можно не обращать внимания, была настоящей анафемой.
И хотя Кромвель и его командиры быстро разделались с мятежом левеллеров, Кромвель все же был вынужден позволить множеству английских солдат отправиться по домам, потому что они просто не понимали, зачем заставлять ирландцев превращаться в протестантов.
И вот О’Бирн грустно смотрел на лагерь внизу, размышлял о крови, пролитой за время его собственной недолгой жизни ради религии, и качал головой, позволяя себе предполагать, что, может быть, те английские мятежники-еретики как раз и говорили вполне справедливые вещи.
Молодой солдат, которого он отправил для выяснения личностей вновь прибывших, вернулся.
— К нам на помощь идет отряд из Фингала, это их авангард. Все — католики. Я слышал, один из них — из Дублина, некий Смит.
— Смит? — Лицо О’Бирна расплылось в улыбке. — Ты сказал — Смит? — (Печаль мгновенно развеялась.) — Это же молодой Муириш! — радостно воскликнул он и погнал коня вниз по склону.
И конечно, О’Бирн был весьма удивлен, когда, доскакав до лагеря, столкнулся лицом к лицу вовсе не с Морисом, а с его отцом.
Что-то произошло с Уолтером Смитом. Он изменился. Не внешне. Он был все тем же крепким семьянином с лысеющей седой головой. Но произошло нечто, изменившее его внутренне. Именно так показалось О’Бирну, когда они сидели у костра тем вечером.
Торговец был не слишком рад видеть О’Бирна, хотя ему следовало знать, что ирландец может оказаться в лагере Ормонда. Но он принял присутствие О’Бирна как простой природный факт, вроде зимы или лета. И потому, когда О’Бирн из вежливости пригласил его поужинать с ним, Уолтер просто кивнул и ответил:
— Как хочешь.
И вот они сидят рядом и О’Бирн подробно рассказывает Уолтеру о положении военных дел, о силах лорда Ормонда и о тактике, которую они, скорее всего, применят при встрече с армией Кромвеля.
В тот день Ормонд решил расположить передовую батарею прямо возле устья Лиффи. Но она оказалась бы в опасной близости от защитников Дублина, и, когда опустились сумерки, Ормонд приготовился отправить большой контингент, около пятисот человек, для начала укрепить позиции под покровом темноты.
— Это блестящий ход, — пояснил О’Бирн, наблюдая за тем, как солдаты готовятся уйти. — Та батарея может нанести большой урон кораблям Кромвеля, если он попытается подойти к Дублину.
Но О’Бирну куда больше хотелось узнать последние новости о его друге Орландо, о молодом Морисе и о том, как идут дела в Фингале, где до сих пор жила семья Смита. Уолтер подтвердил, что молодой Морис теперь ведет семейное дело, хотя торговля сейчас застопорилась. И он часто бывает нетерпелив, ему хочется отправиться воевать вместе с Ормондом. Мориса удерживает лишь то, что семья нуждается в нем. Энн в порядке, но страдает от болей в суставах. Однако сильнее всех тревожился, как скоро стало ясно, сам Уолтер.
О’Бирн легко мог это представить. Уолтер не слишком вдавался в подробности, потому что ни одному из них не хотелось упоминать о том, что лежало между ними, но О’Бирн без труда все понял.
Амбар, фермерские строения, сам дом — все было битком набито солдатами-протестантами. Этого уже было бы достаточно. Но то, что и семья Уолтера была вынуждена стать постоянным гостем в доме родственника — пусть даже Уолтер и Орландо очень нравились друг другу, — должно было еще больше усиливать напряжение. К тому же каждый день делить жилище с простодушным Дэниелом, вечным напоминанием всем, кроме Мориса, который ничего не знал, о его унижении… О’Бирн подумал, что сам он такого не смог бы вынести.
Но Уолтер выносил, месяц за месяцем, потому что был добрым и достойным человеком. Наконец сделав для семьи все, что он мог, и понимая, что приход Кромвеля — это главная угроза их жизни, Уолтер принял решение. Оставив жену на попечение Мориса и сказав, что у него дела в Коннахте, он спокойно отправился в путь, чтобы взять в руки оружие, впервые в жизни стать солдатом — в армии Ормонда. И вот этот солидный, мирный семьянин, которому уже перевалило за шестьдесят, бросил все и, как ни странно, почувствовал себя свободным. Интересно, думал О’Бирн, а он вообще собирается возвращаться?
Пока О’Бирн слушал торговца и размышлял о прирожденном благородстве этого человека и о том, что именно он, Бриан О’Бирн, навлек все несчастья на Смитов, он, кроме чувства вины и стыда за то, как поступил с Энн, вдруг понял то, что весьма часто понимают те, кто играет в адюльтер: они испытывают куда больше привязанности и уважения к обманутому мужу, чем к соблазненной ими жене.
Как странно, думал О’Бирн, подливая себе и Уолтеру еще вина, что вот этот человек, совсем не похожий на нас — все взял Морис, — тем не менее мой родственник и куда больше ирландец, чем англичанин. И он пришел, чтобы сражаться рядом со мной, хотя Бог знает, умеет ли он вообще держать в руках меч. Конечно, он, скорее всего, погибнет сразу, как только начнется сражение. Но это его выбор. О’Бирн залпом проглотил вино и немного успокоился.
Но возможно, выпил он слишком много, потому что позже тем вечером, когда огонь догорел и остались лишь угли, а Смит встал, чтобы уйти в свою палатку, О’Бирн внезапно схватил его за руку и негромко воскликнул:
— Не ищи здесь смерти! Это ни к чему. — А когда торговец медленно покачал головой, Бриан продолжил: — Ты куда лучше меня как человек, Уолтер Смит. Ты стоишь десяти таких, как я.
Но торговец ничего не ответил, а просто ушел в темноту.
Поскольку проснулся О’Бирн на рассвете, а находился он выше других на склоне, то первым и заметил это. Поначалу ему показалось, что они просто спрятались, но солнце стало подниматься, и он, продолжая обшаривать прибрежные позиции, избранные для пушек, начал не на шутку тревожиться. Отряда, который ушел туда ночью, не было, не было нигде, насколько мог видеть О’Бирн. Пятьсот человек просто исчезли.
Новость разлетелась по лагерю. Вскоре все уже смотрели в ту сторону, прикрывая глаза от солнца. Куда подевался отряд? Может, ушли в какие-то тайные пещеры под горами, как сияющие герои ирландских легенд? Примерно к восьми утра ответ стал понятен, потому что вдали появилась длинная колонна, торопливо шагавшая по берегу.
— Боже мой, — пробормотал О’Бирн, — эти дураки заблудились в темноте…
Но если О’Бирн заметил роялистов, то их увидел и дублинский гарнизон. Колонна дошла наконец до места. Солнце уже поднялось достаточно высоко. И тут О’Бирн увидел то, чего боялся.
Из Дублина выходил огромный отряд. О его численности можно было судить по облаку пыли вдали. Он был почти в милю длиной. Наверное, около пяти тысяч человек. И это против пятисот солдат, которые провели ночь, блуждая в темноте, и у которых не было времени даже на то, чтобы укрепить свои позиции.
Их должны были просто перебить, как цыплят.
Через несколько мгновений Ормонд отдал приказ об общем наступлении.
Они двигались слишком быстро. Конечно, терять время было нельзя, но, когда они спешили через открытое пространство к холмам, О’Бирн увидел, что передние уже почти бегут. Его собственный кавалерийский отряд был хорошо тренированным. И он держал его в крепком строю. Но другие перешли на галоп. Все спешили на помощь товарищам. Но о чем думали их командиры?
Интересно, а где сейчас Уолтер Смит? О’Бирн не видел его.
К нему подскакал молодой офицер с приказом:
— Поворачивайте!
Они должны были предпринять согласованную атаку на правый фланг врага. Разумный шаг, слава Богу!
В течение следующих минут думать О’Бирну было некогда. Противник был вне поля его зрения. Перед ним неслись два кавалерийских отряда. Первая волна налетела на вражескую линию. Но дублинский отряд двигался четким строем, представляя собой неуязвимый ряд копий. В ту секунду, когда волна нападавших разбилась, О’Бирн увидел впереди массу упавших лошадей и людей, на которую враг обрушил мушкетный огонь. Надежды прорваться сквозь все это не было. Еще через несколько секунд О’Бирн, развернувшись, мчался вдоль своего отряда, и справа от него сквозь ядовитый дым грозно сверкал целый лес копий. Мушкетная пуля просвистела мимо его головы. Он увидел, как упал один из его кавалеристов.
— Назад! — кричал О’Бирн.
Нужно было перестраиваться.
Весь остаток утра битва продолжалась. Пятьсот человек, заблудившиеся ночью, были почти полностью уничтожены. Снова и снова люди Ормонда пытались взять позиции врага. Наконец, ближе к полудню, враг стремительно ринулся вперед. Солдаты Ормонда отбивались, но О’Бирн видел, как они отступают и справа и слева. А потом вдруг вся линия развалилась. Воины бросились бежать. Враг не отставал. Один кавалерийский отряд начал обходить правый фланг, чтобы отрезать путь к отступлению. Это закончилось бы настоящей кровавой баней. Армия Ормонда была практически разбита, и изменить что-то было невозможно.
— Спасайтесь! — крикнул О’Бирн своим людям и повернул коня.
Невдалеке было открытое место. Оттуда дорога вела на запад. Если бы он сумел туда добраться, то смог бы сбежать. А потом сумел бы отправиться на юг — и прямиком в Ратконан. Попытаться, во всяком случае, стоило. И О’Бирн пришпорил коня.
Люди бежали поперек его пути. Он наткнулся на двоих, но сумел обойти. Казалось, спасение уже близко. О’Бирн проскакал около полумили, когда вдруг заметил Уолтера Смита. Тот был зажат между тремя вражескими всадниками рядом с несколькими деревьями. Первый ударил в ногу Смита копьем. На бедре Уолтера появилось красное пятно. Торговец выхватил меч и отчаянно размахивал им, но еще несколько мгновений — и они бы прикончили его.
Каким-то чудом Смит угодил мечом в лицо одному из врагов, и тот с воем повалился назад, однако двоих других это не остановило. Похоже, для Уолтера Смита все было кончено.
О’Бирн закричал во все горло и пришпорил коня. Солдаты увидели его, и один развернулся к нему лицом. О’Бирн взмахнул мечом, они столкнулись. Теперь О’Бирну стало не до Смита, он парировал удары и сам старался достать врага. Англичанин был весьма искусен. И на мгновение О’Бирну показалось, что он может проиграть. Но с Божьей помощью лошадь англичанина споткнулась, голова солдата дернулась назад — и О’Бирн стремительно ударил его по шее.
Когда англичанин упал на землю, О’Бирн поискал глазами Уолтера. Как ни удивительно, торговец был все еще жив. Оставшийся всадник отвлекся на схватку между его товарищем и О’Бирном. А теперь англичанин заколебался. Уолтер бросился на него, размахивая мечом. О’Бирн также поспешил, надеясь первым добраться до англичанина. Но тот просто развернулся и умчался прочь.
— Скорее! — О’Бирн уже был рядом с Уолтером и схватил его за руку. — Надо бежать! — Он кивнул на ногу Уолтера. — Ты ранен.
Уолтер Смит уставился на него. В пылу схватки он вряд ли заметил рану, а та сильно кровоточила. Смит вспыхнул:
— Мы их побили…
— Да-да. — О’Бирн улыбнулся. Понимает ли этот человек, подумал он, что я только что спас ему жизнь? Похоже, нет. — Нужно поскорее убираться отсюда, — мягко напомнил он.
Но к его изумлению, Смит покачал головой:
— Мы не можем бежать с поля битвы.
Он произнес это с упрямой решительностью.
О’Бирн уставился на него, потом усмехнулся:
— Ты слишком храбр по сравнению со мной. Но мы обязаны уйти, и ты это знаешь. Это приказ. Было объявлено отступление.
— Ох… — Смит явно растерялся, но позволил увести себя.
Им понадобилось около часа, чтобы выбраться с поля битвы. О’Бирн ничего не сказал Смиту, но ему было ясно, что отступавшие силы Ормонда теперь добивают по частям. И гадал, сколько останется в живых к концу дня. Через пару миль, когда все осталось позади, О’Бирн решил, что теперь вполне можно остановиться на несколько минут и осмотреть ногу Уолтера. К счастью, рана оказалась неглубокой, но Уолтер потерял много крови. О’Бирн оторвал подол своей рубашки и туго перевязал ногу торговца.
День уже близился к концу, когда они выбрались на дорогу к Ратконану. Уолтер теперь был бледен и тих, но О’Бирн не слишком тревожился за него. Торговец, возможно, и не был солдатом, однако оказался удивительно сильным человеком. Они доехали до дому, нашли старого священника, который все еще жил там, и двух служанок. Те старательно промыли рану Уолтера и перевязали ее. Он был явно благодарен им и чувствовал себя настолько хорошо, что даже поужинал вместе со всеми.
— Будем надеяться, Кромвель еще не скоро доберется сюда, — заметил О’Бирн.
— И что ты теперь будешь делать? — спросил священник.
— Понятия не имею, — ответил О’Бирн. — Все будет зависеть от военной ситуации.
Он не стал говорить того, в чем был уверен: теперь ничто не разделяет Кромвеля и Дублин.
После еды они помогли Уолтеру подняться наверх в спальню, где уложили в кровать, в которой некогда лежали сам О’Бирн и Энн. Уолтер лег и огляделся по сторонам.
— Чудесное место этот Ратконан, — сонно заметил он.
— Верно. Это ведь и твой дом тоже, — напомнил ему О’Бирн. — Потому что ты все равно остаешься О’Бирном.
— Знаю… — Смит кивнул и закрыл глаза.
О’Бирн выждал пару мгновений, а потом, думая, что торговец заснул, повернулся, чтобы уйти.
— Мы сегодня храбро сражались, да? — пробормотал Уолтер, не открывая глаз.
— Да, — согласился Бриан О’Бирн. — Ты дрался как лев.
И, видя, что торговец улыбнулся, наклонился и поцеловал его.
В ту ночь Бриан спал крепко и проснулся задолго до того, как встало солнце.
Поднявшись наверх в спальню, где накануне оставил Уолтера Смита, Бриан с удивлением обнаружил, что торговца там нет, а еще сильнее был удивлен, когда, пройдясь по дому и заглянув в конюшню, выяснил, что и Уолтер, и его конь исчезли.
Доктору Пинчеру стукнуло уже семьдесят семь, но волновался он, как мальчишка. Потому что приехал Барнаби Бадж и сегодня они должны были встретиться.
Доктор Пинчер весьма польстило, что даже в суете прибытия флота Кромвеля Барнаби любезно прислал ему записку с каким-то солдатом, спрашивая, где и в какое время дядя будет иметь возможность принять его. Доктор Пинчер немало размышлений уделил тому, как пройдет эта встреча. Он надеялся найти предлог устроить встречу в Тринити-колледже, чтобы его племянник сначала увидел его там, в величественной обстановке, а не в его скромном жилище. Но проблему разрешил принесший записку солдат, сообщивший, что генерал Кромвель собирается сам отправиться в колледж и с большой лужайки перед ним намерен обратиться к жителям Дублина.
— Я тоже приду, чтобы встретить генерала Кромвеля, — сказал ему доктор. — И пусть капитан Бадж, — (именно так теперь именовался его племянник Барнаби), — зайдет потом и в сам колледж, я буду там.
Лучше было и не придумать. Сначала прозвучит речь Кромвеля, которого парламент, кроме того, что возложил на него военное командование, одарил также титулом лорда-наместника в Ирландии. А затем один из его храбрых офицеров и известный профессор Тринити-колледжа публично продемонстрируют семейное воссоединение. Это послужило бы к чести семьи. За какой-нибудь час Пинчер уже убедился, что там будут присутствовать несколько преподавателей, лучшие из молодых ученых и даже семья Тайди. Все они должны были стать свидетелями события. И, бесконечно довольный, доктор Пинчер в тишине своей квартиры даже обнял сам себя.
Прибытие в Ирландию Оливера Кромвеля и его армии круглоголовых было впечатляющим событием. Сто тридцать кораблей вошли в устье Лиффи и начали высаживать на сушу войска: восемь тысяч пехотинцев, три тысячи простых кавалеристов, тысяча двести драгун. Еще к ним присоединились несколько тысяч английских солдат, уже составлявших гарнизон Дублина. Возможно, даже такое количество не навело бы ужас, но все эти воины принадлежали, наверное, к лучшим силам Европы. Корабли также доставили огромное количество пушек и деньги — семьдесят тысяч фунтов стерлингов — для уплаты за провиант и фураж.
Против такой армии следовало создать объединенные силы. Войско Ормонда потерпело сокрушительное поражение у Ратмайнса. Четыре тысячи человек были убиты, еще две с половиной тысячи взяты в плен. Остальные просто разбежались по домам. Впрочем, у Ормонда еще оставалось около трех тысяч человек, и они разбили лагерь на границе внутренних областей острова. Имелись еще силы роялистов в Манстере и городские гарнизоны в каждой провинции. Некоторые из них были защищены мощными стенами. Но прибытие Кромвеля рассердило еще одну важную личность.
Оуэн Роэ О’Нейл, возможно, и был гордецом, однако, увидев выгрузку армии круглоголовых, он наконец согласился:
— Мы должны забыть о наших разногласиях и снова образовать Конфедерацию.
Папский нунций, может быть, и пришел в ярость из-за этого, но ирландский принц уже объединял роялистов. Он страдал от воспаления в ноге, но у него было пять тысяч человек, и он мог призвать еще столько же.
Количество было на стороне роялистов. В дополнение к этому ни коренные ирландцы, ни старые англичане в провинциях, ни шотландские пресвитерианцы в Ульстере не желали видеть у себя Кромвеля. Кромвель вступал на вражескую территорию.
Так обстояли дела, когда его армия соединилась с гарнизоном Дублина, а самого Оливера Кромвеля привезли в коляске к колледжу.
Для семьи Тайди день начался плохо. Возможно, виноват в том был сам Тайди.
Два офицера армии круглоголовых, явившиеся тем утром в собор Христа, искали место, где можно было расквартировать солдат. Если учесть все то, что делала жена Тайди для беженцев-протестантов восемь лет назад, то неудивительно, что они пришли на территорию собора.
Но они ничего не знали о колоколе.
Старый Тайди, конечно же, постарался изо всех сил. И час за часом, пока флот Кромвеля входил в устье реки, большой колокол собора Христа звонил, приветствуя протестантов. Полных семь часов старый церковный служка дергал за канат, позволяя сыну лишь ненадолго сменять его каждый час, пока Тайди выпивал кружку эля, бодрившего его, и спускался вниз по естественным надобностям. И он намеревался звонить в колокол целый день, празднуя прибытие Кромвеля в Дублин.
Тайди был в таком восторге от своих усилий, что ничуть не колебался, хотя и следовало бы, когда увидел двух офицеров. Он просто предъявил им счет на поистине королевскую сумму в сорок шиллингов. Это было воспринято не слишком хорошо, то есть, вообще-то, офицеры произнесли много неприятных слов, когда, не зная обычаев этого места, отказывались платить. Церковный служитель сообщил им, что в таком случае они не смогут разместить солдат на территории собора Христа. И тут более высокий офицер, явно решивший, что это папистская церковь, заметил:
— Генерал Кромвель даже лошадей поставит в этом соборе, если захочет.
На это Тайди находчиво ответил, что генерал может ставить своих лошадей в нефе собора Святого Патрика, но не в соборе Христа. Они обменялись еще несколькими грубостями, несмотря на все усилия жены Тайди и Фэйтфула заверить офицеров в их преданности.
И семья Тайди в результате не слишком радовалась, когда колокол умолк, а они отправились послушать Оливера Кромвеля.
Толпа у колледжа собралась внушительная. Олдермены и все городские власти, главные ученые Тринити-колледжа и старый доктор Пинчер, которого легко было заметить среди них, пасторы городских протестантских приходов — их было не слишком много, но они производили впечатление, а еще множество простых горожан. Все с интересом наблюдали за тем, как в сопровождении кавалерийского эскорта подъехал генерал в простой открытой коляске.
Коляска остановилась, но Кромвель не вышел из нее. Он снял шляпу и встал. Это был крепкого сложения мужчина ростом больше шести футов, с военной выправкой. Его седеющие волосы, разделенные пробором посередине, падали на плечи. Лицо было не уродливым, но простым, с бородавками с одной стороны. Когда он заговорил, его голос звучал хрипло, и держался он грубовато. И послание, переданное Оливером Кромвелем народу Ирландии, было простым и коротким.
Его привел сюда милостивый Господь, сообщил он людям, чтобы освободить их. Те, кто, признавая Божественное провидение, стоит среди праведных, под которыми он, конечно, подразумевал протестантов, могут быть уверены, что дикие и кровожадные ирландцы будут подавлены и подчинены и что английский парламент защитит их. Те же, кто восстанет против власти парламента с оружием в руках, будут сокрушены. И не стоит в том сомневаться.
Но пусть они также поймут, продолжил Кромвель, что он не имеет желания тревожить больную совесть. Тем, кто благонадежен, бояться нечего. Девиз армии Божьей — справедливость. Те, кто виновен в пролитии невинной крови, будут наказаны, но к остальным Господь мягок. Добродетель и порядок должны стать их проводниками.
— Гражданские свободы для мирного народа! — провозгласил он.
А потом сел, надел шляпу и уехал.
Доктор Пинчер хмурился. Это было совсем не то, чего он ожидал.
Послание подготовлено тщательно. Так и должно быть. И тактический расчет Кромвеля также вполне понятен. Он ведь генерал. Он явился в Ирландию, чтобы защитить западный фланг парламентских сил. Те, кто противостоит власти парламента с оружием — другими словами, роялисты, — должны быть раздавлены. Это понятно. Само собой.
Те, кто пролил невинную кровь, должны подвергнуться правосудию. Имел ли он в виду те ирландские банды, что подняли бунт, когда сэр Фелим и лорд Магуайр начали мятеж в 1641 году? Предположительно. Воспоминания о той резне и о беженцах, хлынувших в Дублин, были еще свежи, хотя теперь вычислить оставшихся преступников довольно трудно.
Но что это он говорил о больной совести? Эта фраза представляла собой шифр, понятный каждому слушателю. Она означала другую веру. Но генерал заявил, что, если обладающие больной совестью благонадежны, им нечего бояться. Политический язык речи был абсолютно понятным. Намек, брошенный горожанам, собравшимся у колледжа, был ясным. Респектабельным католическим торговцам вроде Смита, если они не станут причинять неприятностей этому грубому генералу, опасаться нечего. Эти слова заставляли заподозрить, что, если они будут поклоняться тому, чему хотят, только не на виду, Кромвель готов им это позволить. Доктор Пинчер был ошеломлен.
А в самом ли деле армия этого генерала — Божье воинство? Неужели католиков не заставят обратиться в истинную веру? Неужели их не лишат собственности? Пинчер всю жизнь ждал этого. Может быть, эта речь — всего лишь тактический ход, чтобы заставить католиков помалкивать, пока генерал не найдет время разобраться с их богатствами? Пинчер надеялся на это. Но ему на ум пришла и другая возможность: а не может ли быть так, что этот Кромвель вообще не имеет никаких планов насчет Ирландии, кроме сокрушения роялистов и наказания виновных? Пинчер огляделся по сторонам. Собравшиеся перед колледжем люди также удивленно переглядывались.
И вот в таком смятении, с такой растревоженной душой Пинчер готовился встретиться со своим племянником.
К тому времени, когда семейство Тайди вошло в храм колледжа, Пинчер уже организовал сцену. Сам доктор, весь в черном, прямой как шест, стоял один и смотрел на ворота, у которых собрались любопытствующие студенты. У двери справа расположились знакомые преподаватели, ожидавшие, когда их представят офицеру. Тайди встали сразу у ворот, внутри.
И вот через несколько мгновений в эти ворота вошел, тяжело шагая, крупный офицер, одетый в кожу, как все офицеры круглоголовых. Он сразу увидел доктора Пинчера и направился к нему. А Тайди застонал.
— Будь все проклято! — пробормотал он.
Это был тот самый офицер, с которым он поссорился утром.
Доктор Пинчер смотрел во все глаза. Человек, шедший к нему, был высоким, но на этом все их фамильное сходство заканчивалось.
Барнаби Бадж был дородным мужчиной с широкой грудью; просторные штаны не скрывали ног, похожих на стволы деревьев, кожаные сапоги для верховой езды были огромными. Но прежде всего доктора ошеломило его лицо.
Лицо Барнаби Баджа было большим и плоским. Оно напомнило доктору Пинчеру седло барашка. И неужели вот этот звероподобный тип, что шагал сейчас к нему, действительно сын его сестры?
— Доктор Пинчер? Я Барнаби.
Доктор склонил голову. Следовало что-то сказать, но в этот момент доктор не мог найти слов. А тем временем, как он заметил, этот дюжий солдат с любопытством рассматривал его самого. Наконец Пинчер услышал, как солдат пробормотал себе под нос:
— Моя матушка ошибалась.
— Ошибалась? Как это? — резко спросил Пинчер.
Барнаби удивился, потом смутился. Он не предполагал, что дядя его услышит, что в таком возрасте тот обладает столь острым слухом.
— Ну, понимаете, сэр, — ответил он неловко, но искренне, — вы совсем не кажетесь больным.
Пинчер уставился на него.
— Идем, племянник, — тихо сказал он, покосившись туда, где стояли преподаватели Тринити-колледжа. — Давай лучше обсудим семейные дела в моей квартире.
И, даже не кивнув Тайди, он, весь в напряжении, вышел за ворота колледжа. Барнаби шагал рядом с ним.
Оказавшись дома, доктор быстро задал несколько вопросов. Он узнал, что Барнаби занимался торговлей тканями до того, как присоединился к армии Кромвеля, что он унаследовал некоторое имущество и хороший дом. О матери Барнаби говорил уважительно, однако, как показалось Пинчеру, без особой любви. Он также заговорил о своих вложениях в Ирландию.
— Я приехал сюда, чтобы служить Господу, дядя, и еще я вложил в дело пятьсот фунтов стерлингов.
— Отлично, — кивнул доктор Пинчер.
Барнаби пояснил, что уже семь лет те пятьсот фунтов, что он отдал на дело парламента, не выходят у него из ума. И теперь пришло время получить вознаграждение в виде конфискованных ирландских земель, и он был бы рад услышать совет дяди. Барнаби сообщил, что смотрит далеко вперед, что хочет обосноваться в Ирландии и подружиться с дядей.
— Мы еще превратим ее в благочестивую страну, дядя, обещаю! — воскликнул он и хлопнул старика по спине.
На все это доктор Пинчер, уже не знавший, хочется ли ему, чтобы этот гигант тревожил его старость, ответил:
— Все в свое время, Барнаби, когда битва будет выиграна.
Пинчеру понадобилось совсем немного времени на то, чтобы оценить ум племянника. Барнаби не был ученым. И хотя он знал многое из Писания, доктору показалось, что за свою жизнь Барнаби едва ли прочитал хоть одну книгу. Но его религиозные убеждения как надежного протестанта были похвально крепки. Пинчер спросил его, верит ли он в свое будущее спасение, и Барнаби ответил твердо:
— Я служу в армии Господа, сэр, и надеюсь на спасение.
Но когда речь зашла о принадлежности к Церкви и кальвинистском понимании предначертания, Барнаби был уже не так уверен.
— Ну, наверное, только Господь знает, кого Он изберет, — заметил он.
Это, без сомнения, было правдой, но не слишком удовлетворило Пинчера.
Испытывая племянника дальше, Пинчер начал понимать, как никогда прежде, каким образом, кроме их естественного английского нежелания слушать о том, как они должны обращаться с шотландскими пресвитерианцами, солдаты Божьего воинства Кромвеля пришли к убеждению, что их избранность доказывает сама служба в этой армии, а не принадлежность к какой-нибудь Церкви.
И хотя Пинчеру понравилось то, что племянник показал себя действительно слугой веры, все же при этом его раздражало непонимание Баджем истинных причин конфликта, и он понадеялся, что, как только установится мир, Барнаби можно будет многое объяснить.
Однако доктору Пинчеру было интересно узнать побольше об удивительной личности Кромвеля. И доктор сразу понял, что его племянник, как и вся армия, благоговеет перед грубым генералом.
— Он человек Божий, — заверил доктора Барнаби. — И если у него взрывной характер, так он его демонстрирует только ради справедливости.
Доктор с радостью услышал, что никто в полку Барнаби не богохульствует и не страдает от бессмысленных наказаний. Кромвель же вполне доволен тем, что был деревенским сквайром и членом парламента, если верить Барнаби. И лишь невероятная тирания короля Карла заставила его стать оппозиционером, а полная неспособность парламента как-то довести дело с королем до конца вынудила Кромвеля, как и других военных, взяться за оружие.
— Он совсем не хотел казнить короля, — заявил Барнаби. — Его вынудила к тому грубая необходимость. Он сам мне это говорил.
Вот только было ли то искренним страданием простого человека или самооправданием хитрого политика, доктор Пинчер пока не понимал. Но он услышал и кое-что ободряющее.
— Кромвель усерден в своей вере, и он знает, что католические священники — величайшее зло. И любой такой священник, которого он поймает, могу тебе обещать, будет убит.
Выходило, что недавние слова генерала о больной совести на самом деле не давали католикам никакой надежды. Пинчер услышал это с облегчением.
Однако, когда Барнаби заговорил о чувствах армии, двигавшейся за Кромвелем, его заявления стали просто поразительными.
— Мы знаем, дядя, зачем сюда пришли, — заверил доктора Барнаби. — Мы должны наказать диких ирландцев за их преступления. Мы отомстим за бунт сорок первого года, обещаю тебе.
— Это было нечто ужасное, — согласился Пинчер. — Я проповедовал перед выжившими в соборе Христа, — добавил он с гордостью.
Но Барнаби его вряд ли слушал.
— Я это точно знаю, дядя, — сообщил он доктору. — Тогда ведь все ирландцы восстали. Они ополчились на протестантов, на мужчин, женщин и детей, и они их просто резали. И никакого милосердия не проявляли, и нет предела этой ирландской жестокости. Они всех убили, кроме тех немногих, что сумели бежать. И триста тысяч невинных протестантов погибли! Ничего подобного никогда и не бывало в истории человечества!
Доктор Пинчер уставился на племянника во все глаза. Ведь на самом деле настоящее количество погибших во время бунта 1641 года никому не известно. И, по мнению доктора, когда все закончилось, по всей Ирландии было убито, пожалуй, около пяти тысяч протестантов, хотя, возможно, и намного меньше. Но с тех пор, конечно, цифры все росли в пересказах, однако заявление Барнаби уж и вовсе ошеломляло. Пинчер вообще не был уверен, что на всем острове нашлось бы такое количество протестантов.
— Сколько? — переспросил он.
— Триста тысяч! — твердо повторил Барнаби.
Пинчер презирал ирландцев и ненавидел католиков, но он не был человеком бесчестным.
— Знаешь, — осторожно начал он, — эта цифра, пожалуй, кажется преувеличенной.
— Нет, заверяю тебя! — возразил Барнаби. — Так оно и есть! Вся армия это знает!
И тут доктор Пинчер понял. Армия Оливера Кромвеля, собранная для того, чтобы обратить или уничтожить католиков, была движима жаждой мести, а это чувство поддерживалось постоянным напоминанием о зверствах ирландцев. Доктор вздохнул. Наверное, предположил он, каждой армии необходимо рассказывать какую-то историю. Иногда эта история правдива, иногда — нет. Но вот эта история, подумал он, отлично послужит своей цели…
Дроэда
1649 год
Уолтер Смит не спеша ехал вокруг большого холма. Стоял ветреный день начала сентября, и казалось, что ветер может вот-вот превратиться в шторм. Вдоль невысокого гребня мрачно лежали под облачным небом огромные, поросшие травой могилы. Под ногами тускло поблескивали осколки белого кварца, словно множество побелевших костей. Внизу порывы ветра злобно трепали свинцово-серые воды Бойна.
Смит знал, что многие верили, будто легендарные древние жители острова, племя Туата де Данаан, по-прежнему жили и пировали в их светлых залах под магическими холмами. Может быть, все дело было в погоде, но Смиту древнее священное место казалось холодным и даже слегка угрожающим. Он поехал дальше на восток.
Прошел уже месяц с тех пор, как он покинул Ратконан. Почему он уехал так внезапно? Может быть, это просто было в его природе — завершать любое начатое дело? Посвятив себя борьбе, он должен искать битвы. Он нашел Ормонда и тех, кто остался в живых из его армии, и уже три недели находился с ними в лагере. За это время его рана почти зажила, хотя нога еще беспокоила и ходил он немного прихрамывая.
После того как Кромвель явился в Дублин, весть о его приготовлениях разлетелась быстро. Он выбрал лучших людей из городского гарнизона, добавил их к своей армии и сразу установил обычную для него железную дисциплину. Его солдат расквартировали в городе, но им было запрещено доставлять жителям какие-либо неприятности. Никаких грабежей — под угрозой немедленной смерти. Кромвель также потребовал, чтобы за все продовольствие, что армия получала от окрестных фермеров, будь то католики или протестанты, платили как положено. Это было не только неслыханно, но и весьма умно. Так что до сих пор никто не взбунтовался против самого Кромвеля или его солдат.
Уолтер надеялся, что Орландо тоже полностью заплатили за его зерно. Не раз и не два он испытывал острое желание навестить имение в Фингале, но прекрасно знал, что это невозможно. Даже если бы его не арестовали, от этого все равно были бы одни неприятности. Он должен держаться в стороне, пока все это не закончится.
А совсем недавно примчался всадник с конкретными новостями:
— Кромвель готовится двинуться на север.
В этом имелся определенный смысл. Если Кромвель сможет разбить ульстерский роялистский гарнизон и Оуэна Роэ О’Нейла, то тем самым сломает хребет оппозиции. Но это была рискованная стратегия. Гарнизоны там были сильными, и, прежде чем Кромвель дойдет до Ульстера, ему придется взять самую мощную из крепостей.
Дроэда. Тредах, так называли ее англичане, более или менее справляясь с произношением ирландского названия. Вскоре после того, как пришла эта весть, Ормонд усилил гарнизон частью своих лучших войск под командованием Астона, закаленного в боях командира. Уолтера, как неопытного добровольца, в их число не включили. Так что накануне днем он тихо ускользнул из лагеря Ормонда. Уолтер рассчитал, что, если уж он туда приедет, вряд ли они прогонят лишнего человека.
Он проскакал всего несколько миль вдоль северного берега Бойна и увидел свою цель.
Это было мрачное старое место. Встав на двух холмах по обе стороны реки, средневековые стены Дроэды возвышались каменными громадами, почти неприступными. Дроэда была вторым крупнейшим портом в этом регионе после Дублина, а потому ее значение было очевидным: она охраняла прибрежный путь в Ульстер. Как и в большинстве ирландских городов, ее жители были и католиками, и протестантами, но, когда их принудили к выбору, они решительно захлопнули ворота перед сэром Фелимом и его бунтовщиками-католиками, которые несколько месяцев осаждали город, но так ничего и не добились. Поскольку крепость хранила верность правительству, в ней недавно разместились роялистские силы Ормонда. И сегодня, в унылый и ветреный день, ее мрачные башни и серые камни стен как будто говорили: «Мы не сдались перед сэром Фелимом и его католиками, и мы не сдадимся Кромвелю».
Уолтер, двигаясь дальше, встретился с небольшим ручейком горожан, покидавших крепость — кто пешком, кто на телегах. Видимо, Кромвеля ожидали уже скоро. Проехав через ворота в северо-западной стене, Уолтер Смит оказался в городе.
Вскоре после того, как он представился одному из офицеров, его отвели в штаб, где, к удивлению Уолтера, он оказался лицом к лицу с самим командиром. Уолтер почти ничего не знал о сэре Артуре Астоне. Это был невысокий энергичный человек, потерявший в боях ногу, один из немногих офицеров-католиков в армии короля Карла. Люди уважали его. И он был богат.
— Говорят, его деревянная нога набита золотом, — сказал кто-то Уолтеру.
Узнав, что Уолтер прибыл из лагеря Ормонда, Астон пожелал поговорить с ним.
— Я надеялся, вы привезете боеприпасы. Лорд Ормонд обещал прислать порох и пули. — Астон покачал головой. — Оуэн Роэ О’Нейл обещал солдат. И ни того ни другого нет. — Он бросил на Уолтера быстрый взгляд. — Не тревожься. Эти стены защитят нас, даже если мы не сделаем ни одного выстрела.
Астон сразу приказал, чтобы Уолтера приписали к небольшому верховому отряду, который оказался размещенным в какой-то гостинице с трактиром в северной части города. Хотя отряд Ормонда состоял и из католиков, и из протестантов, большинство воинов Астона были католиками, а в том небольшом отряде, к которому присоединился Уолтер, были одни католики. Хозяин гостиницы, английский протестант, любезно пояснил им, что на самом деле никакой особенной разницы между ними и людьми Кромвеля нет.
— Но уж лучше я останусь здесь и получу деньги за свой эль, который вы, джентльмены, выпьете, чем сбегу и останусь ни с чем.
Хозяин овдовел год назад, и у него на руках осталась трехлетняя дочурка с золотыми кудрями. Солдаты частенько играли с ней, чтобы скоротать время.
А увидев Уолтера, бывшего намного старше, солдаты тут же стали называть его дедушкой. Когда малышка спросила, почему они его так называют, ей объяснили:
— Ты разве не знаешь, Мэри, что это твой дедушка? Он всем дедушка.
Девочка обратилась к отцу за разъяснениями, и трактирщик весело ответил:
— У большинства детей есть только два дедушки, Мэри, но тебе повезло — у тебя их три.
После этого малышка пожелала весь вечер просидеть на коленях Уолтера.
Армия Кромвеля появилась на следующий день, с юга. Уолтер наблюдал за ее приближением с городской стены. Пока солдаты разбивали шатры на склонах напротив, наблюдатели подсчитали, что Кромвель привел около двенадцати тысяч человек. К следующему утру стало понятно, что артиллерия еще не подтянулась.
— Наверное, он отправил ее морем, — сказал солдатам Астон. А при непрекращавшемся ветре прибрежные воды были весьма опасны. — Если нам повезет, его грузовые корабли могут и потонуть.
Без пушек Кромвель ничего не мог поделать с их крепостью.
Следующие дни прошли до странности тихо. Товарищи Уолтера пытались научить его хотя бы основам боя на мечах и военной тактики, но без особого успеха. А остальное время он просто бродил по городу.
Две части города, расположенные по разные стороны глубокой реки, были полностью обособлены и обнесены стенами, но соединены прочным подъемным мостом с северной стороны, который можно было очень быстро поднимать и опускать. В южной части города, меньшей по размеру, имелся высокий холм с небольшим укреплением на вершине и церковь со шпилем, откуда велось наблюдение. Северная часть города, с узкими средневековыми улочками и садиками, аккуратно огороженными каменными и живыми изгородями, была очень приятной. Уолтер иногда сажал малышку Мэри себе на плечи и брал с собой на прогулку.
В течение этих дней Астон не раз высылал небольшие отряды, чтобы потревожить врага. Однажды Уолтера отправили с каким-то поручением к командиру, а когда он вернулся, то обнаружил, что в его отсутствие товарищи отправились на вылазку. Ему никто ничего не сказал, но Уолтер понял, что товарищи просто берегут его, и почувствовал себя униженным, в особенности после того, как несколько человек не вернулись.
В другой день из крепости вышел большой отряд, но люди Кромвеля устроили им засаду и перебили всех. После этого вылазок почти не было. Но Астон не терял уверенности. Как-то днем, встретившись на крепостной стене с Уолтером и кем-то из его товарищей, он задумчиво посмотрел на шатры на склоне напротив, а потом живо повернулся к солдатам:
— Они не смогут проломить стены, а близится зима. И после того, джентльмены, у меня будет два союзника, которые наверняка побьют их. — Он улыбнулся. — Полковник Голод и майор Болезнь. Они будут сражаться с Кромвелем на моей стороне, уверяю вас, пока он будет сидеть там под дождем. Так всегда случается, рано или поздно, когда в Ирландии начинается какая-нибудь осада.
А в самой Дроэде тем временем жизнь текла тихо и спокойно. Кромвель стоял на южной стороне реки, а поблизости не было ни одного места, где реку было бы легко перейти. Многие горожане ушли, что означало: тех запасов продовольствия, которые продолжали подвозить через ворота на северной стороне, хватит на более долгое время. Астон привез с собой нескольких католических священников, и они служили мессу для католиков в большой церкви. И это хорошо, думал Уолтер. Приятно видеть, что древняя церковь снова служит истинной вере.
На седьмой день в Бойн вошли грузовые корабли Кромвеля, доставившие пушки. Уолтер наблюдал за тем, как их волокут на позиции. Одни — на склоны, смотревшие на город, другие — ниже, перед южной стеной. На следующее утро из лагеря Кромвеля прискакал верховой с посланием.
Оно было кратким и по существу. Чтобы предотвратить то, что пуританский джентльмен называл «потоками крови», Кромвель предлагал гарнизону сдаться. А если они откажутся, «то не будет причин проклинать меня», так он закончил.
Понять значение этого послания было нетрудно. Законы войны были древними и жестокими. Если осажденный город пользовался шансом и сдавался, его гарнизон мог спасти себе жизнь. Если осажденные отказывались, а город был взят, пощады ждать не приходилось. Нападавший генерал имел право убить всех сражавшихся. Обычно стороны приходили к соглашению еще во время осады, но защитники крепости отлично понимали, чем рискуют: если они откажутся, то могут лишиться жизни.
Но Астон был уверен. Стены Дроэды никогда прежде никто не мог пробить. И вскоре все услышали:
— Предложение отвергнуто.
Уолтер стоял на стене, глядя на орудия врага, когда прогремел первый залп. Уолтера охватили волнение и страх, когда он услышал свист летевших мимо ядер. К его удивлению, они не ударились о стены, а врезались в высокий шпиль церкви позади, и со стен посыпался дождь обломков штукатурки.
Через несколько мгновений второй залп еще раз ударил по шпилю. Похоже, враг выбрал его как цель для тренировки.
— Они сначала свалят церковную башню, — спокойно заметил стоявший рядом с Уолтером немолодой солдат. — Они вовсе не хотят, чтобы оттуда их обстреляли из мушкетов. — Солдат фыркнул. — Но эти пушки вряд ли смогут всерьез повредить стены.
На какое-то время все затихло. Потом они снова услышали грохот. Но звучал он по-другому. Он был громче и завершился низким резким воем. Потом раздался оглушительный удар — и в нижней части шпиля появилась дыра.
— Что это было? — спросил Уолтер.
— Не уверен, — ответил солдат, — но, похоже, снаряд фунтов в тридцать.
Он покачал головой и замолчал. Снова послышался рев.
В то время в Европе имелось два типа осадной артиллерии. Были мортиры, стрелявшие большими железными шарами, начиненными порохом, — они взрывались с чудовищной силой. И еще были пушки, в которые заряжали огромные ядра, способные разбить каменную кладку. Самые большие пушки, какие видывали в Ирландии, стреляли ядрами в двенадцать или четырнадцать фунтов весом. И могучие стены Дроэды, хотя и могли слегка пострадать от такого обстрела, все же выдержали бы. Но новые пушки были мощнее. Они могли метать ядра в несколько раз крупнее.
Лорд Ормонд и его командиры не подозревали, что Кромвель может доставить из Европы в Ирландию именно самое мощное орудие. И артиллеристы у него были очень искусными.
Все утро большая пушка продолжала реветь и грохотать. Шпиль начал уже выглядеть так, словно готов вот-вот рухнуть. И вдруг с грохотом упал.
Но пушка не замолкла, она принялась обстреливать башню церкви под шпилем. К полудню та уже стала похожа на неровно обломившийся зуб, а пушка начала бомбардировку ближайшего к ней бастиона на углу городской стены. Это сооружение было намного крепче. Однако пушка продолжала стрелять и стрелять, час за часом, весь день до вечера, не останавливаясь. И под ядовитым дымом, расползшимся над городом, могучая угловая башня Дроэды, выдержавшая множество атак в течение столетий, медленно обрушилась. Вскоре после наступления сумерек артиллеристы перенесли свое внимание на стены и пробили в их верхней части две дыры.
В ту ночь Астон собрал людей, чтобы заделать бреши в стенах, вернуть на место камни и залить их известью. Однако на рассвете началась куда более трудная работа. Мужчины выкопали три линии глубоких канав вдоль пробитой стены. За каждым рвом насыпали землю в виде брустверов, за ними могли укрыться стрелки с мушкетами.
Хотя такой работой обычно занималась пехота, Уолтер присоединился к солдатам, и никто не стал его останавливать. С лопатой в руках он трудился среди парней вдвое моложе его самого, и осанистая фигура Смита сразу бросалась в глаза. Утро застало Уолтера раскрасневшимся и вспотевшим, но счастливым оттого, что он наконец приносил пользу. Рвы тянулись до огороженного стеной церковного двора. За ними высился крутой холм с укреплением на вершине.
Рано утром пришло сообщение, что небольшая группа знатных людей города требуют от Астона, чтобы он сдал крепость. Астон выгнал их из города через одни из северных ворот.
— Да как он может сдаться?! — воскликнул один из офицеров. — Если уж могучая Дроэда падет, то разве могут выстоять и сражаться другие города?
В это самое мгновение снова послышался грохот большой пушки, и первый за этот день снаряд ударился о стену.
Все утро, пока над городом клубились серые тучи, а пушечные ядра выбивали из стены небольшие фонтаны осколков, они копали рвы и возводили брустверы.
Стены Дроэды вовсе не собирались так легко разрушаться. Местами они достигали в толщину шести футов. Но средневековая смесь камня, гальки и извести, хотя и была крепка, не могла вечно выдерживать равномерные удары ядер — десятки ударов, — что летели в нее час за часом. И постепенно стена у основания превращалась в огромные неровные кучи обломков. К полудню солдаты у рвов уже видели сквозь большую рваную пробоину вражеский лагерь на склоне напротив.
Около пяти часов Астон появился среди тех, кто копал рвы, припадая на деревянную ногу и говоря людям, что они должны быть готовы.
— Они полезут в пролом, но им придется преодолевать завалы камней снаружи. Для кавалерии там слишком высоко. Мы их без труда перестреляем. Попомните мои слова.
Позади рвов уже появились кавалеристы. Уолтер, стерев как смог грязь с лица, вернулся к своему отряду. И в это время он вдруг заметил, что пушечный огонь прекратился. Странная тишина повисла в воздухе. Астон уже был за рвами, расставлял людей.
Стрелков с мушкетами он поставил за двумя задними рвами и в церковном дворе. В первом ряду стояли солдаты с копьями. Только сильные и тренированные воины могли быть копейщиками, ведь копья были шести футов в длину, с тяжелым древком и страшным стальным наконечником. Уолтер как-то раз попросил дюжего копьеносца дать ему попробовать ударить копьем и чуть не упал под его тяжестью. Но в опытных руках это было страшное оружие. И когда враг миновал бы первый бруствер, то был бы остановлен копьеносцами или попал бы под огонь мушкетов из двух задних рвов. А огонь был бы смертельным. Даже из неуклюжих мушкетов с фитильным замком каждый тренированный солдат мог делать три выстрела в минуту.
Все так же было тихо. Пока они ждали, Уолтер почти слышал биение своего сердца. К его собственному удивлению, он был слишком возбужден, чтобы бояться.
За стеной послышались крики. Уолтер увидел металлические шлемы круглоголовых, подбиравшихся к пролому. Сотня, может, две сотни… И тут он услышал громкий голос Астона:
— Мушкетеры, ждать! Ждать!
Первая волна нападавших пробралась внутрь; вторая показалась в проломе. Уолтер увидел вражеского офицера, красивого седовласого мужчину.
— Огонь!
Первый залп уложил человек пятьдесят. Седовласый офицер упал, когда пуля из мушкета раздробила ему голову.
— Огонь!
Второй залп, из третьего рва, — и еще множество врагов пало.
Отовсюду слышались крики. Уолтер видел, как человек шесть круглоголовых напоролись на копья. Не зря же авангард при таких атаках называли обреченным. Солдаты, показавшиеся теперь в проломе, как будто заколебались.
— Теперь целься в пролом! Огонь!
Новый смертельный залп отбросил их. И круглоголовые отступили. Те, что еще оставались в проломе, пытались отойти назад, но стрелки с церковного двора перебили их по одному. Роялисты радостно кричали. Круглоголовые пустились бежать.
— Перезаряжай! Они вернутся. Кавалеристы, заряжай пистолеты! — Это был голос Астона, уверенный и громкий.
Уолтеру, как и большинству конников, выдали два пистолета, которые лежали в кобурах по обе стороны седла. Уолтер вставил в них запалы и один пистолет взял в руки. Прошло несколько минут, прежде чем круглоголовые появились снова. На этот раз они двигались быстрее и их было больше. Первая волна уже докатилась до копейщиков, когда Астон крикнул:
— Огонь!
И снова на нападавших обрушился разящий дождь мушкетных пуль.
— Кавалерия, огонь! Целься каждый в своего!
Уолтер положил длинный ствол пистолета на свободную руку, чтобы поддержать. Когда он тренировался вместе с товарищами, то обнаружил у себя способность метко стрелять. Он увидел какого-то парня, только что добежавшего до копейщиков, тщательно прицелился и нажал на спусковой крючок. Целился он в грудь, но попал в голову. И с победоносным восторгом увидел, как враг упал. Хотелось бы мне, подумал Уолтер, чтобы меня видела моя семья. Через несколько мгновений снова раздались восторженные крики. Круглоголовые опять отступили.
— Перезаряжай! — закричал Астон.
Но на этот раз ничто не нарушило тишину. Возможно, круглоголовые, дважды жестоко отбитые, решили на этот день остановиться.
Напротив пролома стояли уже две батареи. Одна била по стенам на уровне земли. Вторая, расположенная на склоне за ней, смотрела на пролом сверху. И именно там теперь Уолтер увидел клуб дыма.
Послышался устрашающий громкий свист. Удар, от которого попятилась его лошадь. Треск, страшные крики. А потом Уолтер упал. И, уже лежа на земле, он снова услышал пугающий свист. И отчаянные крики. И ржание коней.
Пушка Кромвеля, стоявшая на склоне, стреляла полуфунтовыми снарядами, и они без остановки летели в пролом на кавалерию. Уолтер с трудом поднялся и увидел, как в пролом врываются круглоголовые. Очевидно, что враг решил задавить защитников простым количеством. Мушкеты стреляли, но теперь, в общей суматохе, их залпы звучали неровно. Уолтер посмотрел вниз. Его несчастная лошадь была убита. А вокруг метались люди и кони. И везде лилась кровь. У Уолтера закружилась голова, хотя он был уверен, что не ранен. Кто-то потянул его за руку:
— Идем, дед! Мы проигрываем.
Уолтер понял, но еще какое-то мгновение глупо стоял на месте. И за это время успел увидеть в проломе стены какого-то офицера в кожаных доспехах, с мечом в руке, с длинными седыми волосами, развевавшимися на ветру.
И Уолтер сразу понял, кто это должен быть.
Сам Оливер Кромвель спешился и лично повел своих людей в смертельный пролом в стене Дроэды.
Его пистолет… Он все еще лежал в седельной кобуре. Уолтер стремительно наклонился к павшей лошади и достал оружие. Крепко сжав в руке пистолет, опять выпрямился. Кромвель все еще стоял там, размахивая мечом, призывая своих солдат атаковать. Уолтер прицелился.
А потом все было как во сне. Уолтер застыл, его палец нажимал на крючок, но ничего не происходило. Как такое могло быть? Уолтер повторил попытку. Но в простом механизме что-то заело.
— Дед! Идем скорее!
Парень потянул Уолтера с такой силой, что тот чуть не потерял равновесие, и как раз в этот момент пистолет наконец выстрелил, и пуля умчалась вверх, в воздух. Уолтер выругался и поплелся туда, куда его вели. Остатки его отряда уже собирались вместе, без лошадей. Как только он дошел до товарищей, они окружили его и поспешили прочь. Первый бруствер уже был взят. Мушкетеров разоружили. А Уолтер, торопливо уходя с места событий, видел, как Астон вместе со своими людьми хромает к высокому холму, к небольшому укреплению. Кавалеристы и Уолтер почти бежали по улице к реке. Впереди был подъемный мост.
— Дед, нам лучше перебраться на ту сторону, пока мост не подняли! — крикнул один из товарищей Уолтера.
Если бы они перешли мост, то могли бы снова стрелять, а люди Кромвеля не смогли бы последовать за ними. Река была глубокой, стены северной части города крепкими. И это стало бы надежным убежищем, по крайней мере на время.
Однако, когда они добрались до моста, их догнала огромная толпа копейщиков и мушкетеров. Оглянувшись, Уолтер увидел кожаные жилеты и железные шлемы солдат Кромвеля совсем близко. Беглецы в полной неразберихе промчались по мосту.
Уолтер уже бежал по центральной улице северного города, когда наконец сообразил: никто не поднял мост. И если защитники пересекли Бойн и ушли в северную часть, то и люди Кромвеля тоже могли это сделать. Уолтер остановился и закричал:
— Поднимите мост!
Но никто не обратил на него внимания, а давление толпы не дало самому Уолтеру вернуться, его просто увлекло дальше.
Недалеко впереди высилась большая церковь Святого Петра. Товарищи Уолтера повернули на перекрестке налево, к западным воротам северной части города. Еще немного впереди находилась та самая гостиница, в которой они жили. Двое кавалеристов оставили там свои деньги, так что они побежали за ними.
— По крайней мере, у нас хоть деньги будут, чтобы сбежать, — сказали они Уолтеру.
Трактирщик, уже слышавший о переполохе, но пока не знавший в точности, что именно произошло, торопливо закрывал ставни. Уолтер вкратце сообщил ему о событиях, и мужчина вскрикнул:
— Надо забрать Мэри!
Девочка была в соседнем доме на той же улице.
— Закрывай гостиницу и трактир, — сказал Уолтер. — Я схожу за ребенком. — И быстро пошел прочь.
Ему понадобилась всего пара минут, чтобы забрать Мэри из соседского дома. Крепко держа девочку за руку, он пошел обратно. Уолтер почти забыл, что на его боку по-прежнему висит меч, и сообразил это лишь тогда, когда ножны чуть не ударили малышку. Тогда он подхватил Мэри на руки и пошел к ее дому.
Солдаты все еще бежали по центральной улице и пока никуда не сворачивали. Товарищи Уолтера стояли у двери рядом с хозяином гостиницы. Уолтер был примерно в пятидесяти ярдах от них, когда отряд круглоголовых в тяжелых кожаных доспехах вырвался с улицы в переулок. Увидев солдат-роялистов, они взревели и ринулись к ним, так что у товарищей Уолтера едва хватило времени выхватить мечи.
Он слышал, как один из круглоголовых закричал:
— Папские собаки!
А потом до него донеслось ругательство, которое успел выкрикнуть трактирщик, перед тем как на него обрушились круглоголовые. Раздался звон металла, мечи ударялись друг о друга, потом крики, потом жуткий вопль…
Все произошло так быстро, что Уолтер просто не верил своим глазам. Но он видел, как пали его товарищи и трактирщик. Его, без сомнения, тоже приняли за солдата.
Уолтер инстинктивно отступил к какой-то двери, прижимая к себе девочку, спрятав ее лицо на своей груди, чтобы она ничего не видела. Потом он выждал еще несколько мгновений, не зная, пойдут ли круглоголовые в его сторону. Наконец, осторожно выглянув из-за угла, Уолтер убедился, что они ушли. Но он слышал крики на той улице, с которой они явились. Тело отца Мэри лежало на пороге гостиницы рядом с остальными. Уолтер просто не мог оставить Мэри там и медленно пошел к дому, из которого он забрал девочку. Уолтер не сомневался, что соседи возьмут Мэри к себе. Но он вдруг заметил круглоголовых в другом конце проулка, как раз возле того дома. И не осмелился пойти в ту сторону. Рядом был еще какой-то проулок, уводивший на запад. Уолтер свернул в этот проулок. Единственное, что оставалось Смиту, — прижимать к себе девочку и постараться найти для нее безопасное место.
Возможно, все еще оставался шанс выйти через западные ворота. Добрались ли туда люди Кромвеля? Может, он сумел переправить свое войско через глубокие воды Бойна и окружил город, отрезав все пути к отступлению? Этого Уолтер не знал.
— Твой дедушка хочет погулять с тобой немного, — прошептал он малышке Мэри. — А потом мы найдем твоего отца. — И он заставил себя улыбнуться.
После этого Уолтер осторожно зашагал по проулку, гадая, куда же тот ведет.
Барнаби Бадж слегка задержался перед проломом в стене. Нет, он не боялся. С чего бы ему бояться? К тому же туда уже вошел слуга Божий, их генерал. Это был день победы святых сил.
Барнаби отлично знал, кто прячется за темными стенами Дроэды. Дикари, кровожадные ирландцы, паписты и их прислужники. Они перебили триста тысяч человек — протестантов, богобоязненных людей, мужчин, женщин и детей, безжалостно и не разбирая. Но день расплаты наконец пришел. Справедливость должна восторжествовать. Сам Господь обещал отмщение. И армия святых была его правой рукой. Разве Спаситель не провозгласил: «Не мир пришел Я принести, но меч»?
А когда все закончится, когда ирландских папистов разобьют и разгонят, то солдаты воинства Христова получат вознаграждения и наследуют землю. Да, пятьсот фунтов стерлингов семь долгих лет назад Барнаби вложил в это дело, и теперь ему должны заплатить ирландской землей. И на этой земле он возведет свою часть святого града, и возьмет себе благочестивую жену, и осядет на месте, и будет заботиться о престарелом дяде. Его меч, его богатство, его жизнь — он всем пожертвовал. Он был солдатом в войне за святое дело, воевал за Господа. И если, как надеялся Барнаби, он станет одним из избранных, то он неплохо заплатил за свое спасение. И именно с такими мыслями Барнаби Бадж, храбрый сердцем солдат, подошел к пролому в темных стенах Дроэды.
Барнаби ощутил на лице дуновение и посмотрел вверх. Похоже, ветер менял направление. В небе клубились серые тучи, как будто собираясь разлететься в разные стороны.
Пришел приказ кавалерии двинуться вперед. Кромвель лично собрал ее. И кто бы отказался, если сам вождь не выказывал страха? Да, его людей дважды оттесняли от пролома. Мертвые тела лежали вокруг грудами. Но Кромвель спешился, обнажил меч и сам возглавил третью атаку. Кромвель, отважный Божий воин.
— Идем ли мы за ним? — закричал Барнаби своим людям.
— Хоть в самый ад! — ответили ему.
Однако перебраться через груды щебенки к пролому можно было только одним способом.
— Спешиться! — тихо приказал Барнаби.
И, взяв коня за уздечку, повел своих людей вперед пешком. Парочка мушкетных пуль просвистела мимо, но никто не обратил на них внимания.
Сцена, открывшаяся им по другую сторону стены, была чудовищной. Сражение шло уже за брустверами, продвигаясь к высокому холму позади. Барнаби провел свой отряд через церковный двор, усыпанный телами. Подойдя к холму, Барнаби остановился. Астон со своим отрядом поднялся уже в небольшую крепость на вершине, но, видя, что их положение безнадежно, решил сдаться. Но если защитники надеялись таким образом спасти свои жизни, то они ошибались. Круглоголовые были уже в башне, и сверху послышалась яростная стрельба.
— Им нужна его деревянная нога, — пояснил офицер, стоявший у основания башни. — Они думают, она набита золотом.
Теперь сверху доносились крики ярости, а потом — несколько громких ударов и отвратительный треск. Похоже было на то, что Астону разбили голову его же деревянной ногой.
— Золота не нашли, — сухо заметил офицер.
В это мгновение с другой стороны холма появился Кромвель и кивнул Барнаби.
— Возьми своих людей и отправляйся через мост, возьми под охрану северные ворота! — приказал он и сурово посмотрел на Барнаби. — Главные силы врага собраны в этом городе, капитан Бадж. Разобьем Дроэду — и разобьем всю Ирландию. Никому не позволяй уйти. Понятно?
— Да, сэр.
— Никаких уступок, капитан Бадж. Они ничего не заслужили. Они ничего и не получат. — Кромвель немного помолчал, глядя на башню, потом еще мгновение-другое задумчиво смотрел в пространство перед собой и наконец снова решительно глянул на Барнаби. — Сюда нас привел сам Господь, и Он отдал нам этот город. Победа принадлежит Ему, и только Ему.
— Да поможет Он нам и впредь, — твердо ответил Барнаби. И когда несколько мгновений спустя его отряд уже скакал по мосту, он приказал: — Обнажить мечи!
Нападение круглоголовых на северную часть города было настолько внезапным, что защитники не имели времени перестроиться. И по всему северному городу завязались схватки.
Но рассеянные по улицам силы роялистов косили, словно траву. На центральной улице Барнаби вынужден был то и дело заставлять коня перескакивать через тела. Подъехав к небольшому открытому двору с садиком, Барнаби увидел молодого офицера с отрядом. Они взяли в плен с дюжину роялистов, сдавших оружие.
— Никаких уступок! — крикнул Барнаби молодому командиру. — Генерал Кромвель приказал: никакой жалости! — А когда офицер попытался возразить, рявкнул: — Я дал ему слово! — Он покачал головой. — Помни, что они сделали с женщинами и детьми протестантов. Убей всех!
И чтобы убедиться в выполнении приказа, Барнаби постоял на месте еще немного, глядя, как круглоголовые обнажают мечи.
В двух сотнях ярдов впереди продолжалась битва вокруг большой церкви Святого Петра. Оттуда неслись крики, звон оружия, выстрелы. Но Барнаби имел четкий приказ. Он должен закрыть ворота. В северной части Дроэды было двое ворот, и Барнаби знал, благодаря карте, которую они с офицерами изучили на прошлой неделе, где именно они расположены. Ворота находились в конце длинной центральной улицы: одни на восточной стороне, другие — на западной. Восточная стена была ближе, и Барнаби поспешно повел своих кавалеристов к ней. Тут и там он видел лица, выглядывавшие из-за полузакрытых ставен окон. Но это, похоже, были обычные горожане, державшиеся в стороне от всего. С ними предстояло разобраться позже.
Однако враг мог появиться в любой момент.
Добравшись до восточных ворот, Барнаби обнаружил, что они уже заперты отрядом инфантерии. Приказав им ни в коем случае ворота не открывать, Барнаби повернул назад, к западной стене.
Когда они ехали по главной улице, Барнаби бросил взгляд в сторону большой церкви, где продолжалась битва. Оттуда все еще доносились крики, но и только. Что-то изменилось. Потом, посмотрев вдоль улицы, Барнаби понял: открытая канава, шедшая вдоль дороги, наполнена кровью. Круглоголовые перебили ирландских папистов. Барнаби уже приходилось видеть потоки крови на полях сражений, но вот таких — никогда. Должно быть, там зарезали уже несколько сот человек.
Да, это кровавое дело, но Барнаби знал, что пройти через это необходимо. А когда он думал о великой резне невинных, в которой обвиняли папистов, то ожесточался сердцем, понимая, что Божье дело нужно завершить.
Западные ворота лежали меньше чем в четырехстах ярдах. Но на широкой улице, ведущей к ним, собралось множество пехотинцев. Копейщики и мушкетеры быстро строились в боевой порядок. Похоже, человек сто или больше. С боковой улицы выскочило с полдюжины всадников, создав защитную полосу перед пехотой.
Барнаби оглянулся. У него было двадцать всадников, вооруженных, как и он сам. А враги, явно поняв, что именно произошло возле церкви, намеревались дорого продать свою жизнь. И Барнаби крикнул одному из своих:
— Найди подкрепление!
Враг, может быть, и отчаялся, но его отряд состоял из опытных ветеранов и к тому же солдат Христовых. Сам Кромвель приказал Барнаби охранять ворота. Бог их защитит. Барнаби оценил на взгляд силы врага.
И как раз в этот момент облака разлетелись, яркий луч вечернего солнца брызнул прямо на то место, где стояли вражеские всадники, ослепив их внезапным огнем, пусть на мгновение. И Барнаби понял с предельной ясностью, что это и есть Божье знамение — ему осветили путь, и это была дорога к обещанной земле.
— Не моей рукой, о Господи, но Твоей! — пробормотал Барнаби и, взмахнув мечом, отразившим солнце, отдал приказ атаковать.
И Барнаби Бадж бросил коня вперед и сокрушил врага, и кровь ирландских дикарей брызнула во все стороны. Всадники были выбиты из седел, пехота сыпалась на землю, паписты разбегались перед ним, а он рубил, рубил и рубил во славу Господню.
Позади раздались крики. Барнаби оглянулся. Подоспело подкрепление круглоголовых. Значит, так тому и быть. Враги Господа рассыпались. Барнаби пришпорил коня, догоняя бежавших.
Они прятались во дворах и переулках, мчались вдоль по улице. Барнаби уже видел ворота, в сотне ярдов впереди. Они были открыты. Барнаби устремился к ним.
И тут он увидел папистского солдата, одетого как конник, но без лошади. Тот прятался у входа в какой-то проулок. Злодей прижимал к себе маленькое дитя, а его широкое красное лицо было обращено к Барнаби. Он что, думал вот так избежать правосудия?
Барнаби развернул коня и одним ударом рассек шею и грудь паписта, а заодно и ребенка.
Не приходилось сомневаться в том, что ребенок тоже папист. Да и не важно. Барнаби снова повернул коня. Между ним и воротами еще оставались паписты. Работы хватало.
И пока он рубил врагов, и видел, как они падают на землю, и ощущал на лице солнечный луч, он познал славу Господню и не сомневался, что получит обещанную землю, которую ему были должны за его пятьсот фунтов.
И настал вечер в Дроэде, и роялистский гарнизон был уничтожен. Англичане и ирландцы, протестанты и католики. Две с половиной тысячи человек были убиты, многие уже после того, как сложили оружие.
Прошел также слух, что перебили и простых горожан. Без сомнения, часть из них действительно погибла, хотя настоящих свидетельств тому нет.
Но кто бы мог сказать, пусть даже это и было правдой, что такая бойня кого-то потрясла? Когда короли и парламенты отправляют людей воевать, им все равно, чья кровь прольется. По-другому и быть не могло. Сотню лет, с тех пор как Лютер и Кальвин раскололи христианский мир, все повторялось. Из поколения в поколение проливалась кровь. И по всей Европе убивали: католики протестантов, протестанты католиков.
Везде было одно и то же.
Посох святого Патрика
1689 год
Морис Смит смотрел на древний сундук. Он уже много лет собирался его открыть.
На улице стоял ясный мартовский день, ветер летел над Ратконаном с легким шумом, похожим на шепот самой веры, идущей с моря.
Сундук принадлежал отцу Мориса. И хранился с тех самых пор, как Уолтер Смит исчез. Морис лишь знал, что в нем лежат какие-то старые бумаги, а спросить теперь было не у кого.
Никто так и не узнал, что случилось с Уолтером Смитом. Предполагали, что его могли ограбить и убить где-то в пути. Один или два человека даже думали, что он присоединился к отрядам роялистов, но это было совсем не в его характере, к тому же и доказательств подобного не имелось. И это было к лучшему. Ведь если бы Уолтер оказался замешанным в борьбу, для его семьи после победы Кромвеля дела могли сложиться куда как хуже.
Но что бы ни произошло с Уолтером, его бумаги и личные вещи сохранили. Когда жизнь в Дублине стала невыносимой для торговца-католика, Морис уехал во Францию. Дойлы любезно забрали к себе его мать Энн, а сундук с бумагами вместе с другими вещами перевезли на их чердак. Там все и оставалось, даже после возвращения Мориса, пока несколько лет назад он не забрал эти вещи.
Морис был вынужден признать, что на самом деле только лень помешала ему разобраться в бумагах раньше. Но теперь, когда происходили столь прекрасные события и когда католикам в Ирландии было обещано многое, Морису пришло в голову, что, если вдруг в сундуке есть какие-то акты или другие документы, полезные для семьи, он должен найти время и отыскать их.
Морис обнаружил, что сундук заперт на три разных замка, но среди вещей отца нашлась также и целая коллекция ключей, и Морис отыскал среди них те, которые подошли к сундуку. И вот, отперев замки, он подтащил сундук поближе к окну и, сев на табурет, поднял крышку.
Поначалу он был слегка разочарован. Все документы относились к древней гильдии Святой Анны, а вовсе не к семье. Но, увидев, что они уходят в прошлое вплоть до дней самой Реформации, Морис начал читать и нашел столь богатую историю жизни верующих в те дни, что вскоре с головой ушел в чтение. Прошло около часа, прежде чем Смит добрался до документа на толстой бумаге, тщательно свернутого и запечатанного красной восковой печатью. Снаружи на бумаге было написано уверенным почерком:
ПОКАЗАНИЯ МАСТЕРА МАКГОУЭНА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСОХА
Печать явно никогда не нарушалась. Смит сломал ее и начал читать. И задохнулся от изумления.
Стало ясно, что торговец давал показания устно, а записывал их один из членов гильдии. Иногда речь шла от первого лица, иногда — от третьего: «Мастер Макгоуэн клянется, что события происходили именно так». Но главным был предмет разговора. Потому что посох, о котором говорил мастер, был посохом самого святого Патрика.
Бачал Изу — священная реликвия для всей Ирландии. Морис знал, конечно, историю его уничтожения. Все ее знали. Давно, в 1538 году, когда чудовищный еретик король Генрих VIII приказал сжечь все святые реликвии в Ирландии, посох святого Патрика, тот самый, с которым бродил великий святой более тысячи лет назад, изъяли из собора Христа и бросили в костер на площади, прямо в центре Дублина. Более страшного святотатства, более ужасного оскорбления Ирландии нельзя было и вообразить. И это мрачное деяние не было забыто. Посох исчез.
Исчез ли? С тех пор постоянно бродили слухи — случайные, осторожные, — что посох, возможно, удалось спасти. Примерно через двадцать лет после того сожжения кое-кто утверждал, что он существует. А потом уже ничего не было слышно. Морис всегда воспринимал все это как легенду, не более того. Однако три года назад по Дублину поползли слухи, что посох видели в графстве Мит. Но Морису не доводилось встречать кого-либо, видевшего посох собственными глазами. И он подозревал, что вся эта история была мистификацией.
Однако из показаний мастера Макгоуэна следовало другое. В тот страшный день, пока солдаты швыряли в огонь полные телеги священных предметов, он вбежал в церковь, увидел, что посох уже вынули из футляра, и в одно мгновение, когда внимание королевских вандалов отвлеклось на что-то, схватил посох и убежал. Он принес посох в собственный скромный дом. На следующий день вместе с олдерменом Дойлом он осторожно выбрался из города и отвез посох в одну набожную семью в Килдэре, известную членам этой гильдии. Имя названо не было. Уж слишком секретное для этого дело. Морис предположил, что это должен был быть один из древних кланов, хранителей монастырей, — семья, из которой происходили священнослужители и чья родословная прослеживалась иногда до дней самого святого Патрика.
Показания подтверждал и давал в том клятву олдермен Дойл. А Морис, держа в руках эту бумагу и постепенно осознавая значение документа, почувствовал, что начинает дрожать.
Прежде всего документ выглядел безусловно подлинным. Один из наиболее священных предметов всего христианского мира вполне мог находиться примерно в сорока милях от Дублина. И более того, для измученных и униженных ирландских католиков это был религиозный и национальный символ, предмет гордости, почитания, вдохновения, ожидавший, когда его вознесут в сердце страны. И вот, если посох вдруг появится перед людьми, а их еретики-правители осмелятся заявить, что это фальшивка, в руках Мориса имелось решительное доказательство его подлинности.
То, что Морису довелось найти документ именно в такое время, могло означать лишь одно: это было Божественное вмешательство, знак, поданный самим Господом. Морис быстро прочел молитву.
Теперь ему следовало понять, что делать. Возможно, прямо сейчас лучше сохранить все в тайне. Документ представлял собой огромную ценность как для католиков, так и для их врагов, но никто ведь не знал о его существовании. Много лет он пролежал в надежно запертом сундуке. И все же Морис должен был поделиться с кем-нибудь этим знанием. С кем-нибудь, кому он мог доверять. И ему могла понадобиться помощь. Ответ Морис искал недолго. Чья семья более тверда в вере, кто более осторожен, чем его собственный кузен Донат Уолш?
В тот же день Морис написал короткое письмо, тщательно выбирая слова. Он не вдавался в подробности, но сообщал кузену, что у него есть крайне важное дело, которое касается веры. И это дело необходимо обсудить. Морис просил о встрече у толсела, старого городского зала собраний в Дублине, через три дня, в воскресенье. Письмо Морис отдал слуге. Парень должен был добраться к ночи до Дублина, а на следующее утро доставить письмо в Фингал. Что до встречи в Дублине, время нельзя было выбрать лучше. Они оба все равно были бы в столице.
Потому что имелась особая причина к тому, чтобы открытие Мориса следовало расценивать как откровенный Божественный знак: Ирландии был дарован король-католик и в воскресенье он прибывал в Дублин.
Письмо доставили, когда Донат Уолш отсутствовал дома. Он пошел к колодцу Святого Марнока. И там, опустившись на колени, он молился за освобождение Ирландии.
Сорок лет миновало после страшного появления Кромвеля. Сорок лет, в течение которых семья Уолш не теряла веры, даже в самые мрачные дни. И доказательства Божьей милости они видели не раз. Но кто мог бы даже вообразить те чудесные события, что разворачивались теперь?
Донат любил это святое место. Как часто он приходил сюда со своим отцом Орландо. И именно благодаря отцу он смог провести немалую часть своего детства в Фингале, в этом самом имении, которое он так хорошо знал и так любил. Отцовский лозунг был прост: будь тверд в вере. Он никогда ее не терял. Она его поддерживала.
Ведь после чудовищной резни в Дроэде, как ни противно ему это было, Орландо продолжал давать деньги Дублинскому замку и снабжать продовольствием солдат. Кромвель бурей пронесся по Ирландии, но задержался здесь не надолго и оставил своих командиров завершить дело. Несмотря на жестокость военных действий, им все же понадобилась еще пара лет для того, чтобы полностью покорить Ирландию. И в течение этого времени, когда денег и продуктов не хватало, власти не имели причин думать об Уолше. Но такое не могло продолжаться вечно.
Донату было почти двенадцать лет, когда однажды днем его отец, вернувшись из Дублина, мрачно сообщил:
— Они хотят переселить нас.
— Что ты имеешь в виду? Что значит — переселить? — спросила мать Доната.
— Всех католиков. Они собираются отправить всех католиков на запад, в Коннахт. А остальную часть Ирландии отдать протестантам.
Позже Донат узнал, что его отец и тысячи таких же, как он, долгое время думали, что их могут казнить. Несколько сот казней действительно состоялось, в том числе было убито множество священников. Многие сбежали. Но к счастью, казни прекратились. Как только праведники Англии одержали победу, стало ясно, что вовсе не смерти ирландских бунтовщиков они искали. Они желали получить их землю.
Солдаты, авантюристы, друзья Кромвеля, правительственные чиновники, люди вроде доктора Пинчера, все, конечно, богобоязненные, — все они явились на остров за землей, и им должны дать землю.
— Но чтобы их насытить, понадобится две трети всей Ирландии, — заметил тогда Орландо.
Однако англичан это не тревожило.
— Чем больше земли мы заберем, — подчеркивали они, — тем больше станет в Ирландии протестантов.
Решено было проделать это самым простым способом. Многие великие бунтовщики бежали. Большинство из них, конечно же, были католиками, а некоторые, вроде великого Ормонда, — протестантами, но роялистами. У них землю отобрали сразу. Но потом дошла очередь и до менее важных фигур, включая многих землевладельцев Фингала, практически не принимавших участия в бунте. Что делать с ними?
Горстка джентльменов, включая и некоторых католиков, превратившихся в доносчиков или просто помогавших Англии, осталась на своих землях в качестве вознаграждения. Но в отношении остальных было найдено совершенно новое решение.
— Если они протестанты, пусть их оштрафуют, — заявило правительство. — А если католики, так просто выгнать их, и все.
Но вместо того чтобы уничтожить этих людей, администрация Кромвеля решила, что, в зависимости от степени их вины, им может быть дана половина или треть стоимости их имения — в виде бесплодных земель в Коннахте, на западе.
Покинуть землю в Фингале, где их семья жила несколько столетий, переехать в дикий Коннахт? Орландо это казалось чудовищной идеей. Но один из новых чиновников в Дублинском замке объяснил ему все предельно просто:
— У тебя есть выбор, мастер Уолш. Ты можешь отправиться или в ад, или в Коннахт.
Но вся эта операция требовала времени. Ее масштаб был огромен, всех сразу было не переселить. И Орландо, продолжая, как и прежде, служить Дублинскому замку, умудрился продержаться в Фингале еще год, и даже дольше.
Шел уже 1653 год, когда явился доктор Пинчер. В городе разразилась эпидемия чумы, и доктор прибыл с приказом: поселить доктора в доме, где он будет жить до тех пор, пока не пожелает вернуться в город. Донат был буквально зачарован этой тощей черной фигурой. Доктор посмотрел на мальчика ледяным взглядом и занял лучшую спальню. Доктор Пинчер надеялся, что ему будут усердно прислуживать. Отец объяснил Донату, что ученому проповеднику уже больше восьмидесяти лет. Но визит старого доктора оказался также и весьма познавательным.
Доктор Пинчер прожил у них десять дней, когда к нему в гости приехал его племянник, капитан Бадж. Он остался лишь на одну ночь. Обычно старик жил один в своей спальне, но на этот раз племянник разделил с ним спальню, и Донат с любопытством наблюдал за здоровенным офицером с широким плоским лицом. Капитан Бадж был важным человеком и имел собственное имение. Когда Бриан О’Бирн ради спасения собственной жизни бежал из Ирландии, Ратконан отдали Баджу. И потому, пока его отец вежливо расспрашивал Баджа о предстоящем великом переселении, Донат внимательно слушал. Орландо осторожно спрашивал, не выглядит ли такая политика несколько резковатой?
— Нет, сэр. Это просто необходимость, — ответил ему Бадж. — Коренные ирландцы совершенно не склонны к цивилизации. Не способны сами управлять собой. Просто животные.
Донат, живя в имении в Фингале, никогда не слышал, чтобы ирландцев описывали подобным образом. Слуги, арендаторы, рабочие в полях, рыбаки на побережье, сборщики устриц в Мэлахайде, мастеровые в Свордсе — вежливые, гостеприимные ирландцы, рядом с которыми он вырос, — вовсе не походили на тех людей, которых описывал Бадж. Видимо, он говорил о каких-то других провинциях. Но Бадж еще не закончил:
— Их необходимо держать в узде. Они убили триста тысяч невинных протестантов, не забывайте.
— Но это же совершенная неправда, и вы это знаете, — мягко произнес Орландо и посмотрел на доктора Пинчера.
Но проповедник просто сунул в рот кусок хлеба и принялся жевать. Он до сих пор сохранил почти все зубы.
— Это правда, — решительно заявил Барнаби. — Так написано в книге.
— Книги тоже могут лгать, — заметил Орландо.
— Папистские книги могут. Но это была протестантская книга. — Барнаби согласно кивнул самому себе. — И именно сквайры-паписты подняли всех на бунт, — подчеркнул он. — Так что мы должны быть уверены: такое больше не повторится. Каждый ирландский вождь, все священники, каждый человек, владеющий оружием, каждый известный джентльмен-католик — все должны быть выселены из этих краев. А потом над ирландскими собаками поставят протестантских начальников, которые и будут держать их в смирении. Вот в чем цель переселения.
— Значит, я должен буду переехать в Коннахт?
— Наверняка, — кивнул Барнаби.
Именно тогда Донат впервые по-настоящему понял, как думают английские поселенцы, которые теперь должны были властвовать над их землями.
Следующей весной семью Уолш выселили. Донат и его родители отправились в долгий путь на запад. У них были четыре телеги, нагруженные мебелью и разными пожитками, а драгоценности и золотые и серебряные монеты они зашили в одежду. Дэниел, хотя и не способен был понять, куда и почему они едут, тоже, конечно, был с ними. Все слуги, кроме троих, которых они взяли с собой, поскольку те с давних пор жили в семье, и арендаторы, и обитатели коттеджей, и рабочие остались в имении в Фингале. Но Уолши лишь повторяли судьбу многих и многих других. Не тронули огромное множество коренных ирландцев, чтобы те возделывали землю для новых протестантских хозяев, а лендлордов, столетиями владевших этой землей, выслали в Коннахт.
— Ну, по крайней мере, у нас хорошая компания, — сухо заметил отец Доната.
К тому времени, когда они отправились в дорогу, очень многие соседи и друзья уже проделали тот же путь. Некоторые носили ирландские имена: Конраны или Кеннеди, Брейди или Келли. Но ничуть не реже переселяемые семьи имели старые английские фамилии: Кьюсаки и Крузы, Диллоны и Фейганы, Барри, Уолши, Планкетты, Фиц-такие-то…
Большей частью земель вокруг Дублина теперь управляло само правительство, чтобы сдавать их в аренду. И Орландо ничуть не удивился, когда узнал, что доктор Пинчер взял в аренду их имение за половину той цены, которую Орландо был вынужден платить, чтобы самому оставаться на прежнем месте.
Но перед ними встала еще одна проблема, которую Орландо, изо всех сил держась за свою землю, не смог предвидеть.
Никто так и не понял, какое именно количество земли следует выдать Орландо Уолшу. После бесчисленных расспросов в Дублинском замке Орландо обнаружил, что чиновники и сами этого не знали.
— Все должны решить в Атлоне, — сказали ему. — Так что узнаешь, когда доберешься туда.
Они медленно ехали на запад целых пять дней, пока наконец не добрались до Атлона. Судебное управление, занимавшееся выдачей земель переселенцам, располагалось в большом здании на главной улице. Семья нашла гостиницу, и на следующее утро Орландо отправился к чиновникам, взяв с собой Доната. Маленький лысый мужчина, занимавшийся этим делом, с искренним сожалением посмотрел на Орландо.
— Жаль, что вы не приехали на несколько месяцев раньше, — вздохнул он. — Тогда могли получить что-нибудь получше.
— У вас есть какие-то особые инструкции на мой счет?
— Нет, не в этом дело. Мы должны найти что-нибудь для каждого, если сможем. Но это и все. — Он покачал головой. — Вы же знаете, у Кромвеля есть представление о том, чего он хочет, и он знает, что он ненавидит, однако совсем не знаком с управлением. Он издает приказы, но что до подробностей… — Чиновник развел руками, показывая, что никаких деталей в таких приказах нет. — Переселение в Коннахт было… — И он снова жестом показал, что весь процесс представлял собой чистый хаос. — Я здесь просто подчищаю хвосты, — продолжил чиновник. — Те, кто получил землю, уже разъехались, видите ли. Их ничто здесь не держит. И они, вы понимаете, разбогатели. — Он многозначительно посмотрел на Орландо. — Есть, правда, одно местечко в Клэре. Там всего около тридцати акров, но прокормиться можно. Это лучшее из того, что осталось.
Дальнейшие расспросы подтвердили слова чиновника. Все переселение было не просто чудовищным беспорядком; оно превратилось еще и в скандал. Люди, которые предположительно не должны были получить ничего, но приехали раньше, с помощью солидных взяток чиновникам судебного управления получили огромные куски земли. Другие, которым полагались сотни акров, едва получили по пятьдесят, и то если им повезло. Что ж, подобного хаоса и взяточничества и следует ожидать, когда какой-нибудь завоеватель начинает передел страны. Да разве и может быть иначе? Но переселение в Коннахт было и вовсе отвратительным предприятием.
Так начались семь долгих лет в графстве Клэр. На их маленькой ферме имелся небольшой дом, который Донат с отцом постепенно привели в порядок и перестроили. Земля, по крайней мере, давала семье средства к существованию. Соседи им достались хорошие. Уолши усердно трудились, и они выжили. Но первые два года в полуразвалившемся коттедже с протекающей крышей были по-настоящему трудными. Двух своих слуг они отослали обратно в Фингал, потому что просто не могли их прокормить.
Мэри Уолш, хотя и старалась держаться бодро, постоянно чувствовала себя подавленной. Но больше всех страдал несчастный Дэниел. Пусть он не слишком многое понимал, но он как будто куда сильнее ощущал горе Мэри, чем остальные. Он цеплялся за нее, иногда слишком досаждая, и это лишь добавляло ей страданий. Через год Дэниел заболел и умер. Конечно, Орландо давно предупреждал Доната: «Такие дурачки редко доживают до двадцати лет», и Донат знал, что не должен слишком горевать. Но все равно облако печали еще много месяцев после похорон Дэниела висело над их семьей.
И все же кое-что Донат мог считать благом. Благодаря их изгнанию он куда лучше узнал своего отца, чем это могло бы быть при других обстоятельствах. Он понимал, какое унижение чувствовал отец из-за их ныне бедственного положения, и восхищался тем, что отец никогда не показывал этого. Они вместе работали на маленьком клочке земли — завели свиней, несколько коров, выращивали овес. И Орландо взял на себя образование сына, в результате чего к тому времени, когда ему исполнилось двадцать, Донат уже знал почти все то, что мог предложить университет в Саламанке, а также и многое из ирландской юридической практики. Возможно, постоянно находясь в обществе немолодого человека, он стал и выглядеть немного старше, чем юноши его возраста. Но время вряд ли вообще подходило для обычных детских шалостей и забав. Больше всего Доната радовало то, что во всех делах он рядом с отцом.
Каждый год они совершали паломничество в Фингал. Такая поездка для них как для переселенцев была незаконной, но они путешествовали осторожно и ни разу не попались. Это были моменты воссоединения, встречи друзей. Арендаторы в имении приветствовали их и прятали в своих коттеджах. Один даже отдал Орландо часть арендной платы.
— Я заявил этому старому черту Пинчеру, что не могу позволить себе платить ему полную сумму. Проклятый протестант! Он вообще ничего не понимает! — насмешливо сказал он.
Из Дублина повидаться с ними приезжал их кузен Дойл, которому Орландо перед отъездом оставил сто фунтов стерлингов на хранение. Дойл привозил им последние новости из Дублина. И нередко его опасения касались того, что происходило в дублинских церквях.
Если и было в правлении Кромвеля нечто такое, что позволяло католикам, а также протестантам из старых англичан, вроде Дойла, надеяться на некий свет в полной тьме, так это распоряжения относительно церквей. Конечно, папистские священники должны были быть убиты, а Англиканская церковь короля Карла, с ее епископами и обрядами, решительно уничтожена. Но помимо этого, как и большинство военных, Кромвель был уверен: общины должны быть свободны в выборе собственных благочестивых проповедников. Результат же, даже в самом соборе Христа, иной раз получался ошеломляющим. В Дублине появились баптисты, квакеры, сектанты разного рода, а еще и конгрегационалисты, или индепенденты, каждые со своим особым видением мира. У одних богослужения были чрезвычайно мрачными; другие громко пели; были и такие, что впадали в настоящую истерию.
Дойл, с его циничным умом, тихо развлекался, посещая такие службы, а потом рассказывал о своих впечатлениях Орландо.
— Видишь ли, дорогой мой сынок, — объяснял он Донату, — как правы наши священники, когда говорят нам: вся проблема этих протестантов в том, что они совершенно сбиты с толку.
Во время третьего посещения Фингала Уолши узнали о смерти старого доктора Пинчера. Теперь землю арендовал его племянник, капитан Бадж. Но обстоятельства смерти доктора были кое в чем примечательны. И рассказал об этом Уолшам тот арендатор, что передал Орландо часть арендной платы.
— Перед самым концом доктор впал в настоящее безумие. Кричал во все горло о каком-то человеке, что нападает на него с мечом. А когда его тело стали раздевать, как ты думаешь, что увидели? Шрам! Прямо через всю спину, от плеча до ребер. Так что в его словах, пожалуй, был какой-то смысл. Потом приехал капитан Бадж, и ему рассказали об этом. А он на какое-то время задумался. Потом сказал: «Это было во время бунта сорок первого года. Католики напали на моего дорогого дядю. Ему повезло, что его не убили». Как думаешь, это правда?
— Никогда об этом не слышал, — ответил Орландо.
И прежде чем Донат с отцом уехали из Фингала, они сделали то же, что и всегда. Вместе пошли к святому колодцу в Портмарноке, чтобы помолиться там.
— Я это делаю, — обычно напоминал сыну Орландо, — точно так же, как делал мой отец до меня. — А у колодца он повторял: — Мне очень жаль, Донат, что тебе приходится видеть отца в столь жалком положении. Но мы не должны терять веру. Ведь то была величайшая Божья милость — то, что после многих лет ожидания Он даровал нам тебя. И в свое время, когда мы пройдем испытания, Он снова нас поднимет настолько, насколько сочтет нужным.
И вот в конце концов все должно было закончиться. Бог возмещал им за их страдания.
Избавление пришло из Англии. Потому что, если Кромвель преуспел в сокрушении Ирландии и превращении ее в колонию, в самой Англии дела шли совершенно иначе. При всем своем военном могуществе Кромвель так и не сумел создать удовлетворительное правительство, которое сменило монархию, им уничтоженную. Сначала правил парламентом, потом установили протекторат. Кромвель фактически стал королем, хотя так не именовался, потом ввели военное управление, и власть перешла в руки генералов, — словом, попробовали все. И когда спустя десятилетие измученный тиран умер, его сын вообще не пожелал занять место отца. В 1660 году английский парламент и сын покойного короля пришли наконец к взаимопониманию. И на английский престол был возведен Карл II, хотя и с определенными условиями.
Одним из условий было то, что протестантские поселенцы в Ирландии должны сохранить свои земли. Но с некоторыми исключениями. И когда Ормонд вернулся в Ирландию как новый лорд-наместник короля, он милосердно вспомнил о невезучей семье Уолш. Его сло`ва оказалось достаточно для того, чтобы убедить королевских чиновников в том, что Орландо не совершал никаких преступлений, а Барнаби Баджа пусть и неохотно, но все же убедили в том, что он должен отказаться от аренды земель, доставшихся ему от дяди. И в отличие от многих их друзей, Уолши вернулись домой, в Фингал. Это воистину было доказательством того, что Бог проявляет к ним особое благоволение.
И благодаря этой Божьей милости Донат так с тех пор и жил в Фингале. Он видел, как оба его родителя мирно дожили до глубокой старости. Он познал радость обладания собственной семьей, а недавно выдал обеих дочерей за хороших людей. Пять лет назад его жена умерла, и Донат Уолш предполагал, что эта часть его жизни завершилась. Но к немалому собственному удивлению, он снова обрел счастье. И еще более удивительным оказалось то, что в прошлом декабре его новая жена подарила ему первого сына. И, в порыве величайшего счастья, они назвали младенца Фортунатом.
И вот теперь, после ряда событий, которые никто не смог бы предсказать, твердой вере Уолшей и бесчисленных семей вроде них как будто была дарована новая надежда. Король Англии Карл II, человек, любивший строительство, науку и многих женщин, внезапно умер четыре года назад, и его место занял его брат Яков. И Яков II был католиком. Десять дней назад он прибыл в Ирландию и намеревался собрать в Дублине парламент. Ситуация явно сложилась из ряда вон. Никто не представлял, что может случиться дальше. Похоже, ирландских католиков опять собрались испытать на прочность. Но как бы то ни было, Донат собирался в то воскресенье в Дублин, чтобы приветствовать нового короля.
Вернувшись домой, Донат обнаружил письмо от своего кузена Мориса и тут же с любопытством его прочел. И с улыбкой. Морис Смит отлично разбирался в делах. Он неплохо потрудился во время своего пребывания во Франции. А когда более благодушное правление Карла II наконец подтолкнуло его к тому, чтобы вместе с семьей вернуться в Дублин, он сумел и там преуспеть, хотя и был католиком. Но при этом в кузене Доната сохранялось и нечто романтическое. Его легко могло подхватить волной внезапного энтузиазма.
И примером тому была покупка имения. Когда Бриан О’Бирн, как и большинство ирландских сквайров, был вынужден бежать от Кромвеля, а Ратконан отдали Барнаби Баджу, это было печально, что уж тут говорить. Бадж стал там хозяином, и хотя люди в горах Уиклоу ненавидели его, они мало что могли поделать. Бадж поселился в старом доме-крепости, стал называть себя джентльменом и хватать собственность и аренду везде, где только мог. Он удержал Ратконан на все время правления Карла II и прожил там до тех пор, пока не умер чуть больше десяти лет назад. В Ратконане поселился старший сын Барнаби и тут же столкнулся с проблемой. Его отец и младший брат Джошуа были сделаны из крепкого материала, но мистер Бенджамин Бадж был человеком мирным, однако прошло совсем немного времени, и у него начались проблемы с тори.
Доната всегда очень веселило то, что два политических лагеря в английском парламенте были известны под столь забавными названиями. Партия, считавшая, что парламент должен контролировать короля, и состоявшая в основном из протестантов, была известна как виги, и в этом звучало легкое пренебрежение, потому что так же называли людей скучных, нудных. А вот члены партии короля назывались тори, то есть ирландскими разбойниками!
И это воистину были ирландские разбойники — в основном местные люди, любившие свободу гор Уиклоу и ненавидевшие протестантских поселенцев. Вот эти тори и сделали жизнь бедного мистера Бенджамина Баджа совсем несчастной. В последние годы своего правления Карл II, этот добросердечный монарх, уменьшил строгости, и католики снова смогли покупать землю. И потому, когда Морис Смит предложил Баджу честную цену за имение, Бенджамин взял деньги и с радостью избавился от земли. Он поселился в Дублине и пока вообще не выказывал желания приобрести какое-нибудь поместье.
Но Донат часто гадал, почему его кузен Морис так рвался очутиться в тех горах? Он знал, что Морис очень любил Бриана О’Бирна и ощущал духовное родство с его горными владениями. И действительно, с тех пор как он там поселился, Морис постоянно твердил, что очень счастлив, а поскольку он был католиком и имел некоторую родственную связь с теми краями, местные жители, похоже, отнеслись к нему вполне терпимо. Однако Морис истратил на покупку Ратконана все свои деньги, и Донат сомневался, что кузен сможет получить от земли большую отдачу. Но это было вполне в духе Мориса — копить деньги много лет, чтобы потратить их вот так.
И потому, во второй раз прочитав письмо, присланное двоюродным братом из Ратконана, и оценив загадочное волнение, заметное в манере изложения, Донат призадумался над тем, какая новая идея могла на этот раз прийти в голову Морису.
Воскресенье, 24 марта. Вербное воскресенье — праздник вхождения нашего Спасителя в Иерусалим. Была ли и сама эта дата Божественным знаком? Король Яков вошел в Дублин через западные ворота Святого Якова.
За воротами были установлены подмостки, на которых играли два ирландских арфиста. Монашеский хор исполнял радостную песню, а группа горожанок в белых одеждах танцевала перед королем. Навстречу королю вышли мэр и представители гильдий вместе с оркестром волынок и барабанов и торжественно передали ему ключи от города, перед тем как король вошел в ворота. Потом Яков со своей свитой, состоявшей из приближенных и кавалерии, пехотинцев и флейтистов, шествовал по улицам, которые если и не были устланы пальмовыми листьями, но, по крайней мере, покрыты свежим гравием. Королю Якову II было отдано должное. Перед входом в Дублинский замок он даже прослезился.
Держался король скромно. Выглядел он в общем неплохо: кожа у него была бледной, с красноватыми пятнами, в то время как его брат был смуглым и темноглазым; лицо короля, некогда гордое, теперь осунулось от изгнания и болезни. Он благодарил добрых жителей Дублина, вышедших его встречать. Ему как будто хотелось сказать, что он пришел с мирными намерениями по отношению ко всем своим ирландским владениям и ни к кому не испытывает вражды. И все же Донат Уолш и Морис Смит, стоявшие рядом, когда король проходил мимо них, знали, что все пойдет не так-то легко. Потому что факт оставался фактом: народ Англии выгнал его, а соперник короля, претендующий на престол, мог объявиться в любое мгновение.
В том, что касалось протестантского населения Англии, то оно никогда не ожидало, что Яков станет королем. Его брат Карл II всегда выглядел человеком чрезвычайно здоровым. Правда, существовали подозрения, что Карл может быть тайным католиком. Но если он им и был, то у него хватало ума не попадаться. Вместо того он содержал любовниц, посещал театр, шутил с простыми людьми на конских состязаниях и в общем проявлял здравый смысл в тех случаях, когда религиозный экстремизм грозил неприятностями. Но если он пытался убедить своих подданных-протестантов быть более терпимыми к католикам, то его задачу ничуть не облегчило то, что в конце его правления его кузен, король Франции Людовик XIV, грубо выставил протестантов-гугенотов из своего королевства и вынудил их бежать — около двухсот тысяч человек — в Голландию, Англию и вообще куда угодно. Лондон принял десять тысяч таких беженцев. И при этом лондонцы припомнили и инквизицию, и ирландский бунт, и вообще все беспорядки, реальные или воображаемые, которые учиняли католики против протестантов. Поэтому для всей Англии стало огромным потрясением, когда Карл II внезапно умер, а его младший брат, откровенный католик, столь же неожиданно взошел на трон.
Однако люди готовы были его терпеть по одной-единственной причине. Пусть он и был католиком, но его наследница, дочь Мария, слава Богу, была протестанткой и замуж вышла за протестанта — принца Вильгельма Оранского, правителя Нидерландов. А следовательно, люди вполне могли какое-то время потерпеть Якова, но в будущем они рассчитывали на Марию и Вильгельма.
Так что, когда Яков начал продвигать вперед католиков, англичане стиснули зубы. Когда он начал назначать в армию офицеров-католиков, они встревожились. А когда — вопреки тому факту, что он не мог в течение многих лет произвести на свет ребенка и слухи при этом говорили, что все из-за некой венерической болезни, — король вдруг обрел сына от второй жены-католички, Англия взорвалась. Да его ли это ребенок? Да была ли вообще королева беременна? Может, это чистый обман? Не было ли все это очередным дьявольским заговором католиков с целью украсть английский трон и преподнести его Риму? Слухи разрастались. И какой бы ни была правда, англичане знать ее не желали. И они, почти не пролив крови, просто выгнали короля. После того явился Вильгельм Оранский, готовый принять королевство. А Яков бежал во Францию.
Но Ирландия — это была совсем другая история. И протестанты, и католики на острове были встревожены событиями, происходившими по другую сторону пролива. И любимец короля Якова, лорд Тирконель, католик, постарался ради своего владыки. Он сумел принудить протестантов к повиновению, но в то же время заверил их:
— Король Яков не желает причинять вам вреда.
Пресвитерианцы в Ульстере были переполнены подозрениями; огражденный стенами город Дерри отказался подчиняться. Но большинство католиков на острове надеялись, что король Яков явится к ним как освободитель.
И вот, с деньгами и войском, предоставленным ему его кузеном, французским королем Людовиком, он прибыл в свои ирландские владения.
Король Яков вошел в Дублинский замок, а Донат с Морисом отправились в гостиницу перекусить. Донат уже успел собрать все новости.
— Он намерен созвать парламент. Здесь, в Дублине, в начале мая. Они хотят, чтобы его членами стали старые сквайры-католики. Ты только подумай об этом, Морис! Католический парламент!
— А как же наша вера?
— Думаю, он будет осторожен и мудр. Все последние десять дней, пока он ехал из Корка в Дублин, он встречался с протестантскими пасторами и заверял их, что никто не станет мешать протестантам верить, как им хочется. Все варианты христианства хороши. Это его слова. До тех пор, пока они преданы короне. — Донат улыбнулся. — Но конечно, Ирландия станет католической.
Потом Морис рассказал ему о посохе святого Патрика и с удовольствием увидел, что Донат полностью с ним согласен относительно важности этого открытия.
— Сила подобной вещи должна быть воистину велика, а уж если мы сможем вместе найти посох и предъявить те показания под присягой… Это же символ самой Ирландии! И если дело дойдет до войны с королем Вильгельмом, у нас будет подлинный посох, витающий над полем битвы…
— Так ты мне поможешь?
— Само собой! Мы должны найти его!
Но лишь в начале мая, как раз когда был уже созван парламент, Морис принялся за поиски. Он знал, что ему, скорее всего, придется уехать на какое-то время. Но он оставлял Ратконан в хороших руках. Его сын Томас не был деловым человеком, но любил землю и все на ней. Томас отлично справился бы с имением в отсутствие отца.
Тем временем Донат Уолш был чрезвычайно занят. Его расспросы в Дублине ни к чему не привели. Но некоторые тщательные исследования дали ему множество фамилий людей, которые могли что-то знать о посохе. Вооружившись этим солидным списком, Морис отправился в путь, как пилигрим или странствующий рыцарь былых времен, на поиски своего Грааля.
Первым делом Морис поехал в графство Мит. Именно там, если верить сообщениям, в последний раз видели посох. Две недели он блуждал от дома к дому, где жили католики разных рангов или священники. И хотя Морис расспрашивал всех весьма подробно, он не узнал ничего конкретного. Кое-кто говорил, что посох видели в каком-то доме или часовне. Похоже, его могли туда принести из других провинций. Но большего никто не знал.
Из Мита Морис перебрался в Килдэр. В показаниях, в конце концов, упоминался именно Килдэр. И снова Морис действовал таким же образом, проведя там еще две недели. Но и в Килдэре он ничего не узнал.
Однако оставалась еще одна вполне очевидная возможность. С тех пор как были записаны те показания относительно посоха, люди много раз меняли места жительства. Почти все семьи преданных своей вере сквайров отправили в Коннахт. А потому из Килдэра Морис направился на запад, чтобы найти старые семьи из Килдэра, которых выслали туда. Это была уже задача помасштабнее и потруднее, но Морис был целеустремлен, и чем дальше он забирался, тем более исполнялся решимости не сдаваться.
Это было тяжким испытанием: путешествовать от фермы к ферме, от коттеджа к коттеджу и видеть древние католические семьи, доведенные переселением до нищеты. Многие надеялись, что с новым католическим парламентом они смогут вернуть свои имения. Морис тоже на это надеялся и молился, чтобы было именно так. Но никто и в тех краях ничего не знал о посохе святого Патрика. Неделя шла за неделей. Только истратив все взятые с собой деньги, Морис оставил поиски и вернулся домой, пообещав себе снова взяться за это, как только сможет.
Это было в начале июля. Морис миновал перевал в горах Уиклоу и уже спускался к старому дому в Ратконане, который так любил.
И Морис был несколько удивлен, когда, подъехав к дому, обнаружил, что у него гость. А поскольку лошадь осталась у входа, было ясно, что гость прибыл только что, но с противоположной стороны.
Его жена стояла рядом с гостем. И его сын Томас тоже. И оба как-то странно смотрели на Мориса.
Гость был высоким, темноволосым, красивым мужчиной с военной выправкой. Средних лет, возможно лет на десять моложе самого Мориса, он казался подтянутым и крепким. Гость посмотрел на Мориса и шагнул к нему:
— Так ты и есть Муириш, сын Уолтера Смита?
— Верно.
— А я Ксавье О’Бирн. Сын Бриана О’Бирна. Я просто приехал взглянуть на это место, — он широким жестом обвел дом и землю Ратконана, — раз уж теперь все это должно вернуться ко мне. — Он улыбнулся. — И хотел спросить у твоей семьи: где вы сами собираетесь жить?
Морис узнал множество странных вещей, когда тем вечером сидел за столом с О’Бирном. Морис был настолько поглощен своими поисками, что совершенно не интересовался тем, что происходило в дублинском парламенте. Да, ему известно, что землю должны вернуть тем, кого выселили с нее, но относительно механизма такого возврата он ничего не знал. И, по правде говоря, Морис ни разу не подумал об О’Бирнах.
— Король Яков вообще против этого, — пояснил О’Бирн, — потому что боится, как бы не возникло слишком много неприятностей, но джентльмены-католики в парламенте полны решимости. Они хотят, чтобы все земли, конфискованные Кромвелем и переданные протестантам, были возвращены их владельцам. Включая и тех, кто покинул страну, если они пожелают вернуться. Так что, как видишь, сюда входит и Ратконан.
— Но я католик, и я купил это имение, — напомнил ему Морис.
— Ты лишь один из многих. Ты, видишь ли, купил землю у Баджа, который не имел на нее права. — О’Бирн улыбнулся. — И ты не один такой. Множество людей оказались в таком же положении, и последняя идея парламента — компенсация. Есть некоторые протестанты, которые отправляли помощь королю Вильгельму, когда он явился в Англию. И вот их-то земли и отберут, а тебе заплатят из тех денег.
— Но я люблю Ратконан…
— Рад это слышать. Вот только моя семья жила здесь несколько веков.
Морис вздохнул. Он не мог отрицать справедливости того, что говорил О’Бирн, но ему хотелось, чтобы все было иначе.
— Ну, еще долго ничего не произойдет, — заверил его О’Бирн. — Члены парламента могут спорить об этом и год, и два, осмелюсь предположить. И, кроме того, Ирландия пока не защищена как следует.
Когда они обсуждали военную ситуацию, О’Бирн рассуждал интересно и цинично.
— Я солдат удачи, Муириш, наемник, — заявил он. — Я смотрю на все трезвым взглядом. Те ирландские войска, что собрал Тирконель, а у него тысячи солдат, очень плохо вооружены. У некоторых даже копий нет. И они не обучены. Конечно, они храбры как львы. Это заставляет меня гордиться тем, что я ирландец. Но все это бесполезно. Есть ирландские офицеры вроде меня самого, люди, чьи семьи бежали из Ирландии много лет назад. Теперь кто-то вернулся, чтобы выяснить, что они могут получить. Мы тренируем тех солдат, как только можем. Еще на подходе французская армия. Там настоящие, профессиональные солдаты. Но если король Вилли сюда явится, он привезет с собой армию, которая выиграла все главные военные кампании в Европе. — Он присвистнул сквозь зубы. — Да большинство ваших ребят вообще никогда ничего подобного не видели.
— А он явится?
— В том-то и вопрос. — О’Бирн покачал головой. — Я не знаю. Пока, похоже, ему не очень хочется. В этом и состоит надежда — что он предоставит королю Якову удержать за собой Ирландию. Чисто семейное дело. В конце концов, Яков его тесть. И они всегда были в дружеских отношениях, пока считалось, что Вильгельм и Мария унаследуют Англию. Может, они найдут какое-то новое соглашение. — Он немного помолчал, соображая. — Но имей в виду, я совсем не уверен в том, что английский парламент готов оставить у себя под боком католическую Ирландию.
— Ну, по крайней мере, нас не тронут, — сказал Морис.
— Возможно, Муириш. Возможно. Эти ребята-протестанты в Ульстере все же желают короля Вилли. Там просто настоящая пороховая бочка, на мой взгляд. И ты знаешь, мы до сих пор не взяли Дерри.
Это было одно из наиболее примечательных событий того лета. Строптивые защитники Дерри заперли ворота и отказывались сдаться силам Якова. Город находился в осаде с апреля, но до сих пор не сдался.
— Должно быть, они там уже крыс едят, — сказал О’Бирн с чисто солдатским восхищением. — Но даже если этот город падет, все равно слишком трудно заставить покориться таких вот людей.
Но истинный сюрприз ожидал Мориса Смита, когда они заговорили о делах семейных. Морис уже знал, что его старый друг Бриан О’Бирн покинул этот мир — во время одного из сражений, когда воевал за короля Франции. Но только поздним вечером, когда он с грустью заметил, что так и не узнал, что случилось с его собственным отцом, О’Бирн сказал:
— Ты имеешь в виду, после битвы у Ратмайнса?
— Ратмайнс? Мой отец не участвовал в этой битве!
— Да нет, участвовал! — возразил О’Бирн. — И мой отец там был вместе с ним, он мне и рассказал обо всем. — И он повторил рассказ о событиях тех дней. — Он не был солдатом, ты ведь знаешь, — с улыбкой добавил О’Бирн. — Но он сражался как настоящий герой — так говорил мой отец. Отец так и не узнал наверняка, но всегда думал, что, скорее всего, твой батюшка отправился в Дроэду и там погиб.
Несколько мгновений Морис молча переваривал эти необычайные новости. А потом, внезапно охваченный любовью к исчезнувшему отцу, он почувствовал, как его глаза наполняются слезами, и вынужден был отвести взгляд в сторону.
— Я и понятия не имел, что он на такое способен, — наконец произнес он.
— Просто он был настоящим ирландцем, — тихо откликнулся О’Бирн.
И тогда Морис рассказал ему о посохе святого Патрика.
Для Доната Уолша осень и зима 1689 года были трудным временем. К всеобщему изумлению, Дерри не только продолжал держаться, но и был освобожден к концу лета. Для протестантов в Ульстере освобождение Дерри стало источником радости и надежды, а для короля Якова — горьким ударом. Несмотря на то что он был католическим королем на католическом острове, это показывало его врагам, что короля можно победить.
Но нельзя было сказать, что у короля Вильгельма дела шли намного лучше. Он отправил на остров своего опытного командующего генерала Шомберга. Но вместо того чтобы ринуться на Дублин, старый воин застрял у границы Ульстера. Многие в его армии заболели во время холодной и сырой ирландской зимы. И в последовавшие месяцы положение в основном стало безвыходным.
Погода беспощадна к армии, беспощадна к местным жителям. Та зима была очень холодной. Ирландцы, полные решимости ничего не делать для поддержки англичан по другую сторону пролива, отдали приказ, чтобы все английские товары, включая даже обычный уголь для отопления домов в Дублине, разворачивали обратно. Но они могли и не беспокоиться на этот счет. Англичане ничего не присылали. Вскоре после Рождества Донат разобрал два забора в имении, чтобы обеспечить людей топливом. В начале нового года, приехав в Дублин, он обнаружил, что половина деревянных столбов и оград в городе уже превратилась в дрова.
Несколько раз он встречался с Морисом Смитом. Его кузен познакомил Доната с О’Бирном. Пока ничего не делалось в отношении передачи земель, и казалось, что при любом исходе эти двое мужчин намеревались остаться друзьями. Что до Доната, то ему было интересно встретиться с солдатом удачи, ему нравился этот умный и широко мысливший человек. А вот весть об исчезнувшем отце Мориса, которую принес О’Бирн, привела к несколько странному результату. Тот солидный, педантичный торговец, о котором всегда слышал Донат, явно оказался куда более романтической душой, чем кто-либо мог вообразить. Морис никогда не говорил об этом, но Донат был уверен: его кузен теперь ощущал некую новую близость с потерянным отцом. В глазах Мориса светились покой и радость, когда он говорил об Уолтере. А Донат был рад, что Морис нашел столь неожиданный источник новых чувств в последнюю половину своей жизни. Мысль о том, что его отец пожертвовал собой ради католической веры, наполняла Мориса еще большей решимостью продолжать поиски посоха. Морис говорил о возвращении в Коннахт весной.
Но военное затишье не могло продолжаться вечно. К февралю прошел слух, что Вильгельм, не полагаясь больше на генерала Шомберга, может лично явиться на остров. В марте подкрепление из нескольких тысяч солдат, нанятых у датского короля, высадилось в Ульстере.
— Против нас снова используют викингов, — жаловались католики в Дублине.
Но в некотором смысле силы, присланные им на помощь королем Франции, оказались не лучше. Во-первых, они вошли в Дублин с видом высокомерным и презрительным по отношению к дублинцам. А во-вторых, не успели они появиться, как стало известно, что несколько тысяч наемников были протестантами!
В течение апреля на север продолжали прибывать английские, голландские и немецкие отряды. Один из командиров флота Вильгельма даже совершил налет на Дублинский залив и захватил корабль Якова. Донату казалось, что так или иначе этим летом события должны дойти до высшей точки.
И лишь одно радостное событие произошло за все это время. Незадолго до Пасхи Донат услышал от жены, что она снова беременна.
Священник подошел к его двери в один из дней в середине мая. Это был старый человек. Плащ, в который он кутался, был забрызган грязью и порван в нескольких местах, но его голубые глаза смотрели пронзительно.
— Это ты расспрашивал о посохе?
Вообще-то, в течение зимы Донат почти ничего не делал. Однако ему в голову пришла идея написать нескольким знакомым ирландцам на континенте, сообщить о недавно обнаруженных документальных свидетельствах и спросить, нет ли у них каких-то новостей насчет посоха. Те ответы, которые он получил до сих пор, были вежливыми и явно говорили об интересе к делу, но, как ни грустно, ничего полезного Донат не узнал.
Однако невозможно было предсказать, какие разговоры подобное расследование могло возбудить в огромной ирландской католической общине в европейском мире. И теперь, похоже, появилось нечто обнадеживающее.
— Я получил письмо, — сказал священник, — от одного хорошего друга в Дуэ. Ну а поскольку я все равно должен был оказаться в Дублине на пути за море, я и подумал, что могу встретиться с тобой.
— Ты видел посох? — с надеждой спросил Донат.
— Нет, не видел. Но некий отец Джером О’Нейл — он умер два года назад — говорил мне, что видел. Какое-то время назад, сказал он, посох хранили там, где ему и следовало быть.
— Следовало?..
— В главной миссии святого Патрика. Думаю, ты и сам мог бы ожидать, что посох окажется там.
— Главная миссия всегда находилась на севере. В Арме.
— Именно так. Ну вот там он и был.
— Весьма любопытно…
— Я больше ничего не могу добавить, даже если бы и хотел. Но у меня нет ни малейших причин полагать, что он ошибался. Это был очень пунктуальный и ученый человек. Но конечно, с тех пор посох могли куда-нибудь переместить. Но я бы сказал, что, скорее всего, ты можешь найти его там.
Донат умолял священника погостить у него, но тот спешил уйти.
— Я бы выпил немножко бренди, если ты будешь так добр, но потом я должен вернуться в Дублин. Я уезжаю завтра.
В тот же вечер Донат отправил письмо Морису. И три дня спустя они встретились в Дублине.
Донату показалось, что его кузена слегка лихорадит. И подумал, не заболел ли тот. Но когда он очень подробно передал Морису рассказ старого священника, тот мгновенно ожил.
— Я собирался вскоре снова отправиться в Коннахт! — воскликнул он. — Но это… Это…
— Посоха может там и не быть. А если он и там, ты можешь его не найти.
— Но мы теперь знаем гораздо больше, чем прежде! — возразил Морис.
Это отрицать было невозможно.
Но оставалась одна проблема. Арма находилась на вражеской территории. Силы короля Вильгельма теперь уже заняли всю ту часть Ульстера и, судя по всему, готовились к сражению.
— Если ты отправишься туда прямо сейчас и начнешь там искать посох святого Патрика, — предостерег Мориса Донат, — то можешь оказаться в весьма опасном положении.
— А ты представь, как это подействует на нашу армию! — возразил Морис. — Представь, что я смогу предъявить им посох святого Патрика, перед тем как они пойдут сражаться! — Он удовлетворенно кивнул. — Я вернусь в Ратконан, чтобы собраться в дорогу. А потом поеду на север.
Было совершенно очевидно, что остановить его невозможно.
— По крайней мере, сначала загляни ко мне, когда будешь готов, — попросил его Донат. — Тебе ведь все равно по пути. Может, я смогу поехать с тобой, хотя бы часть дороги.
И Морис ему пообещал.
Но так или иначе поездку пришлось отложить. Донат не ошибся, когда подумал, что кузен выглядит нездоровым. Письмо из Ратконана, полученное им несколько дней спустя, сообщало, что к тому времени, когда Морис добрался до дому, он весь горел, и жена уложила его в постель. На следующий день начались сильные боли в горле. И, судя по тому, как протекала болезнь, вряд ли он смог бы отправиться в дорогу раньше чем через неделю, а то и две.
На последней неделе мая Донат случайно встретился в Дублине с Ксавье О’Бирном. Донат приехал в город по делам и, проходя мимо Дублинского замка, увидел, как оттуда выходит О’Бирн. Поскольку обоим нужно было в восточную часть города, они пошли вместе и так разговорились, что, проходя мимо трактира на Дейм-стрит, решили продолжить разговор там. Выпив стакан вина, О’Бирн впал в задумчивость. Он собирался вскоре отправиться на север с королем Яковом.
— Потому что я не сомневаюсь, — сообщил он Донату, — что сражения начнутся в течение месяца.
Когда Донат рассказал ему о планах Мориса искать посох в Арме, О’Бирн улыбнулся:
— Он полон наилучших побуждений, этот твой двоюродный брат. Меня весьма печалит мысль, что он может лишиться Ратконана, ты и сам знаешь, пусть даже это место по праву принадлежит мне. — Тут он поморщился. — Хотя если король Вилли побьет Якова, то никому из католиков ничего не вернут, уж это точно.
— Думаешь, Вилли победит? — спросил Донат.
— Трудно сказать. В прошлом году у нас было больше людей, чем надо. Каждый джентльмен-католик и торговец в Ирландии рвался в рекруты, но никто из них не умел воевать. Мы их обучали. Осмелюсь сказать, кое из кого получились солдаты. Но против нас выступают профессионалы. И сам король Вилли — воин. — Он вздохнул. — Я наемник, Донат. Много лет сражался за короля Франции. Но я вполне мог бы положить жизнь и в бою за Священную Римскую империю или за Испанию. Думаю, теперь я буду драться за любых католиков. Но не за протестантов. И все равно я наемник. У меня есть почти уже взрослый сын. И возможно, он тоже станет солдатом. Мы наемники, и таких в Ирландии сейчас много. В армии короля Вилли и голландцы, и англичане, а еще датчане и немцы. Конечно, у меня есть ирландские рекруты, но есть и французы, валлонцы, и немцы тоже, а они в основном протестанты, помоги нам Бог. Это война наемников.
— Морис смотрит на все как на католический Крестовый поход. Вообще-то, мне тоже так казалось, — сказал Донат.
О’Бирн отпил еще немного вина, вытянул ноги и уставился в окно, чуть прикрыв глаза.
— Для Ирландии так оно и есть. Согласен. И для Англии тоже, можно сказать. Эта маленькая война определит, будет ли Ирландия протестантской или католической, это точно. Но Крестовый поход? — Он немного помолчал. — Посмотри на главных участников, Донат. Король Франции Людовик хочет получить власть над всей Европой. Против него выступает целый союз: король Вильгельм с его английскими и голландскими протестантами, Австрия и Испания, причем обе страны — католические. Даже сам папа римский, не забывай… Папа в этом конфликте вовсе не на стороне короля Якова, имей в виду. Он поддерживает протестантского короля Вилли. Так что вся эта история в Ирландии — просто маленькая вылазка в большой войне. Если король Вильгельм победит, по всей Европе в католических соборах запоют благодарственный молебен «Te Deum». Я бы не назвал это Крестовым походом. А ты?
— По крайней мере, мы сами и король Яков сражаемся за Ирландию, — сказал Донат.
— Ну, если тебе удобнее думать именно так.
— Ты даже в этом мне отказываешь?
— Ох, конечно, ирландцы дерутся за Ирландию. — О’Бирн улыбнулся. — И с ними, конечно, старые англичане вроде тебя. Возможно, и я тоже дерусь за Ирландию, Донат. Ну, я думаю, что это так. А вот король Яков думает иначе. Он, конечно, католик. Но почему он так настойчив в том, чтобы дать полную религиозную свободу протестантам, и это с тех самых пор, как он сюда явился? Он заигрывает перед англичанами. Пока мы тут говорим, там рассматривается возможность для Якова отправить часть его армии в Англию, как только прибудет король Вилли, а Тирконель будет удерживать Вилли здесь, в Ирландии. Я это знаю от самого Тирконеля. Французы думают, что он свихнулся, и они это прекратят, я уверен. Но королю Якову нужна Англия, а не Ирландия. И он дождаться того не может.
— Значит, до Ирландии никому нет дела?
— Никому. Ни королю Людовику, ни королю Вилли, ни королю Якову. — О’Бирн задумчиво кивнул. — Судьбу Ирландии будут решать люди, которым на нее наплевать. Вот в чем ее трагедия.
Часом позже Донат тепло попрощался с О’Бирном, но в Фингал вернулся полный грусти и дурных предчувствий. И все же он надеялся, что этот циничный солдат ошибается.
Морис Смит приехал к нему в конце первой недели июня. Он уже полностью оправился от болезни и горел желанием ехать в Ульстер. Морис с гордостью предъявил Донату письменные показания, которые хранил в особом кармане, пришитом изнутри к верхней одежде. С мечом на поясе он выглядел почти воинственно. Глаза Мориса горели энтузиазмом и волнением. Донат пытался уговорить кузена отдохнуть денек в его доме, но Морис и слышать ничего не хотел.
— Тогда я поеду с тобой, — решил Донат.
Они отправились в путь в начале дня.
Каким счастливым выглядел Морис, когда они скакали рядом! Его лицо выражало уверенность и целеустремленность. Донат думал, что Морис искренне верит в то, что отыщет посох. И поддерживал эти надежды всем сердцем.
А что, собственно, он еще мог сделать? Разве он надеялся отговорить Мориса от поисков? Да, скорее всего, это было чистым безумием. Впереди собирались большие армии, и у Мориса просто не было шанса проскочить между ними. В том Донат не сомневался. Он думал о разговоре с О’Бирном. Может, следует поделиться всем с Морисом? А если он расскажет, то обратит ли его кузен на это внимание? Пожалуй, нет.
Но что, если каким-то чудом, а от такой возможности никто и никогда не должен отворачиваться, Господь позволит Морису найти посох и доставить его в армию короля Якова? Изменится ли от этого хоть что-нибудь? Да. Что бы ни говорил О’Бирн, скорее всего, изменилось бы. Простой военный конфликт действительно мог превратиться в Крестовый поход. Кто знает, как это повлияло бы на Ирландию? Ведь не только сам по себе посох святого Патрика, но и тот факт, что он обнаружился именно в такое время, и показания, данные под присягой, также нашлись именно теперь. Все это могло быть воспринято как особый знак. Так что на свой лад Морис был прав. Мечтатели и провидцы уже не раз выигрывали сражения в прошлом. Конечно, шансы невелики, а опасность очевидна, но Донат чувствовал, что Морису это безразлично.
— Ты ведь знаешь, шансы у тебя невелики, — наконец заставил он себя сказать. — Ты подвергаешь себя большой опасности.
— Не больше, чем та, с которой столкнулся мой отец, когда встал рядом с Брианом О’Бирном, — спокойно ответил Морис.
Донат кивнул. Ему казалось, он понял. Они скакали весь день, а вечером разбили лагерь перед холмам Тары. Ночь выдалась теплая. Рано утром они поехали дальше, пока не добрались до Бойна.
— Ну, теперь я тебя покину. — Донат тепло обнял кузена.
Потом какое-то время он провожал взглядом Мориса, поехавшего дальше на север, а затем резко развернул коня и отправился обратно. И у него возникло сильное и тяжелое предчувствие, что больше он никогда не увидит Мориса.
Во второй половине июня пришла весть о том, что Вильгельм прибыл в Белфаст с большим флотом. Яков и его армия сразу выдвинулись на север. Прошла неделя. Вроде бы, судя по слухам, Яков дошел до Ульстера. Потом, немного погодя, отступил к Бойну.
Донат ни слова не получил от Мориса. А одним июльским вечером мимо его дома промчались первые всадники, спеша на юг.
— Король Вильгельм прорвался вперед! Около Бойна!
Письмо от О’Бирна пришло лишь три недели спустя. Оно было весьма дружеским по тону. О’Бирн объяснял, что пишет Донату, поскольку считает это необходимым, и просит передать новости, если возможно, семье Мориса.
Битва у Бойна была скорее чем-то вроде большой стычки. Но она оказалась решающей. Король Вильгельм, при всех королевских регалиях, лично возглавил свою кавалерию и повел ее на ирландцев. Они легко прорвались сквозь заслоны. Король Яков, так ничего и не предприняв, бежал. Он провел ночь в Дублине, обвиняя ирландцев в собственных ошибках. А потом ради собственной безопасности удрал во Францию. Остатки ирландской армии, весьма уважительно отнесшейся к храбрости Вильгельма и теперь ничего, кроме презрения, не испытывавшей к Якову, перегруппировались в Лимерике. Именно из Лимерика О’Бирн и писал. И рассказанная им история была весьма удивительной.
Морис Смит добрался до Армы. Как ему это удалось, О’Бирн и вообразить не мог, но добрался. И там он много дней занимался поисками посоха святого Патрика. «Увы, безуспешно», — написал О’Бирн. И только когда армия Вильгельма двинулась на юг, Морис также был вынужден скакать к югу. «Они, так сказать, погнали этого хорошего человека прямо к нам, — сообщал О’Бирн, — а остальное, осмелюсь предположить, тебя не удивит».
О’Бирн убеждал Мориса повернуть домой. Никакой пользы он здесь принести не сможет, твердил ему солдат. Но Морис ничего не слышал. Он показывал свой документ множеству людей. Даже Тирконелю, а тот упомянул о показаниях в разговоре с королем. Но без самого посоха документ не мог вызвать серьезного интереса.
Он чувствовал, что проиграл, и именно поэтому, предполагаю, еще сильнее желал сражаться. Я, насколько мог, не спускал с него глаз. Но его сбила пуля из мушкета во время схватки у Бойна. Он, должен сказать, был самым храбрым человеком из всех, кого я знал. И на свой лад, уверен, умер так, как ему и хотелось бы.
И до самого конца следующего года Донат больше не получал вестей от О’Бирна. В отсутствие короля Якова остатки ирландских сил делали что могли, держа оборону на западе. Король Вильгельм уехал по другим делам, но прислал вместо себя хорошего генерала-голландца Гинкеля, чтобы завершить усмирение острова. Католические силы возглавлял Сарсфилд. Донат немного знал его. По материнской линии Сарсфилд был потомком ирландских вождей, а по отцу — джентльменом из старых англичан, как и сам Донат. Ведя свою кампанию с изрядной дерзостью, он еще год не давал покоя голландцу. Наконец осенью 1691 года он засел на несколько месяцев в Лимерике, пока наконец не заключил сделку на наилучших и наиболее почетных условиях.
Среди прочего было обещание ирландским католикам, что они смогут исповедовать свою религию и не подвергаться преследованиям.
После этого Сарсфилду и примерно двенадцати тысячам его воинов было позволено выйти из Лимерика и сесть на корабли, чтобы уплыть во Францию. Донат слышал, что О’Бирн оставался там до конца, в основном, как он подозревал, из чувства преданности Ирландии. И тем не менее он был весьма тронут тем, что этот солдат удачи побеспокоился о том, чтобы прислать ему прощальное письмо.
Все кончено, Донат, я уезжаю. Здесь мне больше делать нечего. Я буду бродить по свету, как делал до сих пор и как мой сын, осмелюсь предположить, будет делать после меня.
Но я рад, что побывал дома, в Ирландии, и повидал Ратконан, и приобрел добрых друзей.
А теперь мы, кто уходит из Лимерика, — ирландцы, солдаты, католики, все, кто мы есть, — улетим по ветру, как дикие гуси, и не думаю, что когда-нибудь вернемся.
Мне жаль, что Морис так и не нашел посох.
В следующие годы Донат часто перечитывал это письмо, и со все большей грустью. Через год парламент отменил условия лимерикского соглашения, хотя король Вильгельм был рад оставить католиков в покое. Те, кто сражался у Бойна, — и, увы, среди прочих там оказалось и имя Мориса Смита, — лишились своих земель. «Полет диких гусей» — так стали называть уход из Лимерика. Это был последний крик благородных католиков, навсегда терявших свой остров. А о посохе святого Патрика Донат вообще больше никогда ничего не слышал.
Однажды, когда его сыну Фортунату было семь лет, Донат, вернувшись от святого колодца в Портмарноке, где пробыл дольше обычного, заявил жене нечто неожиданное. Их второй ребенок оказался также мальчиком, и его назвали Теренсом, но после него детей у них уже не было. И теперь, глядя на своих сыновей, Донат тихо произнес:
— Я пообещал святому — и моему дорогому отцу тоже, — что Теренс вырастет добрым католиком.
— Я тоже на это надеюсь, — ответила ему жена.
— Но есть и еще кое-что. Может быть, поначалу это покажется труднее, но я уверен: ради безопасности семьи и ради самой нашей веры это необходимо.
— И что же это такое?
— Фортунат будет воспитан как протестант.
Господство
1723 год
— Такое предложение очень любезно, — сказал Теренс Уолш своему брату Фортунату. — Но должен тебя предостеречь: он может причинить неприятности.
Солнце не спеша опускалось над парком Святого Стефана. Воздух мягко светился.
— Я уверен, — с улыбкой заметил Фортунат, — что молодой Смит не может быть настолько плохим.
Ты понятия не имеешь, насколько плохим он может быть, подумал Теренс, но ничего не сказал.
— Если бы только я не уезжал… — Теренс уже давно обещал себе надолго удалиться в монастырь во Франции, и они оба это знали. — Ты так добросердечен, что это почти недостаток, — продолжил он. — Мне вообще не следовало тебя просить.
— Ерунда!
Какой восхитительный вечер, думал Фортунат. Дублин вообще был приятным городом, если, конечно, вы принадлежите к правящей ирландской элите. И если даже мой дорогой брат к ней не относится, то я ведь отношусь. И красивый город. Потому что, по крайней мере в Дублине, господство протестантов над Ирландией было выражено в кирпиче и извести.
Просто изумительно, как этот город изменился в течение его собственной жизни. Конечно, внутри стен старого средневекового города все так же тянулись узкие улочки и переулки, а главные здания, вроде собора Христа и толсела, древнего зала городских собраний, остались прежними, хотя их и отремонтировали. Но стоило бросить взгляд за стены, и перемены поражали.
Теперь Лиффи, ставшую заметно у´же, пересекло несколько каменных мостов. Те болота, что начинались у Дублинского замка и тянулись вниз по течению, окружая древнее место высадки викингов Хогген-Грин, где лежали земли Тринити-колледжа, были осушены, а реку загнали в каменные стены. Выше на северном берегу герцог Ормонд построил причалы Ормонда и Аррана; вдоль пристаней выстроились склады и прочие здания, сделавшие бы честь любому европейскому городу. За восточной стеной города, где прежде был зеленый общественный луг Святого Стефана, появились новые дома и небольшие улочки, тянувшиеся к Тринити-колледжу. Небольшой извилистый ручей, бежавший от луга к Хогген-Грину и Длинному Камню викингов, просто исчез под одной из улиц, шедшей по плавной дуге, — Графтон-стрит. В западной части города, меньше чем в миле от собора Христа, у Килмейнэма, был возведен огромный Королевский госпиталь, наподобие Дома инвалидов в Париже, в классическом стиле, а на северном берегу, напротив него, высились ворота Феникс-парка — огромного пространства, которое Ормонд привел в порядок и заселил оленями. Феникс-парк был больше и грандиознее всего того, что мог бы предложить Лондон.
Но что действительно ошеломляло, так это вид новых зданий.
Британцы, возможно, не были оригинальны в искусствах, но в том, чтобы адаптировать для себя чужие идеи, они частенько проявляли настоящую гениальность. И в течение последних десятилетий в Лондоне, Эдинбурге, а теперь и в Дублине они усовершенствовали новый метод городского строительства. Взяв на вооружение упрощенные классические элементы, строители обнаружили, что могут бесконечно повторять один и тот же тип кирпичного дома на улицах и площадях, и это было и достаточно дешево, и приятно для глаз. Элегантные ступени вели к красивым парадным дверям с веерообразными окнами над ними. В наружных ставнях при местном климате необходимости не было, а потому ничто не нарушало строгие фасады; простые прямоугольные окна таращились в северное небо, как тени римских сенаторов. Над дверями обычно красовался скромный классический фронтон, просто для приличия, — не иметь его было все равно что джентльмену появиться на улице без шляпы, — но больше никаких наружных украшений не было. Суровые и аристократичные по стилю, но уютные внутри, такие дома устраивали и лордов, и мастеровых. И это был, без сомнения, самый удачный стиль из всех когда-либо изобретенных, и он легко мог перебраться через Атлантику в города вроде Бостона, Филадельфии и Нью-Йорка. И со временем он получил название георгианского.
Вокруг парка Святого Стефана, Тринити-колледжа, а также за причалами к северу от Лиффи располагались такие же улочки и площади с классическими зданиями из кирпича. Поскольку богатство и население города продолжали расти, Уолшу казалось, что новые улицы возникают каждый год. Дублин мог вскоре стать самой красивой европейской столицей на севере после Лондона.
— Да, но что с ним не так? — спросил Фортунат, когда они дошли до парка.
— Он католик.
— Ты тоже.
— Он глубоко оскорблен.
— Ох… — Фортунат вздохнул. — Ему не повезло так, как нам.
Теперь, оглядываясь назад, он мог лишь изумляться дальновидности их отца. Король Нидерландов Вильгельм мог, конечно, обещать терпимость к ирландским католикам, но его парламенты, в особенности парламент Ирландии, имели совершенно другие идеи и намерения. В конце концов, английский парламент постарался изо всех сил, чтобы свергнуть короля Якова, чтобы освободить Англию от католицизма. Но Яков был до сих пор свободен вместе со своим сыном, и его поддерживал агрессивный кузен-католик, французский король Людовик XIV, а Ирландия, как всегда, выглядела идеальным плацдармом, с которого можно было устраивать налеты на Англию. Именно поэтому западный остров был под серьезной охраной, под властью английских чиновников и упрочившейся Протестантской церкви.
И если уж на то пошло, разве поселенцы Кромвеля вроде Барнаби Баджа не были посланы в Ирландию самим Господом, чтобы усмирить папистов и обеспечить триумф Его протестантской веры? И разве они не занимали до сих пор те земли, которые паписты хотели бы вернуть обратно? Так что не только вера, но и сама жизнь протестантов зависела от того, насколько они будут подавлять католиков.
Вот они и начали проводить законы ради этой цели. За время правления Вильгельма и Марии, а потом ее сестры Анны, а теперь их германского кузена Георга Ганноверского список антикатолических законов становился все длиннее.
Католики не могли занимать государственные должности или заседать в дублинском парламенте. Католик не мог стать полноправным членом любой городской гильдии. Большинство профессий были под запретом для католиков. Католик не мог учиться в университете или — по крайней мере, законно — отправлять своих детей учиться за границей. Он не мог покупать землю или даже брать ее в аренду больше чем на тридцать четыре года. Любая земля, которой он уже владел, после его смерти должна была быть разделена поровну между его сыновьями, если только старший сын не перешел в протестантскую веру. В таком случае сын-протестант наследовал все, а его братья ничего не получали. И так далее и так далее.
Это было несправедливо. Это было оскорбительно. Более того, все это было рассчитано на полное уничтожение католицизма в Ирландии.
Донат умер в конце правления королевы Анны, но успел увидеть достаточно, чтобы понять мудрость собственного решения. Протестант Фортунат теперь должен был защищать брата-католика. С тех пор и другие семьи поступили так же, но раннее обращение Фортуната Уолша дало ему немалую фору. Он удачно женился. Высокопоставленные друзья, довольные его преданностью, предоставляли ему тепленькие государственные должности — инспектор того, сборщик этого или еще что-нибудь в таком же роде, — то есть такие места, где джентльмен, не особо утруждаясь, мог заметно увеличить свой доход. Благодаря этому Фортунат смог добавить несколько сот акров к фамильному имению. Что ж, ведь ему даже предложили место в палате общин, когда умер один из членов дублинского парламента. И значит, он занимал достаточно уверенное положение, чтобы помогать брату Теренсу.
А Теренс в этом нуждался.
— Мне бы хотелось стать адвокатом, — нередко говорил он.
Но хотя он и мог, будучи католиком, занять должность младшего поверенного, тем не менее профессия барристера — полноправного адвоката, выступающего в суде и имеющего большие деньги, — предназначалась только для протестантов. Некоторое время он пытался заниматься торговлей в городе и присоединился к Торговой гильдии. Но, будучи католиком, он должен был платить налоги каждый квартал, и куда более высокие, чем платили протестанты, не имел права голоса при выборах в гильдии и не мог стать свободным гражданином города. Но он мог просто торговать.
— Проглоти свою гордость и делай деньги, — советовал ему Фортунат. — Даже католик может стать богатым.
И он с радостью снабдил Теренса некоторым начальным капиталом. Но через пять лет Теренс, хотя и смог кое-что заработать, вернул ему деньги и сказал:
— Я для этого не гожусь.
— И что ты будешь делать?
— В общем, я подумал, — ответил Теренс, — что мог бы заняться медициной.
Фортунату это не очень понравилось. Медицинская практика, на его взгляд, была не слишком уважаемым занятием. Конечно, в больших университетах изучали анатомию и лечебное дело. Но хирург, который выдергивает вам зуб или ампутирует вашу ногу, состоит в одной гильдии с цирюльниками, то есть хирург может оказаться тем же самым человеком, который подстригает вам волосы! И в Дублине любой желающий мог объявить себя медиком, ведь их методы в основном представляли собой применение банок, кровопускание или использование травяных настоев собственного сбора. Большинство этих лекарей, по мнению Фортуната, были просто шарлатанами.
Но зато католик мог стать лекарем. Тут не было никаких ограничений.
В результате, после периода упорной учебы у одного из лучших лекарей, Теренс устроился неподалеку от Тринити-колледжа, а Фортунат стал рекомендовать его всем знакомым, при этом весело говоря брату:
— Ты уж постарайся не убить моих друзей!
А Теренс действовал на удивление хорошо. Он обладал приятными манерами, а то, что он преждевременно поседел и носил маленькую остроконечную бородку, также шло ему на пользу, придавая вид добродушного знатока, и это успокаивало его пациентов.
— Очень даже может быть, — признавал его брат, — что ты действительно приносишь пользу пациентам.
Но сверх всего этого доктор Теренс Уолш был джентльменом. В этом соглашался весь светский Дублин. Тот факт, что он был католиком, а большинство его пациентов — протестантами, не принимался во внимание. Пожилые леди просили его зайти прямо в их спальни, аристократы, которым нужно было поверить некоторые смущающие их медицинские тайны, делали это за стаканчиком кларета, воспринимая доктора как осмотрительного и доверенного члена семьи. Через три года у Теренса было столько пациентов, сколько он вообще мог принять. И, будучи человеком благородным, он находил время для бедняков, живших по соседству с ним, и лечил их бесплатно.
Семья нашла способ поддержать Теренса. Да, его отец не мог по закону напрямую оставить ему что-то, но, используя форму семейной доверительной собственности, он с легкостью передал под управление Теренса небольшое имение в Килдэре. Другие знакомые им семьи поступали так же. И если даже дублинские власти понимали, что закон таким образом тихо подвергается насмешке, они помалкивали. А в прошлом году Фортунат нашел еще один способ поддержать брата.
— Теренс, ты станешь масоном! — провозгласил он.
Цех каменщиков существовал еще со Средних веков. Но только после 1600 года, по абсолютно непонятным причинам, некоторые джентльмены в Шотландии решили создать то, что они назвали Масонской ложей, или Обществом вольных каменщиков. Это было некое религиозно-философское общество с особыми тайными обрядами и ритуалами, и занималось оно вовсе не строительством, а разными добрыми делами. Постепенно масонские ложи, представлявшие по сути тайное объединение друзей, распространились по Англии и Ирландии. Но в последние два десятилетия они вдруг вошли в моду, и Фортунат стал членом одной из самых аристократических дублинских лож.
— Теренс, мы и тебя должны ввести туда, — объяснил он. — Масоны не обращают внимания на религиозные различия. И то, что ты католик, помешать не может. А для твоей карьеры это будет полезно.
И в тот же самый вечер они отправились на встречу с собратьями.
Разумеется, Теренсу, который наслаждался поддержкой любящих родных, очень хотелось в свою очередь оказаться полезным семье.
Как молодой Гаррет Смит.
Если бы старого Мориса Смита не убили в сражении у Бойна, его потомкам, возможно, не пришлось бы так тяжко. Потому что в лимерикском договоре король Вильгельм проявил щедрость к тем, кто сдался. Но для тех, кто погиб у реки Бойн, условия были другими. Их осудили как бунтовщиков, а имения конфисковали. К тому времени, когда все закончилось, Смиты оказались разорены.
Фортунат отлично помнил Смитов в то время. Сын Мориса Томас рассуждал философски, но его внук Майкл, бывший на несколько лет моложе самого Фортуната, нелегко воспринял обнищание семьи, он озлобился и замкнулся. Уолши сделали все, что могли, чтобы помочь друзьям. В конце концов, насколько помнил Фортунат, старый Морис был на самом деле двоюродным братом его отца. Но Томас умер, Майкл затаил обиду, и семьи разошлись. Майкл цеплялся за героическое прошлое своей семьи и за образ короля Якова и верил, что либо сам Стюарт, либо его сын вернутся и восстановят католическую веру в Ирландии.
Якобиты, как называли сторонников Стюарта, возможно, и имели какие-то основания для надежды. Когда весьма непопулярный Георг Ганноверский взошел на английский трон, очень многие хотели, чтобы вместо него там оказался сын короля Якова. Кое-где даже случались из-за этого бунты. Но вскоре они затихли, и никто в Ирландии не выступил за претендента Стюарта. А Майкл Смит погрузился в отчаяние и пьянство. Через два года он полностью разорился и умер.
Но после него остался маленький сын. Это и был тот самый молодой Гаррет Смит, которому Теренс стремился помочь. Он нашел жилье для мальчика и его матери, конечно скромное, но куда более чистое, чем то, что они имели прежде, в приходе Святого Михана, на северном берегу Лиффи. И по его особой просьбе местный священник позаботился о том, чтобы мальчик получил некоторое образование. Потом, через несколько лет, Теренс внес необходимую плату для того, чтобы мальчик стал учеником уважаемого бакалейщика в том же церковном приходе. И раз в месяц Теренс обязательно приглашал молодого человека пообедать с его женой и детьми в дружеской обстановке их семейного дома, надеясь, что в свое время, когда Смит освоится с делом и найдет себе разумную жену, то и сам пойдет таким же путем, пусть даже чуть более скромным. Короче говоря, он делал все, чего можно было ожидать от добродушного члена семьи Уолш.
Трудно сказать, когда именно начались проблемы. Теренс не принимал всерьез царапины и синяки мальчика.
— Это просто юношеская драчливость, — благодушно говорил он.
Куда тревожнее оказалось то, что однажды обнаружила жена Теренса: Гаррет учит их детей настроениям и идеям якобитов.
— Я не желаю, чтобы он приносил в наш дом подобные проблемы! — заявила она мужу.
И только после ее просьб и после обещания, что молодого Гаррета никогда больше не оставят наедине с их детьми, Теренс смог снова пригласить его в дом.
— Он сюда не придет, пока ты будешь во Франции! — заявила тем не менее его жена.
В течение прошедшего года Теренс также услышал и несколько жалоб от хозяина-бакалейщика. Теренс попросил доброго торговца быть с юношей построже.
— Должен признаться, я опасаюсь, — сказал он Фортунату. — Я должен уехать на месяц, и за ним просто некому будет присмотреть или позаботиться о нем, если он угодит в какие-то неприятности. Но похоже, я уж слишком пользуюсь твоей добротой, взваливая свои проблемы на тебя.
— Этот молодой человек мне такая же родня, как и тебе, — напомнил ему брат. — И я, пожалуй, виноват в том, что прежде ничего для него не сделал. — Он улыбнулся. — Уверен, я смогу с ним справиться.
Фортунат гордился своим даром общения с людьми.
— Значит, я могу сказать бакалейщику и священнику, что ты заменишь меня в мое отсутствие? — с большим облегчением произнес Теренс.
— Я сам повидаюсь с этими джентльменами. Так что успокойся. — Фортунат положил руку на плечо брата. — А теперь, — весело продолжил он, — как насчет того, чтобы насладиться обедом с нашими братьями-масонами в великолепной таверне на Брайд-стрит? И поскольку я намерен проглотить не меньше трех бутылочек кларета, то надеюсь, что ты доставишь меня домой.
На следующее утро солнце стояло уже высоко, когда девушка-служанка раздвинула длинные шторы. Фортунат моргнул и тут же пожалел об этом. От солнца глазам стало больно.
— Ох, Бога ради, не закроешь их опять? — хрипло простонал он. В горле у него царапало от сухости, голова ужасно болела. — Слишком много кларета… — пробормотал он.
— Мы слышали, как ваша честь пели, когда ваш брат привел вас домой вчера вечером, — вежливо сообщила девушка. — И к вам гостья, сэр, — продолжила она. — Ждет внизу.
— Гостья? Отошлите ее прочь.
— Мы не можем, сэр. Это миссис Дойл.
Она ждала его в передней гостиной. Как и во всех домах на Сент-Стивенс-Грин, парадные комнаты имели очень высокие потолки и, как в большинстве ирландских домов, были скудно обставлены. Гобелен на одной из стен и темный и не слишком качественный портрет его отца на другой не добавляли уюта комнате, которую иначе и вовсе можно было принять за какой-нибудь римский мавзолей.
Миссис Дойл ничего не сказала по поводу потрепанного вида Фортуната, когда он уставился на нее провалившимися глазами, гадая, почему это даже в лучшие дни его кузина Барбара заставляет его нервничать.
Прошло уже два столетия после того, как его предок Ричард женился на наследнице Дойла. Сколько поколений миновало с тех пор? Шесть или семь, предположил Фортунат. Но их семьи всегда поддерживали близкие отношения.
— Наши кузены Дойлы всегда были невероятно добры ко мне и твоему деду, — твердил ему Донат.
Если Уолши были всегда щедры к родственникам, которым не так повезло, как им самим, то они в равной мере гордились и тем, что никогда не забывали оказанного им самим добра. А Барбара Дойл, не только вдова одного их родственника, но и сама урожденная Дойл, таким образом была им дважды родней. Кузина Барбара — так называла ее вся семья. Когда муж Барбары внезапно умер, оставив ее с малыми детьми, все поддержали родственницу, и она вполне это ценила. Хотя вряд ли можно было представить себе человека, меньше нуждавшегося в поддержке, думал Фортунат.
Лишь Богу было известно, сколько она стоила. Муж оставил ей богатство, и она сумела его увеличить. Каждый год, когда где-либо в Дублине строилось несколько новых домов, можно было не сомневаться, что один из них принадлежит Барбаре Дойл. Вообще-то, ей принадлежал и тот самый дом, в котором они сейчас находились, поскольку Фортунат арендовал его у Барбары. И он нервно попытался угадать, зачем она явилась.
Он поспешил предложить ей лучшее кресло — ради ее удобства, само собой, но прежде всего потому, что сидя она выглядела все же не так грозно, как стоя. Даже ее маленькому сынишке Джону, которого она зачем-то привела с собой, была предложена обитая шелком скамеечка.
Даже если она и была богаче Фортуната, то все равно оставалась просто вдовой торговца, в то время как Уолши с незапамятных времен принадлежали к сквайрам-землевладельцам. Так почему же он ее боялся?
Возможно, дело было во внешности кузины. Барбара была крупной, крепкой телом и, без сомнения, весила больше, чем Фортунат. По моде периода Реставрации она носила платья с глубоким декольте, из которого выпирали могучие груди. Волосы у Барбары были густыми, черными, лицо — круглым, щеки покрыты красными пятнами. Но главным был гипнотизирующий взгляд холодных светло-карих глаз, всегда приводивший Фортуната в замешательство. Иногда под этим воинственным взглядом он даже замечал, что содрогается.
— Ну, кузина Барбара, — заговорил он с вымученной улыбкой, — чем могу быть полезен?
— Ты теперь заседаешь в парламенте, — решительно произнесла она. — И это хорошо.
Сердце Фортуната упало.
Если бы не его место в парламенте, он, пожалуй, и не смог бы арендовать этот дом. Обычно сельские джентльмены снимали жилье в Дублине только на зимний сезон, если у них были сыновья или дочери, которым подыскивали пару, а у Уолша сейчас не было детей такого возраста, или если они должны были посещать заседания парламента. Получив место в парламенте, Фортунат, всегда аккуратно обращавшийся с деньгами, решил, что если он хочет чего-то добиться, то должен выдержать стиль. Поэтому он и снял большой дом на модной Сент-Стивенс-Грин. Но аренда жилья в центре Дублина обходилась ему дорого и почти так же, как в Лондоне. Он платил миссис Дойл огромную сумму — сто фунтов в год, явно больше, чем он мог себе позволить.
Барбара Дойл уставилась на Фортуната мрачным взглядом. А потом возвестила:
— Пришло время Ирландии заявить о себе англичанам.
Во всем Дублине вряд ли нашелся бы человек, который с ней не согласился бы.
Потому что, если английский парламент желал, чтобы ирландцы тихо сидели под правлением протестантов, это вовсе не значило, что их интересовало благосостояние правителей. Вовсе нет.
В конце концов, Ирландия была далеко. Да, английские последователи Кромвеля получили землю в Ирландии. Но часто они продавали ее, получали свои денежки и возвращались в Англию. Некоторые из самых крупных английских землевладельцев и теперь имели в Ирландии огромные земли, но нанимали посредников, чтобы извлечь максимально возможную прибыль из своих владений, а деньги переправляли в Англию, где и предпочитали жить сами. Что до протестантов, которые действительно жили в Ирландии, а их число было велико, то они там присутствовали не более двух поколений, и все же время и расстояние порождали забывчивость. Да, конечно, англичане желали им добра, но только до тех пор, пока они не причиняли неудобств.
— Все-таки эти ирландские поселенцы должны знать свое место, — рассуждали англичане.
Даже в дни Карла II английский парламент посчитал необходимым ограничить поставки прославленной ирландской говядины в Англию по вполне очевидной причине:
— Их говядина конкурирует с нашей!
Во время правления короля Вильгельма по той же самой причине наложили запрет на торговлю ирландской шерстью. А когда почти все сквайры-протестанты и торговцы Ирландии стали возражать, парламентарии в Англии сразу поняли:
— Что-то есть такое в этом проклятом острове, что подталкивает людей к измене!
И несколько лет спустя английский парламент был вынужден напомнить протестантскому ирландскому парламенту, причем довольно решительно:
— Армия, которую вы собрали и оплачиваете, никоим образом не находится под вашим командованием!
А пару лет назад король Георг издал деклараторный закон, чтобы напомнить ирландцам, раз и навсегда, что Лондон может и, скорее всего, будет отвергать любое решение или правовой акт, принятый ими.
— Мы преданы королю и установленной им Церкви, — пришел к заключению ирландский парламент, — но к нам относятся как к нижестоящим!
И это было абсолютно верно.
Католики, хотя они точно так же пострадали от всего, что приносило вред торговле острова, все же по-настоящему не участвовали в ссоре. Им хватало и собственных забот. Это ведь правящий класс протестантов горевал из-за того, что Лондон их использует, — англоирландцы, завоеватели, так их начали называть. И ведь действительно, все хорошо оплачиваемые государственные должности, синекуры, самые доходные церковные места, где можно было ожидать и побочных доходов, обычных в тот благодушный век, — все отдавалось людям, присланным из Англии.
— Почему это для наших сыновей должны оставаться лишь второстепенные места работы? — желали знать ирландские сквайры.
И если подавляемые крестьяне-католики ненавидели отсутствовавших лендлордов и их жадных управляющих, то и англо-ирландцы частенько относились к ним точно так же.
— Все эти деньги за аренду уплывают из страны, эти отсутствующие лендлорды крадут богатства Ирландии! — жаловались они.
Уходившие в Англию суммы на самом деле были не столь уж велики, чтобы причинить Ирландии серьезный вред, но и Барбара Дойл, и Фортунат Уолш были убеждены в обратном.
Однако последнее оскорбление было нанесено как раз в этом году.
— Что ты собираешься делать, — резко спросила миссис Дойл, — с этими чертовыми медными монетами?
Прерогативой правителей во всех странах и при всех политических системах была забота об их любовницах. И король Англии Георг, желая чем-то побаловать свою возлюбленную, графиню Кендал, с радостью даровал ей патент на чеканку медных монет достоинством в полпенса и фартингов для Ирландии. Преподнесение подобного патента очарованным царственным другом было настолько обычным делом, что никто и внимания на это не обратил. А графиня, не занимавшаяся делами, в свою очередь весьма разумно продала патент некоему уважаемому фабриканту железных изделий по фамилии Вуд. И вот теперь медные монеты Вуда были доставлены в Ирландию.
— С чего вдруг мы должны пользоваться этими проклятыми обрезками меди в Дублине? — Барбара Дойл воинственно уставилась на Фортуната.
Вообще-то, когда Уолш изучал монеты Вуда, ему показалось, что качество у них безупречное, но сейчас он не стал этого говорить.
— В этой истории самое глупое то, — заметил он абсолютно справедливо, — что нам сейчас не хватает серебряных монет. Мы нуждаемся в серебре, а не в меди.
И действительно, в последнее время из-за утечки денег из Ирландии в Англию на острове сильно не хватало крупной наличности. Даже английские чиновники департамента налогов и сборов предупреждали Лондон, что вся эта медная история — дурная затея. Но если Уолш надеялся отвлечь кузину и заставить ее сменить тему, ему это не удалось.
— Ты думаешь, Ирландией следует управлять с помощью подачек, как какой-нибудь шлюхой? — угрожающим тоном спросила она.
В том, что кузина Уолша была буквально потрясена наличием у короля любовницы, сомневаться не приходилось, хотя подобная королевская благосклонность была знакома Ирландии еще до прихода святого Патрика.
— И все проделали у нас за спиной! — воскликнула Барбара. — Вот от чего меня тошнит!
В том-то и суть, подумал Фортунат. Именно случайность, небрежность оскорбления, скрытого во всей этой сделке, взбесила всех. Снова и снова английский парламент отказывал преданным ирландцам в праве чеканить собственную монету, поскольку это пахло слишком большой независимостью. И вот теперь, даже слова не сказав ирландскому парламенту, к тому же вопреки совету дублинских властей, острову подсовывали монеты, отчеканенные каким-то частным лицом.
— Просто стыд, — согласился Фортунат.
— Ну, что вы в парламенте собираетесь предпринять?
Ирландский парламент собирался с осени до следующей весны через год. И после перерыва в восемнадцать месяцев вот-вот должна была начаться новая сессия. Фортунат не сомневался, что будут звучать шумные протесты из-за монет, но приведет ли это к какому-нибудь результату — совсем другое дело.
— Можешь быть уверена, я обязательно подниму этот вопрос, — решительно произнес он.
— К черту твои речи! — ответила Барбара Дойл. — Эти монеты необходимо убрать с острова! И ты с своими дружками должен за этим присмотреть!
Она продолжала таращиться на Уолша. И в ее глазах не видно было даже намека на дружелюбие.
— Мы сделаем все, что сможем, — осторожно сказал Уолш.
Она все так же не сводила с него глаз.
— Аренду этого дома скоро нужно будет продолжить, — заметила она. — Я могла бы получить за него сто двадцать. Даже больше, осмелюсь сказать.
Уолш с ужасом посмотрел на кузину. Неужели эта женщина действительно пытается шантажировать его, подталкивая к каким-то действиям в парламенте, хотя он в любом случае ничего не сможет добиться в реальности? Она угрожает поднять арендную плату? Или просто хочет выгнать его? Открытая грубость женщины ошеломляла. И это на глазах у ребенка!
Фортунат бросил взгляд туда, где сидел маленький мальчик, и обнаружил, что дитя холодно пялится на него. Глаза у мальчика были такие же, как у его матери. Боже праведный, понял вдруг Уолш, да ведь вдова Дойл нарочно привела с собой ребенка, чтобы показать ему, как следует вести дела! И она учит его, с отчаянием подумал Фортунат, как меня унизить и оскорбить.
А потом он вдруг чуть не рассмеялся. Конечно же, ужасная женщина права. Мальчик должен учиться. Потому что разве не так идет вообще вся общественная жизнь? Уолш и не предполагал, что парламентская политика может быть организована как-то иначе. В Англии министры и властные аристократы командовали маленькими армиями парламентариев, а те проводили нужные им решения в ответ на благосклонность или просто из страха потерять благодетелей. Даже в дублинском парламенте могущественные люди вроде спикера Коннолли или семьи Бродрик в Корке управляли большими фракциями с помощью обещаний и угроз. И кузина Барбара на свой примитивный лад пыталась теперь делать то же самое.
Проблема состояла в том, что Уолш представления не имел о том, как пойдет это дело, когда соберется парламент, а уж вообразить, будто новый и незначительный член парламента вроде него самого мог бы обещать что-либо, было просто абсурдно. Но, глядя на кузину, Уолш прекрасно понимал, что она осуществит свою угрозу.
— Придется подождать и посмотреть, моя дорогая Барбара, — осторожно произнес он. — Но я, конечно, постараюсь, как смогу.
Когда несколько минут спустя миссис Дойл ушла, Фортунат лишь покачал головой, думая: не придется ли ему убираться из этого дома?
И чтобы хоть на время отвлечься от этой утомительной темы, он решил в тот же день отправиться за Лиффи и повидать молодого Смита.
Перейдя по мосту реку, Фортунат пошел к приходу Святого Михана. Это был один из самых старых приходов, расположенный в западной части древнего скандинавского района Оксмантаун, и церковь там стояла с незапамятных времен. Миновав несколько красивых новых улочек, Уолш добрался до более скромного квартала, все еще состоявшего из домов с остроконечными крышами, построенных более века назад. И, выйдя на Кау-лейн, он вскоре добрался до участка, на котором обосновался мистер Морган Макгоуэн, бакалейщик.
Уолшу понравилось то, что он увидел. Двор со складскими строениями вокруг него. Сквозь открытую дверь одного из них доносился легкий приятный запах солода; внутри на крюках висели копченые окорока, а на невысоких деревянных полках, тянувшихся вдоль стены, стояли мешки с пряностями. Там были гвоздика, чеснок, шалфей, перец. И везде были дети. Они босиком носились по двору, вбегали в дом и выбегали из него, как пчелы в улей, выглядывали изо всех щелей. Уолша пригласила в дом милая жена торговца. Он очутился в старомодной гостиной с деревянными полами, чисто отскобленным деревянным столом, деревянными скамьями и табуретами. Все здесь было безупречно чистым.
Когда Фортунат объяснил, что он брат Теренса Уолша, к нему тут же преисполнились теплых чувств, а самые маленькие дети сразу дали ему понять, что он мог бы покачать их на качелях во дворе. Но когда Уолш упомянул имя Гаррета Смита, ему сообщили, что молодой человек сейчас отсутствует, и Фортунату показалось, что на лицо миссис Макгоуэн набежало облачко. А вскоре явился и сам Макгоуэн.
Торговец был невысоким, пухлым мужчиной. Торговля бакалеей в Дублине была приятным занятием. Как ни странно, но для торговцев бакалейными товарами не существовало особой гильдии, а следовательно, не было и дискриминации по отношению к католикам. И католики вроде Макгоуэна вели свое дело, не чувствуя себя нижестоящими, и процветали. Бакалейщики были одними из самых богатых торговцев в городе. И хотя Макгоуэн не выглядел богачом, у Фортуната сложилось впечатление, что денег у него, пожалуй, намного больше, чем он позволял другим знать.
Несколько минут они вежливо поговорили о Теренсе, к которому бакалейщик явно относился с большим уважением, и о его предстоящем путешествии. Хотя сам Макгоуэн за границей не бывал, он явно был отлично осведомлен о торговле и портах Франции. Фортунату Макгоуэн понравился.
— Я как-то слышал, — сказал он немного погодя, — что у вас какие-то проблемы с нашим родственником, молодым Гарретом Смитом?
Макгоуэн на мгновение замолчал и осторожно посмотрел на Уолша, словно обдумывая что-то.
Фортунат отметил в нем одну любопытную особенность. Когда бакалейщик слегка наклонял голову вбок, его левый глаз наполовину закрывался, но правый продолжал внимательно смотреть на собеседника и при этом широко открывался, словно становился наполовину больше, и пристальность этого взгляда слегка ошарашивала.
— Ну, он в общем неплохо справляется с работой, — наконец тихо произнес Макгоуэн. — Этим утром я послал его в Долки с небольшим поручением, иначе вы бы с ним встретились.
— Так из-за него нет хлопот?
— У него своевольный дух, мистер Уолш, и он весьма высоко себя ценит, как и многие молодые люди. — Бакалейщик опять немного помолчал. — Он умный юноша, сэр, и думаю, у него доброе сердце. Но он подвержен настроению. Он может то петь, то смешить вас до слез. А потом вдруг что-то рассердит его… — Макгоуэн в очередной раз ненадолго умолк. — И недавно связался с дурной компанией. Вот мое мнение, сэр.
— И что это за компания?
— Вы помните беспорядки в Либертисе неделю назад?
Как и в других городах, в Дублине и вокруг него случались иногда стычки между группами подмастерий. В бедных районах Дублина, в особенности в старых районах, которые находились под феодальным правлением средневековой Церкви, не раз происходили ссоры между учениками мясников и протестантами-гугенотами, иммигрантами из Франции. И недавно нескольких гугенотов основательно избили.
— Дурное дело, — заметил Уолш.
— Ужасно, что они натворили, — продолжил Макгоуэн. — А Гаррет постоянно проводил время с этими мясниками, хотя я ему говорил, чтобы он держался от них подальше… Когда это случилось, он был там. Не могу утверждать, что и он приложил ко всему руку. Молю Господа, чтобы это было так. Но он был там. А когда я сказал ему, что он никогда больше не должен там появляться, он мне только и ответил: «Они же избили просто каких-то французов-протестантов! Ничего лучшего те и не заслужили». Это его слова.
Бакалейщик продолжал смотреть на Уолша одним глазом.
— Да, весьма неосмотрительно делать такие заявления, — согласился Фортунат. — Хотя осмелюсь предположить, он мог сказать такое просто сгоряча.
— Возможно. — Макгоуэн не спеша обвел взглядом комнату и наконец остановился на чем-то далеком за окном. — Он меня беспокоит, сэр.
— А может быть, есть и еще что-то, — осторожно поинтересовался Фортунат, — что мне следовало бы знать?
Макгоуэн одним глазом быстро посмотрел на него, а потом уставился в пол.
— Нет… — (Снова пауза.) — Но вы могли бы спросить доктора Нари, священника, — предположил он. — Тот может знать больше меня.
Оказалось, дом доктора Корнелиуса Нари находится совсем недалеко, и Фортунат, попрощавшись с бакалейщиком, решил заглянуть к Нари. Вообще-то, он с удовольствием воспользовался возможностью повидать его, потому что священник из прихода Святого Михана был одной из самых примечательных фигур в Дублине.
И потому Уолш чрезвычайно обрадовался, когда, подойдя к дому священника, встретил его самого.
— Я Фортунат Уолш, брат Теренса Уолша… — вежливо начал Фортунат, но продолжать ему не пришлось.
Священник просиял.
— Я знаю, кто вы! — воскликнул он. — И отлично знаю вашего брата, и о вас все знаю. Входите, Фортунат, прошу!
Вы далеко не сразу могли бы догадаться, что перед вами священник (как и все другие священники того времени). Доктор Нари — таким странным образом звучало привычная фамилия Неари, а доктор и вовсе произносил «Нейри». Конечно, иногда он надевал сутану и все символы сана, но сегодня он был одет как обычный джентльмен: длинный камзол с пуговицами, короткие штаны, чулки и шейный платок, но без парика. Однако больше всего Фортуната поразили благородные черты священника. Его лицо было безупречно овальным, глаза миндалевидными, и лишь едва заметно обвисшая кожа под подбородком говорила о возрасте. В юности, подумал Уолш, он наверняка был похож на Мадонну эпохи Ренессанса. Когда он улыбался, у его глаз собирались милые морщинки. И хотя доктору Нари было уже за шестьдесят, он выглядел подтянутым и полным сил. Священник провел Фортуната в скромный кабинет, аккуратно уставленный полками с книгами, предложил гостю сесть и, сам сев к столу, спросил, весело глядя на Фортуната:
— И какую же пользу католический священник может принести члену протестантской Ирландской церкви вроде вас?
Если англичане не любили католицизм и делали все, что могли, чтобы опорочить его, то коренные ирландцы не обращали внимания на закон о штрафах и твердо держались своей веры. Поэтому правительство было вынуждено пойти на компромисс. Религиозные ордены — францисканцы, доминиканцы и в особенности иезуиты — были строго вне закона. Епископы также были запрещены. Но рядовых приходских священников терпели, если они были официально зарегистрированы и поклялись в верности короне.
Корнелиус Нари служил в церкви Святого Михана уже четверть века. Ему достался шумный приход, но он справлялся с делом с помощью нескольких младших служителей. Он изучал теологию в Париже и был известным ученым, написал объемистую, тысяча страниц, историю мира и даже перевел Новый Завет на повседневный английский язык. Он весьма нравился протестантским церковникам. Фортунат знал, что викарий его собственного прихода Ирландской церкви весьма уважал Нари.
— Особенно восхитительным, — говорил викарий Уолшу, — я нахожу то, что он защищает свою веру разными способами: пишет памфлеты против протестантов, и тут можно лишь изумляться его храбрости. Но он всегда рассудителен, никогда не бывает невежлив.
Наверное, католический священник просто хороший дипломат, но все же он был очень осторожен и никогда не посещал те религиозные диспуты, где могли возникнуть резкие разногласия между представителями разных церквей.
— Если бы все дела между протестантами и католиками всегда велись таким образом! — восклицал викарий. — Я бы тогда и сам не видел надобности в законе о штрафах.
Фортунат сказал священнику, что пришел от Моргана Макгоуэна, и объяснил причину визита.
— Вы наверняка знаете, что Теренс проявляет интерес к нашему родственнику Гаррету Смиту.
— Это делает честь вашему брату. Я устроил юношу в отличную маленькую школу в этом приходе, вы ведь знаете.
Закон о штрафах делал католические школы как бы несуществующими. Но английская администрация давно уже поняла, что коренные ирландцы, не желая оставаться дикими варварами, какими их считали, видели в образовании свое прирожденное право, и запретить им учиться было невозможно. Поэтому официально таких школ не было, однако за закрытыми дверями их было полным-полно.
— Он проявил немалый ум, — продолжил ученый священник. — Я сам с ним занимался.
— Значит, ему повезло, — вежливо заметил Фортунат.
Нари покосился на него:
— Ну, он так не думает, уверяю вас. Он меня презирает. Он сам мне это говорил. — Видя изумление Уолша, Нари засмеялся. — Я для него недостаточно хорош, видите ли.
— Да как он может…
— О, он самый отчаянный из молодых якобитов. Он презирает меня, потому что я зарегистрирован и не нарушаю закон, пусть он мне и не нравится, и потому что у меня есть друзья среди служителей Ирландской церкви. — Нари пожал плечами. — Но я предпочитаю думать, что он ко мне несправедлив.
Вообще-то, Уолш отлично знал, что этот священник делает куда больше, чем просто пишет бесстрашные памфлеты. Десять лет назад он был вынужден скрываться, а потом его арестовали за незаконную помощь нескольким бедным монахиням, лишенным дома. Всего два года назад, когда одного католика в Корке совершенно без оснований приговорили к смертной казни, Нари бросил открытый вызов властям, закутав всю свою церковь в черные погребальные покровы. В храбрости этого человека сомневаться не приходилось. Он лишь считал, что может больше сделать для веры, обзаводясь друзьями, а не врагами.
— Я собирался, — с некоторым сомнением произнес Фортунат, — присматривать за ним, пока Теренс будет в отъезде.
— Вы? — Нари это явно показалось забавным. — Но вы ведь протестант. Храбрый вы человек.
— Можно подумать, что Гаррет — это чудовище, — осторожно начал Уолш, — но сдается мне, вам он нравится.
— Вы правы, — кивнул священник. — Я даже говорил о нем с епископом.
Официально католических епископов в Ирландии не существовало, но, конечно же, они частенько там были, и власти обычно не обращали на это внимания.
— Но никто из нас не знает, как ему помочь. Епископ предположил, что из него, возможно, может получиться священник. У него есть мозги, а вот призвания нет. — Нари задумчиво смотрел на Фортуната и продолжил: — В нем есть все лучшее, что может быть в молодом человеке, и все худшее. У него очень острый ум. Поставьте перед ним задачу, и он набросится на нее, как ястреб. И справится с такой энергией, которой я восхищаюсь. Я давал ему книги. И он просто пожирал их. Но ему недостает стержня. Я даже не уверен в его убеждениях. Как только вам кажется, что вы завладели его вниманием, он вдруг отворачивается от вас, как будто его уносит ветром в небо. И вы теряете его в одно мгновение. — Нари помолчал. — Им владеет ужасная, темная страсть, — с сожалением добавил он.
— Я спрашивал Моргана Макгоуэна, есть ли что-нибудь такое, что мне в особенности следовало бы знать, — заметил Фортунат. — А он ответил, что я должен спросить у вас. Вот я и гадаю, что это может быть.
— Ах… — Священник вздохнул. — Должно быть, это девушка.
— Он не говорил ни о каких девушках.
— Очень на него похоже. Видимо, он промолчал, потому что, на его взгляд, эта девушка принадлежит мне. — Доктор Нари уставился на книжную полку, где три непроданных экземпляра его перевода Нового Завета составляли компанию друг другу. — Китти Бреннан. Служанка в этом доме. Ее родные живут в горах Уиклоу. Бедные фермеры. Я чувствую ответственность за нее. Поэтому я плохо отнесся к тому, что молодой Смит сделал девушку своей возлюбленной.
— Он ее соблазнил?
— Не могу сказать. Все, что я знаю, говорит об обратном. Но мне пришлось просить у него обещания больше с ней не встречаться.
— И он послушался?
— Нет. И мне придется отослать ее домой. Мы можем только надеяться, что никаких горестных последствий не будет.
— Теренс ничего об этом не говорил.
— Он не знает. Все случилось совсем недавно, с неделю назад.
— Конечно, тогда девушке следует немедленно уехать, ради всех.
— Да. Но она хороший человек, и мне жаль отправлять ее обратно в жалкий дом. Но… — Священник покачал головой и вдруг взорвался: — Молодой дурак! Он мог бы далеко пойти! Во всяком случае, настолько далеко, насколько это нынче возможно для бедного католического парня в Дублине.
Фортунат задумчиво наблюдал за священником. Было ясно: Нари разочарован в своем непростом подопечном.
— Вы говорите, он много читает.
— Прочел половину моей библиотеки.
— Раз в месяц он приходит к Теренсу, обедает с его семьей, как вы, наверное, знаете. Полагаю, я мог бы поступать так же. Но мне скоро нужно будет на несколько дней поехать в графство Каван. Скажите, я мог бы взять его с собой? Это могло бы удержать его от глупостей.
— А я мог бы отправить девушку домой, пока его нет… — задумчиво произнес Нари. — Это может оказаться к лучшему. Но вы храбрый человек, если готовы взять его в поездку. А с какой целью вы туда едете?
По тону Нари было понятно: тот, кто отправляется с богатой фермы в графстве Килдэр в северные области Каван, с их болотами и маленькими озерами, выглядит странно в его глазах.
— Я хочу навестить одного старого друга, школьного учителя. Он ученый человек и очень остроумный. Мальчику он может показаться интересным.
Доктор Нари внимательно выслушал его, а потом бросил на Фортуната проницательный взгляд:
— Школьный учитель, говорите, и живет в Каване? А как именно называется то место, где он живет, можно спросить?
— Килка.
— Килка?! — Нари хлопнул ладонью по столу. — Мне следовало догадаться. Килка. — Он покачал головой. — А скажите-ка мне, там будет кто-нибудь еще из Дублина?
— Да, уверен. Еще один его старый друг. — Фортунат усмехнулся. — Думаю, вы уже поняли. Настоятель церкви Святого Патрика.
— Так я и знал! — воскликнул Нари с отчасти насмешливой досадой. — Но это ужасно несправедливо. Вам следовало взять с собой меня, Уолш, а не молодого Смита!
— Уверен, вам там были бы рады.
— Возможно. Надеюсь. Но у меня есть обязанности здесь. — Он вздохнул. — Я себя чувствую как почтенный брат в притче о расточительном сыне. Вот я здесь, преданно тружусь, служа Господу, а в Килку отправляется юный повеса! Что ж, вы окажетесь в наилучшем во всей Ирландии обществе!
— Не могу не согласиться.
— Ладно, везите его в Килку, — простонал Корнелиус Нари. — Возьмите его с собой ради его же блага. И я очень надеюсь, что вы об этом не пожалеете.
— Уверен, я сумею с ним справиться, — сказал Фортунат.
— Может быть. Но предупреждаю вас, вы очень серьезно рискуете.
Несколько часов спустя трое братьев встретились в их родовом доме в Белфасте. Они были грустны.
Снаружи лил дождь. И если Дублин все еще купался в лучах вечернего солнца, здесь, в восьмидесяти милях к северу, сырой ветер с запада гнал густые серые тучи с гор Морн и ливень обрушивался на большой порт Белфаст.
Прошел уже месяц с тех пор, как умер их отец, этот достойный, богобоязненный шотландец из Ульстера. Мать они похоронили десять лет назад. И от всей семьи теперь остались Генри, Джон и Сэмюэль Лоу.
Генри смотрел на братьев. Мы вполне достойные молодые люди, думал он. Мы любим друг друга, насколько можем, а когда любить трудно, всегда остается преданность. За это мы и держимся.
— Ну, Сэмюэль, ты наверняка уже принял решение. Какое? — Джон, старший, сразу перешел к делу.
Он был высоким и темноволосым, как их отец. И трудолюбивым. А теперь он, без сомнения, стал главой семьи.
Сэмюэль, самый младший, возможно, именно поэтому и самый веселый и добродушный, улыбнулся. По сравнению с братьями он был заметно ниже ростом и даже слегка полноватым. Волосы песочного цвета с красноватым оттенком он унаследовал с материнской стороны, предполагал Генри. Но Сэмюэль всегда знал, чего хочет, и, несмотря на легкий характер, как считал Генри, упрямо шел к цели.
— Я уезжаю, — сказал Сэмюэль. — На следующей неделе отходит подходящий корабль. Я уезжаю в Америку.
Джон кивнул. Если брат отправляется в Америку, то они, скорее всего, никогда с ним больше не встретятся.
— Мы будем по тебе скучать, — тихо произнес он.
Для Джона, который никогда не показывал своих чувств, это уже было очень много. Но даже теперь, отметил Генри, он не сказал: «Я буду скучать», он сказал «мы». Это как бы отражало семейный долг, а не личные чувства. Генри улыбнулся себе под нос. Нет, Джон никогда не изменится. Он такой же, как их отец.
— Но я думаю, ты прав, Сэмюэль, — серьезно продолжил Джон. — Уверен, я и сам бы поехал, если бы не…
Договаривать было незачем. Джон пока был единственным из них женатым человеком, и все они прекрасно знали, что его жена откровенно выражает свои мысли. У нее была большая семья в Ульстере, и она не имела ни малейшего намерения расставаться с родными.
— Уверен, такова Божья воля и там ты преуспеешь, — добавил Джон.
— Я не ради себя самого еду, — возразил Сэмюэль. — Но если Господь когда-нибудь дарует мне семью, я не хочу растить детей в Ирландии.
И никто не стал бы винить его за это, подумал Генри. Потому что в Ирландии, управляемой англичанами, семья Лоу пребывала в унизительном положении. Не потому, что они католики, как раз наоборот, потому, что протестанты.
Если и было что-то такое, чему новые правители научились у прошлого, так это то, что религиозные споры ведут к кровопролитию. С разногласиями, следовательно, необходимо покончить. Официальная церковь, с компромиссными литургиями и епископами, возможно, и не безупречна, однако она представляла собой порядок. Порядок же должен быть установлен раз и навсегда, и все прочие — паписты, раскольники, сектанты и так далее — не принимались во внимание. Даже суровые Избранные Богом теперь смирились.
— С нас довольно этих проклятых пресвитерианцев, в особенности шотландских, — заявили джентльмены в англиканском протестантском парламенте.
И потому вся их законодательная деятельность была направлена не только против католиков, но и против всех инакомыслящих протестантов.
— Присоединяйтесь к Официальной церкви, — говорили им, — или станете людьми второго сорта.
И в результате шотландских пресвитерианцев, составлявших большинство сильной общины Ульстера, исключили из городской и общественной жизни и таким образом унизили.
Прошло уже три поколения с тех пор, как семья Лоу переехала в Ульстер. Это были трудолюбивые, уважаемые шотландцы из долин. Их прадед с гордостью присоединился к Ковенанту; его младший сын в поисках удачи перебрался в Ульстер. Здесь он преуспел в торговле шерстью через растущий порт в Белфасте, а детей воспитал в пресвитерианской вере. Семья Лоу пришла в ужас, когда на трон взошел католический король Яков, и восторгалась, когда его разбил король Вильгельм. А после сражения у Бойна они решили, что новое протестантское правление покончит с их трудностями, а вовсе не станет их началом.
Когда же англичане выразили свою лояльность к протестантам в Ирландии, уничтожив торговлю шерстью в Ульстере, семье Лоу был нанесен страшный удар: она почти разорилась. Но нужно было нечто большее, чтобы победить упрямую шотландскую предприимчивость.
Ни один из братьев не забыл того дня, хотя тогда они были еще мальчишками, когда отец позвал их в вымощенный булыжником двор и показал небольшой бочонок:
— Только что привезли из Америки. И это спасет нас. Знаете, что это такое? Семена льна.
Из льна делали полотно.
Полотно и постельное белье существовали в Ирландии с незапамятных времен. Но открытие Нового Света теперь обеспечивало поставку огромного количества дешевых семян льна. И поскольку торговля шерстью пришла в упадок, предприимчивые люди вроде Лоу увидели здесь новую возможность. Они начали производить льняное полотно вместо шерстяной ткани, а так как сами англичане не слишком стремились заниматься этим, то и не стали лишать своих ирландских друзей такого дохода.
И никто не был более энергичен в развитии льняного дела, чем семья Лоу. Речь для них шла не только о продаже готового полотна. Очень скоро мистер Лоу создал целую сеть из десятка ферм, которые снабжал семенами, прялками и всем прочим для производства пряжи. А поскольку поставки сырья были теперь ему гарантированы, он занялся в первую очередь ткацким делом и торговлей. К тому времени, как на английском троне оказался король Георг, Лоу имел собственный склад на причалах в Белфасте и долю в полудюжине кораблей. А своих троих сыновей он старательно обучал делу.
Лоу были весьма типичной семьей. Их вера, хотя и происходила от кальвинизма столетней давности, имела более мягкую природу. Они находили радость и вдохновение в простой привязанности к родным, в молитве и совместном пении любимых псалмов. Однако они обладали и чувством юмора.
Тем не менее эти упрямые шотландцы со строгой Пресвитерианской церковью твердо верили в добродетель усердного труда и бережливости. Все они отлично видели, где можно заработать, и не любили пустые расходы. Мистер Лоу сумел купить красивый городской дом в Белфасте, однако, когда его жена выразила желание иметь в гостиной чудесные шелковые гардины, ей было заявлено, что хороши будут и старые гобеленовые занавеси, оставшиеся от прежнего владельца, их только нужно слегка починить. Ее муж даже опустился на колени, чтобы показать жене, как легко это можно сделать. Эти занавеси, сказал он, отлично прослужат еще двадцать лет. А выставлять напоказ шелка — тщеславие и хвастовство, а потому и говорить на эту тему больше незачем.
Сплоченная, набожная, серьезная, здоровая, бережливая, не берущая денег в долг — такой была семья Лоу. И естественно, пресвитерианская вера помогала в торговле мануфактурой. Но поскольку такое наследие означало, что они не могут преклонять колени перед каким-нибудь епископом, новые господа их не признавали. И вот, по странной иронии судьбы, тот факт, что они относились к строгим протестантам, означал, что с ними будут обращаться почти как с папистами.
А потому едва ли стоило удивляться тому, что пресвитерианцы уезжали из Ульстера. Будучи неустрашимыми шотландцами, целые семьи иногда отправлялись в далекие края, и в результате в Новом Свете возникли процветающие колонии ульстерских пресвитерианцев — колонии, где вновь прибывшие вроде Сэмюэля Лоу могли найти и гостеприимство, и собратьев по вере.
Нельзя, конечно, было сказать, что братья Лоу не видели и других причин для отъезда. В конце концов, они ведь деловые люди.
— Земля в Америке должна быть дешевой, — подчеркивал Сэмюэль. — А возможности для торговли, безусловно, растут.
Братья обсудили также и то, куда именно он должен отправиться. Многие знакомые им семьи устроились в Новой Англии, другие поселились в Делавэре, Нью-Йорке или даже намного дальше к югу, в Каролине. Ульстерские поселенцы распространились и по всему Восточному побережью. Но Сэмюэль предпочитал Филадельфию.
— Ты все еще уверен насчет Филадельфии? — спросил Джон, не совсем одобрявший выбор Сэмюэля. — Но там полным-полно квакеров.
— Там есть и пресвитерианцы, — напомнил ему Сэмюэль.
Генри решил тоже высказаться.
— Филадельфия — хороший выбор, — согласился он. — У тех мест отличное будущее. И сам город весьма привлекателен. — Он не упустил из виду еще кое-что: одна знакомая им семья, эмигрировавшая несколько месяцев назад, имела весьма хорошенькую дочь. И он подмигнул брату, чего Джон не заметил. — Но я буду по тебе скучать, — сказал он. — А если ты когда-нибудь надумаешь вернуться, я буду только рад.
Сэмюэль усмехнулся. Если он втайне больше любил Генри, чем старшего брата, то это было вполне понятно. Генри, такой же высокий, как старший, имел густые каштановые волосы, слегка волнистые, и всегда считался самым красивым из них троих. И он был атлетически сложен. На состязаниях в беге во всем Белфасте не нашлось бы ему равного. Он работал так же много, как Джон, но имел более легкий характер и даже склонность к авантюрам. Генри нравился женщинам. Сэмюэль знал с дюжину девушек, которые с радостью вышли бы за Генри, и несколько раз ему даже казалось, что брат готов выбрать одну из них, но его как будто что-то удерживало. Казалось, у Генри есть некий план, о котором никто не имел представления, он словно намеревался что-то завершить, прежде чем обзавестись семьей.
— Здесь и вас двоих достаточно, я тут не нужен, — заметил Сэмюэль. — Но как только устроюсь в Филадельфии, то, надеюсь, мы сможем вести дело вместе, по обе стороны Атлантики.
Генри кивнул. Хотя Сэмюэль этого не знал, они с Джоном уже договорились поддержать брата, отправив ему корабль с товарами, не облагаемыми пошлиной. Что же до бизнеса в Ирландии, то и в самом деле Генри с Джоном составляли грозную пару. Они оба отлично знали все мелочи торговли льном, но в последние годы Джон больше занимался поставками товаров и мануфактурным производством, а Генри — продажей, что отражало особые таланты каждого. Если Сэмюэль хотел торговать чем-то другим, думал Генри, то именно я увижу новые возможности, а Джона придется убеждать.
— Ну, мне скоро нужно возвращаться домой, — сказал Сэмюэль. — Просто изумляет, сколько надо всего сделать до отъезда.
— Тогда давайте помолимся все вместе, — предложил Джон Лоу. — Попросим Господа благословить твое путешествие и все то, что ты предпримешь.
И трое братьев с тихой любовью помолились вместе, как их учили делать с самого детства.
После ухода Сэмюэля Генри остался с братом.
Было тихо. Оба они молчали. Генри задумчиво наблюдал за братом. Хотя Джон всегда скрывал свои чувства, видно было, что он грустит. Возможно, он втайне надеялся, что Сэмюэль никуда не уедет. Генри никогда не замечал в нем сомнений на этот счет, но с Джоном никогда нельзя знать наверняка. И Генри задержался ненадолго, чтобы составить брату компанию.
И еще по одной причине.
Весь день он гадал, сообщать брату неприятную новость или подождать. Но решил, что пусть уж лучше Джон обдумает все сразу.
— Нам следует обсудить, как лучше вести дело, когда Сэм уедет, — наконец сказал он.
— Да, — кивнул Джон.
— Уверен, Дублин будет для нас важен.
Торговля льняным полотном быстро расширялась не только в Ульстере, но и в Ленстере. Новый Линен-Холл в Дублине уже стал процветающим торговым центром, и в последние месяцы Генри несколько раз ездил в столицу.
— Сейчас из Дублина уходит больше кораблей с полотном, чем из Белфаста, — сообщил он. — Полагаю, мы должны открыть отделение в Дублине, — продолжил он. — Здесь у нас все так налажено, Джон, что я тебе, в общем, и не нужен, но, если я отправлюсь туда, мы сможем основательно расшириться.
Поскольку это являлось чистой правдой, то незачем было и говорить о том, что без Сэмюэля, который служил буфером между ними, Генри мог счесть мрачноватость и иногда подавляющее воздействие брата трудными для совместной жизни.
— Так ты тоже меня бросаешь. — Джон медленно кивнул.
— Не бросаю, Джон.
— Да, в твоих словах много правды, — тихо продолжил Джон. — Я не могу этого отрицать.
Однако он пока ничего не решил. Джон отлично знал: за внешним добродушием брата скрывается весьма самолюбивый ум, такой же безжалостно решительный, как и его собственный, а потому Генри утомительно получать приказы от старшего брата. И Джон понимал, что обижаться не следует.
— Я тогда приеду в Дублин, чтобы помочь тебе наладить мануфактуру, — не удержался он.
— А-а… — Уловив в собственном тоне нежелание, Генри быстро произнес: — Никто, кроме тебя, не даст мне лучшего совета, Джон. Во всей Ирландии.
— Странно будет здесь без тебя, — грустно пробормотал Джон.
— Дублин совсем недалеко от Белфаста. И я буду постоянно ездить туда-сюда.
— Но тут есть и другие соображения. — Теперь в тоне Джона слышалось опасение. — Пресвитерианцам намного легче жить в Ульстере, чем в Дублине. Здесь нас много, и мы сильны, а вот в Дублине… — Он испытующе посмотрел на Генри. — Тебе там придется трудно, брат.
Генри ответил ему прямым уверенным взглядом. Он давно уже раздумывал над этим. И улыбнулся.
— Я отдаю себя в руки Господа, — сказал он.
И это было не совсем ложью.
Именно Тайди заметил их приближение. Уолша он узнал сразу. Фортунат, в длинном плаще и потрепанной старой треуголке, ехал на красивом гнедом мерине и вел за собой вьючную лошадь. Но все равно видно было, что это джентльмен, подумал Тайди.
Из семнадцати ныне живущих внуков Фэйтфула Тайди Исаак был самым бедным. Невысокий, с жирными светлыми вьющимися волосами, он к тому же сильно сутулился. Но у него были свои принципы. В юности Исаак перепробовал разные занятия. Он работал печатником, поскольку умел читать и писать, но ему не нравились долгие часы однообразной работы и запах типографской краски. Потом искал должности церковного служителя или сторожа. И как раз в это время столкнулся с не кем иным, как с настоятелем собора Святого Патрика, который взял его личным слугой. Возможно, такое положение уж слишком невысоко для человека, чей дед был старшим служителем в соборе Христа.
— Ни для кого другого я бы этого не сделал, — заявил Тайди своим родным.
Действительно, в Дублине никто и не отрицал бы, что настоятель Джонатан Свифт — человек весьма необычный. И Тайди настолько полно отождествлял себя со своим хозяином и его высоким положением, стал настолько необходимым и так убедил всех, будто его собственная родословная весьма внушительна, что, когда младшие служители называли его мистером Тайди, он смотрел на это как на само собой разумеющееся.
Но если Исааку Тайди чего и хотелось по-настоящему, так это стать джентльменом.
Ирландское общество в том, что касалось Тайди, делилось на два класса, и только на два. Это были благородное сословие, или джинтри, как произносило большинство ирландцев, и все остальные. И эта демаркационная линия, столь же мощная и неодолимая, как Великая Китайская стена, пересекала множество социальных уровней. Настоятель Свифт и по рождению, и по образованию был джинтри, и Тайди, конечно, никогда бы не удалось выпить с ним стаканчик кларета. Фортунат Уолш, старый англичанин, член протестантского парламента в Дублине, имевший поместье в Фингале, также являлся джинтри, а значит, и его брат Теренс, доктор, несмотря на то что был папистом. И действительно, даже коренные ирландцы-католики, если они владели землями или обладали богатством настолько значительным, что могли заявлять о своем происхождении от принцев, вправе были считать себя благородным сословием. Но большинство людей, с которыми вы могли встретиться на улице, к этому классу не принадлежало.
Исаак Тайди всегда видел, кто есть кто. Он и сам не знал, как это у него получается. Но Тайди требовалось всего несколько секунд, ну, в крайнем случае, минута-другая, чтобы разобраться в человеке. И если этот человек манерничал, но на самом деле к джинтри не принадлежал, Тайди это понимал. Но он обычно вел себя вполне пристойно: мог ничего не сказать, однако разными способами дать это понять. Пусть даже герцог Ормонд или лорд-наместник принимали такого человека за джентльмена, он, Исаак Тайди, видел в нем самозванца, каковым тот и являлся на самом деле. И под его вроде бы подобострастным взглядом даже самый наглый самозванец начинал чувствовать себя неловко.
И пока всадники приближались к Килке, внимание Тайди сосредоточилось на темноволосом молодом человеке, ехавшем рядом с Фортунатом и небрежно одетом в поношенный костюм и в старой шляпе-треуголке. Но где он ее раздобыл? Была она его собственной или ее ссудил ему Фортунат? Однако самым странным казалось другое: Фортунат выглядел бесконечно счастливым, однако молодой человек совершенно не обращал на него внимания, поскольку был занят — читал какую-то книгу. Но разве джинтри этим занимаются?
Впервые Тайди не был уверен.
Когда они добрались до Килки, Фортунат был весьма доволен собой. Он отлично знал, что перед отъездом во Францию Теренс серьезно поговорил с молодым Смитом, требуя от него пристойного поведения. Однако Фортунат внес свою лепту: предложил юноше книгу, захватившую его внимание.
Узнав, что Гаррет этого еще не читал, Фортунат принес два небольших томика из собственной библиотеки — это были пьесы Шекспира. Уолш подумал, что если молодому человеку станет скучно в Килке, то вряд ли кого-нибудь обидит, если он устроится где-нибудь в углу и будет читать. Однако Гаррет принялся за чтение немного раньше, чем рассчитывал Фортунат. Они довольно спокойно провели первый день их путешествия, но когда накануне вечером остановились в гостинице и сели ужинать, Гаррет, позволив Фортунату на какое-то время вовлечь его в разговор, решил наконец, что с него хватит, и, открыв «Короля Лира», остаток ужина читал, лишь в самом конце трапезы заметив:
— А это просто отлично, знаешь ли.
Он читал весь вечер. Утром Гаррет поинтересовался, есть ли в Килке книги, а когда Уолш ответил: «Без сомнения», молодой человек кивнул и продолжил читать во время дороги. Он уже добрался до конца третьего акта, когда они приехали.
И если некоторые люди могли счесть Гаррета несколько невежливым, поскольку он полностью игнорировал доброго джентльмена, привезшего его сюда, то сам Фортунат, напротив, был в восторге. Ведь если у молодого человека была такая жажда к литературе, думал он, то совершенно не важно, какие у него взгляды, ему будут рады в Килке, и он останется доволен.
— Отложи книгу, Гаррет! — весело воскликнул Фортунат. — Потому что перед тобой райские врата!
Килка: деревенское убежище доктора Томаса Шеридана, служителя Ирландской церкви, друга настоятеля Свифта, ирландца и величайшего в Ирландии учителя.
Дом расположился рядом со стоячими водами. Жилище существовало здесь очень давно, и поросший травой круг фундамента древнего рата до сих пор был отчетливо виден. Шеридан использовал его как сцену театра под открытым небом. В относительно недавние времена рядом с ратом был построен скромный дом джентльмена. Просторный сад, обнесенный каменными стенами, спускался к воде. И вам вполне могло показаться, что вы в гостях у какого-нибудь великого ученого рядом с одним из кафедральных центров Англии, а вовсе не в графстве Каван, окруженном милями болотистых земель. Это был храм муз Шеридана.
Нельзя сказать, чтобы дом был в отличном состоянии. На крыше не хватало нескольких сланцевых плиток, а дыры постарались заделать птицы, устроив в них надежные гнезда. По стенам полз плющ, старательно скрывая осыпавшуюся штукатурку, пряча трещины, о которых сам Шеридан явно совсем не беспокоился. То ли он был слишком занят римской и греческой классикой, то ли унаследовал беспечность по отношению к подобным мелочам от ирландских вождей, бывших его предками. Однако, скорее всего, Шеридану даже в голову не приходило прогнать птиц с крыши, которая, как он, без сомнения, полагал, принадлежала им так же, как и ему.
И именно Шеридан вместе с настоятелем собора Святого Патрика вышел навстречу гостям.
Это была удивительная пара. Свифт был старше лет на двадцать, ему уже давно перевалило за пятьдесят. Его лицо, некогда круглое, с мясистым раздвоенным подбородком, с годами вытянулось, став серьезным. Плутовская усмешка на губах сменилась тонкой, иронической; глаза все еще светились юмором, но в них была видна и грусть. Что-то в его манерах говорило о том, что, хотя он и разочаровался в своих надеждах на высшую английскую власть, он все же остается настоятелем собора Святого Патрика и прекрасно осознает важность и достоинство своей службы.
Стоявший рядом с ним Шеридан и сам был фигурой довольно значительной, но он как будто не помнил об этом. Его веселье било через край. Казалось, в любой момент он может ткнуть настоятеля в бок — и тот, скорее всего, мягко выбранил бы его — или выдать неприличные каламбуры на латыни, и тогда настоятель наверняка потерял бы всю серьезность. Яркие глаза, широкий лоб. Шеридан выглядел именно тем, кем он был, — счастливым ученым.
— А это кто, о Фортунат?! — воскликнул он, показывая на молодого Смита.
— Это мой родственник, — весело ответил Фортунат и представил хозяевам молодого Гаррета.
— Он читает, сидя в седле, — заметил Шеридан. — Но что же он читает прямо на ходу?
— Сегодня это «Макбет», — сообщил Уолш, поскольку Гаррет не потрудился ответить.
— В самом деле? — Доктор Шеридан обратил благодушный взгляд на Гаррета, и тому было не укрыться от его глаз. — Мне прежде не приходилось встречать людей, которые читали бы «Макбета», сидя на лошади, мистер Смит. Сонеты — это еще куда ни шло, но чтобы «Макбет»? Могу ли я поинтересоваться: вам нравится?
Гаррет бросил на него осторожный взгляд. Он вовсе не собирался изображать покорность любого рода.
— Это английский, но достаточно хороший, чтобы быть ирландским, — тихо ответил он.
В его глазах не видно было ни уважения, ни предложения дружбы.
Свифт посмотрел на Уолша без выражения. Но Шеридан, похоже, был в восторге.
— Верно! — воскликнул он. — Верно! Это слова истинного ирландца! — Он повернулся к остальным. — Сами знаете, это просто необходимо перевести на ирландский! — Он снова обернулся к Гаррету. — А как вы думаете, ваших способностей хватит для того, чтобы выполнить такую задачу? — уже серьезно спросил он.
— Может быть, — признал Гаррет. — Я, наверное, мог бы попытаться.
— Превосходно! — закричал доктор Шеридан. — Молодой ирландский ученый. Добро пожаловать, мой дорогой мистер Смит, в Килку! Прошу в дом!
Когда все вошли внутрь, на дворе остался только Исаак Тайди. Он успел внимательно изучить молодого человека.
Этот юноша, с бледным лицом и массой темных волос, не произвел на Тайди впечатления. Ему, судя по всему, около двадцати лет, но он не имел никакого воспитания. Может, он и был родственником Уолша, но даже прекрасный джентльмен вроде Фортуната мог иметь никудышную родню. Кроме того, Тайди без труда понял молодого человека. Почему он так груб? Потому что защищается. И таким образом выдает себя. Тайди собрал вместе свои наблюдения, обобщил их, привел в порядок, мысленно спрятал Смита в некую коробку и захлопнул крышку. Смит не был джентльменом. Никогда не был и никогда не станет. И еще кое-что не нравилось Тайди. Странные зеленые глаза Смита.
За ним следует присматривать. Скорее всего, подумал Тайди, он попытается стащить серебро.
Фортунат тоже наблюдал за Гарретом.
Как только им показали их спальню с дубовой кроватью для Фортуната и удобной кушеткой для Гаррета, стало ясно, что Шеридан сгорает от желания продемонстрировать им свои владения, и потому они вскоре снова вышли во двор, с Шериданом и настоятелем, и отправились в огражденный стеной сад. Пока они спускались к воде, Шеридан буквально пускал пузыри от восторга.
— Вот эти розы, Уолш, ты еще не видел. Они посажены после твоего последнего визита. Лаванда изумительно сильно пахнет, так, да? Мне ее дал один джентльмен из Лондона. А вон там, мистер Смит, я предполагаю посадить ливанский кедр, когда сумею его раздобыть. — Показывая на лес, невысокие холмы и болота вокруг, он сообщил Гаррету: — Все это — край Шеридана. Это название — одно из старейших в Ирландии, вы ведь знаете. Говорят, О’Сиорданы приехали из Испании вскоре после прихода святого Патрика. У нас был огромный замок Тогхер, до появления Стронгбоу, и наши земли тянулись, — он сделал широкий жест рукой, — через весь Каван. — По легкой иронии во взгляде настоятеля Свифта Фортунат понял, что настоятель уже не раз слышал эту речь. — Мы потомки О’Рурков, принцев Литрима, принцев Слайго и Тирона, и потомки О’Коннора Дон… Я вам все это говорю для того, чтобы вы понимали: здесь вы найдете сердце и душу древней Ирландии.
— Непонятно, как это, если вы протестант, — грубо произнес Гаррет Смит.
Фортунат был уже готов вмешаться и выбранить юношу, но Шеридан отмахнулся от него.
— Вы правы. Это странно, ведь большинство Шериданов — католики. Но я вам расскажу, как это произошло. Более века назад мой дальний предок Доннхад О’Сиордан осиротел. Его взял в семью добрый английский церковнослужитель и воспитал в своей вере. Мой предок и сам стал священником и был близко знаком с Беделлом, епископом Килморским. — Шеридана уже понесло. — Вы слышали о Беделле? Он единственный из английских епископов читал проповеди на ирландском языке и даже перевел на ирландский Ветхий Завет. Он был хорошим человеком, и его любили в Каване. Любили настолько, что, когда в сорок первом году начался великий бунт, с его головы не упало ни волоска, его никто не тронул. Бунтовщики просто явились к нему и сказали, что ему бояться нечего, что он был бы последним англичанином, которого изгнали бы из Ирландии. А когда он умер, половина тех, кто провожал его гроб, были католиками, ирландскими вождями. — Шеридан улыбнулся. — Как видите, Гаррет, наша история, поскольку это история живых людей, не всегда так проста, как нам бы того хотелось. И именно благодаря ему моя протестантская ветвь Шериданов, в которой было несколько служителей Церкви, старалась превратить Ирландскую церковь в гэльскую здесь, в Каване. — Он вздохнул. — Но обстоятельства были против нас.
В ответ на все это Гаррет промолчал, и Фортунат понятия не имел, что парень подумал о фамильной истории Шеридана.
— Идемте, — произнес Шеридан, — позвольте показать вам рат.
Похоже, рат Гаррету понравился. Энтузиазм Шеридана относительно театральных возможностей этого древнего земляного сооружения был заразителен, он даже умудрился немного расшевелить молодого человека.
— Гаррет, встаньте вот здесь, рядом со мной, и давайте прочтем знаменитый монолог из «Макбета». Книга не нужна. Я вам подскажу. «Кинжал ли это предо мной?..» — И он на память продолжил декламировать дальнейшие тридцать три строфы — что явно произвело впечатление на юношу. — Шекспир воистину хорош! — возвестил Шеридан, когда они закончили. — Но на круглых сценах вроде этой следует ставить греческие драмы. Вам знакомы Софокл, Еврипид? Нет? Прочтите их. Я вам дам книги. Говорят, древние ирландцы жили в Средиземноморье, — продолжил он, — и я в это верю. Посмотрите на воды Дублинского залива, Гаррет, посмотрите вдоль берега на юг, мимо вулканических холмов, и кого вы увидите встающим из мягких вод? Мананна мак Лира, нашего ирландского морского бога. А кто же он таков, если не сам Посейдон, греческий бог моря, только под другим именем? Мы греки, Гаррет, греки! — воскликнул он и тут же добавил тише: — Которыми завладели иезуиты. — Говоря это, Шеридан хитро покосился на юношу. — Подозреваю, и вы в душе иезуит, Гаррет, — сказал он, слегка поддразнивая собеседника. — У вас ум острый как бритва.
Фортунат наблюдал за всем этим с легким беспокойством, однако Гаррет как будто не был задет этим подшучиванием или скрытым за ним глубоким пониманием. Он лишь слегка наклонил голову, и это, похоже, вполне удовлетворило Шеридана.
Когда они возвращались к дому, Гаррет и Шеридан шли рядом и о чем-то тихо разговаривали, а Фортунат беседовал с настоятелем.
Во время всего этого спектакля Свифт слегка улыбался, но помалкивал. А теперь Уолш постарался разговорить его.
— Уже много лет я восхищаюсь Шериданом, — заметил Уолш. — Он кажется мне наилучшим представителем служителей Церкви — и у него лучшая школа в Ирландии. Я послал к нему своего сына. И театральные постановки его школы весьма известны. Но до сегодняшнего дня я не понимал, как сильна его страсть к театру. Он замечательный актер.
— Верно, — с сухой улыбкой согласился Свифт. — Кафедра проповедника и театральная сцена, Уолш, никогда не стояли далеко друг от друга.
— И он явно любит Килку. Я не встречал прежде человека, так восхищающегося своим домом.
— Я тоже, Уолш. И очень жаль. — Свифт чуть повысил голос, подчеркивая свои слова. — Очень жаль, что это место разрушается. Когда я был здесь в последний раз, в стене моей комнаты была трещина и оттуда так дуло, что я мерз даже в теплой одежде. И крыша протекает.
— Я все слышу! — крикнул Шеридан. — Ничего с крышей не случилось!
— Да ты не заметишь, если она вообще улетит, — возразил Свифт.
— А она и улетает время от времени, — весело сообщил ирландец, — летит, как птица, чтобы навестить какого-нибудь дядюшку в Корке, но всегда возвращается. Она только жалуется, — особым тоном добавил он, — если под ней вьют гнезда разные стрижи-свифты.
— Ха!
— Кроме того, ты ведь ни капельки не промок.
— Потому что дождя не было.
В доме Шеридан проводил их в большую, длинную комнату. Ставни уже закрыли, и в комнате было темно, но Фортунат видел центральный очаг, перед которым стояла большая скамья с мягкой обивкой, пара потертых кресел с подголовниками и небольшой стол, заваленный бумагами. В дальнем конце комнаты, у стены, приютился узкий длинный стол, без сомнения позаимствованный в каком-нибудь монастыре времен Тюдоров. И, только заметив, с каким изумлением смотрит туда Гаррет, Фортунат осознал, что на столе лежит нечто вроде длинного тощего трупа, словно подготовленного к поминкам. Шеридан бросил взгляд в ту сторону.
— Это О’Тул, — коротко сообщил он. И открыл одну из ставен. Потом, повернувшись к Свифту и показывая на бумаги, сказал: — Ну, Джонатан, давай продолжим. Возможно, наши друзья сумеют нам помочь.
Похоже, раньше оба мужчины занимались неким сочинением, которое готовил настоятель, но это была не проповедь или религиозный трактат, как узнали гости, а литературный текст. Уолш объяснил Гаррету, что Свифт, до того как получил должность в Ирландии, уже создал себе имя в Лондоне как редактор и писатель, сочинявший стихи и сатиры.
— Он, видишь ли, близкий друг великого поэта Александра Поупа, — сказал Уолш.
Фортунат знал, что Свифту нравилось сочинять в Килке, потому что он находил причудливую свободу языка и воображения своего друга полезным контрастом к своей собственной язвительной иронии. А сочинение, над которым он нынче трудился, было воистину странным.
Оно выглядело как пародия на популярные книги о путешествиях: невероятная сказка о человеке по имени Гулливер, который отправлялся в разные воображаемые места: то на остров, населенный крошечным народцем, то в страну гигантов, то в мир, управляемый разумными лошадьми. Свифт даже сделал несколько набросков о путешествии на некий летающий остров.
— Мы тут подбирали названия для разных удивительных мест и существ, что встречались ему в путешествиях, — объяснил Шеридан. — Потому что имена и названия очень важны. Мы, например, уже назвали остров, где живут крошечные люди, Лилипутией. А наши разумные лошади называются «гуигнгнмы» — разве не напоминает лошадиное ржание? Но давай, Джонатан, поставь перед нами еще какие-нибудь задачки!
Поощряемый энтузиазмом друга, Свифт послушно прочел несколько эпизодов, и вся компания принялась напрягать мозги.
— Мы должны обшарить все уголки своего воображения! — заявил Шеридан. — Слова английские и французские, латинские или греческие, звукоподражание, ирландский… Вы представляете, Гаррет, настоятель Свифт немного знает даже кельтский! На ирландском он говорит не так хорошо, как вы или я, но он изучает наш родной язык, к его чести будь сказано.
Уолш и Свифт решили, что летающий остров должен называться Лапутой. И еще они одержали победу, когда придумали, как назвать неотесанных существ, раздражавших рассудительных лошадей, — еху. А Шеридан предложил название для маленьких, похожих на мышей существ, которыми любили закусывать еху.
— На латыни «мышь» — mus, а на ирландском — luc. Так что я предполагаю, что эти несчастные малыши должны называться люхимухсы. Разве вы буквально не видите их теперь?
Свифту очень понравилось. Но самый интересный выбор им пришлось сделать немного позже.
— В одной из земель, где побывал Гулливер, — пояснил он, — всякий, кто желает быть принятым королем, должен не просто простираться перед ним, как это принято на востоке, но еще и ползти к трону, слизывая по пути грязь с пола. И как мы это назовем?
За его словами последовало глубокое и продолжительное молчание. Уолш сдвинул брови. Шеридан уставился в пространство, углубившись в мысли. Наконец заговорил Гаррет Смит:
— По-ирландски «раб» — а человек, который так поступает, и есть раб, — trial, а «зло» и «грязь» — droch и drib. Так что можете назвать это место Трильдрогдриб или Тральдрогдриб.
Все переглянулись. Это было блестяще.
Потом вдруг в дальнем конце комнаты внезапно раздался смешок — со стола у стены, и труп сел.
— Блестяще! — повторил труп.
— О Боже! — воскликнул Шеридан. — Вы разбудили О’Тула!
Когда Шеридан сказал Гаррету, что здесь находятся сердце и души древней Ирландии, то не слишком ошибся. Вечер они провели за столом в теплой и сердечной обстановке. Разговор, конечно, в основном шел на английском, но если, например, О’Тул цитировал какие-то ирландские стихи, Шеридан просто слушал, а Уолш и настоятель Свифт одобрительно кивали. Через минуту-другую они могли заговорить на гэльском, и тогда две женщины, принесшие с кухни еду, с удовольствием остановились послушать, хотя в разговор не вступали. Только Тайди, на которого была возложена роль дворецкого, помалкивал, потому что никогда не хотел говорить на ирландском языке и совершенно не мог понять, зачем это нужно настоятелю. Тайди сумел бросить на Гаррета несколько презрительных взглядов, которые ясно выражали его мнение на тот счет, что молодому человеку следовало бы прислуживать за столом, а не сидеть рядом с остальными. Но этого никто не заметил, кроме самого Гаррета.
В центре внимания был О’Тул.
Фортунат раньше не встречался с Артом О’Тулом. Это был довольно молодой человек, слегка за тридцать. Светловолосый длинноногий парень с глазами как голубые озера, с тонким лицом и широким ртом и с высокими выступающими скулами… В воображении Уолша он сразу стал похож на светловолосую скрипку. Бóльшую часть года О’Тул жил со своей семьей в горах Уиклоу, но летом и в начале осени отправлялся бродить по дорогам, как это делали древние барды Ирландии с незапамятных времен, и везде его принимали с уважением. Чаще всего он демонстрировал свое искусство на скромных фермах и в деревушках перед коренными ирландцами, которые могли лишь накормить его и предоставить ночлег, но ведь он и делал то, что делал, просто из любви к искусству. Иногда на таких вечеринках он мог петь, притопывая ногой в ритм музыки, а ему аккомпанировали один-два местных скрипача. Но частенько он просто рассказывал легенды из старого ирландского фольклора. Однако лучше всего бывало, если у него случалось такое настроение, когда он, сам наигрывая на маленькой лире, которую носил с собой, начинал негромко напевать стихи собственного сочинения.
На острове были и другие поэты вроде него. И самым известный из них — Турлох О’Кэролан, поэт и музыкант, слепой от рождения.
— Слеп, как великий Гомер, — как-то раз сказал о нем Шеридан в разговоре с Фортунатом. — И с самой феноменальной памятью, какую только можно представить. А что до его стихов, так для тех, кто знаком с классической греческой литературой, я бы поставил его вровень с самим Пиндаром.
О’Кэролан жил в этих же краях и несколько раз бывал в Килке. О’Тул был моложе его на двадцать лет, но, по мнению многих, мог однажды стать равным ему.
Во время ужина поэт говорил мало, как бы сберегая себя для позднего представления, но если уж заговаривал, то делал это в приятной легкой манере. Фортунату было ясно: этот человек не только блестяще знает ирландскую поэзию, но и отлично знаком и с классической литературой, и даже с некоторыми новыми английскими авторами. Пил он только aqua vitae[4].
— Я бы предложил тебе вина, Арт, — сказал Шеридан, — но знаю, ты предпочитаешь виски.
— Верно, — согласился поэт, — потому что обнаружил: если я выпью вина, мой ум затуманивается, а вот эта «вода жизни» на меня почти не действует, разве что в какой-то мере обостряет мои способности.
— Надо же, — весело заметил Шеридан, — а на меня так же действует кларет.
О’Тул обращался к Свифту с подчеркнутым уважением, а к Уолшу в светской манере, говоря, что слышал много хорошего о его брате Теренсе. Он также обменялся несколькими словами с Гарретом, но тот отвечал односложно, и Уолш предположил, что юноша, возможно, смущается, однако в какой-то момент он напрямую обратился к поэту:
— Из какой части Уиклоу вы пришли?
— Из верхней. По дороге к Глендалоху. То место называется Ратконан.
— А вы знаете Бреннанов?
По лицу О’Тула как будто скользнуло легкое облачко.
— Есть там такая семья. — Он осторожно посмотрел на Гаррета. — А вы как-то связаны с Ратконаном?
Гаррет уставился на него:
— Можно и так сказать.
— А-а… — О’Тул задумчиво кивнул. — Зеленые глаза. Это многое объясняет. — Но больше он ничего не добавил. Когда с едой было покончено, он отодвинул стул в сторону и взял свою лиру. — Сначала, — заявил он, — немного музыки.
Первым делом он сыграл короткую джигу, потом нежную старую ирландскую мелодию, и Фортунат предположил, что это было прелюдией к какой-то ирландской легенде. Но потом, к его удивлению, О’Тул вдруг заиграл живую итальянскую пьеску, в которой Фортунат, к своему огромному удивлению, узнал адаптированный скрипичный концерт Вивальди. Видя его изумление, Свифт наклонился к нему.
— Я слышал, как слепой О’Кэролан точно так же переделывал на свой лад итальянские сочинения, — прошептал он. — Ваши ирландские музыканты могут встать рядом с любыми европейцами.
А О’Тул уже искусно вернулся к ирландским мелодиям. Сыграв три или четыре, он остановился, и Шеридан подал ему еще виски. К этому времени женщины с кухни вернулись в комнату вместе с мальчиком из конюшни и работниками с фермы, так что все жившие в этом доме собрались полностью.
— Теперь, — тихо произнес поэт, — одна-две истории.
И он, иногда напевая, иногда декламируя, принялся рассказывать древние ирландские легенды о Кухулине и Финне Маккуле, о древних королях и святых, о мистических событиях. В основном он говорил на ирландском, но раз или два с легкостью переходил на английский. И так в течение часа, лишь изредка он прерывался, чтобы сделать глоток виски.
— Тебя будут помнить, Арт, очень долго после того, как все мы окажемся забыты, — тепло произнес Шеридан, когда поэт наконец остановился.
Несколько минут вся компания тихо попивала, почти не разговаривая. Потом О’Тул снова коснулся пальцами струн лиры.
— Мое собственное сочинение! — возвестил он. — Я его назвал «Река Бойн».
Пусть дело ирландских католиков было полностью проиграно в битве у реки Бойн, никто ничего не забыл. Да и могло ли так быть, если протестантские лендлорды заняли все украденные у католиков земли, а закон добавил оскорбления и каждый день бередил раны? Нечего было и удивляться тому, что поэты пели тоскливые песни, вспоминая ту Ирландию, что была утрачена, вызывая видения страны, вернувшейся к древнему великолепию и пробуждая мечты о том дне, когда это осуществится. Однако надо всем этим висела печаль, тоска, призыв к якобитам. И все это выражали музыканты вроде О’Кэролана. А теперь и Арт О’Тул пел такой же прекрасный плач — плач по крови, пролитой у прекрасной реки Бойн. Поэт стенал о потере Лимерика, горевал по «диким гусям», улетевшим давным-давно…
Все были тронуты, и ирландцы, и англичане. Фортунат поглядывал по сторонам и видел, что у женщин выступили слезы на глазах. Свифт молчал, но был откровенно взволнован. Шеридан полузакрыл глаза и едва заметно улыбался, как какой-нибудь ангел. Даже Тайди как будто задумался, осознавая, возможно, красоту музыки. Но взгляд Уолша в особенности привлекло лицо Гаррета Смита.
Преображение было удивительным. Исчезло угрюмое выражение замкнутости, прежде характерное для юноши. Его лицо расслабилось. Он смотрел на поэта сияющими глазами, приоткрыв рот от восхищения.
В чем бы ни заблуждался этот молодой человек, думал Фортунат, он обладает и чувствами, и талантом, в том сомнений быть не могло. Он действительно должен учиться в Тринити, размышлял Уолш, и мы с Теренсом могли бы его туда отправить, если бы он не был католиком. Но, как католик, он не мог приобрести профессию, требующую обучения, знаний, а ведь природа явно предназначила его именно для этого. Но он вынужден испытывать разочарование и неудовлетворенность, работая в лавке бакалейщика. Фортунат покачал головой, осознавая весь ужас ситуации. Он подумал о своем разговоре с достойным священником и о том, какими могли быть чувства Гаррета к невежественной девушке-служанке, которую легко соблазнить. И ведь, скорее всего, как раз в это время бедняжку увозят назад, к родным, в горы Уиклоу. В то самое место, как теперь выяснилось, где жил О’Тул. Что за странное совпадение. Не было ли во всем этом какого-то тайного смысла? Что все это означало?
На следующий день все встали поздно. В середине утра Фортунат спустился вниз и обнаружил Гаррета сидящим на скамье перед домом. Юноша читал «Макбета» и жевал овсяную лепешку. Шеридан и Свифт тихо разговаривали о чем-то у воды.
В полдень появился О’Тул, слегка перекусил и сказал, что должен отправиться дальше. Ему предстоит пройти десять миль до деревни, где его уже ждут. Они с Шериданом о чем-то переговорили, и Фортунат не сомневался: во время разговора одна-две золотые гинеи перешли в руки поэта. Потом вся компания попрощалась с ним и поблагодарила поэта. Он принял это как должное. Гаррет что-то пробормотал ему на ирландском, но Уолш не расслышал, что именно, а поэт ответил спокойным кивком. И тут же ушел длинным ровным шагом.
Обедать они собрались только поздно днем. Шеридану и Свифту явно хотелось продолжить разговор наедине, и как только Гаррет дочитал пьесу, Уолш повел его на небольшую прогулку. Он старался отвлечь молодого человека от воспоминаний об О’Туле и о прошедшем вечере. Гаррет говорил мало, но Фортунату казалось, что он подавляет волнение, словно сделал некое тайное открытие или пришел к великому решению. Но что это могло быть, Уолш был не в силах угадать.
И только позже, за столом, Фортунат заговорил о другом деле, не дававшем ему покоя.
— Мне нужен ваш совет, — сказал он Свифту и Шеридану.
— О чем же? — любезно поинтересовался хозяин дома.
— Как избежать выселения, — со смехом ответил Уолш.
И рассказал им о визите кузины Барбары Дойл, о ее ярости насчет медных монет мистера Вуда.
— Я просто не представляю, — признался он, — как мне ее угомонить.
— Ну, судя по всему, — заметил Шеридан, — по этому поводу будут протесты в парламенте со всех сторон.
— Однако английское правительство не обратит на них никакого внимания, — резко произнес Свифт. — Я точно знаю от некоторых высших чиновников, что они ничего не собираются предпринимать.
— Да, но ведь наверняка, — начал Фортунат, — после скандала с крахом акционерной компании Южных морей, когда она лопнула как пузырь, в Лондоне должны понимать, что их репутация упала ниже некуда. Им бы теперь постараться избежать любых финансовых операций, которые выглядят сомнительно.
Великий обвал на лондонском финансовом рынке три года назад весьма и весьма потрепал репутации и лондонского Сити, и британского правительства. Уолш мог лишь порадоваться тому, что его собственные накопления, как и накопления большинства друзей, остались в безопасности в Ирландии. Поскольку в самой Англии едва ли нашелся бы город, не пострадавший от той авантюры.
— Вы недооцениваете самонадеянность англичан, — мрачно произнес Свифт. — Правительство уверено: все жалобы из Ирландии вызваны просто раздором между политическими фракциями. И они полагают, что те, кто выдвигает возражения, делают это просто потому, что у них есть друзья в оппозиционной партии в английском парламенте.
— Но это чушь!
— Тот факт, что предположение абсурдно, не помешает тому, кто хочет в это верить.
— Мне бы хотелось, настоятель, — горячо заговорил Фортунат, — чтобы вы приложили к этому случаю свое сатирическое перо. Даже анонимный памфлет мог бы стать куда более мощным оружием, чем любые речи.
Сатиры настоятеля в прошлом публиковались анонимно, хотя все прекрасно знали, кто их сочинил.
Настоятель и Шеридан переглянулись. Свифт как будто колебался.
— Если я и подумаю об этом, — осторожно произнес он, — то лишь после того, как парламент в Дублине обсудит вопрос и получит ответ из Лондона. Я могу взяться за такое сочинение лишь в крайнем случае. Как настоятель собора Святого Патрика, я имею право высказываться по вопросам морали, но не политики.
— И все же, если до этого дойдет, — улыбнулся Фортунат, — вы должны позволить мне сказать моей кузине Барбаре, что сделали это лишь по моему настоянию. Если я завоюю ее доверие, то хотя бы сохраню крышу над головой.
— Отлично. Как пожелаете, — ответил Свифт. — Но, по правде говоря, Фортунат, я не просто разделяю ваши взгляды на это дело. Мое негодование даже превышает ваше. — Он нахмурился, прежде чем продолжить с некоторым жаром: — Я нахожу преступным и оскорбительным то, что этот человек заваливает Ирландию своими погаными монетами. Однако наши жалобы Вуд и его наймиты представят как нелояльность. Можете не сомневаться. Это просто позор! А причина тому есть, — сердито продолжил он. — Как англичанин, должен признать: мои соотечественники презирают все другие народы, но особое презрение они приберегают для Ирландии.
Уолш был поражен внезапной вспышкой гнева неразговорчивого настоятеля, но Шеридан лишь улыбнулся:
— Да, Джонатан, ты человек мудрый и осмотрительный, но твоя страсть к правде и справедливости может иной раз вырваться наружу и сделать тебя таким же опрометчивым, как я.
— Ирландская торговля шерстью уничтожена, — продолжил Свифт. — С Ирландией обращаются мерзко во всех отношениях, и это нововведение также пройдет безнаказанно. Уолш, позвольте сказать мое мнение о том, что должен сделать дублинский парламент. Он должен запретить ввоз английских товаров в Ирландию. Может быть, тогда английские парламентарии и их кукловоды вроде Вуда научатся вести себя лучше.
— Это сильное средство, — заметил Фортунат.
— Это необходимое лекарство для выздоровления нации. Но даже это, Уолш, станет лишь малым кровопусканием, временной примочкой. Поскольку подо всем этим лежат скрытые причины. С Ирландией будут обращаться дурно до тех пор, пока ее парламент раболепствует перед лондонским. Мы избираем людей как наших представителей, но их решения ни к чему не приводят. Лондон не имеет ни морального, ни конституционного права осуществлять законодательную власть в Ирландии.
— Радикальная доктрина.
— Едва ли. Это говорилось в дублинском парламенте более двадцати лет назад.
И действительно, ведущие ирландские политики предыдущего поколения, вроде Молине, как раз это и советовали. Но Уолш продолжал удивляться тому, что слышит подобные речи от настоятеля собора Святого Патрика.
— Позвольте уточнить, — с выражением произнес Свифт. — Мое мнение таково: всякое управление без согласия управляемых есть самое настоящее рабство.
И вот тут-то молодой Гаррет Смит внезапно вмешался в разговор.
Вообще-то, остальные на какое-то время просто забыли о нем. Он сидел справа от Свифта, а настоятель, обращаясь к Уолшу и Шеридану, и вовсе был вынужден повернуться к нему спиной.
— Добро пожаловать в компанию якобитов! — громко произнес юноша.
Настоятель резко обернулся. Фортунат уставился на Смита. Лицо молодого человека горело. Он не был пьян, но явно попивал потихоньку в течение всей еды. Глаза у него сияли. Было ли в его тоне искреннее волнение, или горькая ирония, или открытая насмешка? Определить было невозможно. Но что бы это ни было, на том Гаррет не закончил.
— Католики всей Ирландии благословят вас! — Он слегка диковато рассмеялся.
А Фортунат почувствовал, как кровь отливает от его лица.
Юноша, совершенно очевидно, просто не понимал, что только что произнес. Но было уже поздно. Настоятель Свифт повернулся к Гаррету, потемнев от гнева.
— Я не якобит, сэр! — проревел он.
Как ни странно, вовсе не предположение о симпатиях католиков так взбесило настоятеля протестантского собора Святого Патрика. Он пришел в ярость оттого, что его назвали якобитом.
Но разве Гаррет мог это понять? В сложном и запутанном мире английской политики людям вроде Свифта приходилось быть очень осторожными. Хотя их симпатии изначально лежали на стороне вигов, поддержавших новые протестантские поселения после изгнания католического короля Якова, Свифт, как человек книжный, имел много друзей и покровителей и в партии тори. И на взгляд вигов, теперь обладавших властью, Свифт принадлежал к лагерю тори. А поскольку некоторые тори недавно поддерживали короля Якова, то всегда оставалось подозрение, что любой тори может втайне желать возвращения на трон ненавистного дома Стюартов. И следовательно, каждый тори, которого им захотелось бы уничтожить, мог быть представлен как якобит — предатель короля Георга и протестантского порядка. Виновен по ассоциации.
Но разве дело якобитов не умерло, когда претендент на трон Стюарт столь позорно провалился в 1715 году? Нельзя было сказать наверняка. Король Георг и важные семьи богатых английских лордов плели свою политическую паутину, и дух интриги всегда висел в воздухе. У каждого человека были свои враги, даже у далекого настоятеля собора Святого Патрика, и шепоток насчет того, что Свифт — якобит, уже гулял кое-где.
Имело ли это значение? Ох, конечно имело. Вы могли жаловаться на медные монеты Вуда, вы могли доказывать, что Ирландией следует управлять из Дублина, вы могли даже насмехаться в своих сатирах над правительством и все же остаться безнаказанным, потому что в политическом мире это считалось честной игрой. Но если бы было доказано, что вы якобит, то это уже расценили бы как измену и вас погнали бы, как свора борзых гонит лисицу. А доказать такое было совсем нетрудно. Неосторожное печатное слово, проповедь, которую неверно истолковали, даже неудачный выбор текста — и ваша позиция в Церкви или университете, ваши шансы на продвижение по службе растаяли бы. Все эти тонкости отлично понимали Уолш и Шеридан, но явно не понимал молодой Гаррет. Свифт ни при каких обстоятельствах не мог позволить, чтобы его назвали якобитом.
— Но вы якобит! — восторженно воскликнул Гаррет Смит. — И если Ирландией следует управлять с согласия ее жителей, то вы должны иметь в парламенте и католиков!
Свифт одарил его обжигающим взглядом, а потом в ярости уставился на Уолша, как бы говоря: «Это ты привел его сюда!»
Проблема в том, подумал Фортунат, что на самом деле юноша прав. Когда Свифт говорил о влиянии на парламент, Уолш отлично понимал, что он имеет в виду членов протестантской Ирландской церкви. Свифт полностью верил в необходимость господства и в отстранение от власти католиков и сектантов. Но прирожденная страсть этого человека к справедливости заводила его дальше, чем он сам то осознавал. Вот так и получалось, размышлял Фортунат, что этот прекрасный человек находится в состоянии войны с самим собой и сам до конца этого не понимает. Возможно, то и был источник его странных сатир, ведь он любил одновременно и строгий классический порядок, и ирландское буйство чувств.
— Вы, молодой человек, дерзки и невежественны, и вы ошибаетесь! — в бешенстве закричал Свифт. — Якобиты — предатели, а что до католической веры, сэр, так должен вам сказать с полной откровенностью: я ее ненавижу! Она мне крайне отвратительна! — Он встал из-за стола и стремительно вышел из комнаты.
— Черт! — пробормотал Шеридан. — Черт! — Он вздохнул. — Вам лучше увезти вашего юношу, Фортунат, пораньше утром.
Они покидали Килку ясным, прохладным утром, но настроение Уолша едва ли можно было назвать бодрым. Перед отъездом Шеридан коротко переговорил с ним.
— Мне искренне жаль, что вы пробыли здесь так недолго, Фортунат, но я не могу допустить, чтобы Свифт злился, — сказал он. — Ваш молодой родственник талантлив, без сомнения, но, боюсь, ему следует многому научиться.
Но сильнее всего расстроила Уолша мысль о том, что из-за всего этого его могут больше и не пригласить в Килку.
Настроение у молодого Гаррета явно было намного лучше. Хотя Уолш этого не знал, Гаррет тоже кое с кем поговорил на прощание, только не с Шериданом, а с Тайди. Доверенный слуга настоятеля ловко увлек юношу за угол дома, где их никто не мог видеть.
— Ну, молодой Смит, вас вывели за ухо, да? — мерзким тоном произнес он.
— Похоже, да, — согласился Гаррет.
— Это место не для таких, как вы, — продолжил Тайди, — не вам сидеть за одним столом с высшими. Вы не принадлежите к обществу джинтри и никогда не будете принадлежать.
— Я иду туда, куда меня зовут, — вполне разумно ответил Гаррет. — Сами знаете, невежливо отказываться от гостеприимства.
На это Тайди лишь издал некий горловой звук, словно собирался сплюнуть.
— Ну, в любом случае, — продолжил Гаррет, — Арта О’Тула здесь встречают с радостью, а он не джинтри, я полагаю.
Поскольку Тайди не видел в О’Туле никакой пользы для себя, он промолчал, но что-то во внешности поэта заставляло его предполагать, что О’Тул принадлежит к разряду слуг.
— Нечего дуться и дерзить тем, кто выше тебя, — ответил он. — Тебя бы выпороть вчера вечером да отправить на конюшню, где тебе и место. Ладно, иди с миром.
— Спасибо, — сказал Гаррет.
Пока Гаррет скакал по дороге рядом с Фортунатом, Уолш гадал, какая судьба может ожидать этого юношу. Может, он мирно осядет в Дублине, став бакалейщиком? Или у него начнутся проблемы с законом? Или он сотворит нечто такое, что удивит их всех? И что в конце концов он вывел для себя из событий последних двух дней?
Когда они проехали с милю или около того, Фортунат рискнул заметить:
— Мне жаль, что ты поссорился с настоятелем Свифтом. Он великий человек, ты и сам знаешь.
— Конечно великий, — сразу согласился Гаррет. — Я восхищаюсь Свифтом.
— В самом деле? — Фортунат был удивлен.
— По крайней мере, он честен. — Гаррет помолчал, а потом добавил: — Это вас с Шериданом я презираю от души.
— А-а… — выдохнул Фортунат.
Но Гаррет Смит даже не посмотрел на него, чтобы увидеть, как спутник воспринял его оскорбление, поскольку ему было все равно. Он уже точно знал, что собирается делать.
Джорджиана
1742 год
Ловушка была расставлена.
Доктор Теренс Уолш, быстро шагая по мосту к северному берегу Лиффи, улыбался себе под нос. Он был рад оказаться полезным своему замечательному брату. Конечно, если предположить, что ловушка сработает и добыча в нее попадется. Но главным в том, что он так старательно и хитроумно изобретал, по его собственной оценке, был спортивный, охотничий момент. Как налетчики, захватывавшие скот в древней Ирландии, они с Фортунатом могли вместе доставить домой этот приз, и семьи аплодировали бы им.
Братья Уолш намеревались изловить некую юную леди. И ловушка была подготовлена как раз на этот вечер.
Было чудесное апрельское утро. Теренсу нравилось гулять, и он делал это всегда, когда предоставлялась такая возможность. Хотя он уже достиг среднего возраста, его жилистое тело могло бы принадлежать куда более молодому человеку; шаг у него был пружинистым, глаза по-прежнему сохраняли соколиную зоркость. Он улыбался и кивал всем встречным, здоровавшимся с ним, потому что был человеком популярным, но не останавливался поговорить, поскольку спешил по собственному делу.
Он и припомнить не мог, чтобы бакалейщик Макгоуэн жаловался на здоровье, и когда один из его многочисленных детей прибежал к нему и сообщил, что их отец плохо себя чувствует, Теренс тут же отослал ребенка назад с заверением, что придет в течение часа.
Войдя во двор дома, Теренс отметил, что здесь до странности тихо. У двери его встретила жена Макгоуэна. Женщина бледна, под глазами у нее залегли тени. Она что-то пробормотала, но Теренс не разобрал слов, и жестом предложила подойти к очагу.
Бакалейщик сгорбился в кресле. Лицо у него было пепельным, спина согнулась, словно у маленького старичка. Он похудел так, что одежда висела на нем как на вешалке. Он посмотрел на Теренса глазами, полными боли и безнадежности.
Прошлым летом Теренс ездил в Манстер. Зима 1740/41 года была ужасной по всей Ирландии, и после этого везде случались неурожаи. Но в различных областях все было по-разному. Земли вокруг Дублина не слишком пострадали, и в столицу поступало достаточно продовольствия, но Манстер пострадал очень сильно. Теренс был потрясен тем, что в некоторых местах бедняки буквально умирали с голода. И как всегда в подобные времена, в могилу первым делом сходили старики и младенцы, и их количество ужасало. Теренс никогда прежде не видел подобного голода, и воспоминание о тех людях, с которыми он встречался в деревнях во время поездки, преследовало его с тех пор. Многие из них выглядели как раз так, как сейчас выглядел Макгоуэн.
Но дублинский бакалейщик явно страдал не от голода.
— У вас что-то болит? — спросил Теренс.
— Только спина, доктор. — Макгоуэн показал место между лопатками. — Просто тупая боль, но она все возвращается и возвращается.
— А дышать вам трудно?
— Не особо.
— Больше ничего не болит? Как вы спите?
— Он не спит, — вмешалась жена Макгоуэна. — Мечется и ворочается всю ночь, а потом сидит вот так часами. Почти не двигается. — В ее голосе звучали одновременно и страх, и гнев. — И не занимается делами.
За прошедшие годы Теренс Уолш стал хорошим врачом, насколько вообще позволяли условия почти полного отсутствия медицинской науки в то время. Однако Теренс обладал двумя самыми главными качествами целителя в любые времена: знанием человеческой природы и интуитивным ощущением состояния пациента. К тому же он искренне верил, что врач без интуиции совершенно бесполезен.
— А как идут у вас дела, мистер Макгоуэн? — поинтересовался Теренс.
— Вполне хорошо.
Однако его жена покачала головой:
— Все дело в том грузе вина, доктор. А до того он чувствовал себя вполне хорошо.
Теренс задумчиво посмотрел на бакалейщика.
— Миссис Макгоуэн, — сказал он, — мне понадобятся две небольшие чашки, а потом я хочу остаться наедине с пациентом.
Когда все было исполнено, Теренс достал из внутреннего кармана сюртука маленькую серебряную фляжку.
— Бренди, Макгоуэн, — сообщил он и налил немного в каждую чашку. — Я тоже чуть-чуть выпью. — Он наблюдал за тем, как бакалейщик проглотил свою порцию, и тоже сделал глоток. — Ну а теперь почему бы вам не рассказать мне обо всем?
Доктору Уолшу не понадобилось много времени, чтобы все понять и согласиться с диагнозом миссис Макгоуэн. Причиной состояния бакалейщика почти наверняка действительно было доставленное вино.
В каком-то смысле проблемы бакалейщика явились результатом его успеха. Дело всегда было надежным, и с течением времени он сумел расширить свою деятельность. Он увеличил торговое место на рынке и оптовые закупки, приобретая больше зерна, муки и масла у окрестных фермеров и перепродавая все это другим торговцам. И то, что он был католиком, служило к его выгоде, ведь католики в Дублине нанимали на работу только своих братьев по вере, но точно так же и фермеры-католики в окрестностях предпочитали вести дела с другими католиками. И Макгоуэн создал довольно широкую сеть. Старших детей он отправил в ученики к другим торговцам или дал им возможность работать самостоятельно, а младшие помогали в бакалейном деле. В свои пятьдесят с небольшим Макгоуэн, человек энергичный, мог уже вот-вот войти в узкий круг тех бакалейщиков, чьи имена были хорошо известны в торговом братстве города.
И Макгоуэн решил, что если он вложит все свои деньги в один большой груз, полный корабль ценного товара, из тех, с которыми крупнейшие торговцы города имели дело едва ли не каждый день, то сможет сделать этот шаг. И тут он совершил фатальную ошибку. Прекрасно разбираясь в собственном деле, он соблазнился сунуться туда, где ничего не понимал. Он вложил все свои деньги, да еще и примерно половину этой суммы взял взаймы, чтобы купить корабль вина.
Вино должно было прийти из Бордо через торговца в Голуэе. Цена была хорошая. Слишком хорошая. Макгоуэн поговорил с некоторыми виноторговцами в Дублине, и все они советовали не связываться с человеком из Голуэя или поставщиками из Бордо. Однако Макгоуэн, решив сунуться в чужую область, вел дело втайне. Он заплатил за вино, но оно оказалось никуда не годным, а человек из Голуэя бесследно исчез.
Капитал Макгоуэна растаял. И у него образовался большой долг. Макгоуэн, конечно, смог получить кредит у своих постоянных поставщиков и продолжить торговлю. Но что бы он ни делал, груз его долга висел на нем, подобно демону, и сбросить его было невозможно. Этот долг буквально вышибал из Макгоуэна жизнь. Шли недели, а он все не видел этому конца. Что бы он ни предпринимал, он как будто не в силах был уменьшить долг. И это начало его убивать. Хуже того. После того как беда загнала бы его в могилу, он оставил бы без средств и свою несчастную семью. Макгоуэну невыносимо было думать об этом. Он ослабел. Он потерял волю к жизни.
И если не найдется какого-нибудь исцеляющего средства, подумал Теренс Уолш, то этот человек или просто медленно зачахнет, или случится кризис, который также приведет к смерти. Вопрос был в том, что тут можно сделать?
Самым скверным тут было то, рассуждал Теренс, что, если бы не долг, дело бакалейщика процветало бы. Возможно, в юности ему не слишком нравилось быть торговцем, но теперь Теренс знал достаточно, чтобы понять ситуацию Макгоуэна. Бакалейщик не просто имел большой магазин и достаточное количество постоянных покупателей, но благодаря фермерам, снабжавшим его продуктами, он оказывался в блестящем положении и имел множество преимуществ, когда со снабжением начинались трудности и цены росли. Да, думал Теренс, сейчас действительно был бы весьма подходящий для Макгоуэна момент, чтобы расширить свою торговлю, а не сократить. И если бы долг был меньше, а у меня не было собственной семьи, о которой нужно заботиться, рассуждал он, я мог бы воспользоваться случаем и сам ссудить его деньгами.
— Я не могу ничего обещать, но на вашем месте я бы не опускал руки, — сказал он бакалейщику. — Мне кажется, ваш долг не так уж безнадежен. Через несколько дней я зайду к вам снова. А тем временем вы должны есть, пить по стаканчику бренди каждый день и ежедневно прогуливаться до собора Христа и обратно. Я скажу вашей жене, чтобы она за всем этим проследила. Ну, еще увидимся.
И, весьма подчеркнуто и выразительно сообщив свои инструкции миссис Макгоуэн, Теренс отправился дальше.
В его практике такое случалось впервые: чтобы вылечить пациента, нужно раздобыть деньги, но Теренсу интересно было решить эту задачу. Ему нравился Макгоуэн, и он был полон решимости постараться спасти бакалейщика.
Теренс дошел до конца улицы и оглянулся на дом бакалейщика, и тут ему вспомнился другой человек, которому когда-то он пытался помочь. Прошло уже очень много времени с тех пор, как он устроил молодого Гаррета Смита учеником в этот дом, и почти двадцать лет миновало с тех пор, как этот юноша внезапно исчез из Дублина. Бог знает, как и где он теперь живет.
Вечернее небо розовело. Экипажи оставляли своих пассажиров у ворот, ведущих на территорию собора Христа, светское общество Дублина текло блистающим потоком к красивому зданию концертного зала, построенному сбоку от средневековой улицы Фиш-Шэмблс. Когда публика подходила к широкому входу, становилось заметно, что леди не надели сегодня обручи, которые обычно заставляли их юбки вздуваться, как паруса неких украшенных лентами боевых кораблей, а джентльмены не прихватили украшенные драгоценностями шпаги, служившие знаком их общественного положения. На все эти лишения общество пошло из особого уважения к распорядителям Музыкального общества, поскольку публики было так много, что иначе все просто не поместились бы.
А внутри картина ошеломляла. Концертный зал освещало, наверное, не меньше десяти тысяч свечей. В одном конце, на возвышении, устроился объединенный хор собора Христа и собора Святого Патрика — самый мощный хор, какой только можно было найти в Дублине. Пока вельможи и джентльмены искали свои места, можно было заметить членов великих семей: Фицджеральдов и Батлеров, Бойлов и Понсонби, а также епископов, настоятелей, судей и даже самых крупных торговцев. Семьсот человек приобрели билеты на сегодняшний вечер — больше, чем собралось сюда на репетицию пять дней назад.
Все уже разместились на своих местах, когда в дверях появился лорд-наместник со свитой. Он пришел последним, как и полагалось лицу, представлявшему короля. И при виде величественного герцога публика зааплодировала не только из уважения к его должности и личности. Именно благодаря чудесному покровительству лорда-наместника прославленный композитор приехал в Дублин. И здесь, а не в Лондоне состоится первое исполнение того, что уже было объявлено величайшим сочинением композитора.
Да, все они пришли услышать новую ораторию Генделя «Мессия».
Столь волшебной и столь радостной была вся картина, что лишь самый упрямый дух не забыл бы, по крайней мере на этот вечер, что в Ирландии кто-то умирает от голода. Но пока Фортунат ждал встречи с возвышенным, на его лице отражалась тревога. Он выложил немалые деньги за свое место. Жена сидела рядом с ним, сын Джордж тоже. А еще некий малознакомый джентльмен по фамилии Грей. Но следующие пять мест в их ряду оставались пустыми. Публика все еще суетилась, занимая кресла. А Фортунат не осмеливался оглядеться по сторонам.
Ловушка была готова. Но где, черт побери, жертва?!
Как-то вечером три месяца назад, когда они с Фортунатом сидели в гостиной, а между ними стояла на столе бутылочка кларета, Теренс сказал:
— На днях слышал кое-что такое, что может тебя заинтересовать. Ты знаешь доктора Грогана?
— Не близко.
— Ну, у него не так много пациентов, как у меня, но он хороший врач и вообще неплохой человек. И он мне рассказывал, что посещает некую семью по фамилии Лоу.
— Генри Лоу?
— Именно так. Ты с ним знаком?
— Это торговец полотном из Белфаста. Вот и все, что мне известно.
— Меня это не удивляет. Он живет тихо и занят делом. Но тут есть еще кое-что. Гроган, будучи в его доме, кое-что случайно услышал и стал расспрашивать. Он весьма любопытный человек, этот Гроган. — Теренс немного помолчал, чтобы произвести больше впечатления. — Генри Лоу — один из богатейших людей в Дублине.
— Черт побери! И?..
— И у него есть дочери. А сына нет.
— Понятно. Наследницы.
— Даже лучше. Их три: Анна, Лидия и Джорджиана. Но Лидия больна, и Гроган меня заверил, что она проживет от силы год-два. Так что все состояние будет разделено между ее сестрами.
— И ты подумал о Джордже?
— Вот именно.
— Да ему всего двадцать.
— А Джорджиане шестнадцать. А к тому времени, когда ей исполнится восемнадцать…
— И мы должны заняться этим, пока не началось состязание за ее руку, ты об этом?
Фортунат немного подумал. Его сын Джордж был красивым и умным юношей. И похоже, будет человеком добродушным и покладистым. Людям он нравился. Но Фортунат достаточно хорошо знал сына, чтобы понимать, что его интересует. Второй сын, Уильям, был бы бесконечно рад, если бы его оставили управлять семейным имением в Фингале. Когда Фортунат привел Уильяма в прекрасное новое здание парламента, которое теперь смотрело на сады Тринити-колледжа, Уильям оказался достаточно хорошо воспитан, чтобы не показать своих чувств, но Фортунат видел, что ему скучно. А вот Джордж — другое дело. Его широко расставленные глаза впитывали все. Он не просто слушал выступления ораторов, а внимательно изучал стиль каждого.
— Мне бы хотелось бывать здесь, — сказал он отцу после этого первого посещения.
И он задавал вопросы о ведущих политиках, об их семьях, о том, кто стоит выше, кто ниже.
— Я могу дать тебе первый толчок, — откровенно ответил ему Фортунат, — но если ты хочешь стать заметной фигурой в этом мире, то должен найти себе богатую жену.
— Какой веры эти Лоу? — наконец спросил Фортунат.
— Это пресвитерианская семья. Но Генри Лоу, когда переехал в Дублин, присоединился к Ирландской церкви.
— Но мне бы не хотелось, — медленно произнес Фортунат, — выглядеть искателем состояний.
— А тебе и незачем. Это нас погубило бы.
— Так у тебя есть какой-то план?
— Возможно. Но прежде всего ты должен кое-что узнать.
Барбара Дойл была рада сделать одолжение. Если не считать того, что ее волосы поседели, она удивительно мало изменилась. А Фортунат был у нее в чести с тех самых пор, как много лет назад случилась та история с медными монетами Вуда.
И дело было не в его речах в парламенте. Они были блестящими, но бесполезными, потому что английское правительство в этом вопросе отказалось обращать внимание на мнение Дублина. Но потом начались печатные атаки Свифта.
«Письма суконщика» выходили несколько месяцев. Они были анонимными, но все прекрасно знали, что их автором был настоятель Свифт. Кто еще мог писать такую блестящую, обжигающую прозу, насыщенную иронией? Свифт заставил английское правительство выглядеть презренным, а поскольку английские парламентарии были не менее тщеславны, чем любые другие политики, насмешки Свифта оказались для них невыносимы. Монеты были отозваны. Ирландцы ликовали. Уолш, сообщивший кузине Барбаре, что все это было его идеей и что именно он убедил Свифта во время визита в графство Каван, испытал момент настоящей паники, когда, случайно встретившись с Барбарой перед зданием парламента, вдруг увидел, что из Тринити-колледжа выходит настоятель Свифт и направляется прямо к ним. Миссис Дойл без колебаний бросилась к нему.
— Я слышала, это мой кузен Фортунат убедил вас написать «Письма суконщика», — заявила она.
— В самом деле?.. — Настоятель посмотрел на нее, а потом уставился на Фортуната.
Воспоминания о грубости молодого Смита в Килке заставили Уолша замереть. Но то ли вид его перепуганного лица, то ли собственное добродушие были причиной, однако автор «Путешествий Гулливера» решил проявить милосердие.
— Я написал их после разговора с ним, — признал он.
И, строго говоря, то не было ложью.
А кузине Барбаре этого оказалось вполне достаточно. Она просияла, глядя на Фортуната, и больше никогда не доставляла ему беспокойства.
Ее встреча с Генри Лоу, торговавшим полотном, примерно за шесть недель до исполнения «Мессии» Генделя, не могла выглядеть более естественной, поскольку они оказались живущими в одном приходе. Жена Генри Лоу не слишком близко знала вдову Дойла, которая с годами как будто становилась все крупнее и прямолинейнее. Им просто нечего было сказать друг другу. Но сам Генри Лоу ничего не имел против бесед с Барбарой, которую весьма уважал за ее острый, деловой ум. И после службы в церкви они могли поболтать несколько минут, пока миссис Лоу занималась светскими делами. Поэтому в то воскресенье Барбара с легкостью навела разговор на тему религиозного раскола семей.
— В моей семье тоже такое случилось, — заметил Генри Лоу. — В Ульстере я был пресвитерианцем, но когда приехал в Лондон и женился, то перешел в веру жены, а это Ирландская церковь.
— А я и не знала, — солгала Барбара Дойл.
— Ну, — вздохнул Генри Лоу, — мой брат в Ульстере с тех пор со мной не разговаривает. — Он грустно покачал головой. — Я прекрасно понимаю его чувства, но сам никогда не ощущал все это так сильно. И до сих пор все мои попытки сломать возникший барьер терпели неудачу.
А знаком ли он с доктором Теренсом Уолшем, поинтересовалась Барбара. Он лишь слышал, что у доктора хорошая репутация, ответил Лоу. Барбара пояснила, что доктор — ее дальний родственник и католик. А вот его брат, член парламента и член Ирландской церкви, никогда не позволял религии встать между ними.
— Он делает все, что может, чтобы помогать Теренсу, и они всегда оставались друзьями. И должна сказать, оба они хорошие люди.
— Ах, так ведь и должно быть! — воскликнул Генри Лоу. — Мне бы хотелось того же. Кажется, у этих Уолшей имение в Фингале?
— Да, это старая семья сквайров. Джентльмены, но люди простые. Никакого глупого жеманства, — решительно заявила Барбара. — Много работают и держатся за свою семью.
— Я бы с удовольствием как-нибудь познакомился с мистером Уолшем, — задумчиво произнес Генри Лоу.
— Он был бы готов в ту же минуту отправиться к тебе с визитом, — доложила впоследствии Барбара Фортунату. — Но я знаю, ты не этого хотел. Так что я промолчала, и мы расстались.
— Он действительно сильно переживает из-за семейного разлада?
— Да, именно. Он сделал состояние на торговле полотном, но всегда был готов поделиться им с родными. От викария я узнала, что Лоу дважды спасал своего брата в Филадельфии от гибели, и большой ценой. Ваши отношения с Теренсом для него имеют огромное значение.
— Должно быть, он сожалеет, что у него нет сына.
— У них был мальчик, после девочек, но он умер. Это викарий мне рассказал. А Лоу никогда об этом не упоминает. И после смерти сына он как будто изменился. Он любит дочерей, я уверена, но не возлагает на них особых надежд. — Кузина Барбара усмехнулась. — Зато мать очень на них рассчитывает. Так скажи мне, — с искренним любопытством спросила она, — как ты рассчитываешь заманить эту мамашу в свои сети?
Исаак Тайди оглядел все вокруг. Это было за три недели до великого исполнения «Мессии». Тайди и вообразить не мог, что понадобится герцогу ради такого события, но этим вечером лорд-наместник давал бал в Дублинском замке в честь Дня святого Патрика, и Тайди трудился не покладая рук вплоть до этого утра.
Он знал, что кое-кто думал, будто он свихнулся, когда решил уйти от настоятеля Свифта. Но ведь это решение далось Тайди нелегко. Однако здоровье настоятеля постепенно ухудшалось, а вместе с ним и характер. Он даже поссорился с Шериданом и прогнал его прочь. По мере того как жизнь Свифта становилась все более ограниченной и мрачной, Тайди начинал понимать, что мало чем может быть полезен настоятелю.
— Если, конечно, я не хочу кончить тем, что стану его сиделкой, а я этого не хочу, — объяснил он своим родным.
И в то же самое время он услышал о месте, открывшемся в доме нового лорда-наместника, и его туда сразу взяли! К изумлению Тайди, с ним разговаривал сам герцог.
— Мне бы не хотелось, чтобы обо мне говорили, будто я сманил тебя у настоятеля собора Святого Патрика, — откровенно сказал герцог.
— Клянусь, ваше сиятельство, я уже от него ушел! — твердо заявил Тайди.
И действительно, решив, что ему может повезти, он уволился от Свифта как раз этим утром.
Кое-кто мог подумать, что новая служба Тайди стала шагом вниз. Он ведь определенно не был дворецким. Дворецкий у герцога был. Но Тайди стоял сразу за дворецким, над легионом позолоченных лакеев, с важным видом расхаживавших по огромному дому герцога. Но он не был уже старым доверенным слугой, он был новичком. И никто, конечно, не трудился называть его мистером Тайди. Но он был готов терпеть эти мелкие проявления неуважения, потому что, перейдя к герцогу, он перешел из маленького частного дома во дворец могущественного властелина.
Тайди с гордостью объяснил своей семье:
— Выше, чем этот герцог, во всей Ирландии никого не найти.
И если бы ему когда-нибудь удалось подняться до должности дворецкого, он бы встал выше всех несвободных граждан Дублина. Поэтому Тайди вел себя осторожно, перестав бросать презрительные взгляды на тех, кто не был джинтри, и с навязчивой вежливостью старался быть полезен и тем, кто стоял выше его, и тем, кто стоял ниже. И для своей ограниченной натуры он действительно был очень умен.
Исаак Тайди был счастлив. Через какое-то время должны были начаться танцы. Большой зал Дублинского замка выглядел потрясающе. Великая перестройка ирландской столицы все еще продолжалась, и теперь процесс дошел и до потрепанного древнего замка. Работы начались с величественной церемониальной лестницы и с ряда парадных залов, которые теперь могли соперничать с лучшими залами Европы. Огромный главный зал, еще не подвергшийся переделке, иногда использовался так, как в этот день, но декораторы даже его сумели превратить в просторный классический храм всех богов. И общество собралось блестящее. Лорды, леди, джентльмены — да, действительно присутствовал весь высший свет. Многие лица были знакомы Исааку Тайди. Если кто-нибудь хоть раз посещал одну из резиденций герцога, Тайди старался запомнить этого человека. И пока взгляд Тайди блуждал по залу, он даже заметил в дальнем его конце веселое лицо Фортуната Уолша.
Что до самого Тайди, то ведь и он был здесь, и его все могли видеть. Он стоял всего в каком-нибудь футе от герцога Девонширского, ожидая личных распоряжений. Тайди даже позволил себе чуть заметно улыбнуться, посмотрев на свои безупречно начищенные ботинки. И в этот момент блаженства он не заметил, как Уолш кивнул кому-то из компании герцога.
Через несколько мгновений герцог жестом подозвал Тайди. Тот мгновенно скользнул к нему. И был чрезвычайно удивлен, когда ему велели позвать Фортуната Уолша.
Любой бы сразу заметил Тайди, шедшего через зал: отчасти потому, что каждый краем глаза наблюдал за компанией герцога, отчасти потому, что, когда стройный, напудренный слуга отправился куда-то прямо через центр зала, леди и джентльмены расступались перед ним. Как уж тут было не заметить… И каждый на этом балу, конечно, гадал, к кому именно идет слуга.
И не в самую последнюю очередь интересовалась этим Элиза, жена Генри Лоу, торговца полотном.
Элиза сильно удивилась, когда некая леди, с которой она была не особенно хорошо знакома, поинтересовалась, не хочет ли Элиза пойти с ней на бал к лорду-наместнику. Муж леди был в отъезде.
— А я не хочу идти туда одна, — пояснила леди.
Секретарь лорда-наместника ничего не имеет против такой замены, заверила она Элизу.
— Но вдруг кто-нибудь пригласит меня танцевать? — с испугом спросила Элиза.
— Вы пойдете танцевать, конечно, — засмеялась леди.
Хотя приглашение поступило совершенно неожиданно, отказаться вряд ли было возможно. Одним из величайших сожалений Элизы было как раз то, что ее чудесный муж с годами проявлял все меньше и меньше интереса к приемам и танцам. Элиза этого совершенно не понимала.
— Как ты можешь скучать, если там танцуют? — однажды спросила она его с искренним недоумением.
Он отправлялся в театр, или на концерт, или на какой-нибудь прием, чтобы доставить удовольствие жене, а она его предупреждала, что вскоре ему придется делать это чаще, ради дочерей. Но пока добиться этого ей не удавалось. Но он, по крайней мере, не возражал против того, чтобы этим вечером она отправилась на бал.
Ее спутница улыбалась. Так уж вышло, хотя Элиза Лоу этого и не могла знать, что лучшая подруга ее спутницы — жена доктора Теренса Уолша.
— Чудесная картина, не правда ли? Герцог потрясающе выглядит сегодня.
Герцог Девонширский был вторым знатным вельможей, назначенным за последнее десятилетие лордом-наместником. Огромное богатство и высокая должность придавали ему особую уверенность и спокойствие. Герцог, в синем с золотом камзоле и пудреном парике, лениво и добродушно смотревший на гостей, представлял собой символ великолепия и мира. Бóльшую часть времени Европа могла заниматься делением на династические лагеря. Кому-то могли грозить внезапные вторжения, хотя вроде бы такое никогда не осуществлялось. Даже якобиты могли давать о себе знать то тут, то там. Однако в Дублине любой увидел бы лишь картину неспешно растущего благосостояния людей — кроме коренных ирландцев, конечно, — и политического благополучия.
Но совсем не сам герцог, которого Элизе уже приходилось видеть, зачаровал ее, а блестящая компания вокруг него.
— Там все Понсонби, — заметила ее подруга.
Элиза с жадностью уставилась на них. Семья Понсонби — или Пансинби, как модно было произносить эту фамилию, — была семьей поселенцев времен Кромвеля, не намного важнее собственной семьи Элизы. Но два поколения осторожных интриг и кое-какое важное политическое покровительство вознесли их так, что они стали даже важнее богатого рода Бойл из Манстера. К тому времени, когда герцог Девонширский прибыл в Ирландию, Понсонби с помощью своих сторонников могли получить любое число голосов в дублинском парламенте, чтобы легко провести закон, необходимый правительству. Но еще больше усиливало их авторитет — и создавало политические удобства для герцога — то, что один из их сыновей женился на одной из дочерей герцога. Однако самым главным в глазах Элизы было то, что вся эта деятельность принесла семье не только богатство, но и титул.
Ах! Титул! Титулованных господ ныне много приезжало в Ирландию. И если глава рода Понсонби мог стать графом Бессборо, то менее значительные люди могли надеяться хотя бы на звание пэра. Ирландское пэрство частенько давалось в политических целях. Просто нужно было оказаться в нужном месте в нужное время и проголосовать так, как требовало правительство, и можно стать лордом, а это было практически вечное вознаграждение, потому что титул передавался наследникам. И если кто-то искал положения для своей семьи — а кто бы не хотел этого? — то за пэрство стоило побороться.
Титул! Ах! В глазах Элизы при мысли о титуле появилось мечтательное выражение. Может, ей и не предстояло когда-нибудь стать леди Лоу, но она страстно желала такого для своих дорогих, своих прекрасных, как лебеди, дочерей. Молодые джентльмены, которые могли получить титул: вот чего она желала для своих девочек. Конечно, это не та тема, которую она стала бы обсуждать с мужем, потому что его собственные притязания были куда более приземленными. Но сама она была полна решимости. И вот они перед ней, все эти люди в этом зале, а особо важные собрались в благословенной компании вокруг лорда-наместника. Как это прекрасно! Элиза и не представляла себе, что можно испытывать бóльший восторг.
Теперь она видела, как Тайди возвращается обратно. За ним шел красивый мужчина средних лет. Они пересекли середину зала, направляясь прямо к компании герцога, и все смотрели на них — джентри, и лорды, и леди, и будущие лорды, — все смотрели. Ох! Элиза слегка вздрогнула от возбуждения, просто невольно. Перешептывания затихли, когда этот человек подошел к герцогу, а герцог протянул ему руку, и — о да! — он улыбался!
Но пока Уолш шел к нему, герцог повернулся к своему зятю.
— А кстати, зачем все это? — тихо спросил он.
— Это Фортунат Уолш. Член парламента. Старый джентри из Фингала. Хочет, чтобы герцог его оценил. Ему нужно, чтобы его заметили. Всего на минуту.
— И у нас нет причин отказываться?
— Ни малейших. Преданный человек. Всегда полезный. Надежный друг.
— Тогда нам лучше сделать ему это одолжение.
За благодушной ленивой внешностью герцога скрывался острый и расчетливый ум, весьма опытный в подобных маленьких придворных тонкостях. Герцог протянул руку:
— Дорогой мистер Уолш! Мы очень рады вас видеть.
Было совсем нетрудно поболтать ни о чем минуту-другую. Герцог заговорил о Генделе, и Фортунат выразил восхищение истинного знатока музыки. Они также упомянули в разговоре несколько пьес, которые шли в театре «Смок-Элли». И герцог сразу решил, что ему очень нравится Фортунат, и даже — это было высшим выражением благосклонности — предложил ему свою табакерку. Они проговорили целых пять минут, и весь Дублин наблюдал за разговором.
— Мы должны как-нибудь встретиться снова, — сказал герцог, заканчивая беседу, но при этом кивнул зятю, давая понять, что он говорит всерьез. А когда Фортунат отошел, наслаждаясь триумфом, тихо спросил Понсонби: — Какую игру вы ведете?
Все это время Элиза Лоу была так захвачена зрелищем блестящего круга, что не произнесла ни слова, но теперь повернулась к спутнице:
— Кто этот джентльмен?
— О, разве вы не знаете? Это Фортунат Уолш. Прекрасная старая семья. И насколько я слышала, в фаворе у высоких политиков.
Однако всех этих осторожных приготовлений вместе с данными разведки о том, что семья Лоу собирается на концерт, послушать «Мессию», могло оказаться недостаточно, чтобы ловушка захлопнулась, если бы не еще одно благоприятное обстоятельство.
А этим обстоятельством было то, что как раз в это время молодому Тому Шеридану было нечем заняться.
Несмотря на всяческие неудачи и несчастья в Килке в течение последних лет, Фортунат сумел сохранить дружбу с доктором Шериданом и его семьей. Том был самым симпатичным из детей доктора, по мнению Уолша. Крестный сын Свифта, и сам проявлявший немалый литературный дар, отправился учиться в Тринити-колледж. А теперь он его окончил и выразил желание стать актером и писать пьесы, что было необычным для молодого джентльмена, хотя изредка и случалось.
— Театр «Смок-Элли» как раз то, что мне нужно, — решительно сообщил он Фортунату.
Дублинский театр «Смок-Элли» был воистину приятным местом. В течение зимнего сезона там игрались старые и новые пьесы, а летом туда привозили лучшие лондонские постановки. И в этом году должен был приехать актер Дэвид Гаррик, новая лондонская сенсация.
— Если твою пьесу поставят в «Смок-Элли», Том, обещаю, мы все сразу придем, — сказал ему Фортунат. — Но как ты собираешься существовать до тех пор?
Оказалось, Том решил находить разные небольшие заработки, в том числе и в концертном зале Музыкального общества. И именно это пришло на ум Уолшу, когда он обдумывал, как ему все устроить, когда будет исполняться «Мессия».
— Том, ты имеешь какое-нибудь отношение к распределению мест на концерте? — спросил он юношу, когда встретился с ним на улице.
— Я определенно могу кое-что устроить.
— А как ты отнесешься к тому, чтобы получить две гинеи?
— Я бы отнесся к этому очень, очень хорошо.
— Тогда, — сказал Фортунат, — на «Мессии» мне хотелось бы сидеть рядом с семьей мистера Генри Лоу.
И вот наконец они пришли. Судя по всему, Элизу Лоу задержал разговор с кем-то из знакомых. Фортунат постарался скрыть облегчение.
Да, без сомнения, это были они. Торговец, красивый и худощавый, все еще сохранивший волосы, спокойно улыбался. Его жена, суетясь вокруг дочерей, оглядывалась по сторонам; глаза у нее были светло-голубыми. Фигура у женщины оставалась неплохой. Вполне сносной. И — три дочери. Кто из них Лидия, сразу становилось ясно: та, у которой длинная шея. Она действительно выглядела очень бледной и нездоровой, как и говорил Теренс. Но что до двух остальных, то тут глаза Фортуната широко раскрылись. Что за красавицы! Одна светловолосая и улыбчивая, а вторая, с волосами, отливавшими красной медью, и полной грудью, выглядела весьма самоуверенной. Это Анна или Джорджиана?
Но где они сядут? Будет ли все так, как он надеялся? Фортунат смотрел вперед, рассеянно улыбаясь и сдерживая дыхание. Да. Все было идеально. Рядом с Фортунатом — Грей, а Генри Лоу — рядом с ним.
Вот тут-то и началось.
Повернувшись направо, достойный джентльмен Грей улыбнулся:
— О, мистер Лоу!
— Мистер Грей! Рад вас видеть, сэр. Дорогая, ты, наверное, не знаешь мистера Грея, но у нас с ним общие дела.
Потом мистер Грей спокойно спросил мистера Лоу:
— А вы знакомы с мистером Фортунатом Уолшем, членом парламента? Я состою в его партии.
— Ох… Нет, но я о нем слышал.
— Может быть, желаете познакомиться?
— Конечно! — с некоторым даже жаром ответил торговец. — Хотелось бы.
— Могу я представить вам мистера Генри Лоу? А это член парламента мистер Фортунат Уолш.
— Мистер Лоу. Рад знакомству.
— Мистер Уолш… — Генри Лоу взволнованно улыбался. — Для меня это честь, сэр, и я чрезвычайно рад знакомству.
Оратория была прекрасной и возвышенной. И для Генделя, для герцога, и для Музыкального общества, да и вообще для всех это было истинным торжеством.
Семья Лоу возвращалась домой пешком. Поскольку погода стояла прекрасная, а расстояние невелико, Генри Лоу не видел смысла садиться в карету. Торговец повернулся к жене:
— Если мы устроим ужин, думаю, нам следует пригласить Фортуната Уолша и его жену. Он весьма рассудительный человек. Думаю, он придет.
Его жена чуть было не сказала, что Уолш не только рассудителен, но и в большой чести у самого герцога и, насколько она знала, был на очереди на получение титула; что у него есть красивый холостой сын; что ради такого шанса она готова лечь на пороге собственного дома и предложить ему вытереть о нее ноги; но она, конечно, промолчала.
Лучше не делиться своими знаниями с мужем, он ведь мог этого и не одобрить. Так что она приберегла все для себя и дочерей.
— Как пожелаешь, дорогой, — ответила она.
И поблагодарила Бога не только за Генделя, но и за то, что именно в этот вечер Господь привел Фортуната Уолша в концертный зал Музыкального общества.
На следующее утро в дом Фортуната на Сент-Стивенс-Грин явились кузина Барбара и Теренс, желая узнать, как все прошло вчера.
— Все было великолепно! Тебе действительно стоило пойти послушать Генделя, — сказал Фортунат Барбаре.
— По части музыки мне достаточно тех гимнов, которые я могу петь в церкви, — решительно ответила Барбара. — Хватит болтать ерунду. Что насчет Лоу?
— Увидим. Но я думаю, — честно ответил Фортунат, — он на крючке. Кстати, его дочери невероятно хороши собой. В особенности мне понравилась рыжая. Джорджиана.
— А кто понравился Джорджу? — поинтересовался Теренс.
— Я пока не спрашивал. Но, учитывая обстоятельства, — сказал Фортунат с безупречной рассудительностью, — уверен, ему понравится та, которой понравится он сам.
— Мне нравится, как это звучит: «Джордж и Джорджиана», — весело заявила Барбара Дойл.
— Да, в этом есть приятная симметрия, — согласился Фортунат. — Но получится у нас что-то или нет, — добавил он, — мне все равно следует благодарить вас обоих. — Он улыбнулся брату. — Я не забуду, дорогой брат, как щедро ты отплатил за все, помогая мне.
Потом они еще минут двадцать с удовольствием говорили о деле, обсуждая эпизод за эпизодом, снова и снова поздравляя друг друга с тем, что так отлично все устроили.
И лишь затем Теренс Уолш заметил:
— Должен сказать тебе кое о ком, кто сейчас нуждается в помощи куда больше, чем любой из нас. Это мой пациент, бакалейщик Макгоуэн.
И он рассказал всю историю бакалейщика.
— И что ты собираешься делать? — спросил Фортунат.
— Хочу прямо сегодня пойти к некоторым знакомым торговцам-католикам. Я надеюсь, что мы могли бы создать небольшую компанию торговцев, способных спасти его и его дело, а оно, скажу вам, может быть все таким же прибыльным.
— Да, ты должен это сделать! — твердо заявила кузина Барбара. — Торговцы-католики частенько держатся друг за друга.
— Я искренне на это надеюсь, — согласился Теренс.
Вскоре после этого Барбара Дойл ушла, а Теренс еще на какое-то время задержался у Фортуната.
— Знаешь, кто еще пришел мне на ум, когда я уходил от Макгоуэна? — спросил брата Теренс после некоторого молчания.
— И кто же?
— Наш родственник Гаррет Смит. Я вдруг задумался о том, где он теперь, чем занимается.
— Судя по слухам, когда он уехал из Дублина, даже не завершив ученичество, то отправился в горы Уиклоу. Думаю, он дурно с тобой поступил.
— Он был молод.
— Он ведь никогда потом не пытался повидаться с тобой, хотя бы для того, чтобы извиниться или объясниться.
— Ну, возможно, он просто смущен.
— Выкинь его из головы, Теренс. Ничего хорошего из этого не получится. Тебе и без того есть о чем подумать.
— Наверное, ты прав. — Теренс встал. — Сегодня мне надо думать о Макгоуэне.
Фортунат решил, что бакалейщик стоит того, чтобы похлопотать о его спасении. А вот Гаррет Смит, наверное, нет.
Оба мужчины были бы очень удивлены, если бы увидели в этот момент кузину Барбару. Уйдя из дома Фортуната, она велела кучеру ехать на север. Миновав Тринити-колледж и великолепное новое здание парламента с огромным классическим фасадом, при виде которого можно было подумать, что это Лондоном управляют из Ирландии, а никак не наоборот, карета повернула к мосту через Лиффи и покатила дальше к Кау-лейн.
Барбара Дойл поддерживала господство протестантов и практически не имела дел с торговцами-католиками, но шанс подзаработать всегда стоял для нее на первом месте. И она рассудила, что Теренсу понадобится по крайней мере пара дней для того, чтобы организовать помощь Макгоуэну. А она всегда верила в то, что выигрывает тот, кто пришел первым.
И потому через несколько минут озадаченный бакалейщик с изумлением отвечал на приветствие довольно пугающего спасителя.
— Рассказывайте все! — приказала она. — И посмотрим, что тут можно сделать. — Она внимательно выслушала все подробности его неудачного предприятия, а потом заявила: — Я буду вашим партнером. И с этого момента хочу получать третью часть прибыли, но мы рассчитаемся со всеми вашими кредиторами. Через шесть месяцев от долга ничего не останется. Соглашайтесь или отказывайтесь.
— Я согласен, — нервно ответил Макгоуэн. — Но…
— Но — что?
— Долг велик. Я не представляю, как мы его вернем.
И тут Барбара Дойл улыбнулась.
— Я побеседую с вашими кредиторами. И мы придем к соглашению. Кто говорит, — тихо добавила она, — что мы собираемся возвращать всю сумму?
1744 год
Осенью 1744 года Джордж Уолш и Джорджиана Лоу поженились. И это событие выглядело таким же естественным и неизбежным, как и тот долгий мир, которым Ирландия наслаждалась уже почти целое поколение. Но все же легкая тревога витала в воздухе, как будто вдали заметили злобную ведьму, явно направлявшуюся к свадебному пиру.
— Французы идут. — Таков был слух.
Конечно, слухи о вторжении не были новинкой. В бесконечной борьбе европейских сил Британия теперь объединилась с врагами Франции, и, следовательно, французам естественным образом хотелось захватить Ирландию, чтобы позлить англичан. Такова уж была жизнь XVIII века. Но в последнее время возник новый слух. Наследник утраченной короны Стюартов, тщеславный молодой человек, которого шотландцам нравилось называть Красавчиком принцем Чарли — и которого французы опекали много лет, — собирался явиться в Шотландию и заявить о своем прирожденном праве. Восстание якобитов в Шотландии и вторжение французов в Ирландию: вот какого соединения событий страшился Лондон.
И на этот раз даже невозмутимый герцог Девонширский был озадачен. Полетели приказы. Отряды ирландского гарнизона должны были быть наготове. О любой сомнительной личности следовало докладывать. Любых подозрительных священников — выследить и арестовать. Ирландия замерла в ожидании. Рассеются ли угрожающие тучи на горизонте, как это случалось уже не один десяток лет? Или они соберутся в единую темную массу и ринутся через море к ирландскому берегу?
О’Тул прислонился спиной к стене и подставил лицо солнцу. Перед ним на траве сидели около десяти детей. О’Тул протянул одному из мальчиков книгу — «Войны Цезаря» на латыни:
— Переведи текст.
Мальчик начал. Получалось неплохо. Но через минуту или две он запнулся. О’Тул поморщился:
— Нет. Еще кто-нибудь?
Вызвался другой мальчик.
— Нет, еще хуже.
Все замолчали.
— Конал!
Мальчик неохотно откликнулся и начал переводить.
— Очень хорошо!
Смуглый мальчик с взъерошенными волосами и широко расставленными зелеными глазами сам никогда не вызывался отвечать, пока его не спросят. О’Тул на него не сердился. Хотя другие сидели на траве, Конал Смит устроился на небольшом плоском камне. Любая попытка ребят, даже если они были сильнее Смита, сдвинуть его с этого места приводила к тому, что пытавшиеся растягивались на траве, потому что юный Конал был необычайно силен для своих лет. Но смущало О’Тула другое: мальчик всегда знал ответ на вопрос учителя, но иногда делал вид, будто не знает. Тогда О’Тул долго смотрел на него, уверенный, что ответ Смиту известен, но наконец пожимал плечами и сдавался.
О’Тул любил этого мальчика почти так же сильно, как и собственную внучку. И от этого проводить уроки становилось труднее.
Школа за изгородью. Иногда учитель и несколько учеников действительно прятались за какой-нибудь живой изгородью, или на тайной полянке между деревьями, или в крестьянском доме, или, как теперь, за каменной стеной, и с их склона в горах Уиклоу открывался изумительный вид на Ирландское море. Школы за изгородями были незаконными, поскольку незаконно было давать образование детям католиков. Но такие школы существовали по всей стране, и их были сотни.
Прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как О’Тул, вскоре после своей поездки в Килку, стал учителем в Ратконане. Его считали хорошим наставником, но не из самых лучших. Он блестяще знал классические языки и английский, историю и географию, его знание философии было довольно скромным, а с математикой и вовсе дело было плохо. А именно математику превыше всего ценили коренные ирландцы: арифметика была нужна для ведения счетов, геометрия — для выживания, и даже астрономия была полезна. Лучшие учителя школ за изгородями отлично знали математику и могли с гордостью писать после своего имени «астролог». Один старик, с которым приходилось встречаться О’Тулу, по фамилии О’Брайен, был как математик известен даже в Италии, а в Ирландии его называли Великим О’Брайеном. И такой была вся система незаконного образования для католиков в Ирландии.
Но если О’Тул обладал лишь скромным знанием математики, то у него были другие сильные стороны. Его стихи и музыка создали ему репутацию пусть не равную славе слепого О’Кэролана, но все же весьма серьезную. Изучая латынь, его ученики сначала должны были перевести текст с латинского на ирландский, а потом — на английский. О’Тул даже знакомил детей с английскими законами, поскольку для них это было полезно. И он уже выпустил троих, которые успешно вошли в торговую общину Дублина и Уиклоу, а еще один отправился во Францию, чтобы стать священником. Неплохой результат, считал О’Тул, для маленькой высокогорной деревушки.
Но не все его ученики так преуспели. Например, от Бреннанов он так ничего и не смог добиться. Но он должен был стараться. О’Тул тяжело вздохнул:
— Конал, пойди встань на стражу.
Пока маленькую школу никто не видел, Бадж, как правило, оставлял ее в покое. Но он ведь был местным лендлордом и мировым судьей, а потому иногда объезжал окрестности, чтобы проверить, можно ли заметить их уроки, которые он сильно не одобрял. И уж если замечал школу, то можно было ждать неприятностей. Поэтому О’Тул во время занятий поступал, как и большинство учителей за изгородями: выставлял часового.
— А теперь, Патрик, — заговорил он как можно мягче, обращаясь к старшему из мальчиков Бреннан, — позволь мне услышать, как ты читаешь.
И пока ребенок, запинаясь, продирался сквозь самые простые пассажи — О’Тул для того и отослал Конала, чтобы тот не видел этих болезненных мучений, — учитель лишь изумлялся: как вообще получилось, что юный Конал Смит, дитя с острым, ясным умом, мог быть по крови наполовину Бреннаном?
Иногда ему хотелось, чтобы он в свое время вмешался и предотвратил рождение Конала. Мысль была глупой, без сомнения, но вдруг он смог бы найти слова, чтобы убедить отца мальчика поискать другие пути в жизни, выбрать другую жену?
О’Тулу казалось, что был всего один такой день, когда у него имелся подобный шанс. Тот день в Килке, почти двадцать лет назад. Он ведь сразу отметил Гаррета Смита как талантливого человека. Он видел и гнев юноши, и его разочарование. Но разве что-то другое мог чувствовать умный юноша-католик? Если бы только О’Тул догадался, что было на уме у Гаррета, когда он спросил, знает ли О’Тул Бреннанов, а потом сказал, что они увидятся в Ратконане. Если бы только он знал.
И что бы он тогда сделал? Использовал бы все свое влияние, просто умолял бы юношу выбрать другой путь. Что угодно, лишь бы не дать ему погнаться за той невежественной девицей и превратиться в часть никудышной семьи Бреннан в Ратконане. Если бы он смог это сделать, Гаррет Смит наверняка не дошел бы до нынешнего жалкого состояния, а Конал — другой Конал, конечно, и, может быть, еще более примечательный, — родился бы от другой матери и совсем в других семейных условиях.
Но к тому времени, когда той осенью О’Тул вернулся в Ратконан, он обнаружил молодого Смита уже в семье Бреннан. А сердце Смита было полно темного гнева и презрения к Нари, который отослал девушку в горы, и к Уолшам и им подобным. Смит нелепо верил, что здесь, в хижине высоко в горах, он станет свободнее и чище, чем если бы работал у бакалейщика Макгоуэна в Дублине. Что ж, если бы речь шла просто о жизни в горах, он мог оказаться прав. В диких свободных местах или в великих монастырях вроде Глендалоха люди иногда находили себя. Но жить в хижине вместе с Бреннанами? Это совсем другое дело. Через год эта потаскушка подарила ему ребенка, потом второго. Молодому Смиту уйти бы от них, на древний манер, так считал О’Тул. Но Гаррет был слишком хорош для этого. Он повел девушку к священнику, женился на ней. И после того был обречен.
Ему следовало стать учителем в школе за изгородью. Да, ему пришлось бы еще учиться самому, но у него были для этого мозги. А я бы помог ему, думал О’Тул. Но тогда ему пришлось бы переехать, поскольку место учителя в Ратконане было уже занято, а второму здесь делать нечего. Местный священник дал Смиту какую-то работу. Но потом Смит поссорился со священником. Неужели в этом человеке крылось нечто такое, что постоянно толкало его к саморазрушению? Школьному учителю часто казалось, что да, есть. И посмотрите на Смита теперь. Простой рабочий. Плотник и резчик по дереву, постоянно к чему-то стремящийся, но ничего не достигающий. Сочиняет стихи, которые никогда не доводит до конца. Фантазирует о бунте якобитов, который не может осуществиться. Пьяница. И с каждым годом он пьет все больше. Муж женщины, которая уже умерла и семью которой он должен презирать в глубине сердца, поскольку эти люди неопрятны, ленивы и глупы. Отец детей, за которыми никто толком не ухаживает, а он болтает с ними о деле якобитов и о том, что с ним все обходятся несправедливо, или проклинает их и впадает в мрачную угрюмость.
У Смита было три дочери. Две, такие же неопрятные, как их мать, по мнению О’Тула, вышли замуж в долине. Третья работала служанкой в Уиклоу. Два мальчика умерли в младенчестве. А потом каким-то чудом родился Конал.
— Боюсь, и он умрет, как другие мальчики, — сказал О’Тулу священник, крестивший малыша.
И большинство людей в Ратконане тоже так думали. О’Тул помнил, каким был этот мальчик в три года — бледный, хрупкий, с великолепными зелеными глазами. Он выглядел так трогательно, что сердце разрывалось при мысли о том, что его век, возможно, будет коротким. Когда Дейрдре, внучка О’Тула, бывшая всего на несколько месяцев моложе Конала, подружилась с ним, О’Тул пытался мягко охладить эту дружбу из страха, что девочка испытает слишком сильную боль, если мальчик умрет. Но он не мог помешать ей играть с ним. Они бродили, держась за руки, по долине, где паслись овцы, или сидели рядом на камнях над заводью, образованной горным ручьем. Дейрдре делилась с ним едой, и они болтали часами.
— О чем вы говорите, Дейрдре? — как-то раз спросил О’Тул девочку.
— Ох, обо всем! — ответила Дейрдре. — Иногда он рассказывает мне разные истории, — добавила она. — О рыбах в ручье, и о птицах, и об оленях в лесу. Он так мне нравится!
И хотя сердце О’Тула упало, он не нашелся с ответом.
Гаррет сам привел к нему сына, когда тому исполнилось шесть лет. И как ни удивительно, он даже принес деньги за обучение.
— Учи его, — просто сказал он О’Тулу. — Научи всему, что знаешь.
— Но ты мог бы и сам его учить, — напомнил ему О’Тул. — И бесплатно.
— Нет! — выкрикнул вдруг Смит с внезапной страстью, а потом, немного помолчав, добавил: — Нет, я не гожусь ему в учителя.
Ужасное признание, но что мог ответить на это школьный учитель?
И он начал учить мальчика. И был изумлен. Память малыша поражала. Сказанное однажды он запоминал навсегда. А его мыслительные процессы, как вскоре обнаружил О’Тул, были абсолютно неординарными. Он мог молча слушать, а потом задавал вопрос, который показывал, что он успел обдумать каждый аспект темы и нашел то, что тебе казалось проще пока оставить в стороне. Но сильнее всего приводило в восторг О’Тула — и это был подлинный дар, такому не научить, — то, как Конал использовал язык, его странные полушутливые формулировки, в которых, как вы вдруг понимали, содержались удивительно точные наблюдения. Как ему это удавалось в столь нежном возрасте? Впрочем, а почему птица летает, а форель прыгает в воде?
И еще О’Тул заметил, что его юный ученик живет напряженной внутренней жизнью. Случались дни, когда мальчик выглядел рассеянным и занятым своими мыслями во время урока. И в такие дни О’Тул частенько видел мальчика, бродившего в одиночестве и наслаждавшегося пейзажем, и это одиночество никто не мог с ним разделить. И к тому времени, как этому бледному малышу исполнилось восемь лет, учитель уже любил его почти так же, как любил Дейрдре.
Вот если бы только еще не случалось таких дней, когда Конал не приходил на уроки в школу за изгородью. Узнав, что мальчик заболел, О’Тул шел в дом Гаррета Смита и там находил малышку Дейрдре, сидевшую возле постели: она поила Конала бульоном или тихонько пела ему, а мальчик лежал такой бледный, что казалось, он может покинуть их прямо в этот день.
Но два года назад он неожиданно начал набираться сил. И через год уже стал таким же крепким, как другие дети, а затем и обогнал их. И теперь физически он мог одолеть любого. И в то же время О’Тул отмечал некую новую крепость и жесткость его ума. Конал не просто превосходил всех на уроках, он буквально мгновенно одолевал любые задания, и учителю частенько приходилось ломать голову над тем, как найти для Конала задачу, которую тот не счел бы слишком легкой.
Маленькая Дейрдре тоже наблюдала за этим развитием с откровенным восторгом.
— Разве он не сильный?! — восклицала она.
А О’Тулу казалось, что его внучка словно бы чувствует себя ответственной за новое состояние Конала. И в то же время, судя по ее взглядам и по случайно оброненным словам, она как будто видела в нем все того же маленького бледного мальчика. И действительно, Конал иногда впадал в странное меланхолическое настроение, и тогда двое детей отправлялись на долгую прогулку по горным тропам.
Дейрдре была единственной настоящей подругой Конала. Он часто играл с другими детьми, но было ясно, что с ними он не делится откровенным. Для него в мире, кроме Дейрдре, существовало лишь два человека, с которыми он сблизился. Одним, возможно, был он сам, думал О’Тул. В их совместных занятиях учитель и ученик достигли некоторой степени доверительности. Вторым был отец.
О’Тул подозревал, что Гаррет Смит теперь не видел смысла в жизни, кроме сына. Он пил все больше и больше и выглядел лет на двадцать старше самого себя, и если бы не мальчик, то, пожалуй, все было бы еще хуже. И если эта любовь не простиралась до такой степени, чтобы вовремя внести скромную плату за школу за изгородью, то он все равно умудрялся заплатить рано или поздно. Вечерами, когда он бывал трезв, Гаррет мог иной раз часами беседовать с сыном. О’Тул часто гадал, о чем же они говорят, и однажды даже спросил Дейрдре. Но она не знала. Ей было известно лишь то, что однажды сказал ей Конал.
— Мой отец и твой дед — единственные люди, которыми я по-настоящему восхищаюсь.
Знал ли мальчик, что его отец не слишком уважаем? Деревенские обычно бывали вежливы, говоря с Коналом о его отце.
— Твой отец — великий читатель, — говорили они. — Он очень много знает. — Но за спиной у него они добавляли: — Он знает больше, чем работает, и меньше, чем пьет.
Но Конал уже и сам начинал это понимать. Как-то раз он грубо ответил отцу, и тот ударил его и сбил с ног. Правда, потом, когда его никто не видел, Гаррет разрыдался.
А Конал грустно сказал Дейрдре:
— Никто его не понимает, только я.
В общем, только отца и Дейрдре Конал по-настоящему любил и только им доверял. А после них, рассуждал О’Тул, скорее всего, стою я сам.
И вот теперь, когда Конал сторожил у школы за изгородью, а учитель думал об их разговоре накануне, он вдруг ощутил себя ужасно виноватым.
На его совесть тяжким грузом легла мысль о том, что он, возможно, предал мальчика.
Вскоре после полудня Роберт Бадж, землевладелец и мировой судья, отправился повидать Гаррета Смита. Когда семью Уолтера Смита лишили собственности, поместье в Ратконане выставили на продажу по смешной цене. Бенджамин Бадж не имел желания возвращаться туда, но его младший брат, сделанный из материала покрепче, был рад его купить. Баджи могли бы теперь утверждать, что они живут в Ратконане уже несколько поколений.
Бадж пока не решил, что делать с сыном Смита. От О’Тула неприятностей ждать не приходилось, это Бадж уже видел. Что до отца мальчика…
Но мальчик мог и подождать. Сегодня у Баджа было другое дело к Гаррету Смиту. И касалось оно дома в Ратконане.
Если бы старые вожди этих мест увидели сейчас Ратконан, они, пожалуй, были бы сильно удивлены. И даже сочли бы это смешным. Хотя здесь все было как и в десятках других старых домов в Ирландии. Найдя дом-башню недостаточно просторным, отец Баджа пристроил перед ним скромное прямоугольное здание в пять окон по фасаду. Дом не обладал каким-то конкретным стилем, хотя простые окна можно было бы назвать георгианскими. И не было предпринято никаких попыток как-то изменить ни сам дом, ни старую крепость, возвышавшуюся позади него, так что они как бы слились воедино. Новый Ратконан так и выглядел: дом, торчащий перед древним укреплением.
Но Роберт Бадж именно здесь родился и вырос, и он гордился своим жилищем.
Ему было всего двадцать лет, когда пять лет назад умер его отец, оставив сына владельцем и управляющим. Роберт Бадж, с тщеславием молодого человека, подумывал изменить имя дома. Он предполагал назвать его замком Бадж, как делали некоторые крупные поселенцы, но это показалось избыточным. Более разумным могло быть другое английское определение, принятое в Ирландии: Баджтаун. Но звучало это как-то не слишком музыкально. Красивее выглядела ирландская версия: Баллибадж. В итоге же, учтя тот факт, что вряд ли именно Баджи построили это место, и боясь насмешек местных ирландцев и их соседей, Роберт Бадж решил оставить прежнее имя — Ратконан, к которому ему нравилось добавлять приложение «хаус», «дом», что уже звучало как название английского особняка.
Для Роберта Баджа Ратконан-Хаус и был домом. Конечно, как и все поселенцы Кромвеля, он продолжал смотреть на коренных ирландцев как на нежеланных колонистов. И конечно же, он гордился тем, что он англичанин и протестант. Потому что разве семьи эпохи Кромвеля не явились сюда для того, чтобы утвердить протестантскую веру и занять конфискованные земли прежних владельцев-католиков, разве не это было прежде всего оправданием их пребывания в Ирландии? И его отец, человек совсем не таких твердых религиозных убеждений, как старый Барнаби Бадж, решительно привел пресвитерианскую семью в королевскую Ирландскую церковь как раз поэтому, и он говорил:
— Мы, англичане, должны держаться вместе!
И еще он советовал Роберту незадолго до своей смерти:
— Всегда помни, что те добрые люди, которые знают тебя с рождения, и работают на твоей земле, и, может быть, даже называют тебя «ваша светлость», и приветствуют тебя при встрече, могут оказаться не теми, кем выглядят. Если вдруг наш порядок рухнет, сын мой, они тут же воткнут тебе нож под ребра. Не забывай этого.
Как бы то ни было, прошел уже почти век с того времени, когда прадед Роберта Барнаби впервые приехал сюда. И в течение этого времени англо-ирландские поселенцы некоторым образом смешались со своим окружением. И если члены ирландского парламента чувствовали, что с ними обращаются как с другой породой по сравнению с лондонцами, то здесь, в провинциях, некрупные англо-ирландские землевладельцы создали некую собственную общность.
Отец Роберта был образцом такой породы. Почти всю жизнь он прожил в Ратконане и отлично знал местные особенности. Он говорил по-английски с отчетливыми ирландскими интонациями и ко многому в своей жизни, включая образование детей, относился с некоторой милой небрежностью. И в этом он был един со своей женой, которая пришла из такой же семьи, с такими же взглядами.
Конечно, некоторые англо-ирландские семьи посылали своих сыновей в Оксфорд, Кембридж или в Тринити-колледж в Дублине. Но не Баджи. Начальное образование получили все дети, и мальчики, и девочки, но дальнейшее считалось излишеством.
— У моего отца был свисток, которым он сзывал собак, — весело рассказывал Роберт своим друзьям. — Но если он дул в него два раза, это значило, что он зовет меня.
Когда мать застала его сестру за чтением книги, в то время как ей полагалось гулять на воздухе, она тут же заперла девочку на два часа в темном чулане и сказала, что если еще раз увидит подобное, то просто высечет ее. Дети Баджей росли для того, чтобы быть сильными, управлять имениями и в случае необходимости сражаться. И в своей любви к свежему воздуху Баджи были отчасти сродни ирландским вождям, жившим задолго до них. И они бы очень удивились, узнав, что они меньше образованны, чем те вожди.
И вот как раз вопрос образования и заставил Роберта Баджа так сурово говорить с О’Тулом.
Роберту Баджу было всего двадцать пять, но к нему часто обращались как к человеку более солидного возраста. Возможно, дело было в его крупной фигуре и важном виде, но все же он, как владелец Ратконана, ради большего авторитета слегка надавил на полезных местных людей с помощью властей и год назад стал мировым судьей. В общем, в своей провинции он стал фигурой значительной и недавно посетил несколько домов в графствах Уэксфорд и Килдэр в поисках подходящей жены. Он также несколько раз побывал в Дублине, чтобы люди в Дублинском замке и парламенте запомнили его.
Причиной поездки Роберта в Дублин на прошлой неделе стало желание узнать последние новости о возможной угрозе со стороны Франции. Гарнизоны в Уиклоу и Уэксфорде были приведены в состояние готовности, это он отлично знал. И на него произвело впечатление огромное количество красных мундиров и мушкетов, которые он увидел на красивых улицах столицы. Как и все мировые судьи, Бадж постоянно искал подозрительных личностей или знаки подстрекательства к бунту, но не мог бы честно сказать, что нашел хоть что-нибудь. И это было грустно, поскольку он был бы рад таким образом привлечь к себе внимание властей.
Насчет угрозы из-за моря он не услышал в Дублине ничего нового, но к концу его пребывания в столице он все же добыл некие любопытные сведения. В тот момент он стоял в группе таких же, как он, вокруг члена парламента Фортуната Уолша.
— В последнее время усиливается мнение, — говорил им Уолш, — что нужно что-то делать с образованием католиков. Школы за изгородями есть везде, как все мы знаем, но наша собственная Ирландская церковь делает лишь жалкие попытки бороться с ними. Мы открыли в некоторых приходах начальные протестантские школы для детей из бедных семей, но, как опять же все мы знаем, они привлекли слишком мало учеников.
— Католические семьи не хотят посылать туда детей, — заметил кто-то.
— Именно так. Но в правительстве кое-кто рекомендует испробовать новый метод. Нужно пообещать кое-что юным католикам из других провинций и поместить их в лучшие школы вдали от их дома.
— И они станут протестантами?
— В общем, на это и расчет. Я не уверен, что это сработает, но идея в том, чтобы постепенно распространять протестантскую веру, с чем совершенно не справляются ни система штрафов, ни Ирландская церковь.
— Интересная мысль, — произнес Бадж только для того, чтобы Фортунат его заметил.
— Что ж, мистер Бадж, — улыбнулся Уолш, — если у вас есть кандидаты для такого проекта, то в Дублинском замке наверняка найдется кто-нибудь, кто будет вам благодарен.
Бадж тогда промолчал, но потом постарался еще кое-что разузнать в Дублине, посетил одну из школ, а на обратном пути в Ратконан обдумывал полученные сведения.
Если он вообще мог такое сделать, то возможный кандидат у него был только один.
— Я подумываю о том, чтобы послать в школу молодого Конала Смита, — сказал он О’Тулу. — И, — он бросил на учителя осторожный взгляд, — я бы рассчитывал на вашу поддержку.
— Но… — О’Тул чуть было не сказал: «Но он мой лучший ученик», потом вспомнил, что тем самым он признал бы существование незаконной школы. — А почему я должен вас поддерживать в этом?
— Вы отлично знаете, что он практически сирота. Отец совершенно о нем не заботится.
— Но все равно он его отец. И есть другие родственники, кроме отца.
— Бреннаны? Разве они подходящие опекуны для мальчика такого ума?
Поскольку мнение О’Тула о Бреннанах было еще хуже, чем мнение лендлорда, если такое вообще было возможно, учитель просто не нашел возражений.
— Но если силой оторвать мальчика от семьи и отправить в протестантскую школу в такое время, — медленно произнес О’Тул, — то это может вызвать дурные чувства у людей.
— Это что, угроза? — Бадж уставился на учителя немигающим взглядом.
— Нет. Но я уверен, что это правда, — честно ответил О’Тул.
— Вот поэтому я и рассчитываю на вашу поддержку, — снова очень осторожно начал Бадж. — Я рассчитываю. Ваше слово здесь много значит. Не меньше, чем слово священника.
Это был весьма любопытный факт: в деревнях по всей Ирландии землевладельцы-протестанты частенько полагались на католических священников, прося их помочь им поддерживать порядок. Нельзя сказать, чтобы священников это радовало. Но если они служили без разрешения, землевладельцы всегда могли изгнать их из своих владений; и даже если у них имелось законное право, любой намек на подстрекательство к бунту или другие беспорядки могли быть приписаны их влиянию, а священников подвергнуть судебному преследованию. И в общем, следовательно, священники призывали свою паству держаться подальше от неприятностей такого рода.
В Ратконане, где ближайшего священника можно было найти лишь за несколько миль, О’Тул, как самый образованный человек, обладал сходным влиянием. Его собственные религиозные убеждения были не слишком сильны, но он старательно учил детей катехизису и преподавал им основы католической веры. А если бы он этого не делал, священник быстро превратил бы его жизнь в сплошные трудности.
— А ведь штрафы за незаконное обучение детей, как мы оба знаем, весьма велики, — добавил Бадж.
Это уже была угроза, высказанная тихим голосом и отлично понятая.
Хотя школы за изгородями имелись везде, они все равно оставались незаконными. И если бы местные власти решили найти такую школу и отдать ее учителя под суд, О’Тул угодил бы в очень серьезные неприятности. Теоретически его могли даже выслать в американские колонии.
— А вы уже все решили? — спросил О’Тул.
— Нет. Но я об этом думаю.
Бадж и в самом деле пока не был уверен. Может, его тревожила совесть при мысли о том, что мальчика нужно отобрать у отца? Нет, дело не в этом. Бадж сомневался, стоит ли пробуждать общее беспокойство в округе в такие неустойчивые в политическом смысле времена. О’Тул был совершенно прав, предупреждая его об этом. К тому же, хотя Бадж не сомневался в том, что юный Смит, о чьих талантах он был наслышан, будет с радостью принят в школу как многообещающий ученик, у него оставалось еще одно сомнение. А что, если мальчик, при всем его уме, пойдет по отцовской дорожке? Это бросит тень и на самого Баджа. И Бадж решил подумать еще несколько дней, а уж потом принять окончательное решение.
— Меня замучает совесть, — тихо сказал учитель.
— Нет. Я ведь прав, и вы это знаете.
— Я беспокоюсь, но не по той причине, о которой вы думаете.
И вот теперь лендлорд пытался понять, что имел в виду учитель.
Шагая к жилищу Гаррета Смита, Бадж миновал несколько домов, в основном похожих один на другой: низкие каменные строения, крытые дерном. В некоторых было всего две комнаты, причем одну обычно делили с домашними животными. Однако в большинстве домов имелось одно большое помещение с низким потолком, в котором находились очаг и кое-что из деревянной мебели — стол, скамьи, табуреты, — и еще две комнаты. У некоторых даже имелись кровати, хотя никто ничуть не смутился бы при мысли лечь спать на соломе. Очаги, в которых жгли дрова или торф, иногда имели нечто вроде трубы, но обычно комната наполнялась дымом, и тот клубился вокруг, пока не уходил под свес крыши.
На взгляд английских посетителей, эти низкие, узкие сооружения казались грязными и полуразрушенными, хотя они и замечали, что женщины и босоногие дети, выходившие из этих домиков, были на удивление чистыми. Но если бы они присмотрелись более внимательно, то поняли бы: условия здесь те же самые, что преобладали в большей части Европы в Средние века. А для Баджа это и вовсе не выглядело чем-то особенным. Он видал места и похуже.
Бадж прошел мимо дома Дермота О’Бирна. Бог знает, сколько вообще О’Бирнов жило в горах Уиклоу, но Бадж был уверен: даже если бы он познакомился со всеми, все равно Дермот понравился бы ему меньше остальных.
Для начала, он никогда не платил аренду.
Ничего необычного не было в том, что в Ирландии аренда оставалась неоплаченной. Виноваты в том были прежде всего английские поселенцы-лендлорды, которые продолжали требовать слишком высокую плату. Чтобы удержать хотя бы часть своих родных земель, ирландцы были вынуждены соглашаться, а потом неизбежно оказывались не в состоянии рассчитаться. Некоторые лендлорды проклинали примитивные методы земледелия на острове. Вокруг Дублина некоторые благонамеренные джентльмены создали некое общество с целью повышения ирландских стандартов до уровня английских, где и в самом деле фермы стали давать более высокие результаты. Бадж слышал об интересных опытах с новым севооборотом в графстве Мит. Но главные проблемы произрастали из изначальных страхов и жадности поселенцев, и винить им приходилось в том лишь самих себя.
Но в Ратконане ситуация была другой.
— Мой дед Барнаби, — говорил Баджу его отец, — конечно же, требовал слишком высокую арендную плату. Но я снизил ее, и ты увидишь, что наши арендаторы в основном платят.
Но только не Дермот О’Бирн. Он мог пообещать что угодно с таким неискренним выражением преданности на лице, что оно казалось почти оскорбительным. Потом следовали разного рода объяснения, затем продолжительная просрочка платежей, и наконец Дермот весьма неохотно платил часть аренды, и только для того, чтобы Бадж не выгнал его с земли.
— По правде говоря, — заметил как-то отец Баджа, — он вообще не считает, что обязан платить.
Роберт Бадж вздохнул. Ему никогда не будет нравиться Дермот О’Бирн.
И вот наконец Бадж добрался до дома Гаррета Смита.
Если предок Роберта Барнаби Бадж считал ирландцев неповоротливыми и недостойными доверия — так до сих пор думали многие джентльмены в Лондоне, — то те, кто прожил в Ирландии достаточно долго, уже не поддерживали этих глупых мнений. Если, например, ирландский мастеровой говорил, что придет починить дверь вашего дома, то не было смысла назначать ему какой-то конкретный день. Он приходил тогда, когда считал нужным, но приходил и работу делал отлично.
Поэтому, когда Роберт Бадж договорился с Гарретом Смитом, что тот изготовит для него новую парадную дверь, совершенно необходимую, и когда Смит тщательно сделал все замеры и заявил, что вернется с готовой дверью, Бадж после шести недель ожидания предполагал, что работа движется. Он мягко напомнил об этом Смиту, и тот заверил его, что скоро все будет готово. Прошло еще шесть недель, последовало еще одно напоминание. Теперь надо задать простой вопрос: «Где моя дверь?» Шесть месяцев прошло, с Баджа было довольно.
Он подошел к дому.
Жаль, конечно, что двое взрослых обитателей Ратконана, не имея особых занятий этим днем, решили зайти к Гаррету Смиту, и теперь, хотя было еще довольно рано, все трое уже некоторое время сидели за единственным столом в его доме и пили, причем Гаррет Смит больше, чем остальные.
И как это бывало часто, Смит в нетрезвом виде затрагивал тему якобитов и высказывал свое мнение о том, что, если бы, как того боялось правительство, пришли французы, а Красавчик принц Чарли поднял бы армию шотландцев, Ирландия могла бы увидеть возвращение Стюартов и католицизма еще до конца этого года.
— Ну, как посмотреть…
Фергал Бреннан уже слышал все это не раз. На него произвело сильное впечатление образование и пылкие политические речи молодого человека, двадцать лет назад женившегося на его младшей сестре, но годы шли, а Смит продолжал говорить и говорить, но ничего больше не делал.
Однако Дермот О’Бирн согласно кивал.
— А когда этот день настанет, — мрачно заявил Смит, — я вернусь в Ратконан, где мне положено быть по праву, и перережу горло Баджу.
Фергал Бреннан вздохнул. За полтора столетия возмущение той ветви О’Бирнов, к которой принадлежал Дермот, на главных вождей Ратконана так и не утихло. Они по-прежнему верили: так или иначе наследство должно принадлежать им. Для Дермота это было символом веры. Но Фергала раздражало то, что из-за всей этой ерунды О’Бирн, похоже, воображал себя стоящим выше Бреннанов.
— О’Бирны из Ратконана бежали вместе с «дикими гусями», — тихо произнес он. — И именно они должны быть здесь лордами, если когда-нибудь вернутся. И вот он, — Фергал показал на Гаррета Смита, — имеет здесь больше прав, чем ты.
Об этом не говорили много, но в деревне отлично знали, что предки Гаррета Смита какое-то время владели Ратконаном, как знали и то, что в его венах течет пусть незаконная, но все же кровь вождей О’Бирнов.
— И его семья заплатила за это хорошие деньги, — язвительно добавил он, — чего не скажешь о твоей семье, уверен.
— Имение украдено у нас! Такова правда, нравится она тебе или нет, — мрачно ответил Дермот О’Бирн и сделал еще глоток вина.
На этом глупый разговор мог и закончиться, поскольку трое мужчин погрузились в пьяное молчание. Прошло несколько минут, прежде чем Гаррет Смит, который в обычном для него состоянии опьянения начинал соображать слишком медленно, наклонился вперед, навалившись грудью на стол, и, уставившись в столешницу, внезапно коротко рассмеялся.
— В чем дело? — спросил Бреннан.
— Я просто подумал о нелепости всего этого, — ответил Смит и весело встряхнул головой. — Я, знаете ли, как-то раз стал разбираться в притязаниях О’Бирна. Давно уже, много лет назад. И намека нет на то, что Дермот может предъявлять претензии, хоть по английским, хоть по ирландским законам. Его предки были обойдены, потому что ничего собой не представляли. А О’Бирны из Ратконана получили безупречно законные английские документы на свою землю.
Дермот О’Бирн уставился на него, а потом плюнул на пол.
Но Гаррет еще не закончил. Случались моменты, если он был уже довольно пьян, когда к нему возвращалась заносчивость юности. И сейчас, хотя его растрепанные волосы давно поседели, а лицо покрылось красными пятнами от пьянства, он вдруг стал похож на того высокомерного молодого человека, который приезжал в Килку.
— Вот мне и смешно слышать, как два невежественных крестьянина спорят о том, кто должен быть лордом Ратконана.
Теперь Бреннан и О’Бирн уставились друг на друга.
Соседи не слишком любили Гаррета Смита, и не только из-за его ненадежности и пьянства. Им иногда казалось, что в нем таится весьма неприятная гордыня. Из-за своего образования, совсем, кстати, не такого высокого, как образование О’Тула, он думал, что он лучше, чем они.
И потому за его словами последовало молчание, пока двое мужчин размышляли.
Наконец заговорил Бреннан:
— Мы, вообще-то, были не в восторге, Гаррет, что ты женился на моей сестре. — Он немного помолчал, чтобы его слова дошли до собеседника. — Ты, похоже, уж очень высокого мнения о самом себе. Но мы были не в восторге. Ты ведь ничего толком не сделал, чтобы обеспечить мою сестру, когда женился на ней, да упокой Господь ее душу.
— Это верно, Гаррет. — О’Бирн увидел шанс и самому отомстить. — Ты никогда толком не работал. Ничего никогда не заканчивал. Просто удивительно, как ты можешь платить школьному учителю!
— Да он не всегда это и делает, — пробормотал Бреннан. — У него всего один сын в доме, и он совсем о нем не заботится. Можно подумать, мальчик для него ничего не значит, судя по тому, как он пьет и ничего не делает.
На этот раз удар угодил в цель. Гаррет поморщился, как будто его ударили в живот. Бреннану было плевать на это. Чем хуже, тем лучше, решил он. Он почти ожидал взрыва — Гаррет иногда выходил из себя — или резкого ответа. Видит Бог, этот человек был остер на язык, когда хотел. Но ничего не случилось. Гаррет молча потянулся к своему стакану. Что бы он ни думал, он оставил это при себе. Его голова склонилась еще ниже. Плечи сгорбились.
И тут раздался стук в дверь.
Но если Гаррет Смит его и услышал — а он должен был, — то не шевельнулся.
Стук повторился, громче и настойчивее.
— Гаррет Смит!
Голос Баджа. Бреннан и О’Бирн переглянулись. С чего это вдруг он пришел? Бреннан схватил стаканы и бутылку и унес их в угол, поставив порознь. Так лучше выглядит, подумал он. О’Бирн, как он ни презирал лендлорда, тоже выпрямился. Но Гаррет сидел все так же.
— Лучше его впустить, — сказал О’Бирн и пошел к двери.
— Гаррет здесь? — Снова голос Баджа.
— Да, ваша светлость. Входите. — О’Бирн, предостерегающе оглянулся на Гаррета, который все так же не шевелился.
Бадж наклонил голову и перешагнул порог низкого дверного проема. Он посмотрел на Гаррета, но тот не повернул головы. При обычных обстоятельствах Бадж попросил бы Гаррета поговорить с ним наедине, но очевидная грубость манер Смита рассердила его. И все же он начал достаточно вежливо:
— Я пришел узнать насчет двери. Ты ее сделал?
Бадж заметил, как двое других мужчин переглянулись.
— Не сделал, — ответил Гаррет слегка заплетающимся языком, продолжая таращиться в стол.
— Уже шесть месяцев прошло.
В тоне Баджа слышалась скорее разумная жалоба, чем гнев.
И снова он увидел, как двое мужчин переглянулись. Похоже, они наслаждались неловким положением Смита.
— Ты должен был уже закончить.
— Могу тебя заверить, — довольно спокойно ответил Смит, — что я уже начал.
— Начал?! Бог мой, парень, да о чем только ты думаешь?!
— Вот эти джентльмены тебе скажут, — равнодушно произнес Гаррет, — что я никогда ничего не заканчиваю.
— Ты хочешь сказать, что нарочно заставил меня ждать полгода, не имея ни малейшего намерения завершать работу? — Бадж начинал кипятиться. — Ты это имел в виду?
— По правде говоря, — ответил Гаррет, — я сейчас и вспомнить не могу, собирался заканчивать или нет.
Бадж уставился на него во все глаза. Конечно, он никак не мог догадаться о том тайном гневе, отвращении к себе и отчаянии, что скрывались за этими словами в душе Гаррета Смита, он мог думать только о том, что этот человек либо пьян, либо безумен, либо по каким-то причинам, лежащим за пределами его понимания, намеренно провоцирует его. Впрочем, причины значения не имели. Бадж не собирался терпеть такое.
— Ты самый бесполезный и никудышный человек, Гаррет Смит! — закричал он. — И какой пример ты подаешь сыну?!
Бадж не мог знать, что только что снова задел самое больное место. Но теперь Гаррет, укушенный дважды, внезапно вскочил.
— Единственный урок, в котором сейчас нуждается мой сын, — закричал он, — так это как заряжать мушкеты для французов, когда они придут!
Бадж замер.
— Так, понимаю, — наконец произнес он.
И, развернувшись на месте и быстро наклонив голову, вышел из дома.
А трое мужчин молчали. Потом заговорил Бреннан.
— Иисус, Мария и Иосиф! — в ужасе пробормотал он. — Да с чего вдруг ты брякнул такое?
А два дня спустя О’Тул увидел, как Бадж уводит Конала Смита. Лишь его настойчивые уверения в том, что Гаррет был просто пьян, когда говорил ужасные слова, помешали Баджу арестовать Смита как опасную личность и отправить в цепях в гарнизон в Уиклоу. Но судьба мальчика была решена.
— Можешь выбирать, — твердо заявил Бадж Гаррету, — или сын едет в Дублин, или ты отправляешься в Уиклоу. — И добавил так, чтобы его слышали бывшие неподалеку деревенские: — Он в любом случае не может как следует воспитать мальчика.
И что бы ни думали местные жители о лендлорде и его протестантской школе, все равно несколько врагов Гаррета были рады сказать:
— Он сам навлек на себя неприятности.
И на мальчика, думал О’Тул. Но при этом ему казалось, что оба они, и он сам, и Гаррет Смит, каждый на свой лад, предали парнишку. Гаррет — своей пьяной безрассудностью. А он сам? Но разве он мог что-нибудь изменить?
Он отвечал на один вопрос, задавая другой. А если бы такое грозило не Коналу, а Дейрдре? Разве он не нашел бы способа защитить ее? Не нашел бы какую-нибудь дальнюю родню, к которой можно было бы быстро отправить девочку? А ведь он, зная о том, что сделал, даже не предупредил Гаррета Смита об опасности.
И почему? Вот что тревожило его совесть. Он слишком хорошо знал.
Дейрдре. Она так любила Конала. А разве она могла устоять? В Ратконане, да и во всей округе, не было мальчика, подобного Коналу. Этот мальчик был великолепным, волшебным. Но он был сыном пьяницы Гаррета Смита и потаскухи Бреннан. Дурная кровь. О’Тул боялся этого. Он видывал подобное прежде: блестящее начало жизни, а затем — полный крах в зрелом возрасте. Нет, он не хотел, чтобы его малышка Дейрдре росла рядом с юным Коналом, а потом однажды — О’Тул прекрасно это видел — стала бы для него подругой жизни. Он этого не хотел. Он пожертвовал мальчиком. Это было необходимо.
— Уверяю, это все только к лучшему, — сказал он Коналу, когда тот пришел к нему попрощаться. — Поверь, так и будет. — (Ложь!) — Ты ведь будешь недалеко, в Дублине, ты сможешь нас навещать.
Двойная ложь!
И вот теперь, Боже милостивый, он видел, как мальчик уезжает. Конал вдруг стал казаться моложе своих лет, и он плакал, как малыш, и цеплялся за отца, а Гаррет, бледный, полный отчаяния, выглядел так, словно его собирались вздернуть на виселицу. Это было хуже смерти, конечно же, хуже смерти.
— Не забирайте меня у папы, я хочу остаться с папой! — кричал Конал.
Но мужчины оттащили его прочь, запихнули в телегу, которая сразу покатила к Дублину, и крепко держали, когда он смотрел назад. Его зеленые глаза расширились, из них потоком лились слезы, и он умоляюще смотрел на отца, а тот застыл на месте в ледяной тоске, глядя на сына мертвым взглядом.
Но вот лошадь прибавила ходу, и телега уже была на дороге.
И как раз в тот момент, когда телега тронулась с места, из-за спины деда вышла Дейрдре. Он держал ее за руку, но девочка вырвалась и пошла одна, очень медленно, по дороге следом за телегой. На первом повороте у дороги лежал большой камень, и Дейрдре забралась на него и провожала взглядом телегу, неторопливо катившую по долине. Девочка стояла совершенно неподвижно, не отрывая глаз от друга, пока телега не исчезла из виду.
Но даже после этого малышка с длинными темными волосами не тронулась с места, она просто смотрела вдаль, и великое молчание гор и пустота вокруг были ее будущим. И так она стояла, словно и сама обратилась в камень, больше часа.
Граттан
1771 год
О, это должен был быть великий вечер — вечер, который запомнится! Собиралась вся семья: братья, дети, внуки, кузены.
— Меня особенно радует то, что в течение моих восьмидесяти лет и даже больше наша семья прожила без разногласий, — сказал старый Фортунат жене и с довольным видом добавил: — У меня есть все основания надеяться, что так будет и в следующие восемьдесят лет.
Конечно, они собирались для того, чтобы повидать Фортуната и его жену. Но Фортунат также пригласил почетного гостя — некую личность, возбуждавшую особый интерес и настолько обаятельную, что все они сгорали от желания увидеть его. Ради большего драматизма Фортунат попросил прийти гостя через час после того, как все соберутся.
— Уж он появится весьма торжественно, можешь быть уверена, — с удовольствием заявил Фортунат жене.
Но для самого Фортуната еще более волнующей была весть о другом добавлении к компании — весть, которую он получил лишь в середине дня и которая заставила замечательного старика еще более радоваться и предвкушать вечер. Вернулся Геркулес.
— Джордж и Джорджиана его приведут. Он будет здесь со всеми остальными. Все будут вместе, — позволил себе сказать Фортунат. — Вот это мне приятнее всего.
И вот гости начали собираться.
Поднявшись по десяти ступеням широкой лестницы к парадной двери дома на Сент-Стивенс-Грин, гость входил в вымощенный камнем холл с камином. Здесь Фортунат, в отделанном золотом камзоле, красном, как его лицо, коротких штанах и шелковых чулках, а также в лучшем пудреном парике, любезно приветствовал гостей.
Первым вместе с детьми и внуками прибыл его брат Теренс, более худой, чем Фортунат, с менее красным лицом. Первая жена Теренса умерла, и он женился во второй раз, когда был уже немолод, на вдове из католической семьи, и, ко всеобщему удивлению, произвел на свет еще одного сына, ныне очаровательного юношу по имени Патрик. О нем Фортунат радостно говорил:
— Попомните мои слова, этот парень далеко пойдет!
Братья с нежностью обнялись.
Вскоре после Теренса появились Дойлы. Если Фортунат многие годы изо всех сил продвигал родных вверх по социальной лестнице, то теперь, в старости, он расслабился, стал мягким, даже сентиментальным. И тот факт, что его родственники Дойлы, достаточно богатые, чтобы войти в мир джентльменов, предпочли остаться обычными дублинскими торговцами, без малейших признаков bon ton, вовсе не было для него причиной забывать их, когда собиралась вся родня. Фортунат лишь жалел, что его устрашающая кузина Барбара, семь лет назад покинувшая этот мир, не могла здесь присутствовать, чтобы терроризировать всех подряд. Но пришел ее сын, и Фортунат отлично помнил, как Барбара привела мальчика к нему в дом почти пятьдесят лет назад. Теперь этот смуглый молчаливый мужчина уже сам имел внуков. Здороваясь с Уолшем, он вежливо сообщил, что ценит любезность хозяина, пригласившего к себе всю его семью.
Потом приехала внучка Фортуната Элиза, старшая дочь Джорджа и Джорджианы, вместе с мужем. Он происходил из семьи Фицджеральд, и это был блестящий союз, еще выше поднявший социальное положение семьи. За это Фортунату следовало благодарить Джорджиану. К тому же Фицджеральд был весьма достойным человеком. Они тепло приветствовали друг друга.
Потом прибыли дочери Фортуната, тоже с семьями. Ну, этих он достаточно часто видел, слава Богу!
Но где же Джордж и Джорджиана? И Геркулес? А-а… Фортунат увидел их карету, подъезжавшую к дому. Сам того не осознавая, Фортунат втянул живот и выпрямился. Прошлое, желавшее произвести хорошее впечатление на будущее. Лакей уже распахивал дверь, дворецкий кланялся намного ниже, чем до этого.
Сначала вошли Джордж и Джорджиана.
Лорд и леди Маунтуолш были очень красивой парой. И все вокруг них было прекрасно. И их особняк в палладианском стиле, который они построили в Маунт-Уолше, и их имение в Уэксфорде. Большой городской дом рядом с Меррион-сквер, недавно купленный ими, тоже был очень красивым. А их состояние было более чем прекрасным.
А все потому, что после вполне ожидаемой смерти больной Лидии внезапно умерла также и Анна, подхватив лихорадку как раз перед тем, как должна была выйти замуж, Джорджиана осталась единственной наследницей состояния ее отца Генри. И когда Генри тихо расстался с жизнью десять лет назад, Джордж сказал отцу:
— У нас теперь столько денег, что я просто не знаю, что с ними делать.
Но ему не стоило беспокоиться на этот счет. Очень быстро вокруг него появилось множество любезных людей: архитекторы и художники, оформители, продавцы ковров, ювелиры, торговцы древностями, лошадники — в общем, всякого рода специалисты по трате денег.
— Не беспокойтесь, — заверяли они его, — мы вам покажем, что делать с деньгами.
И Джордж, тратя лишь едва заметную часть своего состояния, покровительствовал всем. И его все любили.
Спокойный, добродушный, беспристрастный — и никого не удивило то, что уже вскоре после строительства загородного палладианского дома Джордж оказал правительству достаточно услуг, чтобы возвыситься до звания пэра. И вот, пока старый Фортунат вполне довольствовался тем, что сидел в палате общин ирландского парламента, его сын, ставший лордом Маунтуолшем, оказался в высшей палате, где, по общему мнению, стал настоящим украшением.
За спиной Джорджа шелестел шелк: Джорджиана, уже седовласая, по-прежнему цвела красотой зрелой женщины. В глазах старика вспыхнула нежность. Эта женщина принесла его семье не только огромное богатство, но и красоту и доброту, и он открыто восхищался ею. Джорджиана ласково поцеловала его в щеку. Но вот настал тот самый момент. Появился тот самый человек.
— Геркулес, мальчик мой! Добро пожаловать!
Достопочтенный Геркулес Уолш, наследник всех денег семьи и ее растущего влияния, только сегодня утром сошедший с корабля, прибывшего из Англии. Надежда и будущее семьи.
Бог мой, думал Фортунат, как же хорош этот мальчик! Кто бы сомневался.
Ему было всего двадцать два — они отпраздновали его совершеннолетие год назад в Маунт-Уолше, — но выглядел на год-другой старше. Геркулес уже получил степень в Тринити-колледже в Дублине и теперь учился в Юридической школе в Лондоне. Конечно, необходимости приобретать профессию не было, но аристократу, собирающемуся управлять имениями и деньгами и, скорее всего, заниматься общественной деятельностью, полезно получить хорошее образование. Геркулес был высоким и довольно крепким, широким в кости, с мужественным лицом, которое вполне могло бы принадлежать какому-нибудь молодому римскому генералу. Густые светло-каштановые волосы завивались на концах; карие глаза широко расставлены, взгляд спокойный. Геркулес вообще был спокойным, тихим, молчаливым, но вежливо отвечал на вопросы, улыбался лишь тогда, когда это необходимо, но вроде бы не часто видел такую надобность. Но сейчас, когда отвешивал вежливый поклон старому Фортунату и его жене, он явно думал, что улыбка уместна.
— Дедушка… Бабушка…
Но дед уже повернулся к залу.
— Патрик! Патрик! — позвал старый Фортунат. — Приведите сюда Патрика! А-а, вот он… — (Молодой человек появился в холле вместе со своим братом.) — Встань рядом с кузеном, Пат, чтобы я посмотрел на вас обоих вместе. Вот так. Вы когда-нибудь видели более красивых ребят?! — восторженно воскликнул он.
Сын Теренса и внук Фортуната, хотя и состояли в близком родстве, представляли собой любопытный контраст. Похоже, в великом танце генов при зарождении этих двоих звучала разная музыка и были избраны разные партнеры. Патрик, почти такого же роста, как Геркулес, обладал совершенно другим сложением, намного более изящным. И лицо у него более утонченное, что заставляло предположить в нем умного юриста или ученого, человека мысли. А глаза и вовсе ослепляли. В хорошей компании Патрик источал восхитительное мальчишеское обаяние. А во время серьезной беседы он обычно наклонял голову немного вбок и вперед, в сторону говорившего, с выражением полной сосредоточенности.
Когда Патрик встал рядом со своим кузеном Геркулесом, дружески кивнувшим ему, от внимания Фортуната не ускользнуло едва заметное облачко, скользнувшее по лицу племянника. Конечно, можно было бы понять, если бы молодой Патрик, сын доктора-католика, обладавшего достаточными, но все же скромными средствами, ощущал легкую неловкость рядом с кузеном-протестантом, чье состояние в тысячу раз превзойдет его собственное. Но семейная преданность в течение многих поколений не могла пошатнуться от такой мысли.
— Как бы мне хотелось, чтобы и наш дорогой отец мог это видеть, а, Теренс?! — радостно воскликнул Фортунат. Он повернулся к молодым людям. — Когда наш отец Донат решил, что я должен быть воспитан в вере Ирландской церкви, а Теренс останется католиком, как вся семья, он желал, чтобы одна ветвь семьи всегда могла защитить другую. Он сам, позвольте напомнить, до конца дней оставался добрым католиком, да упокой Господь его душу. И со временем придет и твоя очередь поддержать традицию, Геркулес, и я знаю, что ты этого хочешь. И позволь пожать тебе руку. Вот так. Это важно. Отлично! — Он снова окинул взглядом всех, а потом, сияя улыбкой, взял за руку брата. — Идем, Теренс, давай выпьем кларета.
И братья отправились в гостиную, а за ними пошли оба молодых человека. Но Геркулес уже не улыбался.
Джорджиана наблюдала за всем этим. Ей нравился Патрик. Что до ее отношений со старым Фортунатом, то Джордж еще много лет назад весело заметил:
— Да мой отец просто влюблен в тебя!
— Знаю, дорогой, — мило ответила она, а потом, похлопав мужа по руке веером, добавила: — Так что не забывай, у тебя есть соперник.
А старый джентльмен, ничуть не скрывая своей нежной привязанности, еще и трезво оценивал супругу сына.
— Сына я люблю, — говорил он жене, — но Джорджиане досталось больше мозгов.
Время было милосердно к Джорджиане. Да, она поседела, но мода на пудреные волосы и парики весьма устраивала людей средних лет. На ее лице было не слишком много морщин, да и те лишь прибавляли ей привлекательности. В ее глазах, мудрых и в то же время лукавых, иногда вспыхивал некий изумительный свет.
Если и было что-то, чем искренне наслаждалась Джорджиана, так это приносить людям счастье. И она, будучи богатой женщиной, имея мужа в палате лордов и домá, где она могла принимать гостей, обладала большими возможностями для этого. И ее дипломатические действия были совершенно бескорыстными. Устроить чей-то брак, уладить семейную ссору, найти хорошую службу для милого человека, оказавшегося в затруднительном положении… Да, талант и доброта Джорджианы стали притчей во языцех.
В последние годы ее помощь была в особенности востребована. Уже несколько десятилетий, почти с великих дней герцога Девонширского, королевские представители недолго задерживались в должности, а в Дублин приезжали только на парламентские сессии. Ирландское правление, а значит, и покровительство находилось в руках людей из Дублинского замка и важных парламентариев вроде Понсонби и Бойлов. Но в конце концов лондонское правительство решило: «Мы тратим слишком много на Понсонби и их друзей» — и прислало в Ирландию умного аристократа лорда Таунсенда разобраться в положении дел. На четвертый год пребывания в должности лорда-наместника в Ирландии Таунсенду наконец удалось сломить старые группировки. Все протекции теперь снова шли через самого лорда-наместника, и их стало меньше.
— Это английское вмешательство погубит Ирландию! — возмущались разъяренные Понсонби.
И многие с ними соглашались.
Но перемены в управлении Джорджиану беспокоили меньше всего. Она очень скоро стала другом лорда Таунсенда. Поскольку лорд и леди Маунтуолш весьма разумно держались в стороне от политических группировок, а Джорджиана просила о помощи только тем людям, которые действительно в ней нуждались, то ей удавалось добиться потрясающих результатов.
— Какого черта, как ты это делаешь? — спрашивал ее муж.
— Очень просто, — отвечала она. — Таунсенд гордится тем, что честен, а потому я обращаюсь лишь к его доброте и ничего не прошу взамен.
Как-то раз, когда отношения с Францией были особенно плохи, она даже убедила лорда отпустить задержанного в Дублине молодого француза, ведь, как Джорджиана беспечно заявила великому человеку, его невеста во Франции будет очень тревожиться.
— А будет от этого хоть какая-то польза вам или мне? — с веселым недоумением поинтересовался лорд Таунсенд.
— Никакой, насколько я понимаю, — ответила Джорджиана.
И если раз или два лорд-наместник втайне просил Джорджиану помочь ему в кое-каких затруднениях, она делала это с радостью, и ни одна душа в Дублине ничего не знала.
И вот теперь, когда Джорджиана наблюдала за молодым Патриком, стоявшим рядом с Фортунатом, она самым естественным образом думала о том, что могла бы сделать для обаятельного католика.
Но всему свое время. А этим вечером ей нужно завершить другое дело.
Джорджиана иногда тревожилась за сына. Назвали его в честь одного друга ее мужа, который стал крестным отцом мальчика. Но имя, похоже, определило его характер. Он делал все, чего от него ожидали, но делал с безразличной, механической точностью, как какой-нибудь генерал, уничтожающий мелкого врага, и это почти пугало. Он стремился к победе и воспринимал себя серьезно. Слишком серьезно. Возможно, в нем проявились ее собственные предки-пресвитерианцы, Джорджиана не знала. Но что-то нужно было делать.
Решение, пришедшее ей в голову, было вполне простым. Сыну нужна женщина, чтобы отвлечь его от самого себя. Джорджиане было все равно, будет это жена или любовница, однако жену следует выбрать с большой осторожностью. И как раз недавно Джорджиане показалось, что она нашла подходящую кандидатуру.
Во всей Ирландии не было более великого рода, чем древний род Фицджеральд. Они практически правили Ирландией, пока их не сломили Тюдоры. И все равно Фицджеральды, властные графы Килдэр, — настоящие ирландские принцы. Два десятилетия назад в Дублине именно граф Килдэр расширил город, осушив болота вдоль реки Лиффи за Сент-Стивенс-Грин и проложив Килдэр-стрит, и построил там великолепный особняк, вроде палладианского загородного дома, который теперь назывался Ленстер-Хаус, поскольку граф Килдэр получил еще более высокий титул герцога Ленстерского.
Род Ленстер был весьма многочислен. Но для Уолшей заключение брака с представителем любой его ветви стало бы последним шагом в продвижении от сквайров к аристократии. Когда их дочь Элиза вышла замуж за одного из Фицджеральдов, состоявшего в довольно близком родстве с герцогом, Джордж и Джорджиана поздравили себя и стали посещать приемы в огромном Ленстер-Хаусе уже как члены семьи, радуясь от души.
У молодого Фицджеральда имелась сестра. А следовательно, она была из Ленстеров. Более того, Джорджиана случайно узнала, что девушка должна получить большое наследство после одной из ее тетушек, то есть невеста вдвойне желанна. И это удовлетворило бы ее сына и семью мужа. Молодой Геркулес уже имел состояние. Что до самой Джорджианы, так ее интересовал характер девушки. А девушка была умной, доброй и веселой. И если кто и мог превратить ее сына в спокойного и счастливого мужчину, так именно она. Конечно, тогда оказалось бы, что двое ее детей вступили в брак с братом и сестрой, но вряд ли это кого-нибудь заинтересовало бы в такое время, когда разрешалось жениться на двоюродной сестре.
С приходом Геркулеса вся компания имела прекрасную возможность обсудить это с Элизой. Такой была программа Джорджианы на этот вечер.
Но было и еще кое-что. Всем захочется поговорить с почетным гостем, когда он явится. Но у Джорджианы имелись особые причины желать такого разговора. Потому что она хотела кое-что попросить у него. И это касалось ее семьи.
Проведя четверть часа в разговорах с разными родственниками, Фортунат заметил, что Геркулес стоит один, и обрадовался, поскольку хотел поговорить с молодым человеком наедине.
И хотя Фортунат был счастлив встретиться с приехавшим из Лондона внуком, на самом деле он почти не знал Геркулеса. И удивляться тут было нечему. В детстве Геркулес всегда был в компании других детей, а сам Фортунат, занимаясь делами имения в Уэксфорде, постоянно был в разъездах, а потому видел внука редко. Во время учебы в Дублине дед и бабушка тоже не часто с ним встречались. Тем более что у студентов своя особая жизнь. Фортунат прекрасно это знал. А потом молодому человеку захотелось как можно скорее завершить свое образование в Лондоне. Может быть, гадал Фортунат, этот юноша слегка нетерпелив?
— Нам так жаль, что мы редко тебя видели, дорогой мальчик, пока ты учился в Тринити, — приветливо начал Фортунат. — Уверен, там ты обзавелся хорошими друзьями. И наверное, раз-другой позволял себе кое-что, а? Выворачивал плащ наизнанку? Признайся, много ты окон разбил?
В Тринити-колледже училось много молодых джентльменов, отпрысков знатных семей, и потому, когда они устраивали шумные попойки (что случалось часто), руководство колледжа не слишком обращало на это внимание. А поскольку сыновья пэров должны были носить золотую тесьму на академических плащах, то они просто выворачивали эти плащи наизнанку, перед тем как начинали швырять камни в чье-то окно.
— Если окна и разбивали, не помню, чтобы кто-то их подсчитывал, — тихо ответил Геркулес.
На самом деле, хотя время от времени он и наблюдал за такими выходками, сам он ни одного окна не разбил.
— Ах, столица!.. — одобрительно произнес Фортунат. — Там особый дух. А Лондон… Тебе там нравится? Появились друзья? Ходите в театры или еще куда-нибудь?
— Бывает.
— А что нового о наших друзьях Шериданах?
Это было одним из обязательств, возложенных семьей на Геркулеса при его отъезде в Лондон: поддерживать дружбу с талантливой семьей Шеридан. После нескольких лет в Дублине, где Том Шеридан блестяще руководил театром «Смок-Элли», Том перебрался в Лондон, утвердился как педагог-теоретик и даже убедил короля Георга пожаловать ему приличный пенсион, чтобы продолжать составлять словарь разговорного английского языка с указанием произношения, над которым он продолжал и теперь работать. А его жена тем временем написала отличный роман, принесший им еще немного денег.
— Великий доктор Джонсон утверждает, что словарь Шеридана будет никуда не годным, — спокойно ответил Геркулес.
— Конечно утверждает! Он сам составляет словарь, вот и завидует, — ответил Фортунат. — А сын Тома? Молодой Ричард, он как? Вы ведь с ним примерно одних лет?
— Думаю, он моложе. Говорят, он уже написал какую-то пьесу.
Что-то в тоне Геркулеса заставляло предположить, что ему совсем не хочется иметь в качестве друзей семьи эту театральную и литературную публику.
— Его дед, доктор Шеридан, был весьма заметным человеком, ты же знаешь, — мягко заметил Фортунат. — Древний род. Раньше владели большей частью графства Каван. — Он решил все же сменить тему. — Много пьешь? — поинтересовался он.
— Очень умеренно, дедушка.
— Наверное, это и хорошо, — решил дед. — Ты должен был заметить, что половина джентльменов в Дублине страдает подагрой. Ужасная болезнь.
— В Лондоне тоже.
— Не сомневаюсь. Нас с братом она пощадила, но не могу пообещать, что вся семья имеет от нее защиту. Лучше быть поосторожнее. Но бутылочка-другая кларета по вечерам вряд ли может повредить мужчине, — рассудительно добавил он. — Полагаю, ты все же иногда напиваешься? — Он с легким беспокойством посмотрел на внука.
— Случается изредка.
— Это политика, — заявил Фортунат на основе опыта всей жизни. — Мужчине, который никогда не был пьяным, никто не станет доверять.
— Я это запомню.
— И еще. Ты знаешь, что через несколько лет мое место в парламенте освободится. Я ведь не стану снова выдвигать свою кандидатуру, а потому можешь рассчитывать на мое место.
До недавних пор выборы в ирландскую палату общин проводились лишь тогда, когда умирал очередной монарх. Это более чем устраивало членов парламента: заняв место, они могли оставаться на нем без тревог и расходов на выборы, пока либо они сами не умрут, либо монарх не скончается. И это устраивало правительство: если они убеждали кого-нибудь из членов парламента поддерживать их или подкупали его, им тоже незачем было беспокоиться, что этот человек вдруг проголосует против них в течение ближайших двадцати или тридцати лет. Но даже при великом древнем политическом застое Дублина XVIII века кое-что менялось. И теперь выборы проходили каждые восемь лет. Через пять лет, если, конечно, он прожил бы еще так долго, место старого Фортуната открылось бы для новых выборов.
— Надеюсь, ты получишь это место, мой мальчик. Для семьи полезно иметь представителей в обеих палатах. — Фортунат посмотрел на Геркулеса, проверяя, согласен ли тот с ним. — Хорошо. Ты увидишь, — продолжил он, — что парламент очень похож на какой-нибудь клуб. У нас могут быть разные мнения, но это не влияет на любезность в общении и на дружбу. Мы там все близки друг другу по духу. А в противном случае, — он снова бросил быстрый взгляд на неулыбчивого внука, — иначе ничего нельзя было бы добиться, видишь ли. — И повторил весьма твердо: — Ничего.
Что думал об этом его внук? Молодой человек вроде бы вполне с ним соглашался. Так почему же Фортунат испытывал легкую тревогу? Понимал ли этот двадцатидвухлетний юноша с таким решительным лицом ту традицию, наследником которой являлся? Наверняка должен был понимать. Мысли Фортуната вернулись к молодому Патрику. Да, вопрос религии. Католики. Это было важно.
— Поговаривают, знаешь ли, — продолжил Фортунат, — о новых законодательных инициативах, которые будут выдвинуты на следующей сессии. Ну, насчет того, чтобы дать католикам некоторые права собственности. Во всяком случае, о праве более продолжительной аренды. Веяние времени, Геркулес. Я бы не удивился, если бы через несколько лет — не в мое время, возможно, но определенно в твое — католики в Ирландии получили бы практически те же права, что и протестанты. В палате общин, да и в Дублинском замке, растет уверенность, что нам было бы лучше с поддержкой католиков.
Нет, старый джентльмен не принимал желаемое за действительное. Долгие мирные годы главенства протестантов, безусловно, не прогнали полностью старых страхов перед католицизмом, но сгладили остроту проблемы. И многих смущало то, что с достойными джентльменами вроде доктора Теренса Уолша или с солидными католическими торговцами в портах не следует обращаться как с равными.
Старый Фортунат улыбнулся:
— Однажды твой кузен Патрик займет место рядом с тобой, как равный тебе не только в семье, но и в общественной жизни. Это весьма порадовало бы моего дорогого отца. — (Геркулес вежливо склонил голову.) — Ну, осмелюсь предположить, ты уже достаточно долго меня слушал, — завершил свои наставления старый джентльмен. — Но мне приятно видеть твою дружбу с двоюродным братом. Ничего нет важнее семьи, мой мальчик.
И он наконец отпустил внука, предоставив развлекаться ему по своему усмотрению.
Однако несколько минут спустя он с удовольствием увидел, что Геркулес и Патрик о чем-то разговаривают.
Правда, их разговор был не совсем таким, как хотелось бы Фортунату. Геркулес просто хотел кое-что узнать у кузена.
— Ты знаешь человека по имени Джон Макгоуэн?
— Пожалуй. А что?
— Он недавно вступил в клуб, членом которого являюсь и я. «Олдермены Скиннерс-элли». Возможно, ты слышал о нем.
— Ну да.
Нужно отдать должное Геркулесу — он никогда не терял времени зря. Уже через несколько часов после приезда из Лондона он знал все дублинские новости и выяснил, что прямо на следующий день в этом клубе должна состояться встреча в память Вильгельма Оранского. Естественно, Патрик знал об этом клубе. Он был необычным явлением, поскольку на его собраниях смешивались представители всех классов общества… ну, если они были протестантами, конечно.
— Я думал, Макгоуэны — католики, — заявил Геркулес.
— В основном да, уверен.
— А именно этот — протестант, так говорят.
Неужели молодой Патрик заколебался?
— Макгоуэнов так много, — через мгновение ответил он. — И вполне возможно, кто-то из них стал протестантом.
— Этот — бакалейщик. Ты знаешь Джона Макгоуэна, бакалейщика?
Патрик нахмурился:
— Пожалуй, да. Вот только Макгоуэнов-бакалейщиков целое племя, видишь ли, и все они родня друг другу. Если об одном из них говорят, что он протестант… — Патрик пожал плечами. — Я бы не стал пытаться остановить его, если ты об этом.
— Хм… — пробурчал Геркулес и отошел.
И он все еще выглядел раздраженным, когда к нему подошла его мать.
— Тебе понравился разговор с дедом?
— Он думает, я должен помогать католикам. Добиваться для них таких же прав, как у нас.
— И ты будешь это делать?
Геркулес передернул плечами:
— Но зачем отказываться от преимуществ?
На это Джорджиана ничего не ответила, а лишь сказала:
— Идем поговорим с твоей сестрой Элизой.
Почетный гость приехал точно в назначенный час. Фортунат проводил его в большую гостиную, где собралась вся семья. Когда они вошли, все замолчали. Джорджиана, стоявшая рядом с Геркулесом, внимательно всмотрелась в гостя.
Это была прелюбопытная фигура. Пожилой человек в коричневом камзоле из домотканой материи. Он носил чулки и башмаки с пряжками, но парика на нем не было. Вокруг лысой макушки висели длинные пряди седых волос. На носу сидели очки с узкими стеклами, поверх которых он благодушно смотрел на собравшихся. Что за милый старик, подумала Джорджиана.
Мистер Бенджамин Франклин впервые приехал в Ирландию.
Фортунат провел его по гостиной, представляя членов семьи, а американец пожимал руки или склонял белую голову в самой простой и приятной манере, какую только можно было вообразить. Но Джорджиана повидала достаточно общественных деятелей, чтобы заметить: эти добрые старые глаза были также и чрезвычайно внимательны. А когда американец дошел до нее и его взгляд восторженно вспыхнул при виде ее декольте, Джорджиана улыбнулась себе под нос и пришла к выводу: этот умный старик совсем не так мил и прост, как прикидывается. Но он первоклассный актер.
— Мистер Франклин уже побывал в палате общин, и его пригласили участвовать в дебатах. Там я с ним и познакомился, — сообщил Фортунат. — Ну а о цели его приезда в Ирландию он сам расскажет немного позже.
Около четверти часа Франклин разговаривал с разными гостями и с удовольствием отвечал на вопросы. Да, он был членом законодательного собрания Филадельфии. Действительно, он родился в Бостоне. Сейчас он приезжал в Лондон по текущим делам, но раньше много лет жил в Лондоне и весьма любит этот город.
Но через некоторое время Фортунат отвел его в конец гостиной, откуда Франклин мог обратиться ко всем сразу.
Заговорил американец просто и дружелюбно. Он приехал в Ирландию, объяснил он, потому что уверен: здесь ситуация весьма похожа на ту, что сложилась в американских колониях.
— У нас есть свой законодательный орган, как и у вас, но он не имеет такой власти, какую мы, как простые свободные люди, считаем разумной. Мы можем решать местные вопросы, но важные решения принимаются в Лондоне людьми, которых мы никогда не видели. В наших городах Лондон расквартировывает войска. Нами управляют чиновники, назначенные Лондоном, и Лондон платит им, а значит, мы над ними не властны. Нашу торговлю ограничивает Лондон. И Лондон контролирует наш денежный оборот и облагает нелепыми налогами. И хотя лондонский парламент распоряжается нашей жизнью, у нас нет там представителя. Мы подданные короля, но с нами обращаются как с низшими. Мы свободные люди, но мы не свободны. И потому я должен сказать: хотя большинство жителей американских колоний верны трону, они тем не менее ищут возможности изменить эти условия в лучшую сторону. И цель моего визита в Лондон, — продолжил он, — добиться уступок в этих вопросах. Я надеюсь, если мы в Америке и те люди в ирландском парламенте, кто желает сходных перемен, будем действовать вместе, то сможем больше рассчитывать на достойное обращение. Ведь если американские колонисты не получат удовлетворения, — серьезно закончил он, — то я и предположить не могу, какие неприятности за этим последуют.
Эту речь слушатели встретили по-разному, но Фортунат согласно кивал.
— Та партия в ирландском парламенте, что добивается сходных перемен, а я частенько с ними соглашаюсь, по праву называет себя патриотами, — заявил он. — Они тверды в своей преданности короне, но они в равной мере любят и свою родную землю. Вы найдете в Ирландии много друзей, сэр.
В этот момент вежливо вмешался лорд Маунтуолш.
— То, что сказал мой отец, верно, однако разве не правда и то, что вы уже готовы предпринимать действия, направленные против Британии, чтобы добиться своего? — спросил он. — Как вы это расцениваете?
— Мы отказались покупать британские товары и в результате добились отмены некоторых несправедливых налогов, — ответил Франклин. — Теперь мы снова привозим товары из Британии. Разве это не справедливо? Мне кажется, да.
— И на самом деле, — заметил Фортунат, — это как раз то, что советовал Ирландии настоятель Свифт еще пятьдесят лет назад. — Он заметил, как нахмурился его внук. — Геркулес, — окликнул он его, — у тебя есть какой-то вопрос к мистеру Франклину?
Хотя было ясно, что Геркулес предпочел бы остаться в стороне, Фортунат с удовольствием увидел, как его внук отреагировал по-мужски.
— Правительство в Лондоне не согласилось бы с тем, что американские колонии никак не представлены, — сказал он. — И сам король, и члены британского парламента, которые всегда проявляют интерес к Америке, и есть ваши представители. Как вы ответите на это?
— Именно это они и говорят: у нас нет избранного представителя в Лондоне, но у нас есть, благодаря их доброте, некое виртуальное представительство, — ответил Франклин, энергично кивнув. — Очень милая идея. Но если мы это позволяем, то разрешите сделать некое предложение. — Его старые глаза сверкнули. — Если мы примем это виртуальное представительство, то, вместо того чтобы нам самим платить налоги, мы позволим англичанам платить за нас и назовем это виртуальным налогообложением.
Все рассмеялись — все, кроме Геркулеса.
— Мы услышали о вполне лояльных намерениях колоний, — настойчиво заговорил он. — И в то же время вы намекаете, что, если ваши требования не будут услышаны, вы можете предпринять определенные действия. Вы имеете в виду бунт?
— Боже упаси! — решительно возразил Франклин, но по выражению лица Геркулеса было понятно: он не совсем поверил, а потому, чтобы избежать ссоры, Франклин легко продолжил: — Я также надеюсь на то, что наше положение хорошо поймут в Ирландии, ведь между нашими народами существуют невероятно тесные связи. Вы ведь знаете, в Америке уже давно существует огромная коммуна ульстерских пресвитерианцев. Но при этом на каждых пять пресвитерианцев, как я подсчитал, приходится еще по меньшей мере два ирландских католика… В Америке люди вольны следовать любой религии без каких-либо ограничений. — Он коротко улыбнулся Теренсу Уолшу и его семье. — А если сложить вместе тех и других, то можно не сомневаться: каждый второй в американской колонии приехал с этого острова. Поэтому мы смотрим на вас как на свою семью. — Франклин снова улыбнулся, на этот раз всем.
Эта примечательная справка была принята с удивленным гулом.
— Значит, если там начнется восстание, то оно будет ирландским, — пробормотал Геркулес, но, к счастью, его никто не услышал, кроме матери.
После этого общество разбилось на группы, и люди стали подходить к Франклину, а тот любезно говорил со всеми. Джорджиана немного выждала, а потом подошла к великому человеку, который как раз беседовал с Дойлом.
— Что меня удивило больше всего, признаюсь, — говорил старый американец, — так это благородный вид вашей столицы. Ваше здание парламента куда красивее лондонского.
Величественное здание в духе Римской империи, в котором теперь размещался парламент, было построено в начале века молодым архитектором по фамилии Пирс.
— Когда я впервые вошел под купол вашей палаты общин, то подумал, что нахожусь в Пантеоне или в соборе Святого Петра в Риме. А ваши широкие улицы… — Франклин явно не находил слов.
— У нас есть группа людей, так называемая Комиссия широких улиц, — с гордостью сообщил ему Дойл. — И их цель — сделать наши проезды и площади самыми просторными в Европе. Вы видели больницу Ротунда? Это еще одно прекрасное здание, и, говорят, это первый родильный дом во всем мире, исключительно для женщин, готовых даровать новую жизнь.
Торговец всегда был рад поговорить о красотах родного города, и Франклин был не первым гостем, ошеломленным растущим великолепием георгианского Дублина.
— Но я нашел в этом изумительном городе и еще кое-что, — продолжил гость из Филадельфии. — И это вызвало во мне особенный восторг. Наипрекраснейший темный напиток. И варит его некий человек по имени Гиннесс.
— А, вот что! — воскликнул Дойл. — Ну, тут я могу рассказать вам кое-что интересное. У моей покойной матушки Барбары Дойл, замечательной женщины, был некий друг Гиннесс, и он тогда лишь начинал свое дело. А она решила назвать напиток его именем.
— В самом деле?
— Ну, так она утверждала. И должен сказать вам, нужно было быть очень храбрым человеком, чтобы противоречить ей. Но однажды Гиннесс пришел к ней — это было больше десяти лет назад — и заявил, что хочет продавать свое темное пиво, но черта с два даст ему свое имя. А она ответила: «Ну, если ты хочешь продавать пиво важным людям, тебе лучше позаботиться о том, чтобы название им понравилось. Вот я тебе и говорю, как будет лучше». И он сдался.
— Темный протестантский портер «Гиннесс», — со смехом сказала Джорджиана.
— Именно так, темный протестантский портер «Гиннесс», — с удовольствием повторил Дойл. — Хотя могу сказать, что пьют его не только протестанты.
Размышление о великолепном пиве вызвало в разговоре мимолетную паузу, и Джорджиана этим воспользовалась, чтобы задать свой вопрос:
— Мне интересно, мистер Франклин, не слышали ли вы в Филадельфии об одном нашем родственнике. Мой дядя уехал туда, его звали Сэмюэль Лоу.
Джорджиана почти стыдилась этого, но за тридцать лет своего замужества она совершенно утратила связи с родней отца. После трещины, пролегшей между ее отцом и его братом Джоном, ульстерская и дублинская ветви семьи больше не поддерживали связей друг с другом. Ее отец переписывался с Сэмюэлем, а потом с его вдовой, но Джорджиана почти ничего об этом не знала, будучи слишком занята собственной семьей. На самом деле она ничего не знала и о своих американских кузенах, если, конечно, они вообще существовали. «Если мне захочется написать письмо, то я даже не буду знать, кому его адресовать», — признавалась она.
— Отлично помню Сэмюэля Лоу, торговца! — весело ответил ей Франклин. — И знаю, у него были братья в Белфасте и Дублине, он сам мне рассказывал. Это прекрасная семья.
И он тут же принялся излагать Джорджиане весьма ободряющие вести о ее родных: адвокатах, врачах, богатых торговцах, у которых имелись хорошие дома и несколько отличных ферм в их краях.
— Судья Эдвард Лоу, пожалуй, может сейчас считаться главой семьи.
— Как бы мне хотелось повидаться с ними! — воскликнула Джорджиана. — И чтобы Геркулес тоже с ними познакомился!
Последняя идея явно вызвала у Франклина некоторые сомнения. Но тем не менее он с радостью предложил:
— Через день-два я буду отправлять пакет писем в Филадельфию, леди Маунтуолш. И если вам захочется написать письмо судье и передать его мне, обещаю, оно будет доставлено ему лично в руки.
Это предложение Джорджиана приняла мгновенно.
Когда официальный прием закончился и почетного гостя проводили, Джорджиана согласилась с родными в том, что это был большой успех.
Встреча в клубе «Олдермены Скиннерс-элли» была отлично организована. Более сорока человек собрались в верхней комнате одной из городских гостиниц. Как обычно, общество было смешанным: некий изготовитель париков, два аптекаря, мастеровые и торговцы, с полдюжины юристов, глава почтовой линии Дублин — Белфаст, несколько чиновников из замка, парочка армейских офицеров, множество джентльменов и даже аристократы, включая молодого Геркулеса.
Это было дружеское сборище. Представители гильдий встречались вот так каждый месяц уже более восьмидесяти лет, со времен сражения у реки Бойн. Все шло как обычно. Были предложены и обсуждены несколько новых членов, и к ним предъявлялось только одно требование: быть хорошим человеком и, конечно же, протестантом. Люди обменивались новостями. Геркулес тут же познакомился с Джоном Макгоуэном, который оказался вполне приятным парнем, довольно высоким, лет тридцати, с редеющими волосами и веселым характером. Примерно через час были закончены дела, в число которых входил и сбор скромных сумм для оплаты сегодняшнего ужина, и началось главное.
Банкет, к которому уже все было готово.
В центре длинного стола красовался священный бюст короля Вильгельма, освободителя протестантов. Вдоль всей линии стола выстроились многочисленные графины и кувшины: синие графины для рома, белые — для виски, глиняные кувшины для пива — конечно же, темного протестантского портера «Гиннесс». Когда члены клуба сели за стол и приступили к еде, внесли огромное блюдо бараньих ножек — напоминание о том, как католический король Яков бежал из Дублина при приближении короля Вильгельма. Разговор шел легко и весело. И только после того, как было покончено с главным блюдом, наступил самый важный момент.
Все началось с того, что общество дружно исполнило «Боже, храни короля». Затем распорядитель, избранный должным порядком и награжденный титулом лорда-распорядителя, торжественно встал и возвестил:
— Джентльмены, предлагаю тост оранжистов! — И затем в относительной тишине, на которую были способны сорок веселых джентльменов, уже хорошо поевших и выпивших, он начал декламировать внушающий благоговение текст: — Прекрасной и бессмертной памяти великого и доброго короля Вильгельма, а также Оливера Кромвеля, который помог нам избавиться от нищеты, рабства и произвола, медных денег и деревянных башмаков! Пусть у нас всегда будут Вильгельмы, готовые дать под зад якобитам! И пропади пропадом епископ Корк! И пусть всех священников, епископов, настоятелей и прочую дрянь северный ветер уносит на юг, а западный — на восток! Пусть ночи их будут темны, берега илисты, шторма суровы! И пусть их протекающие суда уносит к реке Стикс! И пусть пес Цербер закусит их задницами, а Плутон сделает табакерки из их черепов! Пусть дьявол терзает их огнем и втыкает железо в их кишки, и пусть они вечно пребывают в аду! Аминь!
Язык тоста говорил сам за себя. Отчасти это был шекспировский английский, отчасти язык ритуалов XVII века: протестантский, антипапистский, полуязыческий и победоносный. И хотя слова внушали страх, они все же воспринимались не слишком всерьез, ну, до тех пор, пока свободолюбивые протестанты стояли у власти, конечно. Это было господство Дублина.
— Аминь! — отозвались все разом. — Девять раз по девять!
И теперь для желающих уже могла начаться настоящая пьянка.
Именно во время этого процесса Джон Макгоуэн и допустил оплошность.
Геркулес, имевший опыт долгих ночных пьянок, умел с этим справляться. Прежде всего, он обладал чрезвычайно крепкой головой. И если нужно было, мог перепить большинство мужчин. Во-вторых, он с легкостью сохранял ясный ум, поскольку на самом деле ему было скучно, как всегда, когда приходилось заниматься чем-то бессмысленным. А в-третьих, он давно научился пить гораздо меньше, чем то казалось. И потому в любой компании он оставался не столько собутыльником, сколько холодным наблюдателем, и мало кто это замечал.
Во время ужина он сидел почти напротив Джона Макгоуэна и имел возможность время от времени присматриваться к бакалейщику. Поначалу Макгоуэн просто слушал и улыбался, возможно чувствуя себя немного неловко в качестве новичка в этой компании. Геркулес заметил несколько капелек пота, выступивших на лысеющей голове, и гадал, от жары это или от нервозности. Однако постепенно Макгоуэн как будто обрел уверенность. Он начал разговаривать, даже отпустил шуточку-другую, а так как они были хорошо приняты соседями по столу, Макгоуэн заметно расслабился. Он выпил еще; его лицо разрумянилось. Время от времени, сам не участвуя в разговоре, бакалейщик смотрел в стол и тихонько смеялся, но невозможно было понять, то ли он выпил лишнего, то ли мысленно подшучивал над происходящим. Когда пожилой человек, сидевший слева от Макгоуэна, явно перебрав, тихонько ушел, Геркулес обошел стол и сел рядом с бакалейщиком.
Макгоуэн приветствовал его кивком, хотя Геркулес не был уверен, что бакалейщик его помнит. Через пару мгновений Геркулес небрежным тоном спросил:
— Вы ведь вроде бы занимаетесь бакалейной торговлей? Это семейный бизнес?
— Да, именно так. Уже несколько поколений.
— Надеюсь, вас не обидят мои слова, но ведь Макгоуэны — католики, и я бы предположил, что семья могла немного отдалиться от вас, я хочу сказать, из-за того, что вы стали протестантом.
Макгоуэн бросил на него осторожный взгляд, но Геркулес улыбнулся с абсолютно искренним видом.
— На самом деле, — ответил бакалейщик, медленно кивнув, — следует сказать, что именно один протестант спас мою семью. То есть это была женщина, удивительная женщина, старая миссис Дойл. Если бы не она, мой дед мог разориться, а вместо того он умер очень богатым человеком. Теперь дело разделено между нами, наследниками, но оно вообще существует только благодаря ей.
Он ненадолго замолчал. Геркулес заметил, что, раздумывая, Макгоуэн закрыл левый глаз, а правый при этом открылся очень широко и уставился в стол.
Геркулес налил им обоим пунша.
— Давайте выпьем за нее, — предложил он.
После этого Макгоуэн стал держаться более дружески. Он раз-другой пошутил, и Геркулес посмеялся, а потом налил еще пунша. Лицо бакалейщика уже довольно сильно раскраснелось, язык начал слегка заплетаться, но держался он храбро, а Геркулес поощрял его.
— Вот интересно, — наконец бросил Геркулес пробный шар, — знаете ли вы доктора Теренса Уолша?
— Доктор Уолш? — Бакалейщик просиял. — Конечно знаю! Это замечательный старик!
— Совершенно согласен. И я имею честь быть его родственником.
— В самом деле?
По легкой растерянности во взгляде Макгоуэна Геркулес окончательно понял, что бакалейщик совершенно его забыл.
— И вы, наверное, знаете и его сына Патрика, моего кузена?
— Знаю. Знаю. — Макгоуэн говорил уже с трудом, но был явно в восторге.
— Он мне сказал, что вы будете здесь сегодня. — Геркулес усмехнулся и подмигнул.
— Вот как?
— Он же мой двоюродный брат. Очень хороший человек.
Макгоуэн доверительно посмотрел на Геркулеса:
— И он рассказал вам о пари?
Геркулес кивнул:
— Только я не понял, сам ли он спорил.
— Нет-нет. Это два других человека. Но он об этом знает. Вы ведь не думаете, что он еще кому-нибудь рассказал, а?
— Ни в коем случае.
— Он чудесный парень.
— Да, точно. — Геркулес понизил голос. — Для католика проникнуть сюда вот таким образом… в компанию самих оранжистов… Это дело серьезное. И сколько вы выиграете?
— Две гинеи за то, что окажусь здесь. Еще две, если меня не раскроют. А потом еще две, если сумею проделать это в следующем месяце. — Макгоуэн усмехнулся. — Так что две гинеи у меня уже есть.
Геркулес засмеялся. А потом встал, обошел стол и направился прямиком к распорядителю, чтобы сообщить: в их ряды просочился посторонний.
Следующие несколько минут были весьма любопытными. В этом обществе ничего подобного прежде не случалось, и потому оранжисты окружили бакалейщика и время от времени награждали его оплеухами, пока созревало решение, которое, как подчеркнул лорд-распорядитель, могло создать прецедент, — решение на тот счет, что же теперь делать с католиком-бакалейщиком, осмелившимся осквернить святилище и услышать тайное совещание.
Одни были настолько разъярены, что твердили: поскольку нет, к сожалению, такого закона, который позволил бы отправить нарушителя на виселицу, то они, как достойные горожане, должны, по крайней мере, отколотить его до полусмерти. Другие, возможно слишком плохо соображая из-за выпитого, заявляли: поскольку это было проделано на спор, то преступник, хотя и совершил гнусный поступок, имеет смягчающие обстоятельства. Геркулес, уже доказавший свою лояльность тем, что донес о преступлении, в споре не участвовал.
В конце концов умеренное мнение распорядителя взяло верх, и оранжисты просто подтащили бакалейщика к окну и выбросили на улицу.
Падать на мощеную мостовую пришлось с высоты не более десяти футов, но Макгоуэн упал неудачно. Потом оранжисты узнали, что бакалейщик сломал ногу. Но не слишком серьезно: хирург с этим легко справился. На том дело и закончилось.
По крайней мере, оно закончилось для большинства членов клуба. Но не для Геркулеса. Он должен был сделать кое-что еще.
На следующий день он отправился повидать своего кузена Патрика и попросил о разговоре наедине. Их беседа продолжалась недолго.
— Ты ведь знал, что Джон Макгоуэн собирается пробраться в тот клуб. Но мне ничего не сказал.
— Я не мог. Я дал слово. Да и вообще, все это было просто глупым спором.
— Ты мне солгал.
— Не совсем так. На самом деле я просто ничего не сказал. Я слышал, бедняга пострадал в результате.
— Можешь сколько угодно увиливать, как все католики, но ты солгал!
— Я это отрицаю.
— Отрицай сколько угодно, проклятый папист! — (Патрик пренебрежительно пожал плечами.) — Если нам придется встретиться на семейном сходе, — холодно продолжил Геркулес, — я буду держаться вежливо. Не стану оскорблять деда. Но ты держись от меня подальше. Не желаю больше никогда тебя видеть.
Вот так и вышло, что, неведомо для Фортуната, дружба между двумя ветвями семьи Уолш, задуманная его отцом и бережно хранимая восемьдесят лет, пришла к концу.
Для Джорджианы те годы, что последовали за визитом Бенджамина Франклина, были насыщенными.
Она была в восторге, когда через несколько месяцев после того, как отправила письмо в Филадельфию, получила любезное письмо от судьи Эдварда Лоу. Судя по тону этого письма, у Джорджианы сложилось впечатление, что судье доставило удовольствие то, что он обнаружил родственников с таким заманчиво звучащим титулом. И он не только сообщил Джорджиане новости о ее американской родне, но и присоединил к письму фамильное древо. И еще он рассказал много интересного о настроениях в американских колониях, означавших, на его взгляд, что спор между колонистами и английским правительством едва ли может быть легко разрешен.
Год спустя, когда до Ирландии дошли вести о том, что колонисты в Бостоне уничтожили дорогой груз чая, Джорджиана получила от судьи еще одно письмо.
Здесь, в Филадельфии, губернатор сумел избежать сходного конфликта, убедив капитана корабля увезти чай обратно в Англию. Но теперь, когда Лондону брошен такой вызов, боюсь, последуют некие юридические меры. А обращение за помощью к закону, увы, может только ухудшить положение дел и обострить конфликт. Я написал обо всем также и нашим родственникам в Белфасте.
Эта последняя фраза, предположила Джорджиана, могла быть осторожным намеком ей самой на то, что, раз уж она побеспокоилась о том, чтобы восстановить отношения с родней в далекой Филадельфии, было бы неплохо сделать то же самое в отношении родни в близком Белфасте. Джорджиана знала, что у ее дяди Джона был сын по имени Дэниел, и ей было понятно, кому написать. Но вообще, если бы она спросила себя, почему не сделала этого раньше, ей пришлось бы признаться, что, пожалуй, дело было в страхе: родня в Белфасте, находившаяся совсем не на таком безопасном расстоянии, как родня в Филадельфии, могла бы как-то ее обеспокоить или сконфузить. Решив, что это на самом деле просто мелочность, и убедившись, что ее добрый муж ничего не имеет против, она написала письмо. Но ответа не получила.
В следующем году старый Фортунат потерял жену, и Джорджиана стала несколько раз в неделю посещать старика, чтобы составить ему компанию. Она нередко находила там и Теренса. Приятно было видеть двоих братьев, сидевших рядом.
Хотя доктор Уолш ни на что не жаловался, кроме некоторой негибкости суставов в ногах, Джорджиане казалось, что он не слишком хорошо себя чувствует. Иногда он выглядел осунувшимся и усталым. Но ему явно нравилось целыми днями разговаривать с братом. А если Джорджиана не находила там Теренса, то вместо него приходил его сын Патрик.
— Замечательно, что мальчик приходит сюда, — говорил Фортунат, — хотя у него есть дела и поважнее.
Но Джорджиана не сомневалась: Патрику очень нравится общество старого человека.
Хотя отец предлагал Патрику избрать профессию врача, тот предпочел виноторговлю и очень много трудился. И чем чаще Джорджиана видела Патрика, тем больше он ей нравился: умный, добрый, с чувством юмора, но не лишенный и честолюбия.
— Я надеюсь сделать состояние, если смогу, — откровенно сказал он Джорджиане, а на ее вопрос, желает ли он чего-нибудь еще, ответил: — Я никогда не изменю своей вере, но, если когда-нибудь такое будет возможно для католиков, я хотел бы стать членом парламента.
И хотя это по-прежнему выглядело весьма далекой и смутной надеждой, Джорджиана радовалась тому, что в Ирландии происходят пусть небольшие, но воодушевляющие перемены в пользу католиков. Папа римский наконец открыл двери. Несколько лет назад, после двух столетий противостояния с английскими монархами-еретиками, папа пошел на компромисс, и король Георг III был ныне признан Ватиканом как законный монарх Британии. А это облегчало положение дел.
— Учитывая происходящее в американских колониях, — говорил Джорджиане муж, — правительство желает поддерживать хорошее настроение во всех слоях общества.
Конечно, в Ирландии католики были лишены возможности занимать какие-либо официальные должности, так как клятва верности была составлена в таких протестантских терминах, что ни один католик просто не мог ее дать.
— А значит, мы попытаемся найти способ обойти ее, — объяснил Джорджиане муж.
Протестантский епископ в Дерри, сотрудничая с некоторыми важными персонами из католиков, составил новый текст клятвы. Не всем католическим епископам она понравилась, но были и такие, кто подталкивал свою паству к тому, чтобы ее принять. В конце концов она могла открыть путь и к другому.
— Ты дашь эту клятву? — спросила Джорджиана Патрика.
— Конечно, — заявил он.
И старый Фортунат проявлял не меньший энтузиазм.
— Именно за это всегда выступали и мой отец, и мой дед: верность своей вере и верность королю, — напомнил он родным. — Я только молюсь, — признался он после одного из визитов Патрика, — чтобы вы дожили до того времени, когда обе ветви нашей семьи, Геркулес и Патрик, вместе войдут в парламент.
Разумеется, Геркулес также иногда навещал деда, но Джорджиана заметила: если он приходил и заставал там Патрика, то один из них сразу же находил вежливый предлог, чтобы уйти. Как-то раз она спросила Патрика, не произошло ли что-то между ним и ее сыном, но тот увернулся от ответа, сказав:
— Мы оба любим дядю Фортуната, ты же знаешь.
Когда же Джорджиана задала тот же вопрос Геркулесу, он ответил коротко:
— У него своя жизнь, у меня своя.
И отказался добавить что-нибудь еще. Джорджиана не стала настаивать. Но он мне все равно нравится, подумала она, пусть даже не нравится тебе.
Ее идея женить Геркулеса на девушке из рода Фицджеральд полностью провалилась. Девушка, если верить Элизе, сочла Геркулеса слишком холодным. Оценка Геркулеса была откровенной и окончательной:
— Она слишком высокого мнения о себе, матушка, так что для меня интереса не представляет.
Джорджиана лишь вздохнула. Ни одна мать не хочет дурно думать о своем сыне. И решила продолжать попытки.
В начале 1775 года муж на месяц повез Джорджиану в Лондон. Это была весьма успешная поездка. Они побывали в парламенте, услышали Питта, Фокса и Берка, величайших ораторов своего времени, видели лорда Норта, премьер-министра, который явно дремал на заседании палаты лордов.
— Вообще-то, — сказал один знающий человек, — лорд Норт куда умнее, чем выглядит, но свой пост он занимает скорее из чувства долга, чем из-за того, что ему это нравится.
Они также встречались с разными политиками. И за это время Джорджиана прекрасно поняла, как именно относятся в лондонских верхах к католикам в Ирландии.
— На самом деле, леди Маунтуолш, — сообщил ей один сторонник правительства с циничной улыбкой, — эта новая клятва верности чертовски умная штука. С одной стороны, между католическими епископами нет единого мнения насчет нее. Это раскалывает католиков и уменьшает их шансы причинить нам какие-то неприятности. А с другой — она поощряет католиков вступать в армию. Видите ли, — пояснил он, — уже много лет один из двадцати солдат в британской армии всегда был ирландцем. И конечно, они должны были дать клятву верности, но если они были католиками, мы об этом просто забывали. Но теперь, когда их собственные священники поощряют дать новую клятву, мы призываем их в два-три раза больше. И если проблемы в колониях перерастут в вооруженный конфликт — а нам жутко не хватает там солдат, — мы сможем отправить этих ирландцев сражаться в Америке. — Он рассмеялся. — Так что теперь я целиком за католиков, миледи.
Джорджиана не один десяток лет вращалась в мире политиков и была знакома с политическими расчетами, но, когда она думала об искренней преданности старого Фортуната и молодого Патрика и о сотнях ирландцев-католиков, которых знала, ей становилось грустно и противно от этих наглых английских оценок.
Однако настоящей целью поездки супругов было удовольствие. Джорджиана изучила последние лондонские фасоны, купила чудесные шелка и туфли, а Джордж познакомился с тремя итальянскими художниками на выставке-продаже. Но пожалуй, самым чудесным из всех стал тот вечер, когда они отправились в театр, чтобы посмотреть новую романтическую комедию, только что завоевавшую весь Лондон.
Да, это стоило увидеть, потому что пьеса «Соперники», с почти сказочным заговором, живыми характерами вроде сэра Люциуса О’Триггера, сэра Энтони Абсолюта и Лидии Лэнгвиш, не говоря уже о неподражаемой миссис Малапроп, постоянно путавшей слова, явно должна была стать классикой театральной сцены. Даже Гаррик, великий актер, уже заявил, что это истинное искусство. И подумать только, автору было всего двадцать три года!
После бесконечного смеха и аплодисментов лорд и леди Маунтуолш с удовольствием отправились за сцену по окончании спектакля, чтобы поздравить красивого сценариста, бывшего не кем иным, как Ричардом, сыном Тома Шеридана.
— Вы и сами понимаете, как счастлив будет мой отец, когда узнает, что внук его старого друга, великого доктора Шеридана, достиг небывалого успеха здесь, в Лондоне! — тепло произнес Джордж. — И надеюсь, вы не будете в обиде, если я скажу, что язык вашей пьесы так изыскан, так блестящ, что может принадлежать только ирландцу.
Похоже, все это доставило молодому Шеридану огромное удовольствие.
— Я помню вашего отца. Я тогда был мальчишкой, жил в Дублине! — воскликнул он.
— Вы можете знать и нашего сына Геркулеса, он тоже долго прожил в Лондоне.
— О да, — кивнул Шеридан.
Весна прошла для Джорджианы спокойно и тихо. А потом из Америки пришло сообщение о том, что рядом с Бостоном начались сражения. И вскоре она получила еще одно письмо из Филадельфии, от судьи Эдварда Лоу.
После некоторых колебаний я теперь склонен сочувствовать тому, что мы здесь называем делом патриотов. По моим подсчетам, примерно каждый пятый здесь патриот, желающий полного отделения от Британии, две пятых верны короне, хотя и желают реформ, а еще две пятых ничего пока не решили, ни в чем не заинтересованы или просто боятся. Рабовладельцы на юге боятся всего, что может привести к бунту рабов.
Я знаю, что наши кузены в Ульстере, как и большинство тамошних пресвитерианцев, полностью на стороне движения патриотов и были бы рады видеть Америку — и Ирландию — независимой от Англии. И мне интересно, Вы на нашей стороне или наоборот?
Внимательно прочитав письмо, Джорджиана решила пока не отвечать на него. Когда муж спросил ее, есть ли в письме что-нибудь интересное, она ответила:
— Ничего особенного, Джордж.
А потом заперла письмо в своем бюро.
Через год американская Декларация независимости облетела весь мир, и из Ирландии отправили четыре тысячи солдат, чтобы утихомирить колонии, а потом стало известно, что милый старый мистер Франклин отправился во Францию попросить военной помощи у старейшего врага Британии. И Джорджиана подумала: пожалуй, к лучшему, что она так и не ответила на письмо.
В тот самый необычайный год произошло еще множество разных событий, приковавших внимание Джорджианы к дому.
Геркулес нашел себе жену. Родители девушки имели хорошее поместье в графстве Мит, а в Дублин привезли дочь в поисках жениха. Геркулес начал за ней ухаживать и завоевал ее сердце. Впрочем, нельзя сказать, что эта задача потребовала от него больших усилий, ведь целью девушки было замужество, а Геркулес был наследником лорда Маунтуолша. Но тем не менее девушка оказалась как раз такой, какую искал Геркулес.
Никто ничего не сказал бы против Китти. Она, правда, не отличалась ошеломительной красотой, но обладала вполне милой внешностью. Воспитывали Китти так же, как десятки других девушек ее класса, а поскольку ей было всего восемнадцать лет, она готова была слушаться Геркулеса во всем. Как-то раз Джорджиана спросила, что Китти думает о событиях в американских колониях, и та тут же посмотрела на Геркулеса, а он решительно ответил за нее:
— Они бунтовщики, и они заплатят за свое предательство.
— Даже старый Бенджамин Франклин? — поинтересовалась Джорджиана.
— Франклин?.. — Китти, похоже, не знала, кто это такой.
— Этого старого дьявола следует вздернуть на виселицу! — заявил Геркулес, а Китти, похоже, была довольна его ответом.
— А где вам больше нравится жить, в имении или в городе? — поинтересовалась Джорджиана.
Но даже тогда Китти уставилась на Геркулеса.
— В зависимости от времени года, пожалуй, а? — добродушно подсказал ей Геркулес.
— Да. В зависимости от времени года, — твердо повторила Китти.
А Геркулес бросил на мать такой взгляд, что она не стала задавать других вопросов.
Но поскольку женитьба вроде бы улучшила характер Геркулеса, Джорджиана решила, что и за это стоит быть благодарной.
В тот же самый год был заложен еще один камень в основание жизни ее сына: его избрали в парламент.
Выборы в Англии или Ирландии всегда были интереснейшим событием. И суть была не в самом голосовании. Большинство мест находилось под контролем небольшой группы выдающихся горожан или нескольких местных землевладельцев. Горожане обычно могли рассчитывать чего-то добиться голосами, деньгами или содействием в делах. Землевладельцы обычно отправляли в парламент кого-нибудь из своей семьи или друзей. И во всех случаях, естественно, правительство пыталось подкупить избирателей, чтобы получить того кандидата, который будет поддерживать официальную линию. И в случае выборов 1776 года правительство весьма преуспело.
— Целых восемнадцать новых пэров появилось! — со смехом сообщил Джордж жене. — При таком темпе, боюсь, ирландских пэров скоро будет не меньше, чем лудильщиков.
Старый Фортунат, как и обещал, передал свое место внуку Геркулесу, и следующее поколение семьи Уолш легко скользнуло в воды большой политики. Но вот за морем погода выглядела дурно.
Парламент, который теперь покинул Фортунат, представлял собой интересы фракций, организованных на неформальный лад. Группа, называвшая себя патриотами, желала больше власти для ирландского парламента, но число ее сторонников было непостоянным, и даже их лидер, отличный оратор по фамилии Флуд, совсем недавно согласился на государственную должность. Семья Уолш всегда выбирала умеренный курс. И в палате лордов Джордж Маунтуолш всегда готов был поддержать правительство, если оно не предлагало чего-нибудь уж совсем вопиющего. А вот Фортунат, заседавший в палате общин, симпатизировал делу патриотов еще со времен настоятеля Свифта и скандала с медными монетами. Но он был человеком добродушным, и чиновники в Дублинском замке всегда считали его достаточно рассудительным человеком, чей голос время от времени можно было просто выпросить.
Но теперь вдруг американская революция осветила весь мир новым и опасным светом. Там, в колониях, американские патриоты — уважаемые землевладельцы, юристы, торговцы и фермеры — решили взять свою судьбу в собственные руки.
— А что мы совершили в сравнении с ними? — могли спросить те, кто также называл себя патриотами в Ирландии.
Самое меньшее, решили они, что им следует сделать, — это объединиться и использовать ситуацию, чтобы добиться неких реальных уступок. Однако другие, кто сочувствовал американцам, думали, что в такой кризисный момент пора раскачать лодку. Когда собрался новый парламент, представители правительства высказались прямо:
— Если вы не с нами, вы против нас.
И выглядело это так, будто патриотов могли отстранить от дел.
Это парламент мог способствовать продвижению Геркулеса. Все его природные инстинкты взывали к действию. Он напоминал борзую, почуявшую запах добычи. Уже через несколько часов после своего появления он нашел самых яростных сторонников правительства и дал им знать, что, каких бы взглядов ни придерживался его дед, сам он принадлежит к их партии. Он стоял за порядок. Патриоты стояли за беспорядок. Значит, патриотов следует уничтожить. Такой энтузиазм — редкое явление в политике.
Но и у патриотов друзей хватало. Вскоре после выборов Джорджиана встретила Дойла.
— Парламенту следует извлечь урок из того, что происходит в Америке, и получше обращаться со свободными людьми в Ирландии. Мы в нашей семье все патриоты, — заявил он. — И я вряд ли найду в Дублине торговца, который не был бы патриотом.
И в городах по всей Ирландии протестантские торговцы и мастеровые говорили то же самое.
Как-то раз, зайдя в здание парламента, чтобы повидать сына, Джорджиана с немалым изумлением увидела, что он о чем-то горячо разговаривает со своим кузеном Патриком. Когда Патрик ушел, она заметила Геркулесу, что ей, вообще-то, казалось, будто он недолюбливает Патрика.
— Он мне отвратителен! — ответил ее сын так, словно это было самым естественным делом в мире. — Но мы на одной стороне. Во всяком случае, в данный момент.
И позже в тот же день Патрик заехал домой к Джорджиане и объяснил:
— Я сейчас работаю над заявлением о преданности от католических мастеровых Дублина. Речь идет о нашей поддержке правительства и нашем неприятии американского бунта. — Видя удивление Джорджианы, Патрик продолжил: — Католические общины делают то же самое по всей Ирландии. Если мы хотим усилить наше влияние, то это как раз подходящий момент для того, чтобы показать правительству: оно может нам доверять… Ну, по крайней мере, лучшим из нас. — Он улыбнулся. — Поэтому, хотя мы с Геркулесом, возможно, и поем по-разному, однако исполняем одну и ту же мелодию.
Но если правительство и получило поддержку более процветающей части католической общины, то оно нашло также и яростных противников там, где не ожидало.
Фортунат Уолш. Ему было далеко за восемьдесят, он потерял жену, вышел из парламента, однако все еще имел живой ум. И вот после долгих лет осторожных расчетов старый Фортунат явно решил: теперь ему все равно, что о нем подумают. Возможно, ему просто стало скучно или же он действительно был глубоко убежден в правильности цели. Даже Джорджиана этого не знала. Но каковы бы ни были причины, он больше не был отставным членом палаты общин, он стал страстным патриотом. Он не только осуждал правительство и энергично заявлял, что американские повстанцы совершенно правы, но и превратил свой дом на Сент-Стивенс-Грин в место встреч всех членов партии патриотов, кто только желал прийти.
Многие были удивлены этим. Джордж лишь с любовью покачивал головой. Однако Геркулеса это совсем не веселило.
— Я всем говорю, — сообщил он матери, — что мой дед просто впал в старческое слабоумие.
Джорджиана продолжала часто навещать Фортуната, и ей все происходившее безумно нравилось. Дом теперь стал куда живее, чем когда-либо прежде. На столах были разбросаны радикальные листовки-афиши вроде «Дневника свободного человека». Из колоний даже привезли экземпляр «Здравого смысла» Тома Пейна, защищавшего американскую независимость. Сюда частенько заглядывали Дойлы, и один раз даже привели с собой представителя левых в парламенте Нэппера Тэнди, и он сказал Джорджиане:
— Когда мы объединим торговые гильдии так же, как патриотов в парламенте, в Дублинском замке будут весьма удивлены тем, на что мы способны.
Слова прозвучали зловеще, но они взволновали Джорджиану. Иногда здесь появлялся Чарльз Шеридан, старший брат драматурга. Он и в парламенте стоял на стороне патриотов. Чарльз сказал Джорджиане и еще кое-что интересное:
— Мой брат Ричард полон решимости заняться политикой в Англии, если заработает достаточно денег своими пьесами. И если ему это удастся, у нас будет один Шеридан в дублинском парламенте, а другой — в Вестминстере.
Потом как-то Фортунат представил ей замечательного молодого юриста, недавно ставшего членом палаты общин. Джентльмен, но не имевший двух тысяч фунтов, необходимых для избрания, он получил свое место от некоего пэра-патриота. Его звали Генри Граттан.
Молодой Граттан сразу понравился Джорджиане. У него было тонкое, умное лицо.
— Вы выглядите как адвокат, — сказала она ему.
— Знаю, — с улыбкой ответил Граттан. — Но должен признаться: все то время, пока я жил в Лондоне и должен был изучать закон, я провел в Вестминстере, на галерее палаты общин, слушая великих ораторов вроде Питта, и Фокса, и Эдмунда Берка. Ах, что за люди! Я там изучал политику, леди Маунтуолш, и надеюсь, смогу в ней преуспеть, поскольку, боюсь, адвокатом я стал бы просто ужасным.
Они еще какое-то время разговаривали, и Джорджиана заметила, что молодой человек не просто выглядит очень умным, но в его глазах еще и вспыхивает восхитительный мягкий свет.
— Он напоминает мне Патрика, — позже сказала она Фортунату.
Джорджиана гадала, не разочарован ли Фортунат тем, что Патрик, бывший его любимцем, высказывает взгляды, столь противоположные идеям патриотов. Но если у нее и были какие-то сомнения, Фортунат быстро развеял их своим ответом.
— Нет, моя дорогая. Мальчик совершенно прав. Католики должны демонстрировать свою лояльность и поддерживать правительство. А оппозицию оставь нам. — Он бросил на нее острый взгляд. — Помни, Джорджиана, мой отец велел нам, братьям, помогать друг другу, сидя по разные стороны изгороди.
— Вы просто хитрая старая лиса, — с одобрением сказала Джорджиана.
Но вот к своему внуку Геркулесу Фортунат, похоже, испытывал совсем другие чувства. Как-то раз, отправившись повидать Джорджа и Джорджиану на Меррион-сквер и встретив там Геркулеса, Фортунат окинул его ядовитым взглядом и заметил:
— На днях молодой Граттан произнес чертовски хорошую речь! — А потом добавил, фыркнув: — Боюсь, твое выступление было совсем не так хорошо.
Геркулес в ответ коротко поклонился деду и вышел из комнаты, но дед успел сказать ему вслед так, что молодой человек не мог его не услышать:
— Нет ораторского дара. Совершенно нет.
На следующий день Геркулес предупредил Джорджиану:
— Думаю, не слишком разумно, если тебя будут видеть в доме деда. Это может поставить семью в неловкое положение.
Правда, Джорджиана не обратила на эти слова ни малейшего внимания.
Для всех стало потрясением, когда в начале 1777 года у доктора Теренса Уолша внезапно случился удар и он умер на месте.
— Но он хотя бы не страдал, — утешала Джорджиана старого Фортуната.
— Я знаю и благодарю Бога за то, что Теренс дожил до того, чтобы увидеть, каким замечательным молодым человеком стал Патрик, — печально ответил Фортунат. — Но я всегда надеялся, что уйду первым.
Половина Дублина собралась на похороны в католической часовне, включая и нескольких служителей Ирландской церкви. Воистину утешительно было видеть, что доктора любили все без исключения.
— Но я все же боюсь, — заметил после Фортунат, — что большого состояния он не оставил.
В следующие месяцы Джорджиана была рада видеть, что Патрик продолжает один-два раза в неделю навещать дядю, и часто выбирала время для своих визитов так, чтобы встретиться с ним у Фортуната. Джорджиане не хотелось признаваться в этом даже самой себе, но в его обществе она чувствовала себя куда более дома, чем рядом с собственным сыном.
А Геркулес тем временем начал делать себе имя. Война в Америке нанесла всем тяжелый удар. Правительство полностью запретило ирландцам торговать с Америкой, к ярости ирландских торговцев. Но и на все другие дела война подействовала плохо. В особенности она ударила по льняной промышленности в Ульстере, и многие обанкротились. Патриоты возлагали вину на правительство, и молодой Граттан выступал с такими яркими речами, что уже стал восходящей звездой. Но сторонники правительства наносили ответные удары, и из всех тех, кто осуждал патриотов, не было никого более враждебного, чем Геркулес Уолш. Он, возможно, и не обладал талантом Граттана, но на свой грубоватый лад умел изложить главное. Для него и патриоты в парламенте, и недовольные торговцы, и ульстерские пресвитерианцы, проявлявшие сочувствие к Америке, были предателями. Когда пришла весть о том, что Бенджамин Франклин и его друзья уговорили французов выступить за Америку против Британии, нападки Геркулеса стали еще более едкими и злыми. И вскоре после одной из его наиболее оскорбительных тирад Джорджиана получила письмо из Ульстера. Оно было подписано «Дэниел Лоу».
Я не ответил Вам, когда довольно давно Вы написали мне, просто не знал, что сказать. Благодаря Вашему правительству торговля полотном пришла в такой упадок, что теперь бизнес Лоу в Белфасте перестал существовать. И я прочитал в газете, что, если верить Вашему сыну, я и другие мне подобные в Ульстере, до сих пор не отказавшиеся от честной и надежной веры своих отцов, не что иное, как предатели и собаки, которых следует посадить на цепь и надеть на них намордники.
И поэтому я теперь пишу Вам, так как наконец знаю наверняка, что именно должен Вам сказать: что мне сказать Вам нечего и что переписка между нашими семьями, которую Вы, похоже, сочли за лучшее возобновить, должна быть раз и навсегда прекращена.
Джорджиана отложила письмо со вздохом и чувством неудачи. Смысла в том, чтобы написать еще раз, не было. Что бы ни утверждала сама Джорджиана, Геркулес наверняка снова произнесет оскорбительную речь. И задумалась, может ли она что-нибудь сделать для ульстерской родни, если они, судя по всему, оказались в затруднительном финансовом положении, но решила, что любое ее предложение все равно будет резко отвергнуто. Она заперла письмо в ящике бюро вместе с письмом из Филадельфии и стала молиться о том, чтобы настали наконец лучшие времена.
Но вскоре ей довелось все же сделать кое-что хорошее.
Она шла от Сент-Стивенс-Грин в сторону парламента, когда, примерно в середине плавного изгиба Графтон-стрит, увидела молодого Патрика, шедшего ей навстречу вместе с приятного вида человеком, немного выше его самого. Человек этот слегка прихрамывал на ходу. Джорджиана поздоровалась с Патриком и спросила, не хочет ли он познакомить ее со своим другом.
— А, да… — Патрик замялся лишь на мгновение. — Это мистер Джон Макгоуэн. Леди Маунтуолш.
Высокий мужчина вежливо поклонился и сказал, что он к ее услугам, однако Джорджиана заметила, как при ее имени улыбка исчезла с его лица. Кто-то другой мог не обратить на это внимания и сразу выбросить из головы, но у Джорджианы никогда не хватало сил обуздать свое любопытство. А поскольку правила вежливости не позволяли мужчинам уйти, пока дама им не позволит, Джорджиана вовлекла их в разговор. Вскоре она узнала, что Джон Макгоуэн был католиком и другом Патрика и что его бакалейная торговля в последние семь лет процветала и расширялась.
— Он занялся солеными продуктами, — сообщил ей Патрик, — и хотя сам он слишком скромен, чтобы сказать тебе об этом, но в Дублине есть всего два торговца, которые экспортируют больше соленой говядины, чем он. Но у него, в отличие от меня, нет друзей в правительстве, — со смехом добавил он.
Если правительство было полно решимости не допустить торговли Ирландии с взбунтовавшейся Америкой, то теперь, когда в войну ввязалась Франция, правительство стало буквально одержимо идеей, что ирландские торговцы вроде Макгоуэна могут снабжать французскую армию и военно-морской флот солеными продуктами, столь важными в такое время. И потому были введены новые ограничения. Весьма непопулярные.
— Вам, уверена, эти запреты не нравятся, — с улыбкой произнесла Джорджиана.
— Это верно, миледи, — ответил Макгоуэн, бросив осторожный взгляд на Патрика.
— Все в порядке, Джон, — засмеялся Патрик. — При леди Маунтуолш можешь говорить что угодно. Она и похуже слышала от моего дяди.
— Суть в том, леди Маунтуолш, — признался бакалейщик, — что мне не нравятся протестантские правители Ирландии с тех самых пор, как они выбросили меня в окно и сломали мне ногу.
— Ох, мистер Макгоуэн… Мне очень жаль.
— Но в некотором смысле, — спокойно продолжил Макгоуэн, — мне, пожалуй, следует их поблагодарить. Потому что они не только оставили меня хромым, но и так разозлили, что я преисполнился желанием добиться успеха, взял себя в руки и расширил дело. И я уверен: если бы не их жестокость, я не был бы теперь тем, что я есть.
— Я, вообще-то, думал, — с усмешкой сказал Патрик, — что нужно отвести его к дяде Фортунату, раз уж теперь патриоты стали проявлять такой интерес к католикам.
Это действительно был последний резкий поворот в ирландской политике, а идея принадлежала Граттану.
Патриоты до сих пор не добились большинства в парламенте, но продолжали энергично действовать за его пределами. Они привлекли на свою сторону большинство торговцев-протестантов. А также множество мелких деревенских сквайров. И если крупные лендлорды могли счесть, что сейчас не время переворачивать правительственный корабль, то было и много мелких землевладельцев и фермеров, которые плевать хотели, раскачают они эту лодку или нет. Но оставалась еще и самая большая часть населения Ирландии, четыре пятых его, — католики. Уважаемые граждане вроде Патрика могли заявлять о своей верности в надежде на лучшее обращение в будущем, конечно, но это никоим образом не мешало патриотам обещать им куда больше, чем могло обещать правительство.
— Свобода торговли для Ирландии. Потом — исправление тех отвратительных законов о штрафах, что оскорбляют каждого католика, — требовал теперь Граттан.
Далеко не все протестанты были с ним согласны, но Граттан продолжал их убеждать.
— Это напугает правительство! — подчеркивал он. — Надавит на них, они удовлетворят хотя бы часть наших требований!
Что это было — истинное убеждение или хитрый расчет? Сказать трудно. Но в том и сила политиков.
— Я буду поддерживать патриотов, — заявил Джон Макгоуэн.
На следующий день Джорджиана снова стала расспрашивать Патрика о его друге.
— Мне не хотелось спрашивать у него самого, но кто и почему выбросил его в окно?
Патрик вкратце изложил ей всю историю, пропустив лишь некоторые детали.
— Интересно, почему он не преследовал их в судебном порядке? — поинтересовалась Джорджиана.
— И сделать всех торговцев-протестантов в Дублине своими врагами на всю оставшуюся жизнь? Нет, у него хватило ума промолчать. Его месть — стать богаче, чем большинство из них.
— Но разве Геркулес не состоит в том клубе? Он участвовал в этой истории?
— Он вполне мог там быть, — допустил Патрик. — Там много народу было. Но он точно не выкидывал Джона в окно, — тут же добавил Патрик, чтобы успокоить Джорджиану. — Ничего подобного.
В тот же вечер Джорджиана рассказала мужу о встрече с Макгоуэном.
— Я чувствую себя виноватой перед ним, Джордж, даже если Геркулес этого не делал. И мне бы хотелось как-то возместить ему… Уверена, его торговля должна была пострадать в последнее время, — добавила она. — Может, ты сможешь что-нибудь устроить?
— Насчет его физического увечья я согласен, — ответил Джордж. — Но его торговля, пожалуй, могла и не пострадать. Конечно, американские ограничения непопулярны, но те, кто занимается продовольствием, имеют большие заказы от британской армии и флота, так что у них все будет в порядке, пока продолжается война. Я знаю некоторых поставщиков соленых продуктов в Корке, так они уже почти составили себе состояние. — Он улыбнулся. — Ладно. Я поговорю кое с кем в замке, посмотрим, что можно устроить.
В следующем месяце Джон Макгоуэн получил большой контракт на поставку соленой говядины британской армии. А немного позже, встретив на улице Джорджиану, он сам подошел к ней и поклонился:
— Я отлично осведомлен, леди Маунтуолш, кого следует благодарить за тот контракт.
— Теперь ваши чувства к нам стали лучше? — спросила она.
— Нет. Но я чувствую себя богаче, — с улыбкой ответил Макгоуэн.
Геркулесу Джорджиана ничего об этом не рассказала.
— Патрик и его друг Макгоуэн могут получить удовлетворение раньше, чем они думают, — еще через какое-то время сказал ей Джордж.
Тактика Граттана работала. Лондонское правительство нервничало все сильнее. Война с американскими колониями перерастала в более широкий конфликт, торговля страдала, необходимо было собирать войска… И последнее, что было нужно чиновникам, так это еще внутренние беспорядки. И если Граттан подстегивал католиков, то самое время пойти на какие-то уступки.
— Они не хотят, чтобы все выглядело так, будто они отступили перед ирландскими патриотами, — объяснил Джордж. — И поскольку законы о штрафах одинаковы во всех трех странах, они хотят принять декларацию в Вестминстере сначала для Англии и Шотландии, а потом распространить ее и на Ирландию тоже.
Но, вернувшись как-то вечером домой, он грустно сообщил жене, качая головой:
— Предложения по Англии и Шотландии провалились.
— Неужели английские парламентарии так ненавидят католиков? — спросила Джорджиана.
— Нет. Дело в простых людях в Англии и Шотландии. Это они кричат: «Никакого папизма!» Даже беспорядки на улицах случались. Но все-таки по ирландскому законодательству работа продолжается. Берк уверен, что сумеет провести через лондонский парламент некоторые скромные меры по Ирландии. Осмелюсь предположить, мы сможем сделать то же самое здесь, в Дублине.
Так оно и вышло. Летом 1778 года «Акт о папистах» прошел через оба парламента, хотя и имел противников. В Дублине, несмотря на тот факт, что акт поддержало правительство, было слишком много преданных протестантов, которые отказывались следовать даже своим обычным лидерам, включая Геркулеса Уолша. «Акт о папистах» был весьма ограниченным, но при этом глубоко символичным, потому что в тот век, когда земля означала все, он позволял ирландским католикам приобретать землю любого вида и завещать ее своим наследникам. Фортунат и Джорджиана ходили вместе с Патриком и всей семьей Теренса Уолша в парламент, чтобы наблюдать за тем, как этот акт проходит через палату общин. Граттан и патриоты радостно приветствовали последнее голосование.
На следующий вечер Фортунат устроил прием в своем доме. Пришло множество патриотов, включая и Граттана; пришли Джордж и Джорджиана, хотя и без Геркулеса; явилась вся родня Теренса; даже старый приходский священник Теренса был приглашен. Патрик привел с собой Джона Макгоуэна.
Джорджиана никогда не видела старого Фортуната таким взволнованным. Его лицо разгорелось, глаза ярко сверкали, и он выпил весьма солидное количество кларета. Он произнес короткую пылкую речь, на которую Граттан ответил весьма элегантно. Снова и снова Фортунат, нежно гладя Патрика по плечу, повторял:
— Это начало, мой мальчик. Это то, чего так хотел мой дорогой отец.
И заявил всем, когда гости уже расходились, что сегодня был самый счастливый вечер в его жизни.
Оглядываясь назад, Джорджиана понимала: не следовало удивляться тому, что после подобных волнений той ночью у старика случился апоплексический удар. К рассвету вся родня собралась у его постели.
Всем и без врача было ясно: Фортунат умирает. Его лицо стало серым. На лбу выступили маленькие капельки пота, дышал он с трудом. Но он отчетливо понимал, кто находится рядом, и хотя не мог много говорить, все же дал понять, что желает попрощаться с каждым по очереди. Джорджу и Джорджиане он прошептал несколько слов благодарности. Геркулесу не сказал ничего, но вроде как пожал руку, погладил по руке Китти. Элизе и Фицджеральду сказал одно-два слова и позволил ей поцеловать себя. Так же он попрощался и с семьей Теренса, хотя видно было, что Фортунат уже очень устал. И тем не менее он настоял на том, чтобы Патрик еще раз наклонился к нему, взял его за руку и прошептал:
— Я так горжусь… так горжусь…
Доктор шагнул к старику, но Фортунат пытался объяснить, что он еще кое с кем хотел бы пообщаться. Смотрел он на Джорджиану.
Когда она подошла к нему, старик взял ее руку и слабо, но нежно сжал. Он явно хотел что-то сказать и набирался сил для этого. Наконец он как будто был готов.
— Одно разочарование… — Голос Фортуната звучал едва слышно. Джорджиана наклонилась ближе, чтобы расслышать его слова. — Одно сожаление.
Джорджиана напряглась и чуть не отпрянула. Конечно, она поняла: Фортунат говорил о разочаровании в Геркулесе — в ее сыне, обладавшем грубой и жесткой натурой, так непохожей на мягкость Патрика. Но сейчас не время было возражать.
Фортунат снова собрался с силами. Он хотел шепнуть что-то еще. Джорджиана не могла отказаться выслушать его и наклонилась еще ниже.
— Мне хотелось бы, — прошептал Фортунат так, что никто другой не мог его услышать, — чтобы я мог быть Джорджем.
И в последнем усилии сумел поцеловать ей руку.
Джорджиану охватило такое чувство облегчения, что она едва не рассмеялась. И с огромной нежностью снова наклонилась и поцеловала старика в щеку.
Доктор вежливо, но решительно отстранил ее. Пощупал пульс Фортуната. Джорджиана вернулась к Джорджу. Все ждали. Фортунат внезапно попытался сесть. Его глаза открылись очень широко. Потом он упал на спину, и все поняли: это конец.
— Что он тебе сказал? — спросил Джордж, когда они вышли из спальни.
— Вообще-то, ничего, — ответила она.
— Он очень тебя любил.
— Да.
А потом, когда они уже поднимались по лестнице наверх, Джорджиана внезапно разрыдалась.
Через несколько дней было оглашено завещание Фортуната. Основная часть наследства переходила к Джорджу, однако имелись некоторые пояснения: хотя Фортунату хотелось бы, чтобы старое поместье в Фингале оставалось во владении старшего в роде, его сын все же может, если у него нет нужды в деньгах, распределить доходы между членами их большого рода. Это Джордж и сделал сразу же, с полного согласия Джорджианы. Еще завещание содержало ряд распоряжений о личных дарах разным людям, включая некое кольцо для Джорджианы и несколько ценных гравюр для Геркулеса.
Но было в завещании и еще одно распоряжение: примерно пятая часть собственности должна без каких-либо условий отойти его племяннику Патрику. Никто этого не знал и не предвидел, и уж в последнюю очередь сам Патрик. Но поскольку все прекрасно знали о любви Фортуната к юноше и о том, что собственный отец Патрика почти ничего ему не оставил, никому и в голову не пришло на такое жаловаться.
Никому, кроме Геркулеса.
Джорджиана прежде видела своего сына раздраженным, холодным, самодовольным, даже грубым, но никогда не видела его таким злобным и была рада тому, что он пришел в отцовский дом, когда она была одна. Он был вне себя от ярости.
— Да как он посмел оставить столько всего Патрику?! — кричал Геркулес. — Все должно было достаться мне!
— Но нам это совсем не нужно, Геркулес, — мягко сказала Джорджиана. — Поместье все равно будет твоим, и то состояние, которое ты унаследуешь, огромно.
— Ты что, не понимаешь главного?! — продолжал кричать Геркулес. — Это собственность Уолшей! Наша!
— Фортунат распорядился тем, что принадлежало ему лично. И твой кузен Патрик тоже Уолш, между прочим.
— Из проклятой католической ветви, чтоб им сгнить в аду! — ревел Геркулес. — Если чертов папист возьмет это, так он просто вор!
Это было уже слишком.
— Ты завидуешь, Геркулес, потому что твой дед любил Патрика. Тебе бы лучше постараться скрыть это.
Но к огромному изумлению Джорджианы, Геркулес вдруг уставился на нее пугающим ледяным взглядом.
— Ты не понимаешь, мать, — холодно произнес он. — Мне наплевать, что мой дед обо мне думал, и всегда было плевать, с самого детства. Что до Патрика, так я просто презираю его. Но любой, кто забирает у меня какую-то собственность, — продолжил он таким тоном, какого Джорджиана никогда не слышала, — становится моим врагом. А я уничтожаю своих врагов. А дед… Ну, я вообще не желаю больше слышать его имя.
— Он оставил тебе несколько гравюр. Надеюсь, ты хотя бы их сохранишь, — с неприязнью сказала Джорджиана.
Геркулес глянул на нее как на пустое место:
— Я их продал сегодня утром. За пятьдесят гиней. — И ушел, громко хлопнув дверью.
Джорджиане очень трудно было по-прежнему любить сына после такого заявления, хотя она, будучи его матерью, очень старалась.
Если Джорджиана осуждала поведение своего сына, то в последующие месяцы она стала задумываться и о том, можно ли оправдать некоторые из его политических взглядов.
Напряжение в Ирландии постепенно нарастало. Несмотря на успех патриотов в деле отношения к католикам, ничего больше не изменилось. Ограничения ирландской торговли продолжали действовать. И пока Граттан продолжал свои горячие атаки на парламент, его друг Нэппер Тэнди был занят организацией дублинских торговцев: подражая американским повстанцам, они угрожали прекратить покупку английских товаров.
— Сволочная толпа! — так называл их Геркулес.
Но у него были и серьезные возражения.
— Одно дело, когда Граттан нападает на нас в парламенте, — заявлял он, — но их с Тэнди, похоже, не интересует, какими средствами они пользуются. И дело закончится тем, что народ взбунтуется и выйдет на улицы.
Другим поводом для тревоги была защита Ирландии.
— Франция теперь воюет с Британией, а наши лучшие военные части отправлены в Америку, — говорил Джордж. — И если Франция вздумает вторгнуться к нам, мы окажемся практически беззащитными.
Парламент проголосовал за организацию милиции, но это не произвело на Джорджа впечатления.
— Это всего лишь пустой жест, денег-то нет, чтобы платить этой милиции.
Поговаривали также о созыве добровольцев. И в Ульстере это уже началось.
Однажды субботним утром Джорджиана выглянула в окно своей спальни и увидела их — отряд примерно из сотни человек, одетых кто во что горазд. Они маршировали по Меррион-сквер; у одних были мушкеты, у других — только копья. Возглавлял отряд какой-то офицер, и за ним гордо несли знамя святого Георга. Держал знамя молодой человек, в котором Джорджиана узнала одного из Дойлов. Шагали мужчины более или менее в ногу и выглядели весьма довольными собой.
Минут через десять после этого пришел Геркулес.
— Видела добровольцев? — спросил он. — Они прошли мимо моего дома, так что, думаю, направились в эту сторону.
К удивлению Джорджианы, Геркулес, несмотря на его чувства к Фортунату, недавно переехал в дом деда. Правда, он уничтожил все следы пребывания старого джентльмена, перекрасил и отремонтировал все до последнего дюйма.
— Мне удобнее жить на Сент-Стивенс-Грин, — пояснил он, — и Китти здесь нравится.
— Они выглядели прекрасно, — отозвалась Джорджиана о добровольцах.
— Прекрасно? Они выглядели как сплошная неприятность! — возразил Геркулес.
— Но все они добрые протестанты, готовые защищать свою страну.
Добровольцы стали уже собираться по всему острову. И горожане-протестанты, и деревенские сквайры — всех сплотила единая цель. И какими бы ни были взгляды любого протестанта в других отношениях, ни один из них не желал французского вторжения.
— А ты заметила, кто нес знамя этого отрядика? Один из Дойлов, а их же водой не разольешь с Тэнди! Разве ты не видишь?! — нетерпеливо воскликнул Геркулес. — Это проклятые патриоты Граттана, только теперь они вооружились!
Так ли это было? Джорджиана и Джордж как раз в тот день ужинали в Ленстер-Хаусе. Когда они перед началом ужина разговаривали с герцогом, Джорджиана спросила, что он думает об этом.
— Боюсь, ваш сын может оказаться прав, — ответил тот. — Я лично сомневаюсь, будет ли от добровольцев много пользы, явись сюда хорошо обученные французские солдаты. Но мы ничего не можем сделать, чтобы помешать создавать такие отряды. Полагаю, нам следует говорить, что мы заодно с ними, и надеяться, что сможем как-то ими управлять. — Он посмотрел на Джорджа. — Могу я рассчитывать на вашу поддержку, Маунтуолш? — Благородное лицо аристократа сморщилось в усмешке. — В конце концов, если не можешь их разбить, присоединяйся к ним.
Пару месяцев спустя Геркулес и Китти обзавелись первым ребенком. Это был мальчик. Джорджиана явилась посмотреть на младенца и поздравить родителей. Роды прошли благополучно.
— Мы назовем его Уильямом, Вильгельмом, — решительно заявил Геркулес. — В честь Вильгельма Оранского.
И только дома Джорджиана позволила себе рассмеяться.
— Я чуть не захихикала прямо там, — сказала она мужу, — но, слава небесам, сдержалась. Ты должен увидеть этого малыша. — (Похоже, семейные гены в своем бесконечном менуэте решили проявить чувство юмора.) — Он как две капли воды похож на Патрика!
Радостные семейные события не смогли отвлечь Джорджиану от того, что жизнь в Дублине становилась все более беспокойной. Нэппер Тэнди и его торговцы начали осуществлять свои угрозы, и английские товары не принимали в портах.
— Английские торговцы тканями уже почувствовали укус, — весело говорил Джорджиане Дойл.
Многие газеты поддерживали эту акцию. С каждой неделей добровольцев становилось все больше. Теперь у многих были настоящие мундиры и знаки различия, и они упорно и целенаправленно учились воинскому делу. Возможно, теоретически они и собирались сражаться с французами, но не оставалось никаких сомнений в том, что большинство из них — люди Тэнди.
Летом Геркулес ненадолго ездил в Лондон и вернулся мрачным. Он встречался там со многими политиками, включая и лорда Норта, премьер-министра.
— Никогда не видел человека, который так жалко выглядел бы на своем месте, — сообщил Геркулес. — Он страстно желает уйти в отставку и не уходит только по просьбе короля. Американские события его просто раздавили. Половина членов парламента как будто готовы уступить колонистам, но король твердо стоит на своем. А от событий в Ирландии премьер просто в отчаянии. Он даже признался мне наедине, что гадает сейчас, нельзя ли вообще распустить наш парламент и управлять островом напрямую из Вестминстера. Не могу сказать, что виню его за это. — Геркулес пожал плечами. — В Лондоне вообще сплошные бесхребетники.
Немного времени спустя Геркулес снова зашел к родителям, на этот раз в бешенстве. В руках он держал какую-то газету.
— Вы это видели?! — закричал он.
В газете был напечатан некий памфлет. Его автор советовал Ирландии последовать примеру Америки и полностью отделиться от Британии.
— Он даже имеет наглость называть это естественной справедливостью! А вы знаете, кто это сочинил? Не кто иной, как этот патриот, член парламента, Чарльз Шеридан! — Он холодно посмотрел на родителей. — Моя семья продолжает относиться к этим Шериданам как к друзьям! — прорычал он. — Но я должен вам заявить, что это плохие люди!
Но для Джорджианы события, заставившие ее допустить правоту Геркулеса, случились осенью.
Как только началась новая сессия парламента, патриоты снова подняли шум. Граттан требовал, чтобы Ирландии раз и навсегда дали право свободной торговли, и желал покончить с английским правлением. Тем временем добровольцы устроили несколько небольших парадов, во время которых патриоты держали речи. Но по улицам полз слух, что это всего лишь вступление.
— Дождитесь дня рождения короля Вилли! — говорили люди.
Из всех праздников протестантского календаря не было более популярного среди дублинских торговцев, чем день рождения Вильгельма Оранского. Каждый ноябрь они отмечали его торжественными обедами и преданными речами. И потому, когда стало известно, что добровольцы решили устроить парад перед статуей короля Вилли на Колледж-Грин, площади у Тринити-колледжа, стало ясно: это будет нечто особенное.
Так уж получилось, что Джордж уехал по делам в имение в Уэксфорде, и потому Джорджиана, желая увидеть парад, попросила Геркулеса пойти с ней.
— Ты не должна и близко к ним подходить! — заявил Геркулес. — Сиди дома! Прежде всего я не доверяю этим добровольцам. И даже если они будут держаться прилично, я не хочу, чтобы тебя там видели.
— Я совершенно спокойно могу посмотреть на них, и никто ничего не подумает, если я пойду с тобой, — возразила Джорджиана.
— Уж точно не пойдешь. Я запрещаю тебе туда идти!
Возможно, если бы Геркулес не сказал этого, Джорджиана и осталась бы дома. Он, видимо, желал защитить ее, но Джорджиана не собиралась терпеть приказы от сына. Поэтому она, ничего ему не сказав, собралась пойти на парад. Но все же было бы слишком глупо для леди отправляться в одиночку в такую огромную толпу, и она задумалась, кто бы мог ее проводить. И вдруг сообразила, что знает идеально подходившего человека.
Она уже сгорала от нетерпения, когда пришел Дойл. Торговец пребывал в добродушном настроении.
— Замечательный день! — заявил он. — И я даже договорился о кое-каких встречах там.
Они прошли по Меррион-сквер, мимо огромного фасада Ленстер-Хауса, повернули налево и дальше уже направились на запад вдоль серой стены, окружавшей территорию Тринити-колледжа справа от них. Улицу заполонил народ, все шли в ту же сторону, и вскоре началась такая давка, что Джорджиана порадовалась обществу Дойла. Когда они миновали Килдэр-стрит и вышли к главным зданиям колледжа, Джорджиана уже старалась держаться как можно ближе к торговцу, а он уверенно пробирался сквозь толпу.
Наконец они очутились перед колледжем, и Джорджиане показалось, что парад увидеть ей не удастся, поскольку вокруг площади стояло оцепление, а толпа стала уже такой плотной, что Джорджиана видела лишь верхнюю часть огромного здания парламента, нависавшего над головами. Однако Дойл неожиданно повернул к какой-то двери.
— Тут у меня есть один друг, — пояснил он с усмешкой.
И через несколько мгновений они поднимались по лестнице узкого дома с магазинчиком внизу, на этаж, где располагались спальни. На верхней площадке их тепло приветствовали известный портной и его семья и тут же пригласили в простую комнату, где был накрыт стол с закусками и сладостями. Джорджиане предложили горячего шоколада и подвели к одному из окон, из которых вся семья портного и их слуги собирались наблюдать за происходящим.
А зрелище было примечательным. Все широкое пространство Колледж-Грин было расчищено. И хотя толпа вокруг сдержанно гудела, сама площадь словно затаила дыхание, ожидая момента, чтобы отразить эхо восторженных голосов. В центре на высоком гранитном пьедестале сидел на коне каменный король Вильгельм, похожий на римского генерала, готового повести войска к победе. За ним бесстрастно смотрел на все классический фасад Тринити-колледжа, явно не сомневавшегося в том, что он все знает о подобных событиях, а вот новенькое здание парламента, дерзкое, как Колизей, явно надеялось увидеть нечто забавное. В частных домах каждое прямоугольное окно как будто превратилось в театральную ложу для леди и джентльменов, а некоторые из слуг пробрались на крыши.
Через какое-то время грохот барабанов и звуки дудок сообщили о приближении добровольцев.
Они действительно устроили отличное представление. Сначала двигалась кавалерия. Всадников было более сотни. Красные мундиры, обнаженные мечи, сверкающие шлемы с плюмажами; и в седле они держались отлично. Когда конница появилась на площади, толпа взорвалась радостными криками. Потом пошла пехота: шляпы-треуголки, синие или зеленые мундиры с белыми перевязями, белые лосины. Рядовые несли мушкеты; офицеры, с перевязями через плечо, шагали, обнажив мечи. У каждого отряда были своя эмблема и цвета; маршировали они безупречно, а барабаны отбивали резкий ритм, пока отряды выстраивались на площади по трем сторонам от статуи. Но куда сильнее поразило Джорджиану то, что следом за пехотой выехал артиллерийский обоз с полудюжиной полевых пушек. Она и не подозревала, что у волонтеров есть пушки. И каковы бы ни были их намерения, они были готовы к делу.
— Там три моих сына, — услышала она довольный голос Дойла.
К восторгу толпы, отряды с безупречной точностью продемонстрировали несколько простых строевых упражнений, потом офицеры и знаменосцы выдвинулись вперед, чтобы отсалютовать статуе короля Вильгельма и почтительно склонить перед ним знамена. А затем, по приказу, с трех сторон площади прозвучали залпы; солдаты стреляли в воздух так, что почти исчезли в дыму, а по площади Колледж-Грин снова и снова прокатывалось эхо.
Но вот дым рассеялся. Волонтеры застыли неподвижно, сами напоминая статуи. И тут произошло нечто невероятное.
Первый стяг с надписью появился в центре дальнего ряда, прямо за статуей. Он был натянут на два шеста, и на его зеленом полотнище было аккуратно написано на латыни, римскими буквами:
PARATI PRO PATRIA MORI
Готовы умереть за нашу страну. Отлично! Благородное заявление. Толпа зааплодировала. Но тут слева развернули еще одно полотнище — белая ткань, красные буквы, так же аккуратно написанные, как на первом, но на этот раз по-английски:
СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Толпа взревела. Джорджиана задохнулась от изумления и посмотрела на Дойла. Тот одобрительно кивал. А справа уже поднялся третий стяг. Красная ткань, белые буквы, немного шире, чем на двух первых.
СВОБОДА ТОРГОВЛИ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ
Джорджиана просто не верила своим глазам. Толпа взревела еще громче прежнего. Революция? В добром протестантском Дублине? Да о чем только они думают? Джорджиана уставилась на офицеров. Неужели они собираются допустить подобное? Но они явно не только допускали, но и одобряли. Потому что отдали приказ о новом залпе, а три стяга поднялись при этом еще выше.
Снова прозвучали команды. Отряды развернулись. Возглавляемые кавалерией, они сделали полный круг по площади, знамена и стяги раскачивались над их головами. Когда они проходили перед парламентом, Джорджиана увидела, как из него вышли люди, в том числе и ее сын, и наблюдали за происходившим. Конечно, они не могли не заметить яркие надписи. А за пехотой с угрожающим грохотом прокатились по мостовой пушки.
Волонтеры уходили по Дейм-стрит в сторону Дублинского замка, а толпа продолжала аплодировать. Все выглядели радостными, никакого беспорядка не было. Но Джорджиана все еще пыталась понять: что все это означает? Неужели она сейчас видела первый шаг к революции?
Благодаря любезности хозяев они с Дойлом после ухода отрядов задержались еще на какое-то время, чтобы поговорить. Джорджиана прислушивалась к беседе, и ей уже было ясно: этот портной и Дойл считают само собой разумеющимся, что все их знакомые — патриоты. А лозунги с угрозой революции они, похоже, не приняли всерьез.
— Думаю, это разбудит правительство, — заметил портной.
Наконец Джорджиана с Дойлом покинули гостеприимный дом, на Колледж-Грин было относительно тихо. Парад завершился, и добровольцы расходились небольшими группами. Джорджиана и Дойл выходили с территории колледжа, когда Дойл заметил на Дейм-стрит одного из своих сыновей. Это был младший из них, мужчина около тридцати, и в мундире сержанта он выглядел очень эффектно. С ним рядом шагали двое добровольцев, хотя мундиры на них немного отличались. Дойл помахал сыну, подзывая к себе.
Вежливо поклонившись Джорджиане, сержант Дойл любезно поинтересовался, понравился ли ей парад, на что она ответила уклончиво, и сообщил отцу, что они с братьями собираются скоро зайти к родителям.
— Я приведу с собой и вот этих хороших парней из Ульстера, — заявил он. — Они приехали из Белфаста, чтобы посмотреть на нас. Я надеюсь, мы произведем на них впечатление.
Те двое, о которых шла речь, выглядели спокойными мужчинами приятной внешности, примерно того же возраста, что и молодой Дойл.
— Мы уже под впечатлением, — с улыбкой сказал тот из них, что был выше ростом.
— Под большим впечатлением, — подтвердил второй с таким же северным акцентом. — Отличная выучка.
— А как насчет лозунгов? — не удержалась Джорджиана. — Свобода торговли или революция? Вы что, собираетесь сражаться с британцами, как американцы?
Мужчины из Ульстера переглянулись.
— Наши предки создали Ковенант, — ответил высокий. — Когда на кону принципы, может оказаться необходимым и оружие.
— Но только если этого нельзя избежать, — вставил второй.
— Да. Только если этого нельзя избежать.
Высокий открыто улыбнулся Джорджиане. Его голубые глаза смотрели добродушно и открыто. Похоже, она где-то видела его раньше?
— Но я не знаю, кто вы такие, — заметил Дойл.
— Эндрю Лоу, — представился высокий. — А это мой брат Алекс.
— Рад нашему знакомству, джентльмены. А это леди Маунтуолш.
То, как вдруг изменилось выражение лиц мужчин, ошеломляло. Они переглянулись и замолчали. Оба как будто превратились в ледяные глыбы.
Джорджиана смотрела на них во все глаза. Так вот почему высокий показался ей смутно знакомым. И в самом деле, всматриваясь в их лица, она теперь видела и другое сходство, не бросавшееся в глаза, но достаточно очевидное, с ее дорогим отцом.
— Так вы сыновья Дэниела Лоу?
Эндрю Лоу слегка наклонил голову, просто признавая факт, но не произнес ни слова.
Конечно, Джорджиана все понимала. Почему-то — она и сама не знала, почему именно, — ей невероятно хотелось поговорить с ними, узнать их получше.
— Мне очень жаль, что наши семьи не близки, — тихо сказала она, изо всех сил стараясь произнести это тоном дружеским, но все же полным достоинства.
Но если она и предложила мир, то предложение принято не было. Мужчины продолжали молчать, словно мысленно молились о том, чтобы Господь избавил их от ее общества. Взгляды Эндрю и Алекса Лоу оставались мрачными, но в них не было ненависти. Братья получили хорошее воспитание. Однако весь их вид говорил, что они, члены пресвитерианской общины, смотрят на нее как на существо, к которому нельзя прикасаться: как на женщину, изменившую мужу, или, что еще хуже, как на падшую женщину. К Джорджиане никто прежде так не относился. И это привело ее в замешательство.
— Ну, — произнес молодой Дойл, — полагаю, нам пора идти.
И оба Лоу, вежливо поклонившись его отцу, отправились восвояси.
По дороге к Меррион-сквер Дойл не стал упоминать об инциденте, и Джорджиана была предоставлена своим мыслям. Она чувствовала себя смущенной и расстроенной, как будто весь ее мир вдруг перевернулся вверх ногами. И когда они с Дойлом дошли до просторной Меррион-сквер, которая всегда нравилась Джорджиане, на сердце у женщины было тяжело. То ли из-за парада, то ли из-за того, что ее отвергли родственники, — она не могла разобраться, — но ее вдруг охватило ощущение опустошения и потери.
И Джорджиана никак не могла избавиться от депрессии. События того дня словно стали толчком к процессу, подрывающему ее силы, и в следующие недели чувство тоски продолжало одолевать Джорджиану подобно коварным подводным растениям, обвивающим пловца и тянущим его ко дну.
Через месяц после парада лорд Норт и его правительство решили, что разумнее дать ирландцам то, чего они хотят, и ограничения с ирландской торговли были сняты. Граттан и патриоты ликовали.
— Это должно их успокоить, да и добровольцев тоже, — заметил муж Джорджианы.
В начале весны сняли ограничения в правах для пресвитерианцев. Джорджиана надеялась, что Лоу в Ульстере будут этим довольны. И действительно, первые месяцы 1780 года прошли без особых событий. Похоже, суждение Джорджа было верным. И по мере того как становилось теплее, Джорджиана полагала, что вот-вот начнет чувствовать себя лучше. Но этого не случилось, и в середине апреля Джордж предложил:
— Почему бы не поехать в Уэксфорд? Может быть, перемена места тебя порадует?
Какая жалость, думала Джорджиана, что они проводили так мало времени в своем большом доме в паладианском стиле — всего один-два месяца каждое лето. Гораздо чаще они отправлялись в куда более скромный фамильный дом в Фингале. Возможно, это лишь говорило о мягком характере ее мужа. Сделав все необходимое для возвышения семьи в глазах света, он остался человеком скромным, все тем же добродушным деревенским джентльменом, каким и был всегда, а не важным лордом. Что до Джорджианы, то она была счастлива вести именно такую жизнь.
Но если некоторые из новых ирландских особняков были построены на манер английских и вокруг них разбили огромные ландшафтные парки, то Маунт-Уолш вовсе не производил впечатления блестящего загородного поместья. Перед роскошным большим домом были лишь простые лужайки, защищенные невысокими изгородями от оленей. Но за лужайками по обе стороны от дома лес и рощи создавали простой и строгий фон. Пейзажи в Уэксфорде были чудесными, и их открытые поля и скромные холмы, типичные для этой местности, казались почти родными английским фермерам-йоменам, поселившимся здесь.
Уже началось лето. Каждое утро Джорджиана просыпалась под торжественные звуки утреннего птичьего хора и выходила прогуляться в поле, над которым кружили вороны, или отправлялась на ферму и наблюдала за доярками. Она начинала испытывать пусть не подъем духа, но хотя бы покой.
Она мысленно благодарила мужа. Он не мог быть с ней постоянно, но старался проводить с женой как можно больше времени. И держался безупречно. Всегда чувствовал, когда Джорджиане хочется побыть одной. Он занимался каким-нибудь делом, однако всегда был где-то рядом, и это успокаивало Джорджиану. Джордж, с его широким лицом и добродушными манерами, не страдал особыми амбициями, но уж никак не был глуп, и Джорджиана уважала его. Когда они прогуливались по деревенским тропам, он поддерживал ее за талию сильной рукой, и Джорджиана чувствовала себя уютно и радовалась тому, что у нее такой милый и понимающий супруг.
Однако в его отсутствие она ощущала себя одинокой. Несколько слуг в доме были привезены из Дублина. Для людей же, работавших в имении, и для фермеров-арендаторов они с Джорджем оставались чужаками. Да, работники держались достаточно дружелюбно и вежливо, хотя и настороженно, потому что прекрасно знали, чьи деньги уплачены за поместье. С некоторыми из них Джорджиана более или менее сблизилась и очень обрадовалась, обнаружив в доме кое-кого, кто, похоже, был еще более одинок, чем она сама.
Эту девушку звали Бригид. Ей было всего шестнадцать, тоненькое, бледное темноволосое существо. Как и многих деревенских девушек, ее отправили служанкой к местному фермеру поблизости от дома, примерно в тридцати милях выше по побережью. Для девушки из большой семьи это наилучший выход — зарабатывать себе на жизнь и учиться быть хорошей домохозяйкой, пока, по Божьей воле, она не найдет себе мужа. Но тот фермер не слишком хорошо с ней обращался, и она провела в его доме всего год, а потом местный священник, услышав от друзей о новой вакансии, побеседовал с ее родителями и договорился о встрече девушки и ее матери с экономкой Маунт-Уолша, и та ее наняла. Работа в таком замечательном месте означала некие новые возможности, и мать девушки, получив заверения, что здесь дочери будет хорошо, оставила ее там.
Однако Бригид не чувствовала себя счастливой. Не потому, что с ней дурно обращались, ничего подобного. Просто Маунт-Уолш находился слишком далеко от ее дома, и повидаться с семьей она вряд ли теперь могла больше двух раз в год.
— Она бледненькая как привидение и тощая как кочерга, — сказала экономка Джорджиане, — но я не могу заставить ее съесть больше нескольких крошек.
Поэтому Джорджиана взяла девушку под свое крыло, сделав своей временной горничной, учила причесывать и укладывать ей волосы и даже смогла разговорить Бригид. Джорджиана узнала, что отец Бригид был ремесленником и что девушка умеет читать и писать. Чувствуя хорошее к себе отношение, она вроде бы стала немного бодрее и даже прибавила в весе пару унций. Но непредвиденным следствием этой заботы для самой Джорджианы стало то, что она и сама немного ожила.
К июлю, когда приехали Геркулес и Китти вместе с маленьким Уильямом, Джорджиана действительно чувствовала себя лучше. И была рада приезду гостей. И если иногда в отсутствие родителей Геркулес проверял, как идут дела в имении, и вел себя так, будто имение принадлежит ему, и если даже время от времени он заявлял, что куда лучше мог бы использовать это место в политических целях, Джорджиана знала: он не хочет обидеть ее. Просто такова уж была его натура. И если он предупреждал мать, что некоторые местные сквайры и фермеры, которые ей нравились, на самом деле проклятые патриоты и что у него есть тому доказательства, Джорджиана не обращала на это внимания.
По большей части Геркулес держался вполне мило. А Китти буквально расцвела. Возможно, она и не умела говорить на умные темы, но в деревне чувствовала себя как дома. Она прекрасно знала, что и как следует делать, и все вокруг, от рабочих на земле до судомоек на кухне, вскоре обращались к ней с дружеским уважением, словно знали ее всю жизнь. Она, пожалуй, смогла бы управлять тут всем лучше, чем я, с некоторой завистью думала Джорджиана. И, видя, как Китти прогуливается рука об руку с Геркулесом, откровенно счастливая, Джорджиана была вынуждена признать, что Геркулес очень правильно выбрал жену.
Но самую большую радость доставлял малыш Уильям.
Это был чудеснейший мальчик. А поскольку Джорджиана была его бабушкой, никто, похоже, не имел ничего против того, что она проводила с ним много времени. И если у Геркулеса и Китти были другие дела, они с радостью оставляли малыша с ней, и она играла с Уильямом долгие часы. Иногда Джорджиана призывала на помощь Бригид, и девушка отлично управлялась с ребенком. Уильям был веселым малышом. И он все так же был похож на Патрика, хотя Джорджиана об этом помалкивала.
Как-то раз повариха, работавшая в доме у Фортуната много лет, вполне невинно заметила, обращаясь к Геркулесу:
— Ну разве этот малыш не похож на мастера Патрика, когда тот был таким же маленьким?
— Ничего подобного! — холодно откликнулся Геркулес.
— Ох, вы тогда были слишком молоды, чтобы помнить, — благодушно сказала повариха.
— Да не похож он на него ничуть! — взорвался Геркулес и одарил повариху таким бешеным взглядом, что та больше никогда не возвращалась к этой теме.
А Джорджиана подумала: очень хорошо, что Геркулес не хозяин в этом доме, или бедной женщине пришлось бы уже собирать вещички.
У Джорджианы занятия с Уильямом создавали ощущение, что она снова обзавелась собственным ребенком. Присутствие в доме малыша и радостная перспектива долгих лет, когда он будет расти и меняться, весьма помогли ей поправиться. К концу лета Джордж сказал ей с улыбкой:
— Ну, теперь ты гораздо больше похожа на саму себя.
Той осенью она вместе с мужем вернулась в Дублин к началу парламентской сессии. Ничего особенного в течение тех месяцев не произошло. Приходили вести о том, что красные мундиры отлично расправились с американскими повстанцами на юге, но недавно назначенный генерал Корнуоллис разбил армию южан под командованием генерала Гейтса.
— Рабы бегут, чтобы присоединиться к нам, потому что мы обещали им свободу, — сообщал Джордж.
Нельзя сказать, чтобы такие новости огорчали Граттана и его патриотов. Добившись победы во время предыдущей сессии, он теперь добивался независимости ирландского парламента, но его мало кто поддержал. Потом стало известно, что молодой Ричард Шеридан выдвинул свою кандидатуру на выборах в лондонский парламент. К Рождеству они получили от него письмо, в котором говорилось, что Шеридан уже сблизился с некоторыми лидерами партии вигов. «Они полны решимости сделать что-нибудь для патриотов в Ирландии, — писал он, — если, конечно, нам удастся сдвинуть с места лорда Норта, а он стоит на своем, как Скала вечности».
В конце весны Китти подарила Геркулесу еще одного сына. Его назвали Августом. А Джорджиане было приятно думать, что он, скорее всего, был зачат в доме в Уэксфорде.
И именно в Уэксфорд она вернулась в мае, причем с радостью.
Джордж попросил Патрика сопровождать Джорджиану, поскольку у него самого были дела и он не мог уехать из Дублина еще несколько недель. Геркулес и Китти решили побыть с новорожденным ближе к Дублину, в доме в Фингале. Но Патрик, несколько месяцев подряд работавший без передышки, заявил, что будет весьма рад провести какое-то время в Уэксфорде вместе с Джорджианой.
Он оказался воистину чудесным спутником в дороге. Он как будто интуитивно знал, когда следует рассказать какую-нибудь веселую историю, а когда лучше помолчать. Иной раз он скакал рядом с каретой Джорджианы, иногда садился в карету, и они спокойно проехали днем через Уиклоу, а на ночь остановились в Арклоу, прежде чем поутру отправиться дальше и спокойно добраться к вечеру до Маунт-Уолша. Патрик сразу отправился поприветствовать повариху и прочих слуг, которых помнил с детства. На следующее утро Джорджиана позвала его объехать имение, и он так весело и добродушно разговаривал со всеми, с кем они встречались, с одними по-английски, с другими по-ирландски, что к концу дня определенно завоевал всех.
Патрик также навестил отца Финниана, местного священника, чтобы сообщить, не смущая протестантов в большом доме, что будет приходить на мессу, пока находится здесь. А два дня спустя, к немалому его восторгу, Патрик обнаружил, что один местный джентльмен, католик по фамилии Келли, имевший небольшое поместье всего в трех милях от Уэксфорда, был его добрым знакомым по Дублину.
И еще одно открытие сделал Патрик. Упомянутый джентльмен имел незамужнюю сестру на несколько лет моложе Патрика. Несколько дней спустя они приехали с визитом в Маунт-Уолш. Джейн Келли оказалась обаятельной, умной и хорошенькой.
— Я бы предположила, — сказала Джорджиана, когда гости уехали, — что тебе следует подумать о скорой женитьбе.
И действительно, почему бы и нет? С тем скромным наследством, полученным от Фортуната, и теми доходами, которые он уже имел от виноторговли, Патрик Уолш вполне мог присматривать жену. Он был джентльменом; его отца все любили. И Джорджиана решила: пока они с Джорджем живы, у Патрика всегда будет поддержка семьи.
— Ты просто сваха, — с ласковой усмешкой произнес Патрик.
Но два дня спустя он утром отправился в гости к своему другу, а вернулся лишь после ужина.
Все пошло обычным образом, и это была приятная рутина. Раз в неделю помощник Патрика присылал к нему человека с докладом о делах в Дублине. Патрик час-другой изучал доклад и писал ответ. И больше ничем не занимался.
Иногда они отправлялись в гости к кому-нибудь или сами принимали гостей. И не реже раза в неделю, заметила Джорджиана, Патрик ездил к Келли. В хорошую погоду они с Джорджианой гуляли, вместе обедали, читали днем. Еще Патрик занялся библиотекой. Джордж попросил его составить каталог книг и список желаемых покупок. Патрик взялся за дело основательно.
— Тут великолепное собрание из дома дяди Фортуната, — сообщил он Джорджиане. — И еще отличная коллекция всякой прекрасно переплетенной ерунды.
Джорджиана сказала, что все это прислал книготорговец.
— Он был чертовски уверен: никто никогда не откроет их, — засмеялся Патрик. — Ну, я все равно составлю список.
Единственная проблема, как сказал Патрик, заключается в том, что список придется кому-нибудь переписать набело.
— У меня самого ужасный почерк, и мне просто стыдно. Я спрошу отца Финниана, не знает ли он кого-нибудь подходящего, — предложил он.
Патрик весьма удивился, когда на следующий день Джорджиана привела в библиотеку Бригид и попросила проверить, не сможет ли она переписать каталог как следует. И Патрик был буквально ошеломлен, когда Бригид не просто продемонстрировала великолепный почерк, но и, похоже, не испытывала затруднений, переписывая названия на французском или латыни.
— Она даже мой почерк понимает! — хохотал Патрик. — А уж это, скажу тебе, величайшее из достижений! Твой отец посылал тебя в школу за изгородью, да? — спросил он девушку, и та кивнула.
И после этого Бригид каждый день час или два проводила в большой библиотеке и работала над заметками, которые давал ей Патрик.
А Джорджиана, в свою очередь, с радостью видела, как ее протеже продолжает понемножку поправляться, и была довольна своей хитростью, благодаря которой девушка становилась более уверенной в себе.
В середине июня приехал Джордж. Он по достоинству оценил усилия Патрика по приведению библиотеки в порядок, тепло поблагодарил его. А еще он уговаривал Патрика остаться на какое-то время, но Патрик заявил, что должен на следующий день ехать в Дублин. И днем отправился повидать Келли.
Но к вечеру он вернулся, чтобы поужинать с Джорджем и Джорджианой. Они сидели втроем не в большой официальной столовой, а в маленькой. Разговор сначала шел обо всякой всячине, но вскоре повернул на политику, и Джордж рассказал всем последние новости.
— Граттан и его патриоты полны решимости и на следующей сессии продвигать свои требования. За последний месяц я со многими из них разговаривал. Они хотят, чтобы независимый ирландский парламент все же оставался под властью короля, и не требуют полностью разрывать связи, как американцы, но английский парламент более не должен никак вмешиваться в наши дела.
— Но им этого не добиться, — возразила Джорджиана.
— Нет, конечно. Им не хватает голосов в дублинском парламенте. А в Вестминстере лорд Норт не желает идти на уступки. Если даже наш молодой друг, драматург Шеридан, и партия вигов постараются изо всех сил, все равно в настоящее время шансов никаких.
— А добровольцы? — спросил Патрик.
— Да они ведь уже получили для себя свободу торговли. И большинство из них совсем не хочет никаких революций. — Джордж немного помолчал. — Разве что те, кто в Ульстере. Там другие настроения. Ульстерские протестанты весьма не любят Англию, среди них много шотландцев, а те в душе сторонники Ковенанта. Полагаю, вот они были бы рады пойти по американскому пути.
Джорджиана подумала о своих родственниках Лоу.
— Для них, — заметила она, — все это дело принципа.
— Наверное, — кивнул Джордж, — но их можно остановить.
Когда дело дошло до десерта, разговор повернул на более приятную тему.
Джорджиана была в восторге от работы Патрика в библиотеке и очень довольна собой, поскольку нашла ему отличную помощницу.
— Расскажи Джорджу о Бригид, — попросила она.
И Патрик вкратце доложил о талантах девушки:
— Ее отец — ремесленник, но он знает латынь, и она тоже немного с ней знакома. Иногда в ожидании очередной порции работы я вижу, как она сидит и читает книги — и выбирает лучшие! Я много с ней разговаривал. И… — Патрик очень серьезно посмотрел на супругов, — хотя Бригид невероятно умна, она куда ярче представляет наше ирландское католическое крестьянство, чем многие протестанты.
Джордж кивнул:
— Это как раз идея моего отца — постоянно искать точки соприкосновения. — Он улыбнулся. — А теперь, Патрик, я хочу попросить тебя еще об одной услуге, и это, как мы с Джорджианой надеемся, заставит тебя чаще бывать здесь. Твоя работа в библиотеке столь великолепна, что я хочу знать: не согласишься ли ты приобрести для нас новые книги, те, что сочтешь подходящими? Другими словами, возьмись за нашу библиотеку и преврати ее в нечто выдающееся!
— Согласен, Патрик? — умоляющим тоном произнесла Джорджиана.
Патрик сжал губы. Он поневоле думал, что этот его труд на самом деле является созданием библиотеки для Геркулеса: не слишком привлекательная перспектива. Джордж как будто прочитал его мысли.
— Уверен, если возьмусь за это сам, то результат будет посредственным. А Геркулеса это и вовсе не интересует, он мало читает. Но я хочу, чтобы наше поколение оставило нечто блестящее маленькому Уильяму и тем, кто будет после него. И меня очень радует мысль — и наверняка она обрадовала бы и Фортуната, — что через сотню-другую лет члены нашей семьи будут показывать людям знаменитую библиотеку и говорить: «За нее следует благодарить нашего кузена Патрика».
Разве после такого Патрик мог отказаться?
Вернулся Патрик в конце лета, когда Джордж тоже был в Уэксфорде, и они провели две чудесные недели втроем.
Патрик привез список уже купленных книг и четыре больших, переплетенных в кожу тома, которым предстояло стать каталогом библиотеки. Целый день он провел в библиотеке с Бригид, показывая девушке, как именно все должно быть организовано, и проверяя те листы, что она заполнила. В конце он заявил, что более чем доволен ее работой, и даже взял на себя труд поговорить с ней еще с полчаса, а потом сказал Джорджиане:
— У тебя там настоящее сокровище!
Хотя было бы преувеличением сказать, что Бригид всерьез поправилась за то лето — она по-прежнему была худенькой и бледной, — Джорджиана решила, что девушка все-таки выглядит намного лучше прежнего, а добродушные похвалы Патрика, не сомневалась Джорджиана, могли только прибавить Бригид уверенности.
И действительно, когда несколько дней спустя Джорджиана заглянула в кухню, то увидела там Патрика, зашедшего к своей старой подруге-поварихе. Он рассказывал ей и другим слугам какую-то смешную историю. Они не заметили Джорджиану. Стоя в дверях, она просто молча наблюдала за всеми и с радостью видела, как на лицах отражается любовь к Патрику. История закончилась, все засмеялись, даже Бригид присоединилась к остальным, и Джорджиана вдруг поняла, что никогда не видела, чтобы эта серьезная девушка смеялась. Джорджиана тихонько ушла, поздравляя себя с тем, что благодаря ее собственным усилиям и благодаря милому Патрику Маунт-Уолш стал более счастливым местом, чем прежде.
Но что там с сестрой Келли? Патрик отправился навестить Келли на следующий день после приезда, а потом еще через несколько дней. Джорджиана пригласила Келли и его сестру провести у них день в начале следующей недели. Джордж играл свою роль верного друга и родственника Патрика и, похоже, произвел впечатление на Келли, а Джорджиана осторожно расхваливала Патрика в разговоре с девушкой. Днем они осматривали сад, который начал разбивать Джордж, и это позволило Патрику и Джейн прогуляться вдвоем. Но в конце дня, когда гости уехали, а Джорджиана, оставшись наедине с Патриком, спросила, что он на самом деле думает о той девушке, ответ прозвучал весьма неудовлетворительно:
— Она мне очень нравится.
— И насколько «очень», могу я поинтересоваться?
— По правде говоря, мне трудно определить. Меня и самого это удивляет. Но мы соглашаемся во многом.
— Она католичка.
— Да. Ее ум, манеры, ее личность в целом — это все то, чего только можно желать. И мои чувства к ней…
— Нежные?
— О да, нежные.
Похоже, эта мысль самому Патрику не слишком понравилась.
— Но ты, похоже, не влюблен.
— Похоже, нет. — Патрик помолчал. — Пока нет, думаю.
— Общие интересы, уважение и нежность — наилучшая основа для брака, Патрик. Я это отлично знаю. А любовь придет позже.
— Конечно. Наверняка.
— А ты ей нравишься?
— Думаю, да. Она показывает… — Патрик замялся. — Суть в том, что меня смущают мои собственные чувства. Я не знаю…
— Есть другая?
— Другая? О-о… Нет. — Патрик покачал головой. — Другой нет.
Джорджиана вздохнула. Ей было жаль девушку, но она промолчала.
Несколько дней спустя им всем нужно было уезжать в Дублин. Они с Джорджем ехали в большой карете, за которой следовала повозка с двумя слугами и несколькими чемоданами. Патрик скакал рядом с каретой до Уиклоу. Там они расстались, потому что Патрик хотел поехать в горы, навестить древний монастырь Глендалох.
— Я так много слышал о красоте этого места, — сказал он Джорджиане, — но, к своему стыду, до сих пор не побывал там.
И пообещал зайти к ним на Меррион-сквер на следующей неделе.
Они покатили дальше к Дублину, и Джорджиана повернулась к мужу:
— Я тут все думаю, если Патрик никак не может ничего решить насчет сестры Келли, то, может быть, найдется кое-кто и получше? — И она изложила мужу свою идею.
— Отлично, — решил Джордж.
Прошло несколько недель, прежде чем Джорджиана сумела устроить задуманную встречу, поскольку та особа была в отъезде. Парламентская сессия уже началась. Патриоты и их друзья, как и обещали, снова заговорили о независимости, но почти не продвинулись вперед. Однако прием, который Джорджиана устроила на Меррион-сквер, носил чисто светский характер, никак не политический. Компания собралась превосходная. Пришли даже Ленстеры и дочь Джорджианы Элиза с мужем, однако Геркулес, узнав, что там будет Патрик, решил не появляться. А с Элизой прибыла и некая молодая леди.
Лишь печальное событие вернуло Луизу Фицджеральд на сцену. Примерно через год после того, как Геркулес заявил, что она слишком высокого мнения о себе, чтобы стать его женой, Луиза вышла замуж за соседа-землевладельца, и у них родилась дочь. А потом ее мужа случайно убили на охоте, и какое-то время Луиза была безутешна. Однако она уже вполне оправилась для того, чтобы снова появляться в обществе. А учитывая ее вдовью долю в имении мужа и наследство от тетушки, ожидаемое в будущем, она могла считаться одним из самых аппетитных кусочков в Дублине.
— Ты очень высоко метишь, — предупредил жену Джордж.
Это было вполне понятно. Одно дело, если бы на Луизе женился Геркулес, богатый наследник лорда Маунтуолша, но если бы то же самое сделал его бедный кузен, пусть даже человек, без сомнения, достойный, это вызвало бы всеобщее изумление. И как Джорджиана ни любила Патрика, она не могла отрицать того, что именно трудность задачи и привлекла ее сильнее всего. Но Луиза была молодой вдовой с собственным мнением. Кто знает, кого она может выбрать?
— К тому же он католик, — добавил Джордж. — А она протестантка.
Да, это, безусловно, было еще одним огромным препятствием. Но не абсолютно непреодолимым. Джорджиана имела несколько друзей-аристократов, состоявших в таких вот смешанных браках. Если они договаривались относительно детей, которые обычно воспитывались как протестанты, то и все остальное можно было решить. Джорджиана даже знала мужчину, который женился дважды, имел троих детей-протестантов от первой жены и троих католиков — от второй.
Прием имел большой успех. Луиза познакомилась с Патриком, и Патрик был очарователен. Несколько дней спустя Патрик получил приглашение в Ленстер-Хаус. Вполне возможно, герцог и герцогиня, познакомившись с Патриком, решили добавить его имя к списку гостей, но Джорджиана все же думала, что за этим, скорее всего, стоит Луиза. И действительно, как рассказал ей потом Патрик, Луиза там была, сама подошла к нему и пригласила ее навестить.
— Надеюсь, ты так и поступишь, — сказала Джорджиана. — Она тебе понравилась?
— Да, — на этот раз без малейших колебаний ответил Патрик. — Она очень мне понравилась.
Еще более ободряющим выглядело то, что два дня спустя Элиза заехала к ним и сообщила Джорджиане:
— Луиза просто очарована Патриком.
— А то, что у него нет состояния?
— Это можно и не заметить.
— А его религия?
— Само по себе это не так уж важно. Хотя, уверена, ей бы не захотелось, чтобы ее дети страдали от невыгод положения католиков, вне зависимости от их рождения.
— Ну, — заметила Джорджиана, — нам придется подождать и посмотреть, что Патрик решит делать.
За две следующие недели Патрик дважды нанес визиты Луизе в ее доме. А потом заявил, что ему хочется съездить в Уэксфорд.
Он отправился в Маунт-Уолш в повозке, нагруженной книгами для библиотеки, которых он успел купить немало.
— Он весьма основательно занялся нашим делом, — одобрительно сказал Джордж.
Патрик провел в имении неделю, а поскольку работа в библиотеке вряд ли занимала все его время, Джорджиана предположила, что он может встречаться с Джейн Келли. Неужели знакомство с Луизой заставило его вернуться к девушке-католичке в Уэксфорде? Пытался ли он разобраться, куда больше склоняется его сердце? Потом Джорджиана услышала, что Патрик вернулся, но какое-то время к ней он не заезжал. Она, наверное, с нетерпением ждала бы новостей, если бы ее не отвлекло в тот момент другое событие.
— Нас разбили в Америке. Корнуоллис капитулировал.
Эту весть принес Дойл. Джордж и Геркулес уже через час одновременно явились в парламент.
Что это означало? В течение зимнего сезона в Дублине почти ни о чем другом и не говорили. Означала ли капитуляция Корнуоллиса у Йорктауна конец всей истории? Отправит правительство новые войска или все колонии теперь окончательно потеряны? Джордж ни в чем не сомневался с того самого момента, как узнал эту новость.
— Нет, продолжать у них духа не хватит. Америка потеряна.
А Геркулес погрузился в угрюмость.
— Если американские повстанцы победят, то ирландские бунтовщики тут же последуют их примеру, — решил он.
И действительно, уже говорили, что добровольцы в Ульстере собираются на торжественные митинги и требуют независимости.
Патрик так и не появился в их доме до самого января, когда сообщил, что едет по делам в Лондон.
— А заодно поговорю с некоторыми книготорговцами для тебя, — сказал он Джорджу.
Когда Джорджиана спросила его, встречался ли он с Джейн Келли или с Луизой, Патрик ответил, что виделся с обеими, но явно не желал говорить на эту тему.
— Что бы Патрик ни решил, он явно не хочет, чтобы ты об этом знала, — смеялся ее муж.
И это, учитывая, как много усилий приложила Джорджиана к обоим случаям, она сочла весьма несправедливым. А дочь Элиза только и могла ей сказать, что Патрика как будто терзают сильные сомнения. Джорджиана решила: это наверняка из-за религии.
Патрик отсутствовал несколько недель. Может быть, он просто прятался от них в Лондоне? Возможно. А тем временем волонтеры в Ульстере устроили огромное собрание в городе Данганноне.
— Они издали манифест, призывающий к независимости, и поклялись не голосовать за любого из кандидатов в парламент, кто не поддержит их, — сообщил жене Джордж. — Это снова настоящий Ковенант.
Потом, уже в конце марта, пришли новости из Лондона.
— Лорд Норт и его правительство ушли в отставку. Английский парламент уступил Америке. Король Георг угрожает отречением.
А вскоре после этого к ним явился бледный как смерть Геркулес.
— Король остается, но в Лондоне будет новое правительство. И в него войдут эти чертовы виги! И ваш проклятый дружок Ричард Шеридан получает министерскую должность! А вы знаете, что он заявил в английской палате общин? Что власть Англии над ирландским парламентом — это тирания и узурпация! Да, именно в таких словах! — Геркулес покачал головой. — Похоже, весь мир просто сошел с ума.
Сошел мир с ума или нет, но всем уже стало ясно, что близятся огромные перемены. Поскольку партия вигов теперь имела власть в Англии, а ульстерские добровольцы отправили своих представителей с манифестом по всей Ирландии, патриоты получили столь блестящие возможности, каких не бывало прежде. И к отвращению Геркулеса, хотя он ничуть и не удивился, Граттан немедленно сделал ход в дублинском парламенте, требуя независимости ирландского парламента от короны.
— У нас останется один с англичанами король, — заявляли патриоты, — но мы требуем достоинства самостоятельной нации.
В день больших дебатов Джорджиана отправилась на галерею, чтобы послушать. Граттан, так уж случилось, был нездоров, но поднялся с постели, чтобы присутствовать в парламенте. И Джорджиана подумала: никто, даже его враги, не смог бы отрицать, что он представлял собой величественную фигуру, когда, преодолев нездоровье, произнес одну из прекраснейших в его жизни речей. Те члены парламента, которые прежде голосовали заодно с Геркулесом, видя, что ветер внезапно переменился и дует теперь в другую сторону, проголосовали за патриотов. И ирландский парламент заявил о своей независимости от Англии. И было весьма маловероятно, что виги в Лондоне, всегда и прежде поддерживавшие дело патриотов, могли сделать что-то, кроме как ратифицировать решение. Граттан торжествовал. Ирландия торжествовала. Но по всей справедливости приходилось признать, что Геркулес не так уж ошибался, когда заявил:
— Это чертовых американцев следует благодарить за такое.
Патрик вернулся в Дублин через неделю после дебатов и на этот раз не стал уклоняться от визита к Джорджиане.
— Ты пропустил самое веселье, — сказала она.
— Зато я провернул одно блестящее дельце, — ответил Патрик. — И, кроме того, закупил для вашей библиотеки огромное количество книг.
— А ты решил что-нибудь насчет женщин в твоей жизни? — спросила Джорджиана.
— Да, — спокойно ответил Патрик. — Думаю, да.
Но больше ничего не добавил, а Джорджиана, как ни распирало ее любопытство, не стала настаивать на подробностях.
Еще два дня спустя Патрик посетил Луизу. Но даже Элиза не смогла узнать, что произошло между ними. В начале мая, в сопровождении двух телег, нагруженных книгами, Патрик отправился в Маунт-Уолш.
Английский парламент не голосовал по ирландскому вопросу до середины месяца, и в ожидании новостей Джордж с Джорджианой оставались в Дублине. Виги, как все и думали, дали патриотам то, чего те желали.
После этого супруги уехали в Уэксфорд.
— Уверен, когда мы туда доберемся, Патрик уже успеет составить каталог на новые книги и расставит их по местам, — с удовлетворением заметил Джордж.
— А может быть, он заодно сможет сказать, что он решил насчет Луизы и Джейн Келли, — добавила Джорджиана. — Как думаешь, к кому он склонится?
— Думаю, его соблазняют Луиза и ее состояние, но совесть тянет к девушке-католичке, — ответил Джордж.
Однако в Маунт-Уолше на вопрос, здесь ли Патрик, им сообщили о его отъезде. Это было все, что знали слуги.
— Я просто готова лопнуть от досады! — со смехом призналась Джорджиана, как только они с мужем остались наедине в спальне.
Но она заметила, что ее муж о чем-то задумался.
— Тут что-то не так. Ты разве не обратила внимания на то, что все слуги как-то неловко себя чувствуют? — Немного погодя он вышел из спальни и вернулся минут через десять. — Да, все книги в библиотеке, каталог составлен. Все в безупречном порядке. Но говорю тебе, тут что-то происходит.
— Предоставь это мне, — с улыбкой произнесла Джорджиана и отправилась вниз поговорить с поварихой.
Разговор не занял много времени. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы милая женщина завела Джорджиану в кладовку, где их никто не услышал бы, и тут же довольно несвязно выложила всю историю.
— Ох, миледи, — начала она, — тут такое, такое… Дворецкий только и ждет, когда милорд спустится вниз, чтобы доложить ему о том, что произошло.
— О том, что произошло?
— Ну, насчет мистера Патрика. И это после того, как они с мисс Келли так чудесно смотрелись вместе… Сбежать вот так!
— Он сбежал с мисс Келли?
— Ох, миледи, если бы! Если бы это не была та девочка Бригид, с которой он уехал, никто бы и слова не сказал… Он такой джентльмен, а она… Ну кто уж там она такая… И всегда была тихая и худенькая как щепка… Ну, может, теперь уже и не такая худенькая, помоги ей Бог.
— Он увез Бригид? Куда?
— Вроде бы в Дублин, чтобы она жила в его доме. Должно быть, конец света близок, ведь иначе что им обоим делать? Но они в Дублин поехали, это точно.
— И вы ничего прежде не знали?
— Ничегошеньки! Прямо у нас под носом, и никто ничего не заметил! А ведь они вдвоем часами сидели наверху, в библиотеке…
— Он поступил бесчестно! — воскликнула Джорджиана.
Хотя, вообще-то, она подумала: поступил как последний дурак.
— Должно быть, она его околдовала, — решительно заявила повариха. — Мне нужно было следить за ней получше. — Она покачала головой. — Мне бы сразу догадаться, что она настоящая проныра, да, сразу, как только я увидела ее!
— Почему это?
— Как же, разве миледи не заметила, какие у нее странные зеленые глаза?
Это было правдой. У темноволосой девушки глаза были зелеными. Но Джорджиана никогда об этом не задумывалась.
Круглоголовые
1796 год
Дейрдре смотрела из Ратконана в сторону моря. Она стояла там уже с полчаса, и от сырого весеннего ветра на ее лбу собрались капли влаги, но она не трогалась с места.
Она была уверена, что он приближается.
Откуда она это знала? Ходили слухи, конечно, шепоток, быстро добравшийся даже до высоких долин вокруг Ратконана. И этот шепоток заставлял предположить, что он уже скоро появится. Но Дейрдре знала не поэтому. Это было некое ощущение вещей, которое она не могла объяснить, интуиция, которой она привыкла доверять и которая говорила ей, как уже не раз в прошлом, что он близко.
Патрик Уолш. Она ненавидела этого человека, как самого дьявола.
И у нее были к тому причины. Прежде всего, он похитил ее дочь. Потом постыдно с ней обращался. А теперь? Дейрдре боялась чего-нибудь еще худшего. Он собирался украсть у нее еще и мужа. Он мог забрать Конала, и тогда — это интуиция тоже твердила ей — она больше не увидит его.
А для нее никого в мире не существовало, кроме Конала. Ей казалось, их жизни были связаны в вечности, словно пара скал высоко в горах, стоящих рядом с начала времен, и они будут рядом, в жизни и смерти, до самого конца. Конал был ее жизнью, когда она была еще маленькой девочкой, а когда его отослали прочь, она думала, что ее жизнь закончена. И десять лет после того она жила будто в пустыне.
За это время ее существование в Ратконане было тихим и лишенным событий.
Внизу у побережья была отличная дорога, и по ней между Дублином и Уиклоу катили почтовые кареты, по ней можно было за несколько часов добраться до столицы. Но если отправиться в горы, через крутые перевалы, в сторону Ратконана и Глендалоха, то там вы попадали в зону безвременья, в затерянный мир, где как будто ничто никогда не менялось. Ее дед продолжал учить детей в школе за изгородью и медленно, почти незаметно старел. Если он никогда не говорил о Конале, то, как полагала Дейрдре, просто чтобы не причинять ей боли. И никто в Ратконане не говорил о нем — ну, по крайней мере, при Дейрдре. Бадж ясно дал понять: он не желает, чтобы Конал возвращался домой, а поскольку отец Конала Гаррет с тех пор стал пить еще больше, то все в Ратконане полагали, что землевладелец, скорее всего, прав.
Но раз в год, каждую весну, в Гаррете Смите что-то менялось. Он прекращал пить. Его речь снова становилась ясной и четкой. Он изо всех сил старался привести себя в порядок. А потом отправлялся к дороге на Уиклоу и там садился в почтовую карету, чтобы поехать в Дублин и повидать Конала. Иногда дед Дейрдре провожал его первые несколько миль, если в ту сторону не ехала одна из телег Баджа, — тогда он мог предложить Гаррету подвезти его. Похоже, лендлорд ничего не имел против этих ежегодных поездок. Он давно уже добился своего, а кроме того, женился на молодой леди из Килдэра, и ему было о чем подумать.
Каждый раз, когда Гаррет возвращался, Дейрдре спрашивала его о Конале, а он рассказывал ей новости и говорил, как вырос его сын. Через три года Дейрдре узнала, что Конал бросил школу и поступил в ученики к столяру. Она удивилась, но Гаррет, похоже, обрадовался. Конал остался в Дублине.
— Ему там лучше, — говорил девочке его отец.
— А он спрашивал обо мне? — как-то раз осмелилась поинтересоваться она.
— Конечно, Дейрдре. Он отлично тебя помнит, — ответил Гаррет.
Но что это означало, понять было трудно. В свое время Дейрдре услышала, будто столяр был так удивлен способностями Конала, что отправил его завершать учебу к своему брату, столяру-краснодеревщику.
— Думаю, он и там отлично справится, — сказал ей Гаррет.
Но во время следующей поездки с Гарретом что-то случилось. Весь тот год он выглядел больным. Иногда его лицо горело, а иногда, когда Дейрдре с ним встречалась, она видела, что кожа у него серая, как у призрака, а руки дрожат. На этот раз его подготовка к поездке в Дублин была не такой удачной. Он не пил всего день или два перед дорогой и несколько раз порезался во время бритья. Но он все же собрался и надел чистую одежду. Однако, когда телега повезла его к дороге на Уиклоу, дед Дейрдре покачал головой и заметил, что вряд ли Гаррет на этот раз справится удачно.
Вернулся он через пять дней в телеге какого-то лесоруба. Одежда на нем была грязной, на нее налипли мелкие щепки, и он, пошатываясь, ушел в свой дом, никому не сказав ни слова, и не появлялся до следующего дня. Когда Дейрдре спросила его о Конале, он бросил на нее измученный взгляд и лишь ответил:
— Он в порядке, Дейрдре, а вот я — нет.
Но некоторое время спустя ее деду он признался:
— Я дурно вел себя в Дублине. Унизил сына перед его друзьями. А потом поссорился с ним. — Гаррет покачал головой, на его глазах выступили слезы. — Наверное, этот болван Бадж был прав, отослав моего сына прочь.
— Ты должен все исправить, — возразил О’Тул. — Ты должен перестать пить, а потом поехать в город и помириться с ним.
Гаррет согласно кивал, но ничего не сделал. На следующий год его состояние не стало лучше, к тому же храбрость покинула его, и он вообще никуда не поехал. А к следующей весне он уже просто не мог куда-нибудь отправиться.
И все это время Дейрдре гадала: что будет с ней самой? Пока Конал был в Дублине, она превратилась в юную женщину. И кое-кто из молодых О’Бирнов и Бреннанов пытался за ней ухаживать, но она не проявляла к ним ни малейшего интереса. Может быть, ей лучше было поискать место служанки в Уиклоу? Или в Дублине? Она ведь увидит Конала, если поедет в Дублин. Дейрдре спросила совета у дедушки.
— Ты не будешь счастлива в Дублине, — сказал он ей. — Ты будешь тосковать по горам. И каждый день будешь стоять на широких улицах и смотреть на горы. Они кажутся такими близкими, словно до них можно дотянуться рукой. Но и они, и все, что ты любишь, будет слишком далеко.
— Ну, может быть, — предположила Дейрдре, — я не буду так уж одинока. Конал станет мне другом.
— Тебе не следует думать о Конале. — Дед вздохнул. — Он просто товарищ по детским играм, Дейрдре. Но это было очень давно, а люди меняются. Тебе лучше теперь забыть его.
Но через год, когда Гаррет после жуткого трехнедельного запоя явно собрался умирать, именно ее дед написал Коналу письмо, прося приехать.
Но Конал опоздал на полдня. Дейрдре заметила его еще издали. Он шел со стороны дороги на Уиклоу — стройный, красивый молодой человек, поднимавшийся по горной дороге быстро, с уверенной легкостью. Как только Дейрдре увидела его, ее сердце на мгновение остановилось. Она подождала, пока он не подойдет к ней.
— Мне так жаль, Конал. Твой отец умер.
Он кивнул, как будто того и ожидал. И они вместе пошли в Ратконан.
Довольно странно, что после стольких лет ей казалось совершенно естественным идти бок о бок с Коналом, словно они никогда и не расставались. Дейрдре гадала, чувствует ли он то же самое?
Похороны были тихими, унылыми. Дейрдре с дедом помогли Коналу с их организацией. Пришли все жители Ратконана. Даже Бадж с женой появились ненадолго, как бы проявляя вежливость по отношению к умершему, и вполне учтиво приветствовали священника. Прежде чем уйти, Бадж отвел Конала в сторонку, однако Дейрдре стояла достаточно близко, чтобы услышать их разговор.
— Твой отец, конечно, всегда был католиком, — тихо сказал землевладелец. — Но могу я спросить, к какой Церкви теперь принадлежишь ты сам?
— Ну, сэр, в Дублине, как вы прекрасно знаете, я учился в школе Ирландской церкви и потому посещал ту церковь. Многие из моих дублинских друзей — протестанты, — вежливо ответил Конал. — Но здесь, в Ратконане, все добрые люди и почти все мои родственники — католики. И, по правде говоря, я не слишком много об этом думаю.
— Понятно.
В самом Ратконане церкви не было. Время от времени Бадж и его семья отправлялись в церковь, расположенную в нескольких милях, чтобы выказать свою преданность. Бадж, безусловно, поддерживал Ирландскую церковь, но никто не назвал бы его слишком набожным. И, судя по тому осторожному взгляду, который он теперь бросил на Конала, ответ молодого человека как будто вполне устроил Баджа.
Дейрдре наблюдала за Коналом с того момента, как он вернулся. Она уже понимала, что годы в Дублине оставили на нем свою печать. Тот Конал, которого она так хорошо знала и любила, был по-прежнему здесь, в том девушка не сомневалась. Но в то же время этот молодой человек, излучавший спокойную уверенность и достойную сдержанность, куда больше походил на ее деда, чем на собственного отца Гаррета. И теперь еще было очевидно, что он научился сочетать свою уверенность с уважительной манерой, которая явно льстила людям вроде Баджа.
— Ты собираешься вскоре вернуться в Дублин? — спросил лендлорд.
— Мне говорили, я мог бы неплохо устроиться в Дублине как краснодеревщик, сэр, — ответил Конал. — Но я скучаю по горам моего детства. И вот размышляю, может быть, я мог бы и здесь зарабатывать на жизнь как столяр? — Он вопросительно посмотрел на Баджа. — Если я докажу, что серьезен и надежен.
Несколько мгновений Бадж испытующе смотрел на него, потом коротко кивнул и предложил зайти к нему после похорон отца.
— Ты собираешься остаться здесь, Конал? — спросила Дейрдре. — И это после Дублина?
— Я об этом подумываю, — ответил он. — И подумываю о том, чтобы жениться и обзавестись домом.
— Ох… — Дейрдре с трудом совладала с собой. — И кто же та счастливица, на которой ты подумываешь жениться? — спросила она как можно более небрежным тоном.
— Ты, — ответил он.
Если Бадж и имел скрытые опасения, что у него может появиться новый беспокойный арендатор Смит, то он никак этого не показал. Через день после переезда Конала он сам явился в его коттедж и сообщил:
— Несколько лет назад мне сделали парадную дверь, но она меня не устраивает. Можешь сделать новую?
А когда работа была выполнена, из наилучшего дуба, и Конал установил ее, Бадж с женой с восторгом осмотрели ее, и Бадж воскликнул:
— Прекрасная работа, Конал, должен это признать! Прекрасная!
И Коналу хорошо заплатили.
Дальше появились новые заказы от лендлорда и его друзей. Потом, позже, Конал, с рекомендательным письмом Баджа, отправился в Уиклоу повидать тамошнего краснодеревщика, и с этого момента начались их длительные дружеские отношения. Мастер из Уиклоу стал присылать Коналу заказы, и каждые несколько недель можно было видеть, как Конал отправляется в город на телеге, нагруженной то каким-нибудь столом, то несколькими стульями, то отлично изготовленным шкафом. И вопреки репутации его отца работа всегда была выполнена отлично и в срок. Через несколько лет мастер из Уиклоу предложил Коналу стать его партнером, и хотя Конал и Дейрдре могли устроиться получше, они предпочли остаться в горах, в Ратконане.
Конал мог выпить эля, но всегда очень немного. Он никогда не говорил и не делал ничего такого, что могло бы оскорбить Баджа или ему подобных. С течением времени лендлорд стал приводить Конала в качестве примера того, что при мягком убеждении и твердом обращении ирландцы вполне могут стать трудолюбивыми и уважаемыми ремесленниками.
Что до самой Дейрдре, то она обрела счастье, покой, свою судьбу. За несколько дней до того, как они с Коналом поженились, дед отвел ее в сторонку и спросил:
— Ты уверена, Дейрдре, что именно этого ты хочешь?
Дейрдре удивилась тому, что он вообще задал такой вопрос, но уверила деда: да, это то, чего она хочет, и он больше ничего не сказал. И первые же месяцы ее замужней жизни полностью подтвердили ее выбор.
Если много лет назад Конал был маленьким мальчиком, которого Дейрдре защищала и поддерживала, то теперь, когда он стал молодым мужчиной, Дейрдре нашла в нем настоящего принца. Когда они занимались любовью, ей казалось, что являются одним целым, а в повседневной жизни они были словно две струны одного и того же инструмента.
Но все же в Конале всегда было что-то загадочное. Иной раз он сидел в одиночестве, погружаясь в некое состояние особой задумчивости, и Дейрдре приходилось ждать, когда он вернется. Как-то раз они отправились в горы, в Глендалох. Они стояли в горной тишине у верхнего озера, когда Дейрдре внезапно ощутила нечто странное — они как будто взлетели вместе, как туман над водой. И она подумала: «Я вышла замуж не просто за мужчину, а за духа».
Они были женаты почти год, когда Конал наконец рассказал ей правду о своей учебе в дублинской школе.
— Это было жуткое место, Дейрдре. Там было всего несколько мальчиков-католиков, и нас туда привезли, чтобы обратить в другую веру. Учителя смотрели на нас как на диких зверей, которых следовало укротить. И обращались с нами как с животными. С постели поднимали на рассвете, чтобы мы помыли полы до того, как проснутся мальчики-протестанты. И весь остальной день, кроме уроков, мы были просто рабами. А если мы пытались возразить, нас жестоко избивали. А уж сама учеба… — Конал с отвращением покачал головой.
— Было очень трудно?
— Трудно? Да ничего подобного. Смехотворно! Эти протестанты всегда от нас отставали. Я куда больше узнал от твоего деда в школе за изгородью, чем любой из них по окончании учебы.
— Так что же, все те протестанты невежественны?
— Так я не сказал бы. Тринити-колледж выпускает ученых с отличной репутацией, без сомнения. Но благотворительные школы вроде моей — это просто притоны какие-то. Потому-то я и ушел оттуда, как только смог, и стал столяром.
— А отцу ты об этом рассказывал?
— Нет. — Конал ненадолго умолк. — А какой смысл? У бедняги и без того хватало проблем, осмелюсь предположить.
Конал никогда не говорил о своей ссоре с отцом, а Дейрдре никогда не спрашивала. Но думала, что Конал считает отчасти своей виной то, что произошло с отцом, во что он превратился. И точно так же было очевидно, что Конал полон решимости доказать: сам он не страдает ни одной из отцовских слабостей.
— Помню, каким он был, когда я был еще совсем мальчишкой, — сказал как-то раз жене Конал. — И мне хотелось бы, — грустно добавил он, — чтобы он таким и оставался и дожил бы до того, чтобы увидеть своих внуков.
А недостатка во внуках не было. Дейрдре за эти годы родила их двенадцать, и хотя многие умерли от болезней или несчастных случаев, семеро все же превратились в сильных и здоровых взрослых людей.
Дейрдре и Конал никогда не сожалели о своем решении осесть в Ратконане. Здесь был дом их детства, здесь жил ее дед, которого они оба любили, а главное — они сами и их дети жили в окружении огромных открытых пространств в горах. И хотя Бреннаны, как заверял их дед, были ничуть не умнее всех поколений их предков, а О’Бирны по-прежнему глупо верили, что Ратконан и все в нем должно по праву принадлежать им, Дейрдре и Конал привыкли видеть этих людей с самого своего рождения, и они, вместе с другими местными семьями, стали как бы частью пейзажа.
А если у ее деда и оставались какие-то сомнения насчет Конала как мужа для его внучки, то очень быстро он эти сомнения похоронил. Понадобилось всего несколько месяцев для того, чтобы жизнь молодых вошла в ту колею, по которой и катила потом год за годом. Раз в неделю мужчины проводили вечер вместе. Конечно, на стол ставилось немного выпивки, но в основном они декламировали стихи или вместе читали книги.
— Лучшее в нашем браке — то, что я могу завершить свое образование! — со смехом говорил Дейрдре Конал.
А старый О’Тул хотя стал очень худым, но сохранил прежнюю остроту ума, продолжал учительствовать в деревне, рассказывал разные истории и декламировал стихи. Он дожил до восьмидесяти с лишним и еще за неделю до смерти продолжал учить детей.
Его похороны и поминки стали запоминающимся событием. Из пяти графств собрались люди, чтобы почтить память старого учителя. Хотя случилась и одна небольшая неприятность.
И виноват в том был Финн О’Бирн, человек довольно незначительный. Того же возраста, что и Конал, он считался вполне хорошим скотоводом и обзавелся целым выводком детей. Немало времени он проводил с Бреннанами, а вот с Коналом почти не общался. Тем не менее Конал как-то раз изготовил для него добротный дубовый стул, которым сам остался доволен. И поэтому Конал не ожидал ничего дурного, когда увидел Финна, шедшего к нему в вечер поминок. Невысокий, смуглый, с огромной растрепанной гривой черных волос, падавших на его плечи неопрятными завитками, он явно выпил лишнего.
— Полагаю, теперь ты станешь новым учителем, — заметил Финн, — с твоим-то образованием.
В том, как он держался, чувствовалось что-то оскорбительное, хотя Конал и не видел к тому причин.
— Вряд ли, Финн, — ответил он. — У меня и других дел слишком много.
На самом деле в последние годы они с О’Тулом уже обсуждали подобную возможность, но Конал не испытывал желания брать на себя такую ответственность, да у него и в самом деле было слишком много работы.
— А он бы этого хотел, Конал, — удержать место за семьей, Дейрдре ведь его внучка, а ты так много времени проводил в его компании. Столько часов читали вместе, каждую неделю…
Слова сами по себе были вполне безобидными, но по тому, как Финн их произносил и как он протянул слово «чита-а-ли», будто в этом было нечто дурное, стало окончательно ясно: Финн пытается оскорбить Конала.
— Да уж, Конал, только ты и годился ему в друзья.
Коналу никогда не приходило в голову, что его вечера со старым учителем могут чем-то обидеть Финна О’Бирна, но теперь было видно, что это именно так.
— Уверен, если бы ты к нам присоединился, тебе были бы рады, — сказал он.
Конечно, это было ложью, но выглядело вежливо.
— Ха! Финн О’Бирн рядом со стариком и его любимчиком! С особенным мальчиком. Мы же тебя в школе называли принцем. Пока тебя не отослали прочь, конечно. — Финн ядовито ухмыльнулся. — А все из-за твоего отца. Тоже, говорят, был великим читателем.
Трудно сказать, что больше поразило Конала: то ли открытие, что вот этот человек, о котором он был невысокого мнения, но к которому не испытывал ни малейшей неприязни, мог так его ненавидеть, то ли тот факт, что он ничего не замечал все эти годы. Конал отлично помнил Финна в годы их учебы в школе за изгородью. Финн не был отличным учеником, но, пожалуй, все-таки стоял повыше Бреннанов. А теперь вдруг смерть старого О’Тула и, без сомнения, излишек спиртного пробудили в нем детские обиды. Конал не мог знать, сколько Финн выпил, но ясно было, что спорить с ним сейчас не время. Но должно быть, Конал невольно посмотрел на него с отвращением, потому что О’Бирн взорвался:
— Ах, вы только посмотрите на него! Он думает, что намного лучше, чем все мы!
— Финн, почему ты не можешь с уважением отнестись к умершему? — спросил Конал как мог более спокойно и хотел отойти.
Но это оказалось еще одной его ошибкой.
— Давай-давай, иди! — Финн насмешливо поклонился. — Великий Конал Смит не разговаривает с теми, кто ему не ровня! — Он сплюнул. — Уважайте мертвых! Уважать твоего отца, ты об этом?
Это было уже слишком.
— Ты тогда был дураком, Финн О’Бирн, и теперь дураком остался! — разозлился Конал. — Но тебе незачем это доказывать, я и так знаю.
Спустя пару дней он рассказал обо всем Дейрдре, но сам Финн никогда больше не упоминал о том случае, и они решили: наверное, Финн был слишком пьян и обо всем забыл.
Потом, пока искали нового учителя, Конал несколько месяцев вел уроки в школе за изгородью, но послал за священником из долины, чтобы учить детей катехизису, потому что не хотел делать этого сам. Когда нашли пожилого мужчину из Уиклоу, ставшего учителем, Конал вернулся к мебельному делу. Он не сомневался: Бадж прекрасно осведомлен о его деятельности, но землевладелец ни разу ничего не сказал об этом.
Все это произошло двадцать лет назад. И с тех пор в Ратконане царил мир, и в этом мире мало что менялось, несмотря на события, происходившие внизу, у подножия гор.
Но одна перемена все же имела место. Происходило это постепенно, но уже в старости дед Дейрдре обратил внимание, а через два десятка лет после его смерти Дейрдре и сама отчетливо это видела.
В Ратконане прибавилось народа.
Конечно, в семьях рождались дети. Кроме ее семерых, имелись три дочери и два сына у Баджа. О’Бирны, Бреннаны и другие местные семьи тоже увеличивались. Но со временем дети вырастали и обычно куда-нибудь уезжали. Три дочери лендлорда вышли замуж за других землевладельцев; его младший сын Иона Бадж женился на дочери торговца и купил небольшое имение в нескольких милях от Ратконана, а старший сын Артур почти постоянно жил в Дублине. Из детей самой Дейрдре только двое оставались дома, а остальные перебрались в Уиклоу или Дублин.
Но в последнем поколении многие семьи, в особенности Бреннаны, начали следовать другому порядку. Вместо того чтобы вся земля досталась старшему сыну, несколько детей решили осесть в Ратконане и разделить землю между собой. А от этого население деревушки увеличилось. И были также все признаки того, что через какое-то время один из Бреннанов может снова разделить свою землю. И вскоре такие маленькие наделы уже не смогли бы прокормить семью, хотя пока еще вроде бы все было в порядке. А причины таких перемен были вполне очевидны.
— За то, что Бреннаны так плодятся, мы должны благодарить картофель, — сухо заметил Конал.
Да, теперь в Ратконане все выращивали картофель. Даже у Баджа имелось два больших картофельных поля. И хотя Бреннаны пока сеяли зерно и держали овец и немного коров на горных склонах, все же основную часть своих разделенных участков они отдали под картофель. И такое решение выглядело вполне логичным. Овощ из Нового Света оказался настолько питательным, что при желании вы могли оставаться в безупречном здравии, ничего другого не потребляя. И не только в том было дело. Картофель давал очень большие урожаи, и какая-нибудь семья могла прожить даже с одного маленького поля. Так что теперь в Ратконане Бреннанов было в два раза больше, чем во времена детства Дейрдре, и они могли еще несколько раз делить свою землю и не умереть с голода. Более того, по мере роста населения они еще и продавали картофель по хорошей цене. И хотя домики под торфяными крышами выглядели довольно бедно, многочисленные Бреннаны и их соседи на самом деле жили куда лучше прежнего. Даже О’Бирны начали платить за аренду.
И по всей Ирландии происходило то же самое. Города росли, население Дублина утроилось за три поколения, и крестьяне тоже теперь куда плотнее устраивались на земле.
Дейрдре и Коналу не приходилось жаловаться на свое материальное положение. Две их дочери переехали в Уиклоу. Обе были замужем, одна за мясником, вторая за пивоваром, и их мужья весьма процветали. Два старших сына перебрались в Дублин. Один стал печатником и не бедствовал; второй, табачник, вроде бы преуспел меньше, он скромно жил в Либертисе на западной стороне Старого города. Двое младших детей оставались в Ратконане: сын Питер стал столяром, как отец; его сестра работала в доме у Баджа.
И еще была Бригид. И этот проклятый Патрик Уолш.
Дейрдре и не знала, что Бригид сбежала с ним, пока, через месяц после этого события, не получила письма от экономки в Маунт-Уолше, в котором упоминался этот факт. В письме больше ничего не говорилось, но Дейрдре предположила, что парочка уехала в Дублин.
— Что все это значит? — спросила она Конала. — Они поженились?
— Если бы поженились, мы бы услышали об этом от Бригид, — ответил он.
— Мы должны поехать и найти ее. Мы должны спасти Бригид, пока ее репутация не погибла окончательно! — воскликнула Дейрдре.
— Пожалуй, для этого поздновато, — пробормотал Конал, но стал в тот же день собираться в столицу.
Дейрдре, никогда прежде не бывавшая в Дублине, была изумлена размерами города. Они добрались туда сразу после полудня и прямиком отправились к своему сыну, чей дом находился в узком переулке у Дейм-стрит. Сын объяснил им, где можно найти Патрика Уолша. Супруги не стали терять время зря, а тут же отправились в сторону парка Тринити-колледжа и перешли по мосту реку Лиффи. Справа, вниз по течению, на северном берегу, они увидели возводимое огромное здание в классическом стиле. Как они узнали, это должна была быть новая таможня. Да, столица продолжала расти, и широкие улицы и площади на северном берегу реки были уже почти такими же величественными и элегантными, как район вокруг Сент-Стивнс-Грин. Дейрдре с благоговением смотрела на огромные аристократические дома по обе стороны широкой улицы, известной как Саквилль-Мэлл. Она тянулась на север почти на пятьсот ярдов, до прекрасного фасада родильного дома и модной Ратленд-сквер за ним. Дом Патрика Уолша стоял на более узкой, но очень приятной улице, к западу от Саквилль-Мэлл.
К парадной двери вели несколько ступеней. Конал сначала заколебался, но потом решительно подошел к двери.
Им открыла горничная. При виде их деревенской одежды она слегка смутилась и спросила, не торговцы ли они, но Конал назвал свое имя, и через несколько секунд она вернулась и проводила их через холл в маленькую гостиную. Ждать им пришлось недолго, перед ними вскоре появился сам Патрик Уолш. Он улыбался.
— Уверен, вы хотите повидать Бригид, — сказал он, не дав им раскрыть рта. — Я давно уже ей твержу, что нужно вам написать.
— Так она здесь? — спросил Конал.
— Разумеется, она здесь, мистер Смит, и сейчас выйдет.
Уолш держался легко и дружелюбно, как будто ничего неправильного во всем этом не видел.
Дейрдре уставилась на него. Умное лицо, добрые глаза, обаятельные манеры: джентльмен до мозга костей. Но он и на секунду ее не одурачил.
— Что вы с ней сделали? — резко спросила она.
— Вашу дочь никто не похищал, — спокойно ответил Уолш. — Она работала в доме моего кузена, лорда Маунтуолша, как вы знаете. — Если он рассчитывал, что упоминание столь важного имени сразу поставит женщину на место, то ошибся. — А теперь она согласилась переехать сюда, — он уверенно посмотрел на Дейрдре, — на должность экономки.
— Экономки? В ее возрасте?
— Это не слишком большой дом. А! — Он бросил ласковый взгляд куда-то в сторону. — Вот и она.
Когда Бригид появилась в дверях, Дейрдре задохнулась. Тонкая как прутик девочка, которую она оставила в Маунт-Уолше, исчезла. Теперь она походила на молодое деревце, пышно расцветшее весной. Бригид, в строгом платье, с аккуратно зачесанными назад черными волосами, держалась прямо и всем своим видом являла опытную молодую экономку. Но мать в первую очередь увидела в ней другое: это была не девочка, а горделивая молодая женщина. И еще Дейрдре отметила, что кожа Бригид светится, а зеленые глаза сияют совершенно новым светом.
— Я желаю поговорить с дочерью наедине, — решительно заявила Дейрдре.
У Бригид была прелестная комната на третьем этаже дома, под дверью на чердак, где спали остальные слуги. На полу лежал ковер, на кровати — стеганое покрывало, рядом стояло мягкое кресло. Девушка села на кровать и жестом предложила матери сесть в кресло.
— Извини, что не написала…
— Это не важно! — резко перебила ее мать. — Никакая ты не экономка.
— Экономка! Клянусь!
— И только?
Девушка промолчала.
— Что ты творишь, Бригид? — взорвалась Дейрдре. — Неужели не видишь, во что превращаешься? Ты должна немедленно уехать! — Бригид попыталась возразить, но Дейрдре ей не позволила. — Что сделали с тобой в том доме? С тобой плохо обращались? Ты была в таком отчаянии? Тебе стоило только сказать мне!
— Поначалу мне было очень одиноко, мама. Я так по тебе тосковала. Но они были ко мне добры. А потом… — Бригид засмеялась. — Думаю, мне было просто скучно. Пока не приехал Патрик.
Смех. То, как она назвала его Патриком…
— Милостивые небеса! Детка! Да ты его любовница! — Дейрдре уставилась на дочь. — И ты воображаешь, что тебе удастся найти уважаемого мужа, когда об этом станет известно? Этот красивый джентльмен на тебе не женится! Он попользуется тобой, Бригид, а когда насытится, что с тобой будет? Об этом ты подумала? — Дейрдре горестно покачала головой. — Это я во всем виновата. Я должна была предостеречь, но думала, в том доме тебе ничто не грозит. Мне и в голову не приходило…
— Ты ни в чем не виновата, мама.
— Ты немедленно вернешься в Ратконан!
— И что я там буду делать? Выйду замуж за одного из Бреннанов? — Бригид помолчала, а потом тихо добавила: — Он хороший человек, мама. Лучше мне не найти.
— И тебе кажется, что он тебя любит?
— Думаю, ему со мной интересно. Он заботится обо мне.
— Он пользуется тобой! Ты просто служанка.
— Служанкой я была в Уэксфорде.
— Ты должна сейчас же уехать с нами, Бригид!
— Прости, мама, но я не поеду.
— Отец тебе прикажет.
— Он не может заставить меня уехать.
Бригид сидела на кровати спокойно, но смотрела с вызовом.
Дейрдре была слишком потрясена и разгневана, у нее даже слез не было. Она встала.
— Больше мне нечего тебе сказать, Бригид, — заявила она, но когда они спускались по лестнице, она все же продолжила: — Мы несколько дней побудем у твоего брата. Надеюсь, ты передумаешь.
Дейрдре не хотелось говорить с Патриком, и она дала мужу знак, что желает немедленно уйти.
И только на улице она взорвалась:
— Ты вообще понимаешь, что здесь происходит? Она его любовница!
— Именно это я и предполагал, — спокойно произнес Конал.
— И ты не собираешься ничего делать? Ты не попытаешься спасти собственную дочь?
— Она здесь против своей воли?
— Она отказывается уезжать.
— А тогда чего ты от меня хочешь, Дейрдре? Я что, должен застрелить его?
— Он настоящий дьявол!
— Возможно. — Убежденным Конал не выглядел.
— Что он тебе сказал?
— Насчет Бригид? Да в общем ничего. Она помогала ему составить каталог библиотеки. — Коналл немного помолчал, а жена с недоверием уставилась на него. — Он читал стихи твоего деда. И похоже, его отец, старый доктор Уолш, когда-то был знаком с моим отцом. В общем, оказалось, мы состоим в дальнем родстве.
— Ты хочешь сказать, что он женится на Бригид?
— Не думаю, — задумчиво произнес Конал, — он, похоже, вообще не из тех, кто женится.
Так оно и вышло. Хотя до отъезда из Дублина Дейрдре еще раз послала Конала повидать дочь и Патрика, ничего не изменилось. Год спустя Бригид родила ребенка. И снова Конала отправили повидать ее. Вернувшись, он доложил Дейрдре, что мать и младенец чувствуют себя прекрасно и все они спокойно живут в доме Уолша, и, видимо, ни джентльмен, ни сама Бригид не хотят что-либо менять.
Годы шли. Появились и другие дети. Никто, похоже, ничего не имел против, и Дейрдре была бессильна что-либо изменить.
Но случилось и еще кое-что, чего она никак не могла предвидеть: Уолш и ее муж подружились.
Когда Патрик в первый раз проезжал через Ратконан, он направлялся в Глендалох. Приехал он вместе с Бригид и новорожденным, намереваясь оставить их у родителей Бригид, пока сам будет навещать древний монастырь. Дейрдре всячески избегала разговоров с ним. Однако, когда Уолш между делом спросил, не хочет ли Конал поехать с ним, а Конал ответил согласием, Дейрдре ядовито сказала Коналу:
— Похоже, тебе очень хочется провести денек с человеком, погубившим твою дочь.
Она так никогда и не узнала, что произошло между мужчинами в Глендалохе, но после их возвращения было видно, что поговорили они основательно. С тех пор Патрик приезжал каждое лето, и каждый раз мужчины вдвоем отправлялись к озерам-близнецам. Это стало ежегодным ритуалом. Иногда, если Бригид была не в состоянии путешествовать, Патрик мог приехать один, и, как бы ни злилась Дейрдре, он ужинал с ними, ночевал в их доме в ночь прибытия, а потом и на обратном пути, перед возвращением в Дублин. И после отъезда Патрика Дейрдре всегда спрашивала мужа, о чем они говорили целый день, а он отвечал уклончиво и рассеянно. Но если Дейрдре дурно отзывалась о Патрике — а это бывало всегда, — Конал мягко защищал его.
— Ох, просто он человек большого ума, — мог сказать он или: — Сердце у него на правильном месте.
Однажды он даже заметил:
— Патрик — хороший католик.
А Дейрдре воскликнула:
— Если бы он был добрым католиком, то женился бы на твоей дочери, а не пользовался бы ею как шлюхой!
Но Конал лишь задумчиво посмотрел на нее и сказал:
— Ну, он слишком любит Ирландию.
Дейрдре радовало только одно: Патрик приезжал всего раз в год, но с течением времени у нее возникло и стало нарастать некое смутное и необъяснимое ощущение, что у нее уводят мужа. И это она связывала только с Патриком. Потом случилась еще одна перемена в их жизни.
Поначалу Дейрдре даже обрадовалась, когда как-то вечером Конал сказал:
— Знаешь, это просто стыд, что никто больше не исполняет песни твоего деда. Конечно, кое-что из его стихов напечатано, но у меня лежит еще очень много рукописей. И в них есть те истории, что он рассказывал. Прекрасные истории.
— Наверное, тебе стоит этим заняться, Конал, — ответила тогда Дейрдре. — Лучше тебя никто не справится.
И вот Конал снова начал по вечерам изучать записи старого поэта и через некоторое время пригласил соседей, чтобы они послушали, — точно так же, как делал сам старик. И все заявили, что стихи прекрасные. О них заговорили. Через месяц Конала пригласили в другое место, в нескольких милях от дома. Потом еще в одно и еще. А через год он уже отправлялся куда-нибудь практически каждый месяц и иногда отсутствовал по нескольку дней.
Дейрдре и не знала, радоваться этому или нет. Конечно, она гордилась мужем, ей было приятно думать, что ее деда снова почитают. Она знала: если у человека есть дар, то этот дар обязательно следует использовать, к тому же одинокие блуждания Коналу были просто необходимы. Но никогда прежде он не отсутствовал так долго, и Дейрдре невольно задумывалась: не в ней ли самой причина? Может, он хочет отдалиться от нее, после стольких-то лет? Может, это повод избегать жену? Раз или два она мягко заговаривала об этом, и Конал расстраивался и даже предлагал никуда больше не ездить. И именно это предложение в каком-то смысле успокоило Дейрдре. И действительно, когда Конал был дома, ничто в его поведении или в их супружеских отношениях не говорило о недостатке нежности и привязанности. И потому Дейрдре решила делать вид, что ничего особенного не происходит, и радоваться тому, что ее соседи с новым уважением говорили о ее странствующем муже.
Но несколько лет назад произошло то, что по-настоящему встревожило Дейрдре.
Хотя обретший независимость ирландский парламент был более чем занят делами, радовавшими остров, все же ничто не могло взволновать Ирландию больше, чем пришедшая в 1789 году весть о Французской революции, прогремевшая по всей Европе. И если американская революция, волнения из-за которой Дейрдре помнила с детства, была событием из ряда вон, то французская стала настоящей катастрофой. В прошлом, 1776 году ирландцы наблюдали за тем, как Новый Свет отрывается от Старого, но теперь в оргии насилия и кровопролития Французской революции старый мир как будто пытался полностью изменить себя. Этот гигантский эксперимент Дейрдре находила иногда волнующим, а иногда ужасающим, а мужчины говорили о новой эре разума, о конце социального неравенства, о религиозной терпимости и даже о победе атеизма.
И именно тогда, когда во Франции разворачивались все эти ошеломительные события, снова приехал Патрик, на этот раз один. Явился с ежегодным визитом. И как обычно, двое мужчин отправились в Глендалох, а когда вернулись, все сели ужинать. Под влиянием Уолша Конал выпил больше обычного, особенно когда разговор зашел о Франции. Они обсуждали дальнейшее развитие революционных событий, говорили о том, что это может означать для Европы в целом. Ясно было, что другие европейские монархии не потерпят подобного разрушения всего социального порядка в центре континента. Потом, немного понизив голос, Патрик заметил:
— Знаешь, я думаю о том, как это может повлиять на Ирландию, что это может значить для нее.
А Конал тихо, но со страстью, какой Дейрдре никогда прежде не слышала в его голосе, ответил, пристально глядя на Патрика:
— Могу обещать тебе, что буду готов, когда придет время.
На следующий день Дейрдре спросила его, что означали эти слова, но Конал лишь тряхнул головой и заявил: ничего не означали. Дейрдре обиделась, поскольку он явно лгал. Однако Конал все равно отказался обсуждать с ней это, только сказал:
— Есть вещи, которых тебе лучше не знать.
Этот покровительственный ответ разъярил ее еще сильнее, и между ней и мужем возникло небольшое, но явное отчуждение.
Спустя несколько недель Конал поехал в Дублин повидать сыновей, как он сказал, а у Дейрдре возникло неприятное чувство, что имелась какая-то другая причина и что все это как-то связано с Уолшем. И она прокляла тот день, в который чертов Уолш вошел в их жизнь.
А потом начался кошмар. Тот кошмар, в котором она до сих пор жила.
Дейрдре смотрела вниз, в долину.
Поначалу казалось, что фигура, поднимавшаяся по извилистой горной тропе, меняет очертания. То это был одинокий всадник, то он вдруг становился похожим на оленя с двумя огромными рогами. Лишь постепенно Дейрдре поняла: там не один человек, а два. Первым ехал Патрик. Тут все было правильно. Но за ним ехал другой, более высокий человек, и его Дейрдре вряд ли видела прежде.
И неожиданно она с предельной ясностью осознала: зачем бы они ни явились, это уведет от нее мужа. И Дейрдре, вооруженной одними только инстинктами, захотелось помчаться к Коналу, спрятать его от этих людей, увести. Идея столь же бесполезная, сколь и абсурдная, потому что в это мгновение она заметила подошедшего к ней Конала.
— Ты зачем здесь? — Голос выдал ее волнение. Он прозвучал высоко, нервно.
Конал обнял ее за плечи.
— Я не мог ничего рассказать раньше, Дейрдре, — тихо ответил он. — Но теперь ты должна все узнать. — Он прижал ее к себе. — Потому что мне понадобится твоя помощь.
Патрику всегда нравилось бывать в Ратконане. Он любил подниматься в горы. Но времени он зря не терял. Едва войдя в дом Конала, он представил Джона Макгоуэна. Потом, видя, что Дейрдре все еще здесь, он вопросительно посмотрел на Конала, и тот тихо ответил:
— Пора ей узнать.
Патрик бросил на него короткий задумчивый взгляд, потом кивнул. И хотя он прекрасно знал, что Дейрдре его не любит, он не проявлял к ней ни малейшей враждебности.
— Возможно, тебе известно, Дейрдре, что уже много лет я состою в… Ну, мы называем это Католическим комитетом.
Дейрдре пожала плечами:
— Я и не знала, что такой существует.
— Ну, это не слишком заметная организация. Всего лишь группа — большая группа — людей, которые чувствуют себя ответственными за католиков в Ирландии. Мы надеялись на свободу для католиков, но были готовы проявить терпение. Для меня самого, пожалуй, это продолжение того, за что мои предки-католики стояли последние триста лет. Когда Граттан добился независимости ирландского парламента, то предполагалось, что это приведет к постепенному улучшению положения католиков. Нам всем так казалось в то время. Однако мы не учли протестантов, стоящих у власти, и Дублинский замок.
Триумф Граттана в завоевании независимости ирландского парламента был не всем тем, чего он хотел. Несмотря на прекрасные слова, так и не стало понятным, кто именно должен определять внешнюю политику и, что было куда важнее, решать вопросы торговли. Начались бесконечные споры, и Лондон, как обычно, пытался оказать давление привычными старыми средствами: с помощью покровительства и подкупа, — а патриоты старались преобразовать всю систему и освободить Ирландию. Но не смогли преуспеть до конца. А уж когда дело дошло до католиков, то они и вовсе потерпели полное поражение.
Потому что протестантское ядро в ирландском парламенте было полно решимости не давать католикам никакой власти, и мало кто из умеренных протестантов желал вступать в сражение по этому вопросу. Патриоты оказались в изоляции. А в Дублинском замке внутренняя группа из трех обладающих большой властью чиновников, известных как триумвират, — отличные администраторы, но безжалостные противники католицизма — многие годы управляла всеми делами правительства. Наместники короля приходили и уходили, парламент собирался, появлялись новые парламентарии, а триумвират все так же гладко катил по надежной дороге господства.
— Тем не менее я продолжал надеяться, что наша тихая дипломатия однажды приведет к переменам, — пояснил Патрик. — А потом произошла Французская революция. Люди взволновались. И некоторые католики, особенно среди торговцев в Дублине, начали призывать к радикальным мерам, к публичным кампаниям…
— Мы помним, что сумел сделать шотландский Ковенант много лет назад, — вмешался Джон Макгоуэн. — Так почему не быть католическому Ковенанту? — Он усмехнулся. — Патрик был в ужасе от этого. И не хотел иметь с нами ничего общего.
— Но не менее важно то, — продолжил Патрик, — как Французская революция повлияла на протестантов. Я это знаю от одного из родственников Дойла. Он прежде состоял в добровольцах, но теперь его мысли радикально изменились. Когда возникла новая группа, которую мы называем «Объединенными ирландцами», он присоединился к ней. «Патрик, — объяснял он мне, — Ирландия должна стать независимой республикой, как Франция, со свободой вероисповедания, права голоса для всех и так далее». И ему нравилось обсуждать все это. На самом деле теперь «Объединенные ирландцы» превратились просто в дискуссионный клуб. Но благодаря добровольцам он подружился с семьей по фамилии Лоу, это пресвитерианцы из Белфаста. И они пригласили его посетить «Объединенных ирландцев» в Белфасте. Он говорил мне, что никогда не видел ничего подобного. Они устроили огромный митинг в День взятия Бастилии, и у них все организовано должным образом. Они действительно готовы к делу, потому что пресвитерианцы в Ульстере ненавидят англичан даже сильнее, чем мы.
— Говори за себя, — с улыбкой пробормотал Макгоуэн.
— Да, но именно протестанты постоянно нас поддразнивают. Ты, может быть, слышала, Дейрдре, об Уолфе Тоне. Это человек невероятного обаяния. Именно Тон убедил ульстерских пресвитерианцев в том, что они должны объединиться с католиками, хотя бы потому, что нас очень много. И он уже начал убеждать в том же многих в Католическом комитете.
— Но не тебя, — напомнил ему Макгоуэн.
— Определенно нет. Я подумал, что они могут быть опасными парнями. И только после ужасного парламента девяносто второго года — уверен, ты все помнишь, — я изменил мнение. — Он вздохнул. — И это благодаря моему кузену Геркулесу.
Вся Ирландия помнила тот парламент. И Патрик, возможно по наивности, позволил себе надеяться, что они могут хоть что-нибудь сделать. В Англии партия вигов настаивала на ослаблении старых законов о штрафах. В Дублине герцог Ленстерский и его друзья настаивали на том же самом. Уже было ясно: католикам необходимо позволить вернуться на официальные должности. И потому, когда представители Католического комитета подали скромную петицию в ирландский парламент, Патрик ожидал, что ее, по крайней мере, рассмотрят и обсудят.
В день перед дебатами он случайно встретился со своим кузеном Геркулесом, который шел по Дейм-стрит от Дублинского замка вместе с крепким мужчиной, в котором Патрик узнал Артура, старшего сына Баджа. Всегда неприятно встречаться с человеком, который так сильно вас не любит, но Патрику показалось, что важность вопроса столь велика, что можно и обменяться словечком с двоюродным братом. Подойдя к ним и вежливо поздоровавшись, Патрик выразил надежду, что Геркулес обратит внимание на предложение католиков, и пояснил:
— Мне кажется, это хотя бы остановит более радикальные элементы, которые ищут повода для волнений.
Геркулес лишь молча уставился на него, и невозможно было понять, что он думает. А потом, вроде как кивнув, посмотрел на Артура Баджа, и они оба пошли дальше. На следующий день Патрик пораньше пришел в парламент, чтобы услышать дебаты.
Если бы он сам там не присутствовал, то просто этому не поверил бы. Потому что советы лондонских вигов и аристократа Ленстера, похоже, взбесили членов парламента. Они были подобны своре борзых, почуявших кровь. Они провалили предложения с изумительным результатом: двести пять голосов против двадцати семи, а заодно бесцеремонно оскорбляли католиков. Как будто после сражения у Бойна абсолютно ничего не изменилось. Но Патрику самым отвратительным показалось выступление Геркулеса.
— Не важно, какие фокусы и какие дешевые доводы будут нам подсовывать католики, — заявил Геркулес. — Им все равно нельзя доверять. Ирландия — протестантская страна, такой она и останется! Навсегда! Это непреложно и незыблемо не только на это столетие, но и на следующие, и на тысячу лет!
Эту речь встретили бурным восторгом. А потом, когда Патрик уже уходил, он заметил своего кузена, стоявшего в одной из колоннад. К нему только что подошел некто высокий и горячо пожал ему руку. И это был Фицгиббон, самый могущественный член триумвирата.
— Именно то голосование и оскорбительные слова моего кузена Геркулеса заставили меня осознать, что Джон Макгоуэн и его друзья правы, — сказал Патрик Дейрдре. — Господство протестантов никогда ничего не даст католикам.
Но если он надеялся произвести впечатление на Дейрдре, то все равно было ясно: Дейрдре, которая, пожалуй, не имела причин любить протестантов, видела в нем самом нечто еще более плохое.
— Это ты так говоришь. Но католикам дали возможность голосовать в следующем году, — мрачным тоном напомнила она. — Мужья обеих моих дочерей получили такое право.
Если Дейрдре подозревала в Патрике некоего дьявола, намеренно заводящего ее в ловушку, то не преминула поймать его на лжи.
И действительно, в 1793 году правительство в Лондоне, теперь пребывавшее в состоянии войны с Французской Республикой и боявшееся проблем еще и в Ирландии, уговорило упрямый ирландский парламент сделать хоть что-нибудь, чтобы осчастливить католиков. Однако законодательный результат оказался куда меньшим, чем выглядел на первый взгляд.
— Но это же просто пародия! — воскликнул Джон Макгоуэн. — Голосовать может каждый, кто способен заплатить за это право сорок шиллингов. Я сам могу проголосовать. Но какая мне в том польза? Да никакой, потому что в парламент не может попасть ни один католик! Другими словами, я могу голосовать, но лишь за протестантов. А поскольку в любом случае большинством по-прежнему управляет горстка протестантов, на самом деле ничего не изменится. Они дали мне право еще и состоять в гильдии в качестве полноправного члена, но только если меня пригласит кто-нибудь из протестантов в гильдии, то есть все устроено так, чтобы заставить нас думать, будто мы что-то получили, но при этом ничего нам не дать. Это просто насмешка, жульничество.
— И теперь, — добавил Патрик, — триумвират взялся за короля Георга. Из Лондона пришел слух, что он тайно поклялся никогда не допускать в парламент ни одного католика.
Честно говоря, король Англии Георг III, как обычно, желал только лучшего. Но точно так же как его убедили, что королевский долг — продолжать держаться за американские колонии, точно так же теперь хитрый Фицгиббон убедил его, что клятва, данная им при коронации и обязывавшая его поддерживать протестантскую веру, означала также и то, что он должен отказывать католикам в политическом представительстве. А как только честный король Георг поверил, будто дал такое слово, ничто уже не могло заставить его передумать. Это был один из умнейших ходов триумвирата.
— И если это то, в чем король поклялся втайне, то на публике его правительство проявляет такую же решимость. И когда однажды сюда был прислан наместник, пожелавший вмешаться в дела триумвирата, — лорд Фицуильям, достойный человек, кстати, — его сразу же отозвали.
— Но если ничего нельзя поделать, — заметила Дейрдре, — зачем вы здесь?
Патрик серьезно посмотрел на нее и заговорил намного тише:
— Чуть больше года назад Уолф Тон был арестован за агитацию. Его выслали из страны. Он отправился в Америку, в Филадельфию. На родину Бенджамина Франклина. — Патрик немного помолчал. — Там он приобрел множество друзей — важных людей, которые принимали участие в Войне за независимость. Он также познакомился с представителями французского правительства. Большинство думает, что он до сих пор в Америке. Но это не так. Как и Бенджамин Франклин, он поехал во Францию, революционную Францию, чтобы узнать, могут ли там теперь помочь Ирландии, как прежде помогли Америке.
— И они могут?
— Мы не знаем. Но если да, то мы должны быть готовы. И сделать это необходимо быстро и эффективно. Чем масштабнее и лучше будет организовано восстание, тем меньше придется пролить крови. «Объединенные ирландцы» уже показали, как действовать вместе, дружно. Я верю, поднимется вся Ирландия. Мы должны создать Ирландскую республику. В ней все религии должны стать равными, как в Америке и во Франции.
— Но скажи на милость, какое все это имеет отношение к Коналу? — резко спросила Дейрдре.
Конал наконец заговорил:
— Я должен организовать людей в наших местах, Дейрдре. Отсюда и до самой границы Уэксфорда. Вообще-то, — мягко продолжил он, — я это начал делать уже несколько месяцев назад.
— Да ты просто дьявол! — Дейрдре в ярости повернулась к Патрику. — Ты можешь оставить нас в покое? Или хочешь окончательно нас уничтожить?
Но Конал покачал головой:
— Ты не понимаешь, Дейрдре. Не Патрик попросил меня сделать что-то полезное. — Он улыбнулся, хотя и с легкой грустью. — Это я просил его.
Дейрдре уставилась на него во все глаза:
— Твои поездки?.. С песнями и стихами моего деда?.. Так все это было только для…
— Нет, Дейрдре, я все равно бы этим занялся. Но тут подвернулся и полезный повод ездить в разные места.
Дейрдре в отчаянии всплеснула руками.
— Один из наших капитанов в Дублине — Джон Макгоуэн, — пояснил Патрик. — А поскольку ваши сыновья будут подчиняться ему, то, думаю, хорошо было бы вам повстречаться.
— И наши сыновья?!. — ужаснулась Дейрдре.
— Они сами того хотели, — тихо произнес Конал.
— И сколько у вас сейчас людей? — спросил Макгоуэн.
— Вокруг Ратконана — с десяток. Во всех этих краях — примерно сотня таких, на кого я могу положиться.
— И кто в Ратконане? — сердито спросила Дейрдре.
Конал назвал кое-кого из Бреннанов и других местных.
— Финн О’Бирн особенно горяч, — заметил он.
— Финн О’Бирн? — На лице Дейрдре отразилось отвращение. — Да он же главный дурак среди них всех! И, кроме того, ненавидит тебя.
— Это не важно. — Конал улыбнулся. — Он будет сражаться вместе с нами, поскольку верит: если мы победим, Ратконан достанется ему.
— Но зачем, почему, Конал?! — внезапно воскликнула Дейрдре. — После того как ты всю жизнь старался избегать неприятностей, зачем тебе вдруг браться за такое?
Патрику подобный вопрос показался не требующим ответа. И, судя по выражению глаз Макгоуэна, тот думал так же. Конал словно прочел их мысли.
— Нет-нет, — спокойно произнес он, — Дейрдре права. — Он помолчал мгновение-другое. — Да, это верно. Видя глупое поведение отца, я всегда старался не совершать похожих ошибок. Я всегда был умерен в спиртном, держал при себе свои мысли. Я, как умел, мастерил мебель для людей, которых презирал, и вежливо принимал от них деньги. — Тут в его голосе прорезалось нечто новое. — В Дублине в школе мальчики-протестанты обращались со мной как с животным, хотя у них не было ни моего ума, ни моего образования. Став мужчиной, я видел, как моих соотечественников держали в подчинении такие же фанатики и дураки. И я ненавидел их всех. Но ненависть бесполезна, а бунт — это преступление. Если ты не уверен в победе, то бунт просто глуп. И потому я говорил себе: «Подожди. Жди хоть всю жизнь, если это необходимо. Но жди, пока не настанет время». И много лет подряд мне казалось, что до такого времени я просто не доживу. Но теперь я думаю, оно может прийти. И если каждую дощечку из той мебели, что я изготовил, придется уничтожить, когда мы подожжем их дома, я скажу: «Разожгите костер и спалите все это!» И скажу это с радостью.
— Ох, Конал! — Дейрдре покачала головой. — Я так надеюсь, что ты можешь оказаться прав. Потому что, если это не так, нас всех уничтожат.
— Так ты нам поможешь?
— Я твоя жена, Конал. — Она вздохнула. — Но при одном условии.
— При каком?
— Никогда не спрашивай меня, верю ли я во все это.
Покинув Ратконан, Патрик повез Макгоуэна в Глендалох, которого дублинец прежде не видел. Заодно они осматривали все попадавшиеся им на пути деревушки. Патрик наслаждался хорошим днем. Хотя тех людей, что были у Конала в горах, не хватило бы для серьезных действий, он гордился тем, что сумел организовать их в таких местах.
— Кроме того, — заметил Макгоуэн, — никогда нельзя знать заранее, кто может понадобиться.
Уже с наступлением ночи они добрались до Уиклоу.
На следующее утро они осмотрели город. Конал предупредил их, что его зятья нисколько не интересуются их делом, но у Патрика был в городе знакомый торговец, готовый присоединиться к борьбе, и он с удовольствием показал им все.
Как и большинство ирландских городов того времени, в Уиклоу имелись казармы, где стоял целый гарнизон: офицерами были протестанты, рядовыми — католики.
— Мы пытались убедить кое-кого из солдат присоединиться к нам — втайне, конечно, — сообщил торговец. — Но пока ничего не получилось.
Тем не менее, сказал он, в городе есть двадцать надежных человек. К середине утра они расстались с торговцем и направились обратно в Дублин.
Оба пребывали в хорошем настроении. Патрик чувствовал уверенность в том, что в Уиклоу их дела идут неплохо. Месяц назад он побывал в Уэксфорде, где его старый друг Келли сказал ему:
— Здешние сквайры раскололись на две группы, но многие из нас, и я в том числе, на вашей стороне.
Однако в других частях Ирландии, лежавших вне сферы деятельности Патрика, особого прогресса не было.
— Мы должны трудиться изо всех сил, чтобы Ирландия оказалась готова, — сказал он Макгоуэну. — На тот случай, если французы согласятся помочь.
При всех сомнениях оба мужчины, но по разным причинам, все же ощущали и уверенность. Рассуждения Макгоуэна были вполне практичными.
— Люди в Ульстере трудные, — заметил он. — И сейчас они упираются в свое. Но если из Франции подойдут серьезные силы — я имею в виду тысяч десять или около того, — то, уверен, на католическое население это подействует невероятно сильно. А пока любой протест подавляется, и у них нет надежды. Но как только они увидят французов, на следующий день на нашу сторону встанет несколько тысяч. Даже всей английской армии будет нелегко продвигаться по острову, если каждый мужчина начнет оказывать им сопротивление. Мы их серьезно измотаем, точно так же как сделали американцы.
Рассуждения Патрика были не столь конкретными, но, возможно, наполнены более сильными чувствами. И он возлагал надежды даже не на католическую общность, хотя это и было очень важно. Он думал о представителях своего класса, старых англичанах.
Если великий герцогский дом Ленстера защищал католиков в парламенте, то во главе движения в Дублине теперь встал не кто иной, как красавец-лорд Эдвард Фицджеральд, сын старого герцога. На него оказали огромное влияние идеи Французской революции.
— Все люди равны, — то и дело напоминал он своим друзьям. — Герцог и подметальщик улиц, протестант и католик. И все общественные системы, отрицающие столь очевидную истину, рано или поздно будут сметены.
И он действовал в соответствии с тем, во что верил. Он мог остановиться на улице в Дублине и заговорить с каким-нибудь скромным рабочим, причем с такой же простотой и искренностью, с какими обращался к знатному вельможе. Волосы он подстригал не по моде коротко, а по одежде его можно было скорее принять за простого парижского мастерового, чем за ирландского аристократа. Видя необычный образ жизни Патрика, в доме которого присутствовала крестьянская девушка Бригид, он считал Патрика принадлежащим к своему кругу — кругу людей, исповедующих уравнительские взгляды.
— Все зависит от того, Патрик, сумеем ли мы показать путь, — признался он как-то раз. — И я чувствую себя лучше, видя, что ты на моей стороне.
И хотя некоторые идеи лорда Эдварда казались Патрику чересчур радикальными, его радовал идеализм благородного аристократа.
Две недели назад Патрик случайно встретился с ним в доме своей кузины Элизы. Отведя его в сторонку, лорд Эдвард признался:
— Патрик, я собираюсь сам начать разговор с французами, чтобы поддержать Тона. И вместе, я уверен, мы их убедим. Но умоляю: никому пока ни слова об этом!
Такая доверительность, а заодно и тот факт, что он пусть в малой степени, но все же связан родством с великой аристократической династией, привели Патрика в некоторый снобистский восторг, а мысль о том, что они бок о бок борются за ирландский народ, наполнила его почти мистическими надеждами.
Хотя его собственная вера не была такой уж сильной. Он вырос в семье врача с либеральными взглядами, к тому же в этом веке французские идеи рационализма и просветительства властвовали над умами, а потому не стоило удивляться тому, что для Патрика вера была скорее привычкой, чем искренней набожностью. И если Уолф Тон и ульстерские пресвитерианцы, ставшие теперь для него весьма важными, втайне считали своих католических сторонников средневековыми мракобесами, Патрик, пожалуй, отчасти согласился бы с ними.
— Я уверен, мир, должно быть, создан неким вечным и всевидящим существом, которое мы называем Богом, а христианство выражает Божественную природу. Но я не могу верить в нечто большее, — признался он как-то Джорджиане. — Наверное, я отношусь к тем, которых нынче называют деистами.
— Ну, таковы же самые умные люди из тех, кого я знаю, — с улыбкой ответила она. — Хоть католики, хоть протестанты.
Однако это ничуть не мешало ему посещать мессу или исповедоваться. И конечно же, не удерживало от борьбы за справедливость для его друзей-католиков в Ирландии. В отличие от его деда, Патрик редко ходил к колодцу Святого Марнока. Однако когда он думал о том, что и он, и лорд Эдвард борются за древний католицизм, то ощущал, как его наполняет священная вера, и испытывал чувство справедливости, словно его предки и, без сомнения, само божество благословляли его на это.
В десяти милях от Дублина они встретились с Геркулесом, который ехал им навстречу вместе с Артуром Баджем.
Прошло много лет с тех пор, как Геркулес в последний раз разговаривал со своим кузеном. Даже когда Патрик подошел к нему перед парламентскими дебатами 1792 года, он ни слова не произнес в ответ. Но теперь, видя, что двоюродный брат едет явно из Уиклоу, да еще в компании проклятого католического торговца Джона Макгоуэна, Геркулес не колебался.
— Что ты здесь делаешь? — грубо спросил он.
— Ездил показать мистеру Макгоуэну Глендалох, — с вежливой улыбкой ответил Патрик. — Ты когда-нибудь бывал там, Геркулес? Прекрасное место! И до сих пор видна келья святого Кевина.
Геркулес с отвращением посмотрел на обоих мужчин.
Все они одинаковы, эти католики, подумал он. Вкрадчивые и лживые. Чистые иезуиты. Он никогда не забывал того, как Джон Макгоуэн прикинулся протестантом, чтобы прокрасться в закрытый клуб. Кто солгал раз, будет лгать всегда — так полагал Геркулес. Что до Патрика, то отвращение Геркулеса к кузену-католику лишь росло с годами. И если в юности он завидовал любви, которую испытывала к Патрику его мать, которая, как он иногда подозревал, предпочитала его собственному сыну, то к тому времени, когда его дед оставил наследство Патрику, Геркулес уже четко понимал: его кузен вовсю использует католическое искусство манипуляции людьми. А если вспомнить о его презренных попытках убедить Геркулеса изменить убеждения перед парламентскими дебатами? Неужели этот хитрый, как дьявол, католик действительно воображал, будто сумеет пошатнуть Геркулеса, взывая к лучшим сторонам его натуры? И это человек, который много лет жил в грехе со своей любовницей? Нет, Патрик ничего не мог добиться.
Но что он делает в этих местах? Эта сказочка о Глендалохе была откровенной ложью, Патрик просто насмехался над ним. Интересно, что он скрывает?
Ничего удивительного в том, что Геркулес мгновенно исполнился подозрений, увидев двух католиков, не было. Страх перед подавляемым католическим большинством был повальным в правительственных кругах: господствующим протестантам постоянно казалось: во всем, что делают католики, можно усмотреть признаки некоего заговора. Когда в Ульстере возникло напряжение между рабочими-текстильщиками — протестантами и католиками — и католики создали группу, которую назвали «защитники», чтобы уберечься от толп протестантов, правительство тут же усмотрело в этом опасный заговор. В результате количество защитников значительно выросло, и они действительно превратились в некое подрывное тайное общество, из тех, которых так боялось правительство.
А еще перед этим возникли местные волнения из-за высоких церковных налогов и прочих поборов со стороны церковников, и это тут же объявили очередным католическим нападением на благопристойность и порядок. Обвинение было нелепым, но Геркулес, несмотря на то что его имение находилось как раз в том графстве и ему бы следовало знать обо всем лучше, предпочел всему поверить.
Однако в последние три года привычный страх перерос в настоящую тревогу. Католических защитников как будто становилось все больше, и они сливались с «Объединенными ирландцами». Уолф Тон и его дружки явно что-то затевали, но что именно? Люди в замке не были уверены. Может быть, французские революционеры пытались раздуть волнения в Ирландии? Вполне возможно. Но никто не мог найти тому четких доказательств. Впрочем, Фицгиббон и триумвират не собирались просто сидеть и ждать, пока что-нибудь случится. Они начали действовать. Во всех казармах начались учения. Несколько налетов на тех, кого подозревали в причастности к «Объединенным ирландцам», были задуманы для того, чтобы напугать остальных. Землевладельцам было велено быть начеку. Все новые силы направлялись на обыски и аресты.
Именно эти события и заставили двоих мужчин предпринять нынешнюю поездку. Геркулес направлялся в Уэксфорд. Никого из его родных не было в Маунт-Уолше с прошлого года, поскольку его родители решили провести лето в Фингале. И хотя его беспечный отец заверял Геркулеса, что в Уэксфорде все спокойно, Геркулес решил сам поехать и проверить. А вот у Артура Баджа причины для поездки были более официальными. Его отец уже некоторое время настаивал на том, чтобы Артур вернулся в Ратконан и управлял поместьем, да еще попросил чиновников назначить Артура местным мировым судьей вместо него. Так что Артур Бадж должен был провести месяц в Ратконане в должности мирового судьи, получив строгие инструкции всячески остерегаться неприятностей. А поскольку в Дублине мужчины поддерживали вполне дружеские отношения, Артур предложил Геркулесу поехать вместе с ним и провести по дороге ночь в Ратконане.
Расставшись с Патриком и Макгоуэном, Геркулес сразу повернулся к спутнику:
— Ненавижу этих людей! Если бы им позволили, они бы всю Ирландию погрузили в хаос.
— Ты боишься хаоса, — мрачно откликнулся Бадж. — Но не забывай: я боюсь кое-чего похуже.
— Что может быть хуже хаоса?
— Власть католиков. Помни, какой-то век назад, когда король Яков вернул в Ирландию католицизм, папистам понадобилось всего несколько месяцев для того, чтобы взять полную власть. И это может снова произойти, только теперь будет еще хуже. Если католики получат силу, они всех протестантов выкинут с их земли. И нам, Баджам, очень повезет, если мы сумеем сбежать голышом, но живыми.
— А как же их союзники, протестантские патриоты и ульстерские пресвитерианцы?
— Они поведут католиков к победе, а потом просто задавят их числом. Это неизбежно. — Он фыркнул. — Ты думаешь, что борешься за порядок. Но я-то знаю, что сражаюсь за собственную жизнь.
— Не тревожься, — тихо откликнулся Геркулес. — Мы их уничтожим.
Патрик был рад вернуться домой. Домашнее устройство Патрика Уолша и Бригид Смит было необычным, но, похоже, их обоих все устраивало. Со временем они перестали притворяться, что Бригид — экономка в его доме, но такое положение сменилось кое-чем другим.
Бригид вышла на сцену. Старый театр «Смок-Элли» уже закрылся, но театр на Крау-стрит процветал, поскольку удачно располагался, на Дейм-стрит, на полпути между замком и Тринити-колледжем, и был большим и красивым, его посещали люди всех сословий. Стройная фигура Бригид, ее темные волосы и зеленые глаза произвели сильное впечатление, когда она впервые появилась на сцене. Голос Бригид, когда она научилась им владеть, звучал удивительно приятно; и она проявила совершенно неожиданный комедийный дар. Она стала популярной, и на ее выступления, довольно редкие, стремились попасть все. Бригид всегда ставила на первое место интересы детей. Их теперь было четверо: два мальчика и две девочки, и старшему было тринадцать, а младшему — три.
Вместе с переменой ее занятий пришла и перемена в общественном положении. Дублинское общество было вполне добродушным. Даже в величайших аристократических семьях атмосфера была куда более простой, чем в надменных лондонских особняках. В публичных местах, таких как Ротунда-гарденс рядом с родильным домом, знать свободно смешивалась с торговцами и ремесленниками. И если Бригид хотелось очутиться в том или ином кругу, то ее с охотой приняли бы во многих местах, а то, что она, так уж вышло, стала любовницей джентльмена… Ну, такого вполне ожидали от людей, связанных со сценой. Однако куда более проблематичной стала ее связь именно с Патриком. Трудность для респектабельных обитателей дублинского района улиц и площадей, застроенных в георгианском стиле, прекрасно сформулировала Джорджиана:
— Люди чувствуют, что не могут приглашать Бригид в качестве его любовницы, а в качестве его жены они не примут ее.
В связи с условностями того времени все было бы гораздо легче, если бы Бригид вышла замуж за кого-нибудь другого.
Но все это едва ли имело значение, поскольку Бригид совсем не испытывала желания посещать людей, которых она по большей части втайне презирала. Джорджиана, которой Бригид нравилась, сама время от времени навещала ее. У Бригид имелись и собственные друзья, с кем она виделась, когда того хотела. А если Патрика приглашали на ужин в тот или иной дом, Бригид только радовалась, что он идет без нее.
Поначалу это более чем устраивало Патрика — иметь Бригид своей любовницей. Но если он вежливо уклонился от внимания двух женщин, каждая из которых могла составить ему хорошую партию, то это произошло не только потому, что он был одержим зеленоглазой служанкой. Просто он испытывал сильное внутреннее сопротивление узам брака. Возможно, это было вполне естественное себялюбие старого холостяка, но возможно, его манило и что-то другое — необходимость в большем просторе, в более диких берегах. И эту жажду странная девушка с гор могла в некоторой степени утолить лучше, чем кто-либо другой. Его связь с Бригид была страстной и по-прежнему оставалась такой. Он наблюдал за тем, как тихая одинокая девушка превратилась в уверенную красавицу. И дети были красивыми. Бригид прекрасно их воспитывала.
— А ты не думаешь, что после стольких лет тебе следовало бы жениться на Бригид, просто ради детей? — как-то раз поинтересовалась Джорджиана.
Однако, к немалому удивлению Патрика, когда он наконец действительно сделал Бригид предложение, она лишь посмеялась над ним и отказалась.
— В Дублине люди терпят меня, — сказала она, — но никогда не забывают, кто ты такой. Для твоих друзей я по-прежнему служанка, чей отец плотничает в Ратконане. Они никогда не примут меня как твою жену. Лучше я останусь такой, какая я есть. Кроме того, — Бригид улыбнулась, — Патрик, я всегда вольна оставить тебя и увезти детей в горы, если мне захочется.
И Патрик, прекрасно зная ее упрямую гордость, не усомнился ни в едином ее слове. Она действительно думала то, что говорила.
И вот теперь, когда дети наконец оставили его в покое, Патрик подробно рассказал Бригид о своей поездке с Макгоуэном, не упустив и того, что произошло между ним и ее родителями.
Поскольку Бригид лишь в общих чертах представляла себе деятельность Патрика ради «Объединенных ирландцев», не было нужды говорить ей обо всех мелких деталях. Однако теперь Патрик чувствовал, что должен предупредить Бригид, что все это может стать намного более опасным.
— В какой-то момент, — пояснил он, — нам, вполне возможно, придется взяться за оружие.
Бригид выслушала его внимательно, а потом задала всего один вопрос:
— Патрик, ты действительно веришь в то, что делаешь?
— Да, — ответил он. — Верю.
— Тогда не забудь дать и мне ружье, когда все начнется.
На том разговор и закончился.
Прием у Джорджианы состоялся в начале следующей недели. Организовали его второпях, после того как ее муж приехал в Дублин раньше, чем ожидалось. Как и его отец, лорд Маунтуолш ясно давал понять — на свой мягкий лад, — что намерен не раскисать и в старости, и тут какие-то дела привели его в город. Поскольку ему нравилось приглашать людей в дом на Меррион-сквер, Джорджиана поспешила выяснить, кто еще находится в городе, чтобы подобрать для мужа подходящую компанию.
Утром в день приема Джорджиана чувствовала себя довольной тем, какое общество она пригласила: ее дочь Элиза Фицджеральд с мужем, парочка политиков, оба умеренных взглядов, один весьма занятный адвокат, священник из собора Христа и один из Толботов из Мэлахайда — все с женами. Патрика пригласили без Бригид, а еще — одного милого старого джентльмена, жившего на Сент-Стивенс-Грин, некоего доктора Эммета. И конечно, несколько старых друзей. Всего за стол должно было сесть двадцать человек.
Старого доктора Эммета Джорджиана пригласила по особой причине. Хотя Геркулес обосновался в Уэксфорде, его жена и двое сыновей оставались в старом поместье в Фингале. Но старший сын Геркулеса Уильям хотел перебраться в Дублин, к бабушке и деду. А так как он должен был этой осенью начать учебу в Тринити-колледже, Джорджиана и надумала попросить доктора Эммета привести с собой на ужин его собственного младшего сына, поскольку этот юноша уже несколько лет учился в Тринити. Джордж, знакомый со многими профессорами колледжа, доложил ей:
— О нем говорят, что это тихий, прилежный молодой человек с математическим даром, он всем нравится и имеет хорошую репутацию, а поскольку живет дома со старым доктором, то не участвует в буйных вечеринках.
И Джорджиана подумала, что молодой Эммет должен быть вполне милым юношей, с которым стоило бы познакомиться ее внуку.
Из всех своих внуков она больше всего любила Уильяма. Ей не хотелось в том признаваться, однако вся семья это знала. В детстве он был очень похож на Патрика, но, как это часто случается с детьми, его лицо менялось по мере того, как он рос, и теперь, когда ему исполнилось пятнадцать, он начинал выглядеть совсем как старый Фортунат. И он так сильно пробуждал воспоминания о дорогом старике, что Джорджиана не раз и не два, взглянув на юношу, чувствовала, как у нее перехватывает дыхание, и бывала вынуждена отвернуться, чтобы скрыть внезапно нахлынувшие чувства. Но прежде всего она любила в этом мальчике его прекрасную натуру, его доброту. Однажды, когда он был совсем еще мальчишкой, он увидел, как на улице Дублина несколько пацанов бросают камнями в бездомного щенка, и, ни на мгновение не задумавшись, ринулся на них, разогнал, спас животное и принес его домой. С тех пор пес был бесконечно ему предан. Прошлым летом, когда младший брат болел несколько недель подряд, Уильям, любивший много двигаться, сидел с ним каждый день по часу и больше, читал ему книги, играл с ним в карты и смешил как мог. Врачи говорили, что причиной выздоровления мальчика стал прежде всего его старший брат.
И все же единственным сомнением Джорджианы относительно предстоящего вечера было как раз сомнение насчет Уильяма.
— Могу я пригласить старого доктора Эммета? — спросила она мужа. — Он ведь самый безобидный из всех людей, но всегда принадлежал к патриотам. И как насчет Патрика? Что скажет Геркулес, если его сын встретится в нашем доме с людьми, которых он ненавидит?
Но лорд Маунтуолш был тверд.
— Наш дом всегда был местом, где приветствовали людей самых разных убеждений, если только они вежливо излагают свои взгляды, — напомнил он. — И мы ничего не изменим ради Геркулеса. Кроме того, молодой Уильям все равно будет в Тринити-колледже встречаться с людьми самых разных взглядов. Что до Патрика, то он может не нравиться Геркулесу, но, конечно же, Уильям должен хотя бы изредка встречаться со своим кузеном.
Однако утром в день приема Джордж пожаловался, что плохо спал и неважно себя чувствует, и Джорджиана тут же спросила, не отменить ли ужин.
— Ни в коем случае, дорогая! — решительно заявил он. — Я приму лекарство. И пойду в турецкие бани мистера Джойса.
Если в Англии вошло в моду посещать курорт с минеральными водами, устроенный на месте прежних римских бань, то и Дублин теперь обзавелся собственными римскими банями. Вот только по новой моде называли их турецкими. Колоритный делец, создавший их, был турком с экзотическим именем доктор Борумборад, и его пышная борода и восточные одеяния произвели впечатление в Дублине, но потом он наконец сбросил маскировку и предстал перед всеми как мистер Патрик Джойс из Килкенни. Однако его бани продолжали процветать. В них имелись обычные парные и великолепный бассейн. Лорд Маунтуолш, которого друзья как-то раз убедили заглянуть в это заведение, быстро стал покровителем бань, и служащие всегда, естественно, приходили в восторг, когда он туда заглядывал. В начале дня Джордж вернулся из бань, порозовевший и довольный.
— А теперь, дорогая, — бодро заявил он, — я готов насладиться приемом.
И он действительно наслаждался. Гости приезжали один за другим, и Джорджиана с удовольствием наблюдала за тем, как муж радостно приветствует их. Патрика он встретил с особой нежностью. И было ясно, что он с гордостью показывает всем своего молодого внука, которого попросил стоять рядом, пока съезжались приглашенные, а потом повел юношу в гостиную, где все оставались до начала ужина.
Доктор Эммет, седой, но весьма бодрый, послушно привел с собой младшего сына, и как только дед отпустил Уильяма, Джорджиана поспешила познакомить мальчиков.
Ей интересно было наблюдать за ними. Ее внук был, безусловно, крупнее, поскольку Роберт Эммет оказался совсем маленьким смуглым парнишкой, с копной черных волос и маленькими глазами, смотревшими на жизнь со спокойным, но острым вниманием. Стоя рядом с ним, ее внук, с его открытым добрым лицом, напомнил ей крупную охотничью собаку, оказавшуюся рядом с темным терьером. Роберт Эммет, впрочем, как будто вполне любезно разговаривал с ее внуком.
По всей гостиной гости весело беседовали. Джорджиана отметила, как тепло поздоровался Патрик с ее дочерью Элизой и Фицджеральдом, как он поговорил с несколькими другими гостями. А теперь он углубился в беседу с доктором Эмметом.
Патрику нравился старый Эммет. Кстати, вряд ли он был так уж стар: должно быть, ему чуть за семьдесят, предполагал Патрик. Но Эммет уже работал неполный день и немалую часть своего времени уделял маленькому, но приятному клочку земли, который имел к югу от города. Много лет подряд он был управляющим госпиталем, основанным на наследство настоятеля Свифта, и прекрасно знал отца Патрика и всегда с радостью рассказывал Патрику веселые истории о молодости его отца. Было отлично известно, что добрый доктор поддерживает дело патриотов и защиты католицизма.
— Хотя, осмелюсь сказать, — заметил он в разговоре с Патриком, — лучше об этом не рассуждать слишком громко при нынешних обстоятельствах. — И он бросил на Патрика многозначительный взгляд. — Опасные времена, Уолш. Опасные времена.
— А-а… — уклончиво пробормотал Патрик.
Если старый доктор Эммет и поддерживал все это, то, по мнению Патрика, его поддержка не шла дальше цветистых речей или любезных споров. Патрик и вообразить не мог бы, чтобы добрый доктор вышел на улицу с мушкетом в руках. Но он не был и до конца уверен в осмотрительности доктора.
— Вы привели с собой сына, — сказал он, чтобы сменить тему.
— Да, Роберта. Вы с ним не знакомы?
— Нет, не пришлось.
Патрик прежде не видел этого молодого человека, но знал его старшего брата Тома Эммета, юриста. Знал он и то, что Том Эммет — близкий друг Уолфа Тона и, без сомнения, осведомлен о целях поездки Тона во Францию. Но знал ли все это старый доктор? Патрик предполагал, что, скорее всего, не знал. Поэтому он спокойно слушал рассуждения доктора о математических способностях Роберта, о важности математики в целом, пока не прозвучало приглашение к столу.
Ужин был роскошным. Накануне из поместья в Фингале прикатила телега со всем, что только можно было там найти. Овощи, сыры, огромная часть коровьей туши, копченый окорок и фрукты, свежие и засахаренные, из которых повар соорудил несколько десертов, включая и фруктовое желе столь изысканной формы, что все гости разом заявили: ничего подобного они никогда не видели. Ужин подавали десять лакеев. Столовый сервиз с фамильными гербами и баронской короной был привезен из Китая. Маунтуолши, безусловно, процветали, да и почему бы им не процветать?
Лорд и леди Маунтуолш сидели напротив друг друга в середине большого стола, а поскольку среди гостей женщин оказалось больше, чем мужчин, Патрика и юного Уильяма посадили рядом на одной из сторон. Патрик ничего не имел против. Из-за антипатии Геркулеса ему редко предоставлялась возможность поговорить с Уильямом, и он был рад увидеть в нем весьма приятного и открытого юношу. Уильям, похоже, был умен, а его сходство со старым Фортунатом просто поражало. Патрик аккуратно уводил разговор подальше от политических тем, способных как-то задеть отца Уильяма, и сожалел о том, что по той же самой причине не может пригласить его к себе и познакомить с Бригид и их детьми. Они как раз принялись за фруктовое желе, когда, застав Патрика врасплох, молодой Уильям сам заговорил на эту тему.
— А почему вы не поддерживаете отношения с моим отцом? — неожиданно спросил он.
Патрик замялся. Ему хотелось быть честным с этим мальчиком, но приходилось проявлять осторожность.
— Твой отец — замечательный человек, — начал Патрик. Он счел это необходимой ложью. — И я весьма уважаю его. — (Еще одна ложь.) — Но я происхожу из католической ветви нашего рода и поддерживаю политическую линию, которую он считает не только неправильной, но и опасной. А значит, у него есть все причины недолюбливать меня, и потому, чтобы избежать ссор, он меня просто избегает.
— И таких разногласий достаточно для того, чтобы разрушить родственные связи?
— Так всегда было. Да.
— Но вы мне не кажетесь таким уж плохим.
— Ты меня не знаешь. — Патрик улыбнулся. — Если какой-нибудь родственник тебя оскорбляет, лучше просто держаться от него подальше. Наверное, твой отец прав, поступая так, как он поступает.
И именно в это мгновение в дверях столовой появился Геркулес Уолш.
Со своего места Патрик видел, как на лице Джорджианы на мгновение отразилось сильное опасение. Но Геркулес ничего не заметил. А вот лорд Маунтуолш, имевший полувековой опыт политика, и глазом не моргнул. Приходилось лишь восхищаться им. Мгновенно взяв себя в руки, он буквально просиял при виде сына.
— Дорогой мой мальчик! Ты только что приехал? Прошу, поскорее присоединяйся к нам. Принеси ему стул! — бросил он какому-то лакею. — Я просто безумно рад видеть тебя.
Лгать этот старый лис умел отлично.
— Я вернулся домой и узнал, что мой сын здесь, у вас, — ровным тоном произнес Геркулес.
— Да, здесь. Иди сюда, Уильям, — позвал лорд. — Поздоровайся с отцом.
Но было уже поздно. Взгляд Геркулеса обежал стол. Его глаза остановились на докторе Эммете, и видно было отразившееся в них отвращение; потом, не обратив внимания на священника и одного из малозначащих политиков, Геркулес уставился на Уильяма и Патрика.
— Уильям, встань! — холодно велел он. — Ты уезжаешь!
Гости застыли.
— Ты в моем доме, Геркулес! — Сердитый голос его отца нарушил неловкое молчание.
Геркулес продолжал пристально смотреть на сына, совершенно не обращая внимания на лорда Маунтуолша.
— Я сказал, — повторил его отец немного громче, — что вы в моем доме, сэр.
— А мне плевать! — Геркулес не удостоил отца взглядом, продолжая таращиться на Патрика. — Поскольку здесь я вижу некоторую компанию…
И тут наконец, когда юный Уильям, побагровев от стыда и растерянности, начал подниматься с места, Геркулес вдруг повернулся и обвиняюще уставился на отца:
— Но мне не плевать на способ, с помощью которого ты заманил моего сына в ловушку, в такое общество, когда думал, что я ничего не узнаю.
— Геркулес! — воскликнула его мать. — Это несправедливо!
— А я считаю все это, — Геркулес повысил голос, произнеся с ядовитой яростью последнее слово, — бесчестным!
Патрик видел, как вздрогнула и поморщилась Джорджиана, однако лорд Маунтуолш держался достойно, хотя его лицо потемнело.
— Так вы явились сюда, сэр, чтобы оскорбить своих отца и мать в их собственном доме и на глазах их гостей? Немедленно покиньте нас, сэр! — Он встал. — Убирайтесь, сэр! — закричал он вдруг во всю силу легких. — И прошу никогда более здесь не появляться!
Отвесив гостям высокомерный поклон, Геркулес развернулся и пошел к двери, а за ним с несчастным видом плелся его сын.
После этого ужин продолжился, хотя уже и не так весело.
А потом, в четверть первого ночи, лорд Маунтуолш, все еще яростно шагавший по спальне, внезапно упал, сраженный апоплексическим ударом, и мгновенно умер.
Приехав той осенью в Тринити-колледж, молодой Уильям Уолш сразу обратился с просьбой:
— Я не хочу жить дома, как сын Эммета. Я хочу жить в колледже, как мой отец.
Его просьбу удовлетворили, и Уильям был тому рад.
В день его отъезда отец позвал сына в спальню для разговора наедине.
Смерть старого Джорджа означала для Геркулеса перемену в общественном положении. Теперь он носил титул лорда Маунтуолша и более не занимал место в ирландской палате общин, куда ему приходилось избираться, хотя его всегда поддерживали три семьи друзей и с десяток послушных свободных землевладельцев. Выборы оскорбляли его чувство правильности, пристойности. Нет, теперь ему предстояло сидеть в ирландской палате лордов по утвержденному наследственному праву. Со дня похорон его отца слуги и мастеровые уважительно называли его «милорд». Но наверное, еще приятнее для Геркулеса было то, что он получил письмо от знакомого аристократа, которое начиналось со слов «Дорогой лорд». Когда Геркулес выходил из дому, его грубая походка каким-то неощутимым образом становилась благородной; когда он говорил, то осознавал: все его суждения правильны… и не в простом, вульгарном смысле, а потому, что исходили от него. И хотя он никогда не был опытен в вежливых аристократических речах, все-таки можно было сказать, что за несколько коротких недель он облачился в горностаевую мантию помпезности, и это одеяние весьма неплохо легло на его плечи.
Он благодушно посмотрел на старшего сына:
— Итак, Уильям, ты отправляешься в Тринити.
— Да, отец.
— Я сам провел там счастливые годы и уверен, тебя ждет то же самое. — Он улыбнулся. — Но прежде чем ты уедешь, Уильям, я хочу кое-что сказать тебе как отец. — Он показал на диван у стены. — Давай-ка садись рядом со мной, сынок.
Уильяму никогда прежде не приходилось откровенничать с отцом, поскольку Геркулес никогда не был склонен к подобной интимности. И потому Уильям с ощущением, что сейчас ему откроется нечто важное, слушал предельно внимательно.
— Ты скоро станешь молодым мужчиной, — начал отец. — Ну, вообще-то, я думаю, ты уже мужчина. И знаю, у тебя доброе сердце.
— Спасибо, отец.
— Я ожидаю, что однажды ты тоже придешь в парламент, как это сделал я. И конечно же, со временем превзойдешь меня. — Он на мгновение опустил руку на плечо сына. — В нашем положении есть свои привилегии, Уильям. Но вместе с ними приходит и ответственность. И мы с тобой также должны быть готовы принять ее. Впрочем, я уверен, что ты готов, ведь так?
— Да, отец.
— Очень хорошо. Я никому не доверяю больше, чем собственному сыну, и надеюсь, ты знаешь, что всегда можешь довериться мне.
— Спасибо, отец.
— С этого момента мы с тобой будем действовать как команда. — Геркулес немного помолчал. — Хотя о некоторых вещах я пока не могу рассказать даже тебе, Уильям. Но последние вести весьма тревожат. Есть люди, и многие из них находятся здесь, в Дублине, которые замышляют действия, способные уничтожить этот остров. Эти люди болтают о свободе, и некоторые, возможно, даже верят собственным словам, но если им дать волю, последствия могут оказаться прямо противоположными тому, чего они желают. Я говорю о вторжении наших врагов, о крови на улицах, о гибели не только тех, кто взялся за оружие, Уильям, но и тысяч ни в чем не повинных. Женщин и детей. Такое уже случалось прежде. И может произойти снова. Разве мы хотим этого?
— Нет, отец.
Пока Уильям чувствовал лишь легкое разочарование: все это он уже слышал.
— К счастью, — продолжил Геркулес, — нам известно гораздо больше, чем они думают. По всей Ирландии добрые люди постоянно настороже: джентльмены, порядочные торговцы, даже бедняки — люди с честными сердцами. Мы знаем много о том, что сейчас делается, и, осмелюсь сказать, слишком часто простых людей вводят в заблуждение. И еще мы знаем, Уильям, что есть некая группа, связанная с университетом и горящая желанием поймать в свои сети любого молодого человека, которого только сумеют охмурить. Они намереваются агитировать среди студентов. Они подойдут к тебе с дружеским видом, но в итоге их цель — воспользоваться несчастным юношей и в конце концов уничтожить его.
— Я буду осторожен, отец.
— Тебя, конечно, им никогда не одурачить. Но с другими такое может случиться. Поэтому я хочу, чтобы ты был не просто осторожен, Уильям. Я хочу, чтобы ты был бдителен. Если ты заметишь что-нибудь, как тебе кажется, подозрительное, а ты не можешь знать, насколько все может оказаться важным, я хочу, чтобы ты промолчал, но рассказал бы мне. Я знаю, как провести правильное расследование. Даже таким простым способом ты можешь оказать огромную услугу своей стране. — Геркулес помолчал, серьезно глядя на сына, а потом снова положил руку ему на плечо. — Ты можешь подумать, что такие действия не слишком благородны. И человек, вызвавший опасения, может даже быть твоим другом. Но на нас возложен высший долг, на тебя и меня. И я считаю, что лучшая услуга твоим друзьям — это спасение их от поступков, о которых они позже будут горько сожалеть.
— Да, я понимаю. — Уильям выждал немного. — Что-то еще, отец?
— Нет, Уильям, думаю, это все. — Геркулес кивнул, а потом, видимо вспомнив то, что некогда говорил ему самому отец, добавил: — Да благословит тебя Господь, мой мальчик!
Десять минут спустя младший брат нашел Уильяма сидящим на кровати и уныло смотрящим в окно.
— В чем дело, Уильям?
— Отец решил со мной поговорить. — Уильям продолжал таращиться в окно.
— О!.. И что он сказал?
— Что я должен шпионить за друзьями, когда буду учиться в Тринити.
— Ох, Уильям! Лучше бы тебе никогда такого не делать.
— Я должен стать правительственным доносчиком. Он говорит, таков мой долг. — Уильям немного помолчал. — И представляешь, это было все, о чем он говорил. И ничего больше. — Уильям повернулся к брату. На его глазах выступили слезы. — Думаю, другого и ждать незачем. Вот и вся любовь моего отца.
В течение следующих месяцев Уильям наслаждался студенческой жизнью и занятиями. Они занимали бóльшую часть его времени, и, хотя молодежь в Тринити отлично умела развлекаться, занятия в Дублине, как частенько говорили, были куда более напряженными, чем в Оксфорде и Кембридже.
Ну а положение дел в Тринити-колледже было великолепным.
Ведь к этому времени Дублин стал, после Санкт-Петербурга, самой красивой столицей в Северной Европе. Огромные дворцы и здания Тринити сами по себе были величественны, но стоило войти в главные ворота на территорию Колледж-Грин, и взору представало грандиозное здание парламента. Мимо него Дейм-стрит шла к театру, потом к Дублинскому замку и Королевской бирже, еще одному прекрасному зданию в классическом стиле.
А если пройти несколько ярдов к берегу Лиффи, то на другом берегу реки радовал глаз впечатляющий фасад уже законченного здания таможни. А чуть выше по течению можно было увидеть круглое, с куполом здание четырех судов. И везде вокруг, по обе стороны реки, раскинулись широкие улицы и площади георгианского Дублина, уютно устроившись рядом с заливом и под взглядом вечных и нестареющих гор Уиклоу.
Профессора и политики, чиновники и юристы, служащие, торговцы, актеры, светские джентльмены и леди — все сходились поблизости от Колледж-Грин, и Тринити-колледж был центром этой вселенной. И во всем мире не существовало лучшего места для учебы.
Время от времени Уильям видел своего отца, когда тот выходил из здания парламента. Два-три раза Уильяма навещала бабушка Джорджиана. Ей нравилось гулять с ним вокруг колледжа. Если они встречались с кем-нибудь из его профессоров или знакомых, Джорджиана обычно просила представить их ей. И было совершенно ясно: репутация этой женщины опережала ее. Даже те знакомые Уильяма, которые обычно избегали его общества, сразу улыбались при виде богатой и доброй старой леди Маунтуолш.
К несчастью, Уильяма старалось избегать слишком много людей.
Но ведь далеко не все студенты имели четкие политические взгляды. Хорошо, если таких была хотя бы половина, предполагал Уильям. И насчет себя самого он также не был уверен. Однако два наиболее модных лагеря представляли собой те, кто поддерживал Французскую революцию с ее идеалами, и те, кто выступал против нее. Эти великие темы горячо обсуждались в Историческом обществе и в университетском дискуссионном клубе, и споры случались весьма жаркие, а поскольку это была Ирландия, то ораторское искусство здесь ценили высоко. Стало также модой — среди тех, кто наиболее пылко поддерживал идею революции, — следовать примеру лорда Эдварда Фицджеральда и коротко подстригать волосы. Консервативные оппоненты презрительно называли их круглоголовыми. Однако большинство студентов не принадлежали к одному из лагерей или, по крайней мере, не показывали этого.
Но шли недели, и Уильям начал понимать: есть и другой способ определить, где лежат симпатии того или иного человека. Если некто поддерживал идеи революции, то он избегал Уильяма. И в конце концов Уильям решил расспросить об этом Роберта Эммета.
Несмотря на неловкий инцидент в доме деда Уильяма, Эммет проявил немалую доброжелательность. Он нашел Уильяма, когда тот впервые появился в колледже, показал ему все. И два-три раза в месяц он приглашал Уильяма к себе и знакомил с какими-нибудь приятными людьми. Когда же они оставались наедине, Эммет разговаривал с Уильямом просто и легко и даже задевал личные темы.
— Иной раз я бываю до глупости застенчив, — мог, например, признаться он или, грустно улыбаясь и глядя на свои руки, говорил: — Ну почему я грызу ногти?
Однако Уильям замечал, что эта доверительность не шла далее самых тривиальных вещей. Если же Уильям иной раз касался темы, которая могла привести к философскому или политическому спору, Эммет обычно отвлекал его каким-нибудь пустым замечанием и переводил разговор на другую тему. И тем не менее ближе к концу ноября Уильям сумел прижать его к стенке своим прямым вопросом:
— Эммет, почему так много людей меня избегает?
— Ну… — после долгой паузы откликнулся Эммет, — а ты сам как думаешь — почему?
— Наверное, они думают, что, если мой отец — лорд Маунтуолш, я должен разделять его политические убеждения.
— А ты их разделяешь?
— Не знаю, — честно ответил Уильям.
Эммет посмотрел на него с удивлением:
— Ты ведь правду говоришь, да?
— Да.
— А хочешь знать, что люди на самом деле думают? Они думают, что ты шпион. И что бы они ни сказали, ты тут же сообщишь об этом отцу, а от него это попадет в Дублинский замок и к триумвирату.
Уильям покраснел и уставился в пол.
— Понимаю… — Он вздохнул. — А ты тоже так обо мне думаешь? Ты полагаешь, я могу вести себя так презренно?
— Не знаю. Но ты не можешь нас винить.
— Да, конечно. — Уильям печально кивнул. Он действительно не мог никого винить. — Но я скорее умер бы, чем стал бы шпионить! — с несчастным видом выпалил он. — И что же мне делать?
— Ничего, — вполне разумно ответил Роберт. — Если ты попытаешься доказывать, что ты не шпион, это лишь пробудит в людях еще больше подозрений. Тебе придется просто набраться терпения.
И потому Уильям продолжал учебу как можно более спокойно и незаметно, а потом подошло Рождество, и каникулы он провел дома. Он до сих пор не знал, что ему думать о великих политических проблемах, и не собирался размышлять об этом во время праздников, но за два дня до Рождества его отец вернулся домой взволнованным.
— Начинается! — воскликнул он. — Я знаю, вот-вот должно начаться! Французы явились. В Корк. Французские корабли видели в заливе Бантри!
В истории случается множество волнующих моментов — неких поворотных точек, когда, если бы не некие случайные обстоятельства, ход будущих событий мог бы полностью измениться. И одним из таких событий стало появление 22 декабря 1796 года французского флота рядом с заливом Бантри, на юго-западной оконечности острова.
Видит Бог, ничего нового не было в той идее, что французы могут вторгнуться в Ирландию. В течение всего XVIII века, когда Британская империя иногда становилась союзником Франции, но гораздо чаще — ее врагом, страх того, что французы могут причинить серьезные неприятности, отправив в Ирландию свои войска, возникал много раз. Но теперь это произошло на самом деле.
Результат деятельности Уолфа Тона во Франции оказался впечатляющим. Он сумел убедить Директорию, которая правила новой революционной республикой, что следует послать на остров не просто символический контингент, а флот из сорока трех кораблей и пятнадцать тысяч солдат. Не менее важным было и то, что корабли везли оружие для сорока пяти тысяч солдат. Но возможно, самым главным было то, что командовал этой армией некий генерал Луи Лазар Гош, соперник восходящей звезды республики Наполеона Бонапарта. Если бы ему удалось захватить Ирландию, Гош мог бы полностью затмить Бонапарта.
Но судьба той зимой, по какой-то причине или без нее, решила отказать французскому генералу в шансе на бессмертие. Его флот, двигаясь по северным водам, угодил в густой туман, вскоре полностью поглотивший корабли. И этот туман становился все плотнее и плотнее, пока наконец половина флота не потеряла направление. Те же, что продолжали двигаться к Ирландии, угодили в сильную бурю, и к тому времени, когда они подошли к заливу Бантри, высадиться на берег стало просто невозможно. День за днем Уолф Тон смотрел в подзорную трубу на далекие ирландские холмы, дразняще стоявшие на горизонте. Он даже убедил капитана своего корабля подойти к земле, но другие за ним не последовали, и наконец, на пятый день, флот ушел. Будь погода лучше и сумей столь большие силы высадиться на берег, они вполне могли преуспеть. Но так уж вышло, что силы самой природы в те дни уберегли протестантское господство, и чиновники в Дублинском замке не замедлили заявить, что видят в этом Божье провидение.
Французское вторжение не удалось. Но когда новости из залива Бантри долетели до Ратконана, Конал не пал духом. Как раз наоборот: он испытал душевный подъем.
— Я никогда и не думал, что они к нам явятся, — признался он Дейрдре.
А потом, в конце января, он встретился в Дублине с Патриком и узнал, что был в этом не одинок.
— Они уже однажды появились. И наверняка появятся снова, — объяснил ему Патрик. — И на людей это сильно повлияло. Они увидели, что надежда есть. Люди во всех графствах готовы выступить. К лету у нас будет целая армия по всей Ирландии, армия, готовая восстать. Трудность лишь в том, — добавил он, — как добыть для всех оружие.
Хотя законы 1793 года сняли абсолютный запрет, все же католикам в течение века оружие было недоступно; мушкеты и пистолеты найти было трудно.
— Мы постараемся, — обещал ему Конал.
Вернувшись в Ратконан, он получил помощь с совершенно неожиданной стороны.
Когда он упомянул об их проблемах в разговоре с Финном О’Бирном, невысокий мужчина с всклокоченными волосами вдруг энергично кивнул, а несколько дней спустя появился у дверей коттеджа Конала, с гордостью волоча огромный узел, замотанный в одеяло.
Это оказалась примечательная коллекция: старый плужный лемех, две косы, топор без топорища, даже древний металлический нагрудник.
— И что ты собираешься со всем этим делать? — спросил Конал.
— Найду хорошего кузнеца. Превратим все это в наконечники для копий. Ты столяр. Можешь сделать хорошие древки.
— Верно.
— Найдется и еще, — сообщил Финн.
И потом каждую неделю он приходил снова и снова с разным металлом, который собирал по всей округе. Просто удивительно было, что` он находил. Иной раз вещи еще годились в дело, иной раз нет. И теперь Конал, отправляясь в Уиклоу с мебелью, прихватывал вместе с ней и железо, чтобы отдать его кузнецу в городе. К лету у них набралось тридцать копий, спрятанных в полудюжине тайных местечек по всему Ратконану.
Но если угроза французов и вселила новые надежды в «Объединенных ирландцев» и их друзей, то она произвела и два других эффекта.
Уолф Тон и его сторонники могли бы с радостью объединиться с католиками ради создания нового терпимого мира, но оставались еще многочисленные ульстерские пресвитерианцы старой школы, которых приводил в ярость подобный тайный сговор с папистами, ведь те, в конце-то концов, оставались посланцами самого Антихриста! И чтобы противостоять растущему влиянию папистов, пресвитерианцы с недавних пор начали создавать собственные тайные объединения, которые в память о добром короле Вильгельме Оранском назвали орденом оранжистов. И при виде растущей угрозы вторжения эти ложи возникли даже и далеко за пределами Ульстера.
Однако куда больше тревожили Конала другие проблемы — местные. Хотя британские отряды и ирландская милиция постоянно пребывали в гарнизонных городах вроде Уиклоу и Уэксфорда, триумвират желал большего. И вот была создана третья сила.
— Они называют это Йоменскими полками, — заметил Конал. — А я называю их просто бандитами.
Йоменские полки представляли собой нечто среднее между полицией и комитетами бдительности. Их характер и дисциплина зависели от местных джентльменов, которые набирали людей и руководили ими. Конечно, состояли эти отряды почти полностью из протестантов. Младший сын Баджа Иона командовал отрядом, за которым была закреплена область между Ратконаном и Уиклоу. Артур Бадж теперь часто бывал в Ратконане, а его старый отец, хотя и ходил уже с некоторым трудом, все же сурово следил за порядком, а потому у Ионы Баджа и его йоменов не было особых причин тревожить тихую деревушку. Но все это означало, что вокруг стало еще больше следящих глаз, и Конал уже начал бояться, что его могут остановить и обыскать по дороге к Уиклоу.
Однако весна прошла без особых событий. И работа тихо продолжалась все лето. В августе того года Конал отправился на два дня в Дублин повидать своих детей. Он зашел к обоим сыновьям и остановился у Патрика с Бригид. В вечер накануне его возвращения пришел Джон Макгоуэн, и трое мужчин несколько часов обсуждали происходящее. Конечно, они высказывали весьма сдержанные надежды, и все же Патрик проявлял оптимизм.
— Лорд Эдвард рассчитывает, что к концу этого года у нас по всей Ирландии будет полмиллиона человек, поклявшихся защищать правое дело, — сказал он товарищам.
Поскольку клятва поддержки «Объединенных ирландцев» считалась теперь уголовным преступлением, цифра выглядела внушительно. Но тем не менее предполагался совершенно новый вариант развития событий.
— Когда французы придут в следующий раз, поднимется столько народа, что никаким англичанам просто не удастся уже что-либо сделать.
Однако Макгоуэн был не столь оптимистичен.
— Англичане в равной мере полны решимости сокрушить нас еще до того, как это произойдет, — сказал он.
И действительно, британские солдаты под командованием жестокого военачальника по имени Лейк обшаривали Ульстер в поисках нарушителей спокойствия, будь они хоть пресвитерианцами, хоть католиками.
— Они просто терроризируют Ульстер, — продолжил Макгоуэн. — В одной знакомой мне семье по фамилии Лоу арестовали сразу двоих, и одного из них, уважаемого человека, высекли! В Белфасте кое-кто уже стал сомневаться. А потом ведь и до нас очередь дойдет.
— Все изменится, когда придут французы и начнется восстание, — заверил его Патрик.
— И когда это случится? — спросил Конал.
— Мы узнаем от Уолфа Тона. Не бойтесь. А пока готовьтесь.
Похоже, по крайней мере часть предсказаний Макгоуэна оказалась верной, поскольку на следующий день Конал, вернувшись домой, обнаружил, что незадолго до него в деревне появились Иона Бадж и человек двадцать его воинственных йоменов. Иона Бадж еще сидел в седле, наблюдая, как его люди ходят от дома к дому. Отец Ионы стоял рядом с ним с раздраженным видом. Иона был высоким мужчиной с грубым лицом — копия своего отца в молодости, хотя старый Бадж с годами слегка округлился.
— Где ты был? — резко спросил Конала Иона.
— В Дублине, детей навещал, — спокойно ответил Конал.
— Твой дом уже обыскали, Конал, — заметил старый Бадж, сердито посмотрев на сына.
— Нашли что-нибудь интересное? — с невинным видом поинтересовался Конал, но Иона Бадж не обратил на него внимания.
Но они и в других домах ничего не обнаружили. Оружие было отлично спрятано.
— Я им говорил, что тут ничего нет, — сообщил Коналу старый Бадж после того, как Иона со своим отрядом удалились.
Ясно было, что старый Бадж возмущен тем, что сын мог предположить, будто нечто незаконное может происходить прямо под носом у отца.
— Рад, что ты это сделал, — совершенно искренне кивнул Конал.
— Ох, Конал… — произнес землевладелец с некоторой даже доверительностью. — Если не брать во внимание все остальное, я знаю, ты никогда не повел бы себя как дурак.
Позже Конал пересказал этот разговор жене, Дейрдре вовсе не нашла его забавным.
— Конал, ты должен благодарить Господа за то, что они ничего не обнаружили, — сказала она. — Но ведь не только Баджей тебе следует опасаться. Разве я не говорила об этом раньше? Ты прежде всего должен держаться подальше от Финна О’Бирна.
— Ты просто настроена против этого человека, — возразил Конал. — Я тоже не слишком его люблю, но он точно так же замешан во все, как любой из нас.
И действительно, закончилось лето и началась осень, а Финн продолжал усердно привозить все, что считал полезным, а Конал продолжал спокойно ездить в Уиклоу.
Даже на закрытые территории Тринити-колледжа проник новый военный порядок. Теперь в университете имелось собственное подразделение йоменов. Студентов, желавших показать свою благонадежность, а их оказалось много, обрядили в мундиры, и они маршировали туда-сюда, к собственному огромному удовлетворению. Находившиеся вне закона «Объединенные ирландцы» не могли создавать столь открытые группировки, но среди круглоголовых и их приятелей вошло в моду давать тайную незаконную клятву: это было опасно, романтично, волнующе! К тому же всегда находились студенты, которым ужасно нравилось выглядеть загадочно и позволять друзьям предполагать, что они занимаются революционной деятельностью, хотя на самом деле они вовсе ничего не делали.
Положение Роберта Эммета оставалось неопределенным. Кто-то верил, что он дал тайную клятву, кто-то — нет. Что до Уильяма Уолша, он ничего не говорил и ни к кому не присоединялся. Он всех слушал, но не высказывал никаких мнений, которые можно было бы обратить против него.
На второй неделе ноября к нему в колледж явился его отец. Такого до сих пор не случалось. Но, осмотрев комнату сына, изучив его книги и явно одобрив то, что увидел, лорд Маунтуолш улыбнулся вполне любезно, прежде чем заговорить с сыном.
— Уильям, сегодня утром я имел разговор с лордом Клэром. О тебе.
Фицгиббон, пугающий глава триумвирата, стал также и лордом Клэром. Он не только состоял в правительстве Ирландии, но и был вице-председателем Тринити-колледжа, а это означало, что он с высоты своего роста орлиным взором наблюдал за студентами и даже самый незаметный из них не мог ускользнуть от его внимания. Но с чего вдруг Фицгиббон мог заинтересоваться им? — гадал Уиильям.
— Он сказал, — продолжил Геркулес, — сказал по-дружески, что с его стороны весьма любезно… что опасается за тебя. Тебя часто видят с молодым Робертом Эмметом.
— Эммет был добр ко мне, отец, но я не считаю его близким другом.
— Отлично. Как тебе известно, у его отца гнусные взгляды, но относительно безвредные. А вот его старший брат Том Эммет — это совсем другое дело. Он весьма близок с главарями «Объединенных ирландцев». Он опасен, Уильям. Ты с ним знаком?
— Нет, отец. — Уильям действительно не знал этого человека.
— Я так и думал. Кстати, и лорд Клэр ничего такого не подозревает. Но ты знаком с молодым Робертом. А есть опасения, что он может последовать за своим братом. Естественные опасения, ведь так? Уверен, ты с этим согласишься. Он говорит с тобой на темы политики?
— Настолько он мне не доверяет, отец. Но он парень довольно тихий и усердно учится.
— Возможно. А вдруг он попытается сбить тебя с пути? Я объяснил своим друзьям, что ему это вряд ли удастся. Ты слишком умен, и у тебя сильный характер, я это знаю.
— Спасибо, отец.
— И лорд Клэр со мной согласен. Но я убедил его и в большем. Я объяснил, что мы с тобой давно уже договорились: если ты увидишь или услышишь нечто такое, что вызовет у тебя подозрения относительно кого-либо здесь, ты расскажешь об этом мне. Так вот, есть ли тебе что рассказать сейчас, в особенности о молодом Эммете?
— Нет, отец, ничего.
— Ты меня удивляешь. Однако я предполагаю заверить лорда Клэра, что ты усилишь бдительность. И мне хотелось бы надеяться, что мы сумеем внести лепту в общее дело. А пока, я думаю, тебе не следует отдаляться от молодого Эммета. И даже наоборот. Очень даже возможно, что он, доверившись по дружбе, потеряет осторожность и может обронить нечто интересное или даже очень важное для нашей страны, Уильям. И значит, я попрошу тебя быть более усердным в наблюдениях. Я знаю, у тебя доброе сердце и правильные мысли, и уверен: ты меня понял.
— Да, отец. Это все?
— Полагаю, твои занятия продвигаются хорошо?
— Да, отец.
— Отлично. Будем надеяться услышать вскоре что-нибудь насчет Эммета. До свидания, мой мальчик.
— До свидания, отец.
До конца ноября оставалось всего несколько дней, когда к Патрику Уолшу явился неожиданный визитер. Это был его родственник, молодой Уильям.
Юноша явно был чем-то очень взволнован и попросил Патрика о разговоре наедине.
— Вы знаете, что отец велит мне делать?! — сразу выпалил он.
— Понятия не имею, — благодушно ответил Патрик.
— Он велит мне шпионить за моими друзьями в Тринити! На случай, если они предатели, так он это называет. Разве это не подло?
— Ну, согласен, задача не из приятных.
— Мой отец просто негодяй!
— Не согласен, — возразил Патрик. — Мы с твоим отцом друг друга не любим, но он уверен в своей правоте, и его вера искренняя. Любой человек, Уильям, будет делать то, во что по-настоящему верит. И тебе не следует его винить.
Хотя, тут же подумал он, интересно, что было бы, если бы мы поменялись местами? Стал бы Геркулес так же великодушно отзываться обо мне?
— Да, но я не хочу дружить с Эмметом только для того, чтобы предать его и доносить моему отцу и Фицгиббону. Я не иуда!
Патрик же, выслушивая эти важнейшие сведения, никак не выдавал своих чувств.
— А сюда ты зачем пришел? — спросил он.
— Видите ли, в Тринити я слышу споры и разные аргументы за и против «Объединенных ирландцев».
— Не сомневаюсь.
— И мне больше нравится то, что говорят в их пользу. — Уильям опустил взгляд. — Вообще-то, мне и самому хотелось бы дать клятву. Но только не в Тринити. Не хочу, чтобы там знали.
— А почему ты пришел ко мне?
— Потому что уверен: вы должны быть одним из них.
— Понятно. Но если даже это было бы правдой, откуда мне знать, что ты не шпион?
Выражение ужаса и обиды, мгновенно возникшее на лице Уильяма, было таким неподдельным, что Патрик едва не рассмеялся. Даже лучший актер в мире не смог бы сыграть такое, а этот мальчик уж точно актером не был. Патрик внимательно посмотрел на юношу, так сильно похожего на старого Фортуната, и ощутил прилив любви к нему.
— Твоя честность и твоя храбрость делают тебе честь, — мягко произнес он, — но, Уильям, ты слишком молод для таких вещей. Если захочешь, приходи ко мне снова через несколько лет. Твои друзья в Тринити тоже молоды. Вряд ли они до конца понимают, что делают. Для тебя сейчас лучше всего продолжать учебу и ждать. Твое время еще придет. Но я польщен тем, что ты мне доверился.
— И вы не дадите мне возможность поклясться?
— Нет. Забудь об этом.
Молодой Уильям ушел, упав духом, а Патрик сел в кресло, закрыл глаза и улыбнулся.
Он подумал, что к тому времени, когда этот мальчик повзрослеет, Ирландия с Божьей помощью станет совсем другой. И молодой Уильям Уолш наверняка будет лидером, и одним из лучших. Патрик ощутил прилив фамильной гордости.
Женщине нелегко ненавидеть собственного сына. Однако Джорджиана его ненавидела и ничего не могла с этим поделать. Она винила сына в смерти его отца, ведь именно тот скандал, который Геркулес учинил в их доме, и стал, без сомнения, причиной апоплексического удара. И не было смысла говорить ей, что если не это, так что-нибудь другое могло убить ее мужа. Нет, она знала, ее добродушный муж много лет не испытывал таких огорчений и, живя спокойной и беззаботной жизнью, мог протянуть еще добрый десяток лет, а то и больше. На похоронах Геркулес держался с приличествующим случаю печальным видом, но Джорджиана не верила, что он на самом деле горюет, и день-два спустя в гневе воскликнула:
— Это ты убил его!
Но Геркулес резко ответил, что она несет чушь. Джорджиане не принесло утешения даже то, что весь светский Дублин согласился с ее мнением.
Но смысла погружаться в переживания не было, и ради сохранения фамильного достоинства Джорджиана старалась их скрыть. И никто, видевший ее рядом с Геркулесом на публике, не мог бы догадаться о ледяной и жгучей ненависти, скрытой в ее сердце.
К счастью, у Джорджианы были еще дочь Элиза, жившая неподалеку, Патрик, с которым она часто виделась, и внуки. И среди них, конечно, ее любимец молодой Уильям. И она с радостью навещала его в Тринити. Но хотя Уильям знал, что она его очень любит, Джорджиана старалась не слишком отягощать его своей привязанностью.
— Я не могу постоянно беспокоить молодого человека, — говорила она Элизе.
Смерть мужа принесла с собой и некий сюрприз. Джордж не только оставил Джорджиане солидную вдовью долю и право жить, сколько ей захочется, в обоих дублинских домах и поместье в Уэксфорде, но и распорядился, чтобы ей представили отчет по всем счетам и деловым операциям. И это стало открытием.
Потому что на свой незаметный лад первый лорд Маунтуолш проявил себя гениальным дельцом. И он с удивительной проницательностью распоряжался тем, что у него было.
Как и многие другие представители его класса, он в первую очередь уделял внимание земле, и два последних десятилетия были благосклонны к нему. Благодаря росту населения и зарубежному спросу цены на сельскохозяйственную продукцию Ирландии резко выросли, а ячмень в Уэксфорде рос отлично. Разумно вкладывая доходы и умно спекулируя на аренде, лорд Маунтуолш основательно увеличил семейные владения. Джорджиана обнаружила, что у них теперь на тысячи акров земли больше, чем она могла предположить.
Но еще более удивительным оказался интерес лорда к торговле. Хотя в Ирландии она была подвержена весьма печальным спадам, за десятилетия, прошедшие после их свадьбы, торговля в целом окрепла и выросла. И стало обычным для младших сыновей сквайров оседать в Дублине и заниматься комиссионной торговлей, поскольку это дело при малом риске давало небольшой доход на импорте и экспорте, и человек мог надеяться, что лет через двадцать-тридцать заработает достаточно, чтобы купить небольшое имение и вести свободную жизнь ирландского джентльмена. Но лорд Маунтуолш действовал иначе. Он вложил деньги в два торговых дома, один из которых экспортировал ткани в Британию в обмен на сахар, а другой посылал мясо на сахарные плантации в Америке — наилучшую говядину для самих плантаторов и практически отбросы для их рабов (потроха и обрезки торговцы называли французскими бифштексами).
И Джорджиана поняла: ее муж не только финансировал эти торговые дома, но и сам занимался повседневными делами. Он помог одной семье гугенотов организовать мануфактуру, и те изготовляли отличные ткани из смеси шерсти и шелка. Он перекупил нескольких английских стеклодувов, чье мастерство было не хуже лучших стекольщиков Уотерфорда, и, что куда более важно, он владел третьей частью одного процветающего банка, на который с уважением смотрел даже могущественный дублинский дом Ла-Туш.
Но больше всего Джорджиане понравилось, что Джордж вернулся к делу ее отца, став совладельцем большой льняной фабрики в Дублине. А поскольку ирландское полотно в последнее время продавалось все лучше — около тридцати пяти миллионов ярдов в год, — то доходы были огромными.
В общем и целом ее добрый муж оставил состояние в три раза больше того, что получил. Джорджиана, изучая его осторожные, хитрые, а порой блестящие действия, чувствовала, как внутри ее наполняется гордостью и восхищением душа ее отца. А вот Геркулес за всю жизнь не проявил и доли такого ума и таланта, как отец.
Смерть мужа изменила жизнь Джорджианы и еще в одном смысле. Раньше она не осознавала, как он ее защищал. Она проявляла живой интерес к тому, что происходило в мире вокруг, и муж всегда стоял рядом с ней, на ее стороне. Действия триумвирата, радикальные идеи Патрика и его друзей, грубые выходки Геркулеса могли волновать или тревожить, но рядом с Джорджианой всегда находился хладнокровный муж, и при его осторожной политической позиции она могла чувствовать себя в безопасности. Но теперь, похоже, события стали касаться ее напрямую, и Джорджиана испытала новое для нее чувство неуверенности. А события сами по себе уже поворачивали в неприятную сторону.
Джорджиана с ужасом услышала от Дойла о заключении под стражу и порке ее родственников Лоу в Ульстере. Джорджиана была достаточно осторожна, чтобы никогда не расспрашивать Патрика о его политической деятельности. Она могла догадываться, но не желала знать. Но он дал ей понять, что всерьез ожидает нового появления французов. И что это могло означать для всех них? Джорджиана не знала.
В то лето она без сожаления уехала в Уэксфорд. И тихо жила там. Патрик приезжал к ней на несколько дней. Он гордился созданной им библиотекой и предложил еще кое-что к ней добавить. Джорджиана наслаждалась его обществом и сожалела, когда он уехал. Молодой Уильям с братом также заезжали к ней, но ненадолго. И тем не менее Джорджиана не чувствовала себя одинокой. Она сдружилась со многими своими соседями. Неподалеку от дома она разбила небольшой сад, огороженный стеной, для выращивания фруктов и душистых трав. И обрела мир.
Возвращаясь в начале осени в Дублин, Джорджиана не чувствовала себя счастливой. Начиналась обычная светская жизнь — и ничего не могло быть интереснее. Однако приемы не доставляли Джорджиане такого удовольствия, как тогда, когда она посещала их с мужем, а политическое напряжение, висевшее в воздухе, лишило Дублин его обычного очарования. В начале ноября Джорджиана потихоньку покинула столицу и вернулась на зиму в Маунт-Уолш.
Но в этот холодный сезон даже чудесный Уэксфорд как будто изменился, словно ирландские проблемы, как холодный ветер, обнажили зеленые поля и рощи и породили другой пейзаж, унылый и суровый.
К удивлению Джорджианы, ее жизнь в Уэксфорде позволила ей куда лучше понять те политические бури, которым она была свидетелем в столице. Еще летом она кое-что заметила. Вроде бы все вполне обычное: в доме появилось место для новой горничной. Как обычно, экономка отобрала двух или трех девушек, а уже сама Джорджиана должна была определить, какая из них подходит ей больше. Однако экономка мимоходом заметила, что могла остановиться на любой из тех пятидесяти, что пришли, а когда Джорджиана выразила удивление, экономка пояснила:
— По крайней мере пятьдесят, миледи, и за половину того жалованья, что мы предлагаем. Вокруг нынче так много молодых людей, что наниматели могут почти ничего им не платить.
Джорджиана постоянно наблюдала, как разрастается Дублин, видела целую армию мастеровых, торговцев и слуг, которых поглощал город, но совершенно не представляла масштабы рынка труда, который пополняли жители поселков и деревушек со всего острова. За последние пятьдесят лет население Ирландии удвоилось, и теперь составляло пять миллионов.
— Им трудно живется? — спросила она.
— Они злы, миледи, из-за высоких цен на продукты, но с голоду не умирают. На мой взгляд, — в голосе экономки зазвучало предостережение, — это очень дурно, когда простые люди недовольны, а заняться им нечем.
К ноябрю подобное настроение среди местных фермеров стало уже весьма заметным. Военная деятельность триумвирата требовала больших денег. Были введены новые налоги. Джорджиана отлично знала по счетам в Маунт-Уолше, что новые пошлины на соль и солод сильно ударили по землевладельцам и фермерам. В Уэксфорде в особенности налог на солод почти свел на нет доходы от урожая драгоценного ячменя. Все были недовольны.
— Если у кого-нибудь из триумвирата случится пожар, — как-то раз сказал Джорджиане сосед-землевладелец, — я не знаю ни одного местного фермера, который дал бы ему ведро воды.
Думая о милом Патрике, Джорджиана заглядывала к местным католикам, и именно Келли просветил ее.
Джорджиану весьма удивило то, что после того, как Патрик явно ухаживал за его сестрой, а потом бросил ее, Келли и Патрик остались друзьями. Однако сестра Келли давно была замужем, а Келли отзывался о Патрике только хорошо. Навещая его, Джорджиана нашла в нем самого близкого ей по духу человека. И он был с ней абсолютно откровенен.
— Мы, католики, теперь уже утратили все надежды на дублинский парламент, — сказал он ей. — И держаться умеренной позиции становится просто невозможно. А последствия этого могут быть очень серьезными.
— Но ведь Католическую церковь вроде бы не беспокоят, да?
— Не беспокоят. Потому что Ирландская церковь боится радикалов. Она боится всего, что хоть немного похоже на революцию. Что до Рима, то ведь французские революционеры — атеисты, и они убили короля-католика, не говоря уже о массовом убийстве священников, монахов, монахинь и просто честных католиков. И французам хочется уничтожить естественный порядок вещей. Так что для Англиканской церкви предпочтительнее иметь дело с королем Георгом, протестантом. Все священники, которых я знаю в этих краях, проповедуют терпение и послушание. Но это не значит, что прихожане их слушают. — Он усмехнулся. — Половина из них предпочла бы послушать хорошую балладу о дерзкой женщине с гор, чем мессу. А если дело дойдет до бунта, их уговаривать не придется.
В январе Келли еще раз проявил проницательность.
Как-то вечером в Маунт-Уолш неожиданно приехал Геркулес и заявил, что намерен провести здесь несколько дней. И хотя Джорджиане совсем не хотелось его видеть, она постаралась быть любезной и избегать разговоров о политике. Но на следующее утро к ним приехал Келли, не знавший о визите Геркулеса. Его проводили в библиотеку, где он и нашел Джорджиану с сыном.
Многие люди ненавидели или боялись Геркулеса, но Келли, хотя ему, скорее всего, не понравился сын Джорджианы, вроде бы проявил к нему некоторый интерес и даже легко вовлек в разговор. Геркулес всегда был готов поговорить и тут же начал рассуждать на любимую тему: об установлении порядка — и как бы мимоходом дал понять, что если он и скажет что-нибудь оскорбительное для гостя, то ему на это плевать.
И действительно, совсем скоро он сделал грубое замечание в адрес католических священников. Джорджиана не стала бы винить Келли, если бы тот дал пощечину ее сыну, но Келли предпочел промолчать и терпеливо слушать.
— Проблема с вами, папистами, не столько в священниках, — продолжил Геркулес, — сколько в целой армии учителей в школах за изгородями. Вот они-то и создают неприятности.
На это Келли совершенно беззлобно улыбнулся и заметил, обращаясь к Джорджиане:
— А знаете, он совершенно прав.
— Рад, что вы согласны, — кивнул Геркулес. — Они поощряют местное население к тому, чтобы иметь слишком высокое мнение о себе, так как учат их родному языку.
Но тут Келли засмеялся:
— А вот это, да простит меня ваша светлость, совсем неверно. По правде говоря, когда я был мальчишкой, в школах за изгородями действительно в основном говорили на ирландском. Но за последнее время кое-что изменилось. Родители не хотели, чтобы их детей учили по-ирландски, потому что думали, что это им невыгодно. Они хотели, чтобы преподавание шло на английском. И знаете, что в результате произошло? Те местные ирландцы, которые умеют читать, а таких много, читали революционные буклеты из Америки и радикальные листовки на английском из Белфаста и Дублина. — Он одарил Геркулеса жизнерадостной улыбкой. — Если вдруг начнется революция, милорд, и сметет вас — да простит меня Господь, — то ее причиной станут французские войска и английский язык. В этом я могу вас заверить.
А вот это совсем не понравилось Геркулесу, и он, коротко кивнув, ушел из библиотеки, оставив там Келли и Джорджиану. Келли тоже не засиделся, но пообещал заехать как-нибудь на днях. После его ухода Геркулес заметил:
— За этим человеком следует присмотреть.
Но в тот вечер он сказал и кое-что еще, и Джорджиана, подумав о Патрике, не на шутку испугалась.
— Этой революции не бывать. Нам известно гораздо больше, чем эти проклятые болваны могут вообразить.
К счастью, когда Келли снова появился, Геркулес уже отбыл. Джорджиана с удовольствием поболтала с Келли и порадовалась возможности извиниться за манеры своего сына. Когда Келли собрался уходить, она спросила:
— Если придут французы, как вы думаете, что произойдет здесь, в Маунт-Уолше?
Отвечая, Келли бросил на нее осторожный взгляд:
— Вас в этих местах любят. Не думаю, что вам причинят какой-то вред. Но лучше вам быть в Дублине.
— Понимаю… — Джорджиана почувствовала, что слегка побледнела. — Думаете, мне следует уехать?
— По правде говоря, — ответил Келли, — представления не имею.
После его ухода Джорджиана отправилась в свой садик и увидела, как с неба летят снежинки; она решила, что спешить некуда.
Пришел февраль, а с ним и крокусы: фиолетовые, оранжевые и золотые.
В один из мартовских дней задул сырой ветер, хлопавший ставнями. Бригид была дома.
Кто-то тихо постучал в дверь. Никто этого не услышал.
Бригид знала, что по улицам Дублина ходят солдаты. Недавно было объявлено военное положение. Видимо, речь шла о комендантском часе, но театры продолжали работать, и гостиницы были переполнены. Но Бригид слышала, что сегодня патрулей должно выйти больше.
Снова стук. Бригид посмотрела в окно, увидела дождевые капли, падавшие на серые каменные ступени, но солдат там не было. А потом она заметила край шляпы у самой двери.
Она сама отворила дверь, и в дом поспешно вошел высокий человек в тяжелом плаще, шляпа-треуголка скрывала лицо. Только когда он прошел в гостиную и снял шляпу, Бригид увидела красивое аристократическое лицо.
Перед ней стоял лорд Эдвард Фицджеральд.
— Патрик дома?
— Я жду его с минуты на минуту.
— Слава Богу! Никто не видел, как я сюда шел. Я был осторожен. — Он снял плащ, но не сел, а начал расхаживать по комнате. — За мной пришли, когда у нас было собрание. Некоторые успели сбежать через заднюю дверь. Но искали они именно меня. Мне необходимо спрятаться.
— А разве ваша семья не может…
— Нет. — Лорд покачал головой. — Если триумвират решил арестовать меня, то даже герцог мне не поможет. Да они Ленстер-Хаус разнесут, если понадобится. — Он снова зашагал туда-сюда. — Мне лучше здесь не задерживаться. Как думаете, за Патриком они придут?
Бригид немного подумала.
— Пожалуй, нет, — наконец сказала она.
Патрик был полезен для бунтарей, и он был другом Фицджеральда, но не состоял ни в каких советах. И прежде чем триумвират добрался бы до него, они нашли бы много других. Кроме того, Бригид знала и еще кое-что. Она улыбнулась:
— У меня, видите ли, есть свой шпион в Дублинском замке.
Бригид не слишком много ходила по гостям, но она ведь была актрисой, и для нее было вполне естественным иметь поклонников. И как хорошая актриса, она умела с ними обращаться. Она никогда не изменяла Патрику, но ловко завела романтическую дружбу с несколькими мужчинами. Нет, она с ними не флиртовала. И никогда не подавала им надежду. Но позволяла им поддерживать невысказанную мысль, что, если бы не Патрик, у них мог бы появиться шанс. И несколько мужчин с радостью наслаждались ее обществом на этом основании. Эти мужчины ей нравились, и она ценила дружбу с ними, а если время от времени использовала их, то они ничего не имели против. Они также служили и другой полезной цели: если Патрик и доверял ей, то все же не должен был ни на мгновение забывать, что она желанна для других.
И вот такой поклонник из Дублинского замка оказался достаточно добр, чтобы предупредить Бригид еще год назад, что Патрика подозревают в участии в тайном заговоре. Бригид мгновенно уставилась на него темными глазами:
— Почему?
— Его кузен, новый лорд Маунтуолш, так говорит.
— Полагаю, вам известно, что Геркулес его ненавидит. Это началось еще в детстве. Он просто завистливый дьявол! — Бригид улыбнулась. — Я бы никогда не позволила Патрику ничего подобного. — Тут она засмеялась. — В любом случае, могу вас заверить, Патрик и мухи не обидит!
Но некоторое время спустя ее друг заметил:
— Кстати, насчет Патрика: я передал ваши слова самому Фицгиббону.
— И что он сказал?
— Просто кивнул и ответил: «Я знаю».
Люди из Дублинского замка, без сомнения, допускали, что Патрик симпатизирует «Объединенным ирландцам», но то же можно было сказать о самых разных людях. И вряд ли у них имелись доказательства чего-то большего. И Бригид в общем думала, что известная всем злоба Геркулеса как раз и могла отвести от Патрика серьезные подозрения.
И все же она испытала облегчение, когда появился Патрик.
Он был рад, хотя и не удивлен, увидев в доме лорда Эдварда. Уже разлетелась новость о том, что схватили нескольких вождей «Объединенных ирландцев». И Патрик сразу согласился с тем, что здесь Фицджеральду не следует задерживаться.
— Слугам я доверяю достаточно. Но рано или поздно, даже если меня никто не выдаст, в этот дом вполне могут явиться с обыском, и спрятать вас будет негде.
Мужчины обдумали несколько возможных мест в городе и за его пределами, но все сочли неподходящими.
— И корабль искать нет толку, — сказал Патрик, — потому что за всеми портами следят.
Решение в итоге нашла Бригид.
— Самое надежное место — такое, куда вообще не посмотрят. И оно находится прямо в центре Дублина, не более чем в миле от замка. — Бригид улыбнулась. — И если вас не смутит окружение, то вам стоило бы отправиться в Либертис.
Либертис: густонаселенные, вонючие районы, некогда бывшие частью феодальных владений Церкви, а теперь ставшие приютом для дублинских бедняков. Вы могли быть честным ткачом-католиком, или рабочим-протестантом, или шлюхой, или самым обыкновенным вором. Вы могли любить своего соседа или задумывать убить его, но кем бы вы ни были, в Либертис вас объединяло с остальными одно: ненависть и отвращение к властям. Даже военные патрули предпочитали обходить Либертис стороной.
Но лорд Эдвард задал только один вопрос:
— Как?
— Предоставьте это мне, — ответила Бригид. — Но будьте готовы еще до сумерек.
Отсутствовала Бригид больше часа.
Мужчины остались наедине и обсудили самые неотложные проблемы. В зависимости от того, скольких арестовал триумвират, руководство «Объединенных ирландцев» становилось, похоже, очень маленькой группой.
— Я полагаюсь на вас, Патрик, — сказал лорд Эдвард. — В том смысле, что вы станете для меня связью с миром. — (Самым насущным вопросом сейчас было оружие.) — В городе так много тайных складов, что вряд ли их все смогут обнаружить, — заявил Фицджеральд. — Но я хочу, чтобы вы сохранили вот этот список. Спрячьте его как следует, в нем все наши тайники. И если с вами что-нибудь случится, — продолжил он, — сведения должны перейти к Бригид.
И оба согласились, что после сегодняшнего дня очень важно поддерживать в людях бодрость, чтобы они желали и были готовы сразиться, когда придет время.
Но когда оно придет? Патрику хотелось бы это знать. Получал ли Фицджеральд какие-нибудь новости от Уолфа Тона из Парижа?
— Ничего определенного. Но и Талейран, отвечающий за внешнюю политику, и генерал Бонапарт склоняются в нашу сторону. Тон надеется, что их выступление состоится еще до начала лета.
— Понимаю… — Патрику это показалось многообещающим.
— Нет, Патрик, не понимаете. На самом деле мы как раз это и должны были обсуждать сегодня на совете. Я, видите ли, придерживаюсь другого мнения. Если триумвират продолжит наседать на нас, то я уверен: необходимо найти другой путь. — Лорд немного помолчал. — Нам следует начать восстание очень скоро, с французами или без них.
— Сами? Без настоящей армии?
— Если посмотреть на Ирландию в целом, я полагаю, мы могли бы вооружить четверть миллиона человек.
— Я никогда об этом не задумывался, — признался Патрик. — Но риск…
— Надо верить, Патрик, — произнес аристократ.
Наконец Бригид вернулась, и выглядела она довольной. Актриса принесла какой-то узел. Она повидала своего брата-табачника, и тот пообещал, что к ночи подготовит комнату, где сможет устроиться лорд Эдвард, по крайней мере на какое-то время. Бригид отметила, что мужчины явно обеспокоены, в особенности Патрик. Он нервно спросил, видела ли она патрули на улице.
— Да их полно! — весело ответила Бригид. — Но вы не тревожьтесь. Я знаю, что делать. — И она начала развязывать узел.
Очень хорошо, думала она, что я принадлежу к театральному миру. Ей понадобилось полчаса, чтобы завершить работу, но зато потом она была горда результатом. Вместо высокого, темноволосого и моложавого аристократа появился сутулый седой тип в грязной рубахе и потрепанной старой шинели. На нем были истертые башмаки, и при ходьбе ему приходилось опираться на ее плечо. Что до самой Бригид, то она превратилась в ночную бабочку, некогда знававшую лучшие дни.
— Вы мой отец, — сообщила она лорду, — и я веду вас домой. Завтра, — добавила она, — вы сможете надеть собственную одежду, только никогда не выходите в ней на улицу.
— И какой дорогой мы пойдем? — спросил лорд.
— Такой, какую не выбрал бы ни один беглец, — ответила Бригид. — Прямо мимо ворот Дублинского замка.
Они вышли из дому в сумерках, перешли Лиффи, миновали Колледж-Грин, потом прошли по Дейм-стрит мимо замка, и стражники посмотрели на них с жалостью, но без интереса. Они уже шли дальше, когда появился патруль и офицер выступил вперед, чтобы задать вопрос. Но Бригид резко бросила, что ей хочется довести отца до дому, в Либертис, до наступления темноты, и разразилась потоком такой непристойной брани, что офицер попятился назад, не желая это слышать.
Конечно, обычно ни Бригид, ни лорд Эдвард не решились бы бродить в одиночку по городу в такой час. Потому что в темноте Дублин показывал свое ночное лицо: дома, словно скрытые огромным сценическим занавесом, превращались в мрачную сплошную массу, в которой лишь кое-где мелькали огоньки свечей, улицы становились ущельями, переулки разевали похожие на пещеры пасти, темные или едва освещенные… а человеческие существа выглядели как мелькающие тени. Опасные тени: от собора Христа до Дейм-стрит и даже до фешенебельной тихой Сент-Стивенс-Грин какая-нибудь фигура, затаившаяся в переулке или за деревом, могла оказаться спящим пьяницей или нищим, а могла вдруг выпрямиться и броситься на вас, чтобы ограбить, прижимая нож к горлу. То же самое происходило в других больших городах — Лондоне, Париже или Эдинбурге, разницы тут никакой не было.
Но Бригид и ее спутник, выглядевшие как бедняки, готовы были слиться с потрепанными тенями и продолжали шагать на запад. В итоге они спокойно добрались до Либертиса.
Повернув на узкую улочку, потом в какой-то вонючий переулок, Бригид подвела лорда Эдварда к двери, где их ждала еще одна тень — на этот раз ее брат. Они поднялись по шаткой лестнице, и брат Бригид отпер дверь комнаты. В неярком свете его лампы стало видно, что в ней имеется деревянный стул и нечто вроде постели на голом полу. И именно здесь приготовился провести холодную мартовскую ночь лорд Эдвард Фицджеральд, сын герцога, наследник величайшей феодальной династии и половины законных принцев древней Ирландии, привыкший жить в огромном Ленстер-Хаусе.
18 апреля молодой Уильям Уолш, услышав, что все до единого в Тринити-колледже, без исключения, должны на следующий день присутствовать в огромном обеденном зале, чтобы приветствовать вице-канцлера, был уверен, что знает, зачем все это.
За арестом руководителей «Объединенных ирландцев» в марте последовала великая охота на лорда Эдварда. Одни говорили, что он по-прежнему в Дублине, другие утверждали, что он бежал во Францию, а то и в Америку. Но на самом деле никто ничего не знал.
Однако после тех арестов яркий луч следствия упал на новую цель: Тринити-колледж. Здесь тоже кое-кого арестовали, включая старшего брата Роберта Эммета, Тома, уже выпускника. Но ведь и сам Уолф Тон окончил Тринити, и у него до сих пор оставались там друзья. Фицгиббон, к немалой своей ярости, услышал от коллег, что университет, в котором он был вице-канцлером, оказался рассадником подстрекательства к бунту. И были предприняты удвоенные усилия к тому, чтобы вырвать с корнем все сорняки. Двоих старшекурсников, относительно которых была уверенность в том, что они принесли клятву «Объединенным ирландцам», мгновенно исключили. А теперь Фицгиббон явно намеревался предпринять публичный допрос всего студенческого состава. И потому днем, когда Уильям случайно встретился со своим другом Робертом Эмметом, ему очень хотелось узнать, что тот думает обо всех этих событиях и что намерен делать.
— Если подвернется шанс, — спросил Уильям, — ты выскажешься?
Дело в том, что в последние месяцы Роберт Эммет весьма удивлял мир Тринити-колледжа. Прежде он был тихим юношей, а потому, когда он вступил в Историческое общество, никто не ожидал услышать его голос во время споров. Но, впервые заговорив, он проявил весьма примечательный ораторский дар.
— Сидит себе тихо, как мышка, — говорил один из членов общества Уильяму, — а потом вдруг встает и превращается в льва!
Но в ответ на вопрос Уильяма Эммет отрицательно покачал головой:
— Фицгиббон пришел не дебатировать с нами, Уильям. Это ритуальное следствие и казнь. И я уверен, мне предстоит стать одной из жертв. Он всегда подозревал нашу семью. И теперь мой брат арестован. Уверяю, он собирается меня выгнать. Но я не дам ему шанса унизить меня публично. Я туда не пойду. Я заставлю его проклясть меня, но сам этого не услышу, и пусть он покажет всем, что он собой представляет.
— Ты думаешь, он настолько любит унижать?
— А разве вся система господства протестантов не есть огромная система унижения? — Эммет мрачно улыбнулся. — Будь готов сам засвидетельствовать это завтра.
Однако случилось еще нечто, к чему Уильям оказался совсем не готов. На следующий день он собирался уже идти на собрание, как его срочно вызвали к ректору. Когда Уильям пришел в приемную, его сразу же провели в какую-то комнату, и там вместо ректора он увидел перед собой самого Фицгиббона.
Уильям, никогда прежде не встречавшийся лично с Фицгиббоном, невольно стал рассматривать его с некоторым любопытством. Глава триумвирата оказался грозной фигурой, но при всем том ужасе, который он внушал, Уильям знал: будучи юристом, Фицгиббон завоевал репутацию отличного адвоката и судьи, и даже честного. И лишь приняв на себя правительственную роль, он стал таким опасным. Странно, но этот столп господства протестантов на самом деле родился в семье, которая перешла в официальную Церковь из католичества. Однако, возможно, как раз потому, что семья была из новообращенных, он как будто переполнялся яростной ненавистью ко всем католикам, а заодно и к радикалам. И вот теперь Фицгиббон стоял перед Уильямом в академической мантии, и его вполне можно было принять за какого-нибудь мрачного римского наместника, отлитого в бронзе.
При виде Уильяма он протянул вперед руку:
— А-а, Уильям! — Он назвал юношу просто по имени и даже улыбнулся. — Твой отец заверил меня, что я могу на тебя положиться, и по твоему честному лицу я вижу: да, действительно могу. Сегодня нам нужно сделать важное дело.
— Милорд?..
— Я тебя искал ради поддержки.
— Понимаю, — пробормотал Уиильям, ничего не понявший.
— Ты еще так молод… — Фицгиббон говорил вполне добродушным тоном. — Но сегодня все подвергнутся проверке. Сегодня придется выступить за то, во что ты веришь. Я рассчитываю на тебя.
Он коротко кивнул, давая понять, что разговор окончен, и Уильям ушел.
Когда он добрался до огромного зала, тот уже был набит битком. На возвышении в дальнем его конце стояли стол и два стула, как пара тронов. Они ждали Фицгиббона и его знакомого судью. Внизу, в зале, весь колледж устроился на скамьях в соответствии с рангом: впереди декан и его ближний круг, потом преподаватели, старшекурсники, студенты младших курсов и даже технический персонал. Уильям быстро пробрался на место. Наконец все собрались, и двери зала закрылись. Люди ждали. И вот с пугающей величественностью появились Фицгиббон с судьей и заняли свои троны. Мгновение-другое они просто сидели молча, а потом Фицгиббон встал.
Он говорил четко и ясно, как прокурор, излагающий свою позицию. Позвольте напомнить всем, подчеркнул он, что они находятся в привилегированном положении. Они будущие правители своей страны. Большинство важных постов в Ирландии занимают выпускники Тринити-колледжа. А вслед за привилегиями, продолжил он, идет и ответственность. А также — теперь в его голосе прозвучала нотка предостережения — они несут и риск. Учиться в Тринити означает встать на светлую дорогу. Быть изгнанным из университета означает гибель всех надежд на успешную карьеру. И кое-кто из присутствующих вот-вот получит этот страшный урок. Как сообщил Фицгиббон, у него есть надежные, неопровержимые сведения, что некоторые из сидящих перед ним заигрывают с государственными преступниками.
Когда Фицгиббон произносил эти слова, его обвиняющий взгляд скользил по залу, словно он видел тайны каждого сердца.
Так чего же он хочет от них? Да самой простой вещи в мире. Он попросит всех подойти по очереди.
— Некоторым из вас я задам какие-то вопросы и советую отвечать на них честно.
Что до остальных, он лишь попросит их произнести несложную клятву. Фицгиббон кивнул на судью, который поднял вверх Библию, а потом положил ее на стол. Они должны поклясться в верности короне и поклясться, что сообщат все о своих товарищах и знакомых, если их спросят. Тут все должно быть предельно открыто, заявил он. И ни один порядочный человек, они ведь с ним согласятся, не может ничего возразить против такой клятвы. И его взгляд снова изучающе обежал всех. Уильяму показалось, что глаза Фицгиббона на мгновение задержались на нем, он в ответ посмотрел на вице-канцлера и подумал, что видит перед собой два темных водоворота.
Началась объявленная процедура, и очень быстро стало ясно, к чему ведет Фицгиббон.
— Он хочет нас напугать, — прошептал сосед Уильяма.
Каждый из тех студентов, кого вызвал вице-канцлер, был известен связью с «Объединенными ирландцами», и каждого публично допрашивали.
Первый тихо ответил, что не состоит в этом обществе.
— Ну же, сэр, ну! — воскликнул Фицгиббон. — У меня есть доказательства! — И он подкрепил свое заявление. — Десятого февраля вас видели входящим в дом, который, как мы узнали от находившегося там человека, был местом встречи «Объединенных ирландцев»…
Убийственное доказательство было встречено молчанием.
— Готовы ли вы теперь, — продолжил вице-канцлер, — дать клятву изобличить ваши действия и тех, с кем связаны?
— Нет.
— Можете сесть на место, сэр.
Подобным образом спрашивали и других. А одна храбрая душа осмелилась даже бросить открытый вызов Фицгиббону.
— По какому праву проводится это следствие? — спросил студент.
— По моему собственному, сэр. Выше никого нет в этом колледже.
— И вы предлагаете мне предать друзей?
— Я предлагаю вам, сэр, не предавать вашу страну.
— Я отказываюсь признавать такое следствие, и я отказываюсь давать вам клятву.
— Тогда вы будете исключены, сэр.
Но если все это выглядело пугающим спектаклем, то один случай выглядел жалко.
Это был невысокий парнишка, меньше пяти футов ростом. Звали его Мур. Его мать была вдовой бедного лавочника, а значит, для ее сына колледж означал выход из мира нищеты. Большинство студентов, будучи людьми обеспеченными, частенько презирали подобных студентов, ведь тем приходилось выполнять разную черную работу в колледже, чтобы оплачивать обучение. Но многие испытывали легкое любопытство: неужели этот тихий юноша действительно состоит в обществе «Объединенные ирландцы»? Никто этого не знал.
Но Мура обвиняли в другом преступлении: он был католиком.
Пять лет назад его вообще бы не приняли в Тринити. Но британское правительство наконец вынудило дублинские власти пойти на некоторые уступки, и Фицгиббон, против собственной воли, позволил принять в Дублинский университет нескольких католиков.
Бедняжка Мур стоял перед высоким вице-канцлером и дрожал от страха. Кто стал бы винить его за это? А Фицгиббон, возвышаясь над ним, взял Библию, протянул ее вперед и приказал юноше дать клятву. Уильям не подумал бы о юноше плохо, если бы тот согласился. Это же ничего не значило. И в любом случае Фицгиббону нечего было вменить в вину Муру. Дай клятву и покончи с этим, мысленно просил Уильям. Но Мур покачал головой.
Нечто вроде улыбки появилось на лице Фицгиббона. Неужели ему было весело? Он сунул Библию в правую руку Мура, но тот отдернул руку и спрятал ее за спину. Фицгиббон рассматривал его, словно кот пойманную мышь. Он попытался сунуть Библию в левую руку Мура, но тот спрятал и эту руку за спину, как будто святая книга была заразной. Мур был беззащитен, но не собирался сдаваться.
Всех в зале, даже йоменов из внутренней гвардии, постепенно охватило чувство симпатии к отважному парнишке.
Фицгиббон продолжал рассматривать Мура, склонив голову набок. Теперь он прижал Библию к груди студента. Юноша попятился. Последовал новый толчок. Юноша сделал еще шаг назад. Еще и еще… Вице-канцлер и маленький католик двигались по помосту, вице-канцлер продолжал тыкать в него Библией, а тот отступал. Но наконец Мур оказался прижатым спиной к стене, и вице-канцлер готов был заставить его уступить. Кое-кто из йоменов посмеивался. Но Уильяму не было смешно. Он даже не боялся. Он испытывал лишь все растущее чувство отвращения.
— Садитесь на место, сэр. — Фицгиббон вернулся к столу и положил Библию, а потом произнес следующее имя: — Мистер Роберт Эммет! — (Тишина.) — Мистер Эммет! — (Тишина.) — Мистер Эммет здесь? — Фицгиббон вроде бы ничуть не удивился. — А у нас есть обширные доказательства его причастности к заговору.
Он замолчал и уставился на Библию. Похоже, ему пришла в голову некая мыль. До сих пор он имел дело только с непокорными студентами и, возможно, решил, что пора вызвать кого-нибудь из другой компании.
— Мистер Уильям Уолш! — Он посмотрел на Уильяма в упор. — Мистер Уолш.
Уильям медленно пошел к возвышению. Он чувствовал, что весь колледж смотрит на него, и догадывался, о чем все думают. Кое-кто из тех, кто знал Уильяма, мог гадать, не завлек ли его Эммет в команду бунтарей. Но куда большее количество полагало, что он, будучи сыном лорда Маунтуолша, должен быть близок к властям. И наверняка воображали, что все это подстроено заранее, что Фицгиббон вызвал его, чтобы кого-нибудь обвинить. Уильям не спешил, поскольку представления не имел, что собирается сейчас сказать.
Но вот он очутился на помосте, и Фицгиббон смотрел на него, но совершенно без угрозы. И Уильяму, пока он подходил к вице-канцлеру, показалось даже, что тот едва заметно, но вежливо и дружески наклонил голову.
— Мистер Уолш… — Фицгиббон скорее обращался к залу, чем к Уильяму, — вы слышали, как многие из членов этого колледжа отказались дать предлагаемую им клятву. И в каждом случае есть некая причина такого отказа, а именно, как вполне можно доказать, вовлеченность в предательскую деятельность. Но все они, если можно так выразиться, просто гнилые яблоки в большой корзине. И в этом колледже есть люди, кстати, их большинство, должен заметить, разумные и преданные. У них не может быть никаких причин возражать против клятвы, которая всего лишь обязывает их презирать измену и публично разоблачать предателей, если они обнаружат их в своей среде. И теперь я предложу вам, мистер Уолш, вот это Священное Писание и попрошу дать эту простую клятву. — И он с улыбкой взял со стола Библию и самым любезным образом протянул ее Уильяму.
А Уильям до сих пор не знал, что он сделает. Он просто уставился на книгу.
Через мгновение, видя, что Уолш как будто сомневается, Фицгиббон нахмурился, но скорее от недоумения, чем от гнева. Он кивком показал на книгу, словно Уильям просто забыл, зачем он здесь и что от него нужно.
— Положите руку на книгу, — тихо произнес вице-канцлер.
Но Уильям продолжал стоять неподвижно. Как ни странно, он не испытывал страха. Он просто гадал, что же он собирается сказать. Но уже через секунду он увидел в глазах Фицгиббона вспышку опасного гневного огня. И тогда он понял.
— Я не могу дать такую клятву, милорд. — Уильям произнес это спокойно, но четко и достаточно громко. Даже служащие, сидевшие в заднем ряду, могли его слышать.
— Не можете, сэр?
— Эта клятва, милорд, не из тех, которые могут давать джентльмены.
— Не для джентльменов, сэр? — Голос вице-канцлера поднялся отчасти от злости, отчасти от простой растерянности. — Я сам, сэр, был бы горд дать такую клятву! — воскликнул он.
— Значит, ваша светлость не джентльмен, — услышал Уильям собственное заявление.
По залу пронесся громкий вздох. Фицгиббон остолбенел, уставившись на Уильяма. Потом, швырнув книгу на стол так, что едва не пошатнулись потолочные балки, он закричал:
— И это говорите вы, молодой человек, это говорите вы! Позор! Позор! Вернитесь на свое место, сэр, и знайте: больше вам никогда здесь не сидеть!
В тот день девятнадцать человек были исключены из колледжа. Прежде чем объявить их имена, вице-канцлер объяснил собранию, что означает для них такое исключение. Они должны понять, сообщил Фицгиббон, что для этих девятнадцати закрыт не только Дублинский университет. Во все учебные заведения Англии и Шотландии будут отправлены письма, объясняющие их исключение. Так что отныне для них закрыты все пути к какой-либо карьере.
Конечно, такое изгнание, включавшее, само собой, и Роберта Эммета, было задумано заранее и, по мнению Фицгиббона, было делом совершенно необходимым. Но к списку добавилось еще и имя неожиданного предателя Уильяма Уолша. Поскольку юный аристократ, неожиданно восставший против своего класса, так чудовищно его унизил, вице-канцлер затаил на него особую ярость и злобу. И он не стеснялся в выражениях, когда в тот день писал письмо лорду Маунтуолшу.
Джорджиана просто не могла в это поверить. Прошло меньше месяца после ее возвращения в Дублин, когда к ней явился ее внук. О скандальном исключении она услышала вечером того же дня и тут же поспешила к Геркулесу, но там нашла только его жену. Та сообщила, что Геркулес получил письмо от Фицгиббона и в бешенстве умчался в Тринити-колледж. Джорджиане ничего не оставалось, кроме как ждать следующего дня, чтобы вернуться в дом на Сент-Стивенс-Грин. Но не успела этого сделать, потому что пришел Уильям и сообщил, что он теперь бездомный.
Если Фицгиббон был в ярости, то бешенство Геркулеса вышло за все мыслимые границы. Если вице-канцлер думал, что Уильям предал людей своего круга, то Геркулес заявил сыну:
— Ты предал меня!
И если Фицгиббон изгнал Уильяма из Тринити-колледжа, то Геркулес пошел еще дальше:
— У тебя больше нет дома! Ты мне не сын! — рявкнул он.
И действительно, еще до конца того дня Геркулес велел семейному юристу выяснить, есть ли какой-нибудь способ лишить Уильяма права наследовать фамильный титул. Даже его жена, любившая сына и надеявшаяся на примирение, была потрясена не менее мужа и сочла, что любой отец вправе был бы действовать так же. А младшему брату Уильяма сказали, что тот совершил преступление настолько ужасное, что о нем не следует вообще упоминать.
Вот Уильям и перебрался к Джорджиане. Она получила от Геркулеса записку с просьбой немедленно выгнать его сына, потому что, объяснил он, ее неуместная доброта может быть истолкована как предательство по отношению к самому Геркулесу, но Джорджиана не обратила на это внимания. На самом деле она была рада видеть Уильяма в своем доме. Она любила в нем доброту и честность, в этом он очень походил на ее дорогого супруга, а внешне был похож на старого Фортуната: к Джорджиане как будто вернулись они оба. И она видела, мальчик тоже ее любит. О своих чувствах к родителям Уильям говорил мало, но однажды открылся:
— Я люблю маму, но она во всем слушается отца. — И добавил: — Отца я люблю, потому что он мой отец. Но на самом деле он мне не нравится.
В ответ на это Джорджиана промолчала. Да и что она могла сказать?
Однако молодой человек еще и немного пугал ее. Что ей, скажите, с ним делать? В лучшие времена она могла позволить себе неуверенность. Но теперь? Власти нанесли удар, но они явно не думали, что уничтожили угрозу. В Дублине, похоже, собиралось все больше и больше солдат. В каждой части города формировались йоменские отряды. На Меррион-сквер кое-кто из жителей тоже создал собственный отряд. Правда, там не было ни одного воина моложе шестидесяти лет. Когда они патрулировали площадь, то в основном пили чай или прикладывались к фляжкам, которые держали в карманах. Двоих таких воинов даже возили в креслах на колесах преданные слуги. Но все они были вооружены мечами и дуэльными пистолетами. И если эта часть городских приготовлений выглядела смехотворно, то многие солдатские патрули наводили настоящий страх.
К тому же было понятно: если Йоменские полки готовятся действовать, то тем же занимаются и их противники. «Объединенные ирландцы» могли оставаться невидимыми, но все ощущали их присутствие. Напряжение росло. И что, гадала Джорджиана, собирается делать в такой обстановке ее своенравный внук? Он оскорбил Фицгиббона, но совратили ли его «Объединенные ирландцы»? И Джорджиана спросила его напрямую.
— Нет, — ответил Уильям. — Но я бы поддержал их против людей вроде Фицгиббона и моего отца.
— Ты не должен совершать никаких глупостей, Уильям! Я тебе запрещаю! — переполошилась Джорджиана.
Но внук ничего не ответил.
И что ей делать? Запереть его в комнате? На это у нее не хватило бы духу. Прошло две недели, три. Уильям ничем ее не тревожил. Он с удовольствием разговаривал с бабушкой. Иногда куда-то уходил — повидать друзей, так он объяснял, — и отсутствовал несколько часов. Но где он бывал, Джорджиана понятия не имела. К третьей неделе мая город выглядел как военный лагерь перед началом сражения. Напряжение стало уже невыносимым.
Как-то утром вроде бы что-то началось. Патрули передвигались по городу с новой энергией и целенаправленностью. К полудню Джорджиана услышала, что поймали кузнеца, ковавшего копья. Весь тот день и весь следующий продолжались обыски. Солдаты шли от двери к двери. Джорджиана придумывала один повод за другим, чтобы удержать внука дома. А потом грянула новость:
— Схватили лорда Эдварда Фицджеральда!
И новость сопровождалась самыми разными подробностями. Он ранен. Он в тюрьме. Он умирает. Едва услышав это, Уильям умчался из дому. И Джорджиане не удалось его остановить.
Еще несколько дней приходили все новые детали события. Якобы молодого аристократа просто предали. Его арестовали в его тайном убежище в Либертисе. Там была схватка, он пытался отбиваться. Началась стрельба, и его тяжело ранили. А обыски тем временем продолжались. На Дерти-лейн на складе древесины Раттигана был найден тайник с оружием.
— Они вынесли из его дома всю мебель и сожгли, чтобы преподать ему урок, — вот что услышала Джорджиана.
Нескольких человек публично высекли. И когда же революционеры собираются нанести ответный удар? Молодой Уильям теперь каждый день уходил из дому на несколько часов, и Джорджиана не знала, где он бывает. Она пыталась его расспрашивать, но внук отвечал уклончиво. Прошло еще два дня. Комендантский час теперь соблюдался жестко. Никто не мог появиться на улицах после девяти вечера. 23 мая Уильям выглядел необычно взволнованным. Он вышел в начале вечера и не вернулся. Начался комендантский час. Уильяма не было.
Джорджиана металась по своей спальне. Она ничего не могла поделать, но и лечь в постель тоже не могла. Шли часы. Миновала полночь. А потом Джорджиана услышала бой барабанов где-то неподалеку. Это был призыв к йоменам браться за оружие и собираться на Сент-Стивенс-Грин.
И по всему городу тоже зазвучал призыв. Началось. Вскоре кто-то заколотил в дверь, и Джорджиана сама побежала к входу. За дверью она увидела одного старого джентльмена из патруля на Меррион-сквер. В руках он держал фонарь. За его поясом торчали два дуэльных пистолета, и выглядел он довольным, как сытый кот.
— Закройте все ставни! — крикнул он. — Начинается! И драка будет черт знает какой, не сомневайтесь! — И сразу поспешил дальше.
— Но где? — крикнула Джорджиана ему вслед.
— Увидите сами из верхних окон! — не оборачиваясь, ответил джентльмен.
И Джорджиана, поспешив подняться наверх, действительно увидела из окна, как на юге у подножия холмов разгорается огонь.
На рассвете снова явился тот же самый старый джентльмен.
— Они остановили почтовые кареты! — сообщил он и как будто просиял от восторга. — Теперь бунт начнется по всей Ирландии. Никаких сомнений!
Через два часа после окончания комендантского часа вернулся Уильям. Он никак не объяснил свое отсутствие, а Джорджиане и спрашивать не хотелось. Уильям ушел к себе и лег спать. Через полчаса Джорджиана встретилась с Геркулесом.
— Ты должен позвать его обратно! — умоляла она. — Я не могу за него отвечать, и я не знаю, как он может себе навредить!
Но Геркулес был непреклонен.
— Слишком поздно, — заявил он. — Для меня он умер.
И только тогда Джорджиана в отчаянии обратилась к человеку, которого, как она предполагала, Уильям мог выслушать.
Бригид не долго колебалась, прежде чем приняла решение: она пойдет с ним и плевать на последствия.
Однако этот юноша оказался настоящим сюрпризом.
Когда Джорджиана пришла к Патрику за помощью, Бригид думала, что в том нет необходимости, но Патрик все понял:
— Она ведь его бабушка, она его любит и чувствует, что не в силах ему помочь. Такая ответственность слишком тяжела для нее. Я совсем не виню ее за то, что она ищет моей помощи. И возможно, она права. Может быть, мальчик послушается меня.
И он согласился зайти тем же днем.
Его план, о котором он ничего не сказал Джорджиане, был немного грубоват и отчасти лукав, но необходим.
— Я отведу его к нашему родственнику Дойлу, — сказал он Бригид. — А потом запрем его в погребе. Дойл может продержать его там, пока шум не уляжется, так или иначе.
К сожалению, когда Патрик сообщил о своем замысле старому Дойлу, тот отказался.
— Говорит, слишком много хлопот, — пожаловался Патрик.
В общем, им оставалось лишь то, чего хотела Джорджиана: увезти внука в Уэксфорд.
Патрик предупредил Джорджиану, что в этом может быть риск. И даже признался ей, что состоит в обществе «Объединенные ирландцы». Но это, похоже, ее не удивило.
— Ты сумеешь удержать его от дурного пути, — сказала она. — Ты мог бы увезти его в Маунт-Уолш. А если соберешься в Уэксфорд, так и еще лучше.
Для Бригид и Патрика недели после того, как она спрятала лорда Эдварда в Либертисе, были и суетливыми, и опасными. Постоянно происходили встречи, поступали приказы. Все действия организации «Объединенные ирландцы», пострадавшей, но по-прежнему живой, координировались из той пустой комнаты в жалком переулке. Каким-то чудом Бригид и Патрика так и не поймали. К середине мая было принято решение: восстание начнется двадцать третьего.
Нельзя сказать, чтобы Патрика это порадовало.
— Это же просто безумие — начинать без французов! — воскликнул он.
Но Патрик, хотя и был доверенным лицом, не участвовал в принятии окончательного решения, а лорд Эдвард и кое-кто еще были просто одержимы идеей бунта. И колесо покатилось. К тому времени, когда лорда Эдварда арестовали, казалось, что восстание в любом случае начнется.
План был грандиозным: предполагалось захватить Дублин. Тогда восстанет вся Ирландия. Но координация была недостаточно хороша. Отделившаяся ульстерская организация продолжала действовать сама по себе. Захват почтовых карет накануне ночью должен был послужить сигналом: если бы в разные города не пришла почта, люди бы поняли, что восстание началось. Но карета, шедшая в Уэксфорд, ускользнула. На рассвете того дня было решено, что Патрик должен отправиться на юг и присмотреть за тем, чтобы тамошняя группа действовала в согласии с остальными.
То, что Патрику понадобилось отвезти родственника в Маунт-Уолш, стало отличным предлогом для поездки, а Джорджиана пообещала обеспечить его письмом.
— Если ты остановишься в Маунт-Уолше, — добавила она сдержанно, — то мог бы защитить мой дом от своих друзей. Будет очень жаль, если созданная тобой библиотека сгорит.
Когда Джорджиана ушла, Патрик повернулся к Бригид:
— Ты ведь знаешь, я должен ехать.
— Знаю. — Она улыбнулась. — Но я поеду с тобой.
И как он с ней ни спорил, она стояла на своем.
В тот день Патрик пошел повидать молодого Уильяма. Как только он рассказал о той роли, которую они с Бригид сыграли в судьбе лорда Эдварда, и сообщил, что хотел бы, чтобы Уильям поехал с ним с важной миссией на юг, юноша тут же загорелся желанием ехать. И они отправились в путь на следующее утро.
Конечно, ей не стоило с ним ехать. Бригид колебалась, покидая детей. Они всегда стояли для нее на первом месте. Но ведь она провела лучшие годы своей жизни с этим добрым, идеалистичным и немножко себялюбивым человеком. Возможно, ее подталкивал древний примитивный инстинкт, который руководил женщинами из века в век, и они следовали на войну за своими мужчинами. Но какова бы ни была причина, после того, через что они недавно прошли, Бригид знала: к добру или к худу, пришло время, когда она просто обязана быть рядом с Патриком.
— Но разве ты не должна заботиться о детях? — спросил он.
— Нет, — просто ответила Бригид. — На этот раз я позабочусь о тебе.
И оставила детей под присмотром богатого брата в доме на Дейм-стрит.
Все трое ехали верхом. Один раз их остановили, у южной окраины города. Но, узнав, что это члены семьи лорда Маунтуолша, которые едут присмотреть за его имением, офицер Йоменского полка пропустил их, предупредив лишь о том, что на дороге следует быть поосторожнее. На западе неспокойно, сообщил он, во всем Мите и дальше до Килдэра, и военные уже подтягивают силы к тем графствам.
— Но имейте в виду, — сказал он, — следующими будут Уиклоу и Уэксфорд.
По пути они видели несколько горящих домов, но почти никаких признаков организованного восстания. В одной деревне им весело сообщили, что их лендлорд сбежал. Несколькими милями дальше маленький отряд местных йоменов с гордостью рассказал, что поблизости бунтовщиков разбили наголову. И по мере того как они поднимались в горы, они видели все меньше людей и все меньше признаков волнений.
До Ратконана они добрались во второй половине дня и прямиком отправились в коттедж Конала, где нашли Дейрдре, Конала и Финна О’Бирна. Бригид восхитилась той естественностью, с какой Патрик попросил Уильяма присмотреть за лошадьми, когда остальные вошли в дом. Как только они очутились внутри и никто не мог их услышать, мужчины начали энергично совещаться. Конал быстро подтвердил то, что они уже заподозрили. Случилась путаница. И Уэксфорд продолжал ждать, не зная, что делать. Дальше, на прибрежной равнине, бунтовщики понемногу продвигались вперед, приход за приходом.
— Слава Богу, что вы здесь! — продолжил Конал. — Старый Бадж один в большом доме. Артур Бадж уехал в Уиклоу, а его брат Иона отправился с йоменами на побережье. Мои парни уже готовы. Мы можем захватить весь Ратконан за какой-нибудь час. Но я придерживал всех, пока не был уверен, что восстание действительно началось.
— Ты правильно сделал, — согласился Патрик.
— Но теперь-то оно уже началось! — Глаза Финна горели волнением. — Я своих людей соберу за минуту. Оружие у нас совсем рядом. — Он усмехнулся, и на его лице были написаны и веселье, и злоба. — Мы нацепим башку старого Баджа на копье еще до того, как сядет солнце! — Он удовлетворенно кивнул. — И погреемся вечерком у его горящего дома.
Похоже было на то, что Финн по-прежнему верил, будто его семья и есть законный наследник Ратконана, вот только дом ему не был нужен.
Но Патрик покачал головой:
— Нет, нам нужно совсем не это. Не сейчас. Если мы захватим Ратконан, Финн, то не сможем его удержать. Даже Иона Бадж с его йоменами сможет, пожалуй, одолеть вас, и Бог знает, какое еще подкрепление сможет привести его старший брат. Так что это бессмысленно. Вы должны ждать, — пояснил он, — большого восстания. Когда поднимется Уэксфорд, тогда и настанет время брать Ратконан и передавать другим деревням, чтобы они поднимались. А пока, — добавил он, — если Бадж думает, что здесь все тихо, то это лишь к лучшему. Когда настанет момент, вы его захватите врасплох. Ничего не предпринимайте, — предупредил он, — пока не получите весточку от меня. — Он строго посмотрел на Финна. — Жаль будет, если вас перебьют без всякого смысла.
Финн явно был разочарован, но сдержался.
Вся семья и молодой Уильям тихо поужинали вместе в тот вечер и в сумерки улеглись спать. А на рассвете поехали дальше. Но перед отъездом Бригид о чем-то с чувством поговорила с матерью, и Дейрдре поцеловала ее. Дальше они ехали без происшествий. И тем же вечером были в Маунт-Уолше.
Бригид казалось странным вернуться в этот большой дом, где когда-то она была служанкой. Она до сих пор помнила кое-кого из людей, работавших здесь. Молодой Уильям отправился в свою спальню, а Бригид с Патриком пошли в библиотеку, где встретились впервые. Они зажгли несколько свечей и стали рассматривать книжное собрание.
— Пьес маловато, — заметила Бригид.
— Здесь есть Шекспир.
— Но нет Шеридана.
— Да, ты права. Когда все это закончится… — Патрик замялся всего на мгновение, — я восполню пробел.
— Да уж, пожалуйста.
— Моя жизнь началась здесь, Бригид, когда я встретил тебя.
— Моя тоже.
В одиннадцать вечера они наконец отправились отдыхать, но не успели толком заснуть, как были разбужены мельканием света факелов снаружи и грохочущими ударами в парадную дверь. Патрик, прямо в ночном халате, сбежал по лестнице, и Бригид поспешила за ним. Уильям и несколько слуг уже собрались в холле. Снаружи раздался голос:
— Выходите или сгорите!
— Что вам нужно? — крикнул Патрик.
— Поджечь дом проклятого лорда Маунтуолша! — ответил голос. — С вами ничего не случится, если вы выйдете наружу!
Патрик попросил подождать, потом повернулся к одному из слуг:
— Открой дверь, я с ними поговорю.
Ему не понадобилось много времени, чтобы переубедить пришедших. Это были «Объединенные ирландцы», около пятидесяти человек, но не местные, пришли из какого-то поселения в нескольких милях отсюда. По дороге к месту большого завтрашнего сбора они решили свернуть в сторону и поджечь дом, который, как они поняли, принадлежал ненавистному Геркулесу.
— Это не его дом, — объяснил им Патрик. — Он принадлежит его матери, а она из патриотов. И это она прислала меня сюда. — Он быстро объяснил, кто он такой и каковы цели его поездки. Ему нетрудно было доказать истинность своих слов. — Этот дом служит нашему делу, — добавил он. — Его не следует трогать.
Вожак группы, судя по выговору родом из Ульстера, явно был не слишком доволен.
— Меня зовут Лоу, — сказал он, — и мне не слишком нравится та леди. Но ладно, твою просьбу мы уважим.
Патрик выразил некоторое удивление тем, что в Уэксфорде оказался человек из Ульстера.
— Нас несколько приехало, — объяснил Лоу. — Я лично просто искал перемен после того, как меня высекли.
Патрик расспросил его, как именно организованы их силы.
— Уэксфорд начал позже, — ответил Лоу. — Но трудностей с призывом людей не было. Некоторые из местных сквайров похожи на лорда Маунтуолша, они создали Оранжистские ложи. Их даже умеренные протестанты ненавидят. И они очень энергично действовали на побережье вокруг Арклоу. Арестовали некоторых людей в южной части Уиклоу и на севере Уэксфорда. Задержали нас на день-другой. Но сейчас у нас уже людей много. И кое-кто говорит, что они отправляются резать торф. Это местная шутка. К сумеркам все будут вооружены. И ночью поднимется весь Уэксфорд.
— А какие силы нам противостоят?
— Дальше в Уэксфорде, в самом городе, стоит гарнизон из двух тысяч солдат с артиллерией. Еще один гарнизон охраняет порт Уотерфорд на случай появления французов. Но, кроме них и гарнизона Йоменского полка в Эннискорти, есть только очень маленькие гарнизоны в небольших городках. Мы легко их разобьем. Тебе следует пойти с нами на большой сбор, — добавил он. — Там ты можешь познакомиться со всеми командирами.
Именно этого Патрик как раз и хотел, а потому сразу согласился.
— Отдохните здесь несколько часов, — предложил он, — а на рассвете отправимся вместе.
Лоу принял приглашение, и Патрик с Бригид вернулись в спальню.
Но Бригид не спала, она всю ночь смотрела на Патрика до самого начала рассвета.
Когда начало рассветать, Патрик, прежде чем уехать, отдал распоряжения молодому Уильяму.
— Жди здесь и будь готов, когда получишь от меня сообщение, — сказал он. — Может быть, мне будет нужно, чтобы ты кое-что сделал. А пока охраняй Бригид. — Самой же Бригид он шепнул: — Удержи его здесь любыми средствами, следи, чтобы с ним ничего не случилось.
Бригид любила покой этого большого дома. Мирная тишина окрестностей была чем-то вроде молчаливого отзвука ее собственного детства в Ратконане. И хотя эта мысль успокаивала, Бригид чувствовала все более сильное беспокойство за Патрика. Она постаралась отвлечься на другие дела.
Довольно много времени Бригид провела с Уильямом. Ей было приятно, что он заинтересовался библиотекой.
— Но вот позволит ли мне отец наслаждаться родовым поместьем, большой вопрос, — грустно заметил он.
Вечерами Уильям с удовольствием читал вслух по очереди с Бригид. Куда труднее было удержать его в доме. В первые два дня он отправлялся на прогулки верхом для разминки. Но уже на третий день начал твердить, что ему следует присоединиться к уэксфордским повстанцам.
— Если Патрик велел тебе ждать, — напомнила ему Бригид, — то, значит, у него были к тому серьезные причины. Он очень высокого мнения о тебе, и ты не должен теперь его подвести.
И Уильям с неохотой согласился, но Бригид не была уверена, что ей удастся достаточно долго сдерживать его пыл. Уильям нравился ей, несмотря ни на что.
Дни стояли сухие. Бригид много времени проводила на воздухе, часто в саду Джорджианы, бывшем настоящим райским уголком. Иногда они с Уильямом отправлялись на прогулки. Бригид любила широкие классические улицы Дублина, но вот огромный дом в Маунт-Уолше, выстроенный в палладианском стиле, казался ей чужаком в этой местности, среди мягкого и спокойного ландшафта. Думая о бедных простых людях, среди которых она выросла в Ратконане, Бригид вполне понимала, почему им хотелось сжечь это сооружение. Но она ни слова не сказала об этом Уильяму.
К счастью, вечером пятого дня Патрик вернулся.
Он приехал вместе с Келли, соседним землевладельцем. Оба мужчины выглядели довольными собой, как парочка мальчишек.
— Ты просто не поверишь, как все отлично идет! — воскликнул Патрик.
Продвижение «Объединенных ирландцев» шло поразительно успешно. Прямо в день большого сбора их атаковали силы милиции, приведенные из графства Манстер, из Корка.
— И мы их раскидали! — с победоносным видом воскликнул Келли.
Тысячи повстанцев промчались по окрестным деревням, и тамошние мелкие гарнизоны бежали. Один из таких гарнизонов в панике даже бросил большой склад оружия.
— Мы просто поверить не могли в такое! — радостно сообщил Патрик. — Они нам оставили восемьсот карабинов и несколько возов разного снаряжения!
На следующий день повстанцам сдался гарнизон в Эннискорти, не имевший артиллерии. И подходили все новые и новые отряды повстанцев.
— Мы разбили лагерь на холме Винегар, рядом с городом, — продолжил Патрик. — Там чудесное место!
Но самый необычайный подарок судьба преподнесла им на следующий день, когда какое-то военное подразделение глупейшим образом позволило увлечь себя в засаду и потеряло все пушки. И теперь у повстанцев было не просто огромное войско с огнестрельным оружием и копьями, но еще и артиллерия. Видя это, даже командир единственного серьезного гарнизона во всем графстве, в Уэксфорде, запаниковал и сбежал.
— Так что нынче, — сообщил им Патрик, — Уэксфорд станет примером для новой Объединенной Ирландии. У нас уже есть сенат из восьми губернаторов, четыре католика и четыре протестанта. И у нас точно так же есть и протестанты, и католики среди командиров, у них под началом около десяти тысяч человек. — Он улыбнулся. — Прежде чем покинуть Уэксфорд, я отправил посланца в Ратконан, чтобы сообщить: пора подниматься.
Времени было не слишком много. Финн О’Бирн посмотрел на небо. День шел к концу. Сообщение от Патрика пришло накануне вечером. Конал отсутствовал с самого рассвета, он объезжал округу, разнося весть. Восстание должно было начаться в середине этой ночи. По инструкциям Конала Финн уже подготовил людей, чтобы собрать оружие из тайников, как только стемнеет. Сигнала ожидали вскоре после полуночи. И тогда они ударят.
Их целью должен был стать тот самый дом. Старый Бадж, конечно, там. Его предполагалось взять в плен. Финн был против этого.
— Убить его, и все! — кричал он.
Однако Конал лишь качал головой:
— Ты уж слишком кровожаден, Финн. Он может оказаться намного дороже в качестве заложника.
Людей, работавших в доме, ни о чем не предупредили, но, поскольку все там были местными, проблем не ждали. Просто в нужный момент людям скажут, чтобы они уходили. Куда серьезнее был вопрос о двоих сыновьях землевладельца. Если они окажутся в доме, то наверняка начнут сражаться.
— Мы их захватим, если сможем, но если придется, то убьем, — сказал Финну Конал.
Иону Баджа и его йоменов в последний раз видели в десяти милях отсюда. Его брат Артур находился в Уиклоу. Однако этим утром, встретив старого Баджа, Финн спросил его о старшем сыне, и Бадж ответил:
— Он приедет сегодня днем.
Это известие Финн приберег для себя.
Потому что должен принять решение. Ему кое-что пришло в голову.
Финн О’Бирн ждал этого восстания всю свою жизнь. И много месяцев мысленно смаковал задуманное. Иногда он как будто даже ощущал вкус событий на языке. И пришел в ярость неделю назад, когда Патрик заставил их ждать.
Мысль о том, чтобы увидеть всех Баджей мертвыми — и всех протестантов вообще, — была воистину сладкой. Конал говорил, что среди «Объединенных ирландцев» есть хорошие протестанты. Но что вообще понимает этот Конал?
Но какие бы чувства он ни испытывал, он не был дураком, повторял себе Финн. И о многом, очень важном стоит подумать в такой момент. Надо остановиться и разобраться.
В Уэксфорде люди, возможно, и добились большого успеха, но они, похоже, не осознавали, что в других местах все идет совсем не так хорошо.
Правительство держало Дублин мертвой хваткой. Несмотря на все усилия лорда Эдварда, его разрозненные силы на самом деле не были готовы. Манстер и Коннахт не поднялись. Восстание в Мите и Килдэре было остановлено и уже почти подавлено после крупного поражения возле древних Тары и Керрага. Вроде бы пресвитерианцы в Восточном Ульстере начали действовать, но хватит ли их сил для того, чтобы одолеть Дублин? Да, людям в Уэксфорде повезло, но они были куда более изолированы, чем сами то понимали. И если даже к ним присоединится Уиклоу, исход выглядел неясным и сомнительным.
Если не подойдут французы. Вот тогда все могло бы измениться. Но французы до сих пор не пришли. И кто мог бы сказать, когда это случится?
Да, думал Финн, они захватят Ратконан и еще какие-нибудь места вроде него, а недельки через три их всех уже высекут или посадят на цепи. Он отчетливо это видел. В Ратконане, конечно, сразу заберут Конала, как вожака. А вот следующим после Конала наверняка станет он сам. Эта мысль пугала.
Что ж, Финн наконец принял решение. Единственное логически верное. Но он должен действовать осторожно, а времени мало.
Конечно, он мог бы пойти к старому Баджу. Такой путь выглядел самым простым. Но он нес с собой немалый риск. Ведь Финна почти наверняка кто-нибудь увидит. И еще он не был уверен в том, как отреагирует лендлорд. Старик, возможно, и с места не тронется. И никакой тревоги не поднимет. Решит, что и сам разберется.
Или Финн мог сбежать. Уехать в Уиклоу. Хотя, может быть, с этим он уже опоздал. Если они поймут, что он их предал, то станет изгоем. И получит нож в спину, рано или поздно. А то и похуже что-нибудь.
Нет. Имеется только один надежный способ.
Финн пошел по тропе, которая вела вниз, в долину. Там неподалеку был тайник с оружием. Хороший повод отправиться в ту сторону, если вдруг его кто-нибудь заметит. Но его никто не увидел. У поворота тропы росли деревья, и Финн спрятался там на высоком откосе. И стал ждать.
Прошел час. Другой. Если Артур Бадж не появится вскоре, то весь его план провалится. Может, его отец что-то напутал или Артур просто передумал. Может, он и не приедет вовсе. А что, если кто-нибудь уже выдал план восстания? Что, если оба сына Баджа вот-вот появятся на тропе вместе с двадцатью йоменами? Тогда они и слушать ничего не станут. Будет слишком поздно. Финна примут за бунтовщика. Боже милостивый! Финн уже ощущал веревку на своей шее. Он облился холодным потом. Может быть, ему лучше не терять времени и бежать скорее к старику?.. В таких терзаниях Финн провел еще полчаса.
А потом на тропе появилась одинокая фигура Артура Баджа, ехавшего верхом по тропе. Финн поспешно бросился вниз:
— Ваша честь… Вас не должны там видеть…
Ему понадобилось всего несколько слов, чтобы все объяснить. Бадж смотрел на него бешеными глазами, но слушал.
— И кто вожак?
— Конал Смит. Он уже поднял половину графства.
— Говоришь, в полночь?
— Или чуть позже. Ваша честь, теперь, когда я вам все рассказал, вы должны и меня арестовать. Если они узнают, что я вас предупредил, я покойник! — (Артур Бадж хмыкнул.) — Думаю, — продолжил Финн, — даже лучше, что я не пошел к вашему отцу. Вдруг он проговорится и все испортит.
— А почему ты мне раньше не сказал?
— Да ведь все было решено только сегодня утром, — совершенно правдиво ответил Финн.
Бадж коротко кивнул, развернул коня и уехал.
Финн отправился к тайнику с оружием и осмотрел копья. Он их переложил по-другому, а потом снова укрыл.
Коналу теперь конец, думал Финн. Его уж точно повесят. Только сначала поработают над ним, скорее всего четвертуют. Так они поступают с изменниками.
Этот человек всегда был похож на своего отца. Высокомерный. Все эти Смиты, с их образованностью, вечно думали, что они лучше Бреннанов и О’Бирнов. Даже тихий голос этого человека и его мягкий смех выглядели снисходительными. Ну, он не будет таким уж снисходительным, болтаясь на веревке.
И кто в итоге оказался более мудрым? — думал Финн, возвращаясь в Ратконан. Это большой вопрос.
В Ратконане той ночью было тихо. Вскоре после наступления темноты, как и задумывалось, пятнадцать мужчин осторожно вышли из домов, забрали копья из нескольких тайных складов. Еще два тайника остались нетронутыми. Как и было условлено, они до полуночи оставались в домах. Вскоре после полуночи в дверь коттеджа Финна тихо постучали, и он вышел. Вместе с Коналом он обошел семь домов, вызывая мужчин.
Двое несли фонари, прикрытые так, чтобы свет не был заметен.
Крадучись они направились к большому дому. Не было смысла ломиться в тяжелую дубовую дверь, которую Конал некогда смастерил собственноручно. Они собирались разбить одно окно. Конечно, это было шумно, но вряд ли имело теперь значение. Мужчины, которые должны были ворваться в дом, знали там каждый дюйм и знали, где должны спать все обитатели.
Большие тучи наползли на звезды, скрыли серебристый лунный диск. Ночь была темной. Мужчины не издавали ни звука, стоя перед домом.
А потом вдруг позади них вспыхнули факелы и фонари. В темноте замаячили человеческие фигуры. Окна впереди осветились, двери шумно раскрылись, и во внезапно посветлевшей ночи они увидели направленные на них дула мушкетов.
— Стоять на месте! Одно движение — и мы стреляем!
Это был голос Ионы Баджа, резкий и повелительный.
Потом от парадной двери прозвучал голос его брата Артура:
— Вы все арестованы. Конал Смит, выйди вперед!
До рассвета их всех держали в доме. А потом, в ручных кандалах и цепях, вывели наружу и погнали по длинной тропе к Уиклоу.
Когда они выходили из Ратконана, Финн О’Бирн увидел Дейрдре, стоявшую у дороги. Она с отчаянием смотрела на Конала, а потом вдруг Финн понял, что ее взгляд уперся в него. И это был неподвижный взгляд.
Она догадалась. Финн видел это по ее глазам. Ужасным глазам. Он отвернулся. Как она узнала, он понятия не имел. Видеть она ничего не могла. Должно быть, просто интуиция. Но она знала.
Хотя Патрик и был возбужден своими подвигами, он все же выглядел очень утомленным. Бригид ничуть этим не огорчилась.
— Тебе больше ничего не нужно делать, — заметила она. — Ты сделал все, что мог.
Зато теперь оказалось легко найти занятия для молодого Уильяма. Сначала его отправили повидать Келли в соседнее имение. Потом его послали в Уэксфорд собрать последние новости, не подвергаясь опасности. И Патрик с Бригид оставались одни. Погода стояла сухая и теплая. Весна уже превращалась в раннее лето. И несколько дней они наслаждались огромным особняком и его окружением, как парочка молодых возлюбленных.
Но в конце первой недели июня Уильям вернулся из Уэксфорда с дурными вестями.
Наверное, ничего удивительного не было в том, что после легкого успеха в самом начале повстанцы стали слишком уверенными в себе. И в результате у города Нью-Росс, где располагался отлично обученный правительственный гарнизон, их разбили наголову. В суматохе они потеряли две тысячи человек. Но дальнейшее, на взгляд Патрика, было еще хуже. Во время отступления часть повстанцев решила взять правосудие в свои руки, и, захватив двести человек, которых сочли верными протестантами, сожгли их заживо в какой-то церкви в деревушке под названием Скаллабог.
— Католики сжигают протестантов! Да мы как будто вернулись во времена Кромвеля! — в тоске восклицал Патрик. — Это как раз то, против чего мы боремся!
Но потом пришли и еще новости, на этот раз с севера. Патрик с горечью услышал, что в Дублине умер в тюрьме лорд Эдвард. Но когда Патрик узнал, что восстание в Ратконане было предано, что Конала обвиняют в государственной измене, то в ужасе закрыл лицо руками.
— Это я виноват! — простонал он и в отчаянии посмотрел на Бригид. — Я погубил твоего отца.
Бригид, как ни горевала сама, попыталась успокоить Патрика и напомнила, что Конал сам выбрал свой путь. Патрик слушал ее, но боль не уходила из его глаз.
И Бригид ничуть не удивилась, когда на следующий день Патрик свалился в лихорадке.
Самое трудное, по мнению Бригид, заключалось в том, что они ничего не могли сделать. Она знала, Патрик хотел бы поехать вместе с ней в Ратконан, но по всему графству рыскали патрули йоменов, а поскольку вполне могла обнаружиться связь Патрика с «Объединенными ирландцами», то тут и говорить было не о чем. И события на юге тоже нельзя было изменить. Чувство разочарования и беспомощности, была уверена Бригид, ухудшило состояние Патрика. А когда лихорадка продолжала трепать его уже третий день, Бригид не на шутку встревожилась. Молодой Уильям держался великолепно. Он ничего не требовал, а просто делал все, что было в его силах, поддерживая Бригид. Через несколько дней Патрику вроде стало лучше, но он все еще был очень слаб. Бригид снова отправила Уильяма за новостями и узнала, что часть сил «Объединенных ирландцев» пытается пробиться на север, к побережью, а командует ими отец Мёрфи, священник, который, несмотря на все неодобрение Церкви, принял участие в восстании.
Погода все еще держалась сухая. И это было странно для такого времени года. Кое-где трава казалась выгоревшей.
Прошла еще неделя. Бригид просила Патрика побольше времени проводить на солнце, и он уже набирался сил, почти возвращаясь к прежнему состоянию. Но плохие новости продолжали приходить. Отца Мёрфи убили. «Объединенных ирландцев» прижали к границе Уиклоу. Говорили, что из Дублина подходят большие военные силы.
В тот день, когда пошел первый за много недель дождь, к их дому прискакал Келли. Он пытался выглядеть бодрым, но Бригид видела, что он сильно взволнован.
— Как он, лучше? — спросил сосед. — Может отправиться в поездку?
— Зачем?
— Правительственная армия надвигается с севера. Все бегут. Ему лучше скрыться. Они знают, кто он таков. И если найдут его здесь…
— И куда ему бежать?
— Он может поехать со мной. В Уэксфорде пока держатся. Там ему ничто не будет угрожать. — Он усмехнулся. — Не бойся, Бригид. Если будет нужно, я посажу его на корабль в Уэксфорде и отправлю во Францию.
— Я и не беспокоюсь, — ответила она, — потому что тоже поеду.
Но, едва услышав все это, Патрик не согласился с ней:
— Тебе нужно подумать о детях. Ты никак не причастна к восстанию. Им нужен только я. А тебе здесь будет куда лучше, чем в любом другом месте. — Он повернулся к молодому Уильяму. — Я рассчитываю на тебя, Уильям, ты ее защитишь. Обещаешь?
И Келли энергично его поддержал:
— Если они не найдут здесь Патрика, то успокоятся. — Он посмотрел на Уильяма. — О твоей ссоре с отцом могут знать, а могут и не знать, но стоит тебе лишь заявить, что ты сын лорда Маунтуолша и что здесь никаких бунтовщиков нет, они просто не осмелятся вас беспокоить.
Бригид знала: они правы. И ничего другого ей не остается. Она бросила на Патрика долгий взгляд:
— Я помогу тебе собраться.
Готов он был через десять минут.
Они остановились у двери. Лошадь Патрика уже привели из конюшни. Лил дождь, и за лужайкой перед домом ничего не было видно, все словно окутало туманом. Бригид едва могла поверить в то, что все случилось так быстро и все сразу.
— Я буду в безопасности, — сказал Патрик и снова повернулся к Уильяму. — Ты обещал.
— Буду ждать от тебя вестей. — Бригид приподнялась на цыпочки и поцеловала Патрика в щеку, чувствуя капли дождя на своем лице. И прошептала ему на ухо: — Спасибо тебе за мою жизнь.
Патрик сделал вид, что не понял:
— Ты скоро увидишь детей, скажи им, что я их люблю.
Потом Уильям помог Патрику сесть в седло, и он, повернув коня, поскакал прочь вместе с Келли и ни разу не оглянулся.
Бригид долго стояла на месте не шевелясь и просто смотрела в бледную пустую пелену дождя, падавшего почти бесшумно. Он был как занавес, упавший в конце спектакля, казалось ей.
Ночь. Близилось летнее солнцестояние. Внизу лежал маленький городок Эннискорти, закрывший ставни и заперший двери, но настороженный. «Объединенные ирландцы» разбили рядом с ним лагерь, несколько сот. Их определенно было достаточно, чтобы удержать это местечко. Но главная часть армии расположилась выше в холмах, на красивых склонах Винегара.
Идея принадлежала Келли.
— Поднимемся выше, Патрик, — предложил он. — Безопасность в количестве.
И Патрик был только рад этому. Летняя ночь была ясной и теплой. Над его головой толпились сверкающие звезды: яркие, бесконечные на несколько коротких часов, пока не придет рассвет и не смоет их все.
Место для остановки выбрали отличное. Поскольку генерал Лейк и его армия напирали с севера, продвижение частей «Объединенных ирландцев» остановилось, они даже отступили, но около Эннискорти британцам пришлось бы встретиться с куда более серьезными силами: более двадцати тысяч, к тому же вооруженных карабинами и артиллерией.
— Мы их превосходим количественно в два раза, — подчеркнул Келли. — И еще на нашей стороне местность.
И действительно, холм Винегар представлял собой идеальное место для обороны. По обе его стороны британцам пришлось бы штурмовать крутые склоны, чтобы добраться до сил «Объединенных ирландцев», окопавшихся наверху. Именно с такого же холма месяц назад «Объединенные ирландцы» разогнали хорошо обученные отряды милиции из Северного Корка, те даже огонь открыть не успели. И потому здесь провели ночь в относительной уверенности.
Патрик был счастлив. Он пришел сюда по собственной воле. Он мог, наверное, отправиться в Уэксфорд и сесть на какой-нибудь корабль или даже уйти в горы в десяти милях отсюда и там спрятаться. Но, отсутствуя в последние три недели, пусть даже по вполне объяснимым причинам, он чувствовал себя виноватым в том, что бросил товарищей в такое время. А они ведь были прекрасными людьми, большинство из них. Патрика охватило нежное чувство привязанности к Келли и ко всем тем тысячам единомышленников, что скрывались в темноте на склонах. Он даже испытал нежность к врагу. В конце концов, это ведь тоже были живые человеческие существа. Патрик искренне сожалел, что очень многие лишатся жизни в течение предстоявшего дня. Но это была печальная необходимость — проливать кровь и жертвовать собой, это необходимо ради рождения нового порядка в Ирландии.
Патрик не сомневался: новая Ирландия возникнет. Не из-за этого восстания, чей исход был по-прежнему неясен, но просто потому, что это неизбежно. По всему миру сметались старые тирании, устаревшие и физически, и морально. В Америке, во Франции люди были свободны, сами избирали свое правительство, принимали законы и решали поклоняться или не поклоняться любым богам, как им самим хотелось. Господство и подавление, деление на католиков и протестантов — все это должно в конце концов измениться. Наступал век разума, и, безусловно, теперь только и нужно было что один-два хороших удара, чтобы прогнившая старая конструкция развалилась под собственным весом. И Патрик был благодарен судьбе за то, что получил шанс стать частью событий, помочь зарождению нового, лучшего мира.
Лучшего мира для его детей. О них Патрик думал с нежностью. Прошел почти месяц с тех пор, как он видел их в последний раз. Как ему хотелось иметь крылья, чтобы помчаться сквозь ночь и провести с ними часок-другой, успокоить их, приласкать. И о Бригид он тоже думал. Когда все это закончится, мир должен будет измениться. И тогда он снова, но уже более настойчиво, попросит Бригид выйти за него замуж, и, возможно, на этот раз она согласится.
И еще Патрик думал о том, как странно все ощущается здесь, наверху. Словно вечер, набросив на холм петлю оранжевого света, волшебным образом утащил его прочь, в некое место, где нет времени, а все это множество людей превратилось в древнее ирландское собрание, ожидающее того момента, когда на востоке появятся лучи, возвещающие о наступлении великого дня солнцестояния.
Генерал Лейк, грубый и жестокий человек, не стал ждать до рассвета. Он всю весну вешал и подвергал порке людей по пути через Ульстер, чтобы сломить там бунтарский дух. Но он был опытным военачальником. И, встретившись с армией, которая значительно превосходила по численности его собственную, да еще окопавшуюся на круглой возвышенности, он сделал то, что сделал бы любой хороший генерал. Он воспользовался теми преимуществами, что у него были.
Тщательно разместив пушки как можно ближе к холму, он не стал ждать не только рассвета, но и первых признаков света на восточном горизонте. И количество противников как раз сыграло против них же самих. Они расположились на склонах так плотно, что генералу даже незачем было вести прицельную стрельбу. Он приказал зарядить пушки ядрами и крупной картечью. И вот вспыхнул огонь и раздался грохот, разорвавшие ночь.
— Я их разнесу в клочья прямо в темноте! — заявил генерал.
Келли, бывший рядом с Патриком, был, как и все, ошеломлен обстрелом. Пушечные ядра засвистели над головами, темные фонтаны земли и обломков взлетели с земли в ночное небо, со всех сторон раздались крики.
— Неужели он действительно собрался атаковать в темноте? — недоумевал Патрик.
Но у генерала Лейка и в мыслях такого не было. Он не сдвинулся ни на дюйм, а просто позволил своим злобным пушкам делать за него всю работу. Они молотили по холму в темноте. Они продолжали сыпать ядрами и картечью при первом свете. Они ревели в момент восхода солнца, и их грохот подчинялся примитивной логике, которая ничего не знала о свободе, о древнем прошлом или о будущем. Снаряды просто летели, врывались в землю, рассекали все подряд, пока зеленые склоны холма Винегар не были сплошь залиты кровью.
А у английской артиллерии нашелся в запасе еще один трюк. Патрик увидел его собственными глазами, когда какое-то ядро упало примерно в пятидесяти ярдах от него, подпрыгнуло и откатилось к группе копейщиков, посмотревших на него с отвращением. А потом вдруг они исчезли, превратившись в яркий взрыв, а во все стороны разлетелись куски тел. Это взорвался снаряд, снабженный длинным фитилем. Ирландцы раньше никогда не видели взрывателей замедленного действия. И вскоре по всем склонам холма пронеслась паника. Люди пытались убежать подальше от падавших на них снарядов.
Теперь им оставалось только одно. И вот началось большое наступление с целью выбить англичан с их позиций. Ирландцы должны были добиться этого простым численным перевесом. Патрик и Келли очутились позади общей волны, оба были вооружены пистолетами и мечами и бежали следом за линией копейщиков, но не добрались даже до основания холма. Вражеский огонь был столь сокрушителен, что атака захлебнулась, повстанцы попятились обратно вверх по склону. И тогда Патрик с ужасом увидел, что англичане воспользовались суматохой и передвинули вперед свои пушки. Он разрядил в них пистолет, но не заметил, чтобы кто-нибудь упал от его выстрела.
Вскоре они попытались предпринять новую атаку, но с тем же результатом.
Внизу, в Эннискорти, английские воинские части старались захватить мост, ведущий в город. Они предполагали, что по нему ирландцы могут попытаться сбежать. Но там, в городе, «Объединенным ирландцам» повезло больше, и, похоже, британцев они отбили.
Шло время. И обстрел продолжался. Жара стала ужасающей. И только теперь Патрик осознал, что, хотя пушки продолжали стрелять, он почти не слышал их. Странная нереальная тишина опустилась на день. Посмотрев вокруг, Патрик попытался оценить, какая часть армии могла остаться на холме. Половина? Возможно. Но все как будто стали двигаться медленнее, словно им совершенно некуда было спешить. И если уж на то пошло, который теперь час? Этого Патрик даже не представлял. Но солнце стояло высоко.
Однако сейчас происходило что-то новое. Келли что-то кричал ему. Заряжал пистолет. Англичане приближались. Они подходили с другой стороны холма. Патрик был готов к встрече. Он кивнул и крепко сжал пистолет, направив его в сторону врага. Он готов, да, готов.
Тут он услышал какое-то шипение и крик. Почувствовал, как рука Келли бесцеремонно хватает его за воротник, пытаясь куда-то оттащить. Патрик споткнулся, потом увидел вспышку и понял, что лежит на земле. Он моргнул. Слева от него два человека извивались в судорогах. Келли был с другой стороны. Он сидел странно изогнувшись, как будто пытался читать книгу, прижатую к боку. Вот только вместо половины головы у него было кровавое месиво. Патрик уставился на него. Келли был мертв. Сам Патрик вроде ничего особенного не чувствовал. Но когда он попытался встать, его левая нога почему-то отказалась слушаться. Это было странно. Патрик провел по ней ладонью и нахмурился. Нога была влажной. Он посмотрел на нее и увидел сбоку огромную рану, из которой сочилась кровь и торчал какой-то кусок железа. Но боли Патрик почти не ощущал. Наверное, вскоре боль появится, подумал он, но ему нужно было сначала кое-что сделать.
Он посмотрел вверх по склону холма, и там, силуэтами на фоне неба, двигались английские солдаты. Их пытались остановить несколько храбрецов, но остальные просто бежали. Патрик поднял пистолет и постарался удержать его как следует. На этот раз он собирался выстрелить точнее. На этот раз он кого-нибудь убьет.
Иона Бадж не желал пропустить эту битву. С дюжиной своих йоменов он присоединился к отрядам Лейка, когда те двинулись на юг. Остальных людей он отдал под командование своего помощника, солидного торговца из Уиклоу, на которого можно было положиться.
Иона Бадж получил в этот день ценный урок и был готов первым это признать. Когда он налетал на деревушки в горах Уиклоу после истории в Ратконане, то прославился своей стремительностью и гордился этим. Если он видел нескольких мужчин, готовых дать ему отпор, или горящий амбар, то обычно мгновенно бросался вперед. Его скорость и агрессивность всегда приносили плоды, и ему удалось дважды спасти невезучих протестантов, которых иначе убили бы или сожгли бы заживо.
— Эти паписты обычно разбегаются, если вы нападаете на них быстро, — объяснял он своим людям.
И что бы ни говорили другие, Ионе Баджу было совершенно ясно, ради чего все это затевалось. Паписты пытались устроить бунт и повторить все свои старые штучки.
— Вы только дайте им самый маленький шанс, и они снова устроят резню, как в тысяча шестьсот сорок первом году, — повторял он.
И достойные протестанты вроде него самого должны были сокрушить противника.
— Дави круглоголовых! — кричал Иона.
И хотя это слово не подходило к новым революционерам, люди Ионы прекрасно понимали, что он имел в виду на самом деле: «Дави папистов!»
И скорость тут была очень важна. Дави их, как диких зверей.
Но Лейк, при всей его жестокости, был куда более осмотрительным. И если Иона Бадж уже к рассвету ринулся бы на холм, Лейк все медлил и медлил, изматывая противника артиллерийским огнем, точно это была обнесенная стеной крепость, которую нужно разнести вдребезги.
— Это армия, и сражаться с ними следует как с армией, — предостерегал он. — Если я атакую слишком быстро, то потеряю половину своих людей.
И нужно сказать, что в городе действительно набили шишек обученным войскам. Лейк, следовательно, хорошо знал, что делает, и за это стоило его уважать. И в то время, как бедолаг на холме рвало на части, Лейк вообще не терял солдат.
Но теперь наконец, думал Бадж, я могу сделать по-своему. Он решил подняться на холм. Однако измотанные круглоголовые продолжали энергично сопротивляться. И даже некоторые из свежих правительственных частей отступили. Но удержать их круглоголовые не могли.
Очутившись на гребне холма, Бадж, к своему раздражению, увидел, что в военном плане Лейка имеется одна ошибка. В линии английской армии у основания холма оказался разрыв, там, где один из командиров не сумел занять нужную позицию. И круглоголовые тоже это видели. У вершины продолжалась яростная схватка, но поскольку англичане не могли двигаться вниз по склону строем, их противники рассыпались и побежали. И конечно, направились к разрыву. Несколько кавалерийских эскадронов поспешили туда, чтобы отрезать их, но Баджу казалось, что многие все же могут сбежать. Впрочем, его задача была проста. Разобраться с теми, кто находился на холме. Покончить с ними.
Он со своими людьми начал спускаться, когда увидел какого-то парня, лежавшего на земле ярдах в двадцати слева от него. У парня был пистолет. И он с мучительной медлительностью поднимал его, целясь в Баджа. Этот круглоголовый явно был ранен. И хотел выстрелить в последний раз. Бадж не колебался. Он зашагал прямо к нему. Однажды он дрался на дуэли, несколько лет назад, и сейчас это было похоже именно на дуэль. Страха не было, и не потому, что Бадж был храбрым, а потому, что имел точный глаз и видел: парень, скорее всего, промахнется. Пистолет выбросил облачко дыма. Пуля пролетела справа от Баджа. Он продолжал шагать вперед. Мужчина с легким удивлением смотрел на него. Лицо джентльмена, сразу видно. В нескольких шагах от него Бадж вскинул собственный пистолет, приостановился и тщательно прицелился. Мужчина даже не моргнул.
— Умри, круглоголовый! — тихо произнес Бадж и выстрелил.
Патрика Уолша не стало.
А Бадж пошел дальше.
Едва увидев эту женщину, Бригид сразу все поняла. Это была сестра Келли. Ее муж прислал письмо из Уэксфорда.
Женщины тихо поздоровались. Прошло много лет с тех пор, как они встречались в последний раз. В письме из Уэксфорда коротко сообщалось о том, что произошло у холма Винегар и как погибли Патрик и Келли.
— Я так сочувствую твоей потере, — сказала Бригид. — Ты очень добра, что пришла сюда. Мне бы хотелось его похоронить, — продолжила она, но сестра Келли покачала головой.
— Это уже сделано, — сказала она. — А ты и не думай появляться там. Оставайся здесь, затаись.
Победа англичан была полной и окончательной. Генерал Лейк и сотни человек не потерял. Но многие из «Объединенных ирландцев» сумели бежать и перегруппироваться в Уэксфорде. Одни теперь направлялись на запад, в Килкенни, надеясь заново поднять там людей, а другие предполагали проскочить мимо Лейка и уйти на север, в Уиклоу.
— Даже не думай двигаться на север, — предупредила Бригид ее гостья. — Там по всему графству беспорядки.
После этого Маунт-Уолш затаился. Шли дни, но никто не появлялся. Бригид терпеливо ждала. А вот молодой Уильям метался и нервничал, желая присоединиться к оставшейся части армии «Объединенных ирландцев». Но Бригид была тверда. Там он никакой пользы не принесет, откровенно говорила она ему, и к тому же он обещал Патрику позаботиться о ней.
— Ты что, позволишь мне возвращаться в Дублин одной? — спрашивала она.
И он, пусть с большой неохотой, оставался на месте.
Прошла неделя, потом еще одна. Приходили вести о событиях в разных частях региона. Католики сожгли дом какого-то протестанта; оранжисты убили несколько католических семей. Поскольку главные силы «Объединенных ирландцев» были разгромлены, восстание превратилось в мелкие стычки. Говорили, что северное отделение «Объединенных ирландцев» целиком ушло в горы, что они проходили рядом с Ратконаном, что их поймали на равнине в Килдэре.
И только через три недели после событий на холме Винегар Бригид сказала Уильяму:
— Мы едем домой.
Финн О’Бирн осторожно наблюдал за тем, как приехали Бригид и Уильям. Сам он лишь несколько дней назад вернулся в Ратконан.
С историей в Ратконане разобрались быстро. Артур Бадж, действуя как мировой судья, не колебался. Отправив преступников в Уиклоу, он в тот же день провел следствие, вынес приговор и повесил Конала. Остальных держали в тюрьме уже почти пять недель, пока Иона Бадж и йомены очищали горы. Пленники не знали, чего ждать, но наконец, по приказу Артура Баджа, их освободили. Один неверный шаг в будущем, коротко сказали им, и их ждет смерть.
По дороге из Уиклоу они увидели повешенного на мосту Конала. Почерневшие останки его тела до сих пор болтались там. Они остановились, чтобы выразить почтение.
— Это мог быть любой из нас. В особенности ты, Финн, — сказал один из Бреннанов.
— Знаю, — мрачно ответил Финн.
— Жутко смотреть на такое.
— Да уж, — согласился он, испытывая тайное наслаждение при виде столь полного уничтожения Конала Смита. — Ужасно!
Они вернулись домой подавленными, но как герои.
Только два человека во всем Ратконане не желали смотреть на Финна с уважением. Как ни удивительно, но одним из них оказался старый Бадж. Он знал, что Финн спас его дом, а может, и саму жизнь. И Финн считал, что старик должен хотя бы испытывать благодарность. И хотя старый Бадж ненавидел все то, за что выступали бунтовщики, и ничуть не колебался, отправив на виселицу Конала Смита, все равно в глазах старика было теперь нечто… нечто такое, что не нравилось Финну, когда взгляд старого землевладельца-протестанта останавливался на нем. Конечно, это было скрыто. И никаких слов не было сказано. Но взгляд оставался тем же: в нем светилось древнее, инстинктивное отвращение, которое люди чувствуют к предателю. Но ведь он был англичанином! Это было нестерпимо.
А вот Дейрдре ничего не оставила невысказанным. Как только Финн вернулся, она нашла его.
— Думаешь, я не знаю, кто ты таков? — прошипела она. — Я знаю, что ты сделал!
— Ничего ты не знаешь! — осадил ее Финн.
Она ведь и вправду ничего не могла знать. Просто невозможно было, чтобы она что-то знала. Но она знала.
— Иуда! — бросила она.
Конечно, это не имело значения. Никто ей не поверил. Люди думали, что она просто слегка повредилась в уме от горя. Но это не мешало Дейрдре, очутившись поблизости от Финна, шипеть:
— Змеюка!
Но он не чувствовал себя виноватым. Он сделал то, что хотел сделать. Однако за презрение, которое испытывала к нему Дейрдре, он ее ненавидел.
Ее младшие сын и дочь до сих пор жили в деревне, и они тоже смотрели на него гневно, хотя другие люди, включая и тех, кто попал вместе с ним в тюрьму, твердили всем, что Дейрдре ошибается. И вскоре Финн увидел в ее взгляде не только гнев, но и сомнение. Обвинения, предположил он, скоро прекратятся. Но поскольку Дейрдре явно намеревалась настроить против него все семейство Смит, Финн прекрасно понимал: она постарается и Бригид настроить против него.
Он не был уверен в своих чувствах к Бригид. Она уехала так много лет назад, и он лишь изредка видел ее, раз в год или около того, когда она навещала родителей. Она не была женой Патрика Уолша, а всего лишь любовницей, и Финн полагал, что это делает ее не такой уж важной особой.
Конечно, она была известной фигурой на сцене в Дублине. А это уже кое-что. Прожив много лет в доме Уолша, она и держалась как леди, хотя, без сомнения, хорошим манерам она отчасти обязана сцене. Но каковы бы ни были причины, решил Финн, ему совсем не нравится, ничуть не нравится то, что она приезжает в Ратконан с таким видом, будто совершенно не похожа на людей вроде нее же самой, а ведь эти люди в глазах Господа и любого разумного человека наверняка получше, чем она.
Что до Уильяма, то Финн до сих пор не был уверен, как оценивать этого юношу. Он жил в Маунт-Уолше, в доме его семьи. Бог знает, сколько он должен иметь денег. А теперь он возвращался в Дублин. Финн никогда не слышал об Уильяме ничего ни от Конала, ни от Патрика и заметил, что, когда они говорили о восстании, Патрик обязательно отсылал парня. Значит, пришел к выводу Финн, этот молодой аристократ принадлежит к совершенно другому миру, недоступному его пониманию, а потому не представляет для него интереса.
Бригид с Уильямом приехали вечером и сразу ушли в коттедж. Немного погодя молодой человек вышел наружу. Финн наблюдал за ним. И гадал, пойдет ли Уильям в большой дом, он ведь был аристократом. Там сейчас находился только старый Бадж, хотя Иона Бадж, вернувшийся после приключений в Уэксфорде, был где-то неподалеку со своими йоменами. Но молодой человек просто немного прошелся по тропе, что вела в долину, постоял там, глядя вниз, в сторону побережья. Потом следом за ним вышла Бригид. Когда они возвращались в дом, то прошли рядом с тем местом, где стоял Финн. И Бригид повернулась и посмотрела на него. И тут-то он испытал на себе всю силу ее взгляда.
Финн чуть не задохнулся. Вспышка света в этих волшебных зеленых глазах, остановившихся на нем: этот взгляд лишал дыхания любого мужчину. Финн ожидал увидеть боль, гнев, ярость из-за того, что он убил ее отца. Но хотя все это и вспыхнуло на долю мгновения, во взгляде Бригид все чувства слились в нечто совсем другое.
Брезгливость. Она смотрела на Финна так, словно он был какой-то грязной, тошнотворной тварью, выползшей из-под земли. И это на него, Финна О’Бирна, она так смотрела, словно не желала запачкать свои туфельки, наступив на него! А потом они с молодым человеком ушли.
Всю эту ночь Финн О’Бирн раздумывал о том, как с ним обошлись.
Бригид и Уильям уехали утром. Между Ратконаном и Дублином было не совсем спокойно, но Бригид так спешила вернуться к детям, что была полна решимости более не задерживаться. Они с Уильямом решили выбрать дорогу, которая вела через возвышенность. Хотя вряд ли им могли встретиться какие-нибудь нарушители порядка, Уильям имел при себе меч и пистолет, а Бригид под дорожным плащом спрятала красивый кинжал, маленький, но полезный. Впрочем, куда важнее было то, что ехали они на хороших лошадях по отличной дороге.
Прошел всего час после их отъезда, когда Провидение вдруг улыбнулось Финну О’Бирну. Приехали Иона Бадж и дюжина его йоменов. Финну понадобилась лишь пара минут, чтобы осознать, что это могло значить. И, придумав какой-то предлог для того, чтобы пойти в большой дом, Финн без особого труда сумел незаметно поговорить с офицером. Когда он закончил, Бадж задал ему несколько коротких вопросов:
— Так молодой протестант, сын лорда Маунтуолша, ни во что не замешан? Мне бы не хотелось арестовывать сына столь могущественного человека.
— А это и не нужно. Он ничего не знает. Я заметил, что они говорят обо всем, что касается бунта, только тогда, когда его нет в комнате. Думаю, они просто его использовали как предлог, чтобы поехать в Уэксфорд, — добавил Финн.
— Значит, Бригид Смит — дочь Конала Смита, да еще и женщина Патрика Уолша?
— Да, и именно он дал приказ Коналу о начале бунта здесь, в Ратконане.
— Ты сможешь свидетельствовать против нее? У тебя есть доказательства ее реальной причастности?
Финн замялся:
— Свидетельствовать? Нет. Вы ведь обещали меня не впутывать. Кроме того, мне не в чем поклясться, кроме того, что она была с Патриком. Но я уверен, она замешана. Должна быть. Если вы ее хорошенько допросите, — с наслаждением добавил он, — то кто знает, что можно из нее вытрясти?
— Я об этом подумаю, — сказал Иона Бадж.
И вскоре после этого он и его люди уехали.
А Финн О’Бирн улыбнулся им вслед. И принялся гадать, что они могут сделать с этой женщиной. Будет знать, как презирать его, Финна!
Бригид и Уильям почти уже добрались до того места, где огромное плато вдоль хребта гор Уиклоу резко обрывалось, падая вниз, к бассейну реки Лиффи, когда увидели троих всадников — мужчин в военных мундирах, а потому не слишком обеспокоились.
Они не спешили, перебираясь через горы. День был на удивление теплым. Когда всадники приблизились, Бригид и Уильям повернули лошадей немного в сторону, чтобы дать им проехать. Но те остановились.
Эти трое йоменов ехали уже несколько часов. Им было жарко, они устали и были слегка раздражены. Через горы вело несколько дорог, и люди Ионы разделились на несколько маленьких групп, чтобы проверить каждую из них. Им сообщили только то, что молодой человек — протестант из важной семьи и с ним следует обращаться осторожно, а женщина — папистка, дочь Конала Смита. Вот ее надо поймать и допросить.
Йомены представляли собой пеструю смесь. Даже в небольшом отряде Ионы Баджа имелись и солидные горожане, и парни, которые просто искали повода проявить жестокость.
Они приказали Уильяму и Бригид спешиться. Поскольку йомены были вооружены, им пришлось повиноваться. Один из йоменов, человек со светлыми волосами, немного старше двух других, тоже спешился. И повернулся к Бригид:
— Ты Бригид Смит?
— Я достопочтенный Уильям Уолш, — решительно вмешался Уильям. — Мой отец — лорд Маунтуолш, и эта леди находится под моей защитой. Советую вам дать ей проехать дальше.
— Да вы-то можете себе ехать, джентльмен, — проворчал мужчина. — Но вот эту женщину желает видеть капитан Бадж. У меня такой приказ.
Он бесцеремонно окинул Бригид одобрительным взглядом. За последние недели он, выгоняя разных папистов из их хижин, несколько раз сталкивался с весьма красивыми женщинами. Одну молодую жену паписта он в особенности запомнил. То был ночной рейд, и он застал ее одну в пустом коровнике. Конечно, она кричала, но те его товарищи, кто это слышал, лишь смеялись. Лакомый был кусочек. А эта зеленоглазая женщина одета как леди, но разве она не была просто дочерью того типа, что болтается на веревке на мосту возле Уиклоу? И местечко здесь тихое.
— Мы дождемся капитана здесь, — сказал он своим товарищам. — А вы проводите молодого джентльмена до Дублинской дороги.
— Я отказываюсь уезжать, — заявил Уильям.
— И что мы будем делать, Нобби? — спросил один йомен, ухмыляясь.
Нобби подумал, что в любом другом случае он просто убил бы мальчишку и сделал с женщиной что захочется. Но из-за приказа Баджа этот щенок-аристократ мог над ними издеваться.
И тут ему в голову пришло кое-что другое. Если парень заявляет о своей ответственности за бунтовщицу-папистку, то это совсем негоже для его положения. Ладно, он им покажет. Он посмотрел на спутника и многозначительно кивнул:
— Поможем молодому джентльмену найти дорогу.
Уильям хотел возразить, но два всадника лишь усмехнулись. Один из них схватил поводья лошади Уильяма. И как-то вдруг йомены развернулись и оказались по обе стороны от Уильяма. Действуя так быстро, что он просто не успел ничего предпринять, они схватили его за руки и увлекли за собой. Уильям сопротивлялся как мог, оглядываясь через плечо. А Нобби, просто для того, чтобы показать щенку, кто тут главный, наклонился вперед и схватил Бригид за грудь.
— А мы тут пока найдем чем заняться, — сказал он.
Бригид вскрикнула. Уильям с неожиданной силой вырвался на свободу. Оба всадника со смехом проехали еще несколько шагов и повернули обратно. Но Уильям бежал со всех ног к Бригид. И уже выхватил меч.
Нобби с проклятием дернул плащ на Бригид, но был вынужден повернуться к Уильяму. Бригид, пылая яростью, выхватила свой кинжал. Но этого Нобби не видел. Перед ним, задыхаясь, стоял Уильям с обнаженным мечом.
— Оставь ее в покое, ты, грязная скотина, или пожалеешь! — крикнул он.
Лицо йомена покраснело от злости. Он не собирался выслушивать такие оскорбления на глазах товарищей, да еще от какого-то поганого мальчишки. Забыв обо всех приказах, он еще раз выругался, тоже выхватил меч и бросился на Уильяма.
А Уильям от гнева побледнел. Ему ни разу в жизни пока не приходилось сражаться по-настоящему, но, в отличие от Нобби, он серьезно учился фехтованию. И когда йомен бросился на него, метя в шею, Уильям машинально встал в позицию, отразил удар и сделал выпад. И Нобби застыл, разинув рот, с мечом в сердце. Потом упал на колени. Уильям выдернул меч. Нобби рухнул на землю лицом вперед.
За спиной Уильяма двое йоменов в изумлении переглянулись. Такого не должно было случиться! Должны ли они теперь убить этого мальчишку? Они не знали. А Уильям уже повернулся к ним лицом. Он был чрезвычайно бледен, однако собран. Он держал меч, красный от крови, но Уильям не предлагал сразиться. Он ждал. Бригид поправляла на себе одежду. В ее руке был кинжал. Несколько мгновений царила полная тишина.
А потом они вдруг заметили примерно в полумиле другой отряд, поднимавшийся по тропе в их сторону, и один из йоменов с облегчением воскликнул:
— Это капитан!
Подъехав к ним, Иона Бадж с одного взгляда все понял. Ему не нужно было спрашивать, что здесь произошло. Он знал Нобби. И видел смущение и неловкость на лицах двоих йоменов, ярость Бригид и праведное негодование юного Уильяма.
Иона Бадж был мужчиной высоким, грубоватой внешности, но умел очень быстро думать. Он спешился. Спокойно подойдя к Уильяму, он слегка наклонил голову и попросил отдать ему меч. Уильям отдал ему свое оружие. Потом Иона шагнул к Бригид и вежливо протянул руку к кинжалу. Бригид неохотно уступила.
— Спасибо, — сказал Иона.
Он подошел к телу Нобби, перевернул его и, наклонившись, осмотрел рану. Потом осторожно, но решительно он воткнул кинжал Бригид в рану, а меч Уильяма насухо вытер о траву, выпрямился и посмотрел на спутников Нобби:
— Похоже, женщина его заколола, когда он пытался ее задержать.
Йомены уставились на него, но затем на их лицах вспыхнуло нечто вроде света понимания.
— Да, сэр. Так и было.
— Нет! — вскрикнул Уильям.
Он смотрел на йоменов в ужасе и изумлении.
— И вы, без сомнения, готовы в том поклясться? — продолжил Бадж, совершенно не обращая внимания на Уильяма.
— Да, сэр! Никаких проблем!
— Но все было не так! — закричал Уильям. — Этот человек пытался ее изнасиловать, а когда я окликнул его, бросился на меня. Это я убил его!
Бадж сурово посмотрел на двоих йоменов, потом на тех, что приехали с ним.
— Никаких сомнений, все поняли? С этого момента.
— Да, сэр, никаких сомнений, — поспешили подтвердить солдаты. — Она его заколола, точно.
— Ну вот так-то, — холодно произнес Иона Бадж. — А вашему заявлению я не могу поверить, мистер Уолш. И никакой суд не поверит, уверяю вас. — Он коротко кивнул юноше. — Вы можете ехать дальше, мы ведь знаем, где вас найти. Ваш меч будет возвращен вам в должное время.
Он приказал двоим йоменам поднять тело Нобби и привязать к седлу его лошади.
— Отряд! — крикнул он остальным. — Посадите женщину на ее лошадь и держите поводья. Она едет с нами в Уиклоу.
— Да ты просто подлый преступник! — с отвращением воскликнула Бригид.
— А вас, мадам, обвиняют в убийстве.
Он вскочил в седло и дал знак своим людям трогаться с места. Уильям все еще пытался протестовать. Бадж подождал, пока его отряд немного не отъехал, а потом снова повернулся к юноше:
— Ваша галантность очень мила, молодой человек. И даже похвальна, уверен. Но на самом деле я только что оказал вам весьма серьезную услугу.
Для Джорджианы лето 1798 года стало временем тяжких разочарований.
Пока Патрик с друзьями занимались своими делами в Уэксфорде, она с грустью следила за новостями, что приходили о другом восстании «Объединенных ирландцев», в Ульстере. В основном протестанты и пресвитерианцы, идеалисты, желавшие построить новый мир, люди вроде семьи ее собственного дорогого отца, они добились краткого успеха, но правительственные силы были слишком велики, и их разгромили еще до событий на холме Винегар. И Джорджиана их оплакивала.
В конце лета случилось еще одно событие, полное горькой иронии.
Явились французы. Они пришли слишком поздно и совершенно напрасно. В августе небольшие силы, возглавляемые генералом Юмбером, высадились на западном побережье Ирландии, у Киллалы, в графстве Майо. Это были хорошие солдаты. Они даже натянули нос генералу Лейку. Ненадолго. Но они оказались в изоляции. «Объединенные ирландцы» на западе имели слишком мало людей, и хотя эти храбрые души поднялись на борьбу, бóльшая часть населения, уже зная о поражении на востоке, предоставила небольшой французской армии действовать самостоятельно. И к тому времени, когда французы дошли до Мидлендса, Юмбер уже понимал, что ему не продвинуться дальше, и рассудительно отступил.
Два месяца спустя дальше к северу, у Донегола, появился другой французский флот, побольше. Но шесть кораблей были захвачены, и на одном из них правительственные силы обнаружили самого Уолфа Тона в мундире французского генерала. Мгновенно состоялось заседание военного трибунала, и до конца жизни Уолф оказался в тюремной камере. И это был конец восстания 1798 года.
Но хотя все эти великие события вызывали тоску, был еще один аспект восстания, который затрагивал близких ей людей и по-настоящему тревожил Джорджиану.
Когда вернулся Уильям, она испытала облегчение, что с ним ничего не случилось. Но он привез весть о смерти Патрика и Конала и аресте Бригид. Джорджиана едва не заболела от горя, а когда Уильям рассказал ей, что это не Бригид, а он убил йомена, Джорджиана пришла в ужас.
— Она ни в чем не повинна! — твердил Уильям. — И я намерен выступить в ее защиту на суде!
— Ты хочешь, чтобы тебя самого обвинили в намеренном убийстве?
— Это не было намеренным убийством. Я защищал Бригид.
Джорджиана прекрасно понимала, что суд будет готов приговорить Бригид, дочь и любовницу известных бунтарей. Но молодой Уильям… Он ведь тоже мог находиться под подозрением, поскольку был исключен из Тринити. И если он рассердит власти, пытаясь вмешаться в правосудие, разве не может все это обернуться против него?
Джорджиана старалась переубедить внука. Но его потрясла сама мысль о том, что она может такое предлагать.
У Джорджианы не оставалось выбора. Она отправилась повидать Геркулеса.
Джорджиана давно уже презирала своего сына, и все равно ей трудно было поверить в то, как он отреагировал на ее слова. Геркулес пришел в бешенство оттого, что его сын мог оказаться замешанным в такое дело, а когда Джорджиана напомнила ему, что он всего лишь защищал Бригид, Геркулес заявил, что Уильям должен был предоставить йоменам сделать их дело.
— Если я выручу его сейчас, он опозорит меня завтра!
— И ты ничего не сделаешь для своего сына?
— Ничего.
И если Геркулес был чудовищем, то что могла сказать Джорджиана о самой себе?
Она всегда считала себя хорошим человеком. Она никогда не знала, что это такое — ощущать себя виноватой, но знала, что должна сделать теперь. Молодого Уильяма следовало удалить со сцены. Отослать подальше. Похитить при необходимости. Он не должен выступить в суде. Бригид может сама рассказать свою историю и надеяться, что суд поверит ей. Но Уильям туда не пойдет. Джорджиана была слишком честна, чтобы скрывать от себя страшную правду. Бригид была ее протеже и подругой, но Уильям был ее внуком. Женщиной следовало пожертвовать.
Но как убрать подальше Уильяма?
Помощь пришла с неожиданной стороны. Через два дня после ее разговора с Геркулесом он зашел к ней:
— Суда над Бригид Смит не будет еще долго. Захвачено много тысяч бунтовщиков, так что судебные заседания уже расписаны до следующего года. А значит, пока я могу устроить Уильяму поездку в Англию. Он этого знать не будет, но там его задержат. И он не вернется к началу суда.
— И с чего ты вдруг передумал?
— Ко мне приезжал Артур Бадж. Это его брат арестовал Бригид. И они были бы рады, если бы Уильям не поднял вопрос ареста в суде. Это может быть… неловким.
— Значит, ты помогаешь родному сыну лишь для того, чтобы не ставить в неловкое положение правительство и его приспешников?
— Думаю, это лишь к лучшему. Но мне понадобится твоя помощь. Я хочу, чтобы ты убедила Уильяма поехать в Лондон вместе с тобой. А уже потом все будет устроено.
Конечно, Джорджиана согласилась. Они с Уильямом находились в Лондоне, когда пришло сообщение о втором французском флоте и об аресте Уолфа Тона. Джорджиана пробыла в Лондоне до середины ноября, а затем пришло письмо от Геркулеса, сообщавшее, что суда над Бригид не будет до весны. И Уильям согласился уехать к одному землевладельцу, который был в долгу перед Геркулесом, и пожить в его доме в глубине страны.
Но суд состоялся через день после того, как Джорджиана вернулась в Дублин.
Джорджиана хотела бы туда пойти. Хотела бы просто увидеть Бригид. Но она не могла. Как ей посмотреть в глаза женщине, которую она только что предала?
— Что с ней будет? — спросила она Геркулеса.
— Она твердит о своей невиновности, и хотя судьи не могут принять ее оправдания, поскольку йомены говорят прямо противоположное, все равно суд может оказаться неловким событием. У нее много поклонников в Дублине, она же известная актриса. Вот и было решено, что лучше всего проявить снисходительность. И даже если ее признают виновной, к казни не приговорят.
— И на том спасибо.
— Ее вышлют в Австралию.
— В Австралию? Колонию для уголовников? Да если даже она переживет путешествие, она все равно уже не вернется, это все равно что смертный приговор!
— Ничего подобного. Там прекрасный климат. И она будет не одинока. Мы туда отправим множество бунтовщиков.
Джорджиана так и не пошла на суд. Но он был очень коротким.
Еще Джорджиану беспокоила судьба детей Бригид. В конце концов, это ведь были дети Патрика. Джорджиана знала, что о них заботится брат Бригид. Но теперь Джорджиана задумалась, не следует ли ей что-нибудь сделать для них ради Бригид и в память о Патрике. Но потом она узнала, что Дейрдре, мать Бригид, присутствовала на суде и по особой просьбе Бригид взяла на себя заботу о детях. Похоже, Бригид хотела, чтобы остаток детства они провели подальше от Дублина, в чистой атмосфере гор Уиклоу.
Прошло еще шесть недель, прежде чем Уильям обнаружил, что его одурачили. Он написал Джорджиане горькое письмо, но, к счастью для нее, вину за обман полностью возложил на отца. И продолжил:
Я решил пока не возвращаться в Ирландию, а поехать в Париж. И я очень надеюсь, бабушка, что, поскольку своих денег у меня очень мало, ты можешь снабдить меня какой-то суммой, ведь отец наверняка ничего не даст.
В тот же день Джорджиана отправила ему сотню фунтов. Но сделала это с дурным предчувствием. Что Уильям собирается делать в Париже?
Эммет
1799 год
К началу нового года Джорджиана осознала, что слишком одинока. Она любила Маунт-Уолш, но сейчас у нее не было никакого желания ехать туда. Она хотела оставаться в Дублине. Она тосковала по оживленному обществу, которым наслаждалась при жизни мужа. Могла ли она, вдова, снова надеяться на что-то подобное?
К собственному удивлению Джорджианы, оказалось, что могла.
После восстания люди либеральных взглядов вышли из моды. И те, кто сочувствовал делу «Объединенных ирландцев», старались не привлекать к себе внимания. Старый доктор Эммет закрыл свой городской дом и покинул город. И потому, когда в начале 1799 года Джорджиана возобновила приемы, все те, кто помнил гостеприимство старого Фортуната и ее мужа, были только рады найти там приют. Близкие по духу люди любых политических убеждений были желанными гостями. Джорджиана даже людей из Дублинского замка принимала.
Ведь если Геркулес и его друзья горели жаждой мести революционерам и их католическим союзникам, то в британском правительстве звучали и более спокойные голоса тех, кто имел другую точку зрения. А самым влиятельным из них был новый лорд-наместник.
Лорд Корнуоллис, возможно, и отступил перед американскими колонистами, но все равно он был хорошим генералом и стал мудрым государственным деятелем. После подавления ирландского бунта лорд Корнуоллис искал решения, а не мести. И Геркулес с его желавшими полного господства друзьями не могли на него повлиять.
Но какое решение могло быть удачным? Прежде всего Корнуоллис хотел устранить напряжение. В плен захватили множество бунтовщиков. Их руководителей нужно было судить, но не увлекаться смертными казнями, а большинство рядовых следовало простить. Вожди «Объединенных ирландцев» вроде Тома Эммета, которого схватили еще до начала бунта, должны были оставаться под стражей, но уже начались переговоры об их возможном освобождении. Однако куда более значительным оказалось другое убеждение, набиравшее силу.
— Самая большая проблема Ирландии, — решили Корнуоллис и его коллеги, — это ирландский парламент.
Парламент Граттана. Семнадцать лет назад он, казалось, принес надежду на новый либеральный порядок, но реальность оказалась совсем другой. Победу одержали Геркулес, его друзья и триумвират. А результат? Всеобщий бунт и три попытки французского вторжения. В Вестминстере все чаще говорили: «Эти ирландские господа протестанты не способны управлять. Они постоянно унижают католиков. А последнее, что нам нужно в то время, когда мы воюем с Францией, так это беспорядки на западном фланге». И действительно, заключали некоторые думающие люди, система двух парламентов в любом случае изжила себя естественным образом. «Лондонский парламент всегда будет желать ограничить ирландскую торговлю, потому что видит в ней угрозу, и всегда будет продолжаться спор между Дублином и Лондоном о том, кто за что должен платить». Решение?
Объединиться. Объединить Англию и Ирландию. Так же как объединились Англия и Шотландия, здесь тоже может возникнуть соединенное королевство. Сто ирландских парламентариев могут сидеть в лондонском парламенте и иметь голос в управлении обеими землями; тридцать два ирландских пэра и епископа могут заседать в британской палате лордов. Следует снять ограничения в торговле. Ирландия окажется в более выгодном положении, а ирландцы и англичане объединятся, чтобы создать единую нацию. Разве это не наилучший выход?
Но ирландцы вовсе так не думали. Отказаться от древнего великолепия дублинского парламента и его изумительного классического здания? Да будьте вы прокляты! И в начале 1799 года они проголосовали против. Но от английского правительства было не так-то легко отделаться. Предложение настойчиво звучало снова и снова.
И в беззаботной атмосфере дома Джорджианы это вскоре стало главной темой разговоров.
Джорджиана обнаружила, что ее друзья-патриоты разделились. Последователи Граттана красноречиво защищали парламент, созданный их вождем. Но кое-кто из тех же патриотов, потрясенных действиями Геркулеса и его приспешников, окончательно потеряли веру в возможности Дублина и признавались:
— Пожалуй, лучше было бы действовать из Лондона.
По этому вопросу также соглашались между собой далеко не все упорные сторонники протестантского господства. Некоторые, напуганные восстанием, думали, что объединенное королевство действительно может принести больше безопасности и порядка на их остров. Но сам Геркулес ни в чем не сомневался.
— Я разговаривал с оранжистами в Ульстере, — сказал он Джорджиане. — И они не желают такого объединения. Они думают, что в Лондоне проявляют слишком много снисходительности к католикам. И они совершенно правы. Мы должны сохранить дублинский парламент.
Но даже ульстерские пресвитерианцы не были едины.
— Многие пресвитерианцы в Ульстере вполне одобряют объединение, — сообщил Джорджиане Дойл.
— Но они же восстали против англичан! — напомнила она.
— Верно, только это не помогло. И теперь они думают, что объединение может оказаться полезным для торговли льном. — Дойл усмехнулся. — Ты ведь и сама знаешь, кальвинисты любят прибыль.
— А ты, — спросила она дублинского торговца, — как ты к этому относишься?
— Ох, я-то совершенно против, — ответил старый Дойл. — Если парламент переедет из Дублина, это будет катастрофой для дублинской торговли и для людей вроде меня, кто сдает дома в аренду.
Но наверное, самая интересная дискуссия случилась в доме Джорджианы в начале того лета. Собрались друзья-патриоты, в основном времен старого Фортуната. И Джон Макгоуэн тоже пришел. А один из патриотов привел с собой молодого юриста.
— Я знаю, тебе доставит удовольствие знакомство с ним, — сказал он Джорджиане.
Молодой адвокат оказался высоким, красивым мужчиной с копной волнистых каштановых волос. Он был родом из старой католической семьи в графстве Керри. Джорджиана не знала, обычное ли это дело для стареющих людей, но она часто видела, что молодые люди рады довериться ей в таких вещах, о которых едва ли рассказали бы кому-нибудь другому. Впрочем, молодой мистер Дэниел О’Коннелл и не пытался скрыть своего честолюбия.
— Я должен пробиться наверх, леди Маунтуолш, — сказал он. — Так что я только что присоединился к масонам.
— Мудрый ход, — согласилась Джорджиана. — В особенности, если можно так сказать, для католика.
Он кивнул в ответ на ее слова, но одновременно вздохнул.
— По правде говоря, — признался он, — хотя моя семья — католики, я сам не слишком интересуюсь католической верой. Наверное, меня можно назвать деистом. — И насчет политики он был откровенен. — Я видел бесчинства Французской революции, потому что в то время был во Франции. Но я ненавижу насилие.
И еще О’Коннелл был абсолютным прагматиком. Когда один пожилой джентльмен, горячий почитатель ирландского языка, начал изливать лирические восторги на эту тему, О’Коннелл почтения не проявил:
— Я не отрицаю поэтичности языка моих предков. Я говорю на нем с детства. Но должен добавить: это не дает моим соотечественникам продвигаться вперед и я не пожалею, если он исчезнет. — Пожилой джентльмен ужаснулся, но О’Коннелл заметил, обращаясь к Джорджиане: — Знаете, я ведь лишь сказал то, что думают многие простые ирландцы.
За ужином адвокат сидел вдали от Джорджианы, так что им не удалось продолжить разговор до тех пор, пока не подали десерт и не разразился общий спор на тему объединения. Высказывались разные взгляды. Большинство патриотов были принципиально против этого. Но к удивлению Джорджианы, Джон Макгоуэн, которого все знали как примкнувшего к «Объединенным ирландцам», оказался готов подумать на эту тему.
— Мы ведь знаем, что при нынешнем положении вещей нам никогда ничего не добиться от триумвирата и дублинского парламента, — подчеркнул он. — Так что даже лондонский парламент может оказаться лучше того, что мы имеем.
Ему немедленно возразил кто-то из патриотов:
— К добру или к худу, но в Ирландии много веков был парламент. Уничтожьте его, и он уже никогда не вернется, — предостерег он.
— А что думает об этом мистер О’Коннелл? — спросила Джорджиана, глядя через стол.
Молодой юрист не особенно обрадовался тому, что на него обратилось всеобщее внимание, но тем не менее ответил:
— Мне не нравится идея объединения, потому что Ирландия — это нация. Но в одном я уверен: создаст Ирландия союз с Англией или нет, это едва ли будет иметь значение, пока с огромным большинством ирландцев обращаются как с неполноценными из-за веры их предков. — Он окинул взглядом гостей. — Пока не будет устранено поражение в правах для католиков, пока католики не смогут войти в парламент и занимать государственные должности, как любой протестант, мы постоянно будем видеть в Ирландии готовое к взрыву недовольство, где бы ни заседал парламент — в Дублине или в Лондоне. Разницы никакой.
Тут решил высказаться один седовласый патриот:
— Я из тех, кто голосовал вместе с Граттаном, и меня нелегко убедить в выгодах объединения. Но недавно я был в Лондоне и должен сказать вот что. Корнуоллис целиком на вашей стороне. Премьер-министр Питт в Лондоне склоняется к тому же мнению. Им бы хотелось заверить католиков и их союзников в том, что, как только Ирландия объединится с Англией, новый британский парламент дарует католикам ту свободу, которой вы хотите. Единственная проблема сейчас в том, что они не могут говорить этого открыто. Ведь если они это сделают, им никогда не получить в дублинском парламенте то большинство, которое необходимо для объединения. Но они говорят об этом частным образом.
— Вы имеете в виду, — начала Джорджиана, — что английский парламент должен одурачить ирландских протестантов?
— Леди Маунтуолш, — с улыбкой произнес старик, — я никогда не произносил подобных слов.
Какое-то время Джорджиана не встречалась с Дэниелом О’Коннеллом, хотя до нее доходили слухи о его продвижении по карьерной лестнице. Но тот разговор за ужином вспоминался ей часто.
Потому что слова старого патриота вскоре стали подтверждаться. Нет, официально ничего не было сказано, однако Джорджиана слышала от друзей: звучали разные намеки, частным образом произносились заверения. К осени уже стало ясно, что ирландскому парламенту будет представлен некий законопроект, в конце этого года или в начале следующего, и патриотов, и тех, кто поддерживает свободу католицизма, заверяли, что вскоре после этого их желания исполнятся. Но как задумавшие все это политики собирались убедить отъявленных протестантов отдать власть?
Джорджиана была весьма удивлена, когда незадолго до Рождества Геркулес осторожно сообщил ей:
— Я передумал. Объединение — это только к лучшему. Убежден, это путь к прогрессу.
Джорджиана пыталась понять, почему это произошло.
Парламентские дебаты начались в январе 1800 года и продолжались не один месяц. Джорджиана часто слушала их с галереи для публики. Звучало много замечательных речей в защиту ирландского парламента, но самую запоминающуюся произнес сам Граттан, который, хотя и был в то время болен, все же пришел в парламент на вечернее заседание в мундире волонтера, бледный как призрак, и одарил слушателей одной из величайших в его жизни речей. Слыша такую силу, логику и красноречие, Джорджиана думала, что делу объединения пришел конец. Однако недели шли одна за другой, и те, кто еще недавно выступал против союза, уже начали высказываться в его поддержку.
Как-то раз Джорджиана увидела на галерее Роберта Эммета, и они немножко поболтали. Из писем Уильяма Джорджиана знала, что Эммет тоже был в Париже, и он сообщил ей некоторые новости о внуке.
— Он теперь свободно говорит по-французски, — доложил Роберт. — Когда вернусь, скажу ему, что виделся с вами.
Джорджиана спросила, что он думает о перспективе получения католиками свободы в случае создания союза.
— Думаю, англичане проявляют свой природный цинизм, — ответил Роберт. — Они должны были рассчитать, что в огромном британском парламенте количество ирландских католиков будет незначительным и они не смогут влиять на решения, принимаемые парламентом.
Когда же Джорджиана заметила, что многие в ирландском парламенте как будто начали менять мнение о союзе, он усмехнулся:
— Да их просто купили, леди Маунтуолш. И за немалые деньги. Полагаю, в том можно не сомневаться.
Встреча с Эмметом заставила Джорджиану живо вспомнить внука. Она скучала по Уильяму. Она пыталась проявить интерес к его младшему брату, хотя при холодных отношениях с Геркулесом это было нелегко. Этот милый добрый мальчик, любивший своего брата Уильяма, был странным парнишкой и жил в своем собственном мире. Он обладал огромным математическим талантом и любовью к астрономии. Геркулес даже купил ему телескоп, и юноша мог часами смотреть в него, полностью довольный жизнью. Джорджиану радовало то, что младший внук счастлив, но она не могла проникнуться его увлечениями.
Письма от Уильяма приходили регулярно, раз в месяц. Джорджиана посылала ему деньги и делала это с радостью. А его письма были интересными. В Париже Уильям достаточно знал о делах в Ирландии. Во французской столице жили около тысячи ирландцев, сообщил он Джорджиане, и многие из них бежали туда после восстания. Были среди них и «Объединенные ирландцы». Большинство тех студентов, которых исключили из Тринити-колледжа, теперь учились в Париже. А Наполеон Бонапарт, генерал-авантюрист, теперь стал главой Франции как консул. Джорджиана развеселилась, узнав, что светский мир республики оставался таким же искателем наслаждений, как и при старом королевском правлении. Но при этом Уильям ни слова не говорил о возвращении в Дублин, и Джорджиана предполагала, что внук рад тому, что находится вдали от отца.
Всю весну и лето продолжались споры об объединении. Но когда подошел момент окончательного голосования, выиграло объединение: ирландский парламент сам проголосовал за собственное уничтожение. Но какими средствами это было достигнуто? Тут оказался прав Эммет.
Хотя само голосование происходило в новом веке, этот процесс целиком и полностью принадлежал прошлому. И парламент в своем последнем действе привел политическое искусство XVIII века к великолепной кульминации. Должности, титулы, наличные деньги. Никто и припомнить не мог, когда все это обещалось с такой неслыханной щедростью. Лесть, умащивание, восхваление, деньги. И пэры наравне с самыми скромными парламентариями продали свои голоса.
Не стоило и удивляться тому, что Геркулес вдруг увидел некую особую мудрость в объединении. Он не только возвысился в титуле, из скромного барона превратившись в графа Маунтуолша, но и попал в избранную группу ирландских пэров, получивших право заседать в британской палате лордов в Лондоне. И теперь он мог раздавать титулы и услуги своим друзьям. Он даже добился звания рыцаря для Артура Баджа, который, как он заверил правительство, был настолько преданным человеком, что это следовало поощрить.
И таким образом летом 1800 года Ирландия вошла в состав Соединенного Королевства.
Зимний сезон после этого события был странным. Джорджиана открыла дом, приходили люди, но Дублин наполовину опустел. Конечно, люди привозили дочерей для поиска супругов или для посещения театров. Но теперь не только не было парламента, куда многие с интересом заглядывали, но и самые крупные общественные и политические деятели перебрались в Лондон. Геркулес был настолько богат, что намеревался держать дома в обеих столицах, но большинству членов нового парламента такое было не по карману. И их дублинские дома стояли пустыми.
Особенно сильно пострадал северный берег Лиффи. Прежде за Колледж-Грин широкая Саквилль-стрит вела к нескольким районам, любимым парламентариями. Как-то ноябрьским утром Джорджиана, проезжая в карете через тот район, увидела старого Дойла, стоявшего перед красивым домом и что-то говорившего рабочим. Джорджиана никогда не знала точно, сколько Дойлу лет, лишь предполагала, что ему за восемьдесят.
— Дух его матери Барбары живет в нем, — говаривал Фортунат. — Кузина Барбара не оставляла дела до самого дня смерти, и он не оставит.
Велев кучеру остановиться и подождать, Джорджиана выбралась из кареты и подошла к старому торговцу, чтобы спросить, что он тут делает.
— Кое-что перестраиваю, — проворчал Дойл. — Арендаторы съехали. А других не найти.
Он стоял у открытой двери, и Джорджиана заглянула внутрь. Дом был вполне типичным для этого района. Длинный холл и лестница; красивая лепнина на потолке. На площадке посередине лестницы красовалось высокое окно с полукруглой аркой.
— И что вы будете делать?
— В гостиной устрою управляющего. А дом буду сдавать по комнатам.
— Но… — Джорджиана уставилась на благородное жилище. — Это ведь дом джентльмена.
— Так найдите мне джентльмена.
— И каким людям вы будете сдавать комнаты?
— Тем, кто заплатит. — Дойл пожал плечами. — У меня еще три пустых дома, а семь лишатся арендаторов в течение следующих трех лет. Так что я, скорее всего, все их тоже переделаю. Это результат объединения.
— Геркулес говорит, объединение ведет к прогрессу, — грустно заметила Джорджиана.
— Не всякий прогресс к лучшему, — невесело откликнулся старый ирландец.
Она посмотрела на окно, сквозь которое падал свет на пустое пространство лестницы. И это показалось Джорджиане символом нового убогого мира.
Но до февраля настоящая горечь объединения все же не ощущалась в полной мере. Джорджиана почувствовала ее тогда, когда как-то днем к ней неожиданно пришел Джон Макгоуэн, взволнованный донельзя, и закричал:
— Будь проклята эта Англия, Джорджиана! Нас предали!
Предателем вы становитесь только тогда, когда вас поймают на предательстве. Так, во всяком случае, считал Финн О’Бирн. У них ведь не было доказательств. И на обвинения Дейрдре в том, что он предал жителей Ратконана, он просто отвечал:
— И зачем бы я стал это делать? Какой в этом смысл?
А когда Дейрдре утверждала, что это именно он натравил йоменов на Бригид, Финн мог покачать головой и сказать:
— Она от горя повредилась в уме.
И большинство людей, включая даже родню самой Дейрдре, склонны были с ним согласиться.
Но Дейрдре не сдавалась. Она буквально отравила воздух в Ратконане для Финна. И к тому времени, когда в парламенте начались дебаты об объединении, он решил уехать из Ратконана и перебраться в город. Дейрдре испытывала некоторое удовлетворение от знания того, что это она его выгнала.
Но на самом деле, решил в итоге Финн, она оказала ему услугу. Устроившись в дешевом жилье в Либертисе, он нашел работу, чтобы поддерживать тело и душу, а через год пребывания в Дублине очутился на месте управляющего в одном из тех домов на северном берегу Лиффи, которые Дойл начал сдавать по комнатам. И через несколько месяцев стал весьма полезным помощником старого торговца. Он не только поддерживал в доме порядок, но и каким-то сверхъестественным образом всегда знал, когда арендатор задержит плату или, что было куда важнее, когда у него есть деньги, чтобы заплатить.
— Ты, похоже, знаешь, как у них идут дела, — одобрительно сказал Дойл и вскоре стал давать Финну разные мелкие поручения.
Он даже отправлял Финна собирать арендную плату в другие дома.
В результате этой деятельности Финн имел определенный доход, пусть и скромный. У него также оставалось свободное время, и он старался придумать, как его использовать к выгоде.
Ответ на этот вопрос дал ему английский король Георг III.
Когда Джон Макгоуэн в расстроенных чувствах примчался в дом Джорджианы, то высказал те потрясение и ужас, которые испытали католики по всей Ирландии.
Их предали.
Но так уж вышло, что предательство было ненамеренным. Когда Уильям Питт заверял, что для католиков в Ирландии обязательно будет что-нибудь сделано, то искренне верил, что сможет этого добиться. Но даже хитрый и осторожный премьер-министр недооценил силы, восставшие против него.
Особенно активен был Геркулес. И оказалось нетрудно убедить флегматичных английских джентльменов в лондонском парламенте, будто католическая угроза 1641 года до сих пор жива.
— Видит Бог, — говорили они после бесед с Геркулесом, — он ведь там родился и вырос, значит должен знать.
Но самых больших результатов добился Фицгиббон, который снова надавил на короля Георга.
— Я не хочу иметь в своем парламенте католиков, — повторял старый король. — Что бы там Питт ни думал. Это противоречит моей коронационной клятве.
И хотя в строгом смысле это было неверно, а Питт обрушивал на него всю тяжесть доказательств и личного влияния, ничто не могло сломить барьер королевской честности и королевского упрямства. Питт, бывший человеком слова, с почетом ушел в отставку.
Но ирландским католикам никакой пользы от этого не было.
— Сначала Кромвель отобрал у католиков все земли, потом король Вильгельм пообещал им права, но вместо этого мы получили закон о штрафах. А теперь нас снова предали! Англичанам никогда нельзя доверять!
Именно так теперь видел все Джон Макгоуэн. И так видели это «Объединенные ирландцы» по всему острову и те, что уехали в Париж. Так же думал и Финн О’Бирн. Вот только ему самому это предательство дало новые возможности.
Обнаружилось это осенью 1801 года. Финн отправился повидать сэра Артура Баджа в его дублинском доме. Новоиспеченный рыцарь выслушал то, что сказал ему Финн, а потом написал некое письмо и велел отнести его лорду Маунтуолшу. Когда Финн, нервничая, пришел в дом на Сент-Стивенс-Грин, его впустили, заставив прождать всего полчаса, в кабинет новоиспеченного графа Маунтуолша.
Хотя Финн об этом даже не догадывался, он выбрал очень удачное время. Бадж, не слишком любивший Финна, но признававший его полезность, готов был оставить Дублин и окончательно перебраться в Ратконан, где его старый отец уже не мог в одиночку управляться с делами. И потому он отправил Финна к Геркулесу, представив его именно тем, кем тот был: мелким доносчиком, ожидавшим платы. Бадж предположил, что Геркулес, может быть, передаст Финна какому-нибудь мелкому чиновнику в Дублинском замке. Но даже Финн разглядел, что за внешней надменностью аристократа, перед которым предстала столь мелкая сошка, на самом деле скрывалось иное: граф был рад его видеть.
Объединение пошло не совсем так, как надеялся Геркулес. Хотя, конечно, у него теперь был высокий титул, а католики ничего не получили. И оба результата удовлетворяли Геркулеса. Но жизнь в Лондоне его разочаровала. Конечно, он осознавал, что его политическое положение там будет менее значительным. Он ведь всего один из нескольких ирландских пэров в огромном собрании. Однако он не догадывался о том, что ему придется страдать от потери общественного статуса. Это было едва уловимо и очевидно лишь для высокого класса, а еще для старших слуг, которые буквально нюхом чуяли такие различия. Но факт оставался фактом: в высшем свете Лондона ирландский пэр, пусть даже граф, заседающий в палате лордов, — это совсем не то же самое, что лорд английский. Его древнее происхождение и знатность признавались, да, а вот титул — не совсем. Таких английские аристократы считали людьми не их круга. Но еще важнее было то, что солидное по ирландским меркам состояние Геркулеса выглядело жалким по сравнению с состояниями великих английских аристократов. И Геркулес, не имея влияния, обладая второстепенным титулом и второклассным состоянием, впервые в жизни оказался в положении, когда уже не мог бесцеремонно оскорблять и запугивать людей. И это расстраивало его сильнее всего.
Поэтому, сняв дом в Лондоне, он решил больше времени проводить в Дублине, где, как он равнодушно признавался, его ненавидели, но он представлял собой важную фигуру.
И тут ему мог очень пригодиться доносчик, присланный Баджем.
Ирландия могла находиться под защитой Соединенного Королевства, но это не значило, что остров пребывает в безопасности. В Европе вообще не было безопасных мест. Для угнетаемых во всех краях Франция оставалась символом свободы, равенства и братства, а ее правитель Наполеон был героем. Даже великие художники и композиторы вроде Бетховена верили в это. А в Ирландии такие, как Геркулес, с презрением говорили: «Даже самый жалкий крестьянин в Коннахте верит, что Бонапарт его освободит».
«Объединенные ирландцы», возможно, и утратили боевой дух после восстания, но, если бы героические французы появились на ирландских берегах, в одно мгновение все могло снова измениться. Но теперь велись переговоры с Францией о перемирии, и Корнуоллис отправился туда. Но едва ли мир между британской монархией и Французской республикой мог быть долгим. И в равной мере, по мнению Геркулеса, было непохоже, чтобы «Объединенные ирландцы» готовили что-нибудь новое. Более года назад Фицгиббон сказал ему: «Этот убогий маленький Роберт Эммет, которого я выгнал из Тринити, пытался затеять новые беспорядки здесь, в Дублине. Но мы это вовремя заметили, и если он опять нам попадется, то сядет в тюрьму». Недавно один шпион на континенте сообщил, что молодой Эммет оказался в составе делегации, обратившейся к Бонапарту за помощью.
Однако больше почти ничего не было известно. Назревал ли где-то новый заговор? Велись ли где-нибудь новые приготовления? Никто в Дублинском замке этого не знал. И потому Геркулес полагал, что если этот парень О’Бирн сумеет проникнуть в ряды «Объединенных ирландцев» и раздобыть какие-нибудь важные сведения, то сослужит полезную службу и тем самым повысит репутацию самого Геркулеса.
— Плачу я хорошо, — сказал он О’Бирну, — но только за то, что получаю. Ты будешь докладывать обо всем мне, и только мне.
Финн был в восторге от такой удачи.
После его ухода Геркулес долго сидел, задумчиво глядя в пространство перед собой. Потому что наем Финна О’Бирна был не единственным актом шпионажа, который предпринял в последнее время лорд.
Нетрудно догадаться, что, после того как молодой Уильям тайно бежал из Англии, кто-то снабжал его деньгами, и самым вероятным источником средств была, конечно, его бабушка. Потребовалось немало терпения, но недавно Геркулес все же сумел убедить свою мать нанять одного человека в качестве лакея в дом на Меррион-сквер. Этот парень умел открывать замки, а значит, должен был без труда отпереть тот ящик бюро Джорджианы, где, как знал Геркулес, она хранила личную корреспонденцию. Перед шпионом Геркулеса, человеком грамотным, была поставлена задача — переписывать письма. Если, как предполагал Геркулес, Уильям писал бабушке, то следовало знать содержание этих писем.
Геркулес не знал, в какой среде живет теперь его сын, но подозревал, что у него могут быть дружки вроде Эммета. Молодой Уильям отказался доносить на него в Тринити, что было ошеломляющим проявлением нелояльности. И возможно, теперь он, пусть и не по собственной воле, сообщит нечто важное.
Однако прошло около года, прежде чем Геркулес действительно получил из этого источника кое-что по-настоящему полезное.
Дорогая моя бабушка!
Мир, заключенный лордом Корнуоллисом, тянется до сих пор, и мы в Париже видим теперь куда больше гостей из Англии и Ирландии, чем прежде. Я продолжаю надеяться, что и ты как-нибудь приедешь сюда.
Роберт Эммет уехал в Амстердам к своему брату Тому и его семье. И все они подумывают о том, чтобы перебраться в Америку. Роберт не чувствовал себя счастливым в Париже, хотя при его исключительных способностях к химии и математике он познакомился с некоторыми из величайших французских ученых. В общем, все как обычно: наши лучшие люди желают уехать в новый мир, поскольку старый мир к ним неблагосклонен.
Будет ли и дальше царить мир? Некоторые ирландцы здесь были бы рады, если бы он закончился. Потому что, пока продолжается состояние войны, французское правительство дает деньги для поддержки «Объединенных ирландцев» во Франции, а во время мира выплат нет. А те, кто не имеет профессии или не нашел работы, вообще ведут полуголодное существование. Хуже того, говорят, Бонапарт готов отослать любого ирландца, даже Эммета, в Англию в обмен на некоторых находящихся там французов.
С каждым месяцем становится более очевидным, что Наполеон никакой не герой, а тиран. Даже ирландцы, до сих пор возлагавшие надежды на освобождение Ирландии, включая и моего друга Эммета, предпочли бы теперь Бонапарту короля Георга.
Люблю тебя, как всегда. Твой внук Уильям.
Я уже собирался запечатать это письмо, когда узнал, что Роберт Эммет уехал в Англию и оттуда намерен перебраться в Ирландию, а вот зачем — не знаю. Но ты никому об этом не говори.
Геркулес положил перед собой копию письма и улыбнулся. Ежемесячные доклады Финна пока ничего особенно любопытного не содержали, но вот теперь, похоже, Геркулес наткнулся на нечто полезное.
Два дня спустя, когда появился Финн О’Бирн, Геркулес отдал ему простой приказ:
— Найди Роберта Эммета!
К следующему апрелю Финн уже начал впадать в отчаяние. Его последний разговор с графом был пугающим.
— Если ты не сможешь найти ничего поинтереснее, — ледяным тоном заметил Геркулес, — то заставишь меня думать, что сам присоединился к заговорщикам.
Финн облился холодным потом.
— Если Эммет и здесь, то он просто надел плащ-невидимку, ваша светлость, — возразил он. — Никаких следов, никаких признаков этого человека нет!
— Найди его, или последствия будут неприятными, — равнодушно ответил граф.
И черт бы побрал этого Маунтуолша, он оказался прав! Несколько человек шепнули Финну, что Эммет в Дублине, вот только никто не знал, где именно. И это было не единственной проблемой. С самого начала своих попыток просочиться в ряды «Объединенных ирландцев» полтора года назад Финн столкнулся с неожиданными проблемами.
Первым, к кому он отправился, был Джон Макгоуэн. Финн помнил, как он приезжал в Ратконан с Патриком. И если кто-нибудь и мог снова ввести Финна в их ряды, то это дублинский торговец. Но Финн ничего не достиг.
— Движение заснуло и будет дремать до тех пор, пока не появится реальный шанс на успех, — заявил Макгоуэн. — Это все, что мне известно. Ульстер, Уиклоу и другие области могут подняться только в том случае, если восстанет Дублин, а люди в Дублине не желают ничего начинать без французов. И кто стал бы их винить? И связи между группами тоже нарушились. Вот все, что я знаю, поскольку отказался принимать в этом участие. — Когда же Финн выразил удивление, Макгоуэн пояснил: — Восстание девяносто восьмого года было разгромлено и унесло слишком много жизней. Я теперь не верю в бунты. Мы куда большего можем добиться терпением и мирными средствами. Возможно, мои дети и увидят справедливость. А пока все может стать еще хуже. — Видя, что Финн рассчитывал услышать нечто совсем другое, он добавил: — Попытайся поговорить с братьями Смит.
Когда Финн доложил графу об отсутствии у Макгоуэна интереса к делу, лорду Маунтуолшу это не слишком понравилось.
— Жаль! — раздраженно заявил он. — Макгоуэн как раз из тех, кого просто необходимо повесить.
Финн боялся обратиться к сыновьям Дейрдре и поначалу испробовал другие пути. И быстро узнал, что нежелание Макгоуэна ввязываться в новые авантюры разделяет большинство дублинских торговцев. Наконец, отправив несколько писем, в том числе и одно Смитам, и выждав две недели, Финн встретился с человеком, которого не знал, но который предложил ему присоединиться к небольшой группе под его началом. Но на этом прогресс и замер. Кем были другие члены группы, о которых упоминал командир Финна, О’Бирн так и не узнал и не нашел способа это выяснить. Он стал частью невидимой армии. И вскоре обнаружил, что это делается преднамеренно. После разгрома прошлого восстания «Объединенные ирландцы» вполне оценили секретность.
— Если тебя или меня арестуют и начнут пытать, — сказал Финну его командир, — ты почти ничего не сможешь им сказать. — Он усмехнулся. — Когда в следующий раз мы поднимемся на борьбу, это будет похоже на то, как будто толпы призраков поднялись из могил.
И ничего другого Финн не добился. Разговаривая с разными людьми, путешествуя то в Уиклоу, то в Килдэр, он иногда находил какие-то обрывки сведений, но в общем он только и мог сказать высокомерному графу, что «Объединенные ирландцы» выжидают.
И поэтому сначала Финн был почти рад возможности начать охоту за Эмметом. По крайней мере, это было нечто конкретное.
Старый доктор Эммет умер еще в декабре. Друзья семьи занялись его делами, и дом в южной части города был выставлен на продажу. А оставшаяся родня доктора пока снимала разное жилье. Наверное, Роберт Эммет мог появиться в одном из этих мест? Финн даже нанял мальчишку, чтобы следить за ними, но никаких признаков Роберта замечено не было.
Однако в конце марта кое-что изменилось. Командир Финна вдруг стал приветливее. Он даже казался взволнованным. Что-то затевалось. Из Франции прибывали важные люди, лидеры движения. Финн гадал, не появится ли теперь и Эммет.
— Вполне возможно, — признал его командир.
Через несколько дней Финн сам отправился в бывший дом доктора Эммета.
Дом, называвшийся Тихим Приютом, представлял собой старое здание с декором XVIII века и стоял посреди небольшого парка к югу от Доннибрука, в получасе ходьбы к югу от Сент-Стивенс-Грин. Дом выглядел обшарпанным и молчаливым. Обойдя его вокруг, Финн нашел позади небольшое окошко, которое ему удалось открыть, и через несколько мгновений уже был внутри.
В доме было пусто. Вещи уже вывезли. Шаги Финна рождали эхо, и он нервничал. Наверху, на чердаке, где спали слуги, он нашел старую кровать, какое-то постельное белье и пару древних одеял, оставленных, видимо, потому, что они уже никуда не годились. Мог ли кто-нибудь пользоваться ими теперь? Возможно. Финн снова спустился вниз. В кухне он увидел пару тарелок, треснувший кувшин и пустую винную бутылку. На полу валялись крошки.
Но была одна странность в этом пустом доме.
Финну казалось, что он не один. Он не мог сказать почему. Это было просто ощущение. Но пока он бродил из одной пустой комнаты в другую, ему казалось, что здесь бьется еще чье-то сердце, что тут кто-то есть, совсем рядом, невидимый. Финн еще раз обошел дом. Никого. Ничего. Ни звуков, ни мелькнувшей тени. Только пустота. Он пожал плечами. Должно быть, его собственное сознание подшучивало над ним. Он покинул дом и закрыл за собой окно.
Неделю спустя он в очередной раз нервно делал доклад лорду Маунтуолшу.
— Немножко терпения, — умолял Финн, — Объединенные вот-вот выйдут на свет.
Но к его удивлению, граф не выглядел особо озабоченным. Вместо этого он взял со своего стола овальную миниатюру и велел Финну посмотреть на нее.
— Помнишь это лицо? — спросил он.
Лицо принадлежало какому-то молодому человеку. Оно было широким, уверенным и приятным.
— Этот портрет написан около четырех лет назад, — заметил граф, — но, думаю, он не слишком изменился за это время. — (Финн кивнул, соглашаясь.) — Уверен, он сейчас в Дублине. Может быть, вместе с Эмметом. Найди его.
— Я постараюсь, милорд. Но кто это?
— Мой сын. Его зовут Уильям. Начни с того, что проследи за его бабушкой. Она живет на Меррион-сквер.
И с этим новым поручением Финн ушел, весьма и весьма озадаченный.
Моя дорогая бабушка!
Здесь поговаривают, что Бонапарт опять готовится к войне. И еще говорят, что близкие к нему люди неофициально связались с некоторыми людьми — с кем именно, сказать не могу, — чтобы выяснить, возможно ли восстание в Ирландии.
Как ты можешь догадаться, это очень взволновало наших друзей. С одной стороны, вроде бы предоставляется возможность свершить то, чего они так долго ждали, а с другой — они тревожатся, чтобы Ирландия не оказалась под властью самого французского диктатора, и хотят управиться до подхода французов. Еще говорят, что американский посол предложил деньги из собственного кармана для покупки оружия.
А я тем временем подумываю о том, чтобы съездить в Италию, а потому не беспокойся, если какое-то время ничего от меня не получишь.
Твой любящий внук Уильям
Джорджиана смотрела на это письмо. Прошло почти два месяца с тех пор, как она его получила, и пока других писем не было. Конечно, Уильям действительно вполне мог поехать в Италию, но Джорджиана так не думала. Это, скорее всего, было хитроумным предупреждением насчет того, что он не сможет написать ей из Парижа.
А значит, он вполне мог быть в Дублине. С того самого дня, когда пришло это письмо, Джорджиана поглядывала в окно, надеясь увидеть, как Уильям идет по Меррион-сквер к ее дому. А если он приехал тайно, то должен был быть где-то вместе с «Объединенными ирландцами». Джорджиана дрожала при мысли о том, какой опасности он себя подвергает.
Но куда сильнее пугало Джорджиану то, что произошло в ее собственном доме. Через неделю после того, как она заперла письмо в ящике бюро, Джорджиана снова решила его достать и, к собственному изумлению, заметила, что письмо лежит не так, как она его положила. Джорджиана была в этом уверена: она положила конверт адресом к себе, а теперь он был перевернут. А ведь она, заперев ящик, подергала его, проверяя. Значит, кто-то отпер замок, прочитал письмо и положил обратно. Но кто это сделал и что это означало? И в какой опасности теперь оказался ее внук?
Странно было стать невидимым. Поначалу это возбуждало и веселило, но теперь Уильям чувствовал себя одиноким.
Роберт Эммет жил сейчас под вымышленным именем в Ратконане, в паре миль дальше на юг. И это была идея Эммета — воспользоваться Тихим Приютом.
— Дом пуст, — объяснил он, — а когда я бывал там раньше, то устроил несколько ложных панелей и тайных дверей. Даже если туда кто-нибудь явится, ты сможешь спрятаться. Я тебе покажу, как это сделать.
Именно так и поступил Уильям в тот день, когда тот парень ошивался вокруг дома, а потом залез внутрь. Тайники оказались замечательными, но Уильям сожалел о том, что ему не удалось рассмотреть лицо наглеца.
Пока Уильям прятался, он отрастил усы и пушистые бакенбарды, которыми весьма гордился. По совету Эммета он называл себя Уильямом Кейси.
— А поскольку никто вне нашей парижской группы ничего о тебе не знает, — напомнил Эммет, — ты можешь оказаться очень полезным.
Лидеры «Объединенных ирландцев» Гамильтон, Рассел, Маккейб, Свайни представляли собой смешанную команду джентльменов, ученых и простых ремесленников, но все они были идеалистами. Уильям был самым молодым из тех, кто присутствовал на собраниях, обычно происходивших в Ратфарнеме.
— Ну, мы ведь не принимаем в расчет возраст, — улыбался Эммет.
Энн Девлин, девушке, которая присматривала за этим местом, было всего шестнадцать, но все, похоже, совершенно спокойно доверяли ей свои жизни. Мужчины съезжались со всего острова. Люди из Уиклоу и Ульстера обещали:
— Захватите Дублин — и мы все поднимемся.
А прибывшие из Килдэра говорили:
— Мы поможем вам захватить его.
Но больше всего впечатления на Уильяма производили собрания с участием младших местных командиров. Потому что именно тогда Эммет проявлял себя по-настоящему. Удивительно было видеть, как он может убеждать, как рисует картину возможного будущего свободной Ирландии.
— Наполеон надеется на нас, ирландцев, — мог он сказать какому-нибудь скромному ремесленнику, — потому что видит в нас дух борьбы. Если нам нужна его помощь, мы должны проявить себя. Как ты на это смотришь?
Это всегда действовало одинаково.
Весь май приходили вести о том, что Наполеон снова официально воюет с Англией. От этого их приготовления становились более срочными и необходимыми. К июню в Париж Бонапарту было отправлено сообщение, что они почти готовы к его приходу.
Как-то вечером они поехали в Дублин, чтобы встретиться с городскими представителями «Объединенных ирландцев». Эммет был воодушевлен, говорил жарко, но один из присутствовавших, явно слушавший его с восторгом, также с любопытством таращился на Уильяма, а потом даже подошел к нему. Он, случайно, не из Парижа приехал? Вопрос был задан вежливо и уважительно. А когда Уильям кивнул, парень заметил:
— Я сразу вижу человека из хорошей семьи и с хорошим образованием. Меня зовут Финн О’Бирн, и я к вашим услугам.
— Я Уильям Кейси.
Финн кивнул:
— А живете вы в городе, сэр, позвольте поинтересоваться?
— За городом.
— Я тут присматриваю за одним домом, сэр, и у меня есть доступ к еще нескольким. И если вам вдруг понадобится жилье или место, чтобы хранить что-то, я это могу устроить, и никто не будет знать, что вы там. Вы не могли бы это и мистеру Эммету передать?
Уильям обещал передать, и Финн О’Бирн сообщил ему адрес, где его можно найти.
— А вас я могу как-то найти, сэр? — спросил Финн.
— Через мистера Эммета, — весело ответил Уильям. — А с ним можно связаться по обычным каналам.
— Ну, вы знаете, где найти меня, сэр, — повторил Финн. — Если вдруг я вам понадоблюсь.
Уильяму он показался неплохим человеком.
Поскольку Эммет взял на себя роль интенданта, приготовления пошли вперед быстро. В дублинском Либертисе устроили три тайных склада оружия. И лишь горстка людей, включая братьев Смит, знала, где они находятся. Кузнецы уже выковали сотни копий. Были созданы запасы для кремневых ружей, пистолетов, огромное количество пороха. Уильям исполнял роль секретаря и правой руки Эммета. Не хватало им только одного.
— Нам нужны деньги, Уильям, — как-то в июне сказал Эммет. — Можешь добыть хоть сколько?
У Уильяма оставалась сотня фунтов. Пятьдесят он отдал Эммету. Уильям даже на мгновение задумался, не пойти ли к бабушке за наличностью, но если бы он это сделал, то раскрыл бы себя. И, кроме того, даже если бы она и дала денег, он не мог втягивать ее в заговор подобным образом. Но именно в момент этих размышлений Уильям осознал, как болезненно тоскует по семье.
Нет, на самом деле он не слишком скучал по родителям. И был искренне рад избегать отца, а мать, хотя, безусловно, любила сына, так подчинялась воле мужа, что Уильям просто не мог с ней по-настоящему общаться. Но Джорджиана — это совсем другое дело. Раз или два, в сумерках, Уильям проходил мимо ее дома, надеясь увидеть бабушку в одном из освещенных окон. Ему отчаянно хотелось подняться по ступеням к двери с широким веерообразным окном над ней, признаться, что он здесь. Когда Уильям пришел туда во второй раз, то с удовольствием увидел, как дверь открылась и из нее вышел его брат. И наблюдал, как тот задумчиво брел по улице, наверняка погруженный в какую-нибудь математическую головоломку… и Уильяму, конечно, хотелось пойти рядом с ним.
С каждым днем Уильям все более восхищался Эмметом. Тот, не удовлетворенный собранным оружием, изобретал новое. Он придумал складное копье, которое можно было спрятать под мужским пальто. Кузнецы жаловались на сложность работы и пока сделали всего несколько штук, но продолжали трудиться. Зная химию, Эммет придумал гранаты и сигнальные ракеты. Последние были чудовищами на шестах восьми футов длиной, зато могли взлетать в небо на сотни футов и только после этого взрывались разноцветными фейерверками, которые должны были служить сигналами отрядам. В начале июля они испытали одну такую ракету в полях около Ратфарнема.
Уильям знал также, что одновременно со всей этой деятельностью его друг успел завязать роман с дочерью какого-то джентльмена, чей родовой дом находился неподалеку. Уильям познакомился с Сарой Карран, смуглой красавицей с прекрасным музыкальным голосом, и считал Эммета счастливчиком.
И вообще, его друг успевал так много, что Уильяму казалось, будто один день его жизни равен месяцу жизни любого другого человека.
Но в начале июля Уильям заметил, что Эммет начал волноваться. И к середине месяца тот уже серьезно нервничал.
— Мы должны действовать скорее, — признался он в разговоре с Уильямом. — У нас почти закончились деньги, и нас уже очень скоро могут раскрыть.
— А как же французы? Мы не можем начинать без них, — напомнил Уильям.
— От них ни слова. — Эммет помолчал, будто обдумывая что-то, потом с раздражением встряхнул головой. — Время не ждет, — внезапно сказал он. — Мне необходимо теперь быть в городе, и тебе тоже. У тебя есть подходящее место, чтобы устроиться?
Припомнив удачное предложение Финна О’Бирна, Уильям отправился к нему уже на следующий день. О’Бирн был в восторге.
— Конечно, для тебя найдется комната как раз в том доме, где я сам живу, — заверил он Уильяма. — И никакого беспокойства не будет.
Финну О’Бирну повезло. Две недели назад, когда он доложил, что видел и Эммета, и Уильяма, лорд Маунтуолш был доволен. И теперь, когда Финн сообщил ему о новых обстоятельствах, лорд Маунтуолш даже улыбнулся:
— Считаешь, заговор подходит к последней фазе?
— Да, ваша светлость.
Геркулес немного подумал. Когда О’Бирн впервые сообщил, что видел Эммета и Уильяма, он счел своим долгом доложить об этом в Дублинский замок, ну, по крайней мере об Эммете. Но на чиновников это не произвело особого впечатления.
— Мы знаем, что некоторые из «Объединенных ирландцев» приехали из Франции, но это все мелкие сошки. Роберт Эммет очень молод. Он может здесь быть и просто по семейным делам. У вас есть что-нибудь более серьезное?
— Нет, — с сожалением признался Геркулес.
Но если О’Бирн мог теперь взять молодого Уильяма под наблюдение, то Уильям, пожалуй, мог привести его и к Эммету, и кто знает, к кому еще.
— Будешь следить за моим сыном, — сказал Геркулес О’Бирну, — и обо всем мне докладывать.
Финна приводило в некоторое замешательство лишь одно: что намерен делать этот аристократ после того, как узнал об участии своего сына в заговоре? Наверное, спрятать его в каком-нибудь надежном месте? Впрочем, Финну было все равно, пока лорд платил.
— Я постараюсь, чтобы этого молодого человека ни во что не впутали, — предложил он.
Но он просто не знал Геркулеса.
Лорд Маунтуолш уставился на него. Когда он лишь затевал всю эту историю, то искал только сведений. Но это было до того, как он узнал об участии в заговоре своего сына. Теперь он смотрел на дело по-другому. Сначала этого мальчишку выгнали из Тринити, потом он сбежал в Париж, а теперь затевает мятеж! На мгновение Геркулес даже позволил себе проявить свои чувства перед этим грязным шпионом.
— Он был моим сыном. Но он предал свою семью, предал свою веру и свою страну. Он предал меня. И больше он мне не сын.
— Как скажете, ваша светлость.
— Я хочу, чтобы его поймали за руку, О’Бирн. Чтобы никаких сомнений не оставалось. Доказательства должны быть неопровержимыми. Я желаю, чтобы его арестовали. А потом повесили. — (О’Бирн в ужасе вытаращил глаза.) — И ты никому ничего не скажешь, — продолжил лорд Маунтуолш. — Ты будешь докладывать мне обо всем, а я извещу власти, когда настанет подходящий момент. Но если ты наведешь солдат на моего сына в подходящий момент, я заплачу тебе пятьдесят фунтов. Можешь это сделать?
Пятьдесят фунтов были настоящей кучей денег.
— О да! — ответил О’Бирн. — Могу.
Вечером 14 июля Дублин услышал грохот и увидел фейерверки над Лиффи. В Дублинском замке дежурный офицер отнесся к шуму спокойно.
— Сегодня День взятия Бастилии, — со скучающим видом сказал он. — Республиканцы празднуют.
Тем не менее начальник городской полиции Дублина взял с собой небольшой отряд и отправился проверить причалы. Там он обнаружил огромный костер и толпу людей. Некоторые стреляли в воздух. Он немедленно попытался силой разогнать весельчаков. Но рассерженная толпа осыпала его людей булыжниками, и он был вынужден отступить.
— Нам лучше быть поосторожнее, — заметил позже один из чиновников замка. — Не надо спешить и сразу воспринимать всерьез эти республиканские спектакли. Начальнику полиции лучше не вмешиваться.
Днем 15 июля к Джону Макгоуэну совершенно неожиданно пришла Джорджиана. Она была бледна и умоляла его о помощи.
— Джон, я видела его! Я видела моего внука! На Графтон-стрит. Он повернул за угол, и я побежала за ним. Но вы же знаете этот район. Там сплошные маленькие переулки и проходы. Я потеряла его. Но это был Уильям. Я уверена. — Джорджиана вздохнула. — Я пошла домой, а потом подумала о вас. Это было около двух часов назад.
— Может быть, вы ошиблись? Воображение любит подшутить над нами.
— Джон! Помогите мне!
Макгоуэн помолчал.
— Как вы думаете, чем он занимается? — наконец спросил он.
— Он приехал из Парижа. Скорее всего, с Эмметом и другими. Это вы мне скажите, чем они занимаются.
— Не знаю, — честно ответил Макгоуэн. — Конечно, они ко мне приходили несколько месяцев назад, ну, «Объединенные ирландцы». Но я отказался участвовать. Я больше не верю в восстания.
— А вы считаете, будет восстание?
— Поговаривают об этом. Но это не значит, что оно на самом деле произойдет.
— Я потеряла Патрика. Джон, мне не вынести, если я потеряю и этого мальчика!
— Да, это было ужасно, — тихо произнес Макгоуэн. — А отец мальчика не может помочь? — (Выражение лица Джорджианы сразу все ему объяснило.) — Я разузнаю, — сказал он. — Но обещать ничего не могу.
В тот же вечер Макгоуэн пришел к Джорджиане:
— Все молчат. Никто ничего не говорит.
Но если быть точным, то табачник Смит сказал Макгоуэну:
— Под таким именем я никого не знаю. — И, сам видя двусмысленность ответа и поинтересовавшись, не может ли юноша назваться другим именем, Смит спросил: — А кто хочет узнать?
Его бабушка, пояснил Макгоуэн.
— Ох, не могу сказать, — ответил Смит.
И конечно, Макгоуэн понял, что Уильям в городе.
Макгоуэн сел в кресло в гостиной Джорджианы. Он прикрыл один глаз, а другим задумчиво смотрел на нее, и этот глаз казался неестественно большим и всевидящим в вечернем свете. Макгоуэн чувствовал отчаяние женщины. И это его тронуло.
— Мне жаль, что я не могу помочь, — сказал он. — Но где бы он ни был, он сам принял решение, и ясно, что он не хочет, чтобы его обнаружили.
Ничем не утешив Джорджиану, Макгоуэн ушел.
В субботу, 16 июля, в Либертисе были удивлены небольшим взрывом на складе рядом с собором Святого Патрика. Три человека были ранены и увезены в госпиталь, где один позже умер. К счастью, разрушения оказались невелики, а пожар быстро погасили те, кто работал на складе, и когда приехали городские пожарные, им сообщили, что помощь не нужна.
— Вы только лишнюю суету здесь устроили, — заявил им старшина.
Маленькая толпа, собравшаяся перед строением, с любопытством наблюдала за спором пожарных со старшиной, но наконец рассерженные борцы с огнем уехали.
На следующий день вечером явились полицейские, чтобы осмотреть место происшествия. Они никого там не нашли, зато обнаружили подозрительные следы пороха.
— Наверное, тут мастерили фейерверки, — предположил кто-то.
Но рапорт об осмотре был отправлен по инстанции.
Собрание воскресным утром прошло уныло. Эммет выглядел бледным и грустным.
Опасность была рядом, и все это понимали. К рассвету воскресного утра оружие и боеприпасы перевезли в один дом возле Угольного причала, как теперь называлась Деревянная набережная времен викингов.
— Пара ночных дозорных пыталась остановить моих парней по дороге, — сообщил табачник Смит. — Ребята притворились пьяными, но чуть не попались. — Он покачал головой. — Нас могут накрыть в любое мгновение.
Только дурак не согласился бы с ним. Время поджимало, и они это знали.
Потом заговорил Рассел. Он был одним из самых опытных людей девяносто восьмого года, и его голос имел вес.
— У нас два варианта. Мы можем прикрыть всю организацию и рассеяться. Или можем начать восстание немедленно. Если не начнем, потеряем фактор неожиданности или, хуже того, дождемся, что всех арестуют.
— А французы? — спросил Эммет.
— А у тебя есть новости о них? — (Ответа не последовало.) — Если мы будем их дожидаться, нас всех перевешают задолго до того, как они придут.
Кое-кто откликнулся одобрительным бормотанием.
— Но мы не готовы, — возразил Эммет.
— У нас очень много оружия, — напомнил Гамильтон, еще один другой ветеран. — Нам может вообще больше не подвернуться такая хорошая возможность.
— Я подниму север, — пообещал Рассел.
Уильям не знал, смогли ли убедить Эммета все эти аргументы, но после дальнейшего обсуждения было решено, что восстание нужно начинать как можно быстрее.
— Если вы хотите привести побольше людей из провинций, не возбуждая подозрений, — напомнил всем Гамильтон, — то субботний рыночный день подойдет как нельзя лучше. В город в любом случае приедет множество самого разного народа.
В итоге договорились на 23 мая.
— У нас будет еще целых пять дней на подготовку, — со смехом произнес Эммет.
Если Эммет и продолжал втайне сомневаться, никто об этом не догадался бы. Его штаб и главный склад оружия находились на складе на Томас-стрит, неподалеку от старинной больницы Святого Иоанна, расположенной в Либертисе к западу от старой городской стены. Это было просторное строение с двором. Здесь от Томас-стрит ответвлялась узкая улочка Маршалси-лейн, уходившая к причалам. Здесь Эммет работал и жил.
Уильям никогда в жизни так не волновался. Это было потрясающее ощущение: они творили историю. Эммет обладал хорошим чувством стиля. Какой-то портной сшил зеленые мундиры, отделанные золотом и кружевом.
— Такая форма у французских генералов, — пояснил Эммет. — Я и другие руководители наденем их. Это напомнит нашим людям, что они настоящая революционная армия.
Нужно было еще так много всего подготовить: снаряжение, припасы, даже буханки хлеба для людей. И хранить тайну склада уже было невозможно, ведь множество дублинских отрядов слали сюда своих порученцев. Вскоре после того, как Уильям пришел туда утром в понедельник, появился О’Бирн и тут же стал полезным человеком. Он проверял оружие и сразу замечал, чего не хватает.
— Нам нужно больше дроби, мистер Эммет, — доложил он, и Уильяма отправили купить нужное.
К концу дня Финн вместе с Уильямом пошел домой, а по дороге купил выпивку.
Эммет же писал манифесты. Они были длинными, но впечатляющими. Пришло время, писал он, для Ирландии показать всему миру, что она может занять свое место среди других народов. Ленстер и Ульстер пойдут впереди. Вся Ирландия последует за ними. Они не нуждаются в иностранной помощи. Но восстание должно идти благородно, настаивали манифесты. Должен соблюдаться строгий военный порядок, а за ним последуют свободные выборы и правосудие для всех.
— Отнеси это в печать прямо сейчас, Уильям, — велел Эммет другу.
Рассел, Гамильтон и еще несколько человек отправились на север, чтобы поднять Ульстер. Из Килдэра прислали сообщение, что они придут в субботу с почти двумя тысячами человек. Еще отправили посланцев в Уэксфорд и Уиклоу.
— Кто-нибудь знает горы Уиклоу? — спросил Эммет.
— Я их знаю как свои пять пальцев! — тут же вызвался О’Бирн.
— Ну, значит, ты главный, — сказал Эммет.
И дал Финну подробные инструкции, которые Финн должен был доставить тамошним командирам.
— Ты там поосторожнее, — предупредил Финна Уильям, когда тот уже уходил.
Граф Маунтуолш слушал очень внимательно.
— Ты уверен во всем этом?
— Да, милорд.
Финн дословно повторил то послание, которое должен был доставить в Уиклоу. Начало восстания назначалось на десять вечера в субботу. Сигналами послужат ракеты. Забрав оружие со склада на Томас-стрит, «Объединенные ирландцы» собирались первым делом захватить Дублинский замок.
— В Уиклоу ты не поедешь, но до субботы тебе лучше никому не показываться на глаза! — приказал Геркулес.
— Я знаю одну гостиницу в Долки.
— Хорошо. В субботу вернешься, скажешь, что доставил послание, и будешь наблюдать за приготовлениями. В час дня встретимся у гробницы Стронгбоу в соборе Христа, я дам тебе дальнейшие инструкции.
— Ваша светлость заплатит мне пятьдесят фунтов, когда все закончится?
— Когда моего сына арестуют, я дам тебе сотню фунтов, О’Бирн. А теперь иди.
Макгоуэну было тяжело. Он не был трусом, но он был старше и мудрее, чем пять лет назад. И хотя он хотел того же, чего хотел Эммет, он не верил в новое восстание. Теперь он куда больше верил в людей, чем в бунты. И он обладал терпением. Если не я, думал он, то мои дети и внуки увидят лучший мир. А тем временем, пока Англия присылала на остров вполне гуманных людей вроде Корнуоллиса и лорда-наместника, теперь сменившего его, жизнь была вполне терпимой.
Но его мучила совесть.
Дело было даже не в самом восстании, а в дружбе. Его преследовало лицо Джорджианы. И она ведь вполне права, что боялась. Если молодой Уильям связался с Эмметом, то ему грозила огромная опасность. Когда заговор раскроют или же восстание будет подавлено, как, скорее всего, и случится, власти будут не более снисходительны к нему, чем были к лорду Эдварду Фицджеральду.
Макгоуэн думал, что вполне может предсказать, как все произойдет. Бунтовщикам нужно прежде всего захватить Дублин. И для таких вещей всегда лучше всего подходили субботние ярмарки. Но что потом? Он понятия не имел. Если, как подозревал Макгоуэн, загадочный взрыв в Либертисе имел ко всему этому какое-то отношение, то планы бунтарей, скорее всего, продвинулись далеко. А значит, время было не на стороне молодого Уильяма.
Но кем был для него этот мальчик? Сыном человека, которого Макгоуэн ненавидел и который ненавидел его. Да, это так, но в то же время Уильям — внук его старого друга. И кузен Патрика, которого Макгоуэн любил.
Вот только что он может сделать? Единственный способ помочь — это серьезный разговор, нужно убедить его бросить все и скрыться. Но как, черт побери, его отыскать?! Разве только самому присоединиться к заговорщикам, и надолго, чтобы найти Уильяма. Но даже тогда он едва ли сумеет доказать юноше свою правоту. А потом что? Явится бабушка и похитит внука? Вообще-то, с улыбкой подумал Макгоуэн, она на такое способна.
А если бы ради нее Макгоуэн поступил именно так, он бы подверг риску собственную жизнь. Ему повезло: его не арестовали в девяносто восьмом. Но на этот раз удача может и изменить. Вот уж был бы замечательный подарок внукам — дед, висящий на мосту. Нет, это молодому Уильяму придется там болтаться.
Макгоуэн вздохнул и попытался выбросить все это из головы.
Он спорил с собой вот так каждый день почти неделю.
Вечером в пятницу, 22 июля, табачник Смит с удивлением увидел, что у дома его ждут. Это был Джон Макгоуэн. Он заявил, что хотел бы снова заняться чем-то полезным. Смит задумчиво уставился на него:
— Почему ты вдруг передумал, Джон? Это как-то связано с твоими расспросами о молодом Уолше?
К такому вопросу Макгоуэн был готов.
— Ну, в каком-то роде да. Я просто подумал, что если он участвует, то почему я не могу?
— А если он не участвует?
— Если ты не в деле, — усмехнулся Макгоуэн, — то и я останусь в сторонке.
— Рискуешь погибнуть.
— Я уже рисковал. А теперь мои дети выросли.
Смит неторопливо кивнул. Потом внимательно всмотрелся в Макгоуэна.
Макгоуэн знал, что тот думает. Наверняка табачник гадал, возможно ли, чтобы его старый товарищ превратился в двойного агента? Такое случалось. Молчание было долгим. Наконец Макгоуэн заговорил:
— Если ты не доверяешь мне, то я лучше вернусь домой. Страх иметь предателя рядом с собой причинит больше вреда, чем я смог бы принести пользы.
Он повернулся. Ему было жаль, что ничего не получилось, но одновременно он испытывал облегчение. По крайней мере, он попытался, его совесть чиста. Он едва успел пройти шагов десять, как услышал за спиной голос Смита:
— Томас-стрит. Сразу за Маршалси-лейн. Завтра утром.
К середине субботнего утра там собралась огромная толпа. Пришли люди из Килдэра. Слышались голоса:
— Где мушкетоны? Нам нужно больше патронов. Где порох из этого бочонка?
Уильяма то и дело отправляли с разными поручениями. Еще несколько сот человек подошли из Уэксфорда. Их убедили подождать у склада на Угольном причале. Еще одна группа из Дублина начала собираться у дома на Планкет-стрит. Финн О’Бирн вернулся, чтобы сообщить: послание доставлено, но он не знает, в какое время придут люди из Уиклоу.
Среди всего этого хаоса появилось одно приятное дополнение. Рано утром пришел Джон Макгоуэн, и его тепло приветствовали несколько мужчин. Он был спокоен и держался поближе к Уильяму.
— Мы выступим в десять вечера, — подтвердил Эммет. — Запустим ракету, потом спустимся к Угольному причалу, заберем уэксфордцев и прямиком отправимся к Дублинскому замку.
Финн О’Бирн, бывший в дороге всю ночь, сказал, что пойдет домой отдохнуть, но обещал вернуться позже.
Джорджиана не находила себе места. В том, что она постоянно думала об Уильяме, не было ничего удивительного. Но обуревавшие ее чувства были теперь другими. Она не испытывала приступов панического страха, как мать, которая не может найти своего ребенка. Нет, сейчас она твердо знала: Уильям в опасности. Она слышала о том, что между близкими людьми случаются таким моменты прозрения. Но не знала, что с этим делать.
Поздним утром она приказала подать карету. Сначала Джорджиана поехала на Графтон-стрит, потому что именно там видела Уильяма. Потом отправилась к дому Джона Макгоуэна, но ей сообщили, что он ушел еще с утра. После этого, к недоумению кучера, не понимавшего, что она затеяла, Джорджиана бесцельно поехала по Дейм-стрит и вокруг Дублинского замка. Она надеялась, что сумеет как-то угадать, где находится Уильям, но ничего не получалось. И она с неохотой вернулась домой.
Лорд Маунтуолш ожидал в тени, полускрытый колонной, когда Финн О’Бирн подошел к гробнице Стронгбоу. Лорд был одет в скромное пальто с поднятым воротником, а тонкий шарф прикрывал нижнюю часть его лица. Маскировка простая, но эффективная. Так мог выглядеть любой дублинский торговец.
— Рассказывай все! — приказал он.
Финн дал ему краткий отчет обо всем, что видел.
— Это начнется в десять, — сказал он. — Они запустят ракету.
И он объяснил, по какому маршруту должен идти Эммет.
— Хорошо. Я скажу, чтобы в замке были готовы к десяти. Ничто не насторожит бунтовщиков. Мы хотим, чтобы они вылезли на свет. Я пока буду дома, но в половине десятого приеду в простом экипаже к старой больнице Святого Иоанна. Встретимся там, потом вместе пройдем по Томас-стрит. Думаю, маскировка у меня удачная.
— Да, милорд. Но зачем вам идти на Томас-стрит?
— Чтобы мы с тобой могли своими глазами увидеть, как появятся Эммет и мой сын. Может, их не смогут узнать другие, а сомнений в их вине быть не должно. Когда их будут судить, все должно пройти безупречно. — Он глубоко вздохнул. — Я намерен сам свидетельствовать против.
Да, теперь у Финна не осталось сомнений в ненависти графа Маунтуолша.
Уже днем что-то пошло не так.
В два часа Эммет отправился в ближайшую гостиницу вместе с руководителями отряда из Килдэра. Отсутствовали они долго. А когда вернулись, Эммет был бледен.
— Нам, возможно, придется действовать без Килдэра, — тихо сказал он Уильяму. — Они недовольны подготовкой. — Эммет вздохнул. — Ты ведь знаешь, мы все делали в чертовской спешке. Но возможно, кое-кто из них останется.
В середине дня, хотя у складов оставались еще сотни человек, стало тише. Но сомнения людей из Килдэра подействовали на некоторых дублинских командиров, и еще несколько групп ушли. Когда около семи вечера снова появился Финн О’Бирн, Уильям объяснил ему, что произошло. А через несколько минут Эммет позвал их обоих.
— С теми людьми, что сейчас здесь, и с теми, что придут из Уэксфорда, и еще с теми, кто откликнется на сигнал ракетой, у нас все же хватит сил, чтобы удивить Дублинский замок, — заявил он.
Незадолго до восьми часов О’Бирн ушел.
— Посмотрю, может, удастся привести еще людей.
— Возвращайся к десяти, — сказал Эммет.
— Возьми оружие, — добавил Уильям и дал Финну одно из складных копий Эммета. — Можешь спрятать это под пальто.
— Спасибо, — поблагодарил О’Бирн.
Прошло два часа с тех пор, как карета с сидевшим в ней лордом-наместником выехала из ворот Дублинского замка и покатила к Либертису.
Лорда-наместника просили приехать в замок еще днем, из-за сообщения о том, что на эту ночь задуман большой бунт. Но и лорд-наместник, и главнокомандующий, генерал Фокс, отнеслись к этому скептически.
— Граф Маунтуолш может говорить все, что ему вздумается, — с раздражением заявил лорд-наместник, — но есть ли хоть какие-то подтверждения? Он сказал, где найти этих бунтовщиков? И откуда он о них узнал? Мы что, должны выйти на улицы и стрелять в каждого пьяного в субботний вечер?
— Сигналом к началу бунта станет ракета в десять часов, — вмешался генерал Фокс.
— В прошлый раз, в День взятия Бастилии, когда этот дурак начальник полиции без надобности потревожил толпу, тоже ракеты летали.
Но все же солдат в самом замке и в казармах по соседству привели в состояние боевой готовности. Однако к шести часам лорд-наместник решил, что с него довольно.
— Пусть солдаты остаются в состоянии готовности! — приказал он. — И еще заприте ворота замка. Этого достаточно. И дайте мне знать, если революционеры начнут действовать. Я еду домой.
Одной из самых приятных сторон его службы было то, что должность давалась вместе с великолепным особняком в изумительном по красоте Феникс-парке. Когда карета представителя короля катила мимо Либертиса и через Лиффи, он размышлял о том, что рассказывал ему его предшественник о характере графа Маунтуолша.
Лорд Корнуоллис не выбирал выражений.
— Этот парень — просто чертова заноза в заднице!
И как обычно, Корнуоллис оказался прав.
Джон Макгоуэн оглядывал все вокруг. Оставалось меньше двух часов до назначенного часа. И как же ему увести прочь мальчишку?
Это восстание наверняка должно обернуться катастрофой. Макгоуэн чувствовал это нутром. И внезапно с ужасом понял, что братьев Смит нет поблизости. Эммет снял пальто и надел зеленый мундир. В нем он выглядел просто замечательно, однако Макгоуэн подозревал, что мундир служил еще и другим целям. Он помогал Эммету войти в роль, чтобы не оставалось уже возможности повернуть назад. Это было нечто вроде рыцарских доспехов.
Но что думал молодой Уильям? Осознавал ли он, что все они идут на смерть? В половине девятого Макгоуэн решительно подошел к Уильяму и предложил немного подышать воздухом во дворе. Эммет в это время писал сообщения разным отрядам.
Воздух снаружи был теплым. Во дворе отдыхали люди. Ракета на шесте длиной в восемь футов и с огромным запалом стояла в пусковом устройстве, глядя в небо. Остановившись рядом с ней, Макгоуэн тихо произнес:
— Все самые лучшие ушли.
— Знаю, — спокойно ответил молодой Уильям.
— Мы должны спасти Эммета от него самого. Восстание провалится, и мы потеряем вообще все.
— Но выбор сделан. Он не повернет назад. Я знаю его.
— А ты?
— Я не брошу своих друзей.
Это было произнесено очень решительно. Уильям решил для себя, как жить, и теперь собирался сам выбрать для себя смерть. Макгоуэн посмотрел на него с восхищением.
— Да, верно, — сказал он и вернулся в дом.
И какого черта ему теперь было делать?
Прошло еще десять минут. Эммет все еще сидел за столом, писал, но Макгоуэн заметил, что время от времени тот нервно вскидывает голову.
Макгоуэн отправился побродить по территории складов. Никто не обращал на него внимания. Он осмотрел разное оружие и в конце концов выбрал большой тяжелый пистолет, который засунул за пояс. Еще он подобрал несколько кусков ватина. В одной комнате он уже видел лестницы и мотки веревок. Он взял маленький моток и повесил на плечо. Потом заметил рулон бинта, взял и его тоже.
В основном план у него созрел. А после того ему предстояло импровизировать. В главной комнате ждали Эммет и около сотни мужчин. Макгоуэн снова вышел во двор. Было без четырех девять.
Макгоуэн прогулялся по улице. Людей вокруг было мало. Поблизости находилась парочка гостиниц. Спускались сумерки. Фонарщик начал свой обход. Это был странный, двусмысленный момент суток, граница между днем и ночью. Макгоуэн глубоко вздохнул и бегом ринулся обратно во двор склада.
— Солдаты! Солдаты идут! — закричал он. — Со всех сторон! Они нас окружают! Надо уходить отсюда!
Эммет стремительно вскочил из-за стола. Мужчины переглядывались. Уильям застыл на месте. Он сильно побледнел.
— Они нас поймали! — кричал Макгоуэн.
Настал критический момент. Мужчины колебались. Макгоуэн видел это в их глазах. А ему только и нужно было, чтобы на мгновение возникла мысль об отступлении. Если бы Эммет просто сказал: «Все кончено, разбегайтесь кто куда». Тогда Макгоуэн мог бы увести Уильяма в безопасное место. Но Эммет на такое не был способен. Черт бы побрал его благородный дух!
— Берите оружие, парни! — воскликнул Эммет. — Будем сражаться!
Некоторые мужчины явно сомневались, других это слегка взбодрило. Пойдут ли они за Эмметом?
— Поджигайте ракету! — крикнул Эммет.
— Сделаем! — заявил Макгоуэн и, схватив Уильяма за руку, вытащил его во двор.
На то, чтобы ударить кремнем и поджечь свечу под фитилем, ушло всего мгновение. Но вот загорелся фитиль ракеты, и Макгоуэн с Уильямом отошли назад. Через несколько секунд ракета с ревом взлетела вверх, поднялась высоко в небо, на несколько сот футов, и рассыпалась мощным дождем ярких падающих звезд. Ее должен был видеть весь Дублин.
— Вперед, парни, давайте захватим замок!
Это был голос Эммета. Он уже выводил людей на улицу. Как же он был великолепен в зеленом мундире! Он размахивал в воздухе мечом, стремительно шагая по Томас-стрит. Похоже, если бы он столкнулся с солдатами, то просто прошел бы насквозь через их ряды.
Молодой Уильям собирался уже пойти за ним. Макгоуэну пришлось соображать быстро.
— Эммет! — позвал он. — Не пойти ли мне навстречу людям из Уэксфорда?
— Иди! — крикнул Эммет.
— Могу я взять Уильяма?
— Да! Уильям, иди с ним!
Макгоуэн уже был рядом с Уильямом.
— Идем скорее! — воскликнул он.
И они почти бегом пустились по Маршалси-лейн к причалам.
Финн О’Бирн выжидал. Он решил держаться подальше от складов до встречи с лордом Маунтуолшем. Если бы он попытался уйти оттуда близко к назначенному часу, это могло выглядеть слишком подозрительно.
Тот факт, что многие люди из Килдэра и Дублина ушли, его не касался. На самом деле это просто давало возможность быстрее заметить Эммета и Уильяма, когда они выйдут на улицы. Конечно, вполне возможно, думал Финн, что Эммет вообще все отменит, но вряд ли такое в характере Эммета.
Финн прошелся до собора Христа и повернул на Вайнтаверн-стрит, к какой-то гостинице. Он вполне мог выпить пива, пока ожидал. Складное копье, выданное ему Уильямом, было довольно тяжелым, но вряд ли можно выбросить его прямо на глазах у прохожих, и Финн продолжал прятать его под пальто. Он вынужден был признать, что изобретение это весьма остроумное. К тому же, как знать, оно вполне могло принести пользу в такой вечер, начнись вдруг беспорядки. Не желая привлекать к себе внимания, Финн сел на скамью возле гостиницы.
Церковный колокол как раз закончил отбивать девять часов, когда Финн увидел мощную вспышку в небе над Томас-стрит, за которой последовал огромный взрыв, заполнивший небо падающими звездами.
Финн в ужасе смотрел на фейерверк. Неужели он ошибся часом? Нет! Было всего девять. Сигнал почему-то подали на час раньше. Ошибки быть не могло. Восстание начиналось. А лорд Маунтуолш покинет свой дом только через полчаса.
Финн побежал по улице. Что ему делать? Ждать Маунтуолша? Может, граф увидел ракету? Вряд ли, если он в доме. И какого черта теперь предпринять?
Выскочив к собору, Финн увидел двухколесный кеб и прыгнул в него.
— Скорее, гони лошадь! — закричал он. — На Сент-Стивенс-Грин! Гони вовсю!
Огромный прямоугольный сад, огражденный кованой решеткой, тянулся вдоль Меррион-сквер. Джорджиана нервно вышагивала там уже около часа, когда увидела взлетевшую в небо ракету, рассыпавшуюся звездным дождем где-то к западу от Дублинского замка.
Что бы это значило? Джорджиана вышла из сада. Никто из прохожих как будто и не заметил ракету. Джорджиана прошла до Ленстер-Хауса и повернула на Сент-Стивенс-Грин. Здесь она увидела нескольких человек, смотревших в небо, но никто ничего не делал. Джорджиана подумала, не следует ли ей пойти к замку, проверить, что там происходит. Ходу туда было всего десять минут. Или ей лучше вернуться и сесть в свою карету? Джорджиана колебалась. Предчувствие, не оставлявшее ее весь день, стало сильнее. Эта ракета знаменовала собой нечто ужасное. В том Джорджиана была уверена.
Она не провела на Сент-Стивенс-Грин и пяти минут, когда с восточного конца улицы промчался двухколесный кеб, который остановился у двери дома Геркулеса. Джорджиана увидела, как из кеба кто-то вышел и стал яростно дергать дверной замок. Когда дверь открылась, человек что-то сказал, потом быстро вернулся к ожидавшему его кебу. Через мгновение по ступеням сбежала фигура в длинном, слегка поношенном пальто, в шляпе, надвинутой до самых бровей, и тоже прыгнула в кеб. Тот сразу с грохотом рванулся с места.
Но как бы странно ни был одет сын Джорджианы, она узнала его сразу. Повернувшись, она быстро вернулась на Меррион-сквер и вызвала карету. Она была так взволнована, что ждала ее снаружи, у двери. И пока ждала, услышала вдали пистолетный выстрел, она была почти уверена в этом.
Лорд Маунтуолш уставился на него:
— Какого черта там случилось?
— Не знаю, милорд.
— Едем в замок. Я им сказал, что все начнется в десять. Надо убедиться, что они знают: все уже началось.
Через несколько минут они были перед воротами Дублинского замка. И сразу стало ясно: гарнизон видел ракету. Главные ворота заперты, солдаты строились по взводам. Короткого разговора с дежурным офицером оказалось достаточно.
— Все в порядке. Едем на Томас-стрит! — приказал Геркулес.
Финн немножко подумал.
— Слишком поздно, милорд. Они уже ушли к Угольному причалу, — сказал он. — Там они должны встретиться с людьми из Уэксфорда. Это может быть опасно, — добавил он.
Однако Геркулес бросил на него презрительный взгляд.
— Значит, к причалу, и как можно быстрее! — крикнул он кебмену. — Нам нужно только одно, — холодно напомнил он О’Бирну, — увидеть моего сына. Все остальное сейчас не имеет значения.
На складах на Томас-стрит было около трехсот человек. Бóльшая их часть вышла следом за Эмметом. Остальные высматривали приближавшихся солдат, но, поскольку никого не увидели, снова ушли во двор.
Чуть погодя поспешно подошли те, что находились на Планкет-стрит и увидели сигнал. Мужчины на складах быстро снабдили их копьями и стрелковым оружием, и отряд с Планкет-стрит отправился следом за Эмметом.
Однако продвижение Роберта Эммета к Дублинскому замку шло не слишком хорошо. Его люди нервничали и теряли боевой настрой.
— Вперед, парни, настало ваше время обрести свободу! — кричал он и стрелял в воздух, чтобы ободрить их.
Но они, шагая по улице, колебались все сильнее, разбивались на группы и понемногу таяли в боковых переулках. Дойдя до огороженной территории кафедрального собора, Эммет оглянулся — и увидел, что у него нет и двадцати человек.
Все было кончено, и он это понимал. Справа от него находилась Френсис-стрит, уводившая из города на юг.
— Давайте сюда, ребята, — грустно сказал Эммет и зашагал в сторону далеких гор Уиклоу.
Когда отряд с Планкет-стрит через несколько минут подошел к собору, они не нашли Эммета, а потому тоже разбились на группы и разбрелись, скрывшись в ночи. И вовремя. Иначе их встретил бы у Дублинского замка мощный огневой заслон.
И теперь оставались только люди из Уэксфорда, у причалов.
О’Бирн и лорд Маунтуолш ждали у переулка почти полчаса. Двухколесный кеб стоял за углом, неподалеку.
Приехав сюда, они убедились, что из Уэксфорда еще никто не пришел, и расположились так, чтобы видеть бунтовщиков с Томас-стрит, когда те приблизятся. Рядом даже имелся уличный фонарь. Лица бунтовщиков можно было рассмотреть без труда.
Но ничего не случилось. Через какое-то время Геркулес начал проявлять нетерпение. И вот уже он просто не в силах был стоять на месте. Но если они уйдут сейчас, то легко могут упустить своих жертв.
Наконец мимо них в сторону складов пробежал один из уэксфордцев, явно хотевший выяснить, что происходит. Еще немного спустя тот человек вернулся, и они услышали, как он крикнул:
— Там никого нет! На складах пусто!
Финн услышал, как граф крепко выругался.
— Идем, — прошипел он и повернул к кебу.
Когда они шли к экипажу, Финн ощущал, как граф трясется от ярости в темноте.
— Едем на Томас-стрит! — приказал он кебмену. — Покажешь мне то место, — сказал он Финну.
Они приехали к складам и увидели то, что сказал уэксфордец: пустоту. Но двор выглядел примечательно: кругом валялись копья, мечи, даже дорогие запалы к кремневым ружьям. И еще сумки с пулями, бочонки пороха… и ни единой живой души. Последние из воинов Эммета разбежались.
Становилось уже пугающе ясно, что бешенство Геркулеса дошло до опасной точки. Он схватил стопку лежавших на столе манифестов Эммета и швырнул их на пол. В какой-то момент Финн даже с ужасом подумал, что граф хочет пнуть бочонок с порохом. А потом он выплеснул свою злобу на О’Бирна.
— Ты, проходимец! — заорал он. — Ты нарочно заставил меня гоняться за призраками!
— Да разве я мог такое сделать, ваша светлость? Клянусь всем святым…
— К черту твое святое! — проревел граф. — Ты, ирландское отродье, папистская собака! Лжец! Думаешь, сумел меня одурачить? Где Эммет? Где мой сын?
— Не знаю, — с досадой ответил Финн.
— Тогда я вот что тебе скажу… — Голос графа внезапно зазвучал холодно от злости. — Если Эммета и моего сына поймают и казнят, все прекрасно. Но ты, конечно, ничего не получишь. Ни пенни. Но сохранишь жизнь. А вот если они сбежали, то я буду считать, что ты с ними сговорился. — Он придвинулся к Финну. — Помни, О’Бирн, я видел тебя здесь. Я знаю, ты был одним из бунтовщиков, и я дам показания об этом. — Он еще ближе наклонил лицо к Финну и прошептал со смертельной угрозой в тоне: — И посмотрю, как тебя повесят. — И тут же развернулся и ушел.
— Милорд… — Финн побежал за ним. — Мы можем поехать к замку. Они могут быть там. Вы их увидите…
— К черту твой кеб! — весьма нерассудительно огрызнулся Геркулес. — И к черту тебя! Я лучше пешком пройдусь.
— Но плата, милорд! — взвыл Финн. Бог знает, сколько нужно было заплатить кебмену за такую долгую поездку. — Плата…
— Сам заплатишь! — презрительно бросил граф.
Но тем самым он сделал ошибку богатого человека, забыв, что беднякам кебы не по карману. И ошибка эта стала фатальной.
Поскольку в этот момент внутри Финна О’Бирна, онемевшего от ужаса и смотревшего вслед лорду Маунтуолшу, что-то щелкнуло. Он вдруг осознал, что у него под пальто до сих пор скрыто складное копье. Достав его, одним движением он развернул древко во всю длину. Геркулес услышал странный звук и обернулся — как раз вовремя, чтобы увидеть, как О’Бирн движется на него с огромным копьем, чье сверкающее лезвие было направлено прямо ему в живот. Геркулес попытался увернуться, но безуспешно, и лезвие с треском прорезало его пальто, и он ощутил страшную жгучую боль внутри. И упал на колени. Финн уперся ногой ему в грудь. Он хотел вытащить копье. Геркулеса снова пронзила безумная боль, он услышал тошнотворный звук, а потом увидел чудовищное окровавленное лезвие копья, сверкнувшее возле его шеи, и в его голову будто ударила молния.
Финн отступил назад. Тело лорда Маунтуолша фонтанировало кровью. Финн наблюдал, дрожа. Хорошо. Он надеялся, что Эммет и его люди сумеют ворваться в Дублинский замок и сделают то же самое со всеми тамошними проклятыми англичанами.
В конце концов, хотя он и предал Эммета, ему все-таки нравился этот человек.
Финн огляделся. Лучше было бы не оставлять здесь труп. С другой стороны, он ведь не мог вытащить его на улицу. Финн заметил, что стена, окружавшая двор, в одном месте достигает всего шести футов в высоту. Он встал на какой-то ящик и заглянул через нее. По другую сторону на краю неухоженного клочка заброшенной земли лежала небольшая куча компоста. Финн пошел на склад, взял лестницу и вкатил на нее тело графа. Подтащив эти своеобразные носилки к стене, он поднял свободный конец лестницы, прислонил к стене и после этого без особых трудностей перевалил Маунтуолша через стену. Затем, опустив лесенку на другую сторону, он немного повозил ею туда-сюда, слегка присыпая труп компостом. После этого снял с себя окровавленное пальто и тоже бросил за стену вместе с копьем. Потом стер кровь с лесенки и отнес ее в дом. Найдя таз и кувшин с водой, он вымыл руки. И плеснул воды на башмаки. На спинке стула в главной комнате висело пальто молодого Эммета. Финн рассудил, что Эммету оно теперь едва ли понадобится.
Когда он вышел во двор, то увидел ожидавшего там кебмена.
— Вы закончили свои дела, джентльмены? — спросил он.
— Те джентльмены ушли, — ответил Финн. — Ты знаешь, кто я?
— Нет, сэр.
— Я Роберт Эммет, но ты меня здесь не видел. Иначе ты покойник.
— Хорошо, сэр. Но кто мне заплатит?
— Заплатит? Ты сделал это ради революции. — Финн отлично копировал манеру Эммета говорить. — А теперь уходи.
— Не уйду без денег.
— Вот как?
На земле у ног Финна лежал меч. Он наклонился, поднял его и бросился на кебмена, который, естественно, рванул на улицу. Парень был так напуган, что даже не запрыгнул на свое кучерское сиденье, а просто помчался на восток, к городу.
Пора было уходить. Бросив меч, Финн О’Бирн перешел улицу. И через несколько мгновений исчез в темноте.
Джорджиана была мрачна. Ее кучер нервничал. Он до сих пор понятия не имел, почему его хозяйка вот так мечется по городу, однако дела оборачивались плохо.
Недавно на улицах возле собора Христа они столкнулись с большой группой мужчин, которые остановили карету и спросили, вполне вежливо, не видели ли они молодого человека во главе отряда.
— Я тоже кое-кого ищу, — сообщила им Джорджиана и описала Уильяма. Но они его не знали. — А вы откуда? — спросила она.
Они из Уэксфорда, ответили ей мужчины и пошли дальше. Но теперь улицы наполнялись толпами людей, пребывавших явно в другом настроении.
— Езжай вон туда! — приказала Джорджиана.
— Но так мы попадем в Либертис, миледи, — предупредил кучер.
Но она потребовала ехать в ту сторону.
Слух о восстании разлетелся, как степной пожар. Некоторые мужчины, пьянствовавшие в трактирах, имели при себе оружие. Толпы, как правило полупьяные, стали собираться на улицах, крича о бунте.
Но Джорджиане было плевать на это. Она была уже неподалеку от Дублинского замка, где по улицам ходили военные патрули, и она ездила к причалам. Теперь она собиралась отправиться в Либертис. Если там был шанс увидеть внука, Джорджиана не собиралась этот шанс упускать. Они пересекли Френсис-стрит. Несколько раз шумные толпы мужчин и женщин не давали им проехать и даже колотили по стенкам кареты. Но когда какой-то тип ткнул кучера в ребра копьем, Джорджиана поняла, что не может просить его ехать дальше.
— Вернемся на Томас-стрит, — сказала она. — Она шире этих улочек, и оттуда мы доберемся до собора Христа.
Но, выехав на Томас-стрит, они обнаружили, что проехать здесь невозможно. Там собралась толпа в несколько сот человек. И по их крикам и ругательствам нетрудно было понять, что настроение у них хуже некуда. Они как раз остановили посреди улицы какой-то экипаж. У нескольких мужчин были в руках фонари. В их свете Джорджиана заметила блеск копий. Кучер того экипажа попытался погнать лошадей вперед, но их тут же схватили за уздечки. Открыв дверцы, мужчины вытащили наружу пожилого джентльмена. Потом еще одного мужчину, судя по всему служителя Церкви. Джорджиана услышала крики. Пожилого джентльмена начали бить ногами. Потом несколько копий, как будто сами по себе, устремились в одну точку. Джорджиана видела это поверх голов толпы. Одно из копий во что-то вонзилось. Потом другое. Толпа взревела. Они пронзили церковника.
Кучер Джорджианы пытался развернуть карету, но толпа, словно приливная волна, уже хлынула к ним. В дверцу заколотили.
Делать было нечего. Джорджиана опустила окно и выглянула.
— Чего вы хотите? — громко спросила она.
— Женщина! Здесь женщина! — крикнул кто-то.
Один из мужчин вспрыгнул на подножку кареты и сунул голову внутрь.
— Это просто женщина, одна! — сообщил он своим.
И толпа медленно расступилась, дав проехать карете Джорджианы. Она старалась не смотреть туда, где лежали двое растерзанных мужчин. Карета медленно двигалась к собору Христа.
А дальше все случилось так быстро, что Джорджиана даже не успела испугаться. Какой-то мужчина бросился к карете и ловко вскочил внутрь, так что Джорджиана и не вскрикнула. А кучер его вообще не заметил. Джорджиана задохнулась, готовясь защищаться. Но злоумышленник просто упал на сиденье.
— Езжайте по Вайнтаверн-стрит, быстрее! — произнес знакомый Джорджиане голос.
И с огромным облегчением она поняла, что это Джон Макгоуэн.
Он ничего не стал объяснять, просто тихо говорил ей, куда направить карету. Через несколько мгновений они уже снова катили на запад, в сторону причалов, потом повернули на какую-то узкую улочку, и наконец Макгоуэн попросил остановиться у темного переулка.
— Велите кучеру подождать и, что бы ни увидели, не говорите ни слова, — сказал он.
Макгоуэн исчез в темноте переулка и какое-то время отсутствовал. Наконец он появился снова, почти таща на себе человека с перевязанной головой. Он втолкнул его в карету и крикнул кучеру:
— Это мой племянник! Чертовы бунтовщики напали на него. Будет лучше, если ты сейчас поедешь вдоль причалов к Колледж-Грин.
Снова очутившись в карете, он наклонился к человеку, лежавшему на полу и тихо стонавшему, и прошептал:
— Тише, тише, ради Бога, тише! Ты сейчас в карете твоей бабушки, все кончено.
Потом он шепотом обменялся несколькими словами с Джорджианой, и та, когда они подъехали к Колледж-Грин, сказала громко, чтобы ее услышал кучер:
— Нет, ничего такого вы не сделаете! Отвезем молодого человека в мой дом, он останется у меня на ночь. — И приказала кучеру: — Езжай прямо домой!
А уж в ее доме было совсем нетрудно отвести перевязанного молодого человека наверх по освещенной лестнице, в спальню, и никто понятия не имел, кто он такой. Там Макгоуэн остался с юношей, а Джорджиана с кучером стали рассказывать слугам, как их чуть не убили бунтовщики и они же напали на его племянника. Когда повар приготовил чашку мясного бульона и кувшин теплого кларета, Джорджиана настояла на том, чтобы самой отнести все пострадавшему.
— Мне пришлось здорово стукнуть его по голове пистолетом, — начал объяснять Макгоуэн, когда все трое закрылись в спальне. — Потом я заткнул ему рот кляпом, связал и оставил в переулке, молясь, чтобы никто не нашел его до моего возвращения. Думал взять повозку у себя дома, но тут — слава Провидению! — я узнал вашу карету.
— Но восстание… — слабым голосом произнес Уильям.
— Все кончено, Уильям. Ты сам видел, что все рушится, еще до того, как ушел Эммет. Сейчас на улицах только разная пьянь. Они уже убили нескольких ни в чем не повинных людей и едва не убили твою бабушку. Тебе сейчас следует отдохнуть. Никто не знает, кто ты такой, и это только к лучшему. Мы решим, что делать, к утру, когда будем знать больше.
План разработала Джорджиана. На следующее утро она сама отправилась в Дублинский замок, чтобы заняться расспросами. Потом громко заявила там чиновникам, а после и слугам, когда вернулась домой, что ни дня больше не останется в Дублине, если правительство не в состоянии поддерживать порядок. Она практически приказала Макгоуэну сопровождать ее в Маунт-Уолш и взять с собой племянника. К концу утра они уже были в пути.
Ночь они провели в Уиклоу, где Макгоуэн занялся расспросами. А утром леди Маунтуолш закапризничала и пожелала сесть на корабль, который в тот день уходил в Бристоль. Племянник Макгоуэна должен был отправиться с ней в качестве слуги. Когда они высадились в Бристоле, молодой человек переоделся — между пристанью и гостиницей — и теперь уже был ее внуком Уильямом. Через неделю, имея при себе личные письма Джорджианы к ее родне в Филадельфии и доверительные письма к нескольким торговым домам, достопочтенный Уильям Уолш, который, насколько было известно, уже несколько лет не бывал в Ирландии, взошел на палубу корабля, отправлявшегося в Америку.
— Как только мы будем уверены, что тебя никто не выдал, ты сможешь вернуться, — сказала Джорджиана внуку.
Восстание Роберта Эммета было весьма коротким. И как восстание оно потерпело полный крах. Люди из Уэксфорда, полночи искавшие Эммета, в конце концов разошлись в разные стороны, как и все остальные. Рассел, Гамильтон и их друзья поняли, что в Ульстере весьма скептично смотрят на перспективу события — на что были причины, — и в итоге Ульстер так и не восстал. Толпы на дублинских улицах просто разогнали солдаты, но не раньше, чем пьяницы успели убить нескольких человек, включая одного судью и одного церковника, чему Джорджиана сама была свидетельницей. Около дюжины человек с копьями арестовали, и бóльшую часть из них позже казнили. Других выслали из страны. Но это и все. Хотя правительство еще несколько недель ожидало беспорядков.
Но ничего не случилось, вожди исчезли, Наполеона же интересовали другие дела. Почти все руководители бунта, кроме двоих, растаяли за границей.
Эммет остался в Ирландии. Хотя его терзало чувство вины за бессмысленные смерти, все же главной причиной того, что он остался поблизости от Ратфарнема, была Сара Карран, девушка, за которой он ухаживал. Он умолял ее бежать с ним в Америку. Если бы она согласилась, он эмигрировал бы и превратился бы для истории в имя, которое упоминается в сносках. Но вышло так, что его нашли и арестовали через месяц с небольшим после неудачной попытки восстания.
Шестнадцатилетнюю девушку, которая смотрела за его домом, тоже бросили в тюрьму. Поскольку она была дочерью простого фермера, на допросах с ней не церемонились. Однако по отношению к Саре Карран власти вели себя прилично: ее допрашивали весьма вежливо, как дочь джентльмена. Но и она подверглась наказанию за любовь к Роберту Эммету. Ее отец, адвокат с либеральными взглядами, теперь был полон желания продемонстрировать свою преданность властям, а потому выгнал дочь из дому и навсегда отказался от нее.
Произошло и еще одно несчастье. Рассел, настаивавший на продолжении восстания, но не сумевший поднять Ульстер, вернулся в Дублин в тщетной надежде спасти Эммета из тюрьмы. Там его схватили и казнили. Некоторые его друзья полагали, что он сам искал мученической смерти.
Но для Джорджианы все это в целом выглядело как одно величайшее несчастье. Прошло совсем немного времени, и правительство, исказив древнее пророчество, заявило, что бунт целиком и полностью был делом рук католиков.
— Да как они могут такое говорить! — возмущался Макгоуэн. — Ведь Эммет — протестант, а именно он стоял во главе заговора! Не понимаю.
И даже консервативную Римскую церковь обвинили в соучастии, поскольку, доказывали власти, заговорщики наверняка должны были обо всем рассказывать своим священникам на исповеди. В общем, дух Геркулеса по-прежнему витал над господствующим меньшинством.
Но вот сам лорд Маунтуолш был мертв.
Прошла неделя, прежде чем определенный запах заставил людей по соседству искать его источник. К тому времени уже было известно об исчезновении лорда. Джорджиана лично отправилась на опознание. В том, что кто-то из бунтовщиков убил столь ненавистного представителя власти, не было ничего удивительного, но вот как он вообще забрел в такое место, осталось загадкой. Его слуги только и знали, что он ушел из дому в спешке. А военный патруль, осматривавший склады в конце ночи бунта, доложил об обнаружении пустого двухколесного кеба, кого-то ожидавшего. Но позже кеб исчез, а кебмена так и не нашли. Так что все это осталось тайной, но Джорджиана не испытывала желания ее раскрывать.
— На самом деле, — частенько повторяла она по мере того, как шло время, — в итоге победил молодой Эммет.
И действительно, хотя при жизни Роберту Эммету не слишком везло, история приготовила ему место в пантеоне героев. В том сентябре, когда Эммета судили, он пренебрег защитой, но, когда его объявили виновным, потребовал дать ему последнее слово и произнес речь, которую услышала вся Ирландия и которой восхищались даже его обвинители.
— Я была там, — с удовольствием напоминала Джорджиана знакомым. — Судья пытался его перебить, но он сказал все до конца. И какой же у него был талант! Я слышала и Граттана, и многих других, но Эммет превзошел их всех.
Эммет, используя все то, что уже писал в своих манифестах, но добавив еще и то, что подсказало ему вдохновение в последний момент, так завершил свою речь, что она вошла в анналы национальных легенд. И заявил, что просит лишь одного: покинуть этот мир в тишине. Его благородные мотивы не нуждались в объяснении.
Пусть и они, и я отдохнем во мраке и мире, и пусть моя могила остается необозначенной, пока не придут другие времена и другие люди, способные судить справедливо. Когда моя страна займет свое место среди народов земли, тогда, но не ранее, пусть напишут для меня эпитафию.
Его слова породили эхо, и этот отзвук никогда уже не затихал в сердце Ирландии.
В марте следующего года Уильям Уолш, живший в Филадельфии, был весьма удивлен, получив от бабушки письмо, в котором, прежде всего, говорилось о том, что следствие по делу о бунте завершено, а его имя ни разу так и не было упомянуто и он может спокойно возвращаться домой. А во-вторых, бабушка сообщала, что он должен вернуться немедленно, потому что теперь стал графом Маунтуолшем.
Голод
1828 год
На свете не было никого лучше ее отца. Когда он подхватывал ее большими сильными руками и смотрел на нее смеющимися глазами, она знала: во всем графстве Клэр нет больше таких храбрых и сильных людей.
И потому от слов матери, высказавшей опасения по поводу того, что может сделать с ним агент мистер Каллан, Морин просто отмахнулась. Отец мог раздавить маленького мистера Каллана одной рукой, подумала она.
Не многие решились бы бросить вызов Имонну Мэддену. Он был младшим из четверых братьев, но самым крупным. И все они были гордыми.
— С отцовской стороны есть Мэддены, владеющие замечательными поместьями во многих частях Ирландии. С материнской стороны мы потомки самого Бриана Бору, — говорил Морин отец. — Ну, вместе с другими О’Брайенами, конечно, — допускал он.
В богатых зеленых землях у Лимерика знатный О’Брайен владел огромным замком и имением Дромоленд. Несколько крупных землевладельцев О’Брайенов жили в Клэре. Семья его матери, возможно, и была всего лишь семьей скромных фермеров-арендаторов, но все равно они чувствовали себя пусть отдаленными, но потомками того же великого рода.
Имонн был не только крупным и сильным, но и бегал как олень. И любил хёрлинг: он мог поймать мяч в воздухе и тут же помчаться с ним, и все это происходило в едином движении, изумлявшем зрителей.
— Твой отец еще и прекрасный танцор, — говорила Морин ее мать.
В молодости Имонн, до женитьбы на матери Морин, прославился своими буйными проказами и выходками. Лет десять назад один лендлорд, живший в нескольких милях от них, через месяц после смерти мужа угрожал вдове выгнать ее из дома, так у него сгорел амбар, а несколько коров каким-то образом покалечились темной ночью. Лендлорд понял послание, вдова осталась в своем доме и была освобождена от платы. Большинство людей верили, что налет возглавлял Имонн Мэдден, и это сделало его чем-то вроде героя среди местных.
Подобное грубое незаконное правосудие вообще было частью деревенской жизни. Иногда даже доходило до местных бунтов, но чаще ограничивалось отдельными инцидентами. В различные времена и в разных местах люди объединялись в группы, получавшие название «Риббонмен» или «Уайтбойс». Но каким бы ни было прошлое Имонна Мэддена, теперь он не стремился к насилию.
— Есть и другие способы добиться справедливости, получше, чем просто калечить скот, — говорил он дочери.
Хотя Морин, старшей из детей, было всего девять, родители иногда делились с ней мыслями.
— Это нам показал Дэниел О’Коннелл.
О’Коннелл, Освободитель, величайший человек в Ирландии. Если отец Морин был героем, то О’Коннелл был богом. Но именно из-за О’Коннелла теперь так тревожилась ее мать.
— На этот раз, — говорила она, — он зашел слишком далеко. И моли Господа, дитя, — сказала она Морин, — чтобы это не стоило нам нашего дома и всего, что мы имеем.
Если Имонн и его братья гордились собой, то не просто потому, что они, как и многие ирландцы, считали себя потомками принцев, а прежде всего потому, что вот уже много лет их семья имела больше земли, чем другие. Три поколения назад их прапрадед был арендатором большой фермы, хотя на самом деле та принадлежала лендлорду, жившему в Англии. С течением времени земля была разделена между его сыновьями. Ко времени последнего поколения отцу Имонна досталось всего около двадцати акров, а теперь и они были разделены между четырьмя братьями. Но Имонн чувствовал себя представителем дедовских владений, и кое-кто из самых старых соседей тоже так на это смотрел. А арендованную землю Имонн втайне считал своей собственной.
Морин нравились места, где они жили в графстве Клэр. От широких вод устья реки Шаннон на юге и до странных каменистых пустошей Буррена на севере эти края обладали особой магией. Если дальше, в Нижнем Манстере, горы Корка и Керри задерживали ветры и вызывали сильные дожди, то здесь, в Клэр, атлантические ветры свободно проносились над невысокими холмами и болотами, каменистыми пустошами и заливными лугами. Иногда в ветреные дни Морин казалось, что маленькие деревца терна и вереск, растущие на здешней земле, должны вот-вот оторваться от корней и умчаться прочь, в глубину острова, как толпа колдуний.
Ближе к Шаннон почва была богатой. Здесь, в центре графства, вокруг торгового города Энниса, местность была разнообразной, но земля не слишком плодородной. Тем не менее здесь выращивали пшеницу и овес, ячмень и лен. И конечно, картофель.
Может, у них и было всего несколько акров, но ее семья жила вполне хорошо. Они держали корову для молока, несколько свиней, несколько кур и собаку. Еще у них был ослик, чтобы тащить отцовскую тележку. И сажали они в основном капусту и картошку.
Крепкий двухэтажный фермерский дом ее прадеда до сих пор отлично выглядел. Жилище Имонна было скромнее: длинный одноэтажный коттедж с толстыми каменными стенами, сложенными без известки, и с соломенной крышей. Как и все в этих краях, они топили очаг торфом, ведь торфа вокруг было много, а дров почти не существовало. А если сквозь щели в каменных стенах и прорывался ветер, то это вряд ли имело значение, поскольку климат в Клэр был мягким. В семье было трое детей: сама Морин, ее младшая сестра Нора и малыш Уильям. Впрочем, вскоре ожидали еще одного. Они носили добротные льняные рубашки, которые шила их мать, шерстяную верхнюю одежду и чулки, а для зимы у них были крепкие башмаки. Так что они чувствовали себя вполне неплохо.
И питались они хорошо — обычно три раза в день. Если их отец ездил на рынок, то мог привезти оттуда немного мяса или рыбы. Часто у них на столе бывала капуста или другие зеленые овощи, но главное блюдо, дававшее и сытость, и здоровье, — питательный картофель.
Картофель. Истинное благословение.
— Это просто манна небесная, — частенько говаривал ее отец. — Американский дар ирландцам.
Отец Морин был образованным человеком. Он умел читать и писать и следил за тем, чтобы Морин тоже всему научилась. Он любил узнавать новое, и ему все было интересно. А поскольку Морин была старшим ребенком, а сын еще совсем маленьким, отцу нравилось с ней разговаривать. И поэтому Морин знала, что картофель привезли из Нового Света много поколений назад. Когда Морин была еще совсем малышкой, отец рассказал ей о его свойствах.
— Видишь вот это, Морин? — Он взял семенную картофелину, из которой торчали маленькие белые ростки, похожие на крошечные изогнутые рожки. — На корнях других растений редко образуются новые почки, а вот на картошке — да. Эти клубни содержат достаточно питания для новых ростков, которые появятся из них. Ростки образуют стебли с собственными корнями и листьями, и из них вырастет новый урожай картофеля. Так что все очень просто: надо выкопать картошку, оставить немного на семена, весной снова посадить клубни — и у тебя осенью будет новый урожай. Нам повезло: климат в Ирландии идеально подходит для картошки. Ей понравился наш мягкий влажный климат.
— А что, американские индейцы едят только картошку, которая сама растет? — тут же спросила Морин.
— Можно и так подумать. Но на самом деле — нет. Если клубни предоставить самим себе, они устремятся к поверхности земли, на них станет попадать свет. И новый картофель вырастет на поверхности и станет зеленым и горьким. Его нельзя есть. Поэтому мы и храним семенной картофель в темноте, а при посадке засыпаем толстым слоем земли.
Их ферма располагалась в каменистой местности. Но поле было расчищено, а камни использовались для стен, которые местами в толщину достигали нескольких футов. Как и его соседи, Имонн Мэдден в августе сажал картошку для раннего урожая, а для позднего — в октябре или ноябре. Питательность картофеля была выше всяких похвал. Если добавлять к картошке немного масла и молока, капельку овощей или рыбы, то на ней могла вырасти раса здоровых гигантов, если ее съедать достаточно. А ирландцы так и делали. Когда Имонн Мэдден основательно трудился на земле, он поглощал четырнадцать-пятнадцать фунтов картошки в день.
И разве после этого кто-нибудь стал бы возражать против того, чтобы растить такое чудо?
— Конечно, есть у картофеля и болезни, и вредители, — признавал Имонн, так как в последние десятилетия действительно появилось много и тех и других, иногда серьезных. — Но тут можно представить три возражения, — обычно добавлял он. — Первое: картофель дает урожая на акр гораздо больше, чем что-либо другое. Второе: вредители и болезни обычно местные и они быстро исчезают. Но главное — третье, о чем иногда забывают: неурожаи случаются гораздо реже и они не такие страшные, как неурожаи зерновых. Да, тут гораздо меньше риска, Морин, и лучше засадить поле картошкой, чем засеять пшеницей или овсом.
Отец Морин работал на картофельном поле, орудуя лопатой, и вся семья помогала ему во время сбора урожая. Картофельные очистки они скармливали свиньям, а те в ответ давали навоз для удобрения поля. Раз в год семья забивала свинью для себя, но остальные свиньи предназначались для продажи.
— Это арендная плата, — говорил отец.
Такой образ жизни оставлял отцу много свободных месяцев в году, когда он мог наниматься к другим людям на работу. Еще он зарабатывал деньги перевозками и иногда уезжал довольно далеко.
Иной раз он брал с собой Морин. Однажды они ездили в огромные каменистые пустыни Буррена. Морин была поражена голой красотой этих мест и очень удивилась, когда увидела, что там пасутся овцы.
— Можно ведь подумать, что им здесь не найти корма, правда? — заметил ее отец. — Но они находят, а те травы, что растут здесь между камнями, придают их мясу особенно приятный вкус.
Еще они посещали могучие утесы Мохера, и Морин задохнулась при виде огромных отвесных стен почти в тысячу футов высотой. Они падали в бурлящие волны Атлантики внизу.
Потом отец, придерживая дочь, предложил:
— Наклонись вперед.
Морин наклонилась над краем утеса и ощутила сильный удар воздуха — атлантический ветер налетал на утесы и поднимался вверх, не просто поддерживая Морин, но и отталкивая ее назад.
— Здесь между нами и Америкой ничего нет! — прокричал сквозь гул ветра отец. — Только вот это бурное море.
Морин и сама не поняла, почему ее так взволновала эта мысль.
— А мы когда-нибудь туда поедем? — спросила она.
Это был вполне естественный вопрос. Большинство знакомых ей фермерских семей, похоже, имели родню в Америке. Один из братьев Имонна и два его дяди тоже отправились туда вместе с семьями. Но уезжали только достаточно обеспеченные люди. Бедняки не могли оплатить дорогу.
— А зачем, разве тебе хочется уехать из Клэра? — спросил отец.
— Да никогда!
В другой раз они отправились к устью Шаннон и наблюдали за тем, как рыбаки выходят в море на маленьких куррахах, сооруженных из шкур.
— Земли вдоль Шаннон — сплошь затопляемые низины, — сказал Имонн. — Есть голубые низины, так мы их называем, с прекрасной почвой, но есть черные низины с удивительно плодородной почвой. Там вообще можно снять двадцать урожаев, прежде чем тебе понадобится вносить удобрения. — Он произнес это с такой гордостью, словно все черные низины принадлежали ему лично.
Но в основном Имонн ездил в местный городок Эннис, садясь в тележку рано утром и возвращаясь в сумерки. Но если он предлагал Морин поехать с ним, она старалась найти предлог, чтобы отказаться. Она боялась ездить в Эннис.
Город был невелик, но играл важную роль в жизни округи. Баржи, доставлявшие товары от северных фьордов к широкому устью реки Шаннон, шли вверх по реке Фергус к Эннису, который имел скотный рынок и здание суда. В городе можно было купить все, что угодно. Как-то раз, помнила Морин, отец очень дешево купил полную повозку морских водорослей, которые привезли из устья Шаннон. Когда вернулись домой, отец попросил Морин помочь ему раскидать водоросли по картофельному полю.
— Они кормят почву, — объяснил он. — Ниже по побережью их вообще используют вместо навоза.
Но дорогу до Энниса Морин ненавидела.
В Ирландии веками было множество безземельного народа. В каком-то смысле это являлось результатом естественных процессов. Когда земли какого-нибудь вождя делились между его сыновьями, те вскоре забирали землю у крупных арендаторов и делили ее на мелкие участки. Арендаторы, в свою очередь, тоже делили свою землю, и так далее, пока не доходило до кусков в два-три акра с небольшим коттеджем, и одновременно появлялись совсем не имевшие земли рабочие. А Кромвель, уничтожив целый пласт ирландских лендлордов в пользу англичан, лишь поднял еще одну волну таких вытеснений.
И именно благодаря этому процессу в последнее столетие так быстро распространился питательный картофель. Поскольку они могли позволить себе жить на земле и существовать за счет небольших наделов, отец Имонна, а до него и дед женились очень молодыми и производили на свет множество детей. Да и самому Имонну было всего двадцать, когда он женился. И кто знает, сколькими детьми он мог обзавестись? Даже самые бедные обитатели коттеджей с крошечными клочками земли могли выжить. И в результате население Ирландии невероятно увеличилось. Оно уже достигло семи миллионов и продолжало расти. Ирландия стала одной из самых густонаселенных стран в Европе. И конечно, неизбежным образом цены на продукты и землю поднимались.
— Лендлорд может потребовать высокую цену за свою землю, а богатые фермеры вполне могут заплатить. Нам повезло, — объяснял Морин отец. — Но некоторые крестьяне с трудом собирают деньги на арендную плату.
Те же, кто заплатить не мог, вынуждены были оставить землю и наниматься в батраки или искать другой способ выжить. В трущобах Лондона или в Либертисе Дублина городские бедняки встречались на каждом шагу. Но теперь и в сельской местности в Ирландии возник и распространился новый феномен: трущобы сельских жителей.
Начинались они примерно в миле от Энниса. Одни представляли собой хижины с крышами, другие были просто шалаши или землянки. Некоторые семьи могли взять в аренду клочок земли для выращивания картошки на один сезон; другие и того не имели. Работу они искали везде, где могли, но иногда не находили ничего. Вдоль всех дорог, ведущих к Эннису, картина была одной и той же. И Морин, проезжая мимо мужчин с лицами, полными отчаяния, мимо женщин и детей в отрепьях, каждый раз содрогалась.
— А с нами такое может случиться? — как-то раз спросила она отца, когда ей было еще пять лет.
— Никогда! — уверенно ответил Имонн.
— А мы не можем им помочь?
— Их слишком много, — печально улыбнулся отец. — Но я рад, что тебе этого хочется.
Морин потрясло тихое бессилие, прозвучавшее в голосе отца. До того момента ей казалось, что он мог бы что-то изменить. Имонн знал: если они вместе поедут той дорогой, дочь не успокоится до тех пор, пока он не даст ей несколько пенни, чтобы бросить детям, мимо которых они проезжали. И хотя Морин никогда об этом не говорила, именно эти трущобы заставляли ее отрицательно качать головой, когда отец спрашивал, не хочет ли она поехать с ним в город. Однако в прошлом году она задала другой вопрос:
— А Дэниел О’Коннелл может что-нибудь сделать для них?
И тут ее отец слегка взбодрился.
— Возможно. — Он кивнул. — Если кто-то и может, то, пожалуй, О’Коннелл.
А теперь Морин огорчалась из-за того, что впервые на ее памяти между ее родителями произошла размолвка, и причиной, скорее всего, стал как раз Дэниел О’Коннелл.
Морин однажды слышала его речь. Отец взял ее с собой тогда, но мать поехать отказалась. Великий человек прибыл из своего дома в горах в графстве Керри, чтобы выступить перед огромной толпой, собравшейся на поле рядом с Лимериком. Он стоял на телеге. Морин с отцом находились довольно далеко, но видели его хорошо, потому что он оказался даже крупнее, чем Имонн, с широким веселым лицом и огромной гривой волнистых каштановых волос.
Он обращался к ним на ирландском и на английском. Как и многие в этих краях, он мог легко переходить с одного языка на другой, иной раз смешивая их. Морин не все поняла из его выступления, но люди понимали и одобрительно гудели. Морин в основном запомнила не то, что он говорил, а удивительный музыкальный звук его голоса — иногда тихого, иногда взлетавшего в бурном темпе. Когда О’Коннелл понижал голос, вся толпа затихала, ловя каждое его слово.
— У него ангельский голос, — заметил отец Морин. — И дьявольская хитрость, — одобрительно добавил он.
О’Коннелл, блестящий адвокат, в течение многих лет специализировался на защите католиков от протестантского господства. Но все же его истинное призвание лежало в области политики. И вот пять лет назад он начал великий политический эксперимент: вместе с группой единомышленников основал Католическую ассоциацию.
Ничего подобного никогда раньше не было. Были комитеты джентльменов-католиков; были патриоты, благосклонно относившиеся к правам католиков; были и добровольцы, и местные бунтари, и революционеры. Но Католическая ассоциация О’Коннелла — это совсем другое дело. Мирное политическое движение, массовое, открытое для всех католиков Ирландии, способных платить крошечный взнос в один пенни в месяц. В политике вообще раньше ничего похожего не случалось. Имонн Мэдден сразу присоединился к ассоциации.
Но самым гениальным была организация движения. Когда друзья спрашивали Имонна: «Как там вообще все устроено и кто собирает эти пенни?», он спокойно отвечал: «Это знает местный священник».
Так оно и было в действительности. В каждом приходе священник собирал пенни, тщательно все записывал и отсылал деньги. А почему бы ему этого и не делать, если цель организации, абсолютно законной, — добиваться справедливости для всех представителей их веры?
А О’Коннелл постоянно подчеркивал, что его последователи — законопослушные люди. На том митинге, который Морин посетила вместе с отцом, когда появилось военное подразделение, на случай беспорядков, О’Коннелл сразу попросил толпу приветствовать солдат аплодисментами.
Конечно, это и для Церкви оказалось серьезным новшеством.
— Я совсем не уверен, — заметил отец Кейси, их добрый седовласый священник, в разговоре с Имонном, — что мой предшественник это одобрил бы. Он получил образование в Риме, вы ведь знаете, и верил в старый порядок: «Подчиняйся властям и знай свое место».
Но тридцать лет назад правительство позволило Католической церкви открыть колледж для обучения священников в Мейнуте, к западу от Дублина. И священники, получившие образование в Ирландии, обладали куда более современными и независимыми взглядами.
— Мы будем собирать деньги, — сразу заявили они.
И суммы были огромными. Членов в Католической ассоциации оказалось более миллиона, и она получала ошеломительные деньги, около ста тысяч фунтов стерлингов в год.
Когда Морин услышала, что ее родители спорят из-за О’Коннелла, то вполне поняла их обоих. Ее мать, маленькая, смуглая и практичная, все делала очень быстро. Однако крупному голубоглазому отцу Морин, тоже человеку практичному, нравилось размышлять о разном, и он не спешил, когда считал это необходимым.
— Они собирают кучу денег, — говорила мать Морин. — И для чего? Чтобы католики могли попасть в британский парламент?
— Это первая цель, — отвечал Имонн. — А ты сама не находишь странным то, что я, католик, свободный землевладелец, способный заплатить сорок шиллингов, имею право голосовать, но голосовать могу только за протестантов, которые будут меня представлять в парламенте?
Городские районы по-прежнему находились под контролем богатых и могущественных джентльменов и их друзей. Однако выборы представителей сельской местности изменились: древний избирательный ценз платы в сорок шиллингов был отменен и даже те католики-арендаторы, которые просто платили арендную плату сорок шиллингов в год, получили право голосовать. За протестантов, конечно. Король Георг III уже покинул этот мир, на троне теперь сидел его сын Георг IV, однако в вопросе католиков в парламенте он был так же тверд, как его отец. Он тоже повторял, что это противоречит коронационной клятве.
— Да, Имонн. Но даже если что-нибудь получится, что изменится для нас? — сердито спрашивала мать Морин. — Несколько католиков в парламенте ничего не дадут тебе и мне.
— Не сразу. Но разве ты не понимаешь, что это вопрос принципа? Речь идет о признании того, что католики так же хороши, как и протестанты.
Морин была уверена, что понимает отца, но мать лишь пожимала плечами:
— И кто сядет в тот парламент со всей твоей помощью и на твои деньги, если не сам Дэниел О’Коннелл? Он же ради себя самого все затеял!
— А ты знаешь человека получше, чтобы занять там место? — с улыбкой спрашивал Имонн.
Из проповедей отца Кейси Морин знала, каким унижениям по-прежнему подвергается Католическая церковь. Например, британское правительство считало, что может наложить вето на назначение любого католического епископа, если он кому-то не нравился.
— Подумайте об этом, — говорил священник. — Премьер-министр указывает самому папе римскому, что Церковь не может иметь того епископа, которого избрал его святейшество. Отправляют его обратно и велят его святейшеству поискать другого, как будто он непослушный школьник!
Но еще больше причин для недовольства рождала до сих пор существовавшая десятина. В каждом приходе по сей день католики обязаны были платить не для поддержки собственного священника, а в пользу протестантского церковника. Но, кроме платы протестантскому еретику, даже беднейшие в общине вынуждены были платить еще раз, если хотели, чтобы их священник не умер с голоду.
И за этим произволом стояла вся мощь оскорбительного протестантского господства, которое, несмотря на уступки правительства, оставалось неизменным. Ведь почти все крупные землевладельцы, мировые судьи и офицеры были по-прежнему протестантами. Лишь недавно местный лендлорд, некий Синг, просто вынудил своих арендаторов перейти в протестантскую веру, а в противном случае он бы их выселил. И куда деваться бедным католикам перед лицом такой силы? Конечно, в Католическую ассоциацию.
— У нас теперь есть адвокат, — мог сказать Имонн.
И вместо того чтобы поджечь амбар мерзкого лендлорда, обиженный мог обратиться к О’Коннеллу, и Освободитель начинал переговоры с лендлордом. Конечно, О’Коннелл не мог исправить любое зло, но мог дать начало переменам.
Однако для матери Морин все это как будто ничего не значило, тем более в свете последних обстоятельств. Потому что теперь выборы привели О’Коннелла к их собственному порогу.
Это было странное событие. В палату общин должны были назначить члена от графства Клэр, протестанта, поддерживавшего католиков, и он должен был пройти процедуру выборов, прежде чем получить место. И как же он был удивлен, когда Католическая ассоциация внезапно решила выступить против него — и еще больше он изумился, когда оказалось, что они выдвигают другого кандидата, а именно самого Дэниела О’Коннелла.
Вызов был брошен. Впервые католик выставил свою кандидатуру на выборы.
— Вся прелесть ситуации в том, — со смехом объяснял Имонн своей семье, — что британские законы не запрещают католикам выставлять свои кандидатуры. Но он не сможет занять место в палате общин, если не даст протестантскую клятву, чего он, конечно, делать не станет. Он использует собственные правила англичан, чтобы сконфузить их. Если его изберут, он поставит их в невозможное положение!
Да, это была умнейшая ирония, приведшая в восторг ирландский ум и ошарашившая английский.
— И что ты скажешь мистеру Каллану, он уже три раза тебя искал? — сердито и с неодобрением глядя на мужа, спросила жена. — Что ты скажешь, Имонн? Что твоих жену и детей пусть выгоняют, пусть они идут просить милостыню в Эннисе?
Морин очень пугалась, когда ее мать говорила такие вещи.
— До этого не дойдет, — отвечал ее отец.
— Почему же нет? В Уотерфорде дошло.
Суть была в том, что хотя «сорокашиллинговые» имели право голосовать, это не значило, что голосовать они могут, как им вздумается. Ничего подобного. Нет, если они не хотели лишиться жилища. Землевладельцы ожидали, что их арендаторы проголосуют так, как им прикажут. А сомнений в том, как именно они будут голосовать, быть не могло, потому что выборы проходили публично. И любой арендатор, оказавшийся настолько дерзким или настолько глупым, чтобы голосовать вопреки воле лендлорда, объявлял себя тем самым врагом человека, у которого он арендовал землю. Естественно, после этого лендлорд и его служащие выкидывали строптивца с земли и искали другого, более сговорчивого. Послание было ясным и простым: подчинись или умри с голоду.
Совсем недавно О’Коннелл и его ассоциация поддержали некоего кандидата — джентльмена-протестанта, конечно, но защитника прав католиков — против отпрыска одного из важнейших протестантских семейств в тех краях, который вполне рассудительно предполагал, что место принадлежит ему по праву рождения. К ужасу местных землевладельцев, О’Коннелл и его люди убедили арендаторов и даже их собственных слуг забыть о традиционной преданности и проголосовать за чужака. Это вызвало гнев, оцепенение, а затем изгнание с земли. Так что опасность была вполне реальной.
— Но мы же не в Уотерфорде. Это Клэр, — возразил Имонн.
И действительно, в этих краях не меньше трети лендлордов жили вдали, а большинство сквайров принадлежали к древним ирландским родам, вроде О’Брайенов, или к старым англичанам, как Фицджеральды, которые осели в Ирландии шестьсот лет назад, хотя, конечно, им всем, и старым англичанам, и ирландцам, пришлось стать протестантами, чтобы сохранить свои имения.
— И ты думаешь, мистеру Каллану есть дело до того, Клэр это, или Уотерфорд, или пустыня в Азии? — кричала его жена. — Или тебе кажется, что какой-нибудь О’Брайен будет дольше колебаться, выгоняя арендаторов, чем кто-нибудь из англичан? — добавляла она для ровного счета.
И действительно, следовало признать: не было никаких доказательств того, что ирландские землевладельцы могли быть снисходительнее, чем английские.
— А отец Кейси? Что ты ему скажешь? — спрашивал Имонн.
На воскресной мессе священник, стоя перед алтарем и глядя на прихожан, откровенно высказал свое мнение:
— Голос, отданный за О’Коннелла, — это голос, отданный за вашу веру. А значит, не сомневайтесь в том, чего хочет от вас Господь.
— Как вы думаете, отец, — спросила его после мессы одна женщина, — а если мой муж проголосует так, как требует мистер Каллан, это не будет смертным грехом? Не угодит ли он за это в ад?
Добрый священник заколебался, но тем не менее заявил:
— Такое вполне возможно.
Однако мать Морин было не так легко убедить. Морин уже заметила, что, хотя мать регулярно посещала мессу, ходила на исповедь и настаивала на том, чтобы дети учили катехизис, она все же какую-то часть ума оставляла в стороне, под собственной властью, а не под властью Бога.
— У отца Кейси, — холодно произнесла она, — нет жены и детей, которых нужно кормить.
По мере того как приближался день выборов, Морин все чаще спрашивала отца:
— И как ты поступишь?
И впервые в жизни она увидела, что ее большой, сильный отец тревожился и был неуверен.
— По правде говоря, детка, — отвечал он ей, — я и сам пока не знаю.
Стивен Смит с удовольствием надел зеленую ленту с большой медалью. Это был поразительный день. Они творили историю.
Вся Ирландия наблюдала и выжидала. И вся Британия тоже. И именно поэтому явился сам лорд Маунтуолш, и Стивен был рад тому, хотя с любопытством подумал: кем мог быть неулыбчивый невысокий человек, которого его светлость привез с собой?
Любому понравился бы Уильям Маунтуолш. И пусть его жена была глупой — милой, но глупой. И возможно, можно было улыбнуться тому, как этот дородный аристократ средних лет старался не упустить возможности узнать новости или людей, приносящих эти новости.
— Я стараюсь познакомиться со всеми интересными персонами в Ирландии, — бодро признался он Стивену, когда впервые с ним встретился.
Но при огромном круге знакомств графа и притом что друзьями его брата были многие ученые, он, пожалуй, и в самом деле ничего и никого не упускал. Стоило ему лишь услышать о вас, и тут же следовало приглашение в его дом на Сент-Стивенс-Грин, а если вы ему нравились, вас приглашали на несколько дней в величественный особняк в Маунт-Уолше, чтобы граф мог как следует вас изучить. И от приглашения в Маунт-Уолш вряд ли можно было отказаться. Там вас великолепно принимали. Хозяин поместья, с его огромным состоянием и местом в палате лордов, он пытался ко всему приложить руку. Мало было такого, чего он не смог бы сделать для вас, если бы захотел. И собеседником он был удивительным. Хотя чему тут удивляться? Он ведь был не только сыном Геркулеса, обладавшего постыдной славой, но и другом Эммета, человеком, который жил в Париже и Америке и который, будучи еще студентом Тринити-колледжа, публично оскорбил жуткого Фицгиббона.
Но для Стивена Смита, в двадцать лет уже ставшего светским циником, любые недостатки графа перевешивало то, что его светлость, в отличие от многих аристократов, не отбрасывал вас прочь, насытив свое любопытство. Он навсегда оставался вашим другом и защищал вас. Редкое качество.
Поэтому, увидев Уильяма, махавшего ему со ступеней лучшей в городе гостиницы, Стивен с удовольствием пересек улицу.
— Я так и думал, что найду тебя здесь, Стивен! — воскликнул граф. — Что это за лента на тебе?
— На ней еще и медаль, — с усмешкой ответил Стивен. — Орден Освободителя. Его сам великий человек придумал. Когда я надеваю его, то сам о себе становлюсь лучшего мнения.
Его светлость весело покачал головой, потом познакомил Стивена со своим спутником, серьезным, тихим человеком лет двадцати пяти, который сейчас жил в Маунт-Уолше. Сэмюэль Тайди, объяснил граф, был квакером. Стивена удивило то, что лорд пригласил этого Тайди в Уэксфорд. Парень выглядел довольно скучным.
— Мы еще до рассвета выехали из Лимерика, — продолжил граф. — Расскажи нам, что здесь происходит?
Преображение Энниса ошеломляло. Возможно, несколько веков назад, когда здесь находился монастырь францисканцев или когда этим местом владели благородные потомки Бриана Бору, Эннис и выглядел нарядным. Но в последнее время его жители редко брали на себя труд навести порядок на невзрачных и шумных улицах — разве что дважды в год, когда в здании суда проходили выездные сессии.
Однако в этот день из окон свисали яркие знамена, весь мусор вымели, даже самых неприглядных нищих и проституток загнали в просторную тюрьму на время.
Появление О’Коннелла напоминало приезд средневекового монарха. Хотя было начало июля, лил дождь, но тысячи человек вышли ему навстречу. Освободитель въехал в Эннис вслед за огромным голубым с золотом знаменем графства.
— Имейте в виду, — объяснил Стивен, — мы уже подготовили почву. О’Коннелл написал письма всем известным горожанам. И еще у него здесь есть родня, как вы знаете, — добавил он, показывая на солидный дом дальше по улице. — Он там всегда останавливается. Я скоро пойду к нему.
— Мы видели много священников по дороге сюда, — заметил Маунтуолш, и Стивен засмеялся:
— Сто пятьдесят по последнему подсчету. Они просто заполонили город. Некоторые из них даже устроились рядом с кабинами для голосования, чтобы убедиться, что никто не дрогнет. И порядок поддерживается просто жуть какой. Эль разрешен, но нигде ни капли виски, и помоги Бог любому доброму католику, если у него найдут самогон. В этом городишке двадцать семь трактиров, милорд, и священники присматривают за всеми. Просто страшно видеть такое огромное количество добропорядочных людей в трезвом состоянии.
Стивену показалось, что при этих словах Тайди поморщился.
— Моя бабушка была знакома с О’Коннеллом, когда тот был совсем молодым, — сказал Маунтуолш. — Она мне говорила, что в те дни он вовсе не был таким уж убежденным католиком. Она называла его деистом.
— Ну а теперь он определенно хороший сын Церкви, — ответил Стивен. — Вся его политическая карьера на этом строится. И посмотрите на результат.
— Человек вполне может изменить взгляды, — мягко вмешался Тайди. — И нет сомнений в том, что мистер О’Коннелл верует искренне.
На это лорд Маунтуолш тихо хихикнул, но Тайди посмотрел на него с недоумением.
— Вы должны понять, — сказал граф, обращаясь к квакеру, — что Стивен, как он ни молод, уже не первый год просвещает меня в вопросах политики.
Стивену было всего шестнадцать, когда он присоединился к О’Коннеллу, причем обладал он лишь острым умом и не имел никаких рекомендаций. Пройдя путь от мальчика на побегушках до агента кандидата по проведению выборов, он продемонстрировал безупречное политическое чутье. К последнему году он уже произвел впечатление на стольких людей, что о нем услышал Уильям Маунтуолш и позвал к себе. Похоже, Стивен и графа сумел весьма заинтересовать. Возможно, граф стал уделять этому молодому человеку даже больше внимания, чем тот заслуживал, обнаружив родственную связь между ними.
— Если ты приехал из Ратконана, то, наверное, мог знать старую Дейрдре, жену Конала Смита? — спросил его граф.
— Это моя прабабушка, — ответил Стивен. — И я помню ее, хотя ей уже было невесть сколько лет, когда я был еще ребенком.
— Тогда ты знаешь и детей моего родственника Патрика Уолша, того, которого убили на холме Винегар?
— Конечно, милорд, я их всех знаю.
Это очень заинтересовало его светлость.
— Моя бабушка Джорджиана поехала в Ратконан в тот год, когда умерла, — припомнил он. — Она была очень близка с Патриком, и ей хотелось узнать, что стало с его детьми. Она говорила, что все они живут там и никто из них не хочет переезжать. Но если бы решили, она, думаю, обеспечила бы их деньгами.
— Они и слышать не хотят о Дублине, — подтвердил Стивен. — Старая Дейрдре об этом позаботилась. Они переженились с О’Тулами, О’Бирнами, Бреннанами и так далее. Их теперь не разделить.
— А Бригид, — захотелось узнать графу, — о Бригид ты слышал что-нибудь?
— Конечно. Она писала Дейрдре из Австралии. Она снова вышла замуж. Думаю, у нее были еще дети. Лет десять назад она купила небольшой отель в Новом Южном Уэльсе. Вот все, что мне известно.
Отставив в сторону семейные подробности, Уильям Маунтуолш пожелал побольше узнать о жизни самого Стивена и о том, на что надеются люди его поколения.
— В будущем нам, конечно, хотелось бы разорвать союз с Англией и сделать Ирландию независимой, — ответил ему Стивен. — Но до тех пор мы делаем ставку на либеральную партию вигов в Англии. Это партия Шеридана, в конце-то концов. Виги сочувствуют ирландским католикам. Что до О’Коннелла, то я уверен, он может сделать для нас больше, чем кто-либо другой.
Стивен быстро понял, что его светлости невероятно интересны все последние политические сплетни, и поскольку сам Стивен находился в гуще избирательной кампании, то с удовольствием снабжал этими сплетнями графа.
Но при чем тут квакер? Стивен мало знал о квакерах, но подозревал, что этот парень чересчур серьезен на мирской вкус.
— А вы всегда были квакером, мистер Тайди? — вежливо поинтересовался он.
— Мой отец принадлежал к официальной Церкви, но моя мать была из квакеров, — ответил Тайди. — Отец умер, когда мне было десять, и с течением времени меня все больше тянуло к «Обществу друзей».
Стивен заметил, что Тайди, с его тонкими светлыми волосами, постоянно немного наклоняется вперед и от этого кажется человеком без возраста.
— Один член его семьи был дворецким у великого настоятеля Свифта, а потом — у самого герцога Девонширского! Ведь так? — спросил лорд Маунтуолш.
— Да, двоюродный дед моего отца, — признал Тайди, и Стивен улыбнулся себе под нос.
Граф, известный отсутствием снобизма, все равно хотел знать, кто есть кто, даже в случае вот этого квакера.
— А что вы думаете о сегодняшних выборах? — спросил Стивен.
— Я даже не подозревал, — ответил квакер, — что О’Коннелл может так воздействовать на толпу.
— Он как ирландский принц.
— А О’Коннеллы были принцами?
— Нет. — Стивен усмехнулся. — Но сделали себе небольшое состояние.
— Каким образом?
— Контрабанда, — весело ответил Стивен.
— О-о!.. — Квакер был слегка ошеломлен.
— Католики ему доверяют, — продолжил Стивен, — потому что знают: ради них он готов зайти как угодно далеко. И доказал это своей адвокатской практикой. Вы слышали историю о том, как он защищал одного человека, обвиненного в убийстве?
— Боюсь, нет.
Граф дал понять, что эта история ему известна, но он не прочь послушать еще раз.
— Никто другой просто не смог бы помочь тому бедняге. Однако О’Коннелл встал перед судьей и высказался примерно так: «Я не могу защитить этого бедного католика, потому что прекрасно знаю: он был обречен на смерть еще до того, как начался этот суд! — воскликнул он. — Так зачем зря тратить время? Поскольку Ваша честь намерены в любом случае повесить его, вы могли бы вынести приговор прямо сейчас. Но я не желаю принимать в этом участия! Однако я скажу вам вот что… — И он сурово уставился на судью. — Его кровь будет на ваших руках!» И с этими словами он стремительно выбежал из зала суда.
— И что было дальше? — спросил Тайди.
— Судья так перепугался, что отпустил того человека.
— Значит, правосудие в итоге восторжествовало?
— Да ничего подобного. Я потом сам расспрашивал великого человека. А он ответил: «У меня просто выбора не было. Если бы дело дошло до настоящего расследования, у меня не осталось бы надежды. Этот человек был виновен по всем пунктам».
Уильям Маунтуолш одобрительно хихикнул. Тайди выглядел мрачным и молчал.
— А ведь здесь он произнес отличную речь, да? — спросил граф после недолгого молчания.
— Скандальную! — с улыбкой сообщил Стивен. — Его оппонент Фицджеральд, кроме того, что представляет крупных местных сквайров, еще и человек самых либеральных взглядов. Порядочность Фицджеральда восхищает в равной мере и протестантов, и католиков. А потому наш великий человек просто стал говорить такое, чего я никогда в жизни не слышал. Открыто оскорблял противника. Создавалось впечатление, будто Фицджеральд — это какой-то последователь Кромвеля, вступивший в сговор со всеми протестантами-фанатиками. И это было настоящее искусство лжи! — Стивен восхищенно покачал головой. — Конечно, ему потом придется принести извинения Фицджеральду. Но в тот момент он был хорош!
Для Сэмюэля Тайди это было уже слишком.
— И неужели совесть твоя никак тебя не тревожит?! — с укором воскликнул он.
Стивену уже приходилось слышать об обычае квакеров говорить, используя архаичные формы местоимения «ты». И это было интересно. Однако следовало признать, что, хотя Стивен сказал чистую правду, он отчасти надеялся вызвать в мрачном сектанте какую-то реакцию.
— Нет! — решительно произнес он. — И не будет тревожить до конца выборов.
Но тут в дальнем конце улицы раздался громкий шум: там появилась первая группа избирателей.
Выборы в сельской местности вроде этой тянулись долго. Люди добирались до города издалека, проходили миль сорок, а то и больше, и кабины стояли открытыми пять дней. Частенько сам землевладелец возглавлял своих арендаторов, сидя в карете, а они шли следом на своих двоих. Лендлорд вел их, подобно ведущему свою армию генералу, и ожидал от них такого же послушания, и весьма внимательно присматривал за всеми. В кабине для голосования в здании суда каждый человек должен был публично отдать свой голос так, как велел ему лендлорд… если у него доставало ума.
Но того, что люди увидели теперь, никогда прежде не случалось. Потому что по улице торжественно, с развевающимися флагами, двигалась процессия, возглавляемая не лендлордом, а несколькими священниками. За священниками важно вышагивали дудочники и волынщики. И когда процессия проходила мимо, люди, выстроившиеся вдоль дороги, радостно ее приветствовали.
Стивен повернулся к Маунтуолшу.
— Что, впечатляет? — спросил он, а потом, извинившись, сказал, что должен пойти к О’Коннеллу, но обещал вернуться.
Внутри здания он увидел картину всеобщего радостного волнения. Двоюродный брат О’Коннелла Чарльз стоял у окна в большой комнате наверху, наблюдая за проходившими людьми. Самого О’Коннелла окружали сторонники и помощники.
— Ну вот, идут. Еще пятьдесят. Храбрые парни! — восторженно воскликнул Чарльз.
Но если все вокруг радовались, сам великий человек выглядел на удивление невесело.
— Да, действительно храбрецы, — произнес он. — Вот только не забывай, что каждый из них рискует остаться без земли. — Он повернулся к своему помощнику. — С этого момента, Шиал, твоя главная задача — землевладельцы. Оранжисты верят, что вся католическая Ирландия готова взбунтоваться и только я один в состоянии удержать людей и успокоить волнение. Конечно, они ошибаются, но мы можем извлечь пользу из их страхов. Ты должен убедить лендлордов, что, если они начнут мстить людям и изгонять их с земли, я не смогу отвечать за последствия.
— Я буду говорить им, что каждое выселение противоречит их же собственным интересам.
— Да, и постарайся, чтобы они это поняли.
Чарльз О’Коннелл смотрел на улицу.
— Ох, — сказал он, — а эти люди печальны.
Стивен поспешил подойти к окну. Примерно сорок мужчин медленно шагали по улице. С ними тоже был пожилой священник, но во главе процессии шел маленький темноволосый человек с видом мрачным, но решительным.
— Это агент Каллан, — сказал Чарльз. — Сам лендлорд здесь не живет. А старого священника зовут Кейси. Хороший человек, но я полагаю, что он не способен объединить людей.
— В чем дело? — Дэниел О’Коннелл в одно мгновение пересек комнату. — Откройте большое окно! — приказал он и вышел на балкон.
Люди внизу увидели его. Те, что стояли вдоль улицы, разразились приветственными криками. О’Коннелл поднял руку, и процессия остановилась, а толпа затихла.
— Разве свободные сорокашиллинговые землевладельцы — рабы?
Голос адвоката прокатился по улице как гром. Люди, подняв головы, смотрели на него, а он смотрел на них, и его огромная фигура как будто источала силу и спокойствие.
— Разве они негры, которых можно бить кнутом и продавать на рынке? — Взгляд адвоката остановился на каждом. — Я так не считаю.
Каллан нахмурился. Толпа зашумела. Люди в процессии тоже слегка взбодрились, но видно было, что они боятся. Совершенно очевидно, Каллан им угрожал.
Из толпы послышались голоса:
— Ну же, вперед, ребята! Проголосуйте за старую веру!
Глядя вниз, Стивен особо отметил одного человека. Это был высокий, красивый, голубоглазый мужчина. Он снял шапку в знак уважения к О’Коннеллу, но тискал ее в руках, явно терзаясь какими-то мыслями.
О’Коннелл отступил назад.
— Бедолаги, — заметил он. — Этот мелкий тип явно хорошо поработал, сами видите.
— Угрожал им выселением? — спросил Стивен.
— Нет. Сделал кое-что похуже. Угрожал их женам.
Мужчины тронулись с места, но были остановлены каким-то священником, явно недовольным их поведением и решившим немножко разжечь их.
— О, это отец Мёрфи. Его стоит послушать, — сказал Чарльз О’Коннелл и снова распахнул окно.
Отец Мёрфи был весьма заметной личностью. Высокий, сухопарый, с длинными седыми волосами, спадавшими на плечи, с горящими глазами, он уставился на мужчин, как некий древний пророк, и обратился к ним на ирландском языке.
Уильям Маунтуолш с радостью приехал в Эннис, но не предполагал, что проведет здесь все пять дней выборов. Однако теперь он мог любому сказать, что видел, как вершилась история.
Его забавлял молодой Стивен Смит. Конечно, этот мальчишка был жестким и циничным, смотрел на жизнь как на некую игру. Но Уильям по опыту знал, что двадцатилетние часто бывают либо чересчур идеалистичными, либо слишком уж циничными, однако время все меняет. Что же касается нового знакомого, квакера Тайди, то он нравился графу.
Пару месяцев назад граф приглашал в Маунт-Уолш одного евангелиста. Последователя Уэсли. Евангелисты неожиданно весьма распространились в Ирландии, хотя и не так быстро, как в Англии. Слава Богу! Без сомнения, намерения у них были наилучшие: очистить мир от скверны. Но граф в его возрасте не был уверен в том, что ему хочется, чтобы мир стал настолько чистым. К тому же евангелисты говорили о подчинении ирландского папизма Христовой вере. И это неприятно поразило Уильяма. Тем же самым занимались люди и во времена Кромвеля.
Но Тайди оказался совсем другим. Квакеры уже становились довольно активной общиной в Дублине и Корке, вот граф и подумал: пора узнать их получше. Он вынужден был признать, что они приводят его в недоумение. Вместо церковной службы квакеры сидели в почтительном молчании в своих молитвенных домах и говорили только тогда, когда их посещал Святой Дух. Странно это выглядело. Как-то раз граф заговорил о квакерах с католическим епископом, и тот высказался вполне определенно:
— Я ни на секунду не усомнюсь, что намерения у них наилучшие. Просто я не могу понять, где находится их Бог.
Однако несколько дней, проведенных с Тайди, произвели на графа неизгладимое впечатление. Этот квакер не порицал другие Церкви и заверил Уильяма, что квакеры никогда не пытались никого отвратить от прежней веры. Он никого не пытался очистить от греха, никого не проклинал. Он просто старался обращаться с соседями по-доброму, а его собственная доброта и искренность были абсолютно очевидны. Его повседневным кредо были, похоже, дела, а не слова.
— Вы мне напоминаете добрых самаритян, — чистосердечно признался ему Уильям.
Происходящее в Эннисе явно потрясло Тайди, и граф не мог винить его за это. На самом деле он и сам был поражен тем, что успел увидеть. Граф повернулся к квакеру:
— Не нравится мне то, что я вижу, Сэмюэль Тайди. А тебе?
— Это не то, во что верят квакеры.
Уильям кивнул и поджал губы. Проблема в том, подумал он, что он все это уже видел. Он видел, как Французская революция превратилась в террор и диктатуру. И знал, как быстро побитая собака может превратиться в тирана. Он поддерживал дело освобождения католиков с самой юности. И если мирная армия О’Коннелла выглядела весьма воинственно, это было понятно. Но священники, маршировавшие перед своей паствой под звуки дудок и с развевающимися флагами, придавали этому действу некую веру в свое превосходство. И это тревожило графа.
Может быть, потому, что он уже достиг средних лет. Но чем старше становился Уильям, тем больше уважал компромисс. С его точки зрения, местные священники зашли дальше, чем следовало. Да, конечно, реформы были необходимы, но нужды в том, чтобы создавать такое дурное впечатление, не было. Ведь теперь отношения между британским правительством и Ватиканом стали вполне дружескими. В течение тех лет, когда Наполеон властвовал над Европой и угрожал католическим монархам, Рим лишь радовался тому, что Англия противостоит тирану, словно бастион. А чуть более десяти лет назад, после окончательного поражения Наполеона, когда на великом Венском конгрессе были определены новые границы государств Европы, именно Британия настояла на том, чтобы богатое итальянское папское государство возвратили папе, и тот с тех пор был благодарен Британии.
Конечно, О’Коннелл и приходские священники имели, например, причины жаловаться на поборы, но взрыв ярости по адресу премьер-министра, наложившего запрет на епископов, был излишним. Уильям, занимая высокое положение, знал, что втайне британское правительство и Ватикан договаривались о назначении высших чинов Церкви ко всеобщему удовлетворению.
— Я полностью на стороне О’Коннелла в том, что касается равноправия католиков. А поскольку я никогда не выступал за Соединенное Королевство, то и против его отмены возражать не стану, — сказал он Тайди. — Но все меняется, время идет, и следует искать практичные подходы. А вот такая воинственность опасна.
Около трех месяцев в году Уильям обычно проводил в Лондоне. Ему нравилось заседать в британской палате лордов и быть в курсе лондонских событий. И там можно было многого добиться. Даже Граттан так думал, поскольку провел последние пятнадцать лет своей жизни в парламенте. Несмотря на страх перед католицизмом, который, как теперь понимал Уильям, был буквально укоренен в англичанах на генетическом уровне, все равно в британском парламенте было много тех — особенно среди членов либеральной партии вигов, — кто очень даже хотел дать ирландцам то, чего они желают. Этой весной были сняты последние законные ограничения с сектантов. И с католиками неизбежно должно было произойти то же самое. Нужно лишь проявить терпение.
Но то, что видел теперь Уильям, больше походило на войну арендаторов и землевладельцев, католиков и протестантов.
— Я также боюсь, — продолжил Тайди, — что это разбудит худшие страхи пресвитерианцев и оранжистов.
— Ох, как же ты прав! — согласился Уильям.
Еще со времен его детства он видел, как пресвитерианцы постепенно полностью меняли настрой. В те давние дни большинство пресвитерианцев хотели освободиться от Англии и ее Церкви, а потому считались гражданами второго сорта. Но теперь, когда их собственные права были защищены, они стали наиболее активными сторонниками Соединенного Королевства.
— Объединившись с Англией и Шотландией, мы становимся частью протестантского большинства, — рассуждали они. — А без Англии мы станем меньшинством в море ирландских папистов.
Побуждаемые этим страхом, их проповедники начинали рассуждать так же, как во времена Кромвеля. А теперь они узнают о марширующих священниках и арендаторах графства Клэр, и в них могут проснуться самые худшие страхи.
И тут вдруг Уильям ощутил укол ностальгии. Он затосковал о днях своей юности, о старых патриотах и людях тысяча семьсот девяносто восьмого года, таких как Патрик Уолш и благородный юный Эммет. Они все мечтали о свободной Ирландии, где католики и протестанты, пресвитерианцы и деисты могли бы жить рядом, равные перед законом. Возможно, они и были идеалистами, но идеалистами благородными, и Уильям грустил о них.
Но ведь нельзя отрицать, что их идеалы не имели под собой оснований. Если новая республиканская Америка, отделив Церковь от государства, сумела реализовать на практике такой идеал, то почему бы не осуществить его и в старой доброй Европе?
Однако лорд Маунтуолш, глядя на маршировавших по улице Энниса людей — как бы ни были велики их обиды, — думал, что слышит не шаги неудержимого просвещения, а тяжелый, мрачный топот обагренных кровью башмаков фанатиков. Вековая тьма, словно древнее пророчество, снова надвигалась на них.
Мысли Тайди в тот момент текли совсем в другом направлении. Он был рад, что приехал к графу. Никогда прежде Тайди не посещал такие огромные сельские дома. И в особенности ему понравилась библиотека. Ему понравилась даже супруга графа, у которой явно было замечательное сердце, пусть даже эта женщина и показалась Тайди немножко глуповатой. И он был рад, что Маунтуолш взял его с собой посмотреть на выборы в Эннисе. Потому что они оказались весьма поучительными.
Но думал он теперь не столько о выборах, сколько о том, что успел увидеть в графстве Клэр.
Тайди раньше не бывал на западе. Он знал Дублин и Ленстер с их богатыми фермами, знал и шумный порт Корк. Знаком был с Ульстером, с его фермами, льняными и ткацкими мануфактурами. Но сельскую Западную Ирландию он не знал совсем.
Как же такое возможно, спрашивал он себя, что посреди изумительных пейзажей люди пребывают в таком пренебрежении и такой бедности? Как жители Энниса могли допустить возникновение чудовищных трущоб на подъездах к их городу? Неужели им не было стыдно? Как могли землевладельцы — не все же они обитали вдали, — ирландцы той же крови, христиане, позволить, чтобы рядом с ними люди жили в жутких условиях и ничего для них не делали? Как могли сами бедняки так мало думать о своих семьях, что довели их до подобных лишений? Почему здесь нет никакой промышленности, никаких предприятий, где люди могли бы работать? Его практичная квакерская душа протестовала против этой не имеющей границ дикой беспечности.
Наконец вернулся тот неприятный молодой политик. Тайди узнал все, что мог, от Стивена Смита. Глубоко вздохнув, Тайди напомнил себе, что не ему судить других.
Стивену нравилось безумие этих выборов. О’Коннелл отправил его с поручением, но Стивен обещал лорду Маунтуолшу вернуться. У Стивена была всего пара минут, чтобы рассказать нечто забавное с его точки зрения. Он стал свидетелем весьма примечательной сцены, поскольку речь, произнесенная отцом Мёрфи, буквально гипнотизировала своей напряженностью.
— Он говорил только на ирландском, — объяснил Смит. — О’Коннеллу пришлось переводить, ведь мы в основном из Ленстера и недостаточно знаем ирландский. Прежде всего, отец Мёрфи напомнил людям об их долге, и все выглядели при этом серьезно и торжественно, но Мёрфи не был уверен, что достиг нужного результата. Потом он напомнил о тех, кто голосует как должно, и о том, что друзья проклянут их, если они подведут. Судя по выражению лиц, это произвело сильное впечатление. А затем наступил решающий момент. Знают ли они, кричал священник, тыча в толпу длинным костлявым пальцем, что один католик проголосовал за протестанта — и его сразил апоплексический удар, как только он вышел из кабины для голосования? «Божественное возмездие будет стремительным! — восклицал он. — Можете в том не сомневаться! Святые смотрят на вас и все замечают!» Он выглядел устрашающе, я и сам перепугался.
Граф сухо улыбнулся. Стивен хихикнул. Но Тайди не развеселился.
— Вы хотите сказать, что какого-то человека действительно хватил удар, или такого не было? — серьезно спросил он.
— Бог мой, да откуда мне знать? — удивился Стивен. — И какая разница?
— А разве для вас не имеет значения, была высказана чистая правда или же прозвучала ложь? — спросил квакер.
— В вас нет склонности к проказам, — ответил Стивен. — Иначе вы бы поняли.
— Надеюсь, — тихо откликнулся Тайди, — что такой склонности у меня нет.
Немного позже, идя по улице, где находилась редакция местной газеты «Клэр джорнал», Стивен увидел высокого голубоглазого мужчину. Стивен обратил на него внимание во время выступления отца Мёрфи. Все арендаторы проголосовали за О’Коннелла. Стивен проверял. А теперь оставалось ждать, выгонит их с земли Каллан, или его можно будет убедить не делать этого.
Этот крупный мужчина с серьезным видом стоял возле небольшой повозки. Рядом с ним была девочка лет десяти, пожалуй, бледненькая, с грустным личиком. Крупный мужчина обнимал ее за плечи. Видимо, это были отец и дочь. Он утешал ее или она его? Она ведь должна была знать, что он сделал.
Жаль, подумал Стивен, что девочка слишком простовата.
1843 год
Началось это тихо и незаметно, в Америке. Один фермер неподалеку от Нью-Йорка, оглядывая как-то картофельное поле, заметил неладное.
На листьях некоторых картофельных кустов появились пятна. Фермер выждал несколько дней. Пятен на листьях стало больше, а на тех кустах, которые он заметил сначала, листва завяла. И стебли, похоже, также были поражены. В тот вечер фермер обсудил с женой, не следует ли им выкопать эти кусты или даже раньше времени собрать весь урожай.
На следующее утро, выйдя в поле, фермер почуял вонь гниения, поднимавшуюся от земли.
Он сразу принялся за работу. Выкопал все, что выглядело зараженным. Многие картофелины уже сгнили, на других гниение едва началось. Фермер, закончив выкапывать кусты, развел большой костер и сжег все больное. Но почти половина урожая еще оставалась в земле.
Будучи человеком порядочным, фермер объехал всех своих соседей и даже съездил в ближайший город, чтобы предупредить о болезни и узнать, случилось ли такое же где-нибудь еще. И действительно, несколько фермеров сообщили о таком же явлении.
Несколько дней спустя фермер увидел новые пятна на кустах и сказал жене:
— Лучше вообще все выкопать. Спасем, что сможем.
Очень много картофелин были явно поражены какой-то болезнью, и фермер сжег их, как и предыдущие. К счастью, примерно половина оставшегося урожая выглядела нормально, и эту картошку фермер сложил в ямы для хранения.
Но десять дней спустя он стал проверять то, что спас. Достав из ямы картофелину, он разрезал ее ножом. Она была гнилой внутри. Фермер проверил другую. То же самое. Половина того, что он счел здоровым, пропала.
Phytophthora infestans. Грибковое заболевание. Но откуда оно взялось?
Никто этого не знал, но, вероятнее всего, его откуда-то завезли в Соединенные Штаты. Потому что американские фермеры, не желая допустить вырождения картофеля, ввозили новые семена из Перу. А некоторые суда одновременно с семенами доставляли и гуано, помет морских птиц, который использовался как удобрение. И вполне возможно, что грибок перешел с гуано на семенную картошку прямо на судах.
Освоившись в штате Нью-Йорк, грибок начал распространяться с ошеломительной скоростью. Он перебрался в Нью-Джерси и Пенсильванию, к 1845 году добрался до американского Среднего Запада.
Торговля семенным картофелем шла по треугольнику. С Восточного побережья Америки семена морем доставлялись на восток, в Европу. И к тому времени, как фитофтора закрепилась на Среднем Западе, болезнь появилась в Голландии, Бельгии и на южном побережье Англии.
— Вы не читали «Ирландскую дикарку»?[5] — Леди Маунтуолш смотрела на Дадли Дойла с изумлением, так как полагала, что эту книгу должен прочесть каждый.
Генриетту любили все. В этой англичанке, которую Уильям выбрал себе в жены и которой сейчас, как думал Дойл, наверное, около пятидесяти, до сих пор оставалось что-то девчоночье. До сих пор нежный цвет лица, сливки с персиком, и фарфоровые голубые глаза заставляли поворачиваться в ее сторону все головы в гостиных Лондона и Дублина. А теперь эти глаза были обращены на Дадли, который по-хорошему завидовал Маунтуолшу. Они были счастливы и вырастили здоровых детей. Возможно, Генриетте и не хватало ума, но это не умаляло ее достоинств. К тому же она была энтузиасткой всего ирландского.
— И это вы! — воскликнула Генриетта. — С вашей смуглой кельтской красотой!
Дойл улыбнулся. Попробуй не полюбить такую.
— Знаете, Генриетта, на ирландском мое имя означает «темный иностранец». И я вынужден предположить, что мои предки были пиратами-викингами, — объяснил он, — а вовсе не ирландскими героями.
Викинги, которые, конечно же, женились на местных ирландских женщинах, и сами-то вели происхождение от племен, населявших север Франции, и, как гласили легенды, народов Пиренейского полуострова. А с тех древних времен какая еще кровь добавилась к этой смеси? Норманнов, фламандцев, валлийцев, англичан. Это наверняка. Возможно, еще немного испанской. Сильный и отчасти безжалостный ум Дойла наслаждался таким анализом.
— И вообще, трудно понять, что именно означает слово «кельт», — заметил он.
Но Генриетта знала. Оно означало романтическую героиню из прославленного сочинения леди Морган, дикую дочь принца Коннахта, которая завоевала сердце полного предубеждений англичанина и научила его любить прославленные остроумие, храбрость и щедрость жителей Ирландии. Это слово значило чистоту души, рождавшуюся из вечных кельтских источников. Оно означало Гибернию[6] — страну героев и мистиков, магического двойника суровой и прекрасной Шотландии из романов Вальтера Скотта. Это делало Ирландию весьма привлекательной. На самом деле Дойл читал упомянутую книгу, но ему захотелось немножко подразнить Генриетту. Тем более что, на его взгляд, книга была полной ерундой, романтической выдумкой, но она хотя бы отличалась от традиционного взгляда на ирландцев как на грязных убийц и лживых папистов. Такую клевету до сих пор можно было увидеть в карикатурах на страницах журнала «Панч» или в любой английской газете.
Каждый раз, когда Генриетта возвращалась в Лондон вместе с мужем, она рассказывала людям о той Ирландии, которую знала. Правда, хмуро подумал Дойл, Ирландия Генриетты состояла из большого дома на Сент-Стивенс-Грин и огромного поместья в Уэксфорде, с обширными пастбищами и декоративными садами. Это была страна, где навещали таких же соседей, наслаждались приемами с ужином, где вас обихаживали ирландские слуги, где вы играли в карты и ездили в клубы. Но поскольку муж Генриетты был достойным человеком и одним из лучших лендлордов Ирландии, она завела дружбу и с местными ирландцами-арендаторами, и даже с рабочими. И все это было покрыто для нее позолотой волшебной кельтской романтики, окрашивавшей ландшафты, как чарующие лучи заходящего солнца.
Однако если ей удавалось заставить некоторых членов правящего класса Англии немного иначе посмотреть на западный остров, то это уже было замечательно, считал Дадли Дойл.
— Еда у вас просто изумительная! — с улыбкой произнес он.
Гастон, шеф-повар Маунтуолшей, всегда творил чудеса из того, что производилось в имении.
За окном уже сгущались сумерки. Через несколько дней начинался магический сезон Хеллоуина, древнего кельтского праздника Самайн.
Но как ни нравилась Дойлу Генриетта, приехал он не с целью навестить ее. Он посмотрел через стол на Стивена Смита. Они пока не успели толком поговорить, поскольку Смит появился только днем и выглядел очень усталым. Уильям Маунтуолш, приглашая Дойла в гости, сказал:
— Стивен Смит — это тот человек, с которым, мне кажется, вам следует познакомиться поближе. — А Уильям, по мнению Дойла, разбирался в людях. — Хотя, конечно, — добавил граф, — я знаю, как трудно вам угодить.
Хотя предки Дадли Дойла всегда предпочитали оставаться в классе торговцев, сам Дадли выбрал для себя немного другой путь. По тому, как он выглядел, одевался и говорил, его можно было принять за сельского джентльмена. Он состоял в клубе на Килдэр-стрит, членами которого в основном были землевладельцы, имел две фермы в Мите, однако постоянно жил в городе, кроме летних месяцев. Тогда он перебирался на виллу, расположенную на побережье у Сандимаунта, в южной части Дублинского залива. Денег у него хватало. И вся та недвижимость в Дублине, которую собрала старая Барбара Дойл и завещала своему внуку, по-прежнему находилась в его руках. Он также владел половиной доли в процветающей виноторговой фирме и получал доходы от трех больших пабов. Дойл встречался с сельскими сквайрами в клубе, на бегах или бывал в их домах, но частенько предпочитал общество университетских людей. И в Тринити-колледже считался хорошим знатоком классической культуры. Но уже много лет все свое свободное время он тратил на частные исследования в области политической экономии. Овдовев два года назад, он еще больше погрузился в свои занятия. И время от времени, если его вежливо просили, он даже читал лекции по этому предмету.
И вот теперь, остановив взгляд на Стивене Смите, Дадли Дойл увидел много такого, что никак не могло ему понравиться. Некоторая небрежность в одежде. Сам Дойл всегда был весьма требователен к внешности. Лицо интеллигентное, безусловно, но это не лицо образованного человека. Жаль. Граф говорил, что этот молодой человек беден, а бедность, полагал Дадли Дойл, — это всегда ошибка. Но что он имеет в качестве словесного оружия? Шла ли речь о простом даре слова, большом чувстве юмора, об умении пользоваться грубоватыми иносказаниями и эвфемизмами, которые бросают на общество, как сеть гладиатора? Или речь шла о чем-то более утонченном, о рапире остроумия, стремительной и смертельной, в чем сам Дойл был большим мастером? Оставалось только ждать.
— Вы, как я понимаю, компаньон мистера О’Коннелла? — спросил он Смита. — Должен ли я предположить в таком случае, что вы также и в партии вигов?
После тех ошеломительных выборов в Клэре пятнадцать лет назад Дэниел О’Коннелл так разыграл свою карту, что лучше и вообразить было невозможно. Английское правительство настолько потрясли результаты, что оно незамедлительно лишило права голоса всех свободных землевладельцев, способных заплатить сорок шиллингов, — и католиков, и протестантов, без разбора, — и так повысило избирательный ценз, что теперь лишь самые состоятельные фермеры, то есть наиболее надежный элемент, могли в будущем голосовать. Но все равно им пришлось уступить и позволить католику заседать в парламенте. О’Коннелл прославился как Освободитель, он достиг своей главной цели. А когда к власти пришла либеральная партия вигов, О’Коннелл увидел в этом шанс для себя. Создав группу из шестидесяти ирландских членов парламента, он вступил в союз с вигами, и это принесло плоды. О’Коннелл лично очаровывал вельмож из партии вигов. Возглавляя шестьдесят своих сторонников, которые голосовали в пользу вигов, он вызвал в них немалую благодарность. Выигрывали же от этого ирландские католики. «Мы сделаем для вас все, что сможем», — обещало правительство. Через год после того, как на трон взошла юная королева Виктория, даже досадный вопрос десятины был наконец разрешен. Более того, за то долгое десятилетие, что виги стояли у власти, правительство посылало управлять Ирландией просвещенных людей, хороших людей, вроде заместителя министра Томаса Драммонда, который искренне полюбил эту страну и не уставал напоминать господствующим протестантам-землевладельцам: «Собственность дает права, джентльмены, но она же и налагает ответственность». Через десяток лет после своего избрания О’Коннелл мог сказать, что его компромисс с вигами принес реальные выгоды.
Мог ли он добиться большего? Правда, вопрос аннуляции — разрыва союза с Англией — отложили на неопределенное время. Это отрицать было невозможно. И некоторые его молодые последователи ощущали, что великий Освободитель переродился в политического дельца. «Поскольку правительство в любом случае не допустит разрыва союза, — заметил он в разговоре со Стивеном, — думаю, я поступил правильно».
— Я принадлежу к благородным тварям, сэр, — с кривоватой улыбкой ответил Стивен на вопрос Дойла. — Я виг-католик.
— Вы за реформы, но через парламент? Вы готовы проявлять терпение?
— Я зверь политический. Ненавижу насилие точно так же, как О’Коннелл. И поэтому, — добавил он со вздохом, — я служу ему уже двадцать лет.
— Тогда что, позвольте спросить, вы собираетесь делать теперь? После Клонтарфа?
Стивен покачал головой.
— Моя жизнь, — печально заявил он, — подходит к критической точке.
Это началось три года назад: стратегия стала рушиться. Сначала умер Драммонд, и ирландцы с грустью его похоронили. Потом пало правительство вигов, их место заняли тори. И что следовало теперь делать О’Коннеллу? Часть его молодых сторонников создала организацию «Молодая Ирландия» и даже выпускала собственный журнал «Нейшен». Они были уверены, что пора начинать сражение за разрыв союза, и заявляли: «Любыми средствами, если понадобится!»
Великий Освободитель не был готов потерять движение, которое сам создал. Он встал во главе молодых и как раз в этом году начал большую кампанию по всей Ирландии. Гигантские собрания, организованные О’Коннеллом, превосходили все виденное прежде. Десятки тысяч могли прийти, чтобы услышать Освободителя. Он побывал везде: в Ленстере, Манстере и Коннахте, в Дублине и Уиклоу, в Уотерфорде и Уэксфорде, в Корке, Слайго и Майо; он заезжал в Эннис, где одержал победу; он посетил даже древнюю королевскую Тару. «Мы вынудим британское правительство дать нам справедливость или свободу!» — восклицал он. Но на правительство тори это не произвело впечатления. Кульминацией этих собраний должен был стать гигантский митинг, который хотели провести недалеко от Дублина, на северном берегу устья Лиффи, в Клонтарфе. Именно здесь восемь веков назад героический ирландский король Бриан Бору начал свою последнюю битву. Огромное количество священников, сторонники отмены союза со своими знаменами — все были готовы, и, скорее всего, туда явилось бы почти все население Дублина. Но правительство тори уже было сыто по горло.
«Отменяйте ваш митинг — или окажетесь в тюрьме», — сказали О’Коннеллу.
Ему предстояло принять страшное решение. Стивен присутствовал на том собрании, где О’Коннелл и другие руководители обсуждали этот вопрос. «Мы должны действовать в рамках закона, — заявил Освободитель, — или сами предадим все то, за что боремся». Стивен с ним согласился. «Это политика, — напомнил он всем. — А драку лучше отложить на другой день». Но далеко не все последователи великого человека готовы были принять подобное решение, в особенности «Молодая Ирландия».
Две недели назад О’Коннелл все же отменил митинг. Никто не знал, что теперь делать. Некоторые молодые активисты заговорили о революции, но Стивен прекрасно понимал, что это дело бесполезное и ошибочное. Все были потрясены. Самого Стивена охватило огромное разочарование. И он искренне обрадовался, получив приглашение от графа Маунтуолша провести несколько дней в Уэксфорде.
— Возможно, — любезно предположил его светлость, — это вас немного взбодрит.
— Это скорее перекресток, чем кризис, — вполне добродушно произнес Дадли Дойл.
— Да, перекресток, конечно, — ответил Стивен, — но для Ирландии, а не для меня. Ведь то хорошее, что мы сумели сделать за последний десяток лет, все же слишком мало в сравнении с проблемами, терзающими нашу страну. Нищета вокруг ужасная.
— Ну успокойтесь, Стивен, — сказал Уильям Маунтуолш. — Здесь, в Ленстере, дела обстоят не так плохо. И помните, — добавил он, — война с Наполеоном была очень полезна для Ирландии, поскольку мы продали Англии массу продовольствия. Когда она закончилась, мы заволновались. Производство говядины получило сильный удар. Но посмотрите, что произошло потом, — бодро продолжил он. — Благодаря новым железным дорогам мы теперь можем отправлять живой скот на все рынки Англии. Цена на зерно стабильная. Наши фермеры отлично работают. Что до меня самого, так дела никогда не шли лучше.
— Согласен с тем, что вы говорите об Уэксфорде, — кивнул Смит. — Но должен сказать, что в Уиклоу, в горах, мои родные и их соседи выживают с трудом. В последнее мое посещение Ратконана я увидел там жителей вдвое больше, чем их было во времена моего детства. Они сажают картошку на крошечных участках на голых горных склонах, где раньше пасли овец. И некоторые люди просто чудовищно бедны.
— Да, такое может быть, но посмотрите на Ульстер, — возразил Дадли Дойл. — Там у людей маленькие фермы, однако они процветают. У них есть льняное производство и многое другое.
— Ульстер я почти не знаю, — признал Стивен. — О’Коннелл никогда туда не ездил. Пресвитерианцы в последнее время так громко возмущаются, что вряд ли его приняли бы хорошо. — Смит немного помолчал. — Но больше всего я думаю о западных графствах. О Клэре, Голуэе, Майо. Там ситуация ужасная и продолжает ухудшаться.
— Ох, запад… Да, это другое дело, — согласился Маунтуолш.
— Но разве дело не в дурных лендлордах? — спросила Генриетта. — Я хочу сказать, если бы все землевладельцы были такими, как Уильям.
— Да, тогда могло бы быть лучше, — вежливо ответил Стивен. — Но проблема слишком велика, даже лучшие лендлорды ее не решат. Я вообще не представляю, что тут можно сделать.
Уильям оглядел стол. Пятая из присутствующих пока не произнесла ни слова. И Уильям повернулся к ней:
— А что думает мисс Дойл?
Старшая дочь Дадли Дойла, двадцати пяти лет, была хороша собой: карие глаза, яркие и умные, нежная кожа, спокойные, приятные манеры. Как ни странно, она до сих пор не была замужем, хотя отец давал за ней три тысячи фунтов приданого, а вот обе ее младшие сестры уже обзавелись семьями. Сейчас девушка улыбнулась:
— Я оставляю такие вещи мужчинам.
— И я тоже, — кивнула Генриетта.
Дойл недоуменно посмотрел на дочь: с чего вдруг она заявила такое? Стивен тоже посмотрел на нее — вежливо, но с некоторой скукой.
— Боюсь разочаровать вас, мистер Смит, — сказала девушка.
— Да ничего подобного! — воскликнул Смит, хотя, конечно, это не было правдой.
— Настоящая проблема в том, — начал Уильям Маунтуолш, — что на острове слишком много людей, которых нужно прокормить. Правительство подсчитало, что нас уже больше восьми миллионов. А методы земледелия, в особенности на западе, нуждаются в переменах, в улучшении. Но похоже, Ирландия — живое доказательство теории Мальтуса: человечество всегда будет размножаться быстрее, чем растут пищевые ресурсы. Поэтому мы и воюем из века в век. — Снова оживив разговор, как и полагается хорошему хозяину, лорд повернулся к Дойлу. — Вы изучали такие вещи, Дадли. Расскажите, в чем ответ?
Дойл обвел взглядом сидевших за столом, явно радуясь, что у него есть слушатели. Мгновение-другое он молчал, сосредоточиваясь.
— Ответ… — По его губам скользнула довольная улыбка. — Ответ в том, что ничего плохого с Ирландией не происходит.
— Ничего плохого? — Стивен недоверчиво посмотрел на Дойла.
— Ничего, — кивнул экономист. — И я удивлен тем, мистер Смит, что вы, будучи членом партии вигов — вы ведь говорили, что состоите? — продолжаете думать иначе.
— Объясните, Дадли! — с широкой улыбкой воскликнул Уильям, откидываясь на спинку стула.
— Будучи вигом, — Дадли Дойл обращался к Стивену, как в суде адвокат обращается к какому-нибудь свидетелю перед жюри присяжных, — вы ведь верите в свободную торговлю, так?
— Да.
— Вы ведь не думаете, что правительство должно вмешиваться, как очень любило делать правительство Британии, чтобы защитить неумелых фермеров и мануфактурщиков с помощью налогов или ограничения торговли? Вы верите в свободный рынок, потому что с течением времени он всегда доказывает свою состоятельность?
— Определенно.
— Вот мы и подошли к главному. Сейчас в Ирландии слишком много жителей. Отлично! В результате труд дешевеет. Это стимул к тому, чтобы предприимчивые фабриканты нанимали людей.
— Это может быть в Ульстере, но не в Клэре. Там люди голодают.
— Я верю, что со временем и там возникнут мануфактуры, но это не имеет значения. Голод не такая уж плохая вещь. Он гонит людей на поиски работы вдали от дома. И разве мы не видим, что происходит в результате?
— Рабочие из Клэра берут свои лопаты и отправляются на сезонные работы в Ленстер, а то и в Англию, — согласился Стивен.
— Блестяще! В результате выигрывает Британия, так как цена на труд падает, а ирландцы сыты.
— Но многим приходится уезжать насовсем, — невесело возразил Стивен. — Они вынуждены эмигрировать в Англию или Америку.
— А вам известно, — вмешался лорд Маунтуолш, — что только за время моей жизни этот остров покинуло около миллиона человек? И около четырехсот тысяч — за последнее десятилетие?
— Великолепно! — Дойл одарил улыбкой их обоих. — Значит, выигрывает весь мир. В Ирландии слишком большое население? Очень и очень хорошо. Америка нуждается в этих людях. Огромному богатому континенту нужны трудолюбивые руки. Там они могут отлично устроиться. И в самом деле, что бы делала Америка без Ирландии? Мы должны смотреть шире, джентльмены. Временные беды ирландских крестьян в перспективе — настоящее благословение. А значит, не надо вмешиваться в рынок. Благодаря рынку весь мир меняется.
— Но это такой тяжелый, жестокий процесс, — заметил Стивен.
— Такова жизнь. Такова природа.
Последовала задумчивая пауза.
— Разве это не чудесно — слушать такие разговоры? — обратилась Генриетта к Каролине Дойл. — Думаю, пора переходить к десерту.
Уильяму было приятно, когда Каролина Дойл попросила его после ужина показать ей библиотеку. В конце концов, он сам предложил Дойлу привезти с собой девушку. Она восхищалась собранием и нашла в нем несколько своих любимых книг. Потом она повернулась к Уильяму и улыбнулась:
— Что ж, лорд Маунтуолш, я знаю, вы меня пригласили, чтобы познакомить с ним. Так что же это за человек — Стивен Смит?
— Полагаю, — честно ответил граф, — такой вопрос, если это удобно, стоило бы задать мне.
Отец Каролины согласился привезти ее лишь потому, что, как он откровенно признался графу, он просто не знал, как быть с ней. Да, он и сам обладал острым умом, но хотя и восхищался умом дочери, просто не видел пользы в нем для женщины. И уж точно ум не помог бы ей выйти замуж.
— Должен тебя предостеречь, — говорил он дочери, — мужчины не любят слишком умных женщин. Мужчине нравится женщина, у которой ума ровно столько, чтобы одобрять его самого. И для тебя самым мудрым было бы скрывать свой ум.
Каролина, как правило, соглашалась с отцом, однако предъявляла и свои требования, столь же смущающие.
— Ей хочется найти мужчину, — говорил Дойл Уильяму, — которого она сочла бы интересным. Я ей говорил: «Интересные мужчины обычно доставляют женам массу хлопот». Но не думаю, что она мне верит.
— Стивен Смит определенно интересный человек, — сказал граф Каролине.
К тому же Смиту пора было жениться. Ему уже исполнилось тридцать пять. Еще несколько лет, рассуждал Уильям, и этот парень превратится в закоренелого холостяка. Пора было Стивену обзаводиться собственным домом. Он ведь уже много лет снимал жилье.
Уильям Маунтуолш знал людей, подобных Стивену Смиту. Мужчин, которые слишком погружались в повседневные политические дела, с их возбуждением, неопределенностью и ночными разговорами, не говоря уже о волнении, которое они испытывали, приближаясь к власти. Они могли провести десятилетия в кулуарах коридоров власти и так и не понять, что жизнь прошла мимо них. Уильям знал: политика — это настоящий наркотик, и Стивен уже подсел на него. Его нужно было спасать.
Замечал граф и то, что этот циничный политический деятель в душе был идеалистом. Стивен Смит вовсе не боготворил О’Коннелла, так как был для этого слишком умен, но искренне верил, что О’Коннелл вел Ирландию к лучшему будущему. Освободитель, наверное, не выводил людей из пустыни, как какой-нибудь древний пророк, но он показывал им правильную дорогу. Иногда люди вроде Стивена мечтали и о том, чтобы самим стать вождями. Для бедняка это было трудно, но не невозможно. Мечтал ли о подобном Стивен? Возможно. Несколько раз Уильям слышал, как Стивен произносил речи, и молодой человек явно был талантлив. Он обладал харизмой. Но если он мечтал попасть в парламент, то это, скорее всего, были пустые мечты. Ему бы стремиться стать крупной фигурой в важном деле, трезво рассуждал граф, а не гоняться за победой просто ради победы, как это делают истинные политики.
И еще у этого молодого человека имелась одна слабость, обычная для бедных людей: он был гордым.
— Стивен Смит скорее погибнет, чем продастся, — заметил Уильям, не зная, поймет ли его девушка.
— А женщин он любит?
— Да. Когда у него есть время. — Уильям помолчал. — Женщинам он нравится.
— Да, не сомневаюсь. У него прекрасные зеленые глаза.
— Вот как? А-а, ну да, наверное.
Стивеном действительно увлекались многие женщины. Насколько знал Уильям, Смит имел интрижки по крайней мере с двумя замужними светскими дамами, и один такой роман тянулся несколько лет. Но было ли действительно занято сердце Стивена, Уильям сомневался. Пожалуй, Стивен немного эгоистичен. Но если мужчине без денег нравится вращаться в таких кругах, что еще ему остается, если не использовать чужих жен?
Может, их притягивали его глаза? Отчасти да, без сомнения. Но в нем вообще было нечто магически притягательное — в смуглой коже, в энергии, исходившей от него, в его красноречии. Все это, да еще временами нападавшая на него подавленность и то, что женщины чувствовали его ранимость, заставляло аристократок желать завладеть этим мужчиной и принадлежать ему.
— Что-то подсказывает мне, что вы уже сделали собственные выводы, — сказал он. — Вам бы нужно с ним поговорить.
— Не бойтесь, — улыбнулась Каролина. — Поговорю.
Морин была в самом солнечном настроении, когда зашел мистер Каллан. Морин не была уверена, но ей казалось, что она ему, пожалуй, нравится. Ведь в последние два года он всегда был любезен с ней и расспрашивал о младших детях. Как-то раз он просто ехал мимо и заметил, как двое маленьких во все глаза уставились на большое блестящее яблоко, которое он собирался съесть, и мистер Каллан с полуулыбкой отдал это яблоко ей для них.
В этот раз он лишь спросил, дома ли отец, а когда Морин ответила, что его нет, Каллан просто сказал:
— Ну, не важно. — И добавил, что заедет позже.
Небо в тот день было ясным, осеннее солнце светило ярко. После излишка дождей в течение всего лета такой день наполнял Морин весельем.
Размышляя о своей жизни, Морин ощущала довольство собой. Она знала, как сильно нуждаются в ней родные. Прошло уже два года с тех пор, как ее мать умерла, дав жизнь маленькому Дэниелу.
— Позаботься о нем, когда меня не станет, — сказала девушке мать.
Конечно, будучи старшей дочерью, Морин все равно должна была помогать матери; и слава Богу, она еще не была замужем.
С тех пор она взяла на себя роль матери. Заботиться нужно было о четверых. Правда, двое старших уехали вскоре после смерти матери. Нора вышла замуж и перебралась к мужу в Англию. Потом Уильяму подвернулась возможность уехать с дядей, когда брат Имонна отправился в Америку. Но оставались еще младшие: Нуала пятнадцати лет, Мэри и Кейтлин восьми и десяти лет, а еще маленький Дэниел, которого, из-за обстоятельств его рождения, Морин считала собственным ребенком. И она полагала, что, если ее отец не женится снова, ей придется присматривать за ним еще лет десять или больше, пока мальчик не станет достаточно взрослым, чтобы позаботиться о себе. Если, конечно, она сама не выйдет замуж, но это вряд ли. Ей уже двадцать четыре. А мать много лет назад предупреждала ее:
— Боюсь, Морин, ты уж очень неприметная. Хотя, возможно, — добавляла она, — кто-нибудь на тебе женится ради твоей доброты.
Морин не считала себя очень добродетельной, но старалась держаться бодро. И что бы она ни чувствовала, старалась всегда оставаться спокойной и улыбаться малышам. Наверное, это было правильно.
И слава Богу, ее отец всегда был таким сильным. Морин знала, что без жены ему приходится нелегко. Но он любил детей, был терпелив, и даже самые маленькие знали, что его жизнь подчинена крепкой вере и строгим принципам. Он водил семью на мессу. Выпивал немного эля, но редко что-то покрепче, и никогда не пил самогон. И отец Кейси, и его преемник говорили девушке:
— Твой отец — именно таков, каким должен быть хороший католик.
После того как уехали его брат и Уильям, только один из всех Мэдденов остался на отцовской земле. Каллан не стал никак притеснять арендаторов, голосовавших за О’Коннелла в двадцать восьмом году, но с Имонном он с тех пор держался с осторожной вежливостью. Может, Каллан немного побаивался тех, кто решился голосовать по-своему?
Год назад в Эннисе имели место небольшие беспорядки и нападения на местные продуктовые склады, но все осталось в пределах города. Однако сквайры-протестанты и их представители все же немного нервничали, пока продолжалась кампания О’Коннелла с ее многочисленными собраниями. Однако, по мнению Морин, Каллан должен знать: что бы отец ни вытворял в юности, теперь он самый мирный человек во всей округе. Впрочем, Каллан не пустил все на самотек. Когда подворачивалась возможность, он потихоньку изменял положение дел. Несколько лет назад остатки прежних земель Мэдденов были снова объединены, засеяны зерновыми и сданы в аренду фермеру из соседнего прихода.
Но Имонн Мэдден всегда помнил, кто он таков. Он сумел найти денег для Норы, когда та выходила замуж, так что ее мужу следовало быть довольным. Отцу пришлось взять в долг у одного торговца в Эннисе, чтобы заплатить за переезд Уильяма в Америку, но он уже выплатил больше половины. И собирался, рассчитавшись с долгом, начать копить деньги на свадьбу Нуалы, и накопил бы, без сомнения. Он ни за что не позволил бы позорить свою семью.
Имонн продолжал почитать Дэниела О’Коннелла. Маленького Дэниела и назвали-то в честь великого человека. И еще продолжал восхищаться заместителем министра Драммондом.
— Он хороший человек! — заявлял Имонн. И часто цитировал изречение этого государственного деятеля: — «Собственность дает права, но она же и налагает ответственность».
И если Имонн слышал о каком-то дурном поступке какого-нибудь лендлорда, то лишь вздыхал и повторял эти слова.
В тот день отец Морин вернулся рано. Каллан приехал примерно через час после него.
Он привез очень простую новость:
— У меня есть предложение насчет этой земли. С более высокой платой. Вот я и зашел узнать, как ты на это посмотришь.
— Выше плата? Насколько выше?
— Да почти в два раза больше того, что ты платишь сейчас. Имей в виду, я должен был бы еще раньше поднять твою аренду, но…
— Вдвойне? — Имонн был ошеломлен. — Невозможно! Да кто может себе такое позволить?
— Это тот фермер, который уже взял земли по соседству. Он, видишь ли, не собирается здесь жить. Он хочет снести дом и все засеять зерном. Явно желает получать доход, иначе не стал бы предлагать такое.
— Но это наша земля. Мэддены всегда здесь жили!
— Так предложи мне что-нибудь. — Каллан выглядел очень спокойным. — Но тебе стоит поспешить.
Неужели это запоздалая месть за те выборы? Возможно. Но скорее всего, это всего лишь бизнес.
— Собственность дает права, мистер Каллан, — сказал Имонн и показал на своих детей. — Но она же налагает и ответственность.
— Драммонд давно умер.
— Мне нужно немного времени, чтобы подумать.
— У тебя есть неделя, — равнодушно произнес Каллан и ускакал.
Три дня Морин с отцом обдумывали все так и этак. Смогут ли они найти другую землю, чтобы взять в аренду? Нет, поскольку очень быстро узнали: ту плату, которую предложили Каллану, теперь требовали все землевладельцы. Если Морин решит работать, найдет ли она работу? А если она останется вести хозяйство, а Имонн уедет в Англию, чтобы посылать деньги домой? Морин была против этого.
— Дети нуждаются в отце, — заявила она.
В общем, ничто не выглядело возможным. Но Имонн не готов был смириться. Он просто не мог вынести мысль о потере земли. На четвертый день Морин взяла дело в свои руки и, сев в повозку, отправилась в Эннис.
Они все будут там очень счастливы. Так она сказала детям. И действительно, устроила она все хорошо.
Длинный домик с тремя комнатами был одним из лучших из примерно шестисот подобных домов в Эннисе и вокруг него. Глинобитные стены толстые и сухие, соломенная крыша надежная. К тому времени, когда туда приехали дети, Морин навела там идеальный порядок. И она убедила лендлорда довольствоваться платой в сорок шиллингов в год. Они продали свой скот за хорошую цену, Имонн рассчитался с долгом, и у него даже остались кое-какие деньги, которые оказались весьма кстати. Они решили взять в аренду маленький участок земли на сезон — «смешная земля», называли ее здесь, — чтобы выращивать немного картофеля для себя, и тут выяснилось, что платить нужно вперед.
— Никогда не слышал, чтобы платили заранее, — ворчал Имонн.
Но в том году плату стали брать именно так.
И теперь Имонну оставалось только найти работу.
За последующие месяцы они все прекрасно изучили Эннис. Детям очень нравилось жить там. Город, возможно, был грязным и неухоженным, зато в нем всегда было шумно. На маленькой площади рядом со зданием суда размещались палатки и прилавки, где продавалось все на свете. И хотя никому, похоже, не хотелось наводить порядок, все же кое-какие улучшения происходили. За последнее десятилетия в городе появилось несколько публичных зданий. Некоторые из них были довольно безрадостными, вроде новой инфекционной больницы. Еще более неприветливым выглядело суровое строение работного дома для бедняков, к северу от города, похожее на военные казармы или тюрьму. А вот чудесный каменный мост, построенный в честь восшествия на престол королевы Виктории, украсил город. В тот год, когда Мэддены перебрались в Эннис, все его жители, и католики, и протестанты, явились посмотреть на освящение того места, где однажды должен был появиться красивый католический кафедральный собор, — это была широкая площадка рядом с редакциями газет.
В другие части города лучше было не забредать. Прямо за их улицей начинался район, пользовавшийся дурной славой. Путаные улочки и переулки вели к реке Фергус. Морин пришлось очень твердо заявить Мэри и Кейтлин, что они ни в коем случае не должны туда ходить, потому что, хотя она и не слышала о том, чтобы детям там причиняли какой-то вред, все же у дверей тамошних домой торчали проститутки, и там было множество попрошаек, которые, напившись или рассердившись, могли угрожать людям дубинками. И конечно, были еще и невзрачные лачуги вдоль той улицы, на которой теперь жили они сами и где дети ходили в лохмотьях.
— Вы должны оставить их в покое, — твердила она.
А что еще она могла сказать? Вокруг хватало улиц, грязноватых, но вполне респектабельных, где дети могли бродить. А на лугах за городом можно играть.
Их семье было очень важно считаться людьми респектабельными. Вокруг Энниса располагались дома примерно сорока семей, которых можно было считать местными сквайрами. Большинство из них, конечно, были протестантами, но было и несколько католиков. Близко к ним по положению в обществе стояли торговцы с солидными домами в городе, и некоторые из специалистов и прочих, вроде мистера Нокса, владельца газеты «Клэр джорнал».
Когда Морин с отцом провожали Нуалу в один из таких домов, где она искала работу служанки, Морин с радостью услышала, как джентльмен сказал жене:
— Мэддены? Уважаемая фермерская семья. Обязательно бери ее.
В общем, Нуала стала работать в очень хорошем доме торговца, рядом с редакцией «Клэр джорнал», так что жила она теперь меньше чем в миле от родных.
Та же репутация помогала и ее отцу. Иногда он работал на одной из ферм местных сквайров или в маленьком речном порту в нескольких милях к югу от города, где грузили зерно, чтобы отправить его в устье реки Шаннон. У них еще оставались кое-какие деньги, которые Морин тщательно хранила. Но если Имонн не находил работу неделю-другую, им приходилось запускать руку в их скромное сокровище. А в другие дни они его пополняли.
Вот так и установился новый порядок их жизни. Морин смотрела за домом, водила маленького Дэниела гулять, играла с ним. Она заставляла Мэри и Кэйтлин учиться, чтобы они могли хотя бы читать и писать. Раз в неделю домой приходила Нуала и делилась с ними своим заработком. Она уже превращалась в хорошенькую молодую женщину, со стройной фигурой и чудесными голубыми глазами. Отец явно гордился дочерью. Она обладала живым чувством юмора и смешила всех, рассказывая разные истории, услышанные в городе. Как-то раз она, за несколько недель тайно накопив денег, повела всю семью на выступление фокусника в здании суда, служившее также и городским театром, и концертным залом. Мэри и Кейтлин были в восторге.
Морин очень хотелось узнать что-то о жизни Норы в Англии и об Уильяме в Америке. Она написала Норе по тому единственному адресу, который знала, но ответа не получила. Не было писем и от Уильяма.
— Он напишет, когда у него будут хорошие новости, — заверял ее отец.
А если с вопросами к Морин приставали младшие дети, она им говорила:
— У них обоих все отлично!
Следующие весна и лето принесли еще больше влаги. Люди, которые недостаточно хорошо хранили картофель, обнаружили, что часть урожая испортилась от сырости. В этой местности началось активное выселение фермеров, поскольку агенты вроде Каллана искали более выгодных арендаторов. Многие жаловались, что не могут найти даже клочка земли, чтобы вырастить картофель. Один из землевладельцев, некто по фамилии Уиндхэм, пожертвовал крестьянам сто пятьдесят акров для бесплатного пользования.
— Смотри-ка, — сказал Имонн, — у него тридцать семь тысяч акров в Клэре, а сам он преспокойно живет в Англии, так почему бы ему не позволить себе такое? С другой стороны, — добавил он, — честно говоря, он, конечно, помог людям. Никто из наших местных сквайров ничего подобного не сделал.
Той осенью произошел один неприятный инцидент. Приехал мистер Каллан. Он даже не стал спешиваться, а поговорил с Имонном перед домом. Морин стояла рядом.
— Ты когда-нибудь бывал на своей прежней ферме? — спросил агент. А когда Имонн ответил, что не бывал, поинтересовался: — А доказать это можешь?
Фермер, который теперь жил в их старом доме и взял в аренду все земли Мэдденов, подвергся нескольким нападениям. Неизвестные подожгли кучу торфа и выкопали могилу прямо посреди его земли, как предупреждение. Такие гости не были редкостью после выселений, хотя редко приносили серьезный вред.
— Я подумал именно о тебе, — сказал Каллан.
— Ну так подумай еще раз, — спокойно ответил Имонн. — Но скажи мне вот что: а есть там другие люди, которые тоже лишились земли?
— Да. Несколько. Но он хороший фермер, — безжалостно добавил Каллан.
— Вот ты подумай и о них тоже. А я даже близко к тем местам не подходил.
Имонн не стал объяснять, что предпочитает вообще не ходить и не ездить в ту сторону, так как воспоминания о прежней жизни были слишком болезненными для него.
— Так и сделаю. Но ты тоже в моем списке, — заявил Каллан.
— На самом деле меня тревожит, что он пачкает мою репутацию, — признался Имонн дочери, после того как агент уехал.
Но хотя Каллан, похоже, ничего предпринимать не стал, все равно в следующие месяцы в Эннис приезжало все больше порядочных, трудолюбивых фермеров, которые не могли платить постоянно повышавшуюся арендную плату, и в результате стало труднее находить работу. По большей части Имонн все же как-то справлялся, но в течение следующей весны и в начале лета 1845 года Морин с некоторой тревогой заметила, что их небольшой денежный запас постепенно уменьшается, а пополнить его удается редко или не удается вообще.
Но она продолжала держаться бодро. Мэри и Кейтлин превратились в неразлучных подруг. Они постоянно устраивали разные проказы. Морин делала вид, что сердится, но втайне радовалась их веселью.
— Вы просто как два тощих мальчишки, мне за вас стыдно! — могла она им сказать, когда они удирали ловить рыбу в реке или подшучивали над соседями.
А вот маленький Дэниел рос милым малышом; у него были отцовские голубые глаза и густые светло-каштановые волосы. Морин нашла ему трех-четырех товарищей по играм среди соседей и с удовольствием брала его с собой, когда ходила куда-нибудь. Очень многие думали, что это ее сын.
Лето подходило к концу. В августе они аккуратно окопали картофель на своем участке, готовя его к уборке. Похоже, его должно хватить до декабря. Главную часть предстояло собирать в октябре, но уже к началу сентября люди заговорили о небывалом урожае. В середине месяца «Клэр джорнал» сообщила о нескольких случаях порчи картофеля. Но это могло случиться из-за хранения на открытом воздухе. И только в самый последний день месяца Имонн вернулся домой встревоженным.
— Кое-кто из фермеров, приезжавших в Эннис, говорит о какой-то новой болезни, — сказал он Морин и тут же отправился проверять свой участок. — Похоже, они правы, — сказал он, вернувшись.
В середине октября Каролина Дойл сообщила Стивену, что собирается замуж за другого мужчину. Поначалу он просто не мог в это поверить.
— И кто он?
— Один профессор. Человек науки.
— Ученый? О, это серьезная ошибка! Ученые ужасно скучные люди.
— Мне он таким не кажется.
— Лучше бы тебе выйти за меня.
— Не думаю, Стивен. Мне очень жаль.
Стивен и Каролина отлично ладили между собой. Он пока не делал ей предложения — рановато было, — но между ними возникло понимание. Стивен был в этом уверен. И решил, что вся проблема — в О’Коннелле.
Хотя Освободитель отменил многотысячный митинг в Клонтарфе, правительство тори все же не было удовлетворено.
— Он зашел слишком далеко, — говорили они. — Это приведет к мятежу.
И О’Коннелла упрятали в тюрьму, где он провел шесть месяцев, пока члены палаты лордов, составляющие высший суд Британии, не отменили приговор. В течение всего этого времени О’Коннелл требовал от Стивена, чтобы тот занимался всевозможными делами в Лондоне, и в результате Стивен почти не видел Каролину. Но, вернувшись, продолжил ухаживать за ней. Однако ему все равно не удавалось видеть ее так часто, как ему хотелось бы, так как всегда оказывалось, что нужно решить тот или иной неотложный политический вопрос.
— Может, я и люблю его, — объяснила Каролина Уильяму Маунтуолшу, — и он меня любит, осмелюсь сказать, но только когда у него есть свободное время.
— Ты думаешь, он не способен на настоящие чувства? — спросил Маунтуолш.
— Нет, — ответила она, — но в основном он думает о себе. — Девушка улыбнулась. — Иногда он ведет себя как ребенок, и это очень мило. Но… но этого недостаточно.
Ученый, о котором шла речь, был другом брата Уильяма. Этот джентльмен тридцати пяти лет интересовался астрономией. Каролина познакомилась с ним во время поездки в Парсонстаун, в поместье одной талантливой семьи, главе которой был жалован титул лорда Росса. Лорд Росс и сам был известным астрономом.
А Стивен только тогда и понял, как ему нужна Каролина, когда потерял ее. Через неделю после их расставания он написал несколько посвященных ей стихотворений, в которых было больше страсти, чем таланта. После этого Стивен впал в депрессию. В начале декабря Освободитель, решив, что Стивену необходима перемена обстановки, отправил его в Эннис к Чарльзу О’Коннеллу под тем предлогом, что его кузену нужна помощь в редактировании нескольких политических эссе.
Стивен уже слышал, что с урожаем картофеля происходит что-то неладное. Чарльз О’Коннелл, бывший некрупной смуглой версией великого человека, всегда знал все на свете и сразу объяснил Стивену ситуацию:
— Запад Ирландии поражен сильнее, чем другие части. В Клэре потеряна почти половина урожая, и Эннису досталось больше всех. Но болезнь распространяется неровно. Даже здесь, в графстве Клэр, есть совсем не затронутые ею места.
— Это именно болезнь?
— Скорее всего. Или излишек влаги. Часть картофеля выглядит нормально, когда его выкапывают из земли, но потом он начинает гнить. Здесь, в Эннисе, мы думаем, что весной нам может понадобиться помощь Дублина. — Он пожал плечами. — Ну, такое в Клэре случается время от времени.
Еще через пару дней к ним на ужин пришел владелец «Клэр джорнал», и Стивен услышал и другую точку зрения. Мистер Нокс, протестант и членом партии тори, и выглядел как скучный чиновник-пресвитерианец. Но его семья владела газетой уже несколько поколений, и мистера Нокса любили в этих местах.
— От местных сквайров нет никакого прока, а лорд-наместник в Дублине просто самодовольный осел! — решительно заявил Нокс. — Вчера я видел, как в порт везут шесть больших фургонов зерна. На экспорт. Такого нельзя допускать! К марту, самое позднее, нам понадобятся все продуктовые запасы, какие только мы сможем найти.
— Но что же будет с фермерами? — поинтересовался Чарльз. — Они ведь должны продавать свое зерно.
— Конечно должны. Значит, нужно дать им хорошую цену, такую, какую они получают от торговцев в порту. И сделать это немедленно. В противном случае весной нам придется платить за ввоз зерна, но к тому времени из-за его нехватки цены вырастут.
— Но кое-кто говорит, что никакой нехватки не будет.
— Да они дураки!
— Но что это за болезнь? — спросил Стивен.
— Некий доктор Ивенс написал статью, где назвал ее фунгусом, грибком, — ответил Нокс. — Но на самом деле, мистер Смит, никто ничего не знает.
И все же, поскольку Стивен приехал из Дублина и имел большие связи в политике, владелец газеты явно стремился донести свое мнение до властей с помощью этого молодого человека.
На следующий день Стивен и хозяин дома вместе работали над эссе. Но еще через день Нокс заехал за Стивеном на двуколке, запряженной пони, и повез его на экскурсию по окрестностям.
— Недостаток продовольствия — это еще и некая возможность, видите ли, — сказал он Стивену, когда они выезжали из Энниса. — Посмотрите на этих людей! — Он широким жестом показал на домики и хижины вдоль дороги. — Крепкие мужчины, ищущие работы. Что им делать, когда закончатся их небольшие запасы картофеля? У них же нет денег, чтобы купить еду!
— И что делать?
— Нанимать их. Платить им жалованье. Это все, чего они хотят. Заставить их производить что-то.
— А есть какое-нибудь занятие для них?
— Дорогой мой сэр! Вы здесь уже несколько дней, а задаете такой вопрос? Занятий множество! Я вам сейчас покажу. — Живым и энергичным умом мистера Нокса можно было только восхищаться. — Некоторые местные дороги, как вы сами видите, следует привести в порядок. Каменный мост — мы только что проехали по нему — великолепен. Но мы отчаянно нуждаемся в новой дороге между Эннисом и Квином. Так пусть она будет построена! А вот река Фергус. Сейчас все товары — зерно, масло, скот, — все, что продается на рынке Энниса, доставляется баржами к причалам в нескольких милях отсюда к югу, и это приводит к ненужному удорожанию. А ведь реку можно сделать судоходной до самого Энниса и построить у города несколько новых причалов, к большой выгоде для города.
— Вы битком набиты идеями.
— Ничего подобного, мистер Смит. Все это годами ждет своего решения. Вы знаете, что уже разработаны планы для строительства нового здания суда? Старое в такой мере нуждается в ремонте, что проще построить новое. И это еще один полезный проект, который лишь ждет своего осуществления. Новый католический собор — землю под него купил некий протестант, представляете? — тоже нужно закончить. На это можно провести подписку, собрать частные пожертвования. Но мой любимый проект — вон там. — Они еще немного проехали на север, и Нокс, остановив двуколку на повороте дороги, показал на пейзаж впереди. — Вот, сэр! — с победоносным видом воскликнул он. — Что вы думаете об этом?
Глядя на север, Стивен, вообще-то, не видел ничего, кроме пустынной заболоченной местности. Она как будто тянулась на многие мили и в декабрьском неярком свете выглядела бледной и бесконечно унылой.
— Об этом?..
— Вам кажется, что это просто тоскливое болото, — сказал Нокс. — Но под ним скрывается рай!
— Вы хотите сказать, что его нужно осушить?
— Именно! Земля под этой топью, мистер Смит, невероятно богата. Это почти то же, что затопляемые низины. Огромные ресурсы! Здесь можно вырастить столько зерна, что хватит всему Эннису! — Нокс вздохнул. — То, что я вижу здесь, мистер Смит, можно считать символом самой Ирландии: страна пустой траты ресурсов.
— Да, наша земля ценна, — согласился Стивен.
— И наши люди тоже. Ирландцы, сэр, подвижны, умны и трудолюбивы. Англичане, в силу своих предубеждений, видят их неповоротливыми и ленивыми, но это чистая клевета. А правда противоположна этому. Но что мы имеем здесь, в Клэре? Огромные человеческие ресурсы, которые, как это болото, не используются и страдают без необходимости.
— Уверен, мистер Нокс, вы используете свою газету, чтобы добиваться всех этих результатов, — заметил Стивен, когда позже они уже возвращались в Эннис.
— Я много раз обращался с письмами к дублинским властям и, конечно, печатал статьи обо всем этом, мистер Смит, — сказал Нокс. — И я не намерен сдаваться.
Однако в последующие дни не было никаких признаков того, что дублинские власти предпринимают хоть что-нибудь. Но вопреки опасениям Нокса насчет урожая зимний сезон в Эннисе с приближением Рождества был не таким уж скучным. В середине месяца высший свет города был весьма заинтригован визитом мистера Уилсона, прославленного френолога. Обосновавшись на Черч-стрит, он предлагал дать любому точную научную характеристику его способностей и возможностей, основываясь на тщательном изучении формы черепа, причем тут могли открыться таланты, о которых сам человек и не подозревал.
— Поскольку это стоит пять шиллингов, то есть плату за пять-шесть дней труда простого рабочего, — заметил Чарльз О’Коннелл, — то мы никогда не узнаем о способностях бедняков. Но, думаю, Стивен, нам с вами стоит попробовать.
И вот Стивен, в общем-то против его желания, сидел в хитроумном устройстве мистера Уилсона, а этот джентльмен с помощью рулетки, штангенциркуля и еще чего-то исследовал его и в конце концов провозгласил:
— А знаете ли вы, сэр, что у вас имеется весьма примечательная шишка человеколюбия?
— Должно быть, она здорово подросла со времен моей юности, — сухо откликнулся Стивен.
Примерно час спустя Стивен, в одиночестве шагая по городу, увидел какую-то молодую женщину. Она стояла перед зданием суда. Внутри давала представление другая гостья Энниса, любимица детей мисс Герон. Стивен не собирался туда заходить, но знал, что зал битком набит, включая и места для бедных на галерее.
Девушка, бледная и неприметная, держала за руку маленького мальчика. Стивен, которому просто нечем было заняться, остановился и спросил, что она тут делает.
— Моя сестра купила билеты на представление, сэр. И мой отец с сестрами сейчас там вместе с ней. Это рождественский подарок.
— А вы сами не хотите пойти?
— У нее было только четыре билета, сэр. Я с удовольствием подожду их здесь с братиком.
Стивен спросил, откуда они приехали, и девушка вкратце изложила ему свою историю.
— Мне очень жаль, что вы потеряли свою землю, — произнес Стивен.
— Таких, как мы, много. И мы вполне неплохо справляемся, правда, Дэниел? — ответила она, ласково улыбаясь мальчику.
Несмотря на неприметную внешность, девушка Стивену понравилась. В ней ощущались простота и добросердечие.
— Желаю вам удачи в новом году, — сказал он и пошел дальше.
Какое-то время спустя Стивен из окна дома Чарльза О’Коннелла увидел, как та самая девушка вместе со всей семьей идет по улице. Крупный мужчина, явно ее отец, показался ему смутно знакомым. Возможно. Стивен не был уверен наверняка, но у него была отличная память на лица. И он вспомнил этого мужчину, решительно шагавшего к кабине для голосования в тот славный день много лет назад, когда отец Мёрфи разжигал толпу. Сёстры девушки выглядели вполне симпатично. Но одна в особенности привлекла его внимание. Необыкновенно хорошенькое существо. Стивен уставился на нее. Было воистину странно, что у такой простенькой девушки могла быть такая красивая сестра.
В Рождество, днем, Чарльз О’Коннелл заявил:
— Прежде чем мы сядем ужинать, Стивен, я должен появиться в работном доме. Не хотите составить мне компанию и посмотреть, что это за место?
Работный дом. Само это название пугало. Чисто английское изобретение. Вы могли прийти сюда как в последнее убежище, если не имели работы и находились в крайней нужде. Управлялся работный дом опекунским советом, состоявшим в основном из местных джентльменов. Отвратительного вида здание к северу от Старого города, но О’Коннелл как будто гордился им.
— Дом новый, — пояснил он, — и, в отличие от многих ему подобных, чистый.
Они прошли через высокие кирпичные ворота в просторный двор. Строения, расположенные по обе стороны двора, походили скорее на казармы или тюрьму.
Возможно, из-за того, что день был пасмурным, Стивену это место показалось невероятно мрачным: мрачные двери и мрачные окна, мрачный кирпич, мрачная известь… и надо всем этим — крыша из темного сланца, уныло поднимавшаяся к унылому небу.
— Этот дом организован по самому строгому английскому образцу, — принялся объяснять Чарльз. — Мужчины, женщины и дети живут раздельно. Мужей с женами, матерей с детьми разделяют сразу, как только они здесь появляются, и отправляют в разные жилые блоки. Ну а пропитания они получают лишь столько, чтобы выжить, не более.
— Но это жестоко. Не понимаю, почему они не уходят отсюда.
— В том-то и суть. Опекуны распорядились, чтобы людей здесь содержали как можно скромнее. Иначе, надеясь получить бесплатную еду и ночлег, сюда явилась бы половина населения Энниса, и их было бы не выгнать. Ну, так они думают. — Чарльз вздохнул. — Пожалуй, они не слишком ошибаются.
Но раз в год, на Рождество, правила работного дома смягчались, и все его обитатели собирались вместе на праздничный ужин.
Зал был огромным. Большинство составляли мужчины, женщин было гораздо меньше, а детей и вовсе единицы, но всего здесь собралось несколько сот человек. Выглядели люди оборванцами, но чистыми. Все сидели за длинными голыми столами, представлявшими собой просто доски, положенные на деревянные козлы. Пока Стивен все это рассматривал, появились пастор и священник. Управляющий сказал несколько слов о Рождестве и велел поаплодировать в честь королевы, что и было исполнено. Потом подали еду — мясо, картошку и капусту. Видимо, это было утешающим доказательством того, что пока запасов в Эннисе более чем достаточно даже для самых бедных.
В начале нового года литературный труд был завершен и Стивен вернулся в Дублин. Его пребывание в Эннисе оказалось полезным, — по крайней мере, перемена обстановки помогла ему отвлечься от расставания с Каролиной. Но покоя его уму это не принесло. Если не наоборот. Жизнь Стивена как будто потеряла смысл, хотя прежде ему казалось, что он есть. Молодой человек просто не знал, что делать.
Стивен был весьма удивлен, когда в марте получил письмо от мистера Нокса. Похоже, этот неутомимый джентльмен, однажды включив вас в свой список, не собирался вас оттуда вычеркивать. Но, по правде говоря, хотя дела в Дублине не оставляли Стивену свободного времени, воспоминания о том, что он видел в Эннисе, посещали его нередко. Внимательно читая письмо, он сразу отчетливо понял, почему владелец газеты написал ему. А поскольку он как раз в тот день встречался с лордом Маунтуолшем, то прихватил письмо с собой.
Большой дом на Сент-Стивенс-Грин всегда был приветливым местом, и в этот раз собралась лишь небольшая компания, включавшая самого Стивена и Дадли Дойла, который стал относиться к Стивену гораздо лучше, с тех пор как его дочь благополучно вышла замуж за другого.
Уильяма Маунтуолша как будто слегка позабавило сообщение Стивена, что он получил письмо от мистера Нокса.
— Так вы с ним знакомы? — спросил Стивен.
— Мы все знаем мистера Нокса, — с улыбкой ответил граф. — Но расскажите же, что он пишет?
Тогда Стивен просто прочел им письмо.
Ситуация в Эннисе как раз такая, как я и предсказывал, если даже не хуже. Недостаток снабжения начал сказываться к февралю, и соответственно цены поползли вверх. Мешок картофеля весом четырнадцать фунтов на рынке в Эннисе всегда стоил два пенса, теперь он стоит пять. Для бедняков это страшная цена. А порой картошку вообще нельзя купить даже за любую цену. В работном доме припасы закончились, они пытаются закупить дешевую кукурузную муку. Некоторые пробовали есть испорченный картофель. В инфекционной больнице пациентов накормили плохой картошкой, и в результате кишечных расстройств стало еще больше.
Правительство приказало губернаторам каждого графства организовать комиссии помощи, но дело продвигается слишком медленно.
Члены нашего городского магистрата, теряя терпение, взяли дело в свои руки. По существующим законам они обладают властью обеспечить людей работой, которую наполовину должно оплачивать правительство, а половину оно дает нам в долг, — и мы, как община, со временем должны его вернуть. Пока эти работы состоят в ремонте некоторых дорог и прочих простых занятиях, но я надеюсь, что позже мы сможем начать часть тех проектов, о которых я рассказывал, когда Вы были здесь. Но по моим оценкам, только один из четырех нуждающихся получил работу.
В дополнение к этому мы в Эннисе создали комитет помощи. Большинство горожан, вошедших в него, — Ваши товарищи, то есть я имею в виду, что это люди О’Коннелла, а вот местные сквайры в основном не пожелали присоединиться к нам. А я единственный протестант-тори в этом комитете. Однако за пределами Энниса сквайры пытаются найти людям работу и средства к существованию. Но все эти усилия разрозненны, и им недостает общего направления. В тех имениях, где владельцы живут за границей, дела обычно обстоят намного хуже. В одном из приходов две тысячи человек остались вообще без пищи.
Примечательно, что почти не происходит волнений. Возможно, отчасти на людей отупляюще действует погода, поскольку у нас холодно и сыро; как раз недавно шел снег.
Трудно понять, как наше правительство может быть настолько беспечным и безразличным к страданиям народа.
Стивен закончил чтение и посмотрел на Уильяма Маунтуолша:
— Но почему правительство так инертно? Или Нокс преувеличивает?
— Ох нет! Уверен, он говорит чистую правду, — ответил граф. — Но наш друг Нокс ошибается насчет халатности властей. На самом деле это сознательная политика. Вчера я разговаривал кое с кем в Дублинском замке. Правительство мешкает с помощью как можно дольше по самой простой причине. Это единственный способ заставить местных взять на себя хоть какую-то ответственность за свои дела. Посмотрите на Эннис. Сам Нокс — это лишь некое особое исключение, но другие горожане и местные сквайры снова и снова доказывают, что они ни черта не сделают для своего края, пока не будут просто вынуждены. — Маунтуолш улыбнулся. — Осмелюсь предположить, это просто заложено в человеческой природе. Уверен, я и сам бы не сделал даже части того, что следовало бы, если бы не был должен.
— Да он работает до упаду! — возразила леди Маунтуолш.
— Но землевладельцы по всей Ирландии хотят, чтобы их выручало из беды правительство. А правительство этого делать не собирается.
— Но не могут же они просто дать людям умирать от голода!
— Нет. И на самом деле желание Нокса вот-вот исполнится. Правительство намерено вмешаться. Но местным все равно придется нести на себе основную ношу и ответственность.
— И чего нам ждать?
— Чего-то вроде того, что хочет Нокс. Обширная программа общественных работ. Главное возражение тут в том, что нельзя просто так давать деньги трудоспособным людям. Это их развращает и лишает самоуважения. Их необходимо обеспечить работой. Но Нокс прав в том, что цены на продукты становятся слишком высокими. И возможно, будут сделаны субсидии для их удержания.
В ответ на это Дадли Дойл издал некий шипящий звук. Все посмотрели на него. Экономист качал головой.
— Поосторожнее, джентльмены! — воскликнул он. — Поосторожнее! Вы можете доставить сюда дешевую кукурузную муку. Вы можете значительно увеличить запасы, чтобы сбить цены. Но нельзя субсидировать продуктовую торговлю. Это соблазнительно, только делать этого нельзя. Обрушится рынок. А это неправильно. — Он повернулся к Стивену. — Вы в партии вигов. Я рассчитываю на вашу поддержку.
— Ну… не знаю, — ответил Стивен.
Самое худшее, думала Морин, произошло в День святого Патрика. Они услышали об убитом человеке.
Это случилось рядом с городом. Никто, похоже, не знал, чьих рук это дело, но никто и не удивился особо. Мужчина был каким-то агентом, и его знали как любителя выселений.
Морин казалось удивительным, что люди могут быть настолько жестокими. В то время, когда все испытывали страдания, людей продолжали выгонять с земли, но ее отец, похоже, считал такое вполне приемлемым.
— В подобной ситуации агенты могут требовать более высокую арендную плату за землю, а те, кто полагался только на картошку, вообще ничего заплатить не могут. — Он вздохнул. — Так уж все устроено. Если землевладелец настаивает на своем, агента и вовсе винить не в чем, я полагаю.
— А я виню, — ответила Морин.
Судя по всему, его винили и некоторые из выселенных арендаторов, так как бедолагу нашли мертвым на обочине дороги.
Морин с отцом стояла на рынке рядом со зданием суда, когда заметила Каллана, видимо только что приехавшего. Он сидел на лошади, уставившись на мостовую, его лицо кривилось. Морин не была уверена, но ей показалось, что он говорит сам с собой. Потом Каллан поднял голову, оглядел рыночную площадь, заметил Морин и ее отца и вздрогнул. Она уставилась на него и с удивлением увидела, что Каллан очень бледен, а его глаза полны страха.
Он не мог этого скрыть. Он боялся. Морин догадалась, о чем он мог думать. Не упадет ли и он мертвым этой весной где-нибудь на обочине дороги, пав от руки ее отца или кого-то подобного? Морин отлично знала, что ее отец никогда ничего такого не сделает, но если маленький Каллан так напуган, то это и к лучшему. Пусть и он тоже страдает. Она не отвела взгляда и продолжала дерзко смотреть на представителя лендлорда. И постепенно при виде такого вызова страх в его глазах сменился ненавистью.
Немного позже они с отцом уже шли домой, когда их обогнал агент. Он повернулся и бросил на отца Морин пугающий взгляд, словно говоривший: «Ты желаешь мне смерти? Ну так сначала я убью тебя!»
Но сильнее всего запомнилось Морин то, что случилось уже дома, перед сумерками. На улице поднялся резкий ветер, и дети сгрудились у очага, где тлел торф. Отец отправился в хранилище в другой части их домика. Он взял лампу и изучал остатки картофеля, сложенного у стены. И когда свет лампы упал на его широкое лицо, Морин вдруг заметила, как углубились на нем морщины. Обычно отец, как и она сама, старался сохранять перед детьми бодрый вид, но в это нечаянное мгновение он выглядел бесконечно печальным. Морин подошла к нему и коснулась его руки. Отец кивнул, но промолчал. Потом посмотрел на дочь.
— Я надеялся, что это можно будет использовать, — тихо произнес он. — Я тебе не говорил, но я знаю одного человека, у которого имеется поле. Я говорю не о смешном клочке. Он дал бы мне возможность распоряжаться им как собственным… — Имонн показал на лежавшую перед ним картошку. — И это я хотел оставить на семена. Но я не смею, Морин, так как не могу быть уверен, что у меня будет работа, а цены на рынке… По правде говоря, все это очень пугает меня. Нам придется съесть этот картофель, а не посадить его, причем постараться растянуть его на долгое время. — Он покачал головой, а потом тоном, в котором в равной мере звучали тоска и горечь, добавил: — И это Ирландия, и это День святого Патрика!
На следующий день в Эннис прибыла рота Шестьдесят шестого полка, чтобы успокоить местных сквайров, слишком взволновавшихся после убийства.
А еще через несколько дней пошел снег.
Имонн Мэдден был еще счастливчиком по сравнению со многими своими соседями. Триста мужчин, в том числе и Имонна, взяли на местные дорожные работы. Полковник Уиндхэм прислал из Англии шестьсот фунтов стерлингов на ремонт улиц в Эннисе.
— Этого хватит на оплату труда трехсот человек в течение двух месяцев, — подсчитал отец Морин.
Когда снегопад прекратился и погода стала немного мягче, дублинские власти тоже начали поставлять кое-какую помощь. Почти пятьсот человек наняли на общественные работы, но продвижение грандиозных проектов мистера Нокса постепенно замедлилось. Теперь уже начал страдать от общих бед другой класс населения.
— При всех этих проблемах, — говорил дочери Имонн, — и притом что людям приходится долго шарить в карманах, чтобы хоть что-то там найти, никто в Эннисе ничего не тратит, и местные мастеровые скоро окажутся в таком же тяжком положении, как и мы.
На рынке цены на зерно продолжали расти. До города дошел слух, что в устье реки Шаннон корабль, груженный зерном, был ограблен местными голодными жителями.
В один из дней Имонн утром ушел на работу, но вернулся еще до полудня с потрясенным видом:
— Плату за работу понизили. Парни отказываются работать.
— Но вам и так платят десять пенсов в день! Гроши!
— Знаю. А теперь будет восемь пенсов. Но парням придется уступить. Я встретил мистера Нокса, и он мне сказал: «У нас просто нет больше денег».
Имонн оказался прав. Мужчины вернулись к работе за восемь пенсов в день.
После работы в первый такой день Морин спросила отца, не было ли каких-нибудь проблем.
— В общем, нет, — ответил Имонн. — Вот только мимо проезжала какая-то милая леди и заявила нам, что совершенно не понимает, зачем мы устраиваем беспорядок на улицах.
Такой платы было недостаточно, чтобы прокормить семью, в особенности при росте цен на все подряд, но через несколько дней Морин нашла кукурузную муку, которую сумел закупить благотворительный комитет и теперь продавал по очень низким ценам. Продукт был так себе, думала Морин, однако помогал продержаться.
И город Эннис с трудом дополз от весны к лету. Городские торговцы оказывали посильную помощь, однако местные сквайры не слишком утруждались. Большинство жителей едва держались. Но многие в Эннисе видели впереди надежду по двум причинам.
Вот-вот должен был поспеть ранний картофель. Кто-то съел семенной картофель в трудные дни, но кто-то сохранил достаточно, чтобы посадить в землю и получить достойный ранний урожай. Имонн также сумел сохранить и свой маленький клочок земли для посадки.
— Еще каких-нибудь несколько недель, — ободрял он свою семью, — и самое страшное будет позади.
Второй причиной надежд была политика. После отступления у Клонтарфа и краткого пребывания в тюрьме о Дэниеле О’Коннелле почти ничего не было слышно. Ходили слухи, что он болен. Члены «Молодой Ирландии» не отказывались от идеи выхода из союза с Англией, и даже если в настоящее время никаких шансов на это не было, мечта о свободной Ирландии продолжала будоражить сердца. Однако теперь появилась и более близкая надежда: на смену английского правительства. В конце июня состоялись выборы. Тори проиграли, виги вернулись. А разве виги не были союзниками Освободителя? Разве они не сочувствовали всегда католической Ирландии? Сторонники аннуляции союза ликовали. Вся католическая Ирландия ждала перемен к лучшему. В начале июля, хотя фонды помощи почти иссякли и все голодали, летнее солнце вроде бы обещало надежду.
Это случилось в теплый день на третьей неделе июля. Морин с отцом отправились на маленькое поле, где росла их картошка. Они осматривали ее за день до того, когда лишь начала распространяться новость… И теперь смотрели на землю в молчании.
Потому что все их поле было покрыто почерневшей ботвой. И от земли поднималась страшная вонь, заставлявшая зажимать нос. И везде вокруг, на других участках, было то же самое.
Он приехал в Эннис в ясный ноябрьский день. И приехал исключительно благодаря Маунтуолшу.
— Да брось ты! — сказал добрый граф, когда Стивен попытался его благодарить. — Они только рады тебя заполучить. Слава тебя опережает, а я им напомнил, что ты один из настоящих вигов-католиков. Ведь ты и есть таков? И я сказал им, что ты из тех солидных людей, которым не нравятся опасные идеи ребят из «Молодой Ирландии». И блестящий организатор. Не сомневаюсь, ты все сделаешь отлично.
По крайней мере, это должно было принести какие-то перемены. Потому что к концу того лета Стивен Смит был уже сыт по горло политикой и больше не желал ничего о ней слышать. Ну, по крайней мере, какое-то время. Даже возвращение власти к вигам не оживило его интереса. Сделал ли он что-нибудь полезное за все эти годы? — спрашивал он себя. Стивен надеялся, что да. Делал ли он что-то полезное теперь? Нет. Его старый наставник О’Коннелл болел. И ему Стивен ничем не мог помочь. Ему не нравились ребята из «Молодой Ирландии». В том Уильям Маунтуолш был абсолютно прав. У них были хорошие намерения, у некоторых из них, но им не хватало дисциплины, организованности. Некоторые рвались начать бунт, как Эммет. Пустая затея. И опасная. Они и сами погибли бы, и других увлекли бы за собой.
Но потом он получил очередное письмо от мистера Нокса, владельца «Клэр джорнал», и у него возникла некая идея. Он был потрясен содержанием письма, а когда Нокс описывал организацию, которая появилась у них в Эннисе, Стивену вдруг пришло в голову, что это может оказаться для него шансом сделать что-то действительно полезное.
И вот он был здесь, должен был реализовать новую программу общественных работ, предназначенных спасти Эннис от голодной смерти. Стивену предстояло сотрудничать с мистером Хеннеси, старшим наблюдателем этого региона, и оба они должны были отчитываться перед неким бодрым морским офицером в отставке, известным просто как Капитан, — он отвечал за все графство. Стивен не захотел обременять своим присутствием Чарльза О’Коннелла, любезно предложившего ему комнату в собственном доме, и Чарльз нашел ему съемное жилье неподалеку.
Хеннеси, с которым Стивен встретился в первое же утро, оказался высоким, добродушным и приятным мужчиной, который быстро обрисовал Стивену масштаб операции.
— Я предполагаю, — сказал он, — что к концу года мы сможем нанять пятьдесят тысяч человек в этом графстве.
Новое правительство желало строго контролировать все дело. Был организован новый комитет, который должен был наблюдать за всем графством. Его назначил лорд-наместник, и хотя в нем участвовали несколько католиков, председатель и большинство членов были джентльменами-протестантами. Хеннеси объяснил Стивену, что ему предложили несколько проектов для Энниса, и еще дал понять, каковы будут правила действия.
— Не должно быть никаких отклонений, уступок, — предостерег он. — Новое правительство намерено быть основательным, но твердым.
— Есть ли какие-то особые проблемы, о которых я должен знать? — поинтересовался Стивен.
— Ну… — Хеннеси слегка замялся. — Думаю, честно будет сказать, что до сих пор приходится кое-что наверстывать. Пока мы тут не начали, были… — Он постарался найти правильное слово. — Некоторые упущения.
Тем же днем, зайдя в редакцию к мистеру Ноксу, Стивен выяснил, что именно подразумевал Хеннеси. Нокс, следуя своей привычке, тут же вызвал коляску, запряженную пони, и повез Смита на небольшую экскурсию. Разница между тем, что Стивен видел в прошлый раз, и тем, что увидел теперь, была ошеломляющей. Там, где прежде он наблюдал просто оборванных детей и встревоженные лица, теперь появились маленькие живые скелетики и женщины с провалившимися глазами.
— Эти люди не бедняки. Они умирают от голода!
— Не все. Некоторые уже умерли.
— Но как, почему?..
— Все просто. В этом июле и августе весь картофель погиб. Когда я говорю весь, я имею в виду, что сгнили все до единой картофелины. Я говорю не о каком-то одном поле, не об одном участке рядом с коттеджем. Нет. Во всем Эннисе и вокруг него не выросло ничего такого, что годилось бы в пищу. Вонь от этих гниющих полей накрывала город, как будто он очутился в открытой массовой чумной могиле. Я говорю о том, Смит, что после долгих тяжелых месяцев люди в Эннисе не смогли вырастить ничего съедобного для себя. К несчастью, как раз в это время менялось правительство. А ты знаешь, как это бывает, когда меняется власть. Все, что делалось прежде, считается неправильным.
— И?..
— Ну, они, конечно, прихлопнули благотворительные комитеты. И ничего не сделали взамен. И так оставалось до октября. Люди кое-как помогали друг другу выжить, но старые и больные, особенно в отдаленных местах, быстро умерли. Мы сообщали об этом куда могли, но сами не всегда обо всем узнавали вовремя. Но смертей уже было очень много.
— Теперь это изменится.
— Так ли? Каким образом? Ты дашь им работу?
— Да, работа будет.
— И снабдишь их продовольствием?
— Насколько я понимаю, нет.
— Конечно нет. Потому что тогда обрушится рынок, а это, на взгляд вигов, самое гнусное из преступлений.
Стивен подумал о Дадли Дойле.
— Не могу этого отрицать, — признал он.
— А значит, поскольку из-за недостатка продуктов цены на них взлетели теперь на новые высоты, то денег, которые ты сможешь заплатить тысячам мужчин, не хватит для того, чтобы они смогли накормить свои семьи. Они не будут бездельничать и умирать от голода, мистер Смит. Они будут работать и умирать. — Он бросил на Стивена суровый взгляд. — Я всего лишь тори, сэр. А ты виг, друг ирландских католиков. Это твое правительство. Так почему твое правительство настолько глупо?
— Не могу ответить.
— А я могу. Виги, сэр, скрестили свою преданность основной доктрине с полным пренебрежением к местным условиям. А в результате родился голод, какого свет не видывал.
— К этому они не стремятся. Виги полны благих намерений.
— Конечно, полны до краев! — Газетчик уже почти кричал. — В том-то и проблема! Нынешние лидеры вигов — реформаторы, они расширили права для участия в выборах, они ищут поддержки католиков! Они не просто полны благих намерений, они уверены в своей правоте! А следовательно, никого не станут слушать. В том-то и кроется трагедия! — Нокс умолк, чтобы вдохнуть. — Что является величайшим преступлением против человечности, Смит?
— Намеренная жестокость, я бы сказал.
— И ошибся бы. Это не жестокость, даже не дурные намерения. Нет. Это — глупость!
— Но зачем ты говоришь мне все это? — спросил Стивен.
— Да просто чтобы ты знал, — ответил Нокс и повернул коляску обратно.
В последовавшие затем дни Стивен полностью погрузился в работу. Похоже, в городе теперь придерживались новой схемы: нанимать людей каждые несколько дней. Некоторые работы, вроде строительства нормальной канализационной системы в городе, действительно имели смысл. Но по большей части это были никому не нужные дорожные работы, главным результатом которых было перекрытие дороги, ведущей к городу. Как-то раз Смит предложил Хеннеси расчистить и перекопать участок заброшенной земли. Земля принадлежала старому фермеру, у которого просто не было уже сил сделать это самому.
— Он, по крайней мере, сможет посеять зерно и увеличить продуктовые запасы, — сказал Стивен.
Но Хеннеси покачал головой и напомнил ему:
— Тебе бы стоило лучше соображать, Стивен. Это частная собственность. Улучшение этой земли — работа на воспроизводство, потому что выросшее здесь зерно будет принадлежать фермеру и поступит на рынок. Мы создадим личную выгоду и вмешаемся в торговый процесс. Мы не можем этого сделать. Только общественные работы, мальчик мой, как бы они ни были бесполезны.
И земля осталась в запустении.
Стивен провел там уже десять дней, когда стал свидетелем одного небольшого инцидента. Он увидел группу примерно из пятидесяти мужчин, расчищавших обочины дороги, ведущей к причалам. Работа едва продвигалась, но некоторые мужчины выглядели настолько ослабевшими от недостатка питания, что было бы жестоко подгонять их, а поскольку сама по себе работа была бессмысленной, то и причин к тому не имелось.
В это время на дороге показалась телега, груженная зерном. Она резво катила в сторону причалов. Мужчины тупо наблюдали за ней. Но потом вдруг трое из них, не говоря ни слова, отделились от общей массы и направились к телеге. Одним из троих был тот крупный мужчина, которого Стивен видел в декабре вместе с простенькой девушкой и ее сестрами. С тех пор Стивен успел узнать, что звали этого мужчину Мэдденом. Подойдя к телеге, Мэдден заговорил с возницей. Смит не слышал, о чем они говорили, но большой мужчина, похоже, скорее тихо убеждал возницу, чем угрожал ему. Через несколько мгновений возница кивнул, мужчины развернули лошадей и телега отправилась в обратном направлении. А трое мужчин спокойно вернулись к работе.
Стивен колебался. Было ясно: он только что видел нечто незаконное. Следовало ли ему вмешаться? Он решил подождать и позже расспросить об этом Хеннеси.
— Ну да, такое время от времени случается, — сказал ему Хеннеси. — Они не позволяют зерну покинуть этот район. Никакого серьезного насилия пока не происходило, но в качестве предупреждения покалечили парочку лошадей. А во всем графстве не найдешь никого, кто осмелился бы сделать оценку лошадей для фермеров, а потому они и страховку получить не могут. В строгом смысле это, конечно, запугивание. Но мы обычно просто не обращаем внимания. Да и как их винить? Зерно, которое увозят в порт, может оказаться вообще последней крошкой еды для их детей.
В общем же никаких других неприятностей местные жители не причиняли. А вот Мэдден был фигурой заметной: великолепного сложения, с уже седеющими волосами, худой от недоедания. И хотя с одного взгляда было ясно, что он имеет моральное превосходство над работавшими с ним людьми, он всегда двигался и говорил с вежливой мягкостью. Однако судьба, похоже, решила, что конфликта не избежать.
Прошла еще неделя, прежде чем Стивен наконец столкнулся лицом к лицу с Капитаном.
Этот коренастый седоватый моряк, чьей задачей было создать рабочие группы из примерно пятидесяти тысяч мужчин по всему графству, едва ли был личностью популярной.
— Моя задача, мистер Смит, — сказал он, — присматривать за тем, чтобы работу получили самые нуждающиеся. Я не стану терпеть разных баламутов, и я не стану терпеть злоупотребления. Вчера я обнаружил, что двое из мужчин, назначенных на работу, — фермеры и у них есть собственная земля. У одного оказалось целых пятьдесят акров. Но он, видите ли, был другом джентльмена из местного комитета, который решил, что вполне можно ухватить немного наличности в столь трудные времена. Чудовищно! Я его выкинул и сказал тому типу из комитета, что я о нем думаю. Никаких привилегий, пока я здесь, это понятно?
— Да, — кивнул Стивен.
— Отлично! — Капитан просматривал газету. — В ваших командах есть человек по фамилии Мэдден?
— Есть.
— Еще один мошенник. У него имеется небольшой кусок земли. Достаточный, чтобы прокормиться. Я хочу, чтобы его выгнали.
— Уверен, он уже потерял эту землю.
— Возможно. От дураков, что сочиняют эту газету, толку мало. Часть сведений давно устарела. Вот тут у меня недавнее донесение от некоего Каллана. Он агент. Говорит, что Мэдден — баламут. Возможно, склонен к насилию. Вы что-нибудь такое замечали?
— Вообще-то, нет.
— Хм… Но вы замялись. Выгоните его. Есть масса других людей, нуждающихся в работе. Вот так. — Он перешел к другим темам, но когда закончил и Стивен уже уходил, Капитан окликнул его: — Не забудьте насчет Мэддена, потому что я не забуду. — Он бросил на Стивена пронзительный взгляд. — И в связи с этим, пока вы не ушли, лучше мне объяснить еще кое-что…
Стивен уволил Мэддена на следующее утро.
— Тебе заплатят за этот день, и я добавлю плату еще за два дня, — сказал он. — Но тебе придется уйти, сейчас. Мне очень жаль.
— Но мне нужно кормить семью, — сказал большой мужчина. — Я прошу вас передумать.
— Боюсь, я просто не могу.
— Вы обрекаете моих детей на смерть.
Стивену подумалось, что это небольшое преувеличение, но он промолчал. Правда была в том, что ему очень не нравилась вся эта история. Мэдден медленно повернулся, чтобы уйти. И следовало сказать, держался он в своем горе весьма достойно.
Как и предполагал Стивен, в начале того же дня мимо проезжал Капитан.
— Мэдден ушел? — спросил он, и Стивен кивнул. — Хорошо, — решительно качнул головой Капитан и отправился дальше.
В конце того дня Стивен не спеша возвращался в Эннис. Шагал он медленно, погрузившись в мысли. Последовательность всех этих событий, хотя и неизбежных, тревожила его. Уже спустились сумерки, когда он прошел мимо каких-то маленьких жалких хижин, потом миновал пустой отрезок дороги, прежде чем подошел к стене. И тогда из темноты возникла некая фигура.
Стивен замер в ошеломлении. Видение определенно было из ряда вон. Огромная фигура, намного выше его самого. На ней болталась белая одежда. Лицо измазано черным. Фигура преградила Стивену дорогу.
— Ты знаешь, что это значит? — спросило видение.
Конечно он знал. Каждый ирландец знал традиционное предостережение «Уайтбойс»: мужчина в женской одежде, с лицом, выкрашенным черной краской, появляется перед вами, и если вы игнорируете предостережение, то должны ожидать последствий.
— Будь повнимательнее, — произнесла фигура.
Потом фигура в белом балахоне развернулась и ушла прочь по дороге, свернув с нее рядом с каким-то коттеджем и растаяв в сумраке.
Стивен продолжил путь домой.
Следующий день миновал без происшествий. Стивен немного подумал о том, чтобы доложить о случившемся, но, памятуя разговор с Капитаном, решил этого не делать. Если люди в рабочей команде знали об угрозе, то не подали виду. Следующий день оказался таким же спокойным. Еще через день у Стивена был выходной. И к этому времени он уже решил, что делать. Стивену казалось, что у него есть две важные задачи.
Утром он, едва встав, наскоро умылся и поспешил к северной окраине города. Он без труда узнал, где находится нужный ему дом. Подойдя к двери, Стивен заглянул внутрь:
— Бог в помощь всем!
Это было традиционное приветствие.
Имонн Мэдден был весьма удивлен, увидев Стивена. Склонив голову, Имонн сидел на табурете перед очагом, где едва тлел торф. Рядом с ним стояла неприметная женщина, его дочь.
— Можно мне присесть? — спросил Стивен и опустился на стоявшую у очага скамью.
— Нам нечего предложить вам, сэр, — сказала женщина.
— Знаю.
Дверь оставалась открытой. Еще немного света проникало через единственное окошко. Стекла в нем не было, но проем был затянут традиционной тонкой овечьей шкурой, которая слегка пропускала свет и задерживала ветер. Однако и в этом слабом свете Стивен видел, что комната с земляным полом безупречно чиста. На одной стене висела дешевая литография Девы Марии, на другой — портрет Дэниела О’Коннелла. Стивен всмотрелся в женщину. Сколько ей могло быть лет? Видимо, двадцать пять — двадцать шесть, предположил он, но горести и голод заставили осунуться ее лицо. Однако, как и ее отец, она держалась со спокойным достоинством.
— Вы ведь знаете, кто я? — спросил Стивен, и она кивнула. — Могу я узнать ваше имя?
— Морин Мэдден, — ответила женщина.
— Могу я узнать, сколько человек в вашей семье? Я помню, у вас есть младший брат, я встретил вас как-то на рынке.
— Это малыш Дэниел, сэр. Еще есть сестры Мэри и Кейтлин. А еще одна сестра, Нуала, работает в городе, в одной семье.
— Могу я увидеть других детей?
Морин посмотрела на отца, но тот промолчал.
— Они отдыхают, сэр, в другой комнате. Они все спят вместе, так теплее.
— Они спят в такое время дня?
— На улице холодно. А у них совсем немного сил.
Она ушла в соседнюю комнату. Мэдден бросил взгляд на Стивена, но снова промолчал, и Стивен тоже ни слова не сказал большому мужчине.
Когда Морин вернулась, с ней были трое детей. Они выглядели бледными и худыми, но сильнее всего Стивена поразило то, что двигались они со странной медлительностью. А глаза у них были как будто слегка расфокусированы. Может, это из-за сна, но Стивен так не думал. Девочки смотрели на Стивена тупо, маленький мальчик — как будто с укоризной.
— Сколько раз в день вы их кормите?
— Раз в день, сэр. То есть кормили раз в день, пока отец работал.
— И чем?
— Да что смогу найти. Картошки ведь больше нет. Иногда удается найти немного кукурузной муки или какого-нибудь зерна. Иногда это репа или мелкий кресс-салат.
— И как вы проводите время с ними?
— Я им читаю. И учу их читать.
— Значит, вы умеете читать и писать.
— Да, сэр. И малыш Дэниел уже знает все буквы, верно, Дэниел? — (Мальчик кивнул.) — Он их пишет пальцем на столе. А я слежу и поправляю, если что-то он написал неправильно.
— Спасибо. Если детям хочется отдохнуть, пусть идут к себе в комнату. Я бы желал теперь поговорить с вашим отцом.
Когда они остались одни, Стивен обратился к Имонну:
— Значит, еду ты можешь покупать только на то, что заработаешь?
— Так.
— Понимаю. Твои дети исхудали.
— Джентльмен вроде вас, полагаю, просто понятия не имеет о положении людей вроде нас.
— Не совсем так. Моя семья гораздо больше похожа на твою, чем тебе кажется.
И Стивен вкратце рассказал Имонну о своих родных в Ратконане.
— An labhraionn tu gaeilge? — спросил Мэдден. — Говоришь ли ты на ирландском?
— Говорил в детстве. Немного. Но уже все забыл. В Ленстере на нем почти не говорят.
— А твоя семья… Они голодают?
— Нет.
В горах Уиклоу тоже были серьезные проблемы, но местные. И как ни недолюбливал Стивен семейство Бадж, те все-таки заботились о том, чтобы люди в Ратконане чувствовали себя нормально. Ниже, в Уэксфорде, где выращивались смешанные сельскохозяйственные культуры, проблем было еще меньше. И во всем огромном имении Маунт-Уолш арендаторам уж точно тревожиться было не о чем. В других частях страны дела обстояли по-разному, и самый тяжелый удар пришелся по западу.
— Теперь я должен задать один вопрос. Кто-нибудь знает, что ты надевал платье недавно ночью? — (Имонн безразлично посмотрел на него из-под тяжелых бровей и промолчал.) — Я знаю, что это был ты, — продолжил Стивен. — Морин знает? — (Имонн дал понять, что не знает.) — А кто-то еще?
— Никто.
— Я никому не сообщил. Не из страха. Но тебе скажу кое-что такое, что ты должен знать. Я почти ожидал чего-нибудь в этом роде. И у меня приказ в случае каких-либо угроз немедленно докладывать Капитану, а уж он будет разбираться дальше. Он готов уволить всю рабочую группу, в которой обнаружится виновный. Пятнадцать человек останутся без работы. Не сомневаюсь, он так и поступит.
— Это черт, а не человек.
— Нет, ты не прав. Он полон решимости быть справедливым. Он и с местными сквайрами обращается с такой же суровостью.
— Он выгнал еще одного с работы, так как у того есть корова. Сказал, раз есть корова, он может кормить семью, то есть семеро детей того человека должны выбирать между молоком и голодной смертью.
— Я как раз об этом. Он на самом деле не желает зла. Но он совершенно не представляет, в каких условиях живут ирландцы. Кстати, он говорит, что агент Каллан считает тебя опасным человеком.
— Это Каллан лишил меня земли. Я ничего ему не сделал, но он, похоже, боится, что сделаю. Кое-кому из агентов тут угрожали, но это не я.
Морин вернулась. Она посмотрела на Стивена, явно гадая, зачем, собственно, он явился. Мэддену повезло с дочерью, подумал Стивен. Невозможно было не восхищаться мягким спокойствием, с которым девушка поддерживала семью. В том была особая красота.
— Я не желаю, чтобы мне угрожали, мистер Мэдден, — твердо произнес Стивен. — Ты меня понял. Но ты можешь завтра утром вернуться на работу вместе со мной.
— А Капитан?
— Будем делать шаг за шагом. — Он вежливо склонил голову, прощаясь с Мэдденом, и ушел.
В тот же день он взялся за свою вторую задачу. Нужно было написать письмо. Это было довольно длинное письмо. В нем четко излагалось все то, что он видел, включая и поведение Капитана, о котором Стивен отзывался как о правильном служаке. Конец же письма был очень эмоциональным.
Я всегда верил в правильность свободного рынка и продолжаю верить. Но теперь мне ясно и то, что в экстремальных условиях рынок работает неудовлетворительно. А условия в графстве Клэр ныне именно экстремальные, и они становятся все хуже. Из-за высоких цен на продукты, там, где они вообще есть, и из-за нашего отказа субсидировать их даже те, кто имеет работу, страдают от недоедания, а те, у кого работы нет, скоро просто умрут.
Если мы не накормим этих людей, им не выжить.
Закончив письмо, Стивен отправил его и не лорду-наместнику, и не в Дублинский замок. Он отослал его тому единственному человеку, который, как ему казалось, способен что-то изменить. Он отослал его доброму Уильяму Маунтуолшу.
Близилось Рождество, и семья Мэддена имела все основания благодарить Стивена. По всему западу система помощи ломалась. В отдаленных уголках графств Клэр и Голуэй без еды остались целые приходы. Приходили сообщения об умиравших от голода деревнях. На той улице, где находился их дом, Морин знала трех старых женщин и двоих мужчин, которые уже умерли от голода и холода. Как-то раз, идя в город, она увидела перед одним из домиков лежавший прямо на улице замерзший труп. К середине декабря с десяток обнищавших просили милостыню на рынке. За неделю до Рождества их стало вдвое больше. Морин думала, что, если бы не те крошечные деньги, что приносил домой отец, она сама, скорее всего, уже оказалась бы в их числе. И потому частенько с благодарностью думала о мистере Смите. Она также узнала о нем кое-что новое.
В один из дней ее отец вернулся домой весьма задумчивым.
— Я встретился сегодня с мистером Чарльзом О’Коннеллом. Ты знала, что мистер Смит, до того как приехать сюда, был близким помощником самого Дэниела О’Коннелла, почти двадцать лет? Я и понятия не имел. Он ни словом не упомянул… — Имонн растерянно улыбнулся. — Когда я думаю о том, что я… — Он умолк.
— Что, отец?
— Не важно. Просто теперь я совсем иначе смотрю на этого человека, вот и все.
Морин немного помолчала.
— Он очень славный, — сказала она с некоторым чувством.
И не заметила удивленного взгляда, брошенного на нее отцом.
Но даже при отцовском заработке поставить на стол хоть какую-то еду было нелегко. На рынке почти ничего не продавали. Морин добывала немного кукурузной муки по дешевке, немного репы и соли.
— В работном доме дела обстоят не лучше, — сказал ей отец. — У них в этом году нет рождественского ужина. Даже совет попечителей не смог раздобыть продукты.
В канун Рождества пришла Нуала. Хотя бы она пока не голодала. Нуала рассказала Морин, что семья торговца теперь по большей части обходится тушеным мясом, и при этом едва заметно улыбалась.
— Я кое-что принесла, — сообщила она и из складок одежды извлекла маленькую плоскую фляжку. — Фляжку позаимствовала. Никто и не заметит.
— И что в ней?
— Бренди. — Нуала усмехнулась. — Для главы семьи. — Она снова хитро улыбнулась. — У меня и еще кое-что есть.
Снова порывшись в складках юбки, она выудила медленно, одну за другой, две картофелины, а потом и третью.
— Ох, Боже, Нуала, как же ты…
— Да это почти отходы, но мои хозяева и таким торгуют. Забавно, да? Самого плохого качества картошка, Морин, ты бы на нее раньше и не посмотрела, а теперь разве я не похожа на саму царицу Савскую, приносящую дары Соломону?
— Да, но…
— Конечно я их украла! Нашла в погребе. Уверена, никто и не знал, что они там лежат. Наверное, их просто уронили. Картофелины старые, но они не испортились. Ну, не совсем.
— Но, Нуала, если они узнают…
— Не узнают.
— Ты потеряешь работу!
— И что? — Нуала рассмеялась. — Тогда я буду продавать свое тело у здания суда.
— Даже говорить не смей такие вещи!
— Так ты приготовишь их?
— Ох, Боже, конечно приготовлю! Только отцу не говори, как ты их добыла. Скажи, что купила.
Близились сумерки, а отец почему-то не возвращался. Прошло еще несколько часов, а его все не было. Морин и Нуала начали не на шутку тревожиться.
— Как ты думаешь, мог он отправиться выпить? — спросила Нуала. — Я видела, как в городе мужчины по пути с работы тратят все заработанное на выпивку, и так каждый день.
— Отец? Никогда! — Морин покачала головой. — Ох, Господи, только бы с ним ничего не случилось, — прошептала она, чтобы ее не смогли услышать младшие.
Наконец Имонн пришел. Он что-то прятал под пальто. И только в комнате он распахнул полы пальто и выложил спрятанное на стол. Это был толстый кусок мяса.
Сестры изумленно уставились на него.
— Отец, но как, откуда… — Морин побледнела от страха.
— Морин, ты приготовишь это нам на Рождество, — с довольным видом произнес Имонн.
— Но откуда оно?
— Ну, когда я увидел его в первый раз, оно было на корове. Это примерно два часа назад.
— Ты убил какую-то корову?
— Не я один, нас было больше дюжины. Так что от нее теперь ничего не осталось. А что нельзя съесть, то закопали.
Таких случаев было множество. Банды мужчин выходили в поля после наступления темноты, убивали какую-нибудь корову и прямо на месте делили ее на части, а потом исчезали в ночи. Но Морин далеко не сразу осознала, что ее отец совершил преступление.
— Тебя же отправят в ссылку! — с неодобрением воскликнула она.
— Если поймают. — Имонн снял пальто. — Думаю, я немного отдохну. Что-то я слегка устал. — Он вздохнул и признался: — Как бы мне хотелось сейчас выпить!
Нуала улыбнулась:
— И выпьешь.
Но семье удалось хорошо поесть лишь в Рождество. Местные фермеры бдительно охраняли свой скот. На рынке стало еще меньше продуктов. Примерно в середине января Морин заметила, что у Кейтлин выпадают волосы. Потом, что было еще более странно, как бы в компенсацию потерь волоски начали расти на ее верхней губе, и девочка стала похожей на маленькую грустную обезьянку. Морин обнаружила, что еще несколько детей на их улице стали выглядеть так же. Значит, это как-то связано с недоеданием. Она тихо обсудила проблему с отцом — так, чтобы не слышали дети, как она думала. Однажды Морин заметила, как маленький Дэниел пытается отдать свои крохи еды сестре.
— Это чтобы волосы с ее лица вернулись на голову! — объяснил он.
Морин, охваченная чувствами, обняла мальчика и воскликнула:
— Милый ты мой малыш!
И после этого всякий раз проверяла, съел ли он свою долю.
Вскоре вроде бы подоспела помощь. Но правительство, как всегда, не могло проявить щедрость, не добавив к каждому доброму делу какое-нибудь оскорбление.
— Они собираются открыть суповые кухни, — сообщил Имонн.
— Значит, у нас будет еда?
— Может быть. — Похоже, перспектива не слишком радовала его. — Их организуют по Закону о бедных. Нищих будут кормить. — Он тяжело вздохнул. — Ни одного Мэддена никогда не называли нищим.
— Ты и не нищий, отец. У тебя есть работа.
— Но они собираются свернуть общественные работы. Мистер Смит обещал мне, что постарается их продлить, насколько сможет. И уже почти сейчас должны открыться две кухни в Эннисе, а от правительства кухни будут в феврале.
— Но мы должны кормить детей, как бы нас при этом ни называли, отец, — сказала Морин.
— Знаю.
Но открытие бесплатных кухонь должно было иметь еще одно последствие: Закон о бедных возлагал обеспечение такой благотворительности на местные общины и платить должны были горожане Энниса. А поскольку субсидии нарушили бы равновесие рынка, местные должны были платить за продукты для бесплатных кухонь по нынешним высоким ценам.
Как-то утром в начале февраля домой пришла Нуала.
— Я осталась без работы, — просто сообщила она.
— Ох, Нуала, они узнали, что ты стащила картошку на Рождество?
— Ничего подобного. Не в этом дело. Но им теперь приходится платить дополнительные деньги за новые бесплатные кухни. Вот они и сказали мне: «Мы можем позволить себе что-то одно: или тебя, или кухни для бедных».
— Ну, это твой дом, и мы рады, что ты вернулась, — твердо заявил ее отец.
Но когда он ушел, Морин обняла сестру:
— И что нам теперь делать, Нуала?
— Я что-нибудь найду, — пообещала Нуала.
Два дня спустя Имонн встретился с тем человеком, у которого арендовал клочок земли, и вернулся ни с чем.
— Он не может ничего мне дать, даже если я смогу платить, — объяснил он дочерям, — потому что все равно нет семян картофеля для посадки. Он сдал всю свою землю какому-то фермеру под зерно. — Имонн беспомощно развел руками. — Я спрашивал в разных местах вокруг города, и везде одно и то же. Болезнь или не болезнь, а картошки в этом году почти не будет, потому что сажать нечего.
В течение всего того месяца приходили понемногу разные новости из других мест. Если в Эннисе люди жили на грани полного голода, то в более отдаленных и изолированных районах дела шли намного хуже. И бесплатные кухни, если они добирались до таких мест, частенько опаздывали. Высоко, в диких районах Голуэя, Слайго и Майо сотни, тысячи человек уже умерли от голода. Первыми умирали младенцы и старики. У тех, кто сдавался и уходил в город, еще был какой-то шанс, а те, кто истратил все, что имел, или решил не покидать дом, постепенно слабели, пока не лишались сил окончательно. Священники и пасторы делали что могли, но еды-то и у них не было. И никто представления не имел, какое число людей уже погибло.
Вместе с новостями в Эннис текли и ручейки людей. Морин просто поверить в это не могла, но их до сих пор продолжали выгонять с земли.
— А ведь иногда тех, кто выселяет, и винить-то нельзя, — сказал девушке ее отец. — Некоторые арендаторы сами сдают часть земли в аренду, и если не получают плату, то и им точно так же нечем платить. Только сам лендлорд мог бы как-то облегчить положение, но кто знает, какие на нем самом висят долги? — Имонн вздохнул. — Это вроде гигантского колеса, Морин, оно катится по земле и вышибает из нас жизнь.
Два события слегка облегчили их жизнь. Нуала сумела найти кое-какую работу.
— Нужно просто помогать одной женщине, которая берет белье в стирку, но все-таки это дает возможность заработать несколько пенсов, и частенько, — сказала она. — Лучше, чем ничего.
И еще в Эннисе наконец открыли бесплатные кухни. Когда заработала первая из них, к ней в то утро пришли семьсот человек. Вскоре кухонь было уже несколько. Похоже, половина города выстраивалась к ним в очередь, и работавшие там люди просто не могли уследить за тем, кого они уже кормили, а кого нет. Это вполне устраивало Морин. Ей, вообще-то, не полагалось пользоваться бесплатной едой, так как ее отец все еще имел работу, но она брала с собой детей и вставала в очередь, и измученные работники кухни, не задавая вопросов, выдавали ей скупые порции.
— Мне не по себе, — говорила Морин Нуале, — я ведь не должна туда ходить, и я как будто отбираю еду у тех, кто ее вовсе не имеет. Но когда я смотрю на Кейтлин, на ее волосы, то понимаю, что должна это делать.
— Морин, просто корми детей, и все, — ответила ей Нуала. — Ты должна.
Отец, конечно, знал обо всем, но они никогда эту тему не затрагивали.
Те люди пришли к их отцу в конце месяца. Морин никого из них толком не знала, но лица были ей знакомы. Мелкие арендаторы из окрестностей, где они раньше жили. Мужчины столпились вокруг ее отца.
— Ты нам нужен, Имонн.
— Зачем?
— Дело в Каллане.
Ничего удивительного в том не было. Все эти фермы находились под управлением агента, и арендаторов выселяли. Каллан то ли сам решил, то ли получил приказ от лендлорда полностью очистить землю. А мужчины не собирались этого терпеть.
— Что-то нужно делать, Имонн. Мы подготовили предупреждение. А если оно не подействует… — Похоже, все мужчины были единодушны в своем мнении. — Необходимо свершить правосудие.
— Но почему вы пришли ко мне? Я там уже не живу.
— Мы подумали, вдруг ты тоже захочешь нанести удар. Ты ведь здесь, в Эннисе, не единственный, кого Каллан выгнал с земли. Есть и другие, кто готов к нам присоединиться. Но все посматривают на тебя, Имонн. Ты всегда был главным.
Морин видела, что ее отцу в какой-то мере польстили такие комплименты. Но, посмотрев на лица мужчин, она увидела, что это ловушка. И это было ясно как божий день. Люди хотели использовать ее отца, потому что он был более дерзким и решительным, чем они, и давно обладал авторитетом в своих краях. Они выставят его вперед, а потом, когда запахнет жареным, разбегутся — вот что хотелось девушке крикнуть. Конечно, она понимала, что не должна говорить этого вслух. Только не сейчас. Она разозлит мужчин и унизит отца, и тогда он, скорее всего, согласится на их предложение. Морин сдержала дыхание.
— Покажите предупреждение, — тихо сказал Имонн.
Это была убогая листовка. Наверху написано имя Каллана, а внизу нарисован гроб. Под ним не слишком грамотно начертали предупреждение бросить злые дела или принять судьбу других агентов. «Помни о них!» — было добавлено в конце, а дальше шла подпись «Капитан Звездный Свет». Так обычно подписывались подобные листовки в этой местности.
Минуту-другую Имонн рассматривал документ.
— Капитан Звездный Свет — это элегантно, — сухо заметил он. — Но я кое-что добавлю к этому, если у вас есть перо и чернила.
Мужчина, сочинивший послание, извлек из кармана пальто мешочек с письменными принадлежностями.
— Отлично, — кивнул Имонн, когда тот был готов записывать. — Тут как раз хватает места под подписью. Ты должен приписать слова мистера Драммонда. — И он медленно продиктовал:
СОБСТВЕННОСТЬ ДАЕТ ПРАВА. СОБСТВЕННОСТЬ ТАКЖЕ НАЛАГАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Когда это было тщательно записано, Имонн посмотрел на Морин и улыбнулся:
— Мне жаль, но я с вами не пойду, парни. Я не люблю Каллана, не сомневайтесь, но у меня и здесь дел хватает. А вам я желаю удачи. — И к огромному облегчению Морин, он выпроводил визитеров.
— Думаешь, они его убьют? — спросила она.
Имонн покачал головой:
— Нет, кишка тонка. — Он вздохнул. — Да и я бы не убил. Но я, по крайней мере, добавил немного достоинства к их предупреждению.
Как-то вечером в середине марта в их дом явился Стивен Смит. Выглядел он усталым. Морин подумала, что не стоило ему брать на себя такие хлопоты, но он, похоже, по какой-то причине чувствовал личную ответственность за судьбу ее отца.
— Мне очень жаль, — сказал он Имонну, — однако работы заканчиваются. Нас хотели остановить уже две недели назад, но я убедил их еще немного продолжить. Однако Капитан всего час назад заявил мне, что для нас больше не делают исключений. Несколько рабочих команд будут еще продолжать, пока не завершат свою часть работы, но на этом всё. По крайней мере, слава Богу, хоть кухни теперь работают, помогут людям не умереть.
— Ну, вы же знаете, что сделали все, что могли, — ответил Имонн, видя, что Смит очень уж расстроен.
— А вы чем будете заниматься, мистер Смит? — осмелилась спросить Морин. — Вы, наверное, уедете из Энниса?
Он повернулся к ней. И Морин подумала, что у него просто удивительные зеленые глаза.
— Я пока не знаю. Мне хочется остаться… если в том будет хоть какая-то польза. Не хотелось бы уезжать, пока все так неопределенно.
Они еще немного поговорили, и, пожелав семье лучших времен поскорее, Смит ушел.
Следующие дни были тяжелыми для их отца. Сначала он пытался найти работу, но все тщетно. Никакой работы ни для кого не было. На четвертый день он пошел в больницу навестить одного из тех мужчин, с которыми работал. На следующий день Имонн снова туда пошел, и на следующий… Но Морин понимала, зачем он туда ходит. На самом деле не для того, чтобы навестить больного.
Потом он в больницу не пошел. Морин, собираясь с детьми в Эннис, сказала:
— Там на кухне вчера просили и тебя прийти тоже. Они становятся все строже. Хотят видеть всю семью, поскольку не положено кормить те семьи, в которых кто-то работает.
— Завтра, Морин, — рассеянно ответил Имонн. — Скажи им, что я ищу работу.
Но Морин прекрасно понимала: отец туда не пойдет. Это было уж слишком стыдно: он, один из Мэдденов, встанет в очередь за едой, то есть официально объявит себя нищим, стоящим ниже закона. Морин знала: пока отец может такого избежать, он туда не явится. Походы в больницу, бессмысленные поиски работы — все, что угодно, чем пережить это последнее унижение. И тот очевидный любой женщине факт, что теперь все находились в таком же положении, а потому это уже просто не имело значения, Имонна ничуть не удовлетворял.
Морин промолчала и пошла в город.
А день этот оказался в особенности тяжелым. Суповая кухня располагалась на Милл-стрит, рядом с лабиринтом бедных проездов и переулков, что уходили вниз, к речному берегу. Кухни продолжали называть суповыми, но теперь это выглядело странно, поскольку там никаких супов не готовили. В настоящее время в них выдавали только дешевую кукурузную муку, доставленную морем из Лимерика.
За двумя большими столами на козлах, огражденных барьерами, стояли два огромных чана, в которых и лежала крупа. А сколько получал каждый, зависело от того, сколько имелось запасов на этот день. Обычно давали около фунта кукурузной муки, но иногда каждому едва доставалось по три унции. То есть нельзя было сказать, что людей действительно кормили; скорее им не давали умереть с голоду.
Однако в этот день все было иначе. Прежде всего из Дублина явился наблюдатель с приказом следить, чтобы еда была приготовлена на месте. Морин только того и хотела, чтобы получить немного муки и дома уже приготовить ее для детей. Но ей сказали, что муки она не получит.
— Никакой сырой еды! — выкрикивал наблюдатель, а потом добавил так, чтобы все слышали: — Если дать этим людям просто муку, половина из них тут же ее продаст, а на полученные деньги напьется.
Морин не могла бы назвать ни одного знакомого ей человека, который бы так поступил. Но контролер был неумолим. А это значило, что всем придется ждать, пока не сварится вся крупа.
— А когда она вареная, то крошится так, что ее не донести до дому, не растеряв часть по дороге, — заметила женщина, стоявшая перед Морин.
В очереди стояли самые разные люди. Наверно, здесь были и нищие, признанные таковыми по закону, но Морин видела и нескольких мелких торговцев из города, которые теперь нуждались почти так же, как и она сама, ведь торговля совсем заглохла.
А дублинского чиновника очень беспокоило то, чтобы никто зря не получил столь щедрых даров.
— Только те, кто есть в моем списке! — сообщил он. — Те, кто в списке, могут подойти и получить билетик. Когда вы получите билет, то должны ждать своей очереди. Все должно быть честно, — сообщил он кому-то попутно. — За этими людьми глаз да глаз нужен.
Чиновник начал вызывать людей по списку. Дойдя до Морин, он резко спросил:
— А где твой отец? Здесь написано, что у тебя есть отец. Он работает?
— Нет, сэр, — ответила Морин.
— Завтра хочу видеть всех вас. Отец, три сестры, брат. Всех, имей в виду, иначе ничего не получите.
Из-за нового порядка Морин провела там пять часов, пока наконец не получила небольшую порцию вареной кукурузной муки, которой вряд ли можно было накормить их всех. Она уже собралась уходить, когда вдруг заметила Нуалу.
Сестра стояла в переулке, прислонившись к какой-то двери. Морин предположила, что, должно быть, именно там живет прачка и Нуала вышла отдохнуть. Она решила спросить, когда сестра вернется домой, и уже шагнула в ее сторону. Но тут увидела какого-то мужчину, шедшего по переулку с противоположной стороны. Это был обычный небогатый торговец. Он остановился около Нуалы, они о чем-то поговорили. А потом оба исчезли за дверью. И тут Морин поняла… и была так потрясена, что как последняя дура уронила еду, и та рассыпалась по земле. Пришлось потом собирать и принести домой грязную кашу…
Отец, увидев это, сердито посмотрел на Морин и заметил:
— Сегодня твоим брату и сестрам придется есть кашу с землей, Морин. Просто понять не могу, как ты умудрилась…
Морин сказала, что ей очень жаль.
Тем же вечером, оставшись наедине с Нуалой, Морин сообщила ей о том, что видела. Однако сестра лишь пожала плечами:
— Я не хотела, чтобы ты знала, Морин, но работы нигде нет, а я достаточно молода. По крайней мере, хоть что-то могу получить.
— Вот именно, ты так молода! Уж лучше бы я туда пошла, чем ты, Нуала!
— Не думаю, Морин. Я пользуюсь успехом. Представь, я уже накопила пять шиллингов. — Она криво улыбнулась. — Если настанут времена получше и я смогу найти богатого человека…
— Даже не говори такого! Ты должна прекратить, Нуала!
— Прекратить? — Нуала почти гневно уставилась на старшую сестру. — Не будь дурочкой, Морин! Отец ничего не зарабатывает, и как ты думаешь, сможем мы в следующий раз заплатить аренду? — Она смягчилась и поцеловала Морин. — Все мы делаем что можем, сестренка. Ты смотришь за домом, а я продаю свое тело. Какая разница?
— Только отцу не проболтайся! Его это убьет!
На следующее утро вся семья, включая отца и Нуалу, отправилась к суповой кухне. Имонн держался очень тихо. Он шел прямо, как всегда, но Морин видела, что его взгляд устремлен вниз, что отец ни с кем не хочет встречаться глазами. Она знала, внутренне его коробит при каждом шаге. Когда они дошли до места, их имена проверили по списку, но чиновник грубо заявил, что им придется ждать часа четыре, прежде чем они получат свои порции. И Морин понимала, что с каждой минутой ее отец в душе делает новый шаг вниз по лестнице унижения. И каждую минуту она молча молилась о том, чтобы не появился кто-нибудь из тех, кто знал ее сестру, и не сказал бы что-нибудь такое, что выдало бы род ее занятий…
При всех ее страхах за сестру Морин невольно радовалась, когда Нуала начала приносить домой еду: буханку хлеба, кусочек окорока, капусту. Сестры врали отцу, будто сумели купить все это на рынке в городе, но Нуала призналась Морин:
— Я понравилась одному торговцу. Он знает, что мне нужно, и потому платит едой для семьи.
Возразить Морин было нечего, ведь эта еда была настоящим благом. Дети в ней нуждались. Даже Кейтлин стала выглядеть немножко лучше.
Но быстрее всех, похоже, стал оправляться маленький Дэниел. Дети в шестилетнем возрасте часто бывают хрупкими, но Морин думала, что, слава Богу, единственный оставшийся сын ее отца был довольно крепким парнишкой. И он как будто обладал особой способностью восстанавливать силы. Еще недавно его голубые глаза выглядели такими огромными и грустными на осунувшемся личике, что Морин втайне содрогалась за него, но теперь, после нескольких дней питания получше, он уже нарастил мышцы и накопил энергии. Когда они вместе отправлялись в город, Дэниел уже не держался за руку сестры, едва переставляя ноги, а шел впереди.
Еще одно небольшое облегчение произошло как-то утром. Морин с Дэниелом пришли к суповой кухне и узнали, что там кое-что изменилось: вместо ежедневного талона им стали выдавать талон на месяц. Теперь очередь продвигалась гораздо быстрее, а еще им сказали, что кукурузную муку будут выдавать сырой и им не придется ждать, пока она сварится.
— Тут у нас новый наблюдающий, — объяснила Морин одна из женщин.
Но кто это был, Морин не знала, пока вдруг малыш Дэниел не бросился бегом к мешкам с крупой, — оказалось, что осматривал эти мешки Стивен Смит.
— Это же мистер Смит! — закричал мальчик. — Мистер Смит — наш друг! — сообщил он зрителям.
Морин поспешила подойти и извиниться за поведение малыша, но Стивен Смит, похоже, ничего не имел против. И подтвердил, что его попросили присмотреть за кухнями в Эннисе, а другого чиновника куда-то убрали. Смит глянул на мальчика:
— Напомни, как тебя зовут?
— Дэниел, сэр.
— Ах да! Прекрасное имя.
— Меня так назвали в честь мистера Дэниела О’Коннелла.
— Я хорошо знаю мистера О’Коннелла.
— А он знает, что меня назвали в его честь?
Стивен колебался всего долю секунды, но тут же, улыбнувшись Морин, ответил:
— Наверняка знает. И ему это очень приятно.
Малыш Дэниел раздулся от гордости. Морин мысленно благословила Смита за его доброту, а когда подошла ее очередь получать еду, то раздававшие порции люди, видевшие, что эта семья пользуется благосклонностью нового контролера, постарались дать ей немножко больше обычного.
Во второй день апреля Имонн Мэдден почувствовал себя плохо.
— Что-то у меня сегодня совсем сил нет, — сказал он утром.
Имонн выглядел явно озадаченным. На него это было не похоже. Обычно он не обращал внимания на мелкие недомогания, как король не обращает внимания на жалобы черни.
Морин, как обычно, пошла в Эннис, взяв с собой малыша Дэниела.
К концу дня она заметила, что отца бьет озноб, и он признался, что у него болит голова. Пощупав его лоб, Морин поняла, что у отца лихорадка. Ей удалось сварить немного бульона, и она напоила им отца. На следующее утро ничего не изменилось. К вечеру Имонн весь горел.
— Ты лучше не подпускай ко мне детишек, — сказал он дочери и настоял на том, чтобы уйти в дальнюю комнату, где раньше хранили картофель. Морин приготовила ему постель из соломы и одеял. — Здесь мне будет хорошо.
Морин поговорила с Нуалой. Доктора в Эннисе были слишком заняты в больницах, но Нуала нашла священника, с которым можно было поговорить, и он дал ей мудрый совет:
— Что бы ни случилось, не отвозите его в инфекционную больницу. Хотя у него, скорее всего, что-то такое. Не подпускайте к нему детей и молитесь. Я каждый день вижу все больше горячечных, и дело ухудшается. Люди так ослабели от недостатка еды, что у них нет сил бороться с болезнью. Сейчас вокруг гуляют две заразы — желтая и черная, так их называют. Черная — это сыпной тиф, ужасная вещь. Но большинство больных выживает. Твой отец сильный человек? Это хорошо. Молитесь за него. Если повезет, через неделю лихорадка отступит.
Но она не отступила. На пятый день, кормя отца, Морин при свете свечи заметила, что кожа на груди Имонна как будто покрылась пятнами. А когда отец повернулся, пола его рубашки распахнулась и Морин увидела на боку темно-красные прыщи. Она не знала, заметил ли их сам отец, и потому промолчала. На следующий день пятна на коже стали темнее. И когда дети хотели зайти к отцу, Морин им не позволила. И продолжала кормить его бульоном.
На следующий вечер Нуала принесла домой немного молока.
— Это полезно при лихорадке, — объяснила она. — Я сказала своему торговцу, что это для сестренок, чтобы они окрепли.
— А он знает о болезни отца?
— Ты с ума сошла? Он бы ко мне не прикоснулся, если бы узнал! А тогда… — Нуала скривилась. — Тогда никакой еды.
Два дня спустя пятна на коже отца стали почти черными. Вечером Имонн начал бредить, говорить что-то несвязное. Глаза у него были открыты, но Морин знала, он ее не видит. Но к полудню следующего дня его ум прояснился.
— Приведи Дэниела. — (Морин покачала головой.) — К двери. На минутку.
Морин с неохотой выполнила просьбу отца. Имонн с трудом сел, опираясь спиной о стену.
— Дэниел, твой отец болен. Может, мы больше и не увидимся. Ты понимаешь? — (Мальчик во все глаза всматривался в полумрак комнаты, но не знал, что сказать.) — Ты должен заботиться о сестре и стараться всегда помогать ей, — продолжил Имонн. — Сделаешь это для меня? — (Дэниел кивнул.) — А однажды, когда ты вырастешь, станешь сильным и никогда не будешь болеть, ты станешь главой семьи и будешь отвечать за Морин и других сестер. Обещаешь мне это?
— Да, — прошептал мальчик.
— Хорошо. Ты славный мальчик, Дэниел, и я тобой очень горжусь. — Имонн посмотрел на Морин. — Ну, это все.
В это мгновение Дэниел попытался броситься к отцу, но Морин успела вовремя его поймать и остановить.
Когда они вернулись в другую комнату, Дэниел повернулся к сестре:
— Я буду заботиться о тебе, Морин. Обещаю. Всегда.
— Я знаю, что будешь, — сказала она и поцеловала брата.
А потом вернулась к отцу. Он как будто вдруг очень сильно устал.
— Я поговорю и с девочками вечером, когда Нуала вернется.
Но к вечеру он снова впал в беспамятство.
Это продолжалось еще день. Потом Имонн как будто оцепенел. Его глаза были широко открыты, дыхание стало поверхностным. Морин не знала, что делать. Нуала привела священника, и тот, проведя последние обряды, сказал девушкам:
— Вряд ли это еще долго протянется.
Зайдя к отцу на следующее утро, Морин увидела, что тот скончался.
В июне 1847 года случилось нечто прекрасное.
Ирландскому голоду пришел конец.
Конечно, огромная часть ирландского народа была близка к голодной смерти. Множество ослабевших людей умирали от эпидемии. На полях было посажено так мало картофеля, что, даже если бы он не заболел, его все равно не хватило бы для того, чтобы накормить бедолаг, надеявшихся на него. Все больше и больше мелких арендаторов и обитателей коттеджей были вынуждены покидать свои дома в отчаянной нищете. Ирландия, так сказать, была повергнута и лежала ниц.
Но голод закончился. И как же свершилось это чудо? Да так, что проще и не придумать. Был издан закон, объявлявший голод несуществующим. Так должно было быть. Виги готовились к большим выборам.
А британская публика была по горло сыта этим Ирландским голодом. В конце концов, все делали что могли. Когда той весной был создан благотворительный фонд для помощи Ирландии и Шотландии, сама королева Виктория пожертвовала две тысячи фунтов, и в целом фонд собрал почти полмиллиона фунтов стерлингов — огромную сумму, намного превосходившую стоимость товаров, доставляемых через Атлантику сотней с лишним кораблей, которые отправляли из Америки ирландцы и те, кто им сочувствовал. Само правительство уже потратило миллионы. Более того, к началу лета суповые кухни частенько могли уже выдавать людям питательную смесь из кукурузы, риса и овса, и всего этого было в достатке. С нехваткой продовольствия справились.
Но высокой ценой. Такая трата денег налогоплательщиков не могла продолжаться вечно. И рассудительные британцы уже начали полагать, что ирландцам пора начать наводить порядок в своем доме. Раздавалось немало речей, что правительство зря тратит время и деньги. В газетах появлялись статьи о неуместной жалости: не следует, говорилось в этих статьях, так уж хлопотать об ирландцах, ведь можно лишить их уверенности в своих силах.
Оказавшись перед лицом такого всеобщего мнения, правительство решило сделать то, что всегда в таких случаях делают правительства: «Если не можешь выиграть войну, то просто объяви о победе».
В конце концов, в этом году картофель вроде бы не собирался болеть, а урожай зерна в Ирландии обещал быть хорошим. А тот факт, что бедняки в Ирландии не имели денег, чтобы купить хоть сколько-нибудь этого зерна, был мелочью, на которую не стоило обращать внимания. Свободный рынок сам позаботится о таких вещах.
И вот такую прекрасную схему и решили реализовать. В июне того года в британский парламент был подан закон, по которому следовало полностью реорганизовать благотворительную помощь Ирландии. Новый Акт об улучшении Закона о бедности был блестящим инструментом. С этого момента все, кто нуждался в помощи, могли обращаться в местный работный дом, где их могли либо накормить, либо заставить трудиться. Здоровых физически, конечно, никто кормить просто так не собирался. В работном доме всегда хватало надзирателей, так что злоупотребления были невозможны. Мужчины могли, например, разбивать в щебень камни для дорожных работ по десять часов в день, чтобы заработать еду. И все расходы по содержанию работных домов теперь падали на местные ирландские власти. В общем, закон требовал, чтобы все было организовано как можно быстрее, скажем, к концу текущего лета, и тогда суповые кухни предстояло закрыть. Несчастные английские налогоплательщики наконец-то вздохнули бы с облегчением.
В общем, таким образом с Ирландским голодом было покончено. Поскольку официально он более не признавался, то и не существовал. А если и существовал, то это было местной ирландской проблемой.
А британское правительство могло теперь с уверенностью смотреть в глаза избирателям, исполнив свой долг.
Стивен Смит был весьма удивлен, когда как-то в июне вдруг увидел мистера Сэмюэля Тайди, стоявшего на улице и задумчиво наблюдавшего за суповой кухней. И сразу подошел к нему.
Квакер, в свою очередь, был удивлен ничуть не меньше при виде Смита. Он внимательно выслушал рассказ Стивена о том, как тот очутился здесь, а потом сообщил, что приехал в Эннис, чтобы посмотреть, чем тут могли бы помочь квакеры.
Поскольку Стивен тем вечером собирался быть у Чарльза О’Коннелла, он предложил и квакеру прийти туда, поскольку Чарльз наверняка был бы рад с ним встретиться.
В последнее время они с кузеном Дэниела О’Коннелла виделись часто. Но Стивен, хотя и знал, что великий человек болен, был потрясен, узнав в мае, что Освободитель умер, пытаясь совершить паломничество в Рим. Смит, естественно, сразу навестил Чарльза О’Коннелла, и с тех пор они нередко ужинали вместе. Чарльз пытался убедить Смита вернуться в политику, но Стивен не был уверен, что ему этого хочется.
Трое мужчин тихо ужинали вместе. О’Коннелл извинился за скромный стол, но еда, хотя и не обильная, была тем не менее отличной.
— Вообще-то, следует сказать, — заметил Чарльз О’Коннелл, — что у богатых торговцев и местных сквайров жизнь почти не изменилась. Сквайры все так же развлекаются и принимают гостей в своих домах — ну, по-тихому, конечно, — но в любом из деревенских домов в окрестностях вы все так же можете поужинать и сыграть в вист. И как ни страшно такое говорить, но этот голод для многих имений в графстве стал благословением, так как дал лендлордам и крупным фермерам повод избавиться от множества нежеланных арендаторов. Один человек говорил мне: «Я убедил некоторых своих людей эмигрировать в Америку. Мне проще заплатить за их переезд и вернуть себе землю». Так что, мистер Тайди, хоть для ирландцев, хоть для англичан все в принципе одинаково: у богатых свой интерес в деле, а у бедных, которым приходится страдать, — свой. Можно сказать, проблема сама по себе никогда не стояла на первом месте.
— Согласен, — кивнул квакер.
— Но от нее никуда не деться. Однако есть и такие, кто твердит: мы не сможем одолеть трудности, пока не пройдем сначала через ужасный период реорганизации.
— А под ним, — с чувством добавил Стивен, — они подразумевают смерть от голода. Поскольку сейчас британское правительство предлагает именно это.
— Думаете, Британия сознательно старается уничтожить ирландскую бедноту? — спросил квакер.
— Не совсем так. Но я считаю, что все предлагаемые ими меры основаны на неправильных представлениях. Совсем недавно я помогал организовывать общественные работы. Мужчинам платили гроши за бессмысленный труд, чтобы они могли купить еду, которой здесь просто не было. И это дорого стоило правительству, куда дороже, чем если бы оно просто накормило людей. Вся эта система развалилась, и они придумали суповые кухни. Кстати, до некоторых отдаленных районов Клэра эти кухни добирались так долго, что там успели вымереть целые деревни. В настоящее время голодная смерть слегка отодвинулась. Но через два месяца кухни закроются, их место попытаются занять работные дома.
— Как раз это и беспокоит меня сильнее всего, — сказал Тайди.
— И должно беспокоить. Вы знаете, сколько людей сейчас кормят кухни в графстве Клэр? Около ста тысяч. А сколько мест в работных домах по всему графству? Триста. И что будет с оставшимися девяносто семью процентами? Никто не может объяснить. Здесь, в Эннисе, — с горечью продолжил Стивен, — я могу кормить тридцать пять тысяч человек — и, кстати, многие из них вполне крепкие. Работные дома, конечно, расширяются. Они смогут вскоре принять более тысячи. — Он в отчаянии всплеснул руками.
Квакер наблюдал за ним с веселым удивлением.
— Вижу, вы сильно изменились со времени нашей первой встречи, мистер Смит, — заметил он. — Тогда вы были настоящим политиком.
— А квакеры могут помочь? — спросил Стивен. — Уверен, суповые кухни первыми предложили как раз они.
— Мы можем помочь, — ответил Тайди. — Но мы осторожны. Знаете, всегда есть опасение, что нас могут заподозрить в том, будто мы пытаемся обратить чужую паству в свою веру. Но уверяю вас, мы никогда такого себе не позволяем.
— Ох! — выдохнул Чарльз О’Коннелл, — Это вы о «суповом обращении»?
Стивену приходилось о таком слышать: протестантские церковники или пасторы предлагали умирающим пищу, если те оставят католическую веру.
— Не могу сказать, что сам где-то наблюдал подобное, — заявил Стивен. — Неужели действительно это бывало?
— Редко, — ответил квакер. — Но я видел.
— И что вы можете сделать? — хотел знать Стивен.
— Мы, наверное, попытаемся работать с местными приходами. Пошлем им разное: продукты, одежду и так далее — и пусть они сами распределяют все, как сочтут нужным. У нас есть склады в Лимерике. Оттуда можно доставлять все судами.
— Молю Бога, чтобы вы это сделали, — сказал ему Стивен. — К осени проблема разрастется просто чудовищно.
Они обсудили разные способы, какими квакеры могли предлагать помощь и как этой помощи добраться до других частей графства. Но что бы ни сделали квакеры, все равно проблему в целом решить они не могли.
Еще какое-то время они говорили об этом, а потом, зная об интересе хозяина дома к предстоящим выборам, Тайди спросил О’Коннелла, что он думает о них.
— Это наверняка будет весьма шумная история, — ответил Чарльз. — Сначала пройдут местные выборы, и, скорее всего, с предсказуемым результатом. О’Горман Махон выдвинул свою кандидатуру. В двадцать восьмом он действовал как представитель моего кузена, и местные ремесленники его любят. Он, правда, совсем уже спятил. Бог знает, что он будет делать в Лондоне. Но его соперник буквально раздавлен и готов снять свою кандидатуру. Потом будут выборы графства. Одно из мест вроде определилось, а вот второе… Это будет интересно. Потому что у нас в качестве соперника появляется не кто иной, как сэр Луций О’Брайен. — Чарльз усмехнулся. — А я выступаю как его представитель.
Сэр Луций О’Брайен определенно был необычным кандидатом. Он представлял самый важный из всех древних кланов, был прямым потомком самого короля Бриана Бору и владельцем огромного имения и замка Дромоленд, неподалеку от Лимерика. Сэр Луций был одним из величайших древних принцев Ирландии, оставшихся на западе. Но тут была одна проблема.
Он состоял в партии тори. В отличие от своего младшего брата, который поддерживал «Молодую Ирландию», он решил, что союз с Англией принесет ему больше пользы, чем что-либо другое. И потому поддерживал Англию.
— Признаю, его убеждения создают препятствия, — сказал Чарльз О’Коннелл. — Они противоречат всему тому, за что боролся мой кузен Дэниел, и тому, чего хочет местный электорат, а они хотят расторжения унии между Британией и Ирландией; не сомневайтесь, им не нужен сторонник такого союза. Но тем не менее я уверен в успехе.
— И как же это? — спросил Стивен.
— Он очень учтивый и общительный человек, — пояснил О’Коннелл, — но он никогда не подчеркивает свои убеждения публично. В нем, если хотите, всегда есть некая двусмысленность. И как раз эта двусмысленность и может нам помочь. Мистер Нокс, видите ли, несмотря на то что всегда выступает против властей и за народ, сомневается в идее разрыва союза. И «Клэр джорнал» будет поддерживать моего человека, поскольку Нокс считает его тори, — и так уж случилось, что он угадал. Я также убедил местное Общество трезвости, что сэр Луций полностью на их стороне. Уж и не помню, что я там наплел. Католическое духовенство в основном против него, и их одурачить будет трудновато. Но мы подготовили несколько речей, которые создадут впечатление, что сэр Луций куда более склонен к разрыву с Британией, чем можно было бы подумать. А поскольку всем известно, что его брат страстно жаждет такого развода, то я надеюсь вселить в умы избирателей идею, будто сэр Луций, возможно, куда ближе с братом, чем люди думают. Если повезет, они поверят, что нет никаких причин голосовать против него. А то и еще лучше, поверят, если им захочется, что он готов добиваться разрыва.
— Но почему им может захотеться верить в это? — спросил квакер.
— Сэр Луций О’Брайен — очень богатый человек. И денег вокруг тратится масса. Он ведь знает, чего от него ждут.
— То есть он им просто заплатит за голоса?
— Не знаю, как в вашем приходе, мистер Тайди, — добродушно начал Чарльз О’Коннелл, — но если вам нужен чей-то голос в Эннисе, от вас ждут, что вы за это заплатите. Точно так же, как в Англии. И в Америке тоже, насколько я знаю, — добавил он.
— Мне грустно это слышать, — сказал квакер.
— Но вы должны также учесть и то, как подействовал голод, — напомнил О’Коннелл. — Вся наша торговля чудовищно пострадала. И вряд ли можно винить людей за то, что они не упускают шанса получить хоть немного денег. Сейчас я веду переговоры с торговой гильдией.
Тайди остался в этих местах на два дня. Они со Стивеном еще раз поговорили и сошлись на том, что им следует связаться после выборов, чтобы решить, что можно сделать для бедняков в Эннисе.
Дни Стивена проходили довольно однообразно, но он ничего не имел против. Рутина суповых кухонь стала уже привычной; даже не думая об этом, Стивен замечал, кто из очереди заболел или исчез. В течение этих летних месяцев лихорадка, дизентерия и прочие напасти собирали свою дань, в особенности среди детей. Стивен знал, сколько людей умирает в больницах, и имел некоторое представление о потерях в городе, но кто мог знать, сколько людей погибало в отдаленных районах? Единственным утешением служило одно: если бы не кухни, смертность была бы неизмеримо выше.
В апреле Стивен с грустью узнал о смерти Имонна Мэддена. Два месяца спустя он увидел Морин, и она выглядела очень подавленной. Он уже понимал, что лучше не принимать слишком близко к сердцу то, что происходило возле кухонь. От этого все становилось слишком трудным. Но тут он не выдержал, подошел к Морин и спросил, что случилось.
— Обе мои сестры умерли на прошлой неделе, сэр. И Мэри, и Кейтлин, — ответила она. — От кровавого поноса. — Она вздохнула. — Я знала, что так будет.
— Так ты осталась одна с братом?
— Да, слава Богу, у меня есть Дэниел. И сестра Нуала.
— Она работает?
— Ну, ей иногда дают временную работу в прачечной, вот и все.
Стивен видел Морин каждый день, частенько вместе с братом, который держался за ее руку; и хотя они этого не знали, для него брат с сестрой стали чем-то вроде маленького символа надежды — надежды на то, что при всех горестях добро все-таки выживает, а его работа того стоит.
Выборы, когда они начались, стали именно тем, что обещал Чарльз О’Коннелл. Стивена это изумляло, однако, несмотря на длинные очереди у суповых кухонь и ежедневные смерти вокруг, в городе воцарилась почти праздничная атмосфера. Полные телеги шумных мужчин, выкрикивавших имена своих кандидатов, катили по улицам, не обращая никакого внимания на несчастных прохожих. Впрочем, те явно наслаждались развлечением. Пивные были битком набиты народом, так как сэр Луций всем без разбора предлагал бесплатную выпивку.
Сэр Луций был весьма популярным кандидатом. Чарльз О’Коннелл проделал блестящую работу, но ведь ему было с чем работать. Сэр Луций не только доказал, что может вписаться в любую компанию, но, к его чести, предоставил своим арендаторам всю возможную помощь во время Великого голода. Никто в обширном имении Дромоленд не голодал, и все об этом знали. Люди в Эннисе привязывали к лошадям зеленые ветки в честь сэра Луция.
И его речь, надо сказать, была настоящим произведением искусства.
— Разве я не родился в Ирландии?! — восклицал аристократ. — Разве не здесь родились мои предки?! Разве они не сражались за то, чтобы Ирландия стала единым королевством и была свободной?!
Они действительно сражались. Они боролись. И стоило только посмотреть на сэра Луция, чтобы это понять. Разве он не был потомком величайшего патриота всех времен, того, кто восемь веков назад прогнал викингов? Бриан сын Кеннетига, Бриан Бору.
— Мои корни — в ирландской земле! Моя кровь — ирландская кровь! Что еще может меня интересовать, кроме Ирландии? Какую еще землю я мог бы полюбить, кроме Ирландии? За какую землю я мог бы отдать свою жизнь, если не за ирландскую? Пошлите меня в парламент — и я буду говорить от имени Ирландии!
С чисто профессиональным одобрением Стивен отметил, что сэр Луций на самом деле ни разу не сказал, что стоит за отделение Ирландии. Но это само собой приходило на ум.
Что до самого процесса выборов, полагал Стивен, так выборы были в прошлом и будут в будущем. Гильдии торговцев заплатили за голоса две с половиной сотни фунтов, хотя они запрашивали на сотню больше. Единичным избирателям платили по-разному: один шустрый парень потребовал даже пятьдесят фунтов! Чарльз О’Коннелл, как агент, получил сто восемнадцать фунтов.
— Хотя, — заявил он, — мне следовало бы дать больше.
Как бы мне хотелось, думал Стивен, чтобы мои бедняки из очередей у кухонь имели голоса, которые можно продать. Однако некоторые городские бедняки все же сумели немножко заработать: их нанимали для того, чтобы похитить некоторых оппозиционеров и держать их взаперти, пока не закроются кабинки для голосования. Один-два таких похищенных слегка пострадали физически, но лишь по ошибке.
А когда все закончилось, сэр Луций О’Брайен был торжественно провозглашен одним из двух членов парламента от графства Клэр и отправился в Лондон, хотя Стивен сильно сомневался в том, чтобы кто-нибудь из голосовавших за него добрых людей слышал от него хоть слово о выходе Ирландии из союза с Британией.
— Стивен, разве тебе не хочется снова вернуться в политику? — спросил его Чарльз О’Коннелл. — Неужели мы тебя не убедили?
— Вообще-то, нет, — ответил Стивен.
Нет, в последовавшие затем недели он думал о куда более насущных задачах, то есть старался добиться того, чтобы благотворительные кухни не закрывались как можно дольше.
Во время сбора урожая на полях больших ферм появлялась разная временная работа, но многие мелкие арендаторы, которые в другие годы могли бы нанять нескольких человек, были слишком стеснены в средствах и старались обойтись силами своих семей. Урожай выдался хороший. Но какой прок от этого беднякам, которые просто не могли покупать еду? Для них, был уверен Стивен, смотреть на телеги с зерном — все равно что стоять на берегу реки, умирая от жажды, и слышать, что пить ты не должен. И наверное, никого бы не удивило, если бы вскоре такие телеги начали грабить.
Стивен добился того, что суповые кухни действовали до начала сентября. Потом они закрылись. Чарльз О’Коннелл спросил Стивена, не хочет ли он занять новую должность чиновника по вопросам благотворительной помощи, то есть заняться новым устройством работных домов.
— К тому же предлагается вполне приличное жалованье, — добавил О’Коннелл.
Но Стивен уже получил письмо от Тайди. Тот спрашивал, не хочет ли Смит приехать в Лимерик, чтобы помочь там в распределении продуктов.
— Думаю, — сказал Стивен О’Коннеллу, — в Лимерике я сейчас принесу больше пользы, чем в Клэре.
Кроме того, он слишком засиделся в Эннисе. И начинал уставать от самого себя. Нужно сменить обстановку.
Перед отъездом он зашел повидать детей Мэддена. Нуалы в тот момент дома не было, и он нашел там лишь Морин и мальчика.
— Просто удивительно, как вы заботитесь о своем брате, — сказал он девушке.
Но та лишь улыбнулась:
— Нет, сэр, это Дэниел заботится обо мне.
И малыш раздулся от гордости, явно искренне веря, что это действительно так.
Стивен, хотя никак не показал этого, понадеялся, что они сумеют пережить зиму, которая, как он боялся, станет очень тяжелой.
А в том, что сказала Стивену Морин, была немалая доля правды. Поскольку малыш Дэниел уже не раз воровал капусту. Фермы хорошо охранялись, конечно, но…
— Но я же маленький, они меня не замечают! — с гордостью говорил он сестре.
Чтобы один из Мэдденов гордился тем, что ворует?.. Что должно было случиться с ее маленьким мальчиком, чтобы он научился таким вещам? А с другой стороны, как еще он мог помочь сестре?
И кто знает, что еще могло родиться в уме ребенка в этом новом и ужасном мире, где им теперь приходилось жить?
Когда Мэри и Кейтлин заболели, через день друг за другом, Морин знала: им не выжить. Почему она это знала, ей и самой было неведомо. Может быть, она просто видела слишком много детей, умиравших вот так, ведь дизентерия распространилась очень широко, а детские организмы слишком слабы, чтобы сопротивляться болезни. Морин делала что могла, молилась за Дэниела и крепилась. И действительно, она не так сильно страдала от смерти сестер, как следовало бы, потому что внутри ее что-то замкнулось и отказывалось воспринимать новую боль. А Дэниел вел себя очень тихо и как-то раз спросил, глядя на Морин большими глазами:
— Мэри и Кейтлин умрут?
Ответить Морин могла только одно:
— Все в руках Божьих.
Когда сестры умерли, Дэниел день-другой просто молчал, но потом с задумчивым видом спросил:
— Они ушли к Богу?
— Да. Да, милый. И к нашим папе и маме. Они теперь все вместе у Господа.
— А где Бог?
— На небесах, Дэниел.
Мальчик медленно кивнул, как будто эти слова все ему объяснили.
— Не думал, что Он может там быть.
Морин понимала, что должна поговорить с ним о Боге, но у нее не хватило на это сил.
Когда мистер Смит пришел сообщить, что уезжает, Морин держалась очень спокойно и вежливо. А после его ухода долго смотрела ему вслед, пытаясь понять, что с ними будет теперь, когда суповые кухни закрываются. И, видя фигуру Смита, удалявшуюся по дороге, Морин вдруг ощутила чувство огромной потери, ей захотелось, чтобы он вернулся или хотя бы оглянулся, как будто вместе со Смитом уходили все их надежды.
И потому она вздрогнула, когда рядом раздался голос Дэниела:
— Мне бы хотелось, чтобы ты вышла замуж за мистера Смита, Морин.
— Ох… — Морин тихонько рассмеялась. — Не говори глупостей, Дэниел.
Она никак не могла предвидеть поступка Нуалы.
В дни после закрытия кухонь все тревожно ждали, что будет дальше. Они могли еще покупать немного еды на рынке, потому что Нуале удалось кое-что сберечь. Но никто не представлял, как будут действовать новые правила жизни. Однако вскоре Морин заметила, что ее сестра погрузилась в задумчивость.
С тех пор как Нуала занялась своим новым делом, Морин постоянно испытывала один и тот же страх. И это было вполне естественно. Что, если сестра подхватит заразу от одного из мужчин? Морин знала, что с девушками в городе такое случается, а больницы отказывались их лечить. Некоторые девушки совершали какое-нибудь мелкое преступление и намеренно попадались, чтобы угодить в тюрьму. А когда в тюрьме выясняли, что у девушки венерическое заболевание, ее отправляли в тюремную больничку и там держали, пока не вылечат. Для обездоленных это было наилучшим способом получить медицинскую помощь. Не то ли происходит теперь и с Нуалой? Может, она подумывала о том, чтобы очутиться в тюрьме? И если так, то, помимо стыда, что с ними будет? Прошел день, и Морин уже набралась храбрости, чтобы задать вопрос, когда Нуала к вечеру сама начала разговор.
Но все оказалось совсем не так, как ожидала Морин.
— Нам нужно уезжать отсюда, Морин.
— Не вижу как.
— Если мы не уедем, то все просто умрем. Я знаю.
— О чем ты говоришь?
— Я могу нас увезти.
— Как это?
— У меня есть мужчина, который меня заберет. И он говорит, что не против того, чтобы вы с Дэниелом тоже поехали.
— Но твой торговец живет здесь.
— Это не он. Другой. Он возвращается в Уэксфорд. И говорит, там совсем неплохо. По крайней мере, там ты не будешь голодать.
— Он хочет на тебе жениться?
— Этого я не говорила. Да это и не важно, Морин, если он просто готов заботиться обо мне какое-то время.
— Как давно ты его знаешь?
— Несколько дней.
— Ох, Нуала! Во что ты пытаешься нас втянуть? Я не могу куда-то увозить Дэниела при таких вот обещаниях. Уж лучше остаться здесь.
— Нет, не лучше. Здесь ты будешь голодной. У тебя даже крыши над головой не будет. Это наш шанс, Морин. Мы должны им воспользоваться.
— Дай мне подумать, Нуала. Но я уверена, что не могу. И все-таки дай подумать хоть до утра.
— Утром я уеду, Морин. Мне очень жаль, но я должна. Я не собираюсь тут подыхать.
Утром они снова поговорили, наедине.
— Я не могу, Нуала. Может, мне просто недостает храбрости, но я не чувствую, что это правильно.
— Ну, он говорил, что ты так и ответишь.
— Мне хотелось бы, чтобы и ты не уезжала.
Но Нуала была тверда.
— Вот десять шиллингов, Морин. Какое-то время продержитесь. Но это все, что мне удалось скопить.
— Позвать Дэниела, попрощаться?
— Нет. Говори ему что хочешь. Прощай, Морин. — И Нуала ушла.
Позже тем утром Морин с улыбкой сказала брату:
— Нуала нашла работу. Но ей пришлось на время уехать.
— Но мы увидим ее снова?
— Конечно увидим.
— Она в тюрьме?
— Ох нет! — негодующе воскликнула Морин.
— Это хорошо, — кивнул малыш Дэниел.
Потом Морин несколько дней все думала о том, правильно ли она поступила. Без Нуалы деньгам было неоткуда взяться. А это значило, что если она не собирается встать на ту же дорожку, что и сестра, то не сможет больше платить за дом. Да и в любом случае лучше было сберечь те малые деньги, что у нее были.
Мысль о работном доме наполняла Морин ужасом, но она все же пошла туда, чтобы выяснить, смогут ли ей как-то помочь. И хотя в доме добавилось триста новых мест, ни для единой души места уже не было. Морин сказали, что она может снова прийти завтра и, может быть, ей достанется немного еды, но обещать ничего не могли.
На следующий день из-за Морин поспорили два чиновника.
— Она не вдова, — говорил один. — И она здорова.
Второй был более широких взглядов.
— Но они с братом явно сироты. Их можно кормить.
Однако, похоже, еды и здесь было слишком мало, а за воротами ждали еще сотни. Морин получила немного продуктов, но никто не знал, чего ей ждать завтра.
— Есть, похоже, план снова открыть кухни, — сказал Морин добрый контролер. — Но если удастся организовать. А пока, как видишь, ничего не понять.
На следующей неделе ничего лучшего явно ждать не приходилось.
За день до того, как нужно было платить за дом, Морин вдруг обратила внимание на одну хижину. Она стояла всего в тридцати ярдах от ее дома. Там жила какая-то семья, но теперь уехала. Это, конечно, был настоящий шалаш, с крышей из веток и прутьев, обмазанных глиной. Но он укрывал от дождя. Кто-то построил его там, и если тот клочок земли имел хозяина, то никто никогда его не видел. Жилье было свободным.
— Нам на самом деле совсем не нужно так много места, — сказала Морин Дэниелу. — Нам и там будет хорошо.
И на следующий день, когда пришел агент за арендной платой и отказался позволить им пожить в доме еще без оплаты, они с легкостью перебрались в новое жилище.
А потом Морин ждала, как и все остальные в Эннисе, что будет дальше.
— В конце концов, — сказала она одной из своих соседок, — они ведь не могут просто бросить людей умирать от голода.
И еще весь сентябрь Морин думала о том, что просто удивительно, как люди умудряются выживать. Отчасти важно было улавливать любые новости, отчасти дело было в удаче. Система работных домов представляла собой настоящий кавардак. Иногда можно было получить еду в старой суповой кухне на Милл-стрит, иногда — нет. Иногда они с братом помогали людям у ворот работного дома, а потом, когда туда пришли еще сотни, их развернули обратно. Морин услышала о том, что в ближайший приход привезли целый корабль еды и одежды от квакеров. Она поспешила туда, и хотя священнику хотелось в первую очередь накормить своих прихожан, он сжалился над ней и дал немного риса и гороха. А как-то в начале октября Морин услышала, что какие-то мужчины захватили большую повозку зерна и раздают его у нового моста. Оставив Дэниела дома, Морин со всех ног помчалась туда. Вернулась она с пятью фунтами зерна. Это позволило им продержаться больше недели.
То, что в работных домах отказывались кормить здоровых людей, имело двоякий результат. Во-первых, людей таким образом поощряли к тому, чтобы грабить зерно. И Морин считала, что это хорошо. А во-вторых, многие, даже лучшие, постепенно впадали в апатию. Октябрь продолжался, становилось холоднее, и Морин казалось, что вокруг нее соседи начинают с каждым днем выглядеть тоньше и слабее. Как-то раз, посмотрев на собственные руки и осознав, какими тонкими они стали, Морин поняла, что и сама выглядит не лучше остальных.
Во второй половине октября заболел Дэниел. К счастью, ничего серьезного. Просто, видимо, он съел то, что не понравилось его желудку, и два дня пролежал с поносом. Морин пыталась поить его и заставить хоть что-нибудь съесть. Все прошло, и Морин благодарила Бога за то, что мальчик так крепок от природы. Но он стал заметно бледнее и слабее прежнего. И Морин гадала, что можно придумать такого, чтобы вернуть немного красок на его щечки.
Способ ей подсказала добрая соседка. Труднее всего было проделать это в первый раз. Морин тщательно выбрала место, ведь фермеры охраняли свои поля, как ястребы. Морин отправилась туда в сумерки. Света еще хватило для того, чтобы видеть, что она делает. У каменной стены паслись три коровы. Морин ползла к ним как змея. Когда она добралась до коров, те посмотрели на нее, но она подождала, пока они привыкнут к ее присутствию, и только тогда медленно принялась за дело. С собой у нее были острый нож и деревянная чашка.
Ей только и нужно было, что найти правильное место на ноге коровы и сделать крошечный надрез. Если все проделать правильно, корова почти ничего не почувствует. Но кровь понемногу начнет сочиться из ранки, и ее нужно собрать в чашку, как делает врач, когда пускает кровь больному.
Сдерживая дыхание, Морин ощупала коровью ногу, молясь о том, чтобы животное не дернулось внезапно, и, ткнув кончиком ножа, сделала надрез. Корова шевельнулась, но слегка. Морин прижала деревянную чашку к ноге. Она не хотела, чтобы корова потеряла слишком много крови. Если ей повезет, то фермер ничего не заметит. Набрав достаточно, Морин крепко обвязала чашку тканью, насухо вытерла ногу коровы и поползла обратно.
Вернувшись в хижину, она развела кровь водой, смешала с жидкой кашицей и с некоторым трудом убедила Дэниела выпить смесь.
— Это тебе на пользу, нравится или нет, — сказала она.
Через несколько дней она снова проделала то же самое. Но на этот раз ткнула ножом неловко, животное потеряло слишком много крови. В последний день октября, в канун зловещего и магического Самайна, Морин пошла на поле в третий раз. Но когда она шла по тропе вдоль стены, то увидела фермера, ожидавшего у поля. В руках у него был мушкетон. Фермер подозрительно посмотрел на Морин, она вежливо пожелала ему доброго вечера и пошла дальше. Она сумела помочь Дэниелу, была уверена Морин. Но достаточно ли?
Ноябрь наступил унылый. Вокруг царила холодная сырость. И теперь, как ни старалась Морин, ей не удавалось добыть достаточно еды. Она сохранила пока те несколько шиллингов, которые дала ей Нуала, и искала на рынке продукты подешевле. А в работном доме не только росла толпа перед порогом, но и контролеры откровенно говорили:
— Ну что мы можем сделать, если у нас нет денег?
К концу третьей недели Морин стало ясно: Эннис гибнет. И процесс этот шел до странности тихо. Никто ничего не говорил. Никто ничего не делал. Не было никаких признаков тревоги, никаких криков, никаких слез. Просто холодное темное молчание, пока мир медленно погружался в летаргию, как будто сама жизнь утекала прочь вдоль грязных улиц в ледяное безмолвие. Морин перестала брать Дэниела с собой в город, потому что не хотела, чтобы он видел то, что видела она. Не раз и не два ей приходилось перешагивать через трупы на улицах. Конечно, Морин не могла скрыть от мальчика того, что семья по соседству заболела. Она могла лишь стараться не подпускать его к больным.
А потом начался дождь, а за ним целый день дул ледяной ветер. Двадцать второго числа у Дэниела началась лихорадка.
Морин не знала, что это такое. Это могла быть одна из дюжины болезней или случайная зараза. Да это и не имело значения. Мальчик весь горел. Морин пыталась охладить его лоб и поила брата теплым питьем. И не отходила от постели. Она чувствовала, как он горит все сильнее и сильнее, хотя завернула его во влажное одеяло, пытаясь снять жар. Морин знала, что ее брат силен. Это и было самым главным. Двадцать третьего ей показалось, что лихорадка слегка утихла. Дэниел был бледен, глаза у него горели, как никогда прежде.
— Ты должен бороться, Дэниел, — сказала она ему. — Ты должен быть храбрым мальчиком. И ты должен бороться с болезнью.
— Прости, Морин, — прошептал он. — Я постараюсь.
На следующее утро снова пошел дождь. Мерзкий, серый дождь, сеявший непрерывно, накрывший все грязным покрывалом, промочивший насквозь и живых, и мертвых. И когда начался этот дождь, Морин заглянула в глаза Дэниелу и увидела то, чего страшилась. Она не раз уже видела это в глазах других детей, когда они теряли волю к жизни.
И что ей делать? Ничего. И все же Морин не могла сидеть просто так, не могла просто держать его за руку и ждать, когда он уйдет. Он последнее, что осталось у нее в этом мире. Поэтому она закутала мальчика в свою шаль и побежала под дождем к больнице. И там стала молить: впустите нас.
Но больница была переполнена, все были заняты по горло, и ей сказали:
— Иди в работный дом. Может, там тебе помогут.
И Морин снова выбежала под непрерывный дождь и, спотыкаясь, почти падая от тяжести, пошла по грязи к последнему оплоту надежды. Но и там у дверей стояли сотни людей, и двери были крепко заперты, и Морин не смогла даже подойти к ним.
Впрочем, приподняв край шали, она поняла, что можно больше не суетиться, потому что где-то на полпути Дэниел покинул этот мир.
25 ноября Стивен Смит посмотрел на холодные, мокрые улицы Энниса и решил, что не может здесь находиться. Он приехал накануне вечером, переночевал в доме Чарльза О’Коннелла. И ничего хорошего не узнал.
— Попечители работных домов находятся в нелепом положении, они умоляют правительство дать им больше денег на помощь людям, потому что у них ничего не осталось. И в то же время правительство требует от них вернуть ссуду, которую выдали раньше на рабочие отряды и суповые кухни. Конечно, они не могут заплатить. Но все равно выставлять такие требования в такое время…
Нет, думал Стивен, он здесь не задержится. Его работа в Лимерике имела смысл, но все, что он мог сделать, он уже сделал. Дело продолжат другие, и вполне успешно. А он возвращается в Дублин. Вообще-то, у него и причин не было медлить. Но до отъезда оставалось несколько часов. И он мог пройтись по городу, как бы ужасно все вокруг ни выглядело. А выйдя на улицу, Стивен вдруг заметил, что думает о Мэдденах.
Она стояла перед дверью хижины, глядя в серую пустоту неба и осознавая теперь лишь бесконечную пустоту в сердце, и даже не заметила, как он подошел. Только когда Смит встал прямо перед ней, Морин поняла, что он обращается к ней. Смит спрашивал о сестре и о Дэниеле.
— Она уехала, сэр, но я не знаю, где она. Представления не имею, — глупо ответила Морин.
— А малыш Дэниел?
— Он умер, сэр. Вчера.
— Ох, мне так жаль! Сочувствую вашим бедам.
Это была обычная фраза. Морин склонила голову, вяло принимая соболезнования, посмотрела в лицо Стивену, в лицо, которое так часто видела в мыслях, и снова уставилась в небо. Все было бессмысленно.
— Что вы теперь будете делать? — спросил Смит.
— Я? Делать?
Она об этом и не думала. А что ей было делать? Разве в чем-то был какой-то смысл? Смысла не было.
— Вы останетесь здесь? Вам есть куда перебраться?
— У меня ничего нет, — ответила Морин как будто с удивлением. — Все, что у меня было, исчезло. У меня ничего не осталось. Но это не важно.
Она лишь смутно осознавала, что Смит молчит, что он о чем-то напряженно думает, колеблется.
— Вы не можете остаться здесь вот так, — наконец сказал он. — Вам лучше поехать со мной.
— Мне?.. — Морин нахмурилась, не понимая. — Куда?
Он что, собирался отвести ее в работный дом?
— В Дублин, — сказал Стивен.
Виктория
1848 год
Мало кто, описывая красоты Дублина, забыл бы упомянуть каналы. Построенные в конце предыдущего столетия, они охватывали георгианский центр города, как две нежные руки. На севере Королевский канал тянулся от причалов за зданием таможни, мимо имения Маунтджоя и дальше на запад, за Феникс-парк. Там он уходил в пригороды, в Мидлендс и наконец, более чем через восемьдесят миль, соединялся с огромной системой реки Шаннон. Благодаря этому теперь можно было доставлять товары баржами с одного конца Ирландии в другой.
С южной же стороны Лиффи, начинаясь от причалов в Рингсенде, шел Большой канал, который, несмотря на свое название, был внутренним. Он тянулся между поросшими травой и ивами берегами, плавно, почти незаметно поворачивая, пока наконец, в двух милях к западу от Сент-Стивенс-Грин, вдруг не решался выпрямиться и ринуться на запад через плодородную Долину Лиффи. И вдоль его берегов от одного деревянного шлюза до другого тянулись чудесные прогулочные дороги.
Поблизости от канала в скромном на вид, но просторном кирпичном доме, выходившем окнами на зеленый берег, жила семья Сэмюэля Тайди. Тайди женился пятнадцать лет назад. У них с женой было пятеро детей, и младший совсем еще младенец. Это была трудолюбивая семья, со скромным достатком и довольная жизнью. В их доме, как и в любом доме квакеров, царила атмосфера спокойной тишины, мягкая и исцеляющая.
По крайней мере, такой она казалась Морин Мэдден.
К счастью, когда Стивен Смит пришел к Тайди в декабре 1847 года и сказал, что ищет место для женщины из Клэра, в доме оставалась еще одна свободная комната.
— Я думал попросить лорда Маунтуолша, — пояснил Смит, — потому что у него дома и в Дублине, и в Уэксфорде. В моем доме она, безусловно, не может оставаться. Но потом я вдруг решил сначала поговорить с вами. Я пока снял для нее комнату в доме по соседству с моим.
После продолжительного обсуждения между собой Сэмюэль Тайди и его жена решили, что по крайней мере пару недель Морин лучше оставаться на съемной квартире. Дело в том, что слишком часто в Дублин приезжали люди из зараженных болезнями районов и привозили заразу с собой.
— Мы в первую очередь должны подумать о своих детях, — рассудительно объяснил квакер.
Но потом они готовы принять Морин к себе.
— Она может помогать мне с детьми, — сказала миссис Тайди. — Уверена, для нее найдется масса работы.
И, кроме питания, они предлагали Морин еще и скромное жалованье.
Для Морин перемена жизненных обстоятельств оказалась настолько неожиданной, что несколько недель подряд она словно пребывала во сне. Семья квакеров жила скромно. Ели все вместе, с детьми, и с Морин решили обращаться примерно как с гувернанткой. А она и в самом деле скоро доказала, что может научить детей не только читать, но и еще многому.
— Она прекрасно владеет собой, — одобрительно говорила мужу миссис Тайди. — Спокойная и аккуратная. Я очень рада, что мы взяли ее к себе.
И хотя всю зиму Морин была все такой же бледной, к весне она немного поправилась и уже не выглядела изможденной, хотя и не избавилась полностью от подавленности.
В начале июня Тайди на десять дней вывез семью к морю. И после этих семейных каникул Морин вернулась со слегка порозовевшими щеками и заметно окрепшей.
— Я рада, что она стала лучше выглядеть, — заметила миссис Тайди. — Она мне все больше нравится.
В течение этих месяцев Стивен Смит не появлялся в семье Тайди. Вскоре после своего возвращения в декабре он посоветовался с графом Маунтуолшем насчет того, чем ему заняться дальше, и граф тут же нагрузил его своими поручениями. Смиту пришлось поехать в Уэксфорд, потом на запад, как-то раз даже в Лондон. И лишь к концу июня Стивен послал записку Тайди, сообщая, что он сейчас в Дублине, и спрашивая, можно ли их навестить.
Когда он пришел, Морин занималась с детьми. А Смиту пока нашлось о чем поговорить с Тайди.
Великий голод весьма заметно отразился на Дублине. Ближайшие окрестности столицы пострадали меньше других частей острова. Но из дальних мест люди устремлялись в Дублин в надежде эмигрировать или хотя бы найти какое-то убежище. И Дублин справлялся с трудностями. Церкви и благотворительные учреждения хлопотали о том, чтобы прибывшие были накормлены. И не последнюю роль тут играли квакеры. Прямо на фешенебельной Меррион-сквер была даже организована большая суповая кухня, кормившая огромное количество людей. А поток прибывающих все не ослабевал. Тайди был рад тому, что Морин не слышит их разговора, так как это могло причинить ей боль. Он рассказал Стивену, что волна беженцев из Клэра и Майо, а возможно, и из других мест увеличилась по сравнению с прошлым годом.
— Та ситуация, которую вы видели в Клэре, не изменилась, разве что правительство теперь вынуждено кормить и здоровых взрослых людей тоже. По нашим подсчетам, на данный момент во всей Ирландии около восьмисот тысяч человек нуждаются в помощи, и половина из них — взрослые трудоспособные люди. Не могу сказать, какое количество сейчас на грани голодной смерти, поскольку никто этого не знает и не хочет знать. Но на западе в работных домах вполне обычно то, что за неделю умирают пятьдесят, восемьдесят, даже сто человек, в основном дети.
— А что с урожаем картофеля?
— В этом году посажено в два раза больше, чем в прошлом, хотя это все равно меньше половины того, что было до появления фитофторы. Но мы надеемся на неплохой урожай.
— Я заметил, что здесь больше не видно людей, спящих на улицах. Куда вы их подевали?
— О, на это я вам сразу отвечу: в большие здания, в былые времена представлявшие славу Дублина, до принятия Акта об унии. Как-то на днях я был в северной части города, — продолжил Тайди. — Прошел от Саквилль-стрит до Маунтджой-сквер. И на каждой улице видел большие дома, рассчитанные на одну семью, потом их поделили на квартиры и стали сдавать в аренду. А теперь частенько можно видеть, что целая семья занимает одну-единственную комнату. Осмелюсь сказать, при таком раскладе в Дублине хватило бы кирпича и известки, чтобы построить жилье почти для всего населения Ирландии. Нищенское жилье, конечно.
Они как раз закончили разговор на эту тему, когда в гостиную вошли младшие дети Тайди в сопровождении Морин.
Она была в простом хлопчатобумажном платье, скромно отделанном кружевом, волосы, слегка вьющиеся и теперь блестевшие от частого расчесывания, разделены пробором и убраны назад. Смит встал, чтобы поздороваться с ней, и улыбнулся:
— О, мисс Мэдден, вы удивительно хорошо выглядите!
И Морин невольно покраснела.
Смит сразу понял свою ошибку. Эта женщина совершенно не привыкла к комплиментам. И ему следует быть осторожнее в будущем.
После нескольких вежливых вопросов о ее здоровье и здоровье детей Стивен сообщил всем, что у него есть кое-какие новости.
— Должен попросить вас всех немного порадоваться за меня. Лорд Маунтуолш уже давал мне разные поручения — явно для того, чтобы проверить, как я с ними справлюсь, — и теперь предложил мне место своего делового посредника. Его прежний посредник уже стар и с трудом справляется с делом. Должен заметить, это удивительный поступок со стороны лорда, а я и вообразить бы не мог лучшего работодателя.
Все тепло поздравили его.
— И где вы будете жить? — спросил Тайди.
— В Маунт-Уолше есть дом для посредника. Но буду часто бывать в Дублине. Дела у графа, как вы знаете, весьма обширные.
— Вы должны пообещать заходить к нам, когда будете в Дублине, — сказал Тайди.
— Конечно! — с улыбкой ответил Стивен.
И только вечером, когда супруги уже сидели в кровати, миссис Тайди тихо сказала мужу:
— Ты заметил кое-что, пока Стивен был здесь?
— Думаю, да. Ты говоришь о Морин?
— Она его любит.
Тайди вздохнул, но промолчал.
Стивен увидел этот телескоп в августе. Он как раз возвращался из графства Клэр.
Если что-то и подтверждало правильность его решения уйти из политики, так это события нескольких последних недель. После смерти Освободителя разногласия в партии сторонников разрыва лишь усиливались. Члены «Молодой Ирландии» находили все новые поводы для шума. Они твердили, что в Великом голоде виновата Британия. И что единственным ответом на все может быть только вооруженное восстание. А как раз этого и старался всеми силами избежать Освободитель. Потому что бунт не имел смысла. И конечно, эти парни просто совершенно не понимали, что делают. Если восстание Эммета было трагедией, то теперь все походило на фарс. И действительно, какой там бунт? Однако к концу июля некоторые лидеры «Молодой Ирландии», чувствуя, что должны что-то сделать, попытались поднять несколько деревень в Типперери. Люди в Типперери требовали еды, но бунтовать не желали, и лишь несколько десятков особо активных столкнулись с местной полицией на маленьком поле. Узнав об этом, Стивен огорчился.
Его поездка в Клэр оказалась невеселой. Болезнь картофеля, почти исчезнувшая прошлым летом, вернулась. Больше половины урожая погибло. А значит, и передышки ждать не стоило: по крайней мере еще год сохранится тяжелое положение, вызванное голодом и хроническими болезнями. И если бы Стивена уже не закалило то, что он видел раньше, он мог и не вынести новых страшных картин. А может быть — в этом он честно признавался себе, — того факта, что он спас хотя бы одного человека и привез в Дублин, оказалось достаточно для того, чтобы немного успокоить совесть теперь, когда видел, что новые тысячи могут умереть.
Но все равно оставался вопрос земли. Не только самые бедные лишались аренды. Процесс набирал скорость сам по себе. Бедные крестьяне не могли платить за свои дома мелким фермерам. Мелкие фермеры не могли платить более крупным, у которых они арендовали землю, а те не могли платить землевладельцам. Многие лендлорды, в свою очередь, оказались в таких долгах, что были вынуждены продавать свои имения.
— Если так и дальше пойдет, — говорил Стивену лорд Маунтуолш, — то огромная часть земель в западных графствах будет продана.
Вопрос был в том, что произойдет с имениями самого Маунтуолша?
— Лондонское правительство ничуть не пожалеет о том, что западные лендлорды куда-нибудь денутся, — продолжал граф. — Они уверены: большинство этих лендлордов — беспомощные и безответственные люди, они просто не должны были доводить страну до Великого голода, а сейчас постыдно уклоняются от помощи собственному народу. И могу сказать, что я во многом согласен с этим.
— Но и британцы виноваты ничуть не меньше, — возражал Стивен. — Они отказываются признать, что проблема слишком велика и местными силами ее не решить.
— Да, это так, и история нас рассудит. Но меня в особенности удивляет, что даже теперь англичане совершенно не обращают внимания на страну, которая лежит так близко к ним и с которой их многое связывает. Ну и в любом случае сейчас они думают так: если лендлорды западных графств разорятся и продадут землю, то проблему можно будет решить, передав поля честным йоменам, так как те будут лучше о них заботиться.
— И где они собираются найти таких фермеров?
— Если подумать, — улыбнулся граф, — они сейчас говорят то же самое, что говорили их предки, впервые явившись в Ирландию во времена Плантагенетов, сотни лет назад. И Тюдоры, и Стюарты пытались сделать то же самое, создавая колонии. Поскольку йомен — это хребет Англии (и это действительно так, Стивен), то вполне естественно, что англичане должны полагать: хорошие фермеры — это все, что здесь нужно. Такие фермеры есть и в Ирландии, конечно, потомки настоящих ирландцев. И в Уэксфорде они есть. Но они не захотят покупать землю в Клэре, и богатые фермеры из Англии тоже не захотят. И я абсолютно уверен: если земля в Клэре поступит в продажу, купят ее в основном местные богатые люди. И вопрос в том, следует ли нам самим ее покупать?
Стивен долго и серьезно говорил с Чарльзом О’Коннеллом и мистером Ноксом, а также со многими местными жителями. И через три недели подготовил доклад. Его выводы были отчасти экономическими, а отчасти политическими. Но к концу того дня он мог с уверенностью сказать:
— Маунтуолши завоевали такую репутацию в Уэксфорде, что куда разумнее было бы поддержать их, а не рисковать покупкой земель в Клэре.
Хотел ли сам граф услышать именно это, Стивен не знал.
Он собирался уезжать, когда получил записку от графа с просьбой встретиться с ним в Оффали, в имении одного друга графа, рядом с Бирром.
Огромное имение Парсонстаун, обитель графов Росс, оказалось именно таким, каким ожидал его увидеть Стивен: благородное место с красивым замком. Там собралось большое общество, но вскоре Стивен получил возможность поговорить с лордом Маунтуолшем, которому очень хотелось знать, какие выводы сделал Смит из своей поездки. Стивен отчитался перед ним, но сразу сказал, что против вложения денег в Клэр.
— Я на то и надеялся, — с улыбкой кивнул Уильям, — но чувствовал, что нужно все изучить более основательно. Я внимательно прочту твой доклад, не сомневайся.
Хозяин дома пригласил Стивена поужинать вместе со всеми. Однако Смит очень устал и попросил его извинить, но ему тут же сообщили, что в таком случае он должен провести в замке еще день и поужинать с ними завтра вечером, до возвращения в Дублин.
Утром после завтрака Смит уже чувствовал себя отдохнувшим, когда хозяин дома заявил:
— Всем желающим пора посмотреть на телескоп!
Если аристократы в основном оставались любителями в разных областях, то о семье Парсонс такого сказать было нельзя. Похоже, у них каждое поколение рождало серьезного эксперта. Разница была в том, что они могли позволить себе финансировать свои исследования. И в случае нынешнего хозяина дома результат был впечатляющим.
Телескоп в имении графов Росс был воистину огромен. Он величественно восседал на постаменте, как гигантская пушка, направленная в небо, и весил около четырех тонн. Отражатель Ньютона, полированная зеркальная тарелка, в которую собирался свет самых отдаленных сфер, имел в диаметре шесть футов, и это был самый большой телескоп в мире.
— Они его называют «Левиафаном», — шепнул Смиту Уильям.
— Отражатель металлический… зеркальный металл. Но мне в особенности хотелось бы обратить ваше внимание на металлический кожух телескопа, потому что его целиком сделала Мэри, — сообщил граф Росс.
— Вы понимаете, что он говорит о своей жене? — с улыбкой пробормотал Уильям.
— Его жена работает с металлом?
— Да. Она весьма искусный кузнец. Ворота имения тоже ее работа.
Это заставило Стивена посмотреть на аристократов под новым, интересным углом.
— Он у нас уже несколько лет, — продолжал хозяин дома. — И доказал свою ценность. Я всегда утверждал, что многие из тех звезд, которые мы видим, на самом деле не единичные светила, а целые созвездия, просто очень отдаленные. — Он предъявил гостям какой-то лист. — Взгляните на это. Здесь очень тщательно зарисована некая звезда, которая на самом деле представляет собой туманность. Вот что сумела рассмотреть наша большая тарелка. И, как видите, там сотни звезд, и они выстроены в гигантскую спираль.
Он пустил лист по рукам.
Рассматривая рисунок вместе с Маунтуолшем, Стивен испытал странное чувство изумления и волнения, а Уильям выразил это, воскликнув:
— Бог мой, да мы же ничего не знаем о Вселенной! Ничего! Это воистину изумительно!
По дороге к дому Уильям Маунтуолш рассказал Стивену о некоторых гостях графа Росса. Здесь был брат Уильяма и его коллега по университету, местный ученый-лендлорд, а еще известный художник.
— Это, — Уильям показал на лысеющего мужчину решительного вида, — великий профессор Уильям Роуэн Гамильтон из Дублина. — Ты когда-нибудь слышал о кватернионах?
— Нет.
— Я тоже. Но этот человек нашел для них формулу, и для математиков она имеет огромное значение. Говорят, он почти равен Ньютону. И он коренной ирландец. — Граф улыбнулся. — До чего же странную смесь представляет собой Ирландия, Стивен! С одной стороны, мы видим трагедию и позор Великого голода, а с другой — идем впереди всего мира.
— Мне бы хотелось, — вздохнул Стивен, — чтобы я получил образование получше.
— Ты и так справляешься, — возразил граф, — но я понимаю, о чем ты. — А потом пробормотал нечто невнятное, похожее на «тебе нужен сын».
Наверное, Стивену действительно стоило об этом подумать, но он не чувствовал себя готовым. В доме они тут же столкнулись с Каролиной Дойл, или Каролиной Барри, как теперь следовало ее называть. Она только что приехала с мужем, который отправился в другую часть дома.
Каролина любезно поздоровалась со Смитом, и они несколько минут беспечно болтали друг с другом.
— Но самое удивительное то, — сказал им Стивен, — что я ничего не почувствовал.
Это было неделю спустя. Он сидел в гостиной со старшими Тайди. Морин тихонько устроилась в углу. Личные проблемы Стивен был способен обсуждать с очень немногими людьми, но по какой-то причине в семье Тайди он чувствовал себя достаточно свободно. А присутствие в комнате Морин не казалось ему существенным.
— Раньше я испытывал к ней нежные чувства. Когда же она предпочла другого, то, пожалуй, должен признаться: после некоторого огорчения я разозлился. — Смит улыбнулся. — Это было очень глупо с моей стороны. И наверное, непростительно. Но так уж вышло.
Встреча с Каролиной была, вообще-то, весьма приятной. Смит увидел милую женщину, немного полнее прежнего, счастливую в браке, мать чудесного ребенка. Она чувствовала себя абсолютно свободно в обществе Смита, но совсем не интересовалась им как мужчиной, и это не позволило каким-то прежним желаниям пробудиться в Стивене. На следующий день они расстались друзьями.
— Похоже, это действительно так, — заметил Стивен. — Любовь может превратиться в дружбу.
Миссис Тайди, маленькая аккуратная женщина со светлыми вьющимися волосами, посмотрела на него с улыбкой:
— Бывает и кое-что получше, Стивен. Это когда дружба превращается в любовь.
— О да, — вздохнул Стивен. — Уверен, такое должно случаться.
— Но ты не слишком разбираешься в делах сердечных, — благодушно заметила миссис Тайди.
— Не разбираюсь?
— Нет.
Когда Стивен собрался уходить, мистер Тайди отвел его в сторонку.
— Позволено ли мне будет обратиться с просьбой? — как всегда высокопарно заговорил он.
Естественно, Стивен выразил горячее желание сделать все, что в его силах.
— Это касается Морин Мэдден, — пояснил квакер. — Когда ты ее спас, она была одна в целом мире. И все же у нее есть родные — брат и сестра. Вот только никому неведомо, где они ныне и живы ли вообще. И вот я думаю: может, ты поговоришь с ней, а потом разузнаешь что-нибудь? Вдруг сможешь их найти?
— Конечно! — согласился Стивен.
И они договорились, что Стивен придет на следующий день и поговорит с Морин.
Наступивший год оказался нелегким для семьи Тайди. Поскольку Сэмюэль Тайди участвовал в поставках благотворительной помощи, он дважды ездил в Корк и по всему Лимерику. И каждый раз он возвращался все более подавленным. Частично его тревоги были связаны с новым бичом, обрушившимся на остров в ноябре.
Само по себе начало эпидемии холеры не было удивительным. Эта болезнь уже какое-то время гуляла по всей Европе, и почти неизбежно она должна была добраться и до острова, а когда добралась, то с легкостью распространилась через канализацию и водозаборы в портах. Торговые города переполнились ослабевшими больными людьми, искавшими прибежища. Холера буйствовала по всей стране около шести месяцев, еще более увеличивая количество смертей.
— У нас теперь в работных домах на четверть миллиона мест больше, чем прежде, — сказал Тайди жене весной.
Но и там каждую неделю умирал один из восьмидесяти человек. А это составляло две с половиной тысячи в неделю, или сто двадцать пять тысяч в год. И это только в работных домах.
— Мне говорили, — добавил Тайди, — что в некоторых частях Клэра людей умирает в четыре раза больше.
— А не сами ли работные дома ускоряют распространение болезни? — спросила его жена.
— Возможно. Но многие из тех, кто туда приходит, уже едва живы. И вряд ли тут можно винить надзирателей работных домов. Сама система никуда не годится, а правительство по-прежнему отказывается давать деньги.
В феврале все же удалось добиться одной маленькой уступки. Правительство выдало на помощь дополнительные пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. В Англии это вызвало настоящий скандал. Лондонская «Таймс» подняла шум, твердя, что такой щедрый жест почти сломал хребет британской доброжелательности.
— Я тут встретился с одним чиновником, — рассказал жене Тайди вскоре после того. — Он хочет уйти в отставку. Показал мне письмо, которое написал. Говорит, что отказывается и далее быть агентом истребления.
Но самым неприятным моментом для них обоих стало то, что однажды они обнаружили Морин сидящей в кухне над английской газетой, которую она купила тем днем. На открытой странице красовалась карикатура. На ней был изображен картофельный куст, большой, почерневший, гниющий. Но у этого куста было лицо ирландца, который, как предполагал автор рисунка, чернел от жадности. В испорченных корнях куст сжимал мешок с золотом. А под рисунком была надпись: «ГНИЛЬЕ».
Морин разрыдалась.
В восточной части острова условия были намного лучше, чем на обессиленном западе. И даже наблюдались некоторые признаки медленного выздоровления. Но в столицу по-прежнему текли потоки несчастных. И Тайди не видел этому конца.
И у Стивена не было хороших вестей.
Отыскать какие-то сведения оказалось весьма непросто. Стивен столкнулся со значительными трудностями. Переселение было таким массовым, что проследить движение какого-то одного человека, тем более женщины, было нелегко. Он начал со старшей сестры Морин, которая уехала в Англию. С начала правления королевы Виктории в 1837 году в Англии велись записи о рождениях, браках и смертях. И Стивен нанял клерка для изучения этих записей. Но женщина могла ведь умереть до того, как начали вести книги регистраций. Или же, скорее всего, жила где-то в Англии, так и не выйдя замуж. Стивен попытался давать объявления в газеты самых крупных городов: Лондона, Ливерпуля, Манчестера. Но пока никто не откликнулся. Что до брата Морин Уильяма, то, если они с дядей благополучно добрались до Америки, найти их было бы проще. Но, учитывая расстояние, это требовало времени. Нуала также исчезла без следа. Что ж, такое множество безымянных людей стало жертвами Великого голода, что и эта девушка могла где-нибудь умереть, и никто не знал, кто она такая и откуда пришла. Розыски в Уэксфорде и Дублине ни к чему не привели. Но Стивен не оставлял попыток.
Он был только рад помочь Морин. Он восхищался силой духа этой женщины, тем, с каким достоинством она встречала любые беды. Каждый раз, бывая в Дублине, он заходил к Тайди и по их просьбе какое-то время проводил с Морин, рассказывая о том, что сделал ради поисков. Иногда она могла вежливо спросить о его собственных делах: где он бывал, что видел. И проявляла живой интерес, хотя и приносила извинения за свое невежество.
— Осмелюсь сказать, вы видели в жизни куда больше, чем я, — как-то раз заверил ее Стивен.
— Мне кажется, жизнь в условиях постоянного страдания на самом деле не совсем жизнь, — ответила она.
Супруги Тайди весьма гордились талантами, которые они открывали в Морин. Как-то раз, предлагая Стивену кусок замечательного торта, миссис Тайди сообщила:
— Это, должна вам сказать, Стивен, испекла Морин. У нее особый дар к кулинарии. И вообще-то, — добавила она, — Морин управляется со всеми домашними делами куда лучше меня.
Естественно, Стивен похвалил торт, который и вправду был очень вкусным. Но он был осторожен и старался не говорить ничего такого, что снова заставило бы Морин покраснеть.
В течение зимы Стивен редко наведывался в Дублин, однако в начале марта Тайди устроили у себя небольшой прием, на котором присутствовал и Стивен. Морин с миссис Тайди спели вместе у фортепиано. У миссис Тайди было нежное сопрано, а Морин, как выяснилось, обладала чудесным контральто, и надо сказать, что в длинном платье, подаренном ей миссис Тайди, выглядела она очень мило. Стивен аплодировал от всей души, а потом сказал, что не знал о таком таланте Морин.
— Мне давно не приходилось петь, мистер Смит, — просто ответила она. — Но позвольте сказать, мы репетировали с самого Рождества.
Позже Смит еще поговорил с ней и заметил, что, должно быть, очень приятно иметь возможность проявить свои способности.
— Согласна. И вы, мистер Смит, очень способный человек. Как вы думаете, вы можете использовать все свои таланты?
— Их не так уж много, уверяю вас. — Стивен немного подумал, а ведь действительно, работа в качестве делового посредника лорда Маунтуолша заставляла его использовать многие из его способностей. И это было и трудно, и интересно. Стивен улыбнулся. — Ну, наверное, большинство я применяю.
А про себя решил, что Морин очень чуткая женщина.
— Мне кажется, Морин обладает особой красотой — красотой духа в первую очередь, но и внешней тоже, — тихо сказал ему Тайди немного позже.
— Да, безусловно, — вежливо согласился Стивен.
После его ухода мистер Тайди поделился с женой своими соображениями:
— Похоже, дело немного продвинулось.
— Может быть. Но по нему трудно сказать.
— Думаю, она уже показала ему, что он ей нравится.
— Я уговорила ее.
— Но чутье мне говорит, что он это понял. Может, ей следует чуть-чуть поднажать?
— Нет, Сэмюэль, она не может. Теперь все зависит от него. Он должен сам проявить интерес, или она не сделает ни шага.
В апреле Стивен снова приехал. День был чудесный. По берегам каналов появились весенние цветы, и миссис Тайди предложила Смиту погулять вместе с Морин. А поскольку Смит ломал голову над тем, стоит ли сообщать Морин добытые им новости и как это сделать, то с готовностью согласился. Они, почти не разговаривая, прошли около мили на запад, потом медленно повернули обратно. Солнце приятно грело.
— Вы сегодня что-то молчаливы, мистер Смит, — осторожно произнесла Морин.
— Задумался. Вы правы.
— Вы хотели что-то сказать мне?
Хотел ли? То сообщение, которое он получил, было неоднозначным. Некая молодая женщина, предположительно по имени Нуала и в общем похожая на сестру Морин по описанию, умерла от лихорадки в одном из приходов графства Корк, неподалеку от границы Уэксфорда. Но нужно ли говорить об этом? Очень уж все было неопределенно. Поможет Морин такое знание или бессмысленно расстроит? Стивен и так и этак вертел все в голове. Уставившись на какую-то иву, он наконец произнес:
— Возможно, Нуала умерла. Но я не могу быть уверен.
— Ох… — Морин явно была ошеломлена. — Да, понимаю…
Как же она побледнела! Какой казалась разочарованной! Нет, не стоило ей говорить.
— Я должна поблагодарить вас за хлопоты, которые вы взяли на себя, — с достоинством произнесла Морин. — Есть ли еще какие-нибудь известия?
Стивен рассказал ей все, что знал.
Потом какое-то время они шли молча, и Морин начала тихо всхлипывать, а Стивен, не зная, что делать, обнял ее за плечи.
— Мне так жаль, — пробормотала она. — Так жаль.
Два дня спустя Стивен снова зашел к Тайди перед возвращением в Уэксфорд, и Морин удивила его тем, как быстро восстановила самообладание. Она прекрасно владела собой. Стивен поразился, застав ее за чтением газеты. Он задал ей несколько вопросов насчет ее мнения о политической ситуации и с удивлением понял, что она отлично во всем разбирается. И не только это. Морин сделала несколько весьма остроумных и довольно циничных замечаний о политических событиях, что, по правде говоря, заинтересовало Стивена куда больше, чем вкусные пироги или даже прекрасный голос. Возможно, думал Стивен, лицо у Морин и простовато, но она обладает острым умом.
Он не видел ее около месяца. Но в мае вернулся, и на этот раз с новостями.
— Мы нашли вашего брата Уильяма, — доложил он.
Тут никаких сомнений не было. Он жил в Бостоне. Похоже, он и сам пытался разыскать сестру, но не сумел и, наверное, предположил, что она умерла или уехала куда-то далеко.
— У меня есть его адрес, — сказал Стивен. — Его и вашего дяди. Они, как я понял, не слишком процветают, но у них есть работа, и они здоровы. — Смит улыбнулся. — Так что вы теперь не одиноки в этом мире.
Морин от всего сердца поблагодарила его. Тем вечером он ужинал с семьей Тайди, и все радовались счастливому повороту событий.
Июль стал очень трудным для Сэмюэля Тайди, потому что именно тогда община квакеров, завоевав восхищение всех партий своей неустанной работой по оказанию помощи пораженной голодом Ирландии, заявила, что с них довольно. Благотворительная деятельность завершалась. Было ли это правильно? Сэмюэль не знал.
— Одно я знаю наверняка, — сказал он своим родным, — ни у квакеров, ни у кого-либо еще не осталось средств, чтобы кормить умирающих от голода и помогать больным. Это может сделать только правительство. Проблема слишком велика для всех остальных. — (Но тут приходилось учитывать еще один фактор.) — Увы, пока правительство убеждает себя, что проблему может решить кто-то другой, боюсь, оно так и не будет ничего предпринимать. Квакеры просто не могут вечно продолжать свою деятельность, оправдывая тем самым пренебрежение властей.
Однако, высказав вслух все эти аргументы, Тайди почувствовал себя совсем плохо и несколько дней подряд почти не разговаривал с семьей.
В конце месяца жена сообщила ему еще одну новость:
— Морин хочет уехать в Америку. К брату.
— Как ты думаешь, что может заставить ее передумать?
— Кто знает? Но вряд ли можно ее винить. Он ведь единственный оставшийся у нее родственник. А каких-то особых причин оставаться здесь у нее нет.
— Она написала брату?
— Она хочет просто поехать и найти его.
— И когда?
— Когда у нее будут деньги. Она экономит каждый пенни из жалованья. Пока ей не хватает, но скоро…
— Может быть, то, что она хочет уехать, подтолкнет Стивена… — Тайди не договорил.
— Может быть.
Он увидел Стивена в Дублине две недели спустя и тут же сообщил о новом повороте событий.
— Должен сказать, когда она уедет, мы будем очень скучать по ней, — добавил Тайди.
Стивен явно задумался.
— Да, — наконец откликнулся он. — Да, я тоже буду скучать.
— Вы наверняка захотите повидаться с ней перед ее отъездом.
— О да. — Стивен нахмурился. — Конечно.
Прошла неделя.
А потом произошло много разного, и все сразу.
Когда Виктория, королева Англии, взошла на трон двенадцать лет назад, ей было всего восемнадцать лет. Теперь эта молодая женщина была замужем за германским кузеном принцем Альбертом и имела детей.
Это была очаровательная молодая пара. Ну, некоторые, конечно, находили принца Альберта уж слишком серьезным. Он почти не пил, не любил ругаться и страстно верил в способность человека изменить самого себя и мир вокруг. Но они с женой явно были очень преданы друг другу и старались всегда поступать правильно. Никто не сомневался в их добрых намерениях. И в целом народ их любил.
Поэтому британскому кабинету министров летом 1849 года показалось хорошей идеей организовать визит королевской пары в Ирландию.
— Это пробудит хорошие чувства. Улучшит отношения, — решили министры. — И покажет, что этот проклятый Великий голод наконец закончился.
И на основе таких вот замечательных предположений визит в Ирландию назначили на август.
Стивен очень много размышлял о том, что сказал Тайди, и был удивлен тем, как сильно задела его мысль об отъезде Морин. Он думал, возможно, это потому, что он сумел спасти ее в ужасные дни в Эннисе, когда и его собственная жизнь странным образом менялась. Похоже, эта женщина стала значить для его воображения и сердца больше, чем следовало бы.
Пока продолжался тяжкий кризис в Ирландии, а благодаря многочисленным делам графа Стивен был постоянно занят куда сильнее, чем в дни его политической деятельности, визиты в дом Тайди стали неким фактом, некой постоянной величиной в его жизни. И Стивену не хотелось, чтобы Морин уезжала. Он чувствовал потребность что-то сделать для нее.
И вот солнечным утром в начале июля он явился в дом Тайди и спросил, может ли поговорить с Морин наедине. Она сидела в гостиной.
— Я не могу отговаривать вас ехать в Америку, мисс Мэдден, — почему-то с волнением произнес Стивен. — Но и не могу вас отпустить, не выразив своего уважения и теплых чувств к вам. — (Морин смотрела на него со странной неуверенностью.) — Я ведь и в самом деле чувствую, что мы стали настоящими друзьями, — продолжил Стивен, — после всего того, что мы видели вместе и после всех этих месяцев в Дублине. Надеюсь, я могу так сказать?
— Конечно, мистер Смит, — тихо откликнулась Морин.
— И я надеюсь поэтому, что вы примете от меня вот это, как от близкого друга, который желает вам удачи и надеется, что вы его не забудете. — И он протянул Морин конверт. — Вы найдете в нем все, что вам понадобится для путешествия в Америку. Каюта на хорошем корабле. И еще кое-что, чтобы вы могли устроиться на месте. Умоляю вас принять это от человека, который желает только одного: быть вам настоящим другом. — Стивен улыбнулся. — И даже братом.
Морин была бледна как призрак. Стивен решил, что этого и следовало ожидать. Она опустила голову.
— Вы всегда были моим благодетелем, — чуть слышно произнесла она.
— Для меня честь, мисс Мэдден, оказать вам услугу.
Но Морин не подняла головы:
— Вы спасли мне жизнь, мистер Смит. И я буду это помнить, пока жива. Простите, если я выражу свои чувства более достойным образом, как и следует их выразить, когда немного соберусь с силами. — Она встала.
— Разумеется.
Морин вышла из комнаты.
Перед уходом Стивен поговорил с миссис Тайди.
— Мне кажется, она была тронута, — сказал он.
— Вы дали ей денег на поездку в Америку? Чтобы она могла уехать?
— Ну да.
Стивен чувствовал себя переполненным чувствами, потому что сумма была немаленькой: он вложил в конверт жалованье за пару месяцев.
Миссис Тайди вздохнула, но промолчала.
В прекрасный августовский день в море показалась королевская яхта — не слишком большое судно, но определенно очень красивое. Борта выкрашены в черное с золотом, на мачте развевается королевское знамя. Все, кто видел, как судно огибает южную оконечность Дублинского залива, смотрели на него с волнением.
Королева Виктория и принц-консорт наверняка наслаждались путешествием в такой солнечный день. Министры весьма мудро позаботились о том, чтобы королева не увидела западную часть острова, где, нужно сказать, жители пока пребывали в таком состоянии, что вряд ли стоило показывать королеве эти места. Визит, таким образом, должен был начаться в графстве Корк, где торговая община готовилась оказать королеве великолепный прием.
— Такие добрые, такие преданные люди! — невинно заметила молодая королева.
После Корка она должна была посетить Дублин, а затем — Белфаст.
По дороге королевская чета могла любоваться прекрасными видами. Все пространство залива открылось перед ними, с вулканическими горами у побережья Уиклоу, с возвышенностями на юге и островом Долки. А дальше у берега, возле Брея, они могли увидеть еще и творение человеческих рук. В этой части побережья, от Хоута и до Мэлахайда, через каждые несколько миль стояли небольшие круглые башни из серого камня, с орудийными бойницами и парапетами. Их называли башнями Мартелло. Построили эти башни в качестве защитных сооружений на случай вторжения Наполеона поколение назад. Одна возвышалась на Долки, другая — в полумиле от нее, у чудесной маленькой бухты с песчаным берегом.
В центре залива, к которому направлялась королевская яхта, находился большой дублинский порт, а дальше по заливу, в стороне от Долки, располагались меньшие по размеру, но роскошные пристани для прибывающих на курорт и для почтовых судов. Когда-то эта деревушка называлась Дун-Лэаре. Англичане давно уже превратили это варварское ирландское название в Данлири, но и это показалось им слишком сложным. В результате место получило название Кингстауна.
Но там не слишком бурлила жизнь, разве что подходили к причалам почтовые баркасы, а потом, пятнадцать лет назад, к Долки протянули железнодорожную ветку. И теперь это местечко, с большой церковью и виллами знати, а также с симпатичными домами с оштукатуренными фасадами, обращенными к морю, стало выглядеть совсем по-другому, с претензией на аристократичность.
В день прибытия королевы на набережной возвели симпатичный павильон с полотняной бело-голубой крышей. Над ним на всех флагштоках полоскались на ветру знамена святого Георга, сияя в небе яркими красными крестами. Солдаты в красных мундирах замерли в почетном карауле, а духовой оркестр играл патриотические мелодии.
Позади официального комитета по встрече стояла группа аристократов и джентльменов. Среди них были и лорд и леди Маунтуолш, которые, с обычной для них щедростью, предложили Стивену сопровождать их, чтобы он тоже мог увидеть историческое событие.
Королевская яхта огибала мыс, когда Маунтуолши в крайнем изумлении неожиданно увидели респектабельного, но страшно взволнованного Сэмюэля Тайди, который проталкивался к ним через толпу.
— Стивен! Стивен Смит! — кричал он. — Скорее, идемте!
Тайди, пока гнал своего пони с коляской обратно, все объяснил. Он писал Стивену в Маунт-Уолш, но Стивен не получил его письма, потому что уезжал в Килдэр, где провел неделю перед тем, как два дня назад приехать в Дублин.
— Если бы вы не прислали мне вчера записку, что в Дублине и собираетесь пойти на встречу с лордом Маунтуолшем, я бы и не знал, где вас искать, — говорил квакер. — Надеюсь, лорд Маунтуолш простит мое вторжение.
В общем, теперь они ехали вдоль Кингстауна к Болсбриджу, через Большой канал и вверх по берегу Лиффи, к причалам, где готовился отойти от берега пароход до Ливерпуля.
Попасть в Америку можно было разными способами, но в основном люди предпочитали переправиться в Англию, а оттуда уже сесть на пароход до Нью-Йорка или Бостона.
— Я забронировал для Морин отличную каюту, — объяснял Тайди, — на первоклассном судне из Ливерпуля. Она поедет с удобствами, какие только возможны. И у нее будут еще деньги, когда она доберется туда. — О том, что они с женой слегка увеличили накопления Морин, Тайди не счел нужным упомянуть. — Но я знал, что вы обязательно захотите с ней попрощаться.
— Ох… конечно, — ответил Стивен.
Они уже добрались до Лиффи, и тут Сэмюэль Тайди высказал то, что действительно было у него на уме. И высказал весьма неожиданно.
— Я должен с вами поговорить откровенно, Стивен Смит, — начал он, когда они миновали Тринити-колледж. — Сегодня решится окончательно, мудрый вы человек или величайший глупец.
— Как это?..
— Неужели вам не понятно, что Морин Мэдден вас любит?
— Любит меня? Думаю, я нравлюсь ей. И она благодарна мне. Это я знаю.
— Выходит, вы так и не осознаете, что вы любимы? Вы не видите того, что давно очевидно любому человеку, у которого есть хоть один глаз. Могу с уверенностью сказать, что по крайней мере весь последний год, а возможно, и гораздо дольше, эта женщина страдает от боли неразделенной страсти?
— Нет. С чего вы взяли?
— И мне, и миссис Тайди это совершенно ясно уже с весны прошлого года. А две недели назад моя жена осторожно расспросила Морин, и она сама в том призналась. Вот такие дела. Я говорю вам об этом прямо. Есть у вас нежные чувства к этой женщине?
— Да. Полагаю, есть.
— Готовы ли вы подумать о том, чтобы сделать ее своей женой?
— Моей женой?
— У вас сейчас хорошее, надежное положение. Вы не гонитесь за огромным состоянием. Вы знаете, что такое страдание, и умеете быть благодарным жизни. Так почему вы не подумали о Морин в качестве жены? Нам это непонятно. В мире ничего не может быть лучше — я говорю по собственному опыту, — чем иметь рядом с собой любящую и нежную женщину.
— Как-то все это немного неожиданно, Тайди. Она никогда ничего такого не говорила.
— Разумеется, не говорила. Да и как бы она могла? Тем более что вы сами никогда не сделали ничего такого, что поощрило бы ее. И даже наоборот. Поэтому я и спрашиваю вас прямо: вы действительно желаете, чтобы женщина, втайне любящая вас, уехала в Америку и вы никогда больше не увидели бы ее?
— Мне нужно немного подумать.
— Пароход отходит меньше чем через час, — резко сказал Тайди и замолчал.
Он редко говорил так много, как в этот раз, и никогда не вмешивался в чужие дела, но теперь совесть твердила ему, что он просто обязан взять все в свои руки, пусть даже в последний момент, и он был рад, что все-таки это сделал.
Они уже пересекли Лиффи. К тому месту, откуда через пролив отправлялись паромы в Ливерпуль, вела неширокая дорога.
Когда они подъехали ближе, их глазам предстала тоскливая картина. У причалов грудились обычные бочки и ящики, суетились грузчики и ломовые извозчики, толпились пассажиры у трапов. Но было здесь и кое-что еще, куда более грустное.
Дело в том, что человеческий поток между Ирландией и Англией был непростым. Большинство тех, кто находился сейчас в порту, были уезжающими. Наиболее удачливые могли попасть на корабли до Америки и отправиться туда либо с относительными удобствами, как Морин Мэдден, либо на самых дешевых палубных или трюмных местах, и дальше уже все зависело от того, хватит ли у них сил и здоровья на такое долгое путешествие. А самые несчастные, не имевшие денег на билет до Америки, добрались бы только до Ливерпуля и стали бы частью нищих обитателей этого огромного порта или какого-нибудь другого промышленного города Англии, где могли надеяться только на то, что им удастся найти тяжелую простую работу.
Однако в эти дни появился еще один класс пассажиров, и он все увеличивался. Великий голод породил огромную армию людей крайне истощенных и больных. И эти несчастные, умудрившись добраться до Ливерпуля, не имели возможности там остаться. Потому что английские чиновники, увидев их, понимали: эти мужчины и женщины слишком слабы, чтобы работать, к тому же они могут разнести заразу.
— Везите их обратно. Мы не можем позволить им остаться здесь, — говорили чиновники владельцам судов.
И эти несчастные возвращались на родную землю и беспомощно стояли на причалах, не имея ни места, где можно отдохнуть, ни возможности бежать и спастись. И так происходило каждый день.
Вот и сейчас около двухсот таких бедолаг топтались у причалов.
Не обращая на них внимания, Тайди подъехал ближе к пароходу, но держась при этом за упаковочными клетями, так что их не было видно с палубы. И посмотрел на Стивена.
Стивен неподвижно сидел в коляске. И молчал. И не шевелился. И так прошло несколько минут.
Потом он наконец сдвинулся с места. Тайди посмотрел на него:
— И что вы будете делать?
— Я заберу ее оттуда.
Тайди протянул руку и крепко сжал пальцы Стивена:
— Вы уверены? Ради нее самой вам нельзя уже будет передумать. Она достаточно настрадалась.
— Уверен. — Стивен вдруг улыбнулся. — Правда, я уверен.
И они поднялись по трапу на небольшой пароход и на палубе нашли Морин, которая смотрела в сторону Лиффи и не заметила, как они подошли.
Времени было мало, и потому Стивен, подойдя к Морин, в нескольких словах выразил свои нежные чувства к ней, сказал, что он наконец понял, что не может допустить, чтобы она уехала навсегда, не узнав об этом, и сразу спросил, согласится ли она выйти за него замуж.
Морин смотрела на него сначала почти безучастно, не в силах осмыслить услышанное. Поэтому Стивен повторил свое предложение. Но она, сильно побледнев, продолжала все так же смотреть на него.
Тайди улыбнулся и сказал:
— Все именно так, Морин.
Но она молчала.
Да и что тут было говорить? Все время, что она провела в уютном доме Тайди, Морин ощущала целительный покой и тепло. Она готова была вернуться к жизни, она даже осмелилась надеяться. Но то было много недель назад. А с тех пор в ней снова что-то тихо угасло.
Тогда Стивен сказал, что ему очень жаль, что он решился заговорить в такой вот момент, когда у нее нет времени как следует подумать. Но, может быть, она подумает по дороге в Ливерпуль, а потом даст ему ответ до того, как уйдет пароход в Америку? А он был бы рад подождать ее решения в Ливерпуле.
Морин очень тихо произнесла:
— Я не знаю…
Она была словно во сне. Но она не имела в виду, что не знает, любит ли его и хочет ли стать его женой. Она подразумевала, что не знает, в самом ли деле он этого хочет, и даже если это так, то может ли она, женщина тридцати лет, пережившая столько боли, женщина, которую никто никогда не целовал и которая потеряла все, что любила, быть ему настоящей женой.
Где-то на палубе прозвонил колокол, чей-то голос громко закричал, что всем, кто не отправляется в Ливерпуль, следует сойти на берег.
И тогда Тайди обнял Морин за плечи и сказал:
— Идем. Тебе ведь все равно нечего терять.
Так ли это было? Морин не знала.
— Идем, Морин, все будет хорошо.
И тогда сердце Морин вдруг заколотилось так, что она задрожала всем телом и позволила двоим мужчинам увести ее на берег.
Восстание
1891 год
Это все же началось, хотя он, Финтан, никак не мог предугадать последствий, в глухих, тайных уголках высоко в горах Уиклоу, где маленькие ручейки собираются вместе и несутся вниз, как сама река Лиффи, в другой, большой мир.
Он не знал, как часто не знают отцы, какое влияние оказал на мальчика. Но с другой стороны, разве он не мог передать ему те чувства, что испытывал к этим местам и своим воспоминаниям?
Он был длинноногим мужчиной с темными висячими усами и редеющими волосами, которые торчали храбрыми завитками на его голове. Он любил сажать сына на плечи и бродить с ним по горам. И всегда рассказывал ему разные вещи. Он не мог от этого удержаться. А год назад он взял Вилли с собой в Глендалох. Бог знает, что мог понять там мальчик. Ему было всего шесть.
— В дни моего деда, — говорил ему Финтан, — это было странное место, все заросшее, его считали языческим. Дед рассказывал, что в Глендалохе в ночь летнего солнцестояния проводились тайные празднества, пока священники не положили этому конец.
Вилли уловил в тоне отца некую мечтательную тоску, хотя и не мог понять ее смысла. Финтан показал сыну два озера, келью святого Кевина и монастырские строения с круглыми башнями.
— Когда я был молодым, — пояснил он, — некий сэр Уильям Уайльд, известный хирург из Дублина, привозил сюда много людей. Но ничего языческого в том не было. Он просто занимался расчисткой развалин и восстановлением этого места. Весьма достойный пожилой джентльмен с длинной белой бородой. А его сын Оскар, писатель, теперь весьма прославился в Лондоне как сочинитель пьес.
Да, пусть Финтан О’Бирн и не был образованным человеком, он все же любил читать газеты и иной раз удивлял своими знаниями.
Его дед был одним из многочисленных потомков Патрика Уолша и Бригид, а потому Финтан прекрасно осознавал, что в его венах, кроме крови О’Бирнов, течет кровь и Уолшей, и Смитов. Но он гордился тем, что был именно О’Бирном, по двум причинам. Во-первых, по традиции он считал само собой разумеющимся, что имение Ратконан принадлежало по праву рождения его семье.
А во-вторых, это касалось его прадеда Финна О’Бирна. Примерно через десять лет после восстания Эммета Финн вернулся в Ратконан со своей семьей. Было известно, что он играл какую-то роль в благородном предприятии Эммета. Уже в преклонном возрасте Финн, перестав бояться, дал знать соседям, что это именно он убил ненавистного лорда Маунтуолша. Естественно, он стал чем-то вроде местной знаменитости. Сам Финтан всегда был человеком законопослушным, но он, безусловно, гордился тем, что его предок оказался участником столь героических событий.
Но если он воспитал семью в гордости за свой край и за то место, которое они занимали на этой земле, то был еще один человек, которого, как утверждал Финтан, они должны были особо почитать.
— Разве я не стоял рядом с ним у горного потока, разве мы не стояли там вдвоем, как древние ирландцы, намывая золото, чтобы сделать кольцо для Катерины О’Ши?! — восклицал он с горестным чувством.
Парнелл. Парнелл-патриот. Парнелл-вождь, чей прекрасный дом в Эйвондейле лежал всего в нескольких милях от Глендалоха.
Но какое слово мальчик слышал снова и снова — и не без причины, — когда упоминалось благословенное имя?
— Предательство, мальчик мой. Он предан самим собой. И предан священниками, надо добавить. Предан.
— Но что еще могли сделать священники, — возражала мать Вилли, — если он известный прелюбодей? Вряд ли они могли смотреть на это сквозь пальцы.
Роль матери Вилли в доме состояла в том, чтобы поддерживать уважение к религии. Вилли это понимал.
— Это британцы его предали. Убийцы они, вот кто.
Мать жены Финтана потеряла всех родных во время Великого голода, до того как перебралась в графство Уиклоу. И она воспитала дочь в убеждении, что виновата во всем была английская политика намеренного уничтожения.
Однако был один день в октябре, который Вилли запомнил навсегда.
— Идем, Вилли, — сказал ему отец. — Сегодня мы отправимся в большой дом навестить миссис Бадж. — Он улыбнулся. — Она тебя не съест.
В этом Вилли совсем не был уверен.
Возвращение Роуз Бадж в Ратконан тем летом удивило всех не на шутку. Хотя отец оставил ей имение несколько лет назад, ее здесь не видели почти двадцать лет. Ее мужа, полковника Брауна, едва ли кто помнил, хотя однажды Вилли слышал, как его описывал отец:
— Он был великим джентльменом. И охотником. И не было вокруг изгороди, через которую он не перескочил бы на лошади. И еще он был ученым, я уверен.
Вот как раз последнее действительно было правдой. И настоящей трагедией было то, что полковник и Роуз не имели детей, потому что полковник был не только отличным математиком, но и блестящим лингвистом, изучавшим культуры Индии, куда его забросила военная служба. Роуз воспитывали с тем, чтобы она стала женой ирландского землевладельца или военного, но, не имея детей, она волей-неволей прониклась интересами мужа, чтобы не ощущать себя очень уж одинокой. А полковник Браун, будучи человеком добрым, делился с ней, чем мог, не перегружая интеллект жены.
В результате голова миссис превратилась в некое подобие большого склада на восточном базаре, где хранились случайно собранные экзотические предметы. И вот со всеми воспоминаниями о восточных обычаях и бесконечном индийском небе она, после безвременной кончины полковника в начале этого года, вернулась в дом своих предков, как последняя из Баджей. Роуз достигла уже средних лет, но сохранила ту же крепкую поджарую фигуру, что и в молодости.
Вилли и его отца проводили в библиотеку.
В этой комнате имелись два окна и камин, но она была невелика, и книг в ней хранилось совсем немного, однако следует сказать, что впечатление эта комната производила сильное.
Прежде всего в библиотеке было удушающе жарко. Хотя снаружи стоял теплый октябрьский день, окна были плотно закрыты, в камине горел огонь. Шторы на окнах были задернуты почти до конца, так что каждое окно представляло собой яркую щель, и солнечный свет врезался в комнату, как лезвие ножа.
Должно быть, хозяйка ела в этой комнате, потому что обоняние Вилли было ошарашено пряным, сладким, незнакомым запахом карри, пропитавшим воздух и вызвавшим у мальчика легкое головокружение. На одной из стен висела картина с изображением какого-то индийского храма под оранжевым небом, которое, казалось, тоже должно было благоухать карри. А на пустой книжной полке стояла фотография в черной рамке — выполненное в технике сепии изображение восточной стены, покрытой резными фигурами в столь откровенно эротических позах, что отец мальчика счел необходимым прикрыть ладонью глаза сына, на случай, если тот что-нибудь поймет. Но Вилли в тревоге уставился вовсе не на эту фотографию, а на фигуру миссис Бадж.
В длинном темно-красном платье и тюрбане, она сидела выпрямившись в деревянном кресле с высокой спинкой.
Почему Роуз начала носить столь необычный головной убор, знала только она сама. Она соорудила его как-то днем в сентябре, надела на голову, посмотрелась в зеркало — и ей явно понравилось то, что она увидела, потому что с тех пор она его и носила.
— Добрый день, миссис Бадж, — поздоровался Финтан.
После ее возвращения в имение люди сначала не были уверены в том, как к ней обращаться. Конечно, как вдова полковника, она была миссис Браун. Но когда старейшая из работавших в доме женщин, миссис Бреннан, готовившая еще для отца миссис Бадж, осторожно назвала ее так, леди немного подумала и сказала:
— Я всегда была Роуз Бадж, когда жила здесь.
В следующий раз повариха назвала ее «миссис Бадж», и хозяйка дома кивнула, как будто одобряя такое обращение. Теперь ее так и звали — «миссис Бадж», что служило как бы мягким напоминанием о том, что эта семья по-прежнему владеет Ратконаном.
Но собиралась ли она здесь обосноваться? Похоже было на то. Однажды миссис Бреннан осторожно поинтересовалась, собирается ли хозяйка задержаться здесь надолго.
— А где еще мне жить, если не в Ратконане, где моя семья прожила две с половиной сотни лет? — решительно ответила Роуз Бадж.
Теперь она посмотрела на своего арендатора и вполне вежливо поинтересовалась, что ему нужно.
— Это начет моей земли, миссис Бадж, — ответил Финтан. — Мы здесь были арендаторами ровно столько, сколько семья Бадж владела имением.
— А теперь у вас больше, полагаю, чем было когда-либо, — кивнула миссис Бадж.
Если Великий голод унес жизни — ведь умерло более миллиона человек, — то еще более массовый процесс болезни картофеля запустил процесс, по-настоящему изменивший лицо Ирландии, — выселение. В годы голода и последовавшее за ним выселение продолжалось, то усиливаясь, то ослабевая. Конечно, прежде всего в западных графствах. Однако и в большинстве других частей Ирландии не десятки, а сотни тысяч семей были изгнаны со своих маленьких бедных наделов. Множество домиков, при которых и земли-то было всего один-два акра, были снесены, а земли распаханы или снова превращены в пастбища. В некоторых районах вообще все население было унесено с земли, словно могучим отливом. Иногда огромные территории оставались необработанными или доставались сообразительным скотоводам.
А нередко более успешные арендаторы получали фермы побольше. Теперь у многих из них было пятнадцать, тридцать, а то и больше акров. И новое поколение усвоило страшный урок: фермы не следовало делить, их следовало передавать целиком одному сыну, который, скорее всего, женился гораздо позже, чем его отец, а остальные вынуждены были уходить и искать свой путь в мире.
В каком-то смысле можно сказать, что осуществилась мечта англичан, которые всегда хотели, чтобы население Ирландии состояло из крепких йоменов, хотя тут имелось два серьезных несоответствия: эти семьи были не английскими протестантами, а ирландскими католиками; к тому же память о Великом голоде висела над фермерами темным облаком, и они хотели только защитить свои наделы, а если на то будет воля Божья, увидеть, как захватившие всё английские лендлорды убрались подальше и больше не вернулись.
И случай Финтана О’Бирна был из таких же. В Ратконане земли не освобождались так же массово, как на западе, но отец миссис Бадж все же расчистил смежные наделы, и отец Финтана оказался в числе выигравших. Картофельные поля, которые прежде простирались до склона древнего холма, превратились в пастбище, хотя их границы и были отчетливо видны. Финтан стал арендатором нескольких десятков акров там, где до Великого голода его родственники имели маленькие клочки земли. Короче говоря, Ратконан более или менее вернулся к своему традиционному состоянию, когда предки Финтана пасли скот на больших пространствах, вплоть до склонов гор. И если Финтан продолжал бы в том же духе, то вскоре мог стать и владельцем земли.
— Ну, я просто держу на уме безопасность, — сказал он.
— Я знаю, ты хороший арендатор, — кивнула миссис Бадж. — Да и капитана Бойкотта[7] здесь нет.
Сорок лет назад в Ирландии начала борьбу Лига защиты прав арендаторов. В Англии Гладстон, влиятельный лидер либеральной партии, преемник вигов, предложил новые законы, дающие арендаторам некоторую защиту. И Парнелл был вождем нового движения. Но дело продвигалось медленно. И когда пятнадцать лет назад новая вспышка болезни картофеля привела к новой волне выселений — не без некоторого насилия, — Парнелл издал свой знаменитый призыв. Ни слова, говорил он ирландцам, с любым человеком, изгоняющим своих арендаторов, никаких дел с ними, пусть остаются в полной изоляции.
— Сторонитесь их, как в прежние времена избегали прокаженных! — приказывал он.
С тех пор арендаторы действительно стали чуть более защищенными, но недостаточно.
— Я хотел бы купить ту землю, которую у вас арендую.
— Купить?
— Закон о земле позволяет…
Миссис Бадж одарила его ледяным взглядом:
— Я знаю этот закон.
Важным результатом работы Парнелла в лондонском парламенте стало то, что теперь не только либералы, но и партия тори готова была рассматривать вопрос ирландских арендаторов. Ныне правительство желало поощрять арендаторов к выкупу их земли, а в соответствии с последним актом правительство даже готово было дать фермерам ссуду для этого. И даже если в глубине души Финтан возмущался тем, что должен платить за землю, которую, по его убеждению, у него же когда-то и отобрали, он не мог отрицать и того, что условия предлагались вполне привлекательные.
— Четыре процента в течение сорока девяти лет. Со временем это будет даже меньше, чем я плачу за аренду, — подсчитал он.
В последние годы по всей Ирландии земли переходили из рук лендлордов-протестантов к арендаторам-католикам, и процесс шел довольно быстро. Уже более двадцати пяти тысяч арендаторов получили правительственную ссуду.
— Полагаю, — тихо продолжила миссис Бадж, — потом тебе захочется самоуправления?
Финтан промолчал. Он не стал бы этого отрицать.
Вилли таращился на странную леди в тюрбане и пытался понять, почему горные просторы, которые он знал и любил, должны зависеть от воли этого существа из другого мира, замотанного в страшный кокон. Глаза у леди были голубыми. И они казались знакомыми. А вот волосы, да и само ее лицо, как будто втянул в себя тесный тюрбан. Лицо леди не отражало никаких знакомых Вилли чувств.
— Я подумаю об этом, Финтан, и мы снова поговорим через несколько дней, — наконец произнесла миссис Бадж.
Выйдя из дома и с облегчением глотнув свежего воздуха, Вилли повернулся к отцу:
— Мы снова станем хозяевами своей земли?
— Может быть. — Финтан вздохнул. — Но только Богу известно, что происходит в голове у этой женщины.
Когда визитеры ушли, Роуз Бадж еще долго неподвижно сидела в кресле, размышляя. Она не понимала, почему Финтан привел собой мальчика, зачем заставил ребенка стоять здесь и таращиться на нее огромными, как блюдца, глазами. Ну и что тут такого? Она должна сосредоточиться на насущном вопросе. Роуз уставилась на узкие полосы света — лучи солнца, как какие-нибудь воры, мягко прокрадывались в теплый покой ее дома.
Итак, дело дошло до этого. Миссис Бадж не винила Финтана О’Бирна. Не он, а человек, которого он, без сомнения, боготворил, стал причиной всего этого. Проклятый Парнелл.
Хотя они были соседями и принадлежали к одному и тому же классу лендлордов-протестантов, Баджи никогда не питали любви к Парнеллу.
— У него мать — американка, — твердил отец Роуз. — Наверное, поэтому он такой.
Сама Роуз Бадж жила за границей во время его парламентской деятельности, но была в курсе всех событий.
К тому же еще и скандальная личность… Как могло такое случиться, что этот Парнелл, протестант и землевладелец вроде нее самой, целиком и полностью встал на сторону Дэниела О’Коннелла? Ведь именно это сделал Парнелл, когда, чуть больше десяти лет назад, внезапно взорвался, как метеор, на парламентском небосклоне. Конечно, он ни в коем случае не был защитником Католической церкви. Но он стал защитником арендаторов-католиков и создал грозную организацию. Более того, он перенял тактику О’Коннелла и поднял ее на новую высоту, несколько раз изменив баланс сил в британской палате общин и бесцеремонно вынудив обе партии принять законы в пользу Ирландии.
И если Дэниел О’Коннелл надеялся постепенно аннулировать союз с Англией, то Парнелл был куда более откровенен. Он громко и решительно требовал самоуправления для Ирландии и даже убедил Гладстона представить в парламент закон о самоуправлении. Роуз Бадж считала, что все в целом это просто безумие. Даже если семьи правящего класса, вроде ее собственной семьи, могли быть запуганы или обманом вынуждены к подчинению, то в Ирландии нашлись бы и другие, более суровые противники. И если в Лондоне полагали, что пресвитерианцы в Ольстере потерпят власть католиков, то им предстояло тяжкое пробуждение от иллюзий. Лорд Рэндольф Черчилль был прав, когда предостерегал:
— Ольстер будет бороться. И Ольстер будет прав.
К счастью, глупые предложения Гладстона были разбиты консервативной оппозицией. Но это не заставило Парнелла угомониться. Очень скоро он вынудил правительство тори сделать все возможное, кроме предоставления независимости, чтобы ирландцы были довольны. Включая и вот эту мерзкую затею с предоставлением ссуд. И теперь Финтан О’Бирн мог получить деньги, чтобы купить у нее землю.
— Предатель! — Роуз Бадж произнесла это слово вслух в тихой комнате.
Человек, предавший свой класс. Хуже того: именно из-за него весь британский парламент повернулся против собственного детища, против протестантской власти в Ирландии. Давать католикам деньги, чтобы они выгнали нас из собственных домов, где семьи жили столетиями, и вынудить нас уйти, как старых слуг. Куда? В дублинские квартиры или в пригородные дома в Англии? Нас, бывших владельцами огромных земельных просторов в Ирландии?
— Предатель! — снова произнесла Роуз, глядя на огонь.
Но он, как говорили люди, хотя бы действовал парламентскими средствами. А ведь в Ирландии были и другие, которые готовы применять совсем другие способы, вплоть до убийства, чтобы добиться своего. Но разве некоторые из этих проклятых не являлись также последователями Парнелла? Несколько лет назад в Феникс-парке экстремисты убили несчастного лорда Фредерика Кавендиша, первого заместителя министра финансов. Тогда Роуз читала в газетах, что за этим убийством якобы стоял Парнелл. Конечно, теперь все твердили, что это было откровенной ложью, что Парнелл никакого отношения к убийству не имел. Но кто знает? И в любом случае Парнелл был злодеем.
Его следовало наказать. Роуз ничуть бы не пожалела его. Она слышала, что Парнелл давно жил с какой-то женщиной, с которой они не были женаты и которая на самом деле была законной супругой другого человека. Говорили, что миссис О’Ши — очень милая женщина, а ее мужу до нее нет никакого дела. Но в результате О’Ши развелся с женой, а Парнелл на ней женился, что было совсем уже негоже. И это погубило Парнелла. Англичане не желали такое терпеть. И Католическая церковь Ирландии тоже не желала, тем более что Парнелл ей всегда не нравился, поскольку был протестантом. Его вытолкали из политики. С ним было покончено.
Да, печальный конец. Но Роуз Бадж Парнелла не жалела.
Теперь для нее вопрос состоял в том, что делать с той грязью, которую Парнелл накидал перед ее порогом? Что ей делать с Финтаном О’Бирном?
На следующее утро Роуз Бадж отправилась в Уиклоу. На этот раз вместо тюрбана она водрузила на голову фетровую шляпку, украшенную цветами. В Уиклоу Роуз прямиком отправилась в контору своего юриста, мистера Квинлана Смита. Он, внимательно выслушав ее, кивнул и задал один-единственный вопрос:
— Вы хотите продать эту ферму Финтану О’Бирну?
— Конечно нет!
— Могу я спросить почему?
— Потому что это моя земля, земля моей семьи, — откровенно ответила Роуз Бадж, — и я не для того вернулась сюда, объехав полмира, чтобы просто взять и отдать кому-то.
— Вы чувствуете себя крепко связанной с этим местом.
— Конечно я с ним связана! Что еще у меня есть?
— Понимаю… — Адвокат задумчиво кивнул. — Хотя, наверное, вы удивились бы, если бы узнали, как много людей из таких же старых родов сейчас продают землю. — Он немного помолчал. — Но мне вряд ли нужно вам объяснять, что у вас нет никаких причин продавать землю, если вы того не хотите.
— Отлично!
Вроде бы разговор на этом закончился, но Роуз Бадж не трогалась с места. Адвокат подождал несколько мгновений, потом осторожно запустил пробный шар:
— Но вы, может быть, все-таки чувствуете некоторое беспокойство.
— Может быть.
— Вам кажется, что ваш отказ может пробудить дурные чувства?
— Я не боюсь его, если вы об этом.
— Такое мне и в голову не приходило, — мягко ответил юрист.
— Я здесь не была так много лет, — с легкой грустью начала миссис Бадж. — Половина тех, кого я знала, умерли. Я живу в собственном доме, но среди чужаков. Но понимаете, я вынуждена жить с ними.
— Да, действительно.
— Если бы здесь был мой муж, все было бы иначе. Забавно… Я ведь почти не знаю Финтана О’Бирна. Я помню его мальчиком, но какой он человек теперь, мне неизвестно.
— О нем ничего плохого не говорят. Если бы говорили, я бы наверняка знал. — Адвокат подумал. — Многое изменилось за время вашего отсутствия. И полагаю, будет меняться дальше. Но я совершенно уверен, что через какое-то время вы, как и прежде, будете чувствовать себя дома среди жителей Ратконана. Люди-то они все такие же. Хотите, чтобы я поговорил с О’Бирном?
— Думаю, мне лучше самой это сделать.
— Согласен. Но я, так уж сложилось, на следующей неделе буду по соседству с Ратконаном. Могу навестить вас.
Миссис Бадж коротким кивком дала понять, что визит будет принят благосклонно.
— Я бы позволил себе рекомендовать вам время от времени наезжать в Уиклоу, и в Дублин тоже. Наверняка у вас там найдутся дела, и это прекрасный способ показываться на людях и поддерживать общественное мнение о себе в столь непостоянные времена. — Адвокат улыбнулся. — А вы слышали последние новости? Я только что узнал об этом. — (Роуз отрицательно покачала головой.) — Парнелл умер. Он уже давно болел, как вы, наверное, знаете. Он умер в Англии, в Брайтоне, у моря. Насколько я понял, его жена была рядом с ним… ну, миссис О’Ши. — Юрист вздохнул. — А ведь ему было всего сорок пять.
Было еще светло, когда Роуз Бадж вернулась в Ратконан. И сразу послала за Финтаном. Он пришел, снова с сынишкой. Роуз совершенно не понимала, зачем он опять привел ребенка.
— Мне жаль, Финтан, — прямо заявила Роза, — но я не могу отдать вам эти земли. Во всяком случае, сейчас не могу.
— Мне грустно это слышать, миссис Бадж.
— Ну, это все. — Она кивнула, давая понять, что больше ей сказать нечего. А потом, когда Финтан уже собрался уйти, кое-что пришло ей в голову. — Кстати, я сегодня узнала в Уиклоу, что Парнелл умер.
— Умер?
Финтан скривился, будто его ударили, потом коротко поклонился и ушел, не произнеся больше ни слова.
Роуз смотрела ему вслед, но даже не взглянула на мальчика.
Вилли очень внимательно наблюдал за всем. Он понял, что отцу отказали в покупке земли. И еще ему показалось, что небрежный тон, которым миссис Бадж упомянула о смерти Парнелла, был намеренным оскорблением и унизил отца. По дороге домой он обнаружил, что отец готов разрыдаться, а потому даже не решился с ним заговорить.
На следующий день Вилли услышал, как отец мрачно сказал его матери:
— Нам не вернуть свои земли, пока эта женщина не умрет.
Две недели спустя отец заявил:
— Ты поедешь к своей тетушке в Дублин, Вилли. Будешь там ходить в школу.
— Но я хочу остаться дома! — Мальчик чуть не заплакал.
— Это лучше для тебя. Я хочу, чтобы ты получил хорошее образование, Вилли. Я знаю, ты будешь хорошо учиться. А сюда сможешь приезжать на каникулы.
Вилли не знал, почему это так, но чувствовал уверенность в том, что разговор отца с миссис Бадж и его собственное изгнание из дома каким-то образом связаны между собой.
1903 год
Шеридан Смит смотрел сквозь широкое окно на туман и гадал, найдут ли они дорогу к дому. Он надеялся, что найдут. В конце концов, это было совсем нетрудно: от Сент-Стивенс-Грин прямо по Баггот-стрит, через канал, и чуть погодя повернуть направо. Любой дурак справился бы. И, кроме того, туман понемногу рассеивался. Час назад даже домов на другой стороне улицы не было видно.
Смит не хотел бы в том признаваться, но он был в достаточной мере снобом, чтобы немного волноваться. Ведь он ждал графа. А граф никогда прежде не бывал в его доме.
Веллингтон-роуд была очень приятным местом. Широкая, обсаженная маленькими деревцами. Перед домами большие лужайки и длинные подъездные дорожки, посыпанные гравием. В целом здесь царила атмосфера, почти родственная зеленым парижским бульварам. Все это было частью прекрасно управляемого фамильного имения Пемброка, в которое входили и бывшие деревни Болсбридж и Доннибрук. А вместе с Ренелой и Ратмайнсом на западе они образовывали элегантные пригороды к югу от Большого канала, но всего лишь в миле или около того от Сент-Стивенс-Грин, где жили адвокаты, городские чиновники, финансисты и специалисты разного рода, хотя, наверное, здесь было больше протестантов, чем католиков. И здесь селились те, кто мог себе позволить одновременно и избежать муниципальных налогов Старого города, и отдалиться от бедноты, которая наводнила его многоквартирные дома и улицы.
Шеридану Смиту и его семье нравилось собирать людей во время воскресных обедов, и их компания обычно бывала хороша. Должность Шеридана, бывшего редактором газеты, в любом случае позволяла ему иметь широкий круг знакомств, но он старался заводить друзей в самых разных слоях. Этому семья Смит научилась у Маунтуолшей.
Семья Стивена Смита и Морин Мэдден, безусловно, прекрасно справлялась с обстоятельствами. У них было трое детей: первой родилась Мэри, а за ней двое мальчиков, Шеридан и Квинлан. Стивен оставался деловым посредником Маунтуолша до конца трудовой жизни, и, без сомнения, частые встречи с этой аристократической семьей оказали полезное влияние на его детей. Шеридан был достаточно известен в Дублине. Его брат Квинлан Смит, живший в Уиклоу, тоже был не последним человеком, хотя и не достиг уровня брата. Круг общения Шеридана был воистину широк, поскольку он испытывал склонность к театру и искусствам, равно как и к политике.
— Я могу войти в любую дверь в Дублине, — с удовольствием говорил он о себе, но не вслух, конечно, однако был рад тому, что люди и так это знали.
Шеридан очень удачно женился. Его жена принадлежала к самой богатой ветви рода Макгоуэн, и теперь они жили пусть не в одном из самых больших, но все же в очень удобном доме на северной стороне улицы; впрочем, все дома на Веллингтон-роуд были хороши.
Шеридан мысленно прошелся по списку ожидаемых гостей. Первая — его мать. Овдовев почти уже двадцать лет назад, Морин Смит оставалась энергичной, подвижной женщиной с острым умом. Потом — отец Брендан Макгоуэн, кузен жены Шеридана, и он собирался привести с собой молодого человека с какой-то просьбой. Шеридан пригласил также и молодого Гогарти. Это был веселый человек, который явно должен пойти далеко. И он был джентльменом. Потом — граф и графиня.
— Аристократическая часть моей родни, — с улыбкой сказал Шеридан жене.
Для семьи Маунтуолш стало настоящим потрясением, когда младший внук старого графа влюбился в дочь Стивена Смита Мэри. Но они очень благодушно к этому отнеслись, и молодые люди поженились. Шеридан в то время был совсем мальчишкой. Дочь Мэри, Луиза, всегда была ему хорошим другом. И Шеридану стала еще интереснее эта дружба, когда Луиза вдруг вышла замуж за самого элегантного пожилого человека, графа Бирна. Теперь Луиза с графом делили свое время между графством Мит, где они купили имение, и Парижем. Сейчас они на несколько дней приехали в Дублин и обещали прийти на воскресный обед к Смиту и привести с собой маленькую дочурку.
Можно ли было желать лучшего общества? Конечно нет, сказал себе Шеридан. Он осознавал также, что, хотя старая земельная аристократия обладает огромным авторитетом, они, по сути, такие же, как он сам. И с каждым годом он все более в том убеждался. Ведь они точно так же болеют душой за Ирландию. И если бы вдруг граф изъявил желание заняться общественной деятельностью, хотя, надо заметить, он даже намеков на такое никогда не высказывал, то, пожалуй, он был бы рад родству с Шериданом, говорил себе Смит.
И вот наконец он услышал донесшийся сквозь туман звон колокольчика, потом звук сигнального рожка — и по улице к дому быстро подъехал на велосипеде его первый гость, на полчаса раньше назначенного срока.
Вилли О’Бирн шагал быстро. Он спешил по одному поручению, но не должен был опоздать к отцу Брендану Макгоуэну и, возможно, на встречу с собственной судьбой.
— Только не опаздывай! — сказал ему священник, знавший Вилли очень хорошо. — Потому что я не смогу тебя дожидаться.
Монтгомери-стрит. Она тянулась по запущенному склону всего в сотне ярдов от палладианского здания таможни на северном берегу Лиффи. Величественный георгианский Дублин снисходительно смотрел через реку на Тринити, а позади него шла совсем другая жизнь города. Монто — улица шлюх, улица греха и стыда. Но необходимая. Тихая, почти пустая воскресным утром. Вилли прошел по ней, потом по Эбби-стрит, затем повернул на широкую Саквилль-стрит, которая величественно тянулась от реки на север. Это опять респектабельный район. Вилли спешил дальше на юг. Через Лиффи. Он мог пройти этот маршрут с завязанными глазами.
Город, скрытый белым туманом. Как будто все испарения с гор и рек разом столкнулись с ночным дыханием человечества — с его пьянством и мечтами, с его шепотом и стонами, — и все это смешалось воедино, превратившись в сырой туман, повисший над Лиффи, застрявший над мостами, словно он не желал покидать Дублин и уплывать в открытое море.
Туман налипал на Вилли тяжелыми каплями, окутывал его. От него было не сбежать.
Вилли промчался мимо входа в Тринити-колледж. Незачем и заглядывать туда, поскольку там ему нечего делать. Потом, держась стены слева от себя, он повернул на восток, мимо Доусон-стрит, и наконец увидел закрытые ставни книжной лавки, где его ждали.
Вилли постучал в ставню, как ему было велено. Через пару мгновений дверь рядом с ним открылась, вышел священник. Волнистые седые волосы, легкая полнота, дружелюбие, целеустремленность: это и был отец Брендан Макгоуэн. Он захлопнул за собой дверь, достал из кармана маленькие серебряные часы, посмотрел на них и улыбнулся.
— Ты вовремя, — с удивлением сказал он и кивнул в сторону плотно закрытых зеленых ставней. — Книжная лавка моего брата, — сказал он. — Ты знаком с моим братом?
Вилли знал все о нем. Книжная лавка Макгоуэна была миром в себе, и там молчаливо царствовал младший брат священника. Говорили, что, если вы осмеливались дотронуться до какой-нибудь книги, он самым противным образом прикрывал один глаз и таращился на вас вторым. Люди прозвали его Циклопом. Вилли также слышал, что, если ты ему понравился, он становился вполне милым человеком.
— Нет, — ответил он.
Священник уже быстро шагал по улице.
— Нас трое братьев, видишь ли, — заметил он. — У старшего брата — ферма. Ее купил отец. В графстве Мит. — Он неопределенно махнул рукой в сторону Тары. — Я стал священником, а у младшего брата — книжный магазинчик. Надеюсь, твои дядя и тетя хорошо себя чувствуют?
Его дядя, женившийся на сестре отца Вилли, работал в пивоварне «Гиннесс». Отличная была работа. С хорошим жалованьем. С хорошим отношением к людям. Огромные строения пивоварни с соответственными ароматами высились, как некий гигантский храм, напитанный благовониями, словно в городе появился третий собор, объединивший все религии, — к западу от Дублинского замка, ближе к казармам Килмейнэма. В пивоварне работали по нескольку поколений семей, зная, что священная темная жидкость, которую они производят, есть источник жизненной силы людей. Возможно, отец Вилли надеялся, что дядя, у которого были только дочери — ни один сын не выжил, — и для Вилли найдет там местечко, а там, глядишь, Вилли сумел бы продвинуться повыше? И не намекал ли его отец на нечто подобное в тот день, когда они вместе с дядей были в городе и повели Вилли в паб, чтобы официально посвятить его во взрослую жизнь, купив ему большую кружку этой самой темной жидкости? Вилли не знал, но пока никаких предложений не прозвучало, и Вилли был втайне этому рад, потому что, хотя он не имел ничего против пивоварения, все же неловко было бы отказываться от такого дара.
— Да, святой отец.
Они действительно были в порядке. В полном порядке. Они были черт знает в каком порядке. Они дышали густым дублинским туманом, и им было хоть бы что.
— А твои кузины? У них ведь три дочери, так?
— Да, святой отец.
Они процветали. Если наивысшей мечтой мужчин было попасть на работу в пивоварню «Гиннесс», то и у женщин была своя мечта. В полумиле к югу от Дублинского замка, ближе к собору Святого Патрика, возвышался другой храм: кондитерская фабрика «Якобс».
Если квакеры давно уже тихо развивали коммерцию и создавали богатство Ирландии, то теперь некоторые из них, благодаря своему усердию, поднялись до настоящих высот, став патриархами: Якобсы, Ньюсомы, Бьюли. В их руках собрались огромные богатства. Сливочные крекеры «Якобс» и яркие коробки с бисквитами «Якобс» были уже известны во всем мире. А сами Якобсы, на обычный квакерский манер, были хорошими работодателями, и на них в Дублине работала почти тысяча четыреста мужчин и женщин, а перед Рождеством нанимались еще и дополнительные работники.
Конечно, женщинам платили меньше, чем мужчинам. Иначе мужчины пришли бы в ярость. Но две из трех дочерей тети Вилли уже сдельно работали в пекарне.
— Ну вот, почти пришли, — сказал отец Макгоуэн, когда они повернули на Килдэр-стрит.
На углу стояло здание с арками из красного кирпича и мрамора, как некий пышный восточный дворец, — бастион социального могущества, клуб на Килдэр-стрит. Интересно, подумал Вилли, мог ли отец Макгоуэн войти туда? Пожалуй, нет. Он наверняка и ногой не ступил бы в подобное место, разве что по какой-нибудь крайней необходимости. Об этом клубе Вилли только и знал, что там вполне могли иметься подземные лабиринты и какой-нибудь Минотавр.
Дальше они миновали Национальную библиотеку и Ленстер-Хаус, потом — Национальный музей. Ну, сюда-то заходить было можно. В конце улицы они повернули на Сент-Стивенс-Грин.
— А это отель «Шелбурн», — сказал отец Макгоуэн. — Здесь можно встретить прекрасных людей. — Затем, следуя непонятному для Вилли ходу мыслей, он спросил: — Полагаю, ты никогда не думал о том, чтобы стать священником?
Вилли учился в школе иезуитов. Хотя он частенько оказывался далеко не в начале списка успевающих, Христовы братья учили его старательно. Он ведь считался сообразительным. А значит, был возможным кандидатом в священники в будущем. Ну и священников очень уважали. Семья гордилась бы таким сыном. Не говоря уже о спасении собственной души.
— Мне кажется, я предпочел бы когда-нибудь жениться, — ответил Вилли.
— Ну и ладно, — сказал отец Макгоуэн. — Уверен, у Шеридана Смита нас ждет вкуснейшая еда.
Оливер Сент-Джон Гогарти был чем-то вроде молодого героя. Ученый, поэт, спортсмен. Профессор Махаффи из Тринити-колледжа говорил, что это лучший из всех бывших у него учеников, а он ведь учил и Оскара Уайльда, хотя, конечно, после суда и позорных разоблачений имя Уайльда перестало упоминаться в Дублине. Гогарти трижды получал литературные награды за свои стихи, представлявшие собой вершину поэзии. Преимущественно он пользовался греческим размером, предпочитая его английскому пентаметру, и был большим мастером иносказаний. С дымчато-голубыми глазами и блестящими, густыми каштановыми волосами, он напоминал пусть не греческого бога, но, по крайней мере, древнего ирландского героя.
— Я пытался привести своего друга Джойса, — любезно сообщил он хозяину дома, ставя у стенки свой велосипед. — Но он не захотел пойти.
Шеридан Смит не особо этим огорчился. Он не знал Джойса, но отлично осознавал, что Гогарти, будучи человеком великодушным, постоянно твердил о гениальности этого юноши и старался похвалить его при каждом удобном случае. Однако Шеридан был уверен, что Джойсу далеко до самого Гогарти. Кроме того, Гогарти был джентльменом, а бедный Джойс — нет. Шеридан представил рядом графа и Джойса и порадовался отсутствию юноши.
— Отец Макгоуэн приведет с собой какого-то бедного студента, — сказал он гостю. — Если я буду занят, вас не затруднит пообщаться с ним?
Вилли О’Бирн, подойдя к этому дому, ощутил некоторый трепет. Со стороны отца Макгоуэна, который и сам-то почти не знал Вилли, а просто иногда давал уроки в его школе, было очень великодушно проявить к мальчику такой интерес. Ведь, кроме этого священника и весьма ограниченных средств его собственной семьи, Вилли ничто не поддерживало в этом мире. Когда они повернули на Веллингтон-роуд и Вилли увидел большие богатые дома, смотревшие на него сквозь туман, он вдруг сообразил, что никогда не бывал в подобном доме. Хотя священник прямо не говорил, но было очевидно: он надеялся, что хозяин дома может как-то помочь Вилли. А что, если он произведет дурное впечатление? Не утратит ли тогда священник интерес к нему? Что он должен говорить в этом доме?
— Ты просто наблюдай за всем, — сказал вдруг отец Макгоуэн, как будто прочитав его мысли. — Если к тебе обратятся, вежливо отвечай. Ты отлично справишься. Иначе я и не привел бы тебя сюда. Ну вот, пришли.
Три минуты спустя Вилли, слегка побледнев, молча наблюдал за жизнью другого класса. До сих пор ему не доводилось встречаться с графом.
Граф Бирн, похоже, чувствовал себя не очень хорошо. Это был высокий, худой человек, его черные волосы, тронутые сединой, разделены пробором. Граф носил аккуратные усы. Нос его явно был крупноват для такой изысканной и ухоженной фигуры. Одет он был в новенький двубортный пиджак и брюки с манжетами — моднейшая штучка, которую едва ли видели даже в клубе на Килдэр-стрит, о котором граф мимоходом упомянул. В правой руке граф небрежно держал турецкую сигарету. Карие глаза графа смотрели мягко и меланхолично на любого, с кем он говорил. В данный момент это был молодой Гогарти, который явно не считал графа стоящим намного выше себя. В ответ на вопрос Гогарти о происхождении его титула граф тихо ответил:
— Я граф Священной Римской империи.
Его плохое самочувствие выдавало то, как он осторожно опирался на эбонитовую трость и как при этом слегка наклонялся влево. А Вилли, услышав его ответ Гогарти, как-то сразу немного успокоился. По крайней мере, эта пугающая личность была католиком.
Старая миссис Морин Смит начала расспрашивать Вилли о его жизни, и с ней было удивительно легко общаться. Граф заговорил с отцом Макгоуэном, а Гогарти подошел к Вилли и вовлек его в дружескую беседу. Вилли узнал, что Гогарти собирается стать врачом. Он был не намного старше самого Вилли, но Вилли сразу понял, что в сравнении с ним у этого молодого человека масса преимуществ. Вилли никогда не встречался с человеком, который с такой легкостью и простотой держался бы в обществе. Появились какие-то дети. Графиня ушла наверх со своей дочерью, которая, похоже, выбрала именно этот момент, чтобы заболеть. Наконец графиня спустилась вниз, но без дочери. Графиня, несмотря на свое богатство, была очень дружелюбной. А потом они все сели за стол.
Воскресные семейные обеды у Шеридана всегда были спокойными и веселыми. Дети сидели за столом вместе с взрослыми, но в определенный момент уходили. И только тогда разговор становился куда более интересным.
Вилли, к своему удивлению, быстро обнаружил, что никто не расспрашивает графа о его благородной жизни, зато сам он очень интересуется мнением собравшихся по множеству вопросов.
— В последние годы я редко бываю в Ирландии, — пояснил он, — и каждый раз, когда возвращаюсь сюда, все больше теряюсь. — Он улыбнулся. — Какое-то время назад мы постоянно слышали о самоуправлении. Но в последние десять лет о нем говорят меньше. Однако теперь мистер Редмонд, занявший место Парнелла, возглавляет в британском парламенте группу примерно из восьмидесяти человек, и надежды на самоуправление опять возродились. И еще мы постоянно слышали об экстремистах, готовых на любое насилие ради изгнания британцев. Что с ними случилось? Они исчезли? И ведь само британское правительство как будто делает все, что может, чтобы нейтрализовать влияние старых протестантов. Что все это значит? Неужели дух Парнелла восстал из могилы? Кем мы собираемся стать, британцами или ирландцами, протестантами или католиками? — Граф обвел взглядом присутствующих. — Отец Макгоуэн, скажите, за что выступает Церковь — моя Церковь?
— Это я вам точно скажу, — с улыбкой откликнулся священник.
— Поскольку в нем есть иезуитская жилка, — тоже с улыбкой начал Шеридан Смит, — это означает, что он ничего вообще вам не скажет.
Священник благодушно проигнорировал его слова.
— Многие священники, — заговорил отец Макгоуэн, — и даже некоторые епископы, памятуя о головокружительных днях Дэниела О’Коннелла, в какой-то мере склоняются к поддержке движения за самоуправление.
— Но они же уничтожили Парнелла, — напомнил ему хозяин дома.
— Они не могли игнорировать его прелюбодеяние, — рассудительно возразил отец Макгоуэн. — Тем более что оно стало общеизвестным. — Он отпил немного вина. — Но суть не в этом. На самом деле имеет значение и продолжает быть важным то, что преобладает все же мнение непреклонного кардинала Каллена. Конечно, он проклинает экстремистов. Тут и говорить не о чем. Но он не разрешает Ирландской церкви вмешиваться в политику на любой из сторон. Не забывайте, когда британское правительство предложило субсидировать Католическую церковь вместе с Англиканской и Пресвитерианской, он отказался принять их деньги. И если вы посмотрите на множество новых католических соборов, которые выросли в последние три десятилетия, то увидите, что мы прекрасно и без них обходимся. А значит, наша Церковь не стала склоняться и унижаться. И если мы хотим сохранить свой авторитет, то должны встать выше всех этих вещей. Тот факт, что кардинал много лет провел в Риме, без сомнения, помог ему обрести куда более широкие взгляды, чем имеют многие местные священники. И в отдаленной перспективе он окажется прав. И когда Ирландия станет независимой, а это обязательно случится, наша Церковь займет должное место как высший авторитет.
— Вы думаете, так будет?
— Без всяких сомнений. Редмонд и его сторонники в парламенте имеют восемьдесят голосов. Они будут давить на правительство, пока британцев не начнет просто тошнить от них. И рано или поздно, как это произошло с Парнеллом, после очередных выборов баланс власти изменится. И призом станет самоуправление. Мы просто должны набраться терпения. Но это произойдет.
— Понимаю, — с мягкой улыбкой произнес граф. — Вы сами не совсем отстранились от политики. Но скажите мне, Шеридан, вы такого же мнения?
— В общем нет. И я бы предсказал совсем другое будущее. — Шеридан немного подумал. — Прежде всего, святой отец, в ваших рассуждениях есть некая слабость. Редмонд может поддерживать выгодное соотношение сил в палате общин и добиться принятия неких законов. Но такое и раньше бывало, вспомните акт о самоуправлении Гладстона. Но есть еще палата лордов, и я подозреваю, они будут тормозить такие законы вплоть до Судного дня. — Он посмотрел на своих гостей. — Но это все равно не имеет значения, потому что нынешняя политика Британии в отношении Ирландии, похоже, сработает.
Несколько лет назад, когда британцы забрали местную власть из рук сквайров-протестантов и ловко передали ее в основном католикам — торговцам, ремесленникам, юристам, — землевладельцы соответственно утратили силу, напомнил всем Шеридан. А в этом августе появился новый, улучшенный Земельный акт.
— И если вы внимательно вчитаетесь в его статьи и термины, что вы увидите? Нечто необычное. Британское правительство весьма эффективно выкупает власть у протестантов. Еще лет десять, и с господством протестантов будет покончено. Полностью. Ирландия станет страной фермеров-католиков. И мне кажется, что Редмонд и его люди будут все так же добиваться самоуправления. Но если им это и не удастся, сомневаюсь, что в Ирландии найдется достаточно много желающих поднимать шум.
Шеридан Смит высказался. И выглядел явно довольным самим собой. Граф задумчиво кивнул. Его взгляд блуждал по сторонам. Потом остановился на Вилли.
— А вот интересно, что думает этот молодой человек? — добродушно спросил он.
Вилли почувствовал, что бледнеет.
Все теперь смотрели на него. И каких слов от него ждали? А вдруг он кого-нибудь обидит и потеряет все свои шансы? Вилли огляделся. Гогарти с любопытством наблюдал за ним. Чтоб ему!.. Сам-то он, конечно, обязательно скажет что-нибудь умное. Вилли бросил взгляд на отца Макгоуэна, и священник ободряюще улыбнулся ему. На что он его поощрял, черт побери?! Вилли глубоко вдохнул:
— Мой отец — арендатор. И все, чего он хочет, так это купить свою землю. — Вилли немного помолчал. Все кивнули. Ну ладно, пока все в порядке. Ему можно теперь и помолчать. Но тут же на память пришли его отец и миссис Бадж. Потом он подумал о своей матери и ее возмущении. Он сказал сейчас правду, но не всю. Знал ли об этом отец Макгоуэн? Может быть, он ожидал чего-то еще? А все вокруг, словно ощущая его колебания, молчали. Вилли уставился в стол, а потом — уж точно он проявил себя дураком — позволил высказаться своей совести. — Но правда в том, что ни он, ни моя мать не будут по-настоящему счастливы, пока последний протестант-англичанин не уйдет из Ирландии и Ирландия не станет свободной.
Ох! Он это сказал. Все как будто нервно вздохнули. Не погубил ли он себя только что? Ну, он наверняка высказался наперекор газетчику, а может, и рассердил его, а тот ведь мог дать ему работу. В общем, он проиграл еще до того, как открыл рот. Подписал себе приговор.
Граф, ничего не знавший о таких мирских делах, казался довольным. Гогарти, разбиравшийся во всем лучше, бодро вмешался.
— Он абсолютно прав, конечно! — воскликнул Гогарти. — Я и сам говорил то же самое. Но знаете, чего я боюсь больше всего в случае завоевания независимости?
— Не знаем, — улыбнулся Шеридан Смит, — но видим, что вы собираетесь нам это сказать.
— Я боюсь жуткой леди Грегори! — с чувством произнес Гогарти.
Все засмеялись.
— Это нечестно, Гогарти, — произнес Шеридан Смит. — Даже грубовато.
Но Вилли не было смешно. Он понимал, что Гогарти сказал это наполовину в шутку, вот только эта шутка его оскорбила.
Леди Грегори, вдова лендлорда из Голуэя, оставшись без мужа, принялась учить ирландский язык.
И она была в том не одинока. В последнее время возникло целое движение, прославлявшее богатое кельтское наследие Ирландии. Сами связанные с этим образы — великолепные древние иллюстрированные книги, гэльские кресты и артефакты с повторяющимися орнаментами — вызывали восхищение. Но что до слов, тут дело обстояло хуже. Ирландский язык был не слишком простым для изучения, если вы не владели им с рождения. Он в основном был распространен на западе, но массовые переселения и переезды в связи с Великим голодом изгнали его в дальние уголки Коннахта и в еще более дикие места. Многие даже думали, что он вообще исчез.
Но увлеченные люди спасли его. Йейтс, поэт, находил в нем вдохновение. Хайд, протестант, сын шотландского пастора и немки, основал Гэльскую лигу — Conradh na Gaeilge, — чтобы спасти древний язык от гибели, и теперь изо всех сил распространял его. Он даже вызвал скандал в Тринити-колледже, когда провозгласил, что его миссия — деанглизировать ирландский народ.
Но Вилли казалось, что именно леди Грегори, далекая от светских кругов, взяла на себя самую важную работу. Она не только углубилась в разговорный язык, но и стала изучать туманные и сложные обороты, которые можно было увидеть в средневековых манускриптах, да к тому же собрала всевозможные древние тексты, отыскав в них самые старые ирландские легенды и истории, которые, судя по всему, были записаны почти во времена святого Патрика. А потом перевела их на английский. Первое издание, легенды о великом воине Кухулине, вышло около года назад. Вилли дал почитать эту книгу один из приятелей, и он с жадностью проглотил ее. А вскоре должен был выйти новый сборник.
— Она вернула нас к нашим древним героям, — тихо произнес Вилли.
— Я этого и не отрицаю, — ответил Гогарти и смущенно улыбнулся. — Кстати, вы заметили, что самые большие поклонники ирландского языка носят английские имена? Йейтс, Грегори, Хайд. Но я хочу предложить вам мои наблюдения относительно леди Грегори, их у меня два. Первое касается диалекта. Она утверждает, что приведенный ею диалект принадлежит местному населению Килтартана. Возможно. Но если вы переводите на английский с сохранением ирландской грамматики, то результат выглядит неестественно. Я никогда не скажу в случае какой-то беды: «Великое горе воистину может лечь на меня». И я не могу испытывать теплых чувств к герою, который заявляет: «Не доверить же женщине то дело, которое я ныне держу в руках». Это просто ужасно. И так, страница за страницей, это становится навязчивым и тяжелым. Я вправе на это жаловаться, потому что мое собственное имя, Гогарти, безусловно, гэльское. И я не хочу, чтобы считалось, будто мои предки говорили именно так. А Йейтс, который точно так же увлечен древним ирландским, как леди Грегори, никогда не играет в такие игры. Он пишет на современном английском. Но он великий поэт.
Вилли сидел тихо. Он не знал, что тут можно сказать, но отец Макгоуэн молчать не стал.
— Справедливо в каком-то смысле, — кивнул он. — Но по вашим собственным прекрасным стихам, Гогарти, я вижу, что вам ненавистен простой скучный английский пентаметр. Английский, когда на нем говорят ирландцы, обретает особое богатство и ритмическую красоту. И тем не менее леди Грегори, при всей ее ограниченности, сослужила Ирландии прекрасную службу, так что ей следует аплодировать, а не насмехаться над ней.
— Полностью с вами согласен. Но теперь выслушайте мое второе возражение. Я боюсь такого оживления всего гэльского, какое преподносит нам леди Грегори, потому что это не есть ирландское. — Он замолчал, выжидая.
Вилли нахмурился. Возрождение всего гэльского на самом деле шло гораздо дальше литературы. Для большинства людей это означало еще и возрождение гэльского спорта, вроде древней и благородной игры хёрлинг. А в последние двадцать лет очень много поклонников завоевала Гэльская атлетическая ассоциация.
— Вам не нравится Гэльская атлетическая ассоциация? — спросил он.
— Не в этом дело. Но почему, если члена этой ассоциации замечают играющим в нечто вроде крикета, его тут же изгоняют?
— Вы не должны забывать о некоторой естественной реакции на засилье всего английского, — заметил отец Макгоуэн.
— Я ирландец, — возразил Гогарти. — Ирландец до мозга костей. Но я не желаю, чтобы меня вот так ограничивали. Да и что это вообще значит — быть ирландцем? Значит ли это быть кельтом? Я бы все-таки предположил, что кровь ирландцев — это наполовину кровь викингов, и она стала такой задолго до прихода англичан. А вы знаете, что каждое шестое ирландское имя на самом деле норманнское? Но что меня по-настоящему беспокоит, так это желание, отвернувшись от Англии, замкнуться на своем маленьком острове, отгородиться от большого мира. Но ведь в течение всей нашей истории мы были связаны с дальними берегами, с великой культурой, религией и торговлей католической Европы. Боюсь, из-за этой навязчивой гэльской идеи я, как ирландец, стану чем-то меньшим, чем настоящий ирландец.
И тут случилось самое примечательное за весь обед. Граф хлопнул ладонью по столу.
— А! — воскликнул он. — Ага!
Даже Шеридан Смит вздрогнул от неожиданности. Никто не подозревал, что эта высокорожденная личность может вдруг так оживиться.
— Вот это правильно, молодой человек! Не надо забывать о нас, «диких гусях», о великой ирландской общине в Европе!
Вилли уставился на него во все глаза. Он много слышал о «диких гусях», благородных людях, которые ушли из Ирландии два столетия назад, не желая жить под английским господством. Но он никогда не думал, что увидит одного из них. Так, значит, этот странный аристократ был из «диких гусей». Почему-то Вилли никак этого не ожидал.
А на графа напало красноречие.
— Нет ни одной католической страны, ни одного крупного города, где вы не нашли бы нас. Военные и юристы, священники и торговцы — и всегда это люди чести, уважаемые люди. И мы никогда не забываем. Мы остаемся ирландцами. Во всех столицах вы найдете ирландские колледжи. И один из таких беглецов, как вы знаете, основал в Праге Ирландский францисканский колледж. И если мне позволено будет сказать, ни один из народов не завоевал больше почестей. Множество ирландцев получили орден Золотого руна. А что может быть выше такой награды? Двести человек являются рыцарями ордена Сантьяго в Испании. Что до титулов… — Взгляд графа стал мечтательным, приобретя почти мистическое выражение. — Берки и Батлеры, Лесли и Таафе, Каваны, Уолши… Граф фон Валлис — это Уолш из Каррикмайнса. И таких много. А в моем собственном роду множество баронов Бирнов. И мы, хотя теперь зовемся графами Бирнами, до бегства были О’Бирнами.
— Которыми из множества О’Бирнов? — спросил отец Макгоуэн.
— У нас было скромное имение, — ответил граф. — Вы можете и не знать ничего о том месте. Оно называется Ратконан, это довольно высоко в горах Уиклоу. Теперь им владеет семья по фамилии Бадж, — добавил он, вполне аристократически пожав плечами. — О них мне ничего не известно.
О’Бирн из Ратконана? Вилли изумленно вытаращил глаза. Ему никогда и в голову не приходило, что вот такой знатный человек может быть как-то связан с его домом. И тут вдруг его осенило. Черт побери! А мы ведь думали, что это наша земля…
Высказывание графа так ошеломило всех, что за столом воцарилось молчание.
Пока, как мог бы поклясться Вилли, старая миссис Смит, не сказавшая до сих пор ни слова, не потянула довольно громко носом, затем тихо произнесла:
— Мне кажется странным, что никто не упомянул о самом важном. Потому что Ирландия не одна, их две.
Миссис Смит была уже старой леди, и в ее жизни все было в порядке, но Вилли показалось, что за бледным морщинистым лицом миссис Смит кроется нечто спокойное, но при этом до странности холодное и решительное.
— Если бы мой муж, да упокой Господь его душу, не спас меня вовремя, большинства из вас здесь сейчас просто не было бы. Я бы умерла во время Великого голода в Клэре, как все мои родные. — Она посмотрела на Вилли. — Ты знаешь, как много ирландцев уехало в Америку за десять лет, пока продолжался Великий голод? — Ответа она ждать не стала. — Три четверти миллиона. А в следующие десять лет? Еще миллион. И люди продолжают уезжать год за годом. Ирландий теперь две: Ирландия в Ирландии и Ирландия в Америке. И Америка помнит Великий голод. — Она посмотрела на Шеридана. — Твой кузен Мартин Мэдден собирает в Бостоне деньги для Ирландии. Ты об этом знал?
— Вообще-то, нет.
— Сын моего брата Уильяма. Уверена, он теперь вполне процветает. Он собирает деньги. И это будет продолжаться до тех пор, пока в Ирландии есть люди, которые хотят освободиться от Англии. Англичане могут пытаться задавить ирландцев в Ирландии своей добротой, но им никогда не утихомирить ирландцев в Америке.
— Или тех, кто живет в Австралии, — негромко добавил отец Макгоуэн. — Но они уж очень далеко.
— Можно спросить, кому Мартин Мэдден дает деньги? — поинтересовался Шеридан Смит.
— Тем, кто в них нуждается, — ответила его мать с мрачной решимостью.
— О-о… — Шеридан явно смутился.
Граф с любопытством посмотрел на старую леди.
— Пойду-ка я проведаю дочь, — заявила графиня.
— Наверное, мы все покончили с едой, — сказал Шеридан жене.
— Я, пожалуй, разомну ноги, — произнес отец Макгоуэн. — Гогарти, у вас есть минутка?
Он многозначительно посмотрел на Шеридана Смита, когда они с Гогарти выходили, и взглядом показал на Вилли.
— Ох да, — кивнул газетчик, радуясь возможности сменить тему, и тут же отвел Вилли в сторонку.
Ему не нужно много знать о нем, сказал он юноше, чтобы говорить свободно. Вполне достаточно рекомендации отца Макгоуэна. Знает ли Вилли, чем хочет заниматься в жизни? Ну, он сам в таком возрасте не знал.
— Да и как узнаешь, пока не попробуешь одно-другое? — любезно произнес он.
Но в газете есть разные небольшие дела, задания, благодаря которым молодой человек мог бы, так сказать, присмотреться к миру. Конечно, плата будет невелика. А он собирается и дальше жить с дядей и тетей? Хорошо. Хм… Конечно, Вилли никогда не приходилось что-то продавать.
— Но вы можете открыть в себе такой талант. У меня есть хороший человек, который продает места в газете под объявления. В основном это связано с торговлей, ну и всякое другое тоже бывает. Объявления очень важны для газеты. И вы можете какое-то время поработать с этим человеком. Да и другие дела найдутся. Вас это устроит? — (Конечно, Вилли это устраивало.) — Вот и прекрасно. Приходите в редакцию завтра утром. Ох… — Взгляд газетчика вдруг метнулся к двери, и его глаза расширились.
Вилли тоже вытаращился.
Маленькой девочке, которая вошла в комнату вместе с графиней, было, наверное, лет пять или шесть. Бледная и худенькая, с гривой черных как вороново крыло волос и зелеными глазами, изумрудно-зелеными, которые, казалось, светились изнутри. Вилли в жизни не видел подобных глаз.
— Ей уже лучше, — сообщила графиня.
— Я проголодалась, — заявила малышка. — Привет, прабабуля! — Она подбежала к старой леди и поцеловала ее.
— А я твой двоюродный дед Шеридан, — сообщил Смит. — Ты была совсем крохой, когда я видел тебя в последний раз. Ты меня помнишь?
— Нет, — ответила девочка и тут же просияла улыбкой. — Но теперь буду знать. — Она повернулась к Вилли. — А ты кто?
— Просто Вилли, — ответил он.
— Как поживаешь, просто Вилли? А меня зовут Кейтлин. Это потому, что я ирландка.
— Просто Кейтлин?
— О-о… — Девочка засмеялась. — Я поняла. Я графиня Кейтлин Бирн.
— А я Вилли О’Бирн.
— Правда? — Девочка вопросительно посмотрела на отца. — Так мы родня?
Шеридан Смит мягко вмешался:
— Отец Макгоуэн собирается уходить и просит вас проводить его домой. Идемте, я покажу вам, где он. — Но у двери он задержал Вилли. — В Дублине вы, конечно же, будете встречаться с самыми разными людьми. С кем-то стоит поддерживать знакомство, а с кем-то — нет. Но вы всегда можете спросить у меня, если захотите.
— Спасибо, — поблагодарил Вилли.
Шеридан Смит кивнул:
— И пожалуй, еще один маленький совет. Не стоит уж слишком доверяться кому-то, понимаете? Даже отцу Макгоуэну. — Он немного помолчал, а Вилли смотрел на него с уважением. — Вы знаете его брата? У него книжная лавка.
— Просто видел как-то.
— Хорошо. Так вот вам мой совет: держитесь от него подальше.
Шагая обратно сквозь туман, который, похоже, собирался снова заполнить собой осенний день, Вилли погрузился в размышления. Так много случилось открытий, так много новых впечатлений за такое короткое время. Его ум до сих пор пытался разобраться в них. Да еще это странное потрясение от встречи с самым прекрасным ребенком из всех, кого ему приходилось видеть, и неожиданное предостережение. Вилли просто не знал, что с этим делать.
И как удивительно, что та старая леди оказалась Мэдден из графства Клэр. Его собственную бабушку звали Нуалой Мэдден, и она была из тех же мест. Но он видел фотографию бабушки, и она ничуть не напоминала ту старую леди, с которой он только что познакомился. Ну, фамилия Мэдден часто встречается в Коннахте. И вероятность родства со старой леди была для Вилли не больше вероятности оказаться графом.
И тем не менее в этот туманный день он не мог избавиться от ощущения, что весь мир опутан паутиной тайных родственных связей. Возможно, эти нити тянулись где-то под землей или над туманом, как птичьи стаи, вечно мигрирующие, вечно летящие куда-то.
— О чем ты думаешь? — спросил священник.
— Я думал, святой отец, о странной взаимосвязи всего со всем, — честно ответил Вилли.
— А-а… Действительно. Но для нас это один из способов увидеть Божественное провидение.
— Да, — согласился Вилли. — Пожалуй, так.
— А другое доказательство — то, что ты получил работу, — бодро добавил священник.
Следующие месяцы стали для Вилли весьма волнующими. Он делал, что ему велели, мотался по городу в поисках заказчиков на объявления и стал весьма полезен Шеридану Смиту, который через несколько месяцев заявил, что вполне доволен юношей. Он даже немного повысил ему жалованье. И тетя с дядей обрадовались, получив деньги за проживание.
Шеридан Смит присматривал за Вилли и в другом смысле.
— На эту книгу я писал рецензию. Но мне она не нужна. Если не хочешь ее прочитать, отдай кому-нибудь, — небрежно говорил он.
И замечал, что его служащий обязательно читал книгу. Шеридан раздобыл следующий том работы леди Грегори и таким же образом вручил его юноше, и тот с восторгом погрузился в истории о детях Лира, Диармайта и Грайне, о Финне Маккуле и многих других, каким бы языком это ни было написано. А когда добрая леди и поэт Йейтс открыли новый Театр Аббатства, Шеридан мог сунуть Вилли билет и заметить:
— Они нам иногда присылают бесплатные билеты. Пойди, если хочешь.
Несколько раз за то лето Вилли ездил повидать родных. И в каждый свой приезд имел длинные разговоры с отцом. Миссис Бадж все лето провела в Ратконане, но потом, зимой, часто ездила в Дублин, где у нее был небольшой дом в Ратмайнсе. Оттуда она делала вылазки в центр города.
— В Дублине у нее даже больше возможностей быть сумасшедшей, чем здесь, — с горечью заметил его отец.
В последнее время он старался по возможности избегать миссис Бадж. Но тем не менее ему было кое-что от нее нужно. После долгих обсуждений он наконец предложил:
— Пойди к ней, Вилли, и поговори там, в Дублине, если хочешь. Может, у тебя лучше получится.
Однако лишь к концу следующего года Вилли наконец набрался храбрости, чтобы отправиться в Ратмайнс к миссис Бадж. Дом у нее был скромный — всего два этажа, с маленьким садиком впереди, причем в этом садике росли вечнозеленые кусты, загораживавшие свет. Вилли подошел к парадной двери и был встречен незнакомой ему горничной. Должно быть, миссис Бадж наняла ее в Дублине. Женщина предложила Вилли посидеть на стуле в узком холле.
Он гадал, миссис Бадж такая же в Дублине, какой была в Ратконане. Там считали, что с каждым годом она становится все более странной.
— Но она постоянно в курсе всего, имей в виду, — предупредил Вилли отец. — Если чья-то корова начинает плохо доиться, она узнает об этом раньше тебя, и помоги тебе Бог, если что-нибудь в доме окажется не на своем месте.
Но тюрбан, похоже, чуть ли не прирос теперь к ее голове, и она постоянно читала странные книги, посвященные, как говорили, оккультизму.
Как-то раз, примерно через год после ее переезда, она отправилась в ближайшую англиканскую церковь. Обычно протестанты были только рады новым прихожанам. Несколько лет назад Гладстон добился отделения Церкви от государства, и ей теперь не хватало официальной поддержки, которой она пользовалась прежде. Количество лендлордов-протестантов постепенно сокращалось, и никто, по крайней мере в Ратконане, никогда не слышал, чтобы Ирландская церковь обзавелась новыми прихожанами в последнее время. Поэтому пастор с надеждой взглянул на миссис Бадж, усевшуюся как-то утром на скамью в его церкви, даже тюрбан его не смутил.
Однако поведение леди было не слишком многообещающим. Она просто сидела на скамье. Ее лицо не выражало ни одобрения, ни неодобрения. Она вполне могла быть неким бесстрастным наблюдателем из какого-нибудь далекого мира. И к облегчению пастора, она больше не приходила.
В обители миссис Бадж была передняя гостиная, соединенная со столовой, выходившей окнами на садик за домом. Когда Вилли проводили в эту гостиную, он сразу отметил, что шторы наполовину задернуты и в комнате царит полумрак. В камине горели поленья, а лампа рядом с большим креслом с подголовником бросала круг света, в котором миссис Бадж, очевидно, читала газету. На одной стене висела картина начала XIX века, на которой изображался Ратконан, на другой — какая-то спортивная афиша, а почти рядом с ней — фотография индийской стены с резными эротическими фигурами. Вилли вспомнил, что видел ее в большом доме. Неужели миссис Бадж привезла ее с собой как некий талисман? На низком столике лежали театральные программки. Похоже, миссис Бадж ходила на мюзиклы, как большинство жителей Дублина.
Но, кроме того, Вилли заметил и брошюру, на которой, насколько он смог разобрать, было написано: «Теософическое общество». И если миссис Бадж принимала гостей именно здесь, то эта комната явно была ее личной берлогой. Может, ее гости являлись членами избранного круга. Отец Вилли клялся, что миссис Бадж проводит спиритические сеансы. Вполне возможно.
На ней снова был тюрбан, на этот раз из коричневой ткани с пестрым орнаментом. На плечи миссис Бадж набросила индийскую шаль. Она не слишком изменилась за прошедшие годы, разве что ее щеки немного обвисли.
— А ты довольно молод, Вилли, — сказала она.
Вилли посмотрел на стул, и миссис Бадж жестом велела ему сесть. На этот раз Вилли не испытывал страха перед ней. Месяцы, проведенные в деловом мире Дублина, придали ему уверенности в себе. В конце концов, он пришел по делу. К тому же он успел приобрести достаточно приятные манеры. И он вежливо, но четко объяснил суть вопроса.
— Я пришел, миссис Бадж, — сказал Вилли, — от имени моего отца.
По новому земельному законодательству Уиндхэма условия были воистину экстраординарными. Цена, которую предлагалось уплатить за землю, в двадцать восемь раз превышала ежегодную арендную плату. Владелец земли получал эти деньги от правительства сразу и вполне мог вложить их в какое-нибудь дело с более высоким доходом. А от арендатора не требовалось даже первого взноса. Правительство просило с него лишь три процента в течение шестидесяти восьми лет. И, кроме того факта, что даже самая скромная инфляция в итоге свела бы выплаты к ничтожным суммам, это должно было почти наверняка сократить количество арендаторов, желающих уехать с острова. В общем, правительство решило потратить некую часть богатств империи на то, чтобы выкупить земли у протестантов и вернуть их в ирландские руки. А потому вряд ли стоило удивляться, что и в самом деле уезжать стали меньше. Похоже, сбывалось предсказание Шеридана Смита: кое-кто уже подсчитал, что третья часть острова, а то и больше, может сменить хозяев.
Вилли очень точно и очень вежливо изложил пункты нового закона. Он объяснил, что предлагаемые условия настолько хороши, что и его отец, и, без сомнения, сама миссис Бадж вряд ли захотели бы упустить возможность. Он подчеркнул, пусть и не совсем искренне, что его отец весьма привязан к имению Баджей и много сделал для него и теперь ему хочется жить в гармонии с этим миром. И если что-нибудь изменится, так только к лучшему. Вилли говорил уважительно и любезно. Миссис Бадж внимательно выслушала его. Когда Вилли закончил, она некоторое время молчала, потом чуть заметно улыбнулась:
— Вилли, ты веришь в переселение душ?
Вилли уставился на нее, сначала вообще не поняв вопроса.
— Я должен спросить об этом отца Макгоуэна, — наконец выдавил он. — Но вообще вряд ли…
— Ты должен изучить этот вопрос! — воскликнула миссис Бадж. — Это очень, очень интересная тема! Я вот все думаю, кем ты мог быть в прошлой жизни? Сама я… — Она не высказала этого вслух. Возможно, ей пришло на ум нечто слишком необычное для скромного слуха. — Все мы, — она посмотрела на фотографию на стене, — нечто большее, чем нам кажется. Здесь, в Дублине, многие интересуются теософией, знаешь ли. И сам мистер Йейтс тоже изучал этот вопрос. Мы все связаны между собой. Но это становится ясным только тогда, когда мы достигаем духовного просветления. Буддизм, индуизм, даже христианство — они взаимосвязаны. И это путь в будущее, я уверена. Мы слишком много думаем о материальном.
Обладали ли связностью ее собственные мысли? Трудно сказать. Но Вилли с легкостью признал в ней определенный тип личности. Миссис Бадж явно решила стать городской сумасшедшей. Таких было довольно много. Вилли предполагал, что эти люди есть и в других местах, но Дублин, с его особой праздной атмосферой, похоже, способствовал увеличению их числа.
Если вам просто нечем заняться и, возможно, слегка не хватает денег — а кому их хватает? — то стать эксцентричным чудаком — самый легкий путь приспособиться к жизни. Так можно ускользнуть от любых проблем.
И тут Вилли внезапно понял эту женщину. Конечно, ей больше не за что было держаться. Земля в Ратконане — это все, что у нее осталось. И она никогда ее не отдаст. Все эти разговоры о духовном ничего не значили, это просто потрепанная старая ширма, за которой скрывались ее подлинные намерения.
— А как насчет земли моего отца? — спросил он.
— Мне нужно подумать, Вилли. Но всем нам и так ведь хорошо. Скажи это своему отцу. Все это временное, преходящее! — воскликнула она, словно ее слова могли что-то значить.
Вили склонил голову. Горничная проводила его к выходу.
Эта старуха решила, что одурачила меня, думал Вилли. Но ей это не удалось. И с этого момента началась война.
На следующий день он шел от Тринити к Меррион-сквер, соображая, что написать отцу и какие подробности встречи с миссис Бадж не стоит упоминать, когда заметил, что зеленая дверь книжной лавки Макгоуэна открыта. Вилли казалось, что он никогда прежде не видел ее распахнутой. Вроде бы ей положено быть закрытой. И просто из-за столь необычного обстоятельства он решил туда заглянуть. Да и почему нет, в конце концов? Может, Шеридан Смит и говорил ему, что лучше избегать владельца, но это же определенно не запрет на то, чтобы посмотреть на книги. Кроме того, Вилли было любопытно проверить, покажется ли ему мистер Макгоуэн таким же пугающим, как в детстве. И он вошел в лавку.
Макгоуэн сидел за письменным столом в глубине помещения. Он изучал какую-то книгу, явно соображая, как следует ее оценить, и при этом курил сигарету. Пальцы книготорговца пожелтели от никотина. Вилли подошел к книжному стеллажу. Прямо перед ним оказалась книга проповедей какого-то богослова XVIII века. Вилли взял книгу и сделал вид, что просматривает ее.
И точно, на него тут же уставился глаз книготорговца. Но Вилли не было страшно, он продолжал держать книгу и даже гордился собой.
— Вам нравится эта книга? — спросил Макгоуэн.
— Нет.
Вилли пошел вдоль стеллажа. Книга о южноамериканских растениях, с иллюстрациями. Вилли посмотрел иллюстрации. Весьма качественные.
— Странно, — заговорил Макгоуэн, — что вас не интересуют книги и вы не занимаетесь спортом. Вы состоите в Гэльской атлетической ассоциации?
— Нет.
— А вы говорите на языке?
Ирландский. Гэльский. Почетный язык.
— Немного. Моя мать говорит.
— Вы должны вступить в ассоциацию. Хотя, думаю, вам и так хватает физических нагрузок, — заметил он, — раз вы бегаете по поручениям Шеридана Смита. — Он увидел, как Вилли слегка вздрогнул от удивления. — Я знаю, кто вы такой. Брат мне о вас рассказывал.
— Отец Макгоуэн всегда был очень добр ко мне.
— Не сомневаюсь. Он вообще добрый человек. — Хозяин лавки сделал еще затяжку. — Но заблуждающийся.
Он почти чудесным образом, как показалось Вилли, продолжал извлекать дым из обгоревшей бумажки, которую держал между пальцами, сделал еще две затяжки, а потом безразлично бросил окурок в маленькую каменную пепельницу, выжав остатки жизни из крохотного огонька ногтем большого пальца, затем поднял голову, словно проверяя, здесь ли еще Вилли.
— Да, безусловно, хороший человек. И очень печально, — добавил он тоном сожаления, — что он стал священником.
Вилли в изумлении уставился на него:
— Мне казалось, семья должна гордиться…
— Мать гордилась. И отец тоже. — Макгоуэн посмотрел на книгу, лежавшую на столе, написал карандашом на внутренней стороне переплета «Десять шиллингов» и закрыл книгу. — Я лично не вижу особой пользы в священниках. Именно священники погубили Парнелла.
— Ну, то был особый случай.
— Люди в девяносто восьмом году знали, как указать священникам их место. И Эммет это умел.
Вилли кивнул. В Дублине очень многие придерживались такого же мнения. Сам Вилли не испытывал желания присоединиться к какому-то политическому движению, но стоило войти в любой дублинский паб, как вы тут же слышали весьма категоричные высказывания. Экстремистов было немного, зато социалистов хватало. Потом были еще члены Ирландского республиканского братства, фении, наследники Французской революции и «Молодой Ирландии», но они держались в тени. Большинство из них не желало терпеть вмешательство Церкви. Еще была Ирландская парламентская партия Редмонда, которая, конечно же, неторопливыми парламентскими методами боролась за самоуправление. Но обычно трудно было понять, к чему склоняются те или иные люди. Гэльская атлетическая ассоциация официально занималась спортом, но на самом деле была квазиполитической. И фении в ней тоже были. Судя по всему, брат священника принадлежал к одной из этих группировок, может быть даже к радикальному крылу.
Вилли, решив, что ответить нужно, но при этом лучше оставить в стороне и Церковь, и отца Макгоуэна, заметил:
— Я был бы рад видеть, как англичане уходят из Ирландии. — Он подумал о миссис Бадж. — Но я сильно сомневаюсь, что такое когда-нибудь произойдет.
Книготорговец встал. Он оказался довольно тучным. Но неожиданная живость его походки говорила, что он может двигаться очень быстро, если захочет.
— Я здесь продаю не только книги, но и газеты, — сказал он. — Старые выпуски. — Он достал с одной из полок большой лист. — Вот это — первый выпуск «Объединенных ирландцев». Артур Гриффит напечатал его к столетию тысяча семьсот девяносто восьмого года. — Макгоуэн кивнул. — Замечательный поступок. — Он показал газету Вилли. — Вам следует это прочитать. — Он повернулся и направился к открытой двери. В лавке никого не было, кроме них двоих. — Проблема Шеридана Смита, — начал Макгоуэн, — и ему подобных, не говоря уже о фермерах-католиках, которых вообще ничто не интересует, кроме их земли, в том, что они с легкостью отдадут естественные права Ирландии. Нашу национальную сущность. Еще двадцать лет — и все мы будем жить как западные бритты, чего как раз и хочется англичанам. И единственный способ остановить это — выгнать их, когда настанет подходящий момент, когда мы все будем к этому готовы. Можно добиться их ухода и через парламент. Или более радикальными средствами. Может быть, это сделают фении. С помощью Клэна Ная Гэла из Америки, конечно. — Он улыбнулся. — Из Америки приходят деньги. Я, знаете ли, жил там. Много лет назад.
— Когда я был еще ребенком, — сказал Вилли, — Клэн Най Гэл посылал людей с бомбами в Англию. Но ничего хорошего из этого не вышло, большинство из них поймали.
— Знаю. — Макгоуэн вздохнул. — Некоторые из них получили двадцать лет тюрьмы. И один мой хороший друг… — Он остановился на полуслове. — Но с тех пор они поумнели. — Макгоуэн снова помолчал. — Ладно. — Он вернул газету на стеллаж. — Вы ведь знаете, что Церковь говорит о фениях. Епископ Мориарти конкретно. Их с Калленом водой не разольешь. «Вечность недостаточно длинна, а ад недостаточно горяч, чтобы наказать их за грехи» — вот что он сказал. Можете об этом подумать, — закончил он. — Только не говорите моему брату.
— Нет, — согласился Вилли. — Не скажу.
— Приходите еще, — предложил Макгоуэн. — Вам следует прочесть ту газету. И еще у меня есть почтовые открытки из Франции.
Вилли отправился дальше и по дороге думал о запрете Шеридана Смита. Ну нельзя ведь было сказать, что он намеренно его нарушил. Он никак не мог ожидать, что книготорговец заговорит с ним. Да и в любом случае встреча уже состоялась, и ничего страшного не случилось.
1909 год
В этот день она ждала его визита с волнением. А он был рад видеть ее счастливой.
Короткий декабрьский день уже близился к концу, когда Шеридан Смит и Кейтлин пересекли Лиффи. Ей пока было всего одиннадцать, но в этот день она причесала волосы на взрослый манер и взяла Шеридана под руку. А он ужасно гордился. И весело улыбался себе под нос. Они гуляли не как отец с приемной дочерью, а как парочка влюбленных.
Длинные ноги Кейтлин несли ее легко. Она была на четверть графиней, а на три четверти дитя гор: и ее мысли, как знал Шеридан, двигались с такой же величественной свободой.
Прошло два года с тех пор, как умер ее отец. Кейтлин с матерью пожелали остаться в Ирландии. Они купили дом на Фицуильям-сквер, но сохранили имение. А поскольку Шеридан был всего на десять лет старше матери Кейтлин, то вполне естественно взял на себя роль отца. И хотя в строгом смысле он был двоюродным дедом девочки, она называла его просто дядей Шерри.
Смерть отца сильно повлияла на девочку. И в итоге она сблизилась со старой Морин.
Шеридан невольно восхищался своей матерью. Ей, конечно, повезло, что она сохраняла силы и здоровье в столь преклонном возрасте. Возможно, ее закалили тяготы, пережитые во время Великого голода, или, возможно, она и до того была необычайно выносливой. Она прекрасно выглядела, слух у нее по-прежнему был острым, и она легко поднималась по лестнице, так как не желала переносить свою спальню вниз. После смерти графа Шеридан не увидел ничего странного в том, что девочка находила особое удовольствие в обществе старой женщины, представлявшей и долгую жизнь, и семейную преемственность. К тому же их еще больше сблизил один случай.
— Как жаль, — сказала как-то раз старая леди, — что ты не говоришь на языке твоих предков и со стороны твоего отца, и с моей стороны тоже. Говорят, сейчас даже модно знать ирландский.
И действительно, благодаря объединенным усилиям Йейтса, его друзей, Гэльской атлетической ассоциации и Гэльской лиги Ирландский университет включил ирландский язык в число обязательных экзаменов при поступлении.
— Думаю, мне понравилось бы его учить, — ответила Кейтлин. — А вы можете меня научить?
И с тех пор три раза в неделю старая леди и ребенок в течение часа занимались изучением языка. Старая Морин вполне профессионально учила Кейтлин говорить на гэльском.
Эти уроки пробудили в девочке интерес к истории. Ее прабабушка рассказывала Кейтлин о временах своей молодости, о Великом голоде, о своем бегстве в Дублин. Говорила о родственниках в Америке и о горьких чувствах к Англии.
— Твоих собственных предков, О’Бирнов, вынудили бежать из Ирландии, Кейтлин, не забывай об этом, — подчеркивала Морин. — «Дикие гуси», так их называли. Перелетные птицы. И посмотри, чего они добились? У них есть титулы и поместья, они это завоевали, удача не оставляла их. Мэддены в Америке тоже не бедствуют, слава Богу. Только англичанам приходит в голову презирать ирландцев. Но в какой бы части мира ирландцы ни оказались, они везде поднимаются высоко.
В последнее время Шеридан стал слышать от Кейтлин весьма неглупые вопросы о политической ситуации, и это радовало его. Есть ли действительно надежда на то, хотела знать девочка, что Ирландия наконец-то освободится от Англии?
— Вообще-то, — отвечал он, — события как раз приобретают интересный оборот. — И объяснял почему.
Поворот событий начался в некоем обсуждении, которое, вообще-то, не имело прямого отношения к Ирландии. В 1909 году в лондонском парламенте произошли перемены огромного значения. До сих пор палата лордов, традиционно состоявшая из консервативных пэров, получавших места по наследству, всегда могла блокировать принятие новых законов. И вот нынешнее либеральное правительство, столкнувшись с тем, что их бюджет был подобным образом блокирован, под лидерством Редмонда и ирландских членов парламента только что добилось изменения в конституции. И с этого времени лорды более не могли блокировать законы, а могли только затормозить их принятие. В уплату за свою помощь ирландская партия добилась обещания того, что будет подготовлен и представлен парламенту новый закон о самоуправлении.
— В прошлом, — объяснил Шеридан девочке, — акты о самоуправлении, дающие Ирландию свободу, благополучно проходили через британскую палату общин. Но Ирландия до сих пор свободы не получила, поскольку эти законодательные акты всегда блокировались палатой лордов. Но если такой закон в следующий раз пройдет через палату общин, то лорды уже не смогут его запретить. И те, кто хочет отделения Ирландии, получат свое без всякого кровопролития. Теперь это просто вопрос времени. Думаю, это произойдет в ближайшие годы.
— Но это ведь хорошо, да, дядя Шерри?
— А ты как думаешь?
— Я думаю — хорошо.
Сегодняшняя их прогулка стала результатом обещания, данного Шериданом две недели назад. Он вел Кейтлин на репетицию в Театр Аббатства.
Это было что-то новое — очарованность Кейтлин театром. Они с матерью с удовольствием ходили на обычные в Дублине пантомимы и в мюзик-холл. Но развившийся не по возрасту интерес к драме был, конечно же, результатом влияния старой Морин.
А интерес самой старой леди к Театру Аббатства возник довольно неожиданно.
В январе 1907 года Йейтс и леди Грегори добились постановки пьесы Джона Миллингтона Синга, наделавшей много шума. «Удалой молодец — гордость Запада» отличался весьма запоминающимся языком и анархическими идеями, и это было нечто такое, чего дублинская публика никогда прежде не видела. И публике пьеса не понравилась.
— Это не Ирландия! — возмущались зрители.
— Живые люди так не говорят! — заявляли они о языке пьесы.
А странные поступки героев…
— Да это просто бред больного воображения!
К концу спектакля в зале едва не начался бунт.
— Но я слышал такую речь на западном побережье, — отвечал драматург. — И даже в некоторых дублинских кварталах.
В общем, разговоров было так много, что Морин потребовала от Шеридана, чтобы он повел ее на этот спектакль.
— Я сама с запада, — заявила она, — так что в состоянии судить.
В зале стоял ужасный шум, поскольку многие пришли лишь для того, чтобы освистать пьесу. Слышно было плохо, но Морин заявила, что спектакль ей понравился. Однако куда важнее было то, что она, похоже, одобряла усилия театра в продвижении ирландской драмы, и, к удивлению Шеридана, Морин, которой было уже за девяносто, вдруг начала ходить в театр. И посещала его почти каждый месяц. А теперь Морин решила, что и Кейтлин должна ходить с ней. Мать Кейтлин опасалась, что девочке станет скучно. Но ничего подобного. И даже как раз наоборот. Вплоть до того, что недавно Кейтлин заявила о своем желании пойти на сцену.
— Ох, дорогой Шерри! — жаловалась Шеридану ее мать. — Моя дочь просто заболела сценой! И что мне делать?
— Ничего, — с улыбкой ответил Шеридан.
Ничего необычного не было в том, что одиннадцатилетняя девочка заразилась театральной болезнью. Он воспользовался своими связями в театре, чтобы устроить поход за сцену во время репетиции, волнение Кейтлин было неописуемым.
Они прошли по мосту через Лиффи. Впереди протянулась широкая Саквилль-стрит. Слева возвышалось приземистое, похожее на казарму, здание главпочтамта, с ионическим портиком и шестью колоннами. Перед ним, в центре улицы, красовалась высокая колонна Нельсона, придававшая этому месту имперский вид. Эту колонну, бывшую старше ее более высокой сестры на Трафальгарской площади в Лондоне, установили в честь великого английского адмирала. Шеридану она нравилась. Ему казалось, если такое сооружение ставят посреди улицы, то оно должно приносить какую-нибудь пользу. Вы и в самом деле могли подняться по внутренней лестнице колонны на площадку у самой верхушки, и оттуда открывался великолепный вид на город. Они с Кейтлин как раз подходили к колонне, когда увидели отца Брендана Макгоуэна.
Он тепло поздоровался с ними. Да, у них все в порядке. А заметили они, какой сегодня резкий ветер дует с востока? Ну, еще почувствуют, когда подойдут к Эбби-стрит. А он просто вышел на обычную прогулку. Священник бодро попрощался с ними и зашагал на запад. Ветер дул ему в спину, и он словно плыл под полными парусами. А Шеридан с Кейтлин повернули на Эбби-стрит и подошли к театру.
— Вы упустили мистера Йейтса, он только что был здесь, — сообщил им швейцар.
Но Йейтса можно было увидеть в Дублине практически в любой день. Стоило только пройтись по Сент-Стивенс-Грин, и вы бы заметили его высокую фигуру, клок черных волос, падавших на лоб… Поэт рассеянно бродил вдоль улицы, погрузившись в свои мысли.
Оказавшись в театре, Шеридан позволил себе передохнуть. Девочку он передал в руки своих знакомых, а сам мог посидеть в пустом зале, пока ей показывали закулисный мир. Костюмерные, гримерные, закулисная система канатов и шкивов, огромные помещения, где хранились декорации. Обычная театральная жизнь наверняка казалась девочке настоящим волшебством. Потом появился режиссер. Началась репетиция. Шеридан не видел Кейтлин, но знал, что она должна была стоять где-нибудь за кулисами, следя за каждым движением, вслушиваясь в каждое слово. Даже для него, давным-давно привыкшего к подобным вещам, все равно оставалось нечто особенное в театральной атмосфере, которая для влюбленных в театр была чем-то даже бóльшим, нежели некое религиозное пространство, это было вечностью. Шеридан сидел в пустом зале, закрыв глаза.
Прошло полтора часа, прежде чем появилась Кейтлин. Ее глаза сияли. Визит явно оказался удачным. Девочку сопровождал рабочий сцены. Он улыбался.
— Она просто чудо! — сообщил он Шеридану. — Нам она очень понравилась, и ей здесь хорошо, — добавил он таким тоном, который заставлял предположить, что рабочий чувствовал: именно здесь настоящее место Кейтлин.
Тут где-то наверху с легким скрипом открылась дверь, потом с шумом захлопнулась. Рабочий посмотрел вверх, потом, еще раз улыбнувшись, вернулся за сцену.
Шеридан с Кейтлин направились к выходу, но дошли лишь до середины коридора, ведущего к двери за сцену, когда к ним ринулась какая-то женщина властного вида, в меховой шубке и большой фетровой шляпе с широкими полями.
— Стойте! — крикнула она. — Хочу на вас посмотреть. — Она кивнула. — Шеридан…
— Я думал, вы в Париже, — сказал он.
— Я уже два дня в Дублине. Никто не знает, что я здесь. — Она уставилась на Кейтлин. — И кто это прекрасное дитя?
— Графиня Кейтлин Бирн, — тихо ответил Шеридан. — А это мисс Гонн, — представил он даму девочке и отступил на полшага, поскольку прекрасно знал: пока эта леди не остановится сама, ее не остановить.
— Милое мое дитя, у тебя самые прекрасные в мире глаза! — воскликнула леди. — Я так понимаю, тебе хочется на сцену.
А Шеридан уже не в первый раз подумал о том, как Мод Гонн сумела достичь своего удивительного положения. Она родилась в Англии и была дочерью британского офицера, но полностью изменила себя. Отец оставил ей некоторые средства, и в основном она жила в Париже. Много лет она была любовницей одного французского журналиста и родила от него двоих детей. Но ничто не мешало Йейтсу желать жениться на ней или дать ей роль в пьесе — роль ирландской героини.
Однако она вышла замуж не за Йейтса, а за ирландского патриота, хотя этот брак и оказался непродолжительным. Теперь мисс Гонн выпускала во Франции ирландскую газету и время от времени появлялась в Дублине.
И каждый раз, когда она приезжала, Шеридану казалось, что ее визит напоминает кавалерийскую атаку.
Тот факт, что Кейтлин — графиня, должен был сразу заинтересовать мисс Гонн, и Шеридан прекрасно это знал. Мод Гонн, с ее большими, широко раскрытыми глазами и волевым подбородком, являла собой картину своевольной леди из общества. И Шеридан думал, что именно это привлекло Йейтса. А теперь она расспрашивала Кейтлин, и, конечно, ей не понадобилось много времени, чтобы понять, чего хочется девочке. Мод Гонн была очарована.
— Это прекрасно! — заявила она. — Просто прекрасно! Настоящая знатная ирландка, вернувшаяся в свою страну. И она говорит на языке своих предков! Моя дорогая малышка, ты должна присоединиться к нам. «Inghinidhe na hEireann» просто создано для тебя!
«Inghinidhe na hEireann», или «Дочери Ирландии». Именно Мод Гонн основала это движение, когда националисты не захотели принять ее в свои ряды просто потому, что она была женщиной. Движение было направлено на борьбу с пагубным влиянием Англии на ирландскую культуру, и оно уже многого добилось. «Дочери Ирландии» не только учили детей бедняков ирландскому языку, но и твердили ирландским девушкам, что они не должны дружить с английскими солдатами, и постоянно распространяли листовки, предупреждавшие девушек об опасности рождения незаконных детей. Чтобы присоединиться к этому союзу, нужно было быть ирландкой по рождению.
— Просто удивительно, — как-то раз заметил Шеридан, — что Мод Гонн посвятила свою жизнь борьбе со множеством вещей, которые сама же и представляет!
Некоторые из лидеров движения даже взяли себе новые, ирландские имена, под которыми их теперь и знали в организации. И саму Мод знали как Маева.
— Вот… — Мод достала что-то из кармана шубки. Это оказалась круглая брошь в форме древнего ирландского торка. — Это значок, который носят «Дочери Ирландии». Он твой. Подарок. Ты будешь его носить, когда станешь постарше. — Мод улыбнулась, но при этом внимательно заглянула в глаза Кейтлин. — Тебе предстоит не просто сыграть великую роль на нашей сцене, дитя. С твоими глазами и твоими волосами ты станешь сенсацией. Но главная твоя роль впереди, это роль в жизни твоей страны… — Мод немного помолчала, потом снова пугающе уставилась на девочку. — Никогда не забывай этого, Кейтлин. Ты рождена для этого. Это твоя судьба.
С этими словами она умчалась, Кейтлин зачарованно смотрела ей вслед, а Шеридан подумал, не окажется ли их визит в Театр Аббатства чем-то гораздо бóльшим, чем предполагалось.
С годами отец Брендан Макгоуэн не сократил свои прогулки по городу. Он стал лучшим навигатором. Когда он шел на запад по Мэри-стрит, то поворачивался спиной к восточному ветру, и тот мягко подталкивал его вперед, не лишая равновесия. Он уже благополучно продвинулся вперед на пару узлов, когда заметил Вилли О’Бирна, направлявшегося в его сторону. Рядом с Вилли шла молодая женщина. При виде юноши священник нахмурился.
Он не знал толком, какие чувства испытывает к Вилли. Конечно, он был рад помочь ему встать на правильный путь. И Шеридан Смит явно был доволен молодым человеком. У Вилли теперь была своя, так сказать, территория, с которой он и добывал объявления, причем весьма успешно. И людям он вроде бы нравился. Он обзавелся собственным жильем где-то рядом с Маунтджой-сквер, как слышал отец Брендан. Пока все вроде бы шло хорошо. И священник даже ничего не имел против того, что Вилли проводил много времени в книжной лавке его антиклерикального брата. Вилли, наверное, и не догадывался, что священник все знает о его делах. А отец Макгоуэн лишь надеялся, что это не отвратит юношу от веры, хотя он давно знал по собственному опыту, что даже когда люди отворачивались от Церкви, все равно любой жизненный кризис чаще всего возвращал их обратно.
Нет, его недовольство Вилли было куда более приземленным, практичным. Доброму священнику казалось, что он стал замечать в Вилли признаки черствости.
Насторожило его одно событие: история, которую он услышал из другого источника. Вскоре после того, как Вилли перебрался в собственное жилье, его дядя умер. Похоже, в последнее время между дядей и племянником возникли какие-то трения, хотя Вилли еще продолжал жить в доме дяди. Вилли говорил что-то такое о политике, что его дяде не нравилось. И скорее всего, именно это несогласие и вынудило Вилли к переезду. Но в целом в семье не случилось серьезного раскола, насколько знал отец Брендан. Но когда дядя умер, Вилли даже не потрудился прийти на похороны или поминки. Он вообще не навещал родных. И, судя по всему, его тетю это очень огорчало.
Встретившись с Вилли через несколько недель после похорон, священник попытался расспросить обо всем молодого человека. Наверное, предположил он, Вилли поступил не очень по-родственному. Вилли не рассердился, но явно был озадачен.
— Да он никогда мне по-настоящему не нравился, — сказал он.
— Что ж, такое бывает. Но разве тебе не следовало подумать о чувствах твоей тети и твоих кузин?
— Девчонкам наплевать. Я не вижу, что тут плохого с моей стороны. — Он пожал плечами. — Он не был таким уж хорошим человеком.
— Но не тебе об этом судить. Ты разве не понимаешь, что твои поступки жестоки?
Но отцу Брендану показалось, что Вилли вообще на все плевать.
Он с радостью узнал в молодой женщине, шедшей с Вилли, одну из трех дочерей его тетушки. Возможно, молодой человек в чем-то становится лучше. В ответ на приветствие священника и на его обычный вопрос о том, как идут дела, Вилли сообщил, что водил кузину посмотреть на движущиеся картины в маленький театр, который недавно открылся специально для этого.
— Он называется «Вольта», святой отец. Вы там бывали?
— Нет, — ответил священник. — И много в нем зрителей?
— Всего несколько человек, кроме нас. Я пытался продать Джойсу пару мест для объявлений, но он не может себе этого позволить. Боюсь, его бизнес не процветает.
Отец Брендан уже слышал об этой рискованной затее. Джойс — протеже Гогарти. Но что бы ни твердил Оливер Сент-Джон Гогарти, судя по тому, что слышал священник, молодой Джойс не слишком хорошо начал. Прежде всего он завел интрижку со служанкой, но так и не женился на ней. Это было и безнравственно, и просто глупо. Джойс мог бы попытаться освоить какую-нибудь профессию или, по крайней мере, найти постоянную работу, но если Гогарти уже становился известным хирургом, то Джойс не отличался прилежанием и трудолюбием. Нет, Джойс не был достаточно основательным человеком. Впрочем, мысленно поправил себя отец Брендан, не ему судить. Господь ведет каждого невидимыми нам путями.
В любом случае Джойс уехал тогда на континент. Он жил в Триесте, почему — никто не знал. А теперь вернулся в Дублин и открыл кинотеатр на Мэри-стрит. А что люди в Триесте могли знать об интересе дублинцев к движущимся картинам, священник даже не представлял. Он заметил высокую худую фигуру молодого человека у входа в кинотеатр. Джойс выглядел весьма грустным, но священник решил не подходить к нему.
— Говорят, везде уже сходят с ума по кино, — продолжил Вилли. — Но только не в Дублине. Ну, пока нет. Мне кажется, Джойс немного поспешил с этим.
— Без сомнения, — согласился отец Макгоуэн. — Ну, я должен идти, мне нужно навестить одну леди в больнице Ротунда.
— Он считает меня жестоким! — заявил Вилли, когда священник ушел.
— Ты не всегда добр, — согласилась его кузина Рита, и Вилли в ответ только пожал плечами. — Кроме того, — продолжила Рита, — ты не ответил на вопрос, который я задала тебе до того, как мы столкнулись с отцом Макгоуэном. Но я не верю, — добавила она, — что тебе все равно.
Вилли немного подумал. Вообще-то, ему было все равно. Но он не хотел говорить этого Рите. Она была единственным членом ее семьи, с которым у него всегда складывались отношения. И он вполне понимал ее точку зрения.
А она спросила, почему на кондитерской фабрике «Якобс» старшие работники получают один фунт в неделю, а она сама зарабатывает меньше трети этой суммы? Вилли ответил, что им нужно кормить семьи. Так всегда было. И никто прежде на это не жаловался.
— А мы теперь жалуемся, — заявила Рита.
И некоторые молодые мужчины, которые, конечно, получали больше женщин, но все равно меньше, чем старшие по возрасту, за ту же самую работу, тоже начинали проявлять недовольство.
— Но у нас наконец-то есть теперь профсоюз, — сказала Рита.
Ирландский профсоюз был недавно создан Джеймсом Ларкином. И количество его членов быстро увеличивалось. Но собираются ли они что-нибудь сделать для женщин, оставалось неясным.
— Они говорят, будто профсоюз ко всем относится одинаково. Но я бы предположил, — искренне сказал Вилли, — что большинство мужчин в нем не стали бы хлопотать о том, чтобы женщины получали равную с ними плату, и, уж конечно, об этом не станут заботиться работодатели. Вам нужен собственный профсоюз.
— Но такого нет.
— Знаю. — Вилли подумал. — А вы просто жалуетесь или хотите что-нибудь предпринять сами?
— Я собираюсь.
— Но это опасно. — Наниматели обычно просто увольняли беспокойных работников. Вилли подождал ответа, но Рита молчала, и он продолжил: — Ты ведь знаешь, в «Шинн Фейн» даже на руководящих должностях есть женщины.
Движение «Шинн Фейн» начал Артур Гриффит после того, как стал издавать газету «Объединенные ирландцы». Название означало «Мы сами», и идеей движения был бойкот английских товаров во всех тех случаях, когда то же самое можно было бы производить в Ирландии.
— Нам нужна самодостаточная экономика, — заявляли последователи Гриффита. — Мы должны показать всей Ирландии, как постоять за себя в качестве свободной и независимой нации.
«Шинн Фейн» быстро превратилось в конгломерат разных групп, посвятивших себя общему ненасильственному сопротивлению власти англичан.
— Ты ведь состоишь в «Шинн Фейн», да? — (Вилли кивнул.) — И что тебя подтолкнуло к этому?
— Да многое. Наверное, прежде всего это был Макгоуэн-книготорговец. Знаешь, он брат отца Макгоуэна. Он мне показал это направление. Но в принципе, это совершенно естественно. Я хочу, чтобы англичане убрались из Ирландии.
— Ну, это мне понятно. — Рита согласно покачала головой. — А ты хочешь, чтобы женщины получили право голоса?
— Эй, да ты превращаешься в суфражистку? Я и не знал, что у тебя такие радикальные взгляды.
— Ничего подобного. Но когда я начинаю думать о заработной плате, то тут же приходит мысль о том, что женщины должны голосовать. Такое движение уже очень широко распространилось в Англии.
— Забудь об этом, Рита.
— Почему?
— По двум причинам. Во-первых, лучше делать по одному делу зараз, а во-вторых, мы в Ирландии пока не желаем, чтобы женщины получили право голоса.
— Но почему?
— Потому что не хотим того, что приходит из Англии. Нечто такое должно родиться в самой Ирландии.
Рита обдумала его слова.
— Мне почему-то кажется, что тебе совершенно плевать на право голоса для женщин, — наконец сказала она.
— Как скажешь.
— Но я подумаю насчет «Шинн Фейн». И спасибо, что сводил меня в кино.
— Тебе понравилось?
— Не особенно. Но вообще было интересно.
— Что ж, ты, по крайней мере, увидела это, пока есть возможность. Думаю, Джойсу не удастся достаточно долго поддерживать свою «Вольту». Ладно, провожу тебя домой.
— Зайдешь к нам?
— Нет.
Было уже довольно поздно, когда отец Брендан Макгоуэн вышел из больницы Ротунда. Визит был вполне удачным. Но когда отец Макгоуэн стал прикидывать, какую дорогу выбрать, он нахмурился. Лучше всего было пойти по Парнелл-стрит, шумной улице, проходившей через эту часть города и прорезавшей ее с северо-востока на юго-запад, поперек Саквилль-стрит, рядом с Ротундой. Для отца Макгоуэна этот путь был вполне удобным, но в последние два года Парнелл-стрит перестала пользоваться благосклонностью священника, и он старался ее избегать с тех пор, как Том Кларк открыл табачную лавку.
Отец Макгоуэн недолюбливал Тома Кларка.
Брат священника, книготорговец, был знаком с Кларком, даже дружил с ним, когда жил в Америке. Это было еще до того, как Том Кларк пытался взрывать бомбы в Англии, за что и угодил в тюрьму. Но теперь он вернулся в Ирландию.
Долгие годы в английской тюрьме изменили Кларка внешне. Тощий, с редеющими волосами, он выглядел лет на двадцать старше. Обманчивая внешность. И это делало Кларка еще более опасным. За его очками в стальной оправе прятались глаза, полные холодной страсти и такой энергии, которые священнику совсем не нравились. И книготорговец больше не интересовался Кларком. Их дружба закончилась. Зато табачная лавка стала местом встречи фениев, то есть членов Ирландского республиканского братства (ИРБ). Бог знает, что замышляли эти парни. Выяснить это было невозможно, поскольку действовали они скрытно, неизвестно было и кто состоит в этой компании. Разве что если долго наблюдать за Томом Кларком и его магазинчиком и отмечать, кто заходит туда достаточно часто. Но отцу Макгоуэну и не хотелось этого знать. Он вообще предпочитал не ходить мимо табачной лавки и обычно выбирал другую дорогу.
Но этим вечером ветер поменял направление, и самый короткий путь вынуждал отца Макгоуэна пройти мимо этого опасного, дьявольского заведения. И он, укрепившись внутренне, как моряк, который привязывает себя к мачте, чтобы устоять перед зовом сирены, подготовился проскользнуть мимо страшного места как можно быстрее. Но, подойдя ближе, он все же заглянул в окно. Табачная лавка была невелика, но ярко освещена. А в витрине, тоже ярко освещенной, стояла картонная Круглая башня — реклама ирландского табака «Банба». Сквозь стеклянную дверь священник увидел нескольких человек, стоявших в узком пространстве перед прилавком, за которым восседал Кларк. И тут отец Макгоуэн испустил громкий стон.
Одним из мужчин, стоявших внутри, был тот, кого священник видел всего пару часов назад. Вилли О’Бирн.
1916 год
Только когда в один январский день 1912 года молодой Иэн Лоу устроил ему скандал в кабинете, Шеридан Смит начал понимать, что и он, и многие другие совершили одну ужасную ошибку.
Молодой человек хотел попасть к Шеридану, но швейцар пытался его прогнать.
— Вы не можете просто так являться сюда и требовать встречи с мистером Смитом, ясно? — сказал он. — Он вас знает? Вам назначено?
Если бы в этот момент Шеридан не проходил случайно по холлу, и не стал бы свидетелем этой сцены, и не был бы поражен выражением праведного гнева на лице юноши, то, без сомнения, мистера Иэна Лоу прогнали бы прочь. Но Смит пригласил его в свой кабинет и вежливо поинтересовался, в чем дело.
Молодой человек, как оказалось, принадлежал к высшим кругам ремесленников. Работал он на верфи в Белфасте. Прежде он не бывал в Дублине и приехал, чтобы познакомиться с городом. И здесь купил последний выпуск газеты Смита, в передовой статье которой излагалось разумное и взвешенное мнение Шеридана о перспективах самоуправления. И юноша пришел в ярость. Он вовсе не намеревался оскорблять Шеридана лично, но, похоже, был ошарашен тем, что Смит в своей газете мог вообще рассматривать возможность самоуправления.
— Да как ваша газета до такого додумалась? — гневно спрашивал он. — Предполагать, что мы можем предать все, чему всегда были верны? И отвернуться от моего короля и моего Бога?! — Он произнес эти слова с такой силой и с такой гордостью, что Шеридан был ошеломлен. — Мы помним битву у реки Бойн! — продолжил юноша. — Мы помним Дерри! Наши предки сражались и умирали за свободу. А ваша газета мне заявляет, что я должен подчиниться папистам? Никогда! Я никогда на такое не соглашусь! И не знаю никого, кто согласился бы!
Шеридан сразу понял, что это честный молодой человек. И он, конечно же, вырос в трудолюбивой пресвитерианской семье. Так что его гнев был искренним.
— Не думаю, чтобы ирландское самоуправление могло как-то помешать вашей религии, — сказал Шеридан.
Однако молодой мистер Лоу бросил на него взгляд, полный презрения.
— Самоуправление — это правление Рима! — резко бросил он. — И мы будем с ним бороться, это я вам обещаю!
В общем, не получив удовлетворившего его ответа, молодой человек вскоре отправился восвояси.
Позже Шеридан проанализировал этот разговор, и ему пришло в голову, что он сам, конечно, никак не может согласиться с взглядами молодого человека на мир, однако Лоу высказал мысль, которая имела большое значение для будущего.
И в самом деле, подумал Шеридан, никто из тех, кто желал независимости Ирландии, вообще не задумывался об Ольстере. Дэниел О’Коннелл всегда беспечно признавался, что почти не знает эту провинцию. Даже Парнелл, хотя и был протестантом, никогда не проявлял особого интереса к ней. И после него все умы так сосредоточились на идее, что именно протестанты были угнетателями Ирландии и что, как только англичане будут изгнаны с острова, он станет свободным, а вот что будет тогда в Ольстере, никого не интересовало. Однако ситуация там была совершенно другой.
В конце концов, думал Шеридан, что представляет собой Протестантская церковь в большей части Ирландии? Церковь господствующей веры. Ну да. Только у нее почти не было прихожан, и церковные строения понемногу разрушались из-за недостатка денег и интереса. И все же Ирландская церковь была неким социальным институтом на острове. Она обслуживала небольшие и все уменьшавшиеся группы поселенцев Кромвеля и древних землевладельцев. Лишите протестантов власти — и они окончательно превратятся в крохотное беззубое меньшинство.
Но вот в Ольстере, хотя католиков было довольно много, все же большинство составляли протестанты: сквайры, мелкие фермеры, торговцы, многочисленный рабочий класс. Больше всего там было пресвитерианцев, которые страстно защищали свою веру. Если в остальных трех провинциях Ирландии правящий протестантский класс всегда втайне испытывал страхи или моральную неуверенность в своем праве, то у ольстерских пресвитерианцев ныне никаких сомнений не было. Бог поселил их здесь, чтобы построить свое царство. В этом они были уверены.
И все равно Шеридана потрясла реакция молодого человека. Когда протестанты поняли, что Закон о независимости может и в самом деле пройти через парламент, то готовы были восстать, и не только в Ольстере. Как их шотландские предки три столетия назад, они собрались и поклялись создать Торжественную лигу и Ковенант. Возглавляемые Карсоном, опытным юристом, и Крейгом, миллионером из Белфаста, они уже собрали огромные силы добровольцев. Ольстерские волонтеры пока имели только деревянные винтовки, но они проводили весьма впечатляющие парады. И встревоженный лидер британской партии тори, сам родом из ольстерских протестантов, не только поддерживал их, но и намекал на необходимость вооруженного сопротивления. А в огромном военном лагере в Керраге, в графстве Килдэр, офицеры британской армии дали понять, что, если им велят поддержать сторонников ирландской независимости против преданных ольстерцев, они могут и отказаться выполнить такой приказ.
— Если честно, — сказал Смиту один английский журналист, приехавший в Дублин и навестивший его в редакции, — британцы весьма сочувствуют протестантам Ольстера по двум причинам. Прежде всего мы в Англии так и не избавились от своего глубинного страха перед католицизмом. Мало найдется англичан, которые спокойно отнесутся к мысли о возможной власти католиков, и нам непонятно, почему протестанты в Ольстере должны такое допускать. Но мы также думаем, что шотландцы Ольстера — такие же, как мы. У них развиты промышленность и торговля, у них уже есть верфи, ткацкие мануфактуры. Они трудолюбивы и технически развиты. А ирландцы выглядят людьми совершенно другого типа — это ленивая неорганизованная деревенщина. И мы действительно видим в них другую расу, отличную от северного народа.
— А вам известно, что изначально именно ирландцы пересекли пролив и поселились в Шотландии? Само слово «скотты» в древние времена означало человека из Ирландии. Так что скотты, или шотландцы, на самом деле — ирландцы, можно сказать.
— Нет, неизвестно. Уверен, англичане об этом не знают. Но вы же не можете отрицать, что протестанты в Ольстере — совсем другие люди?
Да, этого Смит отрицать не мог. К весне 1914 года ольстерские волонтеры уже обзавелись настоящим оружием.
Между тем похоже было на то, что северным протестантам готовы дать такой же серьезный отпор. В ответ на их действия были созданы Ирландские добровольческие силы. И скоро распространился слух, что и они тоже вооружились не на шутку. Неужели страна скатывалась к своего рода гражданской войне? Шеридан не знал, что может произойти, но тут куда более масштабный конфликт заслонил собой все остальное.
Где-то далеко, в Сараеве, был убит австрийский эрцгерцог, и тут же вся Европа оказалась в состоянии войны.
Самым удивительным в этой войне было то, что для многих людей, любивших Ирландию, она принесла облегчение. Британское правительство, беспокоясь о том, чтобы ничто не мешало военным действиям, пообещало, что остров получит независимость, только нужно подождать, пока не закончится мировая война.
— Поскольку все думают, что война продлится больше нескольких месяцев, то все и не прочь подождать, — говорил Шеридан.
Что до Ольстера, то тут было решено принять некое особое соглашение. Какое именно и в какой форме, тоже пока было неясно. Но по крайней мере, опасность внутреннего конфликта на время устранили. И Редмонд поощрял тех, кто желал присоединиться к Ирландским добровольческим силам:
— Британцы пообещали нам свободу. Так давайте поможем им в войне, чтобы получить эту свободу скорее.
Десятки тысяч ирландцев, протестантов и католиков, вступили добровольцами в британскую армию.
«Мне тепло и радостно видеть такую дружбу», — писал Шеридан Смит в газете.
Таким образом, огромный европейский конфликт вселил в сердце Смита светлую надежду.
А в личной жизни для него вдруг наступил период неожиданного счастья. И причиной тому была Кейтлин.
К счастью, ее интерес к сцене не перешел в одержимость. И в том немало помогла учеба в школе монахинь доминиканского ордена на Экклес-стрит. Монахини были просто в восторге от девочки. К тому времени, когда Кейтлин исполнилось шестнадцать, она уже твердо знала, что по окончании школы хочет продолжить учебу в университете Святой Марии и изучать современные языки. И к этому же времени она превратилась в красивую молодую женщину, причем весьма разумную и здравомыслящую. В конце 1914 года Морин Смит мирно скончалась после непродолжительной болезни, и Кейтлин до конца помогала ухаживать за ней. Когда Кейтлин исполнилось семнадцать, ее мать на месяц уехала в Англию и совершенно спокойно оставила дочь управлять домом на Фицуильям-сквер. Конечно, о ней должны были заботиться слуги, да и Шеридан заглядывал каждый день.
— Но, по правде говоря, — заявила мать девушки, — она прекрасно обошлась бы и без них.
Кейтлин присоединилась к «Дочерям Ирландии». Шеридан не был уверен, нравится ли ему это. Однако, когда он начинал расспрашивать Кейтлин, та только смеялась.
— Я учу ирландскому неграмотных детей, то есть на самом деле я просто рассказываю им разные сказки, — объясняла она.
Безусловно, это было чистой правдой. Но Шеридан слышал, что некоторые женщины из этой организации занимались и другой деятельностью, внушавшей опасения.
В последние годы рабочее движение быстро разрасталось. Союз имел большую штаб-квартиру, называемую Либерти-Холл, в районе пристаней. Создавался и женский союз. И у этого движения появился новый лидер — некий смутьян-социалист Джеймс Коннолли. В 1913 году Коннолли, добиваясь улучшения условий труда, организовал мощную забастовку, которая на несколько недель парализовала всю деловую жизнь. Даже старая, степенная кондитерская фабрика «Якобс» приняла в этом участие. И некоторые из «Дочерей Ирландии» тоже. Они объединились с «Шинн Фейн» и другими сомнительными организациями.
— Ты все-таки будь поосторожнее в выборе друзей, — советовал Шеридан.
Но Кейтлин была разумной девушкой, так что всерьез Смит не тревожился. И просто наслаждался, видя, как удивительный ребенок на его глазах превращается в талантливую молодую женщину. Даже когда мать Кейтлин была в Дублине, он навещал их каждую неделю. Он просто наслаждался ее обществом.
А летом 1915 года он повез Кейтлин и ее мать в горы Уиклоу. Цель поездки была двоякой: посетить чудесный старый Глендалох и увидеть Ратконан. Как ни удивительно, но граф никогда не стремился побывать в имении своих предков, а в результате ни Кейтлин, ни ее мать тоже там не были.
Кейтлин горела желанием увидеть все. И поездка к древнему монастырю и двум его озерам имела большой успех. А от Ратконана Кейтлин пришла в восторг. Эксцентричная владелица имения была как раз там. Шеридан не был уверен, как их примут, но, узнав, кто они такие, старая миссис Бадж с радостью показала им все вокруг и даже не стала читать лекций о переселении душ. В конце прогулки Кейтлин воскликнула:
— О, как бы мне хотелось здесь жить!
И старая леди довольно резко заявила:
— Баджи будут жить в Ратконане и после того, как я уйду. Для вас тут места не будет. И ни для кого другого. — А потом вдруг совершенно непонятно добавила: — Да и я тут останусь. Стану ястребом и буду летать над горами и ловить мышей.
Шеридан не раз уже слышал, что Роуз Бадж — последняя в роду. Но когда несколько недель спустя он встретился с братом и спросил его об этом, Квинлан сообщил:
— Я тоже так думал. Но оказалось, что у ее деда был младший брат, много лет назад уехавший в Англию. Так что у старой леди есть внучатый племянник Бадж, а у него есть сын. Они никогда не встречались. Этот сын вообще ничего не знает, но она завещала ему Ратконан. — Квинлан покачал головой. — Она всегда была полна сюрпризов.
— А ты знаешь, что она собирается в следующей жизни быть ястребом?
— А-а… — отмахнулся брат. — Ну, это меня вообще не удивляет.
Остальная часть года прошла спокойно. Война продолжалась, и, похоже, события зашли в некий кровавый тупик. Но в Ирландии все было тихо. Правда, время от времени возникали разные слухи о неких трудностях на театре военных действий. Но Смит не обращал на них внимания. Мать Кейтлин перед Новым годом заболела бронхитом. Врач говорил ей, что она должна на несколько недель перебраться в более теплые края. Хотя бы на юг Франции. И в марте она уехала, снова оставив Кейтлин в доме на Фицуильям-сквер под общим надзором Шеридана.
На третьей неделе апреля Шеридан обнаружил, что Кейтлин его обманывает.
Он пришел к ней на чай. Кейтлин окончила школу перед Рождеством и собиралась следующей осенью начать учебу в университете. Ей предложили пока отправиться путешествовать, но Кейтлин пожелала остаться в Дублине, а поскольку она увлекалась театром, это было вполне понятно.
В шесть часов вечера Шеридан оставил девушку и отправился домой на Веллингтон-роуд. Он уже шел по мосту через канал, когда вспомнил, что забыл зонтик, и потому повернул обратно на Фицуильям-сквер. Кейтлин он заметил еще с расстояния в сотню ярдов, как раз в тот момент, когда она садилась на велосипед перед домом. И явно спешила. Конечно, Шеридан мог бы предположить, что она едет в театр, но даже в сумерках видно было, что одета она совсем не по-театральному. На девушке была зеленая твидовая форма.
Форма «Куманн на мБан».
«Союз ирландских женщин», вот что буквально значили эти слова. Но что они выражали? Союз пока что не существовал и двух лет. Это было еще одно творение Мод Гонн и ее подруг, но что бы вы ни думали о Мод Гонн, вы не могли отрицать в ней организаторского гения. «Куманн на мБан» был, без сомнения, организацией националистической. Но что в реальности они делали? Кое-кто говорил, что они занимаются медсестринским делом. Другие утверждали, что эти женщины связаны с куда более зловещими группами.
Кейтлин просто обязана была рассказать Шеридану о своих занятиях. Он прекрасно знал, что ее мать этого не одобрила бы. Он должен что-то предпринять. Смит чуть было не окликнул девушку, но вовремя удержался. Что бы она ни затевала, вряд ли прямо сейчас ей могла грозить какая-то опасность. Так зачем рисковать ссорой? Шеридан стремительно соображал. Шла Пасхальная неделя. В понедельник в доме должна была собраться вся семья. И тогда он сможет сесть рядом с Кейтлин и тихонько поговорить с ней.
И Смит спокойно направился к дому.
Пасхальная неделя прошла спокойно. Кейтлин он мимоходом видел в субботу, а воскресенье провел дома. В понедельник все готовились к дневному приему гостей. Но незадолго до часа дня к ним пришел один из соседей с новостями.
— В городе что-то происходит. Говорят, бунт. Какого-то солдата убили.
— Бунт? Да с чего вдруг кому-то вздумалось начинать бунт именно сейчас?
В этом не было никакого смысла. Но немного позже пришли и другие вести. Восставшие захватили Главпочтамт на Саквилль-стрит. И заявили о создании республики.
— Но это просто безумие! — ужаснулся Смит.
Однако вскоре об этом говорили уже везде. Это было восстание. И серьезное.
— Пойду-ка я поищу Кейтлин, — решил Смит. — Надо убедиться, что ей ничто не грозит. Это ведь происходит недалеко от Фицуильям-сквер.
Но в доме на Фицуильям-сквер Кейтлин не было. Не появилась она и на следующий день.
Поначалу она вообще не была уверена, что ей нравится Вилли О’Бирн. Их познакомила его кузина Рита.
А с Ритой она встретилась на собрании «Дочерей Ирландии» и потом еще на собраниях других групп. Мод Гонн, возможно, и была светской леди, но Кейтлин нравилось то, что в ее организацию входят самые разные люди. Как только ты к ним присоединялся, вопрос о классовой принадлежности отпадал сам собой. Рита работала на кондитерской фабрике «Якобс» до большой забастовки 1913 года. После этого ее отказались принять обратно. К тому времени, как Кейтлин с ней познакомилась, она стала организатором женского союза и членом Ирландской гражданской армии (ИГА). Она часто бывала в большой штаб-квартире союза в Либерти-Холле, у северных причалов, рядом с таможней.
— Ты можешь сюда заглядывать по дороге в Театр Аббатства, — со смехом сказала она Кейтлин.
Несмотря на свое название, ИГА на самом деле была профсоюзом. Ее организовал Коннолли во время забастовки, чтобы защищать бастующих рабочих от нанятых работодателями людей, готовых любыми средствами навредить бастующим. Но теперь это была серьезная организация, открытая равно для мужчин и женщин.
Рита, маленького роста, с рыжими волосами и явной склонностью к полноте, показалась Кейтлин очень интересной особой. Кейтлин она понравилась чисто инстинктивно, и они договорились встретиться через неделю. И именно тогда Рита познакомила ее со своим двоюродным братом Вилли О’Бирном.
Оглядываясь назад, Кейтлин вспоминала, что Вилли произвел на нее впечатление вовсе не из-за его смуглой красоты. Ее привлекла спокойная, тихая логика его мыслей. Они говорили о женском движении, о профсоюзе, но, когда начали обсуждать недавно начавшуюся войну, Вилли сказал тихо, но твердо:
— Ирландия, при всех самых лучших намерениях, совершила огромную ошибку. Под «Ирландией» я подразумеваю Редмонда и большинство добровольцев.
Когда Кейтлин заговорила об угрозе со стороны ольстерских протестантов в 1914 году, в ответ на которую и началось движение волонтеров, Вилли ответил так, что Кейтлин была ошеломлена. Воинственных протестантов, сказал он, было около ста пятидесяти тысяч. Конечно, кое-кто из них имел оружие, но они готовы были тренироваться, упражняться и устраивать парады просто для собственного удовольствия, как это делали их тезки-патриоты полтора века назад. Конечно, можно было подумать, что такая большая организация может представлять опасность. И по крайней мере номинально их лидером был Редмонд, как глава парламентской партии. А когда Британия пообещала Ирландии свободу в обмен на помощь в войне против Германии, Редмонд позвал своих волонтеров, и около ста семидесяти тысяч человек откликнулись. Но небольшая группа, около десяти тысяч человек, отказалась идти на войну. Они назвали себя Ирландскими волонтерами, и Вилли О’Бирн явно был на их стороне.
— Не то чтобы я не понимал Редмонда, — спокойно объяснял он. — Я даже не виню тысячи несчастных католиков, которые пошли в британскую армию. Это для них просто некая работа по найму, к тому же Редмонд обещал им, что, если они это сделают, Ирландия станет свободной. Но все в целом — это просто огромное мошенничество, вот и все.
— Так ты считаешь, что Британия не сдержит обещания?
— Да. Ей этого не позволят ольстерские протестанты. А британцы любят ольстерских протестантов и презирают ирландских католиков. Лучшее, на что мы можем надеяться, — это разделение Ирландии, но это в любом случае не решение. И конечно, Редмонд даже рассматривать такое не хочет. Потому что если он не добьется чего-то по-настоящему полезного, то с чем он останется? — Вилли пожал плечами. — В какой-то момент просто придется взглянуть в лицо реальности. Будет большая драка. Этого не избежать.
Кейтлин подумала, что в молодом человеке кроется даже некоторый холод. Холод и неотразимость.
— Худшее здесь то, — продолжил Вилли, — что, поддерживая британцев в их войне, мы играем им на руку. Наши собственные добровольцы позволяют себя убивать в схватке Британии с Германией. И это в тот самый момент, когда именно благодаря войне было бы проще всего выгнать англичан с острова.
— Ну, возможно, британцы будут думать о нас совсем по-другому к окончанию войны.
— Хм… А другую возможность ты не рассматривала? Что, если победит Германия? Нам бы лучше иметь ее в друзьях.
Кейтлин задумчиво посмотрела на него. Да, решила она, у него очень сильный ум. А он прочитал ее мысли.
— Куда лучше смотреть на вещи трезво, чем обманывать себя, — заметил он. — Кроме того, ведь именно женщины наиболее практичны. Вы создали «Куманн на мБан», чтобы защищать национальные интересы. И когда вы его создали, никто не проголосовал за то, чтобы идти с Редмондом. Все вы поддержали Ирландских волонтеров. Так что я отдаю себя в женские руки.
Рита усмехнулась:
— А он неплох, да?
Кейтлин подумала, что Вилли состоит в ИРБ.
Ирландское республиканское братство оставалось все таким же тайным. Можно было, например, не сомневаться в том, что его члены есть среди Ирландских волонтеров, но никто и никогда не сказал бы с уверенностью, кто есть кто. И Кейтлин решила поддразнить Вилли.
— Ты наверняка состоишь в ИРБ?
Вилли спокойно посмотрел на нее:
— Почему ты вдруг спросила?
— Да или нет?
— Я слышал, они никогда в этом не признаются. А потому и спрашивать бессмысленно.
— Я тебе вот что скажу, — со смехом начала Рита, — они не хотят иметь женщин в своих рядах, в ИРБ, ведь так, Вилли? И мне он никогда ничего такого не говорил, имей в виду.
— Я не могу говорить о том, чего не знаю, — пожал плечами Вилли, а потом улыбнулся Кейтлин. Улыбка у него была обаятельная. — Кстати, мы ведь уже встречались. Ты тогда была графиней.
Рита удивленно посмотрела на Кейтлин. Кейтлин встряхнула головой. Когда она присоединилась к «Дочерям Ирландии», то перестала упоминать о своем титуле. Она решила, что вокруг и так уже достаточно графинь. И одна из них была лидером «Куманн на мБан» — графиня Маркевич, яркая англо-ирландская аристократка, вышедшая замуж за нищего польского графа. Ей ужасно нравилось ходить в форме и носить револьвер. Еще была графиня Планкетт, чей муж, наследник богатого дублинского строителя, получил титул от папы римского за щедрые пожертвования Церкви. Планкетты и их дети были известны поддержкой разных националистических течений. Двух графинь было вполне достаточно, решила Кейтлин. И предпочла называться просто Кейтлин Бирн.
Вилли же напомнил ей о том случае, когда они встретились в доме ее дяди Шеридана Смита.
— Тебе было, думаю, лет пять или шесть. И ты тогда болела.
— Боюсь, я тебя не помню, — призналась Кейтлин.
— Конечно. Зато я тебя запомнил. Кстати, — добавил он, — я работаю на Шеридана Смита. Но я никогда не говорю с ним о политике.
— И я не стану, — пообещала Кейтлин.
После этого она несколько недель не виделась с Вилли.
Форму «Куманн на мБан» Кейтлин впервые надела в мае 1915 года. Ей было семнадцать. Форму союз не выдавал, но многие женщины шили ее за свой счет. Предписывался зеленый твид: длинный жакет военного типа с большими карманами с клапанами, длинная юбка, белая блузка, зеленый мягкий галстук. И имевшая первостепенное значение брошь — с золотыми буквами «К на мБ» и пронзающей их винтовкой.
Кейтлин прятала все это от матери в небольшом чемодане, а когда отправлялась на собрание, надевала поверх формы длинный плащ.
Цели у «Куманн на мБан» были вспомогательные. Женщины учились оказывать первую помощь и передавать сигналы. Многие учились еще и стрелять из винтовки; и именно на тренировке по стрельбе Кейтлин снова встретилась с Вилли О’Бирном. Он пришел просто посмотреть. И так уж получилось, что Кейтлин оказалась от природы отличным стрелком. Анни Окли — так называли ее другие женщины. Отстрелявшись, Кейтлин обнаружила, что позади нее стоит Вилли.
— Впечатляет, — сказал он.
— Спасибо.
Он одобрительно посмотрел на нее.
— А форма тебе к лицу. — Он немного подумал. — А из пистолета пробовала стрелять?
— Нет.
— Попробуй из этого. — Он достал пистолет и вручил девушке. Пистолет был удивительно тяжелым. — Вот так. — Вилли взял ее руку и перевел в нужное положение. — Я тебе покажу.
Кейтлин понадобилось некоторое время, чтобы освоиться, но, потренировавшись несколько дней, она стала весьма искусной и в стрельбе из пистолета.
После этого они с Вилли стали встречаться по нескольку раз в неделю. Вилли просто останавливался возле дома, где они познакомились. Если Кейтлин отправлялась повидать Риту в Либерти-Холле, то находила там Вилли. Он обычно говорил с ней дружески, всего несколько минут, а потом сразу уходил. Как-то раз в конце августа, встретив девушку в Либерти-Холле, он протянул ей лист бумаги:
— Я сам напечатал.
Это была поминальная речь по одному старому фению. Сочинил ее Патрик Пирс, один из энтузиастов, воодушевленных возрождением ирландского языка. Пирс уже очень много сделал для развития образования в Ирландии. Кейтлин вполне поняла, почему Вилли О’Бирн взял на себя такие хлопоты, чтобы скопировать и напечатать этот текст: речь была великолепной. Многие фразы буквально поразили девушку. Пирс взывал к памяти Уолфа Тона. И в его словах слышалось вдохновение нового Эммета. «Жизнь рождается из смерти, — говорил он. — И из могил патриотов, мужчин и женщин, вырастет живая нация».
Но сильнее всего запоминалась заключительная часть речи. Британцы думают, что они успокоили или припугнули ирландцев. И как же они ошибаются! «Глупцы! Глупцы! Глупцы! Они оставили нам мертвых фениев, и пока в Ирландии есть их могилы, лишенная свободы Ирландия никогда не будет спокойной!»
Вилли настоял, чтобы Кейтлин прочитала речь, и тут она заметила в его глазах выражение, какого никогда прежде не замечала, и поняла, что и Вилли может быть чем-то тронут.
После этого в течение осени они несколько раз разговаривали подолгу. Как-то Вилли даже рассказал ей о своем детстве в Ратконане и о том, как его отец безуспешно пытался выкупить арендованную ферму у старой миссис Бадж. А Кейтлин описала свою встречу с этой леди. Вилли с удивлением узнал, что миссис Бадж собирается после смерти вернуться в этот мир в теле хищной птицы. И может быть, именно эта связь с его детством заставляла его довольно часто, если он замечал Кейтлин в полной народа комнате, подходить к ней, чтобы поговорить.
Незадолго до Рождества Вилли появился на одном из собраний, а после него отозвал Кейтлин в сторонку.
— У меня есть кое-что для тебя. — Он улыбнулся. — Рождественский подарок. — Он протянул Кейтлин прямоугольный, довольно тяжелый сверток. — Но лучше открой его дома. И чтобы никто не видел. — С этими словами он отошел.
Дома, в своей комнате, заперев дверь, Кейтлин открыла коробку. Она уже догадывалась, что там увидит. Это был револьвер Уэбли, с длинным стволом, смертельно опасный. И патроны к нему. Кейтлин не представляла, что можно подарить Вилли в ответ.
На следующий день мать, к своему изумлению, застала Кейтлин за вязанием.
— Мне казалось, ты ненавидишь вязание, — заметила она.
— Я просто обещала кое-что сделать для одного друга, — ответила Кейтлин.
Через два дня работа была закончена. Возможно, это не было потрясающим изделием, но вполне приличным. Кейтлин увидела Вилли в Либерти-Холле в канун Рождества.
— А это подарок тебе, — с улыбкой сказала она. — Только лучше здесь не разворачивай.
Однако в начале нового года Кейтлин с удовольствием увидела, что Вилли носит связанный ею шарф. Шарф был зеленым. И Кейтлин решила, что на Вилли он выглядит отлично.
К этому времени, как казалось Кейтлин, Ирландские волонтеры уже были отлично организованы и обучены. У них появились отделения по всей стране. Их лидер, некто по имени Макнейл, требовал неукоснительной дисциплины. Всегда оставался, конечно, риск, что британские власти вздумают приструнить их, но пока они явно считали, что мудрее ничего не предпринимать. И жители Дублина уже вполне привыкли видеть их организованные шествия. Что до женщин в «Куманн на мБан», то одни не скрывали своего участия в движении, а другие предпочитали не афишировать свою связь с ним. Сама Кейтлин никогда не упоминала об этом при матери или при Шеридане. И под предлогом посещения лекций по искусству она довольно часто ускользала из дому в форме. Но обычно что-то надевала поверх нее. Слуги это знали, но помалкивали.
Однако одна вещь поразила Кейтлин. Как-то раз она возвращалась с собрания, ведя велосипед, а Вилли О’Бирн шагал рядом с ней, и они говорили о значительных силах правительства. Британцы продолжали держать в казармах около двадцати тысяч солдат регулярной армии. А в дополнение к этому имелась Королевская ирландская полиция. И как ни странно, еще и многочисленные волонтеры Редмонда, которые, как предполагалось, должны были помогать британцам во время затянувшейся войны. И если подумать обо всех этих людях, которых британцы могли поставить под ружье, вопрос Кейтлин не удивлял.
— Если действительно вспыхнет восстание, — сказала она, — нашим волонтерам понадобится значительно больше оружия, чем у них есть сейчас. И откуда они его возьмут? Мне только и приходит в голову что «Асгард».
В 1914 году, в ответ на доставку оружия морем в Ольстер, волонтерам также понадобилось вооружиться, и тогда богатый писатель Эрскин Чайлдерс дал им свое небольшое двухмачтовое судно, называвшееся «Асгард», чтобы доставлять оружие к мысу Бен-Хоут. Этот случай стал широко известен, но для настоящего вооружения теперь нужно было гораздо больше оружия. Кейтлин вспомнила то, что говорила ей старая Морин о Мэдденах в Америке.
— А американцы не могут финансировать это дело? — спросила она.
— Возможно. Или даже немцы, полагаю, — ответил Вилли, пожав плечами.
Кейтлин посмотрела на него, но больше вопросов задавать не стала. Однако у нее сложилось впечатление, что Вилли знает гораздо больше.
В апреле она заметила в нем некие перемены. Как-то вечером они встретились у Риты. И хотя Вилли разговаривал как обычно, он казался рассеянным. Приближалась Пасхальная неделя. В Вербное воскресенье Кейтлин видела Риту, а потом еще в среду. И при второй встрече Рита призналась:
— Что-то назревает. Не знаю, что именно, но в ИГА предупредили, что будут учения в конце Пасхальной недели. — Она бросила на Кейтлин многозначительный взгляд. — Некие очень важные учения.
Утром в четверг Кейтлин случайно встретилась на улице с Вилли. Они обменялись лишь несколькими словами, но Кейтлин показалось, что Вилли подавлен.
И тем же вечером она с удивлением увидела Вилли, идущего через Колледж-Грин со стороны причалов. Шел он медленно, повесив голову, и как будто бормотал что-то себе под нос. Вилли повернул на восток вдоль стены Тринити. Кейтлин, на этот раз действительно ходившая на занятия по искусству, решила поехать на велосипеде за ним. Он ее не замечал, и Кейтлин не знала, стоит ли его останавливать. Но он выглядел таким встревоженным, что ярдов через пятьдесят она все же обогнала его и, остановившись у обочины, подождала, пока Вилли подойдет ближе.
— Эй, у тебя все в порядке?
Вилли посмотрел на нее, продолжая хмуриться. Кейтлин испугалась, что помешала каким-то его сугубо личным размышлениям.
— Нет.
Вилли кивком дал девушке понять, что ей не следует уходить. Она заметила, что сегодня на нем нет ее шарфа. Кейтлин спрыгнула с велосипеда и пошла рядом с Вилли по практически пустой улице. Они молча прошли с сотню ярдов.
— Ты не болтушка, — наконец произнес Вилли.
— Это точно.
— Все равно скоро все откроется. — Он встряхнул головой. — Помнишь, ты спрашивала насчет оружия?
— Да.
— Его ждали сегодня. Вообще-то, тот человек, сэр Роджер Кейсмент, уже доставляет его для нас из Германии больше года. Странно, конечно, он ведь английский государственный служащий, рыцарь, а сочувствует Ирландии. Мы просили подготовленных людей… Ну, этого нет. Но двадцать тысяч винтовок и около миллиона патронов должны были выгрузить сегодня в Керри. Но что-то пошло не так. Судно перехватили. Кейсмента арестовали.
— Я слышала, в конце этой недели может что-то произойти.
— Может, и произойдет. Только никому не говори о том, что я тебе рассказал. Пойди в Либерти-Холл. Если есть еще какие-нибудь новости, там узнаешь. А со мной не надо показываться на улице. До свидания.
Следующие три дня были по-настоящему странными. Похоже, почти никто не догадывался, что происходит. Но потом Кейтлин начала понимать. Задумывалось восстание. И стояло за всем Ирландское республиканское братство. Оно рассылало приказы волонтерам по всей стране с призывом подняться в Пасхальное воскресенье. Они даже Макнейлу ничего не сообщили, хотя он просто обязан был знать. Но после потери оружия от Кейсмента Макнейл отменил их приказ. Однако Том Кларк, Пирс и другие люди из ИРБ все равно хотели двигаться вперед. И начали посылать девушек из «Куманн на мБан» с новым приказом — о начале восстания в понедельник.
Каждый раз, приходя в Либерти-Холл, Кейтлин видела там все больше суматохи. Но в воскресенье там появился и Вилли.
— Будь здесь завтра утром! — приказал он ей. — Тут для вас будет много работы.
Это было еще слишком мягко сказано. Пасхальное восстание оказалось весьма странной затеей, но это, безусловно, была неделя, которую запомнили.
С того самого момента, когда Кейтлин пришла в Либерти-Холл, ей стало ясно, что приказ и его отмена, а затем новый приказ создали полную неразбериху. Большинство волонтеров, особенно вне Дублина, были уверены, что восстание отменено. И только около тысячи четырехсот Ирландских волонтеров и примерно двести членов профсоюза «Ирландская гражданская армия» пришли на набережную. Среди них Кейтлин увидела и Риту. Казалось, у руководителей есть какой-то план. Несколько человек, которых Кейтлин немного знала, в том числе поэт Пирс и Том Кларк, явно были членами тайного братства. Джеймс Коннолли из профсоюза также играл там не последнюю роль.
Несмотря на скромное число собравшихся, было задумано захватить стратегические точки города. Главпочтамт на Саквилль-стрит должен был стать штаб-квартирой. Затем на очереди стояли гарнизон в здании четырех судов, Дублинский замок и Сити-Холл, далее фабрика «Якобс» на юге; потом еще одно промышленное здание на юго-востоке, мельница Боланда, у доков Большого канала, и еще несколько мест. Для каждого назначалась отдельная группа.
В первые минуты Кейтлин спрашивала себя, что она здесь делает. Все это предприятие выглядело поспешным и почти наверняка провальным. До сих пор Кейтлин предполагала, что британские военные части в Дублине превосходят бунтарей примерно в три раза. Но, увидев взволнованные лица Риты и других молодых людей, знакомых ей, Кейтлин выбранила себя. Если они действительно готовы сражаться за Ирландию, подумала она, то и я должна. И попыталась понять, где ее место. Кто-то сказал, что раз уж она такой отличный стрелок, то должна быть снайпером. Затем наступила какая-то заминка. Наконец появился Вилли. Кейтлин увидела, как он коротко переговорил с кем-то из лидеров, показывая на нее. А после подошел к ней:
— Ты приехала на велосипеде?
— Да, а что?
— Немедленно возвращайся домой! — Должно быть, на лице Кейтлин отразилось испуганное недоумение, потому что Вилли рассмеялся. — Да не беспокойся, я еще дам тебе шанс пострелять. Но я хочу, чтобы ты вернулась сюда в другой одежде, словно собралась на лекцию по искусству или в Театр Аббатства. Так ты можешь оказаться гораздо более полезной. Мне нужно, чтобы ты выглядела, как… — Вилли усмехнулся. — Как молодая графиня.
— Но я не отдам мой «уэбли»!
— Спрячь его где-нибудь здесь, вот и все.
Кейтлин вернулась через полчаса. Увидев ее, Вилли одобрительно кивнул. Когда Кейтлин спросила, что от нее нужно, он коротко ответил:
— Увидишь.
Группы начали расходиться в одиннадцать часов. Кейтлин наблюдала за тем, как они маршировали по улице. Поскольку были пасхальные каникулы, вокруг почти никого не было. А шествия волонтеров все и раньше видели. Случайные прохожие, скорее всего, решили, что это нечто вроде пасхального парада. И никто не проявил к ним особого интереса.
Часом позже, к огромному изумлению публики, оратор Пирс появился перед главпочтамтом и объявил о создании Ирландской Республики.
Эту неделю невозможно было забыть. Кейтлин очень быстро поняла причину, по которой Вилли просил ее переодеться. В течение дня по всему центру города возникли заграждения и баррикады. Главный почтамт и здание четырех судов подверглись особо сильному обстрелу. На крышах засели снайперы. Все больше и больше британских солдат подходило к городу, чтобы окружить центр Дублина. Позже на той же неделе по Лиффи подошла канонерка и начала обстреливать позиции повстанцев. А Кейтлин оказалась весьма полезной, потому что могла доставлять в разные места послания, не вызывая подозрений.
Она быстро сообразила, что пришло время воспользоваться всем тем актерским талантом, каким она обладала. И постаралась как могла. К собственному удивлению, Кейтлин поняла, что может без труда входить и выходить из здания почтамта. Женщины там занимались кухней и организовали госпиталь. А Кейтлин, осторожно выбирая маршрут, добиралась до здания четырех судов. Хотя с течением времени это становилось все труднее, она переходила по мосту через Лиффи и добиралась до Сент-Стивенс-Грин, где женщины организовали еще один госпиталь для раненых, а потом до Сити-Холла и дальше. Кейтлин с гордостью обнаружила, что в большинстве укрепленных позиций повстанцев женщины скоро сменили мужчин в качестве снайперов. Когда ее послали на фабрику «Якобс», она нашла там Риту, пребывавшую в веселом возбуждении.
— Они меня выгнали, вот я и захватила их предприятие! — заявила она. — И мы слопаем все их бисквиты до того, как уйдем отсюда!
И только на мельнице Боланда женщин не было. Командовал там высокий ирландец из Америки, лет тридцати с небольшим, с худым лицом и странным испанским именем де Валера. Он откровенно сказал Кейтлин:
— Я не хочу иметь женщин в своей команде.
— Думаешь, мы можем разбежаться от страха? — резко спросила Кейтлин.
— Да ничего подобного! — Он рассмеялся. — Женщины уж слишком храбры. Они так рискуют, что я не могу с ними справиться. — Он написал записку на клочке бумаги и попросил Кейтлин доставить ее на почтамт. — А что ты будешь делать с запиской, если тебя схватят солдаты? — спросил он.
— Съем ее, — спокойно ответила Кейтлин.
Но солдаты ни разу не остановили ее. Зато снайперы несколько раз чуть не подстрелили. Впрочем, поскольку жители Дублина никогда не могли устоять перед соблазном посмотреть, что там происходит, Кейтлин видела, как многих из них зацепили пули снайперов или просто случайные выстрелы. Но она уже прекрасно знала, где находятся самые опасные перекрестки и углы. Самым гениальным ее ходом стало то, что она спокойно подъезжала на велосипеде к английским солдатам и просила их помочь ей пройти дальше. Она всегда находила причину. То ей нужно было повидать своего профессора в школе искусств, то забрать в театре рукопись пьесы, то навестить двоюродную бабушку.
Один раз она даже аккуратно сняла с велосипеда цепь и стала умолять солдат поставить ее на место. Иногда, конечно, они отказывались ее пропускать, и тогда приходилось искать обходной путь. Но гораздо чаще они воспринимали хорошенькую девушку с грамотной речью, в дорогой одежде и со сверкающими зелеными глазами как безобидную аристократку, а потому пропускали ее, советуя быть поосторожнее.
И солдаты поступали так вовсе не от глупости. В конце концов, волонтеры ведь забаррикадировались в захваченных ими зданиях. А их женщины занимались уходом за ранеными, когда не стреляли из окон, но почти все они были одеты в ту или иную форму. И, кроме того, большинство жителей Дублина не только были захвачены врасплох начавшимся восстанием, но и не желали иметь к нему никакого отношения.
Кейтлин часто слышала их замечания. Какой смысл во всей этой суете, говорили люди, когда им уже обещали независимость? Лавочники и деловые люди были недовольны разрушениями в городе, в особенности после того, как канонерка начала обстреливать позиции бунтовщиков.
— Саквилль-стрит, — жаловался Кейтлин какой-то бакалейщик, — просто превращается в развалины! И кто за все это заплатит? Придется-то платить нам! Уж в этом не сомневайтесь!
Не раз и не два, проходя через Либертис в конце этой недели, Кейтлин слышала яростные жалобы матерей-католичек, потому что из-за беспорядков они перестали получать конверты с жалованьем от сыновей в британской армии.
Но почему-то это отсутствие симпатии заставляло Кейтлин еще сильнее восхищаться повстанцами. Их храбрость, их поступки были достойны восхищения. И если Вилли был прав, то они делали необходимое дело. Эти люди в зданиях, окруженных британскими солдатами, были ее соотечественниками и друзьями. Ей ужасно хотелось поговорить обо всем этом с Вилли О’Бирном. Но она его не видела с понедельника. Кейтлин была уверена, что он находится в здании четырех судов.
Ночью в понедельник она ночевала на почтамте. Вечером во вторник вернулась на ночь домой и там нашла весьма настойчивую записку от Шеридана Смита, желавшего знать, куда она пропала. На рассвете следующего дня Кейтлин опустила в его почтовый ящик ответ, сообщая, что с ней все в порядке, просто она очень занята, но через несколько дней навестит его. Он мог, конечно, и не поверить ей, но она, по крайней мере, ответила, и Шеридан знал теперь, что она жива. Следующую ночь Кейтлин провела на кондитерской фабрике с Ритой. К четвергу уже стало понятно, что почтамт долго не удержать. Часть женщин оттуда отправили по домам. Утром в пятницу бóльшая часть территории вокруг была охвачена пожаром, и сам почтамт тоже загорелся.
Для Кейтлин восстание закончилось днем в пятницу. Всю предыдущую ночь она была на ногах и ушла домой отдохнуть. Когда она вошла в дом на Фицуильям-сквер, ей показалось, что там что-то неладно. Горничная странно посмотрела на нее. Обернувшись, Кейтлин обнаружила, что между ней и дверью стоит Шеридан Смит. И вид у него чрезвычайно мрачный.
— Ты больше не выйдешь из дому, — тихо произнес он. — Если понадобится, я применю силу.
Кейтлин промолчала, просто пошла наверх, в свою комнату. Дверь в нее была открыта. На полу лежал чемоданчик, в который в понедельник она спрятала свою форму. Теперь он был пуст.
— Я сжег ее, — сообщил Шеридан. — Кстати, твоя мать возвращается.
Кейтлин опять не произнесла ни слова. Просто не было смысла. И в любом случае ей нужно было поспать. Она хотела закрыть дверь, но Шеридан покачал головой.
— Нет, я теперь с тебя глаз не спущу, — вполне благодушно произнес он.
Сев на кровать, Кейтлин улыбнулась себе под нос.
— Но, дядя Шерри, — сказала она, — мне все-таки нужно минутку побыть наедине.
Ей просто необходимо было спрятать револьвер.
К тому времени, когда она проснулась, уже было ясно, что делать ей больше нечего. Главный почтамт никто не удерживал. Его доблестным защитникам, включая Пирса, пришлось уйти. А к воскресенью капитулировали и другие волонтеры.
На Фицуильям-сквер солдаты появились воскресным утром. Они шли от двери к двери и заявляли, что должны обыскать каждый дом, поскольку там могли прятаться члены «Шинн Фейн».
Подобная путаница была и в британской армии, и в британских газетах. Возможно, слыша, что членов Ирландского республиканского братства называют фениями — а это слово было взято из ирландской легенды, — англичане предположили, что это то же самое, что и ненасильственное националистическое движение Гриффита «Шинн Фейн», которое вообще не присоединилось к восстанию. И это весьма характерно для британских властей: они вообще не понимали, кто их враг.
Шеридан Смит, предвидя посещения такого рода, решил, что для них с Кейтлин лучше оставаться дома. И она вынуждена была признать, что дядя отлично справился с ситуацией. И безусловно, его общеизвестная респектабельность тоже сыграла им на руку. В его доме просто не может быть никаких членов «Шинн Фейн», заверил он солдат. Здесь только его двоюродная внучка, студентка, и он сам. И он останется здесь до тех пор, пока мать девушки не вернется из-за границы. И тем не менее он предложил солдатам внимательно осмотреть дом. Но они лишь бросили беглый взгляд туда-сюда и вежливо ушли. Не найдя «уэбли».
Тем временем суровый британский генерал Максвелл, которого прислали навести порядок, мгновенно назначил трибунал для осуждения лидеров восстания. В середине недели Шеридан сказал Кейтлин:
— Похоже, под трибунал отдадут сто восемьдесят мужчин и одну женщину, графиню Маркевич.
Судебные процедуры не затянулись. И на следующий день Шеридан вернулся домой подавленным.
— Грустные новости. Ты ведь знала моего служащего Вилли О’Бирна? Я заподозрил, что он впутался во все это, когда он не вышел на работу. Но похоже, Вилли увяз куда глубже, чем я предполагал. Как бы то ни было, он среди тех, кого будут судить сегодня. — Шеридан печально покачал головой. — Боюсь, его расстреляют.
Глупцы! Глупцы! Только это и можно было повторять. Но лишь в последующие месяцы она начала действительно так думать.
Нельзя было обвинить британцев в жестокости, если учесть обстоятельства и условия тех дней. На самом деле они оказались даже гуманнее, чем могли быть власти какой-нибудь другой страны. Но они не были умны.
До того как повстанцы сдались, кое-где отпустили женщин. И большинство из них, после краткого допроса британскими офицерами, отправили по домам. По правде говоря, британцы просто не знали, что с ними делать. Семьдесят девять женщин были арестованы. Семьдесят три из них вскоре отпустили. Кейтлин с радостью узнала, что и Рита оказалась в числе освобожденных. Нескольких сначала держали в Килмейнэме, потом перевели в тюрьму в Маунтджой, затем отправили отбывать срок наказания в Англию. И только графиня Маркевич, которая слишком энергично пользовалась револьвером и других поощряла к тому же, была приговорена к расстрелу.
Было схвачено почти три с половиной тысячи мужчин. Примерно полторы тысячи отпустили, а остальных также отправили в Англию, кроме тех ста восьмидесяти шести, которых решено было отдать под трибунал. Из них восемьдесят восемь, включая де Валеру, приговорили к расстрелу.
Но по большей части эти приговоры не были приведены в исполнение. Графиню выслали, потому что она была женщиной. Де Валера также спасся, возможно, потому, что его сочли гражданином Америки. Большинству же смертный приговор заменили пожизненным заключением. Среди них, как с радостью узнала Кейтлин, оказался Вилли О’Бирн. И скорее всего, почти все они могли выйти на свободу через год или около того по амнистии.
Но пятнадцать расстрелянных послужили своему делу куда больше, чем сами могли бы вообразить. Пирс, поэтическая душа, был любим многими. Он повел людей на Главный почтамт, он провозгласил республику. Он должен был знать, что его могут расстрелять. Но вот его младший брат? Его, как понял бы любой, выбрали просто потому, что он был братом Пирса. Джозеф Планкетт, который все равно умирал от болезни, женился на своей возлюбленной за несколько часов до расстрела и стал романтической фигурой. Джеймс Коннолли был так тяжело ранен во время событий, что его пришлось привязать к стулу, чтобы расстрелять. Казни продолжались десять дней, и к концу никто, кроме разве что единиц, не видел в этом никакого правосудия.
И мнение людей начало меняться. Когда один из героев восстания на следующий год объявил голодовку, тюремные надсмотрщики умудрились его убить во время насильственного кормления. Этого не должно было случиться. Но случилось.
К концу 1917 года «Шинн Фейн», организация умеренных взглядов, но которую британцы по ошибке считали фениями, и куда более воинственные националисты объединились в политическую партию и избрали своим лидером де Валеру.
— Мы хотим иметь Ирландскую Республику, — открыто заявляли они. — И мы будем добиваться своего на местных и парламентских выборах.
На следующий год британское правительство арестовало всех их лидеров.
А потом, отчаянно сражаясь с Германией и не зная, как справиться с голодом в армии, британское правительство внезапно пригрозило Ирландии обязательным призывом на воинскую службу.
— Вот видите, — могли бы сказать Вилли О’Бирн и другие вроде него, — англичане заключают соглашения, только верить им нельзя.
Глупцы! Даже Шеридан Смит повторял это теперь.
— Если Британия хотела доказать, что повстанцы были правы, — заметил он как-то, — они просто не могли бы сделать этого лучше.
Когда в 1918 году мировая война наконец закончилась, были назначены всеобщие выборы. Старая партия Редмонда получила всего шесть мест. «Юнионисты», то есть на самом деле протестанты Ольстера, завоевали двадцать шесть. Новое объединение «Шинн Фейн» — семьдесят три.
— Мир изменился, — пришел к выводу Шеридан Смит. — Изменился полностью и окончательно.
Однако все изменилось даже сильнее, чем ожидали того люди. Потому что, будучи избранными, все ирландские члены парламента, за исключением «юнионистов» и горстки людей Редмонда, сделали то, что считали единственно логичным для людей своих убеждений. Они не просто отказались занять свои места в британском парламенте в Вестминстере, они сделали нечто гораздо лучшее: созвали собственное национальное собрание — Дайл Эйреанн — в Дублине.
— Мы теперь и есть настоящее правительство Ирландии, — заявили они.
К весне они учредили совет министров, в который вошли Гриффит, графиня Маркевич, граф Планкетт, Макнейл, бывший волонтер, Коллинз, энергичный молодой человек из Ирландского республиканского братства, и другие. Председателем стал де Валера.
— Мы — республика, — сказали они. — Мы отказываемся и далее признавать английские законы.
И вот весной 1919 года Ирландия оказалась в странном положении: у нее было британское правительство, со своими законами и правилами и администрацией в Дублине, и второе правительство, куда более популярное, утверждающее свою законность, хотя у него и не было власти, чтобы утвердиться. Но моральная и политическая победа в том, что касалось членов «Шинн Фейн», все же была за ними. И теперь лишь от Англии зависело, признает ли она этот факт. А пока никто не знал, что делать.
Для Кейтлин тоже все изменилось совершенно неожиданным образом. Ее мать вернулась в Дублин после восстания 1916 года, и ей, похоже, здесь понравилось. Но нельзя было сказать наверняка, не сочтет ли она за правило проводить зимы во Франции. Однако, когда сразу после окончания мировой войны по всей Европе свирепствовала массовая эпидемия гриппа, мать Кейтлин стала жертвой этой эпидемии. Весной 1919 года графиня Кейтлин Бирн вдруг обнаружила, что ей уже двадцать лет, а скоро будет и двадцать один, и что она богатая молодая женщина. И она решила, вполне разумно, ничем особенным не заниматься, а просто закончить учебу.
Она очень давно не видела Вилли О’Бирна. И была удивлена, получив летом от него письмо, в котором он изъявлял желание навестить ее в субботу и пригласить на прогулку.
Кейтлин ничего не знала о его нынешних делах. Когда он вышел из тюрьмы, Шеридан Смит сообщил:
— Он больше у меня не работает. Он стал партнером брата отца Макгоуэна, у которого книжный магазин. — Смит немного помолчал. — Но я уверен, часть его бизнеса — это поездки в Америку, чтобы добывать деньги на политические цели. — Он сухо улыбнулся. — И он, похоже, получил кое-что и из рук моих родственников Мэдденов.
Вилли приехал на машине. Он не слишком изменился и выглядел здоровым и счастливым, как показалось Кейтлин.
— Я подумал, — заявил он, — что, если хочешь, можем съездить в Ратконан.
Это был прекрасный день. Узкая дорога бежала вверх, в горы Уиклоу. Иногда каменные стены закрывали вид, а порой Кейтлин видела огромные склоны, спускавшиеся к морю. Вилли, похоже, был в восторге оттого, что ехал в дом своего детства.
— Старой леди там уже нет. Я проверял, — с улыбкой сказал он. — Но есть кое-кто другой, с кем бы мне хотелось тебя познакомить.
— Твоя матушка?
— Нет, боюсь, она умерла. Но отец еще жив.
Почему-то эта мысль показалась Вилли забавной.
Когда они добрались до длинного дома с белеными стенами, где жил старик, Кейтлин с удовольствием познакомилась с Финтаном О’Бирном, высоким, приятным на вид мужчиной, с редкими седыми волосами и длинными белыми усами. Он любезно пригласил ее в дом, сообщил, что сын рассказывал о ней, и предложил молодым людям незатейливую еду. Бекон, черный пудинг, картофель.
— Я живу очень просто, — с улыбкой сказал он, — но я надеюсь еще пожить. Думаю, — добавил он, — здесь, должно быть, очень хороший воздух. Люди живут подолгу. И может быть, то, что ты здесь родился, тоже имеет значение. Ну, я в это верю.
— Мой отец верит, что Ратконан должен принадлежать ему, — улыбнулся Вилли. — И он ни за что не успокоится, даже в могиле, пока та старая сумасшедшая не отдаст ему его землю. Но ты ведь знаешь, отец, — почти радостно продолжил он, — что поместье никогда нам не принадлежало. И его настоящая наследница — вот эта молодая леди. — Он с усмешкой повернулся к Кейтлин. — Я так ждал этого дня, когда вы, двое претендентов, окажетесь лицом к лицу! Можете теперь поспорить!
Но его отец лишь благодушно улыбнулся:
— Да, вы точно из О’Бирнов. Никаких сомнений. А что до того, ваша ветвь должна владеть этим местом или моя, так это слишком старый вопрос, чтобы о нем думать. Разумеется, именно ваши предки были здесь вождями, а не мои. Но знаете ли, — он повернулся к Вилли, — у меня есть новости и для тебя, и для этой леди. Есть еще один наследник. Некий Бадж. — Он произнес это имя с легким отвращением. — Некий кузен, о котором все мы забыли, но о нем вспомнила, похоже, старая леди. Он получит земли после ее смерти, если захочет. А я осмелюсь предположить, что он захочет.
— Я не знал, — сказал Вилли. — И кто он такой?
— Его зовут Виктор Бадж. Живет в Англии. Он переписывался с леди. Какое-то время был на военной службе, но, насколько я знаю, теперь работает на пивоваренном заводе. В качестве кого — не знаю. Но мне показалось, — добавил с легкой иронией Финтан О’Бирн, — что работа у него есть не всегда.
Финтан провел их по окрестностям, прогулялся с ними вверх по склону, туда, откуда открывался волшебный вид. И показал Кейтлин до сих пор видимые границы картофельных полей, какими они были до Великого голода. Чем дольше Кейтлин общалась с этим человеком, тем больше он ей нравился. Когда настало время уезжать, она попрощалась с ним с искренним сожалением.
Теперь Кейтлин гадала, не было ли у Вилли каких-то особых причин знакомить ее с отцом? Но если и так, он ничем этого не показал.
На обратном пути Вилли болтал на самые разные темы.
— Знаешь, — сказал он, — похоже, будет еще одна драка.
И в самом деле, мелкие стычки между британскими правительственными войсками и Ирландской республиканской армией, как теперь называли себя волонтеры, начались уже несколько месяцев назад.
— Если только британцы и ольстерские протестанты не готовы допустить то, что предлагают де Валера и члены «Шинн Фейн» из нижней палаты парламента, выбора нет. А когда это начнется… — Вилли посмотрел на Кейтлин. — Женщины очень важны для восстания, ты знаешь. И будут еще более важны в будущем. Ты можешь сыграть чрезвычайную роль.
— Я была просто посыльной.
— И великолепной. У тебя немалый талант. И конечно, — улыбнулся Вилли, — ты можешь подстрелить любого с сотни ярдов.
— Только я не уверена, что хочу этого, — ответила Кейтлин. — Я сочувствую вашему делу, но… — Кейтлин и сама не знала почему — не из трусости, в том у нее сомнений не было, — но она не хотела больше присоединяться к вооруженной борьбе. — Обещаю, я об этом подумаю. И если мне захочется что-нибудь сделать, я дам тебе знать.
— Как скажешь. — Вилли кивнул, явно показывая, что уважает ее решение. — Ты лучше знаешь свои мысли и настроение. Так что все в порядке.
Он отвез ее на Фицуильям-сквер и оставил у ее дома. Когда Кейтлин благодарила его за чудесный день, Вилли, похоже, был доволен. Но возможно, Кейтлин была слегка разочарована позже, потому что ничего больше о нем не слышала. Более года.
Конечно, он был прав. Схватки было не избежать, потому что ни одна из сторон не желала уступать другой. Поначалу это было просто неприятным, но не слишком грозным конфликтом, в особенности когда члены ИРА стали время от времени устраивать стычки с полицией, вплоть до перестрелок. Но потом жару добавил некий молодой человек из Ирландского революционного братства, Майкл Коллинз, начавший организовывать дерзкие налеты и спонтанные забастовки, чем сразу стал широко известен. И все равно это было не слишком массовым явлением. Британское правительство наконец-то договорилось с ольстерскими протестантами, разрешив северным графствам создать собственный парламент. Но это означало, что католики в Ольстере снова оказались под властью привилегированного класса протестантов, как это было в XVII и XVIII веках. И вскоре в Ольстере начались бунты.
Но остальная Ирландия столкнулась с другим, куда более ненавистным вторжением. Оно началось в январе 1920 года.
— Если уж им так понадобилось присылать помощь, — жаловался Шеридан Смит, — то неужели они не могли набрать для этого людей получше?
Черно-рыжие. В основном это были бывшие солдаты и моряки, быстро призванные на службу, то есть на самом деле наемники, присланные для того, чтобы бороться с партизанскими вылазками Ирландской республиканской армии Коллинза. Когда они нанимались на эту службу, то их одевали в некую особую форму: камуфляжные желтовато-коричневые брюки и зеленый полицейский френч с широким черным поясом. Это уродливое сочетание цветов вскоре и привело к тому, что они получили кличку Черно-рыжие. К концу года в Ирландии их было уже десять тысяч. А игра велась очень простая: нападать и мстить. Сначала стрелять, а потом задавать вопросы. Подозрение доказано, если подозреваемый мертв. Они во многом совершенно не обращали внимания на закон и правосудие. Когда Коллинз и его ударный отряд поймали и убили нескольких британских офицеров разведки воскресным ноябрьским утром, Черно-рыжие не стали утруждаться поисками самого Коллинза. Они просто окружили футбольную площадку на дублинском стадионе «Кроук-Парк» и открыли огонь по толпе зрителей. И двенадцать ни в чем не повинных человек были убиты.
Если Черно-рыжие хотели напугать людей, им это удалось, Если они желали произвести впечатление, то этого не получилось, потому что их презирали. Зато если уж они имели хоть какие-то доказательства того, что вы принадлежите к «Шинн Фейн», то пускались за вами в погоню, как стая бешеных собак.
Утром через пять дней после инцидента на стадионе «Кроук-Парк» Кейтлин услышала стук в парадную дверь дома. Она была в холле и сама открыла. К ее удивлению, в дом вошел Вилли О’Бирн и, быстро захлопнув за собой дверь, сказал:
— Ты не хотела бы спасти мне жизнь?
— Если объяснишь почему.
— У меня мало времени. Я подстрелил одного Черно-рыжего из тех, что были на стадионе «Кроук-Парк». И его дружок погнался за мной. Я пытался и его убить, но к нему подоспело подкрепление. Так что я ускользнул от них всего минуту назад, в переулке. Но я уверен, они теперь пойдут от дома к дому. К несчастью, они меня знают.
— По имени?
— И в лицо. — Вилли оглянулся на окно. — Мне лучше спрятаться. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я вышел и столкнулся с ними.
— Сюда. — Кейтлин показала на утреннюю гостиную, расположенную в задней части дома, окнами в сад.
— Самое смешное в том, что ты ни за что не догадаешься, как зовут человека, который за мной гонится. Надо было мне сначала стрелять в него, а уж потом в другого.
— Так скажи.
— Виктор Бадж. Наследник старой леди. Уволенный из армии. Это настоящий дьявол. Да, надо было мне…
Раздался стук в дверь. Кейтлин соображала быстро:
— Если пройдешь через сад, там переулок, сзади. Но…
— Точно. Они там поставили кого-нибудь.
Кейтлин посмотрела на окно гостиной. На нем висели длинные тяжелые шторы, спадавшие до самого пола и по светской моде ложившиеся на ковер, как шлейф платья. Они просто сами предлагали укрытие.
— Встань там и не шевелись! — велела Кейтлин.
Ей действительно приходилось соображать очень быстро.
Через мгновение горничная доложила, что какие-то солдаты хотят войти в дом. Кейтлин села в кресло с высокой прямой спинкой, стоявшее в середине комнаты:
— Так впусти их.
Солдат было с полдюжины. И с ними офицер, крупный мужчина с грубым лицом. Кейтлин улыбнулась ему.
— Мы ищем одного беглеца. В этот дом кто-нибудь входил?
— Только вы. Но что за беглец? Мне грозит опасность?
Мысль о том, что девушке может грозить опасность, солдат не заинтересовала.
— Просто один темноволосый парень. — Офицер обшаривал взглядом комнату.
— Я графиня Кейтлин Бирн. А вы, сэр?..
— Прошу прощения. Капитан Бадж.
— Бадж? — Лицо Кейтлин вспыхнуло радостью, как будто она всю жизнь только и делала, что ждала этой встречи. — Вы не родня миссис Бадж из Ратконана? Ой, наверняка родня!
— Да, она моя тетя. — Манеры офицера изменились, слегка смягчившись.
— Я ничем не могу вам помочь с этим беглецом, капитан Бадж, но надеюсь, вы немного задержитесь и выпьете со мной чая. — Она посмотрела на его солдат. — Я знакома с семьей капитана, — объяснила она им без всякой на то необходимости, сияя улыбкой. — Прошу, садитесь. Я велю подать чай.
— О, я действительно не могу задерживаться, — сказал Бадж.
— Ваша тетя — изумительный человек. Вы, конечно, знаете, что она утверждает, будто в следующей жизни вернется в Ратконан в теле птицы? Вам не кажется, что это прекрасно? — (Бадж явно смутился.) — Говорят, она до сих пор носит все тот же тюрбан и ни разу не снимала его за тридцать лет! — продолжала радостно болтать Кейтлин. — И вы, конечно, видели у нее фотографию скульптур голых индийских танцоров, правда?
К этому моменту Бадж уже стал пунцовым. А его солдатам явно хотелось услышать что-нибудь еще.
— Капитан, а вы тоже верите в переселение душ? — спросила Кейтлин.
— Конечно нет! Я принадлежу к Англиканской церкви. А она просто эксцентричная старая леди. Ну, нам нужно идти.
— А мне бы так хотелось, чтобы вы задержались чуть-чуть! — задумчиво произнесла Кейтлин.
Но небольшой отряд Черно-рыжих уже выходил из комнаты. Когда входная дверь захлопнулась за ними, наступила долгая пауза. А потом из-за шторы послышался голос Вилли:
— Если бы я рассмеялся, мне бы пришел конец.
— Ну наверное, — откликнулась Кейтлин. — Тебе лучше пока оставаться в доме.
Тем вечером после ужина они сидели в гостиной, где шторы были тщательно задернуты, и Кейтлин вдруг поймала себя на том, что очень внимательно изучает взглядом Вилли. Он стал красивым мужчиной. И был способен на сердечность, но Кейтлин чувствовала, что до отца ему далеко. Ну, подумала она, он тем не менее доказал свою правоту во многих вещах. И если все это сделало его холодным, значит такова судьба.
Вилли посмотрел на нее.
— У тебя когда-нибудь был возлюбленный? — спросил он.
— Нет. — Кейтлин помолчала. — Зато, полагаю, в твоей жизни было много женщин.
— Ну, несколько. Конечно. — Вилли кивнул, потом улыбнулся. — А тебе не кажется, что пора?
— Да, — согласилась Кейтлин. — Думаю.
И вправду, время пришло. И Вилли, подумала Кейтлин, ничуть не хуже всех остальных.
Он прятался в ее доме десять дней.
Пусть их роман не имел продолжения, это не особо задело Кейтлин. Наверное, она сразу знала, что так будет. Вилли должен был снова отправиться в Америку.
А Кейтлин радовалась тому, что больше не принимает участия в борьбе, поскольку это был бы слишком болезненный выбор. Год спустя представители «Шинн Фейн», в числе которых был и сам беспощадный Коллинз, подписали с Британией весьма несовершенный договор, обещавший покончить с конфликтом. Ирландия становилась свободным штатом, доминионом Британской империи, как Канада. Шесть северных графств объединились под властью протестантов, и подавление католиков там продолжалось. Даже с границами не было ясности. И Кейтлин вполне понимала, почему де Валера отказался иметь с этим дело.
Но сама она, как и большинство ирландского народа, вполне могла жить даже и при несовершенном устройстве, и пусть это продолжалось бы если и не вечно, то хотя бы с поколение. И когда де Валера и его последователи затеяли новый конфликт, теперь уже восстав против собственных прежних коллег, Кейтлин поняла, что спрашивает себя: не почему это происходит, а когда это закончится? Гражданская война полна странностей. Коллинз, зачинщик Ирландского революционного братства, теперь защищал компромиссный договор, и довольно жестоко, выступал против новой революционной армии, называемой незаконной. Старые товарищи по оружию убивали друг друга. Коллинз был убит наемником до того, как все утихло. Странно, но большинство женщин, вместе с которыми Кейтлин тренировалась в «Куманн на мБан», предпочли встать на сторону де Валеры. Даже добрая, веселая Рита. Но Кейтлин не могла идти таким путем. И когда в 1923 году конфликт наконец сошел на нет, Кейтлин с облегчением думала, что свободный штат Ирландия, как бы ни было несовершенно все это в законе, сможет теперь жить в мире.
Лишь один раз ее призвали к действию. В конце июля 1922 года Кейтлин получила неожиданное письмо. Его доставил какой-то мальчик на велосипеде и тут же уехал.
Прочитав письмо, Кейтлин не колебалась. Она поспешила в банк, взяла денег и собрала кое-какие вещи, включая одну-две, которые могли понадобиться ей самой. Теперь у нее была машина, и Кейтлин нравилось водить ее самой. Она аккуратно уложила все в машину, сказала экономке, что уедет на несколько дней, и направилась на юг, к западному склону гор Уиклоу.
Ферму она нашла без труда. Она находилась около поселка Блессингтон.
Он почти не изменился. Но ясно было, что он не на шутку страдает. Осмотрев его ногу, Кейтлин заявила:
— Это не перелом, но очень серьезное растяжение. Тебе нужно как следует отдохнуть, если ты вообще хочешь ходить.
— Как хорошо, что ты приехала, — сказал Вилли. — Я знал, что ты приедешь.
— А что случилось? — спросила Кейтлин.
История была короткой. И Кейтлин не особо удивилась, услышав, что Вилли О’Бирн присоединился в гражданской войне к силам, выступавшим против договора. Но дела у них пошли плохо. Вилли отправился на встречу с республиканцами, собиравшимися в Блессингтоне с разных концов Ирландии. И там их жестоко избили сторонники правительства. Им пришлось разбежаться в разные стороны из Блессингтона. Но Вилли не мог идти, а поскольку он поссорился с лидером тех, кто решил уйти в горы, то подумал, что лучше ему переждать здесь, в одиночестве.
— Думаю, для меня все закончилось. Для меня эта борьба больше не имеет значения.
Но он не мог просто ждать, когда его найдут противники. Гражданская война оказалась делом куда более кровопролитным, чем старый конфликт с британцами.
— Если они меня найдут, мне конец, — спокойно произнес Вилли.
— Я могу спрятать тебя в Дублине, если хочешь, — предложила Кейтлин.
— Нет. Я предпочел бы Ратконан. Думаю, отец смог бы позаботиться обо мне. А если нет…
— Я привезла тебе двести фунтов, — сказала Кейтлин. — Если понадобится, уедешь во Францию.
— Меня очень беспокоят те парни, что ушли в горы до меня. Это настоящий сброд, и я им не нравлюсь.
— Я отвезу тебя в Ратконан, — успокоила его Кейтлин. — И я привезла «уэбли».
Дорога была узкой, извилистой. Со всех сторон открывался прекрасный вид на Долину Лиффи, протянувшуюся до Килдэра. Вилли сидел впереди, рядом с Кейтлин. И ему, похоже, не хотелось любоваться пейзажем. Как-то раз, когда они встретились с пастухом, Вилли спросил, не проходили ли здесь днем раньше люди из Блессингтона. Да, ответил мужчина, но они пошли по дороге на юг, а не через горы в сторону Ратконана. Похоже, это весьма успокоило Вилли.
— Скоро приедем, — заметил он. — И ты снова увидишь моего отца.
Дорога поднялась на перевал, затем начала спускаться вниз и превратилась уже почти в тропу. Наконец они подъехали к Ратконану. Несколько детишек, игравших у дороги, сначала уставились на них во все глаза, а потом помчались вперед, чтобы сообщить новость, ведь здесь воистину не часто приходилось видеть настоящий автомобиль.
Кейтлин улыбнулась, увидев знакомую длинную долину, спускавшуюся к Ирландскому морю. Машина с громким треском испустила выхлопные газы, когда они проезжали мимо ворот большого дома. Кейтлин расхохоталась. Если старая Роуз Бадж была там, то наверняка подумала, что это послание от мира духов.
Коттедж Финтана О’Бирна выглядел заброшенным. Кейтлин заглянула в дом. Никого.
— Хочешь, я тебе помогу? — спросила она.
— Нет, я просто посижу здесь на солнце, — ответил Вилли. — Вот здесь. Если ты пройдешь до Бреннанов, то они, может быть, знают, где он.
— А ты как?
— А что может со мной случиться в доме моего отца в Ратконане?
— Я скоро вернусь.
Ощущение лучей полуденного солнца на лице было очень приятным. И Вилли казалось, что, когда вся эта военная история закончится, он ничего не желал бы сильнее, чем вернуться сюда. Он может найти жену. Пора уже было. Какой она должна быть? Похожей на Кейтлин, возможно, но и непохожей на Кейтлин. Деньги — ужасная вещь, если хорошо подумать. Десять дней, которые он провел в красивом доме Кейтлин на Фицуильям-сквер, научили его этому. Да, там было удобно, просто прекрасно. Но он задыхался в роскоши. Он, впрочем, не сказал об этом Кейтлин. Не было смысла. А кроме того, он ведь любил ее. Интересно, гадал Вилли, должен ли он когда-нибудь сказать ей об этом? Он закрыл глаза.
Если бы он находился не в безопасном Ратконане, то услышал бы шаги еще издали. А здесь он услышал тихую поступь по траве лишь тогда, когда кто-то подошел к нему футов на десять. Но даже тогда Вилли не открыл глаз. Он пытался понять, кто это может быть. Не Кейтлин. Шаги слишком тяжелые. Его отец? Возможно. Один из Бреннанов? Может быть. Вилли улыбался и ждал.
— Спишь?
Теперь он открыл глаза. Обросшее щетиной лицо. Жесткий взгляд. И мушку двустволки в футе от своего носа.
— Услышал выхлоп. Подумал, стоит проверить. В наши дни никогда не знаешь, кто может сюда заглянуть.
Виктор Бадж. А Вилли и забыл о нем. Он думал, Бадж вернулся в Англию. Вилли был уверен, что он наверняка узнал бы, если бы старая Роуз Бадж умерла, а Виктор вступил во владение поместьем. К сожалению, со всеми этими сражениями и путешествиями последних нескольких месяцев он совсем не имел связи с отцом.
— А что, старая миссис Бадж…
— Жива и здорова. Ждет, когда превратится в ястреба. — Похоже, Виктору это казалось забавным, но стволы не сдвинулись с места. — Мы с ней договорились. Теперь я смотрю за имением. Уже два месяца. И все гадаю, увижу ли однажды и тебя здесь.
— Ты разве не боишься? Такого, как ты, здесь не могут слишком любить.
— Ну, я просто не упустил шанс. А нам с тобой надо рассчитаться. Ты убил моего друга, помнишь?
— Может быть. Когда-то давно.
— Мне так не кажется.
Кейтлин говорила, что привезла револьвер. Вилли размышлял, где он может быть. Он не думал, что девушка взяла его с собой. Наверное, лежит под сиденьем машины. Он мог бы попытаться добраться до него, но вряд ли. Нога не позволяла. Вилли представить не мог, что еще можно предпринять. Но с другой стороны, он мог бы все же попробовать. В конце концов, это выглядело бы как трусливая попытка ускользнуть от встречи со смертью.
Еще он мог схватить за стволы дробовик Баджа. Глупая мысль. Бадж знал, что делал. Так что Вилли бы просто умер как идиот. Поэтому он откинулся назад.
— Ты готов хладнокровно застрелить человека?
— Я застрелю тебя как собаку.
— И как ты это объяснишь?
— Вряд ли мне это понадобится. Времена нынче такие.
— Так пусть на тебя ляжет ирландское проклятье.
Кейтлин услышала выстрел, когда стояла перед домом Бреннана. Она побежала. И добралась до машины как раз вовремя, чтобы увидеть, как Вилли растянулся на земле. А какой-то мужчина с дробовиком отходит от него. Кейтлин посмотрела на лицо Вилли. Но лица не было — просто огромная кровавая рана.
Кейтлин потянулась под сиденье машины и окликнула мужчину. Он обернулся. Кейтлин его узнала. Виктор Бадж. Черно-рыжий, который приходил в ее дом в поисках Вилли. И он тоже ее узнал. Та девушка, что была знакома со старухой Роуз. Виктор нахмурился, быстро соображая.
— Ты убил его! — крикнула Кейтлин.
— Ну и что?
Единственный выстрел — и пуля угодила Виктору точно между глаз. Кейтлин не растеряла сноровки. Мгновение-другое она смотрела на Баджа, кивая самой себе, а потом вложила револьвер в правую руку Вилли и сжала его пальцы вокруг рукоятки.
Потом она услышала голоса. И отступила назад. Приближались несколько человек. И одним из них, как сразу увидела Кейтлин, был старый Финтан О’Бирн.
Сначала, глядя на кровавое месиво на траве, он не понял. А потом, когда Кейтлин подошла к нему и взяла его за руку, осознал. Он склонил голову и опустился на колени.
Так он стоял около Вилли минуту или две, а потом посмотрел на Кейтлин:
— Они убили друг друга?
— Должно быть, — ответила она.
— Мне показалось, я слышал два выстрела в разное время.
— Этого не может быть.
Финтан долго молчал и глядел на нее:
— Конечно. Я наверняка ошибся.
Он с трудом поднялся на ноги, подошел к Виктору Баджу, всмотрелся в аккуратную дырку в его лбу и кивнул. Проходя мимо Кейтлин, он коснулся ее руки и тихо произнес:
— Спасибо.
Несколько лет спустя миссис Роуз Бадж перешла в следующую жизнь, и имение Ратконан было продано. Иногда новым владельцам таких имений приходилось сталкиваться с тем, что местные жители сторонились их. В конце концов, они давно научились быть настороже, когда на их землю приходили чужаки. Этот урок преподавался им много столетий подряд. Но новую хозяйку Ратконана, со сверкающими зелеными глазами, с мужем и детьми, отлично приняли сразу.
В конце концов, Кейтлин была здесь своим человеком.
Благодарности
Я благодарен тем, чья помощь и профессионализм были для меня величайшей поддержкой: директору и всем сотрудникам Национальной библиотеки в Ирландии; директору и кураторам Национального музея Ирландии; библиотекарям и служащим библиотеки Тринити-колледжа; управляющему и штату офиса общественных связей Дублинского замка.
Я с благодарностью получил разрешение цитировать тост оранжистов из «Personal Sketches and Recollections», опубликованных «Ashfield Press».
Особую благодарность я выражаю Саре Джерти из Королевской академии Ирландии за то, что она так любезно подготовила карты, и миссис Хейди Бошофф, ведь без ее терпения и опытности, которые она проявила при перепечатке и проверке моей рукописи, книга никогда не была бы завершена.
Я также в большом долгу перед всеми, чья помощь, консультации и рекомендации оказались бесценными. Это Джозеф Бирн, автор «War and Peace, the Survival of the Talbots of Malahide», доктор Деклан Дауни, преподаватель исторического факультета Университетского колледжа Дублина; профессор Колм Леннон, факультет современной истории Ирландского национального университета в Мейнуте; Джеймс Макгуайр, редактор ирландского королевского академического «Словаря ирландских биографий». Я благодарен за то, что получил возможность полностью прочесть неопубликованную диссертацию Моред М. Б. Ни Медахи «Contending Neihbours: Society in Fingal 1603–60».
А сверх того, я в долгу перед тремя учеными, без чьего руководства, терпения, поощрения и невероятных усилий этот проект не мог быть даже задуман и, уж конечно, никогда не был бы воплощен в жизнь. Они совместно вычитали рукопись и помогли мне исправить ошибки, таким образом проделав колоссальную работу, отнявшую у них немало времени. И если остались какие-то ошибки, то они только мои. Я благодарю доктора Раймонда Гиллеспи, старшего преподавателя факультета современной истории Ирландского национального университета в Мейнуте; доктора Джеймса Келли из колледжа Святого Патрика в Драмкондре; и доктора Т. П. О’Нейла из Университетского колледжа Дублина.
И наконец, как всегда, я благодарю моего агента Джилл Колридж — без нее я совсем растерялся бы, моих прекрасных редакторов Оливера Джонсона из «Century» и Уильяма Томаса из «Doubleday», чья невероятная скрупулезность и творческий отклик на проблемы в огромной степени улучшили этот роман.
Примечания
1
Перевод с англ. Уинтера Фоллса. — Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Евангелие от Матфея, 10: 34.
(обратно)3
Евангелие от Матфея, 5: 29–30.
(обратно)4
«Вода жизни» (лат.), или водка.
(обратно)5
Книга английской писательницы Сидни Оуэнсон, леди Морган (английское название «The Wild Irish Girl»).
(обратно)6
Гиберния (англ. Hibernia) — персонифицированный национальный образ Ирландии; происходит от древнеримского названия Ирландии.
(обратно)7
Капитан Чарльз Бо́йкотт — британский управляющий в Ирландии.
(обратно)


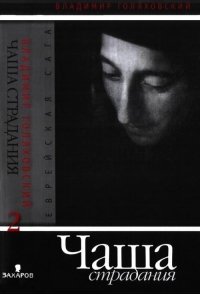
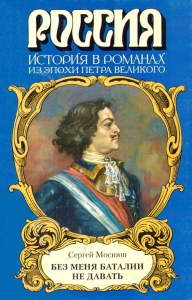
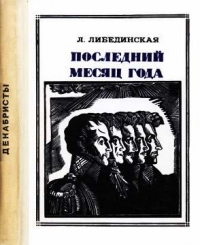
Комментарии к книге «Дублин», Эдвард Резерфорд
Всего 0 комментариев