Станислав Федотов Благовест с Амура
От автора
Этот роман мог никогда не появиться.
Но однажды мы сидели с амурским писателем Валентином Крыловым в одном из пивбаров Благовещенска, и в промежутке между кружками пива он вдруг предложил:
— А давай вместе напишем киносценарий про Муравьева-Амурского?
— Давай, — легкомысленно согласился я.
Мы засели на два месяца за рабочий стол и написали 170 страниц текста — кинороман в двух частях «Восточная империя». С чем и отправились в Москву.
Продюсерская фирма «Фора-М» заинтересовалась нашим опусом, но сразу же встал вопрос финансирования. Дело было в 1999 году, еще не затихли страсти по дефолту, и 7–8 миллионов долларов, необходимых (в то время) для производства фильма, найти оказалось весьма непросто. Фирма сделала нам «удостоверение национального фильма», с которым можно было рассчитывать на государственную финансовую поддержку, но лишь после того как найдутся начальные деньги. А их у фирмы не было. У нас, разумеется, тоже.
Нечто подобное произошло и на «Мосфильме». Там нашелся режиссер, пожелавший картину поставить, нашлась и студия, но…
И так далее.
Вернулись мы в Благовещенск несолоно хлебавши, с рукописью в кармане. Полтора года писали письма в разные инстанции, разным авторитетным людям, вплоть до самых высоких. Ответа, как правило, не было.
Крылов умер. Я еще какое-то время потолкался в крепко запертые двери административных и финансовых «тузов» — везде было глухо. А я уже всерьез «заболел» Муравьевым-Амурским, был глубоко в теме, и пришлось взяться за роман.
Разумеется, в свое время я читал замечательные произведения Николая Задорнова о капитане Невельском и его сподвижниках, но в них Муравьев-Амурский шел вторым планом. Теперь — изменилось время, изменились некоторые оценки событий и личностей, и мне показалось, что можно, а главное — нужно, по-новому взглянуть на героев того времени.
Роман — не киносценарий, это совершенно другое произведение. Конечно, исторические факты те же, как реперные точки, но события между ними — плод фантазии автора, и нередко их объяснение — иное. То же — и с историческими фигурами, а выдуманные персонажи — полностью на совести автора.
Роман занял у меня четыре года, но это было время непрерывной работы, а что может быть лучше? И я благодарен Валентину Крылову за то, что он втянул меня в эту историю — в прямом и переносном смысле.
Станислав Федотов
26 декабря 2012 года
Книга третья И первые взмахи крыла
Часть первая Поклонный крест
Глава 1
1
Они стоят в пятидесяти шагах друг от друга на дороге, укатанной полозьями нарт. Русский генерал-лейтенант и французский майор — офицеры воюющих государств. Враги.
Они собираются драться на пистолетах. Несмотря на разницу в званиях, дуэльный кодекс это позволяет. Поэтому у обоих секунданты, а в дорогу, как раз посередине между противниками, один из секундантов воткнул саблю — свежий ветер играет ее темляком и змейками гонит по дороге поземку.
Они собираются драться, но причина дуэли — не война между Россией и Францией, а, как это чаще всего бывает, — женщина.
Секунданты предлагают решить дело миром, но дуэлянты отказываются. Вернее, отказывается майор; с пылающим от ненависти лицом он заявляет, что должен отомстить человеку, который дважды убил его счастье. Генерал только пожимает плечами:
— Я преднамеренно против этого человека ничего не делал и не питаю к нему враждебных чувств. Он считает себя оскорбленным, он меня вызвал, за ним последнее слово. Хочет стреляться — пусть будет так. Лично я выстрелю в воздух.
Майор слышит его слова. Ярость и ненависть в его глазах перемежаются с растерянностью, в его душе что-то поколебалось, но не успевает оформиться в действие.
— Сходитесь! — кричит секундант генерала, а секундант майора машет платком; время что-то изменить упущено, и противники делают первые шаги навстречу друг другу, поднимая пистолеты.
И вдруг майор застывает, глядя куда-то за спину генерала. Генерал невольно оглядывается.
Из-за темной стены леса вылетела упряжка оленей с нартами. Нарты пусты, но на концах полозьев, держась за дугу задней стенки, стоит фигурка в меховой шубе. На крутом повороте нарты падают на бок, и фигурка кувырком катится в сугроб на краю дороги.
Секунданты, стуча сапогами, опрометью бросаются на помощь: один останавливает упряжку, второй помогает подняться упавшему, отряхивает его шубу. Но человек вырывается, так что шуба слетает с плеч, и бежит к генералу, путаясь в подоле длинного платья.
Это Катрин.
— Стойте! Остановитесь! Не стреляйте! — кричит она. Бросается на шею генерала и говорит торопливо, сбивчиво, глотая слова: — Не убивай его, дорогой… Никто же не виноват… Я тебя люблю… я тебя умоляю: не убивай!..
— Я и не собирался, — говорит генерал, стреляет в воздух, отбрасывает пистолет и целует Катрин.
И тут раздается второй выстрел.
Генерал и Катрин одновременно бросают взгляды в сторону майора и видят, как тот, уронив руку с пистолетом — а на синем мундире с левой стороны расплывается темное пятно, — медленно опускается на колени и падает — лицом в грязный снег, укатанный двумя десятками нарт.
«Черт побери, — думает Николай Николаевич, глядя поверх спинки кровати на окно спальни, подсвеченное снаружи газовым светом уличных фонарей, — опять этот сон! И, похоже, вещий, раз приходит третий раз, один и тот же, с небольшими вариациями. И опять он не смог разглядеть лицо майора — только мундир, черную бороду и развеваемые ветром кудри. Что, вообще, значит все это — снежная дорога, какая-то дурацкая дуэль с грубым нарушением дуэльного кодекса[1] и — главное! — Катрин, умоляющая не убивать странного майора, неожиданно вставшего на его, Муравьева, пути? Кто он ей, кто она ему? Что за дикие и пошлые обвинения в убитом счастье? Даже дважды убитом! Что за трагический пафос?! Чье счастье я убил?! Почему дважды?!! Ну, ладно, допустим, первый раз я женился на невесте погибшего… Так, может быть, это кузен Катрин взывает с того света? Да ну, какие глупости!.. Хотя… мертвым его никто не видел — вдруг остался жив и теперь ищет ее?!»
У Николая Николаевича пересохло во рту. Черт! Черт!! Черт!!! Он покосился на жену, спящую справа, — как она безмятежно раскинулась на широкой постели! осторожно встал и подошел к столику у окна, на котором стоял кувшин с чистой водой и стаканы.
Налил полный стакан и стал пить медленными глотками, продлевая удовольствие от влажной прохлады, задумчиво глядел в окно на одетый в строительные леса собор Преподобного Исаакия Далматского, покровителя Петра Великого. «Тридцать пять лет строится! За это время кто-то успел родиться, вырасти и, может быть, даже умереть, а собор все в лесах. Интересно, архитектору его, этому… Монферрану, снятся вещие сны? Ну, хотя бы о том, доживет он до окончания строительства или нет?
О Господи, что за дурацкие мысли лезут в голову! Впрочем, какие сны, такие и мысли: не столько дурацкие, сколько тревожные. Во сне была оленья упряжка — значит, дело происходит где-то на Севере, разумеется, в России — на Амуре, в Якутии или Камчатке. Откуда там французский офицер? А, ну да, наверное, уже идет война. Только почему — с Францией? С Англией — понятно, а Франции-то чего надо? Впрочем, неважно, надо срочно отписать Завойко, чтобы укреплял порт, строил намеченные батареи. Что еще? Да, конечно, — вытребовать и отправить поскорее Невельскому бумаги по высочайшему решению относительно перехода в разряд Государственной Амурской экспедиции и принадлежности России нижнеамурских земель — чтобы немедленно занимал Кизи и Де-Кастри. Пусть и на Сахалине посты военные поставит… Формально, конечно, это не его дело, поскольку Сахалинская экспедиция выделяется из Амурской и остается в ведении Политковского[2], но отвечать-то за нее будет он, Муравьев, и, пока она развернется, пусть побудет под Невельским. Конечно, тот опять, и вполне справедливо, станет жаловаться, что людей не хватает, — надо послать ему этого добровольца, майора Буссе, и рекомендовать назначить его командиром десанта на Сахалин. Пускай покрутится, а то двадцать пять лет, ни в одной военной кампании не участвовал — и уже майор. Видать, есть кому и по головке погладить, и подсадить. Только с чего, спрашивается, напросился в Сибирь? Там карьера в кресле не делается. Служить надо с полной отдачей, а иначе зачем ты на белый свет народился?»
Вода в стакане закончилась. Он с сожалением посмотрел на донышко, покрутил в пальцах, но наливать еще раз не стал: известно ведь, малейшее излишество может испортить даже большое удовольствие. Правда, пробежавшие только что мысли ни удовольствия, ни простой радости не доставили, но Николай Николаевич привык жить в постоянном окружении забот и проблем и давно себе не представлял, что может быть иначе. «Катрин говорит: это потому, что он уже шестой год не был в отпуске. Наверное, права, как всегда, права. К тому же почечные колики мучают временами так, что хоть на стенку лезь. Вот и государь внял его просьбе и разрешил четырехмесячное лечение за границей, но разве он сможет, пусть и на столь короткое время, отрешиться от своей «Восточной империи»? Если действительно начнется большая война с участием Англии, Тихого океана она не минует, и Николаю Павловичу волей-неволей придется дать согласие на сплав по Амуру войск и снаряжения для той же Камчатки. А где один сплав, там и второй, и третий. И уже не с войсками, а с переселенцами, ибо давно известно — войсками ничего долго не удержишь. Значит, надо ускорить подготовку: срочно строить пароход, баржи, павозки, лодки, вязать плоты, завозить в Забайкалье военное снаряжение, готовить солдат и казаков… И кому все это поручить? Да-а, в одиночку, пожалуй, не справится никто, придется делить. Допустим, за сплавные средства будет отвечать Казакевич, не зря же он уже два года занимается промером и описью забайкальских рек, текущих к Амуру. Чин повысили — теперь он капитан второго ранга. Ему и карты в руки. А снаряжение, конечно, надо поручить Мише Корсакову — он как раз занимается этим в казачьем войске…»
На кровати глубоко вздохнула и зашевелилась Екатерина Николаевна. Муравьев спохватился, что стоит голышом и уже основательно замерз, поставил стакан и на цыпочках вернулся в постель. Катрин словно его и ждала: пододвинулась, прижалась, обняла. Пробормотала:
— Какой ты холодный! — и тут же задышала тихо и спокойно. Видимо, ей ничего тревожного не снилось.
2
Муравьев, наверное, не взял бы на службу майора Буссе, если бы за того не попросил министр уделов Лев Алексеевич Перовский. Высокий хлыщеватый брюнет с бакенбардами «под императора» и холодными бледно-коричневыми глазами навыкате сразу ему не понравился. Жестокий себялюбец, определил он натуру новоявленного волонтера амурской эпопеи, ради карьеры не пожалеет никого, и в первую очередь нижестоящих. А этого Николай Николаевич не переносил всем своим нутром и, что греха таить, когда служил в армии, случалось, бил по физиономии офицера, позволявшего себе измываться над нижними чинами. Как ни печально, таких вполне хватало, и он для себя сделал вывод: человек у власти всегда готов унизить нижестоящего, особенно, когда ему не грозит что-то получить в ответ. Но тут же сделал неприятное открытие: да ведь он сам, чиня благородную расправу, оказывается таким же человеком у власти. И начал себя осаживать.
С тех пор много воды утекло, многое в жизни изменилось; что было когда-то дозволено быку, теперь стало не дозволено Юпитеру, однако ощущение брезгливого бешенства, которое охватывало его в подобных случаях, осталось где-то на донышке души и нет-нет да напоминало о себе, и тогда приходилось напрягаться, чтобы не дать ему вырваться на волю. Как, например, в разговоре с Беклемишевым перед отъездом из Иркутска. Он бы, конечно, дал выволочку зарвавшемуся мальчишке, если бы не был так уверен, что уже не вернется. А оставлять о себе память в виде побитой физиономии молодого негодяйчика не хотелось. К тому же Беклемишева, в отличие от Буссе, он выбрал сам — тот окончил лицей, а Николай Николаевич лицеистов предпочитал университетским, — но генерал Муравьев ох как не любил публично расписываться в собственной недальновидности.
Как бы там ни было, сразу же по прибытии Муравьевых в Петербург бывший министр внутренних дел, а ныне — уделов граф Лев Алексеевич Перовский пригласил супружескую чету к себе — отобедать. На обеде он и представил генерал-губернатору своего протеже — майора Николая Васильевича Буссе.
— Жаждет широкой деятельности, — усмехаясь весьма иронично, сказал Лев Алексеевич. — Пускай молодой человек хлебнет настоящей героической жизни.
— Жизнь у нас не столько героическая, сколько суровая и полная всяческих лишений, — не принял Муравьев иронического настроя хозяина. — Вы меня простите, Лев Алексеевич, — не за столом об этом говорить, — но у Невельского уже несколько человек умерли от скорбута[3]. Российско-Американская компания с приходом Политковского совсем совесть потеряла: держала Амурскую экспедицию буквально впроголодь. Слава богу, теперь Невельской с товарищами в ведении государства, и я, со своей стороны, могу в полной мере ему помогать.
— Ну, вот видите, дорогой Николай Николаевич, что ни делается, все к лучшему, — благодушно заметил Лев Алексеевич. — И Владимир Гаврилович Политковский не такой уж монстр, как вам кажется, — он на весьма хорошем счету у государя императора. Его величество собирается поручить генералу укрепление Кронштадта.
— Дай ему Бог удачи на этом поприще, — скривил губы Муравьев. — Только, думаю, Кронштадт мог бы укрепить и кто-нибудь другой, как то сделал Александр Сергеевич Меншиков в Финляндии, а вот Русская Америка вовсе беззащитна, и укреплять ее, получается, некому. Впрочем, если хорошенько подумать, то и незачем. Так что я не совсем прав, нападая на Политковского. Русская Америка будет потеряна нами в ближайшие десять-пятнадцать лет.
Перовский ничуть не удивился столь категорическому заявлению: возможно, тоже об этом подумывал.
— Думаете, Англия наложит свою лапу?
Николай Николаевич покачал головой:
— Вряд ли. Нет, она, конечно, хотела бы, но есть другие. Ближе и сильнее. Пример Калифорнии чему-то должен нас научить.
— А что пример Калифорнии? — поинтересовалась вдруг Екатерина Николаевна. — И что такое — Калифорния?
Лев Алексеевич прикрыл салфеткой невольную улыбку, а Муравьев хмыкнул и нахмурился:
— Друг мой, ты же переписывала набело мою докладную записку государю. В ней я и приводил пример Калифорнии.
— А, да-да, — смутилась и покраснела Екатерина Николаевна. — Я не сразу сообразила, дорогой. Действительно, ты писал, что еще двадцать пять лет назад Русско-Американская компания предлагала занять Калифорнию, пока ее не захватили Соединенные Штаты Северной Америки, а правительство России отказалось. Но ведь если бы мы тогда ее заняли, сейчас бы тоже пришлось ее отдавать?
— Нет, дорогая, не пришлось бы. Калифорния снабжала бы продуктами не только Аляску, но и Камчатку и приносила бы огромную прибыль.
— Помню, помню то предложение, — сказал Перовский. Я тогда служил сенатором, а потом товарищем министра уделов. — И грустно добавил: — Все посчитали, что Соединенные Штаты доберутся до Калифорнии не раньше, чем через сто лет. В те поры никто и подумать не мог, что они затеют войну с Мексикой и отхватят у нее такой лакомый кусок…
— Американцы — народ практический, — подтвердил Муравьев. — Их стремление завладеть всем восточным побережьем Великого океана совершенно натурально. Они вот-вот потянутся к Русской Америке, и правительству надо уже сейчас думать, как подороже уступить Аляску.
— Зачем же уступать сугубо российские владения? — неожиданно подал голос майор, дотоле подчеркнуто скромно сидевший напротив Муравьевых. — Случись что, Аляска — прекрасный плацдарм для войны… с той же Америкой.
— А вы собираетесь воевать с Америкой? — воззрился на него Николай Николаевич. — Позвольте поинтересоваться: ради чего? Я уж не спрашиваю: какими силами? Хотя бы — ради чего?!
— Н-ну… — заерзал майор. — Ради величия России.
— Вы полагаете, величие России состоит в том, чтобы загнать на край земли несколько тысяч солдат, которых, кстати, надо кормить, одевать, обувать, оружие им дать, — где деньги брать на все это? Угробить их в бессмысленной войне и отдать в конце концов этот край земли победителю, на потеху всему миру — в этом величие России?! Глупости говорите, майор! Вы в глаза не видели ту землю, а тоже… прости господи… рассуждаете. Нет уж, пусть Америка останется американцам, а России самым натуральным образом надо осваивать азиатские берега Великого океана и через него торговать с той же Америкой. И если уж воевать, то на этих берегах и за эти берега! Вот это будет ради российского величия!
Муравьев помолчал, в упор глядя на майора, потом повернулся к Перовскому:
— Вы знаете, Лев Алексеевич, что я всегда сам отбираю офицеров и чиновников в свою команду. Но вам отказать не могу. К тому же у меня появились некоторые мысли в отношении майора. Я переговорю с военным министром об его переводе в мое распоряжение. Думаю, он не откажет. А вы, Николай Васильевич, наведайтесь через неделю ко мне, в отель «Наполеон», в десять часов утра. Там все и решим.
Буссе вскочил, щелкнул каблуками:
— Буду рад служить вам, ваше превосходительство!
Муравьев поморщился:
— Не мне, майор, не мне, а государю, Отечеству. И прошу вас, не выставляйте столь уж напоказ свое усердие. Это не всегда уместно. Я привык судить о людях не по умению заглядывать в глаза или пуще того — в рот.
— Садитесь, Николай Васильевич, — мило улыбнулась Екатерина Николаевна, спеша загладить резкость мужа. — Еще будет время поговорить, если вы, конечно, не раздумаете служить у нас в Восточной Сибири.
Майор покраснел и опустился на свое место. «Надо же, — удивился Муравьев, — краснеет — значит, для него не все еще потеряно. А Катюша-то какова: «мы заняли бы Калифорнию», «у нас в Восточной Сибири»! Французская сибирячка! Или сибирская француженка? А, собственно, какая разница? Главное — «у нас в Восточной Сибири»! У нас!» Он встретился глазами с женой и постарался этим взглядом передать ей всю свою нежность, хоть мимолетно еще раз объясниться в любви. И она все поняла — глаза ответно осветились изнутри, — да, впрочем, иначе и быть не могло. Они давно уже понимали друг друга с полувзгляда, с полуслова.
Это было неделю назад, и вот сегодня Николай Николаевич ждал майора, чтобы объявить о переходе его на службу в Главное управление Восточной Сибири. Екатерина Николаевна спешно писала письма, которые ей необходимо было отправить в Иркутск — Элизе и Марии Николаевне Волконской, а Корсаков и Сеславин готовили пакеты для Венцеля, Струве, Запольского и Невельского: Муравьев отправлял им высочайшие указания по вопросам российско-китайской границы, решения особого комитета и правительства по экспедициям — Амурской и Сахалинской, свои инструкции к дальнейшим их действиям до своего возвращения в Иркутск, что должно было произойти не раньше осени, а то и зимы, ну и множество разных сопутствующих документов. Отдельное письмо предназначалось для передачи военному губернатору Камчатки: главноначальствующий края предписывал генерал-майору Завойко сформировать из надежных во всех отношениях людей десантную группу для отправки на Сахалин под командованием майора Буссе. Правда, самому майору узнать об этом только предстояло.
Он появился, как и было предписано, в десять часов утра. Подтянутый, в парадном мундире, словно ему надлежало получать орден (коего он, кстати, даже самого малого, пока не заслужил). Корсаков и Сеславин удивленно-вопросительно воззрились на вновь прибывшего.
— Лейб-гвардии Семеновского полка майор Буссе, — представился Николай Васильевич. И улыбнулся Корсакову: — Здравствуй, Миша.
— Здравствуй, Николай, — протянул подполковник. — Какими судьбами? Мы с детства знакомы, — пояснил он Сеславину и обратился снова к майору: — Позволь тебе представить моего товарища по службе.
— Старший адъютант генерал-губернатора майор Сеславин, — слегка поклонился Александр Николаевич. — Чем можем служить?
— Вместе будете служить, — вышел в гостиную Николай Николаевич. Буссе щелкнул каблуками, здороваясь с генералом, тот кивнул в ответ. — Николай Васильевич Буссе, господа офицеры, отныне ваш товарищ, мой порученец по особо важным делам. Я предлагаю теперь же сделать перерыв на чай, за ним все и обговорим.
Все перешли в столовую, маленькую, но вполне уютную, где горничная Лиза уже накрыла скромный чайный стол на пять персон: небольшой самовар, заварной пузатый чайник, блюдо с горкой свежих творожных ватрушек, сахарница с наколотым сахаром и две плошки с вареньем — вот и все убранство и все угощение.
— Екатерина Николаевна выйдет к чаю? — спросил у Лизы генерал.
— Чашку барыня поставить себе просила, но сказала: ее не ждать, — вполголоса, только для хозяина, ответила горничная.
— Хорошо, ступай, чаю мы нальем сами. Рассаживайтесь, господа офицеры.
Те не заставили предлагать себе дважды. Зажурчали ручейки кипятка, зазвякали ложечки, размешивающие сахар, раскладывающие по стеклянным розеткам варенье, влет пошли ватрушки…
Подождав, пока опустеют первые чашки, Николай Николаевич сказал:
— Так вот, первое поручение, Николай Васильевич, к исполнению коего следует приступить немедленно, — это ваша командировка по маршруту Петербург — Иркутск Якутск — Аян — Петропавловск…
Буссе от неожиданности сделал слишком большой глоток и закашлялся. Корсаков и Сеславин, переглянувшись, дружно покачали головой. Муравьев, заметив это, усмехнулся, но продолжил, обращаясь к Буссе:
— Вы рвались к широкому полю деятельности — думаю, шире некуда. Такое поле возможно лишь в Амурской экспедиции… Александр Николаевич, помогите майору прокашляться — постучите по спине… Ну как, Николай Васильевич, полегчало? Это чай не в то горло попал, бывает. О-о, вот и Екатерина Николаевна пожаловали! — воскликнул генерал и живо вскочил, приветствуя входящую жену. Офицеры последовали его примеру, а Сеславин помог молодой генеральше занять место и налил ей чаю.
Когда все успокоились, Николай Николаевич вернулся к своему наставлению:
— На Камчатке вы с помощью губернатора Завойко набираете команду и вместе с ней следуете к устью Амура. Прибыв в Николаевский, куда переходит база Амурской экспедиции, вы поступите в распоряжение капитана первого ранга Невельского Геннадия Ивановича и возглавите десант на Сахалин. По крайней мере, я ему рекомендую назначить именно вас. Конечно, задание сложное и трудное, но у Невельского легких нет — это вам следует запомнить раз и навсегда. Как и важнейшее правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не забывать заботиться о нижних чинах, потому что именно они несут нас к звездам. К тем, что падают на погоны. Ну, вот, кажется, и все. А теперь отправляйтесь на свою квартиру. Даю вам на сборы три часа. К двум часам пополудни жду вас здесь. Получите все необходимые бумаги, деньги на дорогу и отправитесь на вокзал. До Москвы проедете на поезде, а там — на перекладных. В провожатые даю двух казаков из моей охраны. Вам все ясно, майор?
— Так точно, ваше превосходительство, — вскочил Буссе.
— Ну, раз все ясно, — исполняйте. И Бог вам в помощь!
3
Командующий 20-й пехотной дивизией и исполняющий обязанности начальника левого фланга Кавказской линии генерал-лейтенант Александр Иванович Барятинский наконец-то собрался написать письмо своему давнишнему неприятелю — генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву. Мысль сделать это приходила не однажды, после того как в руки ему попалась старая докладная записка генерал-майора Муравьева, которую в свое время начальник штаба Кавказского корпуса Коцебу положил под сукно. Муравьев, опираясь на собственный опыт замирения воинственных убыхов, предлагал изменить политику, а значит, стратегию и тактику, русских в Кавказской войне. Умноженный генералом Ермоловым принцип «око за око, зуб за зуб», когда за одного убитого русского солдата сжигались дотла целые аулы, хотя в чем-то соответствовал внутренним, межклановым разборкам горцев, но, как скоро выяснилось, совершенно не годился для военного воздействия на них извне. Огонь и кровь приводили горцев не к покорности, а наоборот — к объединению против захватчиков. Муравьев доказывал, что, если русские приходят с миром, проявляют в отношениях с горским населением терпение и справедливость, уважают их нравы и обычаи, они достигают гораздо большего по всем направлениям.
Записка эта привела Барятинского в задумчивость, смешанную со сдержанным восхищением, и он немедленно пустился использовать рекомендации на деле. Князь считал себя благородным человеком, а благородный человек, по его мнению, должен уметь быть благодарным, несмотря ни на какие личные неприятия (которые у него взаимно сложились с Муравьевым); поэтому, когда появились первые, весьма впечатляющие результаты от применения советов бывшего начальника отделения Черноморской линии, мысль о письме с выражением признательности стала посещать его все чаще.
Более того, Александр Иванович намеревался подкрепить свою признательность весьма существенным для Муравьева подарком — передать ему безвозмездно портрет супруги — Екатерины Николаевны, некогда купленный у Владимира Гау. Эта акварель, одна из лучших работ художника, не раз приводила князя в восторг живостью и изяществом образа мнимой «неизвестной», и Барятинский старался не расставаться с портретом при всех своих переездах. Для него была изготовлена специальная рамка со стеклом, которая позволяла либо ставить ее на стол, либо вешать на стену.
Вот только сесть за письмо все как-то не получалось. То приспело вступать в командование Кавказской резервной гренадерской бригадой, а там царили такие разболтанность и разгильдяйство, что впору было завыть от безысходности, однако новый командир показал волчьи клыки в наведении порядка и дисциплины, в проведении воинских учений, и бригада уже через три месяца наголову разгромила атаковавшие ее превосходящие силы чеченцев; то, следуя муравьевским рекомендациям, надо было неуклонно продвигаться по Чечне, устанавливая и закрепляя русскую власть на истерзанной войной территории, а именно — помогать восстанавливать разрушенные аулы и создавать населению условия для мирной жизни; то приходилось подолгу беседовать со старейшинами кланов, убеждая их не позволять чеченской молодежи уходить в горы с оружием в руках — пусть остаются в аулах и сотрудничают с русской администрацией, от этого всему чеченскому народу будет только польза и никакого вреда… А редкие свободные вечера полностью поглощала своим любовным искусством графиня Хелен Эбер, которая так привязалась к князю, что сопровождала его во всех кавказских перемещениях и вела себя при этом как вольнолюбивая американская женщина, то есть устраивала не только романтические ночи, но и бессмысленные ссоры, после которых исчезала на какое-то время, а потом появлялась вновь как ни в чем не бывало. Во время ее отлучек князь не единожды намеревался прекратить начинавшие тяготить его отношения, однако к моменту возвращения графини успевал по ней соскучиться и встречал с искренней радостью и просьбой простить его невольные прегрешения.
Самым пикантным в этой истории было то, что генерал-лейтенант с самого начала всерьез подозревал, что его любовница — шпионка и что ссоры она устраивает специально, для того чтобы, временно исчезая, передавать противнику добытые из бумаг князя или офицерских разговоров сведения о предполагаемых действиях русских войск. Поэтому он неожиданно менял намеченные боевые планы, перебрасывал свои части из одного места в другое, укреплял до того слабые участки обороны или резко усиливал ударные группы наступления, что нередко приводило к заметным успехам.
Подозрение его значительно укрепилось после того как однажды вверенная ему бригада, проведя скрытную ночную передислокацию, наутро в трехчасовом бою вдребезги расколошматила многотысячную атакующую группировку чеченцев. Графиня радостно поздравила князя с победой, но в ее радости он явственно почувствовал растерянность. Она даже не удержалась и спросила:
— Дорогой, как тебе удалось так точно определить направление удара этих дикарей?
— Заграничные умы называют это интуицией, радость моя, — подмигнул ей Александр Иванович, — а мы, русские, говорим просто: Божья помощь.
Князь произнес последние слова по-русски, а когда графиня вопросительно вскинула брови, перевел их на английский, но немного схитрил, сказав не «God’s help», a «God’s assistance», тем самым как бы отвел Богу вспомогательную роль.
Хелен немедленно ухватилась за этот нюанс:
— Что, Бог у русских всегда ходит в помощниках?
— Да, — хохотнул не отличавшийся религиозностью Барятинский. — Бог у нас, как говорится, на подхвате. — «На подхвате» он снова сказал по-русски, пристально глянув в лицо графини (она в этот момент примеряла перед зеркалом черную бархотку с жемчужной подвеской — подарок князя), и поймал мелькнувшую на мгновение в уголках красивых губ презрительную гримаску. Подумал: «она этот чисто русский оборот речи поняла, значит, язык знает, но скрывает, ведет свою игру. Ну что ж, — усмехнулся князь, — мы уже тоже играем, мадам, по вашим правилам, но в своих интересах». И, не дожидаясь вопроса, продолжил: — Извини, радость моя, я опять выразился по-русски, тебе не понять. Эти слова означают, что мы призываем Бога на помощь, только когда что-то получается не так, как хотелось бы. И Бог как бы подхватывает падающее знамя и несет его к победе. Да простится мне мой невольный пафос.
— Как это просто и мило — не обращаться к Богу перед столь важным деянием, как сражение, а держать его про запас. Вы, русские, пожалуй, большие оригиналы.
— А ваши англичане разве не приговаривают: «Бог помогает тому, кто сам себе помогает»? Или ты этой пословицы не знаешь?
— Я не англичанка.
— А-а, ну да, ну да… Но, как известно, большинство американцев — это бывшие англичане… Предприимчивые люди… Эти пословицы — что наша, что английская — как раз для них.
— Ах, если бы пословицы были законами, мир был бы совсем другим.
— А ведь и верно, — хмыкнул Барятинский и с невольным уважением посмотрел на графиню. — В нем больше было бы здравого смысла и гораздо меньше вражды.
— И тебе, мой герой, не довелось бы радоваться победе над чеченцами.
— Тоже верно. А кому-то, любовь моя, — печалиться и злиться по этому поводу.
Забавно, но графиня даже не удивилась столь прозрачному намеку.
Да, пожалуй, именно после этого разговора генерал-лейтенант Барятинский вполне уверовал, что делит ложе… как там высоким штилем? …с заклятым врагом, но, поскольку на этом ложе он никогда о делах не говорил, а планы, о которых графиня могла узнать, не забывал кардинально менять, то и «заклятый враг» оставался в его глазах и чувствах прелестной женщиной, способной дарить потрясающие минуты наслаждения. Тайная игра продолжалась, и командир бригады, а затем начальник дивизии шел от очередной победы военной к победе в области сугубо гражданской — по закреплению российской администрации на отвоеванных землях и, наконец, ему стало нестерпимо стыдно, что он успешно пользуется опытом и советами Муравьева, но так и не написал ему уважительно-благодарственное письмо.
В конце концов это заставило его взяться за перо. Конечно, знай Александр Иванович, что через двадцать лет они, два генерала — один от инфантерии, а другой даже фельдмаршал, — будут как добрые старые приятели баловаться коньячком с кофием в парижских кафе и вести долгие приватные беседы о прошлом и будущем Отечества, в которых весьма заметное место займет Кавказская война, да, да, знай он об этом, ни за что на свете, ни за какие коврижки, как говаривал дядька-солдат, его первый воспитатель, не стал бы взваливать на себя тяжелейший груз сочинения благодарственного письма. Да еще такому болезненно самолюбивому человеку, как Муравьев. Но — что поделать! — будущее сокрыто даже от генералов.
«Милостивый государь Николай Николаевич!» — вывел князь первую строчку и надолго задумался: что дальше? Брать ли сразу, как говорится, быка за рога и в учтивых выражениях изъявлять благодарность за ценные советы или начинать ab ovo, то бишь с самого начала — как нашел докладную записку, как прочитал из чистого любопытства et cetera… et cetera…[4] — Что это меня на латынь-то пробило? — усмехнулся над собой Александр Иванович. — Никогда торжественной мертвечиной не увлекался, а тут — на тебе! Сама тема обязывает вставать на котурны, что ли? Да ну их к бесу! Напишу как солдат солдату, без обиняков и экивоков…
И перо побежало по бумаге свободно и легко. Как это, оказывается, просто когда не надо плести словесные кружева, чтобы, не дай бог, не сверзиться с аристократических высот, когда по-русски крепкое словцо само выпрыгивает, чтобы обложить вечно завидующих наградам боевых командиров штабных крыс, которые упрятали в бесконечно долгий ящик столь важные советы опытного человека, когда наконец можно сказать искреннее спасибо этому человеку, а в завершение, не чинясь, попросить прощения за прежние вольные и невольные обиды…
— Саш! — оторвал князя от письма милый его сердцу бархатный голос Хелен. Правда, он отлично знал, как этот мягкий бархат может в одно мгновение превратиться в жесткую дерюгу, если его хозяйке что-то вдруг оказывается не по нраву, и в любовника самым естественным образом мечутся громы и молнии, графиня исчезает на два-три дня, а потом возвращается, и снова нежнейшим бархатом переливается ее призывный голос. Вот, как сейчас: Хелен опять вернулась из отлучки, вызванной (по крайней мере, внешне) ее обидой на князя за то, что тот не наказал офицера, который, по мнению графини, оскорбительно небрежно взглянул в ее сторону. Вернулась, потупив глаза, и не дала ему закончить письмо — утянула в постель, от чего Александр Иванович не в силах был отказаться.
А рано утром неизвестно откуда на лагерь свалился конный отряд чеченцев.
Дивизия временно стояла в междуречье Хулхулау-Хумыс, там, где лесистые горы плавно переходят в заросшие кустарниками холмы. Низины между холмами с вечера затягивало пенящимся, как выдержанный кумыс, туманом, который за ночь настаивался над текучей водой, и к рассвету палатки лагеря полностью скрывались в сизо-молочной мгле. Из-за нее приходилось удваивать посты по периметру лагеря, а линии вдоль палаток регулярно прочесывать подвижными группами из двух солдат во главе с офицером или опытным унтером. Оттуда, из этой мглы, неожиданно вынырнули всадники в черных бурках и мохнатых шапках и с гиканьем, свистом и выстрелами ворвались сразу в две линии. Два поста и один патруль, оказавшийся поблизости, были сметены в мгновение ока. Однако вышколенные начальником дивизии солдаты не поддались панике: выскакивая из палаток в одних подштанниках, они тут же вступали в бой — кто пулей, кто штыком встречая незваных гостей.
Сам Барятинский и Хелен проснулись с первым выстрелом. Князь не стал терять время на брюки и мундир, а набросил на голое тело и подвязал кушаком атласный халат с китайскими драконами кстати, подарок графини, — схватил два постоянно заряженных пистолета и босиком выскочил наружу, приказав Хелен не высовываться и ни в коем случае не зажигать света.
Чеченцы «прошили» весь лагерь насквозь и скрылись в сторону Хумыса, не оставив на месте схватки ни одного убитого или раненого. Хотя солдаты уверяли, что таковые должны были быть: в кого-то стреляли в упор, кого-то штыком пырнули. Да и сам князь, перебегая от палатки к палатке, успел разрядить свои пистолеты и был уверен, что как минимум ранил пару нападавших.
— Видать, крепко к седлам себя привязали, — заключил седоусый ветеран, сопровождавший Барятинского при осмотре последствий нападения.
Князь задумчиво кивнул:
— Странная какая-то операция. Шуму много, а результатов… — Он хотел сказать «ноль», но споткнулся: «результаты», а именно потери в дивизии, все-таки были — и убитые, и раненые. «Немного, но и тех жаль», — с горечью подумал Александр Иванович, и тут же, вроде бы некстати, снова вспомнился Муравьев, тогда еще молодой поручик, устроивший выволочку прапорщику Барятинскому за измывательство над солдатом. Тот урок тоже пошел на пользу — в отличие от многих других командиров, начальник дивизии берег своих подчиненных, а те платили ему любовью и верностью.
— Вам бы обуться, ваше превосходительство, — сказал подошедший майор, командир батальона, чьи солдаты в это утро несли караульную службу.
Князь взглянул на свои заляпанные грязью ноги и криво усмехнулся:
— Успею. Ты лучше скажи, сколько человек потерял?
Майор вздохнул:
— Двое убитых, один раненный в плечо, навылет. — Голос его был мрачен, и князь понимал, почему. В недавнем сражении батальон лишился едва ли не трети солдат и офицеров, каждый человек на счету, а тут этот, можно сказать, афронт.
Генерал похлопал командира батальона по плечу, по-товарищески ткнул его кулаком — утешься, брат, могло быть хуже, — и в сопровождении седоусого ветерана пошел к своей палатке.
И тут оказалось, что еще одним результатом кратковременного сражения стало исчезновение графини Эбер. В уголке, где стояла кровать, палатка была распорота чем-то острым — кинжалом или саблей, мундир генерала проткнут, наверное, тем же оружием, платья Хелен разбросаны.
— Твою мать! — только и сказал князь, увидев разгром «спальни».
— Никак похитили девицу, — высунулся из-за его плеча все тот же ветеран.
Князь внимательно осмотрел разрез в брезенте: его края были вывернуты наружу, стало быть, резали изнутри.
— М-да, похитили, — подтвердил он. И добавил довольно странно: — Сбылась мечта идиота.
Александр Иванович еще раз окинул взглядом палатку и не увидел на рабочем походном столике портрета Муравьевой. Тут он выразился уже более витиевато, хотя смысл словесных кружев свелся к простому — до чего же глупы в своей ревности бывают даже умные женщины. Но князь и предположить не мог, какова настоящая причина похищения.
…А письмо все-таки дописал и отправил. Правда, получил его Муравьев едва ли не через год — когда вернулся в Иркутск из-за границы.
Глава 2
1
На Петровском чугунолитейном и железоделательном заводе начальствовал Оскар Александрович Дейхман, тридцатитрехлетний горный инженер, назначенный управляющим еще при генерал-губернаторе Руперте. С немецкой педантичностью Дейхман быстро навел такие порядки, что завод уже пять лет как числился только на хорошем счету, выпуская железо и сталь в листах и ковочных болванках, отливая чугунные горшки, сковороды и прочий хозяйственный инвентарь. Посетив его в свой первый объезд Забайкалья, новый главноначальствующий Восточной Сибири остался весьма доволен, а посему поручение делать железные части первого парохода, естественно, не могло быть дано никому другому. Оно и не вызвало у Оскара Александровича никаких особых волнений. А вот второе задание, куда более важное — изготовить паровую машину для «Аргуни» (так решено было назвать амурский кораблик-первопроходец), — заставило управляющего глубоко задуматься, а по основательном размышлении обратиться к генерал-губернатору с письмом, в котором высказывались большие сомнения в технической возможности решить своими силами эту задачу.
«Ваше превосходительство, — писал горный инженер, несомненно, хорошо разбирающийся в механике, — для эффективной работы паровой машины всенепременно должно быть точное соответствие диаметров поршня и цилиндра, их взаимная высокая притертость. В Англии это достигается обработкой поверхностей упомянутых поршня и цилиндра на специальных токарных и шлифовальных станках, кои на нашем заводе отсутствуют…»
Генерал не замедлил откликнуться и прислал на завод комиссию в составе титулярного советника Шарубина, капитана второго ранга Казакевича и мичмана Сгибнева, а также подпоручика Майорова. Капитан, старший по чину и к тому же назначенный Муравьевым ответственным за строительство, собрал в кабинете управляющего совет, на который, по просьбе Дейхмана, были приглашены заводские мастера литейщики Белокрылов и Бакшеев и старший по слесарному делу Павлов. Приглашенные явились по-праздничному одетые в чистые штаны и рубахи с жилетками, тщательно причесанные, даже при часах, цепочки от которых свисали из жилетных карманов. Оно и понятно: не каждый день их приглашают на столь высокое совещание.
Мастера сели за длинный стол рядом с управляющим и начальниками заводских отделов, напротив приезжих, сложили руки на зеленое сукно скатерти и замерли в молчаливом ожидании.
Казакевич, которого Дейхман усадил на свое место во главе стола, постучал по столу карандашом — так, для порядка, поскольку шума и разговоров не было — и открыл заседание.
— Господа, мы собрали вас не для обсуждения, строить или нет паровую машину и, собственно, сам пароход — решение принято, курс проложен, и генерал-губернатор отступать от него не собирается, ибо того требуют государственные интересы. — Петр Васильевич заговорил напористо, в интонации, не предполагающей возражений. Она изначально надавила на приглашенных, заставила их внутренне съежиться и заранее покориться неминуемому. Казакевич это заметил; по своему морскому опыту он знал, что неверно выбранный галс приведет к потере ветра, и потребуется аврал для всей команды, и потому немедленно смягчил тон: — Нам, господа, надо обсудить, как строить. Покупать машину в Европе — нет денег. Одна была куплена и исчезла во время перевозки. Почему и куда — никто не знает: следов не найдено. Кроме того, теперь просто нет и времени. Приближается война, этот шторм нас не минует, и всем следует по местам стоять. Надо готовить к обороне Камчатку и устье Амура, следовательно — перевозить туда войска и снаряжение. Нужен транспорт, и поэтому я основал в Сретенске судостроительную верфь. Там уже делают лодки, баржи и павозки, в Атамановке и Шилке вяжут плоты. Но это транспорт для сплава. А сегодня потребны суда, которые умеют ходить против течения. И не на веслах или парусах, а силою машин! Я с товарищами — Александр Степанович Сгибнев один из них, прошу любить и жаловать, — Казакевич указал на мичмана, тот привстал и поклонился; приглашенные с едва заметным интересом посмотрели на него, — мы два года занимались гидрографией Ингоды, Онона и Шилки и можем с уверенностью сказать, что пароход нужен с особенно малой осадкой и высокой маневренностью. Поэтому первоначальный план взять за образец построенный в Англии пароход «Волга», принадлежащий обществу «По Волге», не годится. Судно слишком велико: тридцать сажен в длину, девять в ширину, машина — двести лошадиных сил. Впрочем, машина такой мощности была бы для нас хороша, но слишком уж тяжела! Подобный пароход, кстати, строили на Шилкинском заводе в деревянном варианте, но он сгорел. Казакевич тут подумал, может быть, даже хорошо, что не построили, не то сейчас мучились бы, что с ним делать, — невольно усмехнулся кощунству такой мысли, однако тут же спохватился и продолжил: — А вместе с ним, понятное дело, сгорели и почти все деньги, что дал на постройку покойный купец Кузнецов. Но в том же пароходстве есть два грузовых судна, «Москва» и «Криуши», построенных на верфи в Симбирской губернии, вот они, в качестве образца, нам очень даже подходят. Восемнадцать сажен в длину, две мачты с парусной оснасткой и машина на шестьдесят сил — в общем, самое то! Поэтому предлагается: командировать в Симбирск человека за справочными книгами и чертежами судна и машины, а пока они доставляются, нам тут следует выйти на ветер, коим будем идти в решении нашей задачи. Я имею в виду изготовление паровой машины. А решить эту задачу мы должны обязательно!
Петр Васильевич помолчал, оглядывая столь разных людей, пожалуй, впервые собранных за одним столом, и обратился к приглашенным:
— Что скажете, господа мастеры?
— Может быть, сначала выскажутся господа управляющий и начальники отделов? — вмешался титулярный советник, сделав ударение на слове «господа», намекнув тем самым на неуместность обращения к работным простолюдинам как к благородным.
Казакевич недовольно встопорщил висячие на манер Невельского рыжеватые усы:
— На собраниях морских офицеров, Шарубин, принято сначала заслушивать мнение младших по чину. Мы все вместе будем строить корабль, следовательно, можем считаться одной командой, и младшие по чину здесь — мастеры. По чину, но не по значению. Они — главные исполнители, и они сейчас большие господа, чем мы с вами. — И снова обратился к приглашенным: — Мы вас слушаем, уважаемые. Кто первый?
— Наверное, мастер Белокрылов? — подсказал управляющий заводом. По-русски он говорил совершенно правильно и только четкое произношение выдавало в нем обрусевшего немца. — Давай, Григорий Иванович, скажи, как ты думаешь исполнять указание генерал-губернатора.
Старший из мастеров, лысоватый, краснолицый, седобородый мужичок, гулко откашлялся в кулак и заговорил сипловатым баском:
— Так это… мы ж с тобой, Ляксандрыч, мозговали… — Дейхман согласно кивнул; Шарубин брезгливо поморщился: видать, не понравилось чиновнику простецкое обращение работника к начальнику, — однако смолчал. А мастер говорил, ни на кого не глядя, обращаясь к управляющему: — …Лить-то, само собой, надобно по модели, это мы смогём… а вот с обработкой… — Он снова откашлялся — то ли в горле першило, то ли все-таки от смущения, — и торкнул локтем сидевшего рядом Павлова: — Ну-к, Данилыч, ты ж слесарь… тебе, само собой, заготовки и обрабатывать.
Павлов, крупный мужик с большими руками, ладони которых походили на лопаты (видно, что человек давно и постоянно имеет дело с тяжелым ручным трудом), обратился не к Дейхману, а к Казакевичу, резонно посчитав, что управляющий и так все знает.
— Обрубку литников и грубую шлифовку поделок мы, ваше высокоблагородие, ведем вручную, но, в общем, исправно, а вот шабровку и полировку делать пока не приходилось. — Речь Павлова была, не в пример белокрыловской, довольно гладкой, можно сказать, тоже «шлифованной». — Для шабровки инструмент нужен, приспособления, а для полировки — паста требуется… как это называется?.. да, тонкоабразивная, а вот где ее взять — даже не знаю.
— А инструмент для шабровки есть? — спросил Казакевич. — И что за штука такая — шабровка?
— Ну… шабровка — это, в общем, выравнивание поверхности ручным инструментом — шабером. Тонкая работа! Шаберы разные бывают… Их у нас нет, но можно купить. Может быть, где пароходы делают — в Симбирске там или где… Был бы тут слесарь-инструментальщик, сами бы сделали…
— Слесаря-инструментальщика у меня нет, — сказал Петр Васильевич. — Подозреваю, что и во всей Восточной Сибири такового не найти. Но есть человек, который, как меня заверил генерал-губернатор, будет нам весьма полезен. Потому как голова его хорошо варит. Он скоро приедет сюда с Шилкинского завода. У кого-то еще есть какие-то соображения? — оглядел капитан сидящих за столом. — Нет? Тогда, Оскар Александрович, немедленно командируйте ответственного и толкового человека в Иркутск к исправляющему должность генерал-губернатора генерал-майору Венцелю, а от него далее — в Петербург и Симбирск, чтобы закупить все, что возможно, для строительства машины и парохода. Но честно скажу: сколько отпустят денег — не знаю.
— Я полагаю, Петр Васильевич, — четко проговорил Дейхман, — его превосходительство командировал бы для этой цели именно меня.
— Ну, так и флаг вам в руки! Как у нас на флоте говорят: прямо руль и ходом! А мы будем кумекать насчет шабровки и полировки.
2
Степан Шлык в Петровском Заводе квартировал у складной да ладной вдовушки Матрены Сыромятниковой. Отдавал хозяйке деньги, которые зарабатывал на строительстве паровой машины и железных частей парохода «Аргунь», и жил припеваючи на всем готовом. Можно сказать, семейно жил, только что невенчанно.
Муж Матрены, с которым она, как сказала потом Степану, промыкалась полтора десятка лет (а выдали ее в шестнадцать), сызмала работал на лесозаготовках, на молевом сплаве[5], и погиб при разборке залома — сорвался с бревна и не выплыл. Тело с разбитой головой нашлось на три версты ниже по реке. Матрена, естественно, по-вдовьи поплакала, но не особо сильно и долго: детей с Митрофаном не нажили, а хозяйство большое — две лошади, две коровы, пять штук овечек с бараном, кабанчик на откорме, птица разная — горевать некогда, только успевай поворачиваться. Ну, ей не привыкать — оно, это хозяйство, и так управлялось ее руками.
Степана определил к ней на постой староста села (Петровский Завод числился селом, хотя, благодаря железоделательной мануфактуре, мог бы считаться городом). Узнав из сопроводительных бумаг, что мастер Степан Онуфриевич Шлык переведен на Петровский Завод по прямому указанию генерал-губернатора, староста проникся к прибывшему почтительным уважением.
— Это, ить, лучшая фатера, господин мастер, — говорил он, лично ведя Степана к месту жительства. Они шли по высокому берегу большого заводского пруда; водную гладь разрезали, важно фланируя (иначе и не скажешь), многочисленные компании уток и гусей, между которыми то и дело затевались перепалки, и Степан посмеивался в рыжую бороду, глядя на них. Он любил живность, и сердце его радовалось такому изобилию.
— А уж хозяйка, скажу я вам, ить, чистая ягода-малина! — продолжал ворковать староста. — Только-только траур по мужу сняла. И расцвела-а-а — хучь завтрева под венец! Увидите, господин мастер, и обомлеете!
Это он попал в самую точку. Видно, углядев из открытого, по случаю, тепла окошка, что староста ведет к усадьбе статного рыжебородого мужчину в черной поддевке и черных плисовых шароварах, в юфтевых сапогах «в гармошку» да еще и в картузе с лаковым козырьком (Степан-то давненько забыл про армяк и лапти), хозяйка лебедушкой выплыла за калитку — в нарядной кике и расписном платке, накинутом на округлые плечи. Грудь высока и широка — есть куда голову приклонить, скуластое по-гурански лицо свежо, щеки туги и румяны, брови — что хвосты собольи обмахнули прозрачные серо-зеленые глазищи — есть от чего обомлеть сорокапятилетнему мужику, который пятнадцать лет после смерти любушки своей Арины в сторону баб даже и не глядел. Жизнь должна все ж таки исчерпать скорбное время и потребовать то, что отложено. Степан не обомлел, однако явственно ощутил, как хорошо заточенный фуганок снял стружку с одеревеневшего, едва ли не замшелого, сердца и открыл его сокровенное естество.
— Вот, Матрена, постояльца к тебе привел, — объявил староста так торжественно, словно одаривал хозяйку неслыханной милостью. Матрена повела томным взглядом, поклонилась. Степан крякнул — ох, и бесовка! — и наклонил голову в ответ. Староста все заметил, однако с тона не сбился. — От самого, ить, генерал-губернатора на наш завод послан мастер Степан Онуфриевич — пароход для Амура ладить.
— Чавой-то? — уставилась на старосту Матрена.
— Пароход. Ну ить павозок такой, с паровой машиной и колесами.
— По земле, что ль, ходит?
— Пошто «по земле»? — оторопел староста.
— Дак сам говоришь — с колесами.
— Водяные колеса, дура! Он, ить, имя по воде гребет, заместо весел.
— И как же он до Амура догребет, ежели наши реки в Байкал текут? Вот и выходит, что по земле иттить придется.
— Да ну тя к едрене фене!..
Степан свой дорожный сундучок поставил на землю и стоял, заложив руки за спину, в разговор не вмешивался, посматривал весело то на старосту, то на хозяйку. Он видел, как озорно блестели глаза Матрены, догадывался, что «непонятки» она разыгрывает специально для него, и это его забавляло. Староста, похоже, тоже понял, что над ним смеются, и рассердился:
— У тя, Матрена, одне веселушки на уме, а ить Степан Онуфриевич с дороги дальней, ему забота и ласка надобны. Не-е, зазря я надумал к тебе его определить, пойду, однако, к Линховоинам. Оне, хучь и буряты…
— Но-но-но! — перебила Матрена старосту. — Я те покажу Линховоинов! Ко мне привел — значит, так тому и быть!
Глаза ее сузились, руки уперлись в бока, голова наклонилась, выставив рожки кики, так что староста невольно отступил на шаг и махнул рукой:
— Ну, ладно, ладно, я ить пошутил, нетель ты бодливая! Примай постояльца-то…
Матрена так и расплылась:
— Проходите, Степан Онуфриевич, проходите. Меня Матреной кличут…
Степан подхватил свой сундучок, в котором, помимо любимого, еще тульского, набора столярных инструментов, лежала полотняная рабочая одежка да пара чистых рубах, поклонился хозяйке:
— А по батюшке как будете?
— А чего? Просто — Матрена.
— Ну, и я тогда, значитца, просто — Степан.
— А и ладно… — Приветливо улыбаясь, она пропустила Шлыка в калитку, а старосте, который сунулся было следом, захлопнула створу перед самым носом: — Ты, милой, ступай к своим Линховоинам. Мы тута и без тебя обойдемся.
Через час, сидя вдвоем за празднично накрытым столом: Матрена успела испечь большой пирог с омулем, а уж натаскать из погреба солений-варений да настоечек дело вовсе нехитрое, и выпив по чарочке за приятное знакомство и начало новой жизни, хозяйка все же поинтересовалась: как же это — строить пароход для Амура, ежели доплыть до него по воде нет никакой возможности?
— Строить-то его, Матрешенька, будем, значитца, на Шилкинском Заводе. — Разомлевший Степан сам не заметил, как перешел от сдержанно-дружелюбного тона к ласково-задушевному. — На Петровском сделаем самое главное — паровую машину. Ну и все остатнее, что, значитца, из железа. Потом это все перевезем на Шилку и уж там соберем, как следовает. Вот так, милая моя хозяюшка.
Степан-то своей ласковости, которую душа уже многие годы копила, не заметил, излил ее на Матрену как бы нечаянно, а женщина встрепенулась, потянулась к нему одиноким истосковавшимся сердцем… правда, тут же испугалась — а вдруг он подумает о ней что-нибудь худое?! — и только спросила:
— Так вы, Степан Онуфриевич, недолго тута пробудете? Вас, поди-ка, ждет кто-нито в Шилкинском Заводе али еще где?
И была в ее, в общем-то, естественных вопросах такая изнаночная тонкость, что Степан ощутил душевную неловкость, задумался, обведя внезапно затуманившимся взором чистую горницу, освещаемые лампадкой лики Богоматери и Николы Чудотворца на иконах в красном углу, простенькие белые завески на окнах, из-за которых выглядывали какие-то цветы в глиняных горшках, встретился с Матрениными вопросительно-встревоженными глазами, и острое желание навсегда остаться здесь, в этом доме, с этой ладной вдовицей, укололо сердце.
— Сынок у меня, Гриня, в казаки записался, жена у него Танюха, сноха, значитца, и внученька Аринка, годок ей скоро, — в Газимуровском Заводе обретаются, — медленно и негромко сказал он, не разрывая сомкнувшихся взглядов. — Вот они меня завсегда ждут. А боле, значитца, нету никого. — Явственно увидел, как растворяется настороженность в глазах хозяйки, а в глубине их загораются теплые огоньки, и добавил: — Пробуду я здесь долго, пожалуй, до Рождества, опосля уеду — пароход в Шилкинском Заводе строить…
Замолчал, опустив русоволосую голову, задумчиво повертел в крепких узловатых пальцах стеклянную чарку; Матрена спохватилась, налила из штофа своедельной кедровой настойки — ему и себе, но Степан не спешил поднимать стаканчик.
— А ежели тута поглянется, вернетесь? — осторожно спросила она, заглядывая ему в лицо.
Он опять ответил встречным взглядом, улыбнулся, встопорщив рыжую бороду, и вдруг ласково провел мозолистой ладонью по ее черным, без единой сединки, гладким волосам. Матрена перед застольем кику убрала, волосы на затылке стянула узлом, спрятав его в кружевную шлычку, расписной платок оставила на плечах; от мужской руки она не уклонилась.
— А мне, Матрешенька, уже глянется…
Она сняла его руку со своей головы, слегка пожала и направила к налитой чарке. Подняла свою, наполовину полную вишнево-ореховой терпко пахнущей смолой жидкостью:
— Вот за это, Степа, и выпьем.
…А ночью разметавшийся на мягкой постели Степан вдруг проснулся — легко и сразу. В комнате было совершенно темно: луна на небе еще не народилась, а красноватый отсвет заводских плавильных печей скрывался за деревьями с другой стороны дома. В горнице тикали часы-ходики, словно в далекой кузнице стучали по наковальне легкие молотки: тук-тук, тук-тук, тук-тук… Но Степану показалось, что это гулко стучит его сердце. Он протянул в сторону голую руку — спал-то без рубахи, в одних подштанниках — и ощутил, что обхватил чьи-то ноги, прикрытые тонким ситцем. Матрена в ночнушке стояла возле кровати. Даже не задумываясь, что делает, Степан решительно повлек ее к себе и тут же подвинулся, освобождая место рядом с собой.
Запоздало подумал, что она упадет, но Матрена не упала, а уперлась руками в его плечи и мягко опустилась грудью на грудь, осыпав его лицо длинными волосами. Он вдохнул их запах, чуть отдающий цветущей ромашкой, ткнулся губами в ее щеку, нашел по жаркому дыханию рот и припал к нему, как к животворному роднику…
Ночь пролетела, будто корова языком слизнула: кажется, вот только что была темень непроглядная, а уже и зорька утренняя заглянула своим взором нескромным, как девчонка любожаждущая, в окошко незавешенное, высмотрела постель взбулгаченную, а на ней двоих обнаженных, слившихся воедино, зарозовела от смущения и прикрылась облачком кисейно-легким…
Вот так Степан Онуфриевич Шлык на сорок шестом году жизни вновь обзавелся, можно сказать, своим домом.
3
Работа по заданию генерал-губернатора шла полным ходом. Дейхман вернулся из командировки в Петербург и Симбирск с чертежами плоскодонного парохода «Москва» и собственноручно изготовленными эскизами английской паровой машины. Привез он и набор шаберов и токарных резцов из особопрочной стали — где и как их раздобыл, Оскар Александрович широко не распространялся. Только за чашкой чая узкому кругу мастеров поведал, что заезжал в Пермской губернии на Юговский металлургический завод к своему однокашнику по Горному институту Павлу Матвеевичу Обухову, который изобрел новый способ литья стали.
— Вы, друзья мои, представить не можете упругость этого металла, — рассказывал управляющий внимательно слушавшим его мастерам. — Павел Матвеевич показал мне шпагу, сделанную из него; он свернул ее в кольцо, и клинок не сломался… — Оскар Александрович сделал многозначительную паузу, отхлебнул из чашки и оглядел лица, на которых было крупно написано: «И что потом?!» — А потом отпустил — клинок разогнулся и снова стал прямым и ровным, как и раньше! — торжествующе закончил управляющий.
Мастера одним разом выдохнули: ух, ты-ы!..
— Воз бы нам такую сталь! — мечтательно протянул Егор Данилович Павлов.
— А мы ее лить не могём? А Ляксандрыч? — поинтересовался Белокрылов.
— К сожалению, нет, — покачал головой Дейхман. — Павел Матвеевич еще не получил привилегию[6] на ее изготовление и рецептуру должен держать в секрете. Да, я думаю, и после получения привилегии секрет не раскроется. Это же пахнет большими, даже очень большими, деньгами! А кроме того, Обухов сделал из этой стали ружейный ствол — и тот получился много лучше немецких и английских. Так что его изобретение уже имеет государственное значение. Им заинтересовались военное и морское министерства. Армии и флоту нужны ружья и пушки.
— А паровые машины, что ль, не нужны? — подал голос мастер Матвей Бакшеев, щуплый, большеголовый мужичок. — Я в газетке читывал: в той же Англии на пароходы пушки ставят.
— А паровые машины по-прежнему будем покупать в Англии, — грустно сказал Оскар Александрович.
— Ага, ага, — ухмыльнулся слесарь Дедулин. — Как зачнем с ей воевать, так она нам и продаст… хвост свинячий с кисточкой. Самим надо делать!
— Так делайте! И сделайте лучше английских! — подзадорил мастеров управляющий.
— А мы — чё? Мы и делаем… как могём… — отозвался главный, Белокрылов.
— А надо — лучше!
Пробные отливки поршней и цилиндров по восковым моделям сделали еще до приезда Шлыка. Но получились они «рябыми» — множество мелких раковин покрывали поверхности скольжения. Как предположил Григорий Иванович — из-за большого количества расплавившегося воска. Да и качество самого воска оставляло желать лучшего. Вероятно, по той же причине и окружности оказались искаженными настолько, что не выправить и на токарном станке.
Тут-то и пригодились рукодельные таланты столяра Шлыка, прибытие которого все поначалу восприняли с настороженным недоумением. Помимо того, что чужак, а чужая душа, как известно, — потемки, так еще и мастер по дереву, которое на заводе использовалось лишь на опоки, а для их сколачивания годился и старый плотник Акимыч. Однако Степан быстро доказал, что генерал-губернатор направил его на завод не по глупой начальственной прихоти, а с дальним и весьма точным прицелом. Оглядевшись на заводе и ознакомившись с результатами первых отливок, он предложил использовать деревянные макеты цилиндра и поршня. Одни — для восковых моделей, другие, соответственно размерам, — непосредственно для литья металла.
Литейщики встретили его слова откровенным смехом.
— Ты чё, паря, об свой рубанок шибанулся, чё ли? — вытирая слезы, спросил Григорий Иванович. — Да жидкая сталь от твоих деревяшек одне угольки оставит. — И снова зашелся в дребезжащем смехе.
— Это, значитца, смотря какое дерево брать, — не обижаясь на насмешку, степенно сказал Степан.
— Да какое ни бери, все едино — дерево!
— Не скажи. Мореную в воде древесину не каждый, значитца, огонь возьмет.
— Это ж сколь ее морить надобно?! У нас на то и времени-то нету.
— Да ее, мореной многолетней, завались! Надо только выбрать подходящую.
— Это где ж ты, паря, ее видал?
— Видать пока, значитца, не видал, но — знаю. Сказывала моя Матрена, что на реках сплавных дно просто-напросто топляками выстлано — вытаскивай да используй по надобности. А я ей верю — она по молодости с мужем на сплав хаживала. Так что стоит поискать.
— Ну, ищи, вытаскивай — да пупок, смотри, не надорви.
С тем сердечным пожеланием мастеров Степан и отправился искать мореную древесину. Да еще с помощью Матрены Сыромятниковой, которая взялась быть проводником по молевым речкам. И ведь нашел, привез на заводской двор несколько тяжеленных бревен, пилить их замучился — твердая, подобно камню, древесина за несколько прогонов тупила зубья пил так, что их приходилось снова и снова затачивать, — но все-таки заготовил несколько чурбаков, из которых своими старыми испытанными столярными инструментами выдолбил и вырезал макеты цилиндров и поршней — любо-дорого посмотреть. И поверхности отливок получились гладкие — без раковин, наплывов и прочих неприятностей, по крайней мере, крупных. А мелкие уберут слесари — той же шабровкой и полировкой. Кстати говоря, пока Степан работал с макетами, Дедулин испробовал для полировки разные виды глин из окрестностей Петровского Завода и, похоже, нашел подходящий состав. Конечно, не то, что у англичан, но работать можно.
Казакевич был страшно доволен результатами, особенно отливками по макетам Шлыка. Единственно, что озаботило, — это всего лишь разовая их пригодность: все-таки поверхность дерева хоть немного да обугливалась, и для повторной отливки макеты уже не годились.
— Ничаво, — добродушно сказал Степан, — я их, сколь надо, столь, значитца, и наделаю.
Вечером, после работы, он рассказал Матрене об удачном испытании своих поделок, и она на радостях накрыла праздничный стол. Из погреба были извлечены копчености — свиной окорок и шейка изюбря, соленые и маринованные грибочки и огурчики, квашеные капуста и черемша; на скорую руку хозяйка потушила молодые побеги папоротника (собранные как раз во время поиска мореной древесины), а на горячее пошла молодая картошка, жаренная с приобретенным по случаю у охотников нежным мясом косули. Ну и, конечно, горькие настоечки — на черемше, рябине, кедровых орешках, лимоннике — для радости мужеской и сладкие наливочки на таежных ягодах — для печали женской. Впрочем, «печали» — это так, от лукавого: у Матрены последние два месяца причин печалиться не было, наоборот — лад да склад между ней и Степаном подталкивал их скорым шагом к венцу. А они и не сопротивлялись: что ж сопротивляться, ежели каждую ночку объятья крепче, поцелуи жарче, а о прочем говорить — найдутся ли слова для восторга и восхищения?
Но за стол Степан с Матреной сели степенно, рядышком, чтобы тепло друг друга ежеминутно чувствовать, чарочки с рубиновыми напитками подняли плавно, глаза в глаза глядючи, но, только тенькнуло стекло о стекло — громкий стук железного калиточного кольца словно развел чарки в стороны: эх, кто-то не вовремя напрашивался в гости!
Матрена привстала — пойти открыть задвижку, но Степан, положив тяжелую руку на мягкое плечо, усадил ее обратно:
— Я сам.
Матрена проводила его до двери ласковым взглядом и неожиданно всхлипнула счастливыми слезами: хозяин! В доме снова есть хозяин! Махнув рукой, выпила свою чарочку — дай Бог ему здоровья! — и вновь наполнила. Чтобы не заметил и не обиделся ненароком, что пьет без него.
4
Степан открыл калитку и невольно сделал шаг назад: за воротами стоял Григорий Вогул. За время, пока они не виделись, прежний друг-приятель оброс черной бородой с обильной проседью, а голова под суконным картузом оказалась брита наголо. На нем были яловые сапоги, черные штаны с синей рубахой-косовороткой; черную же куртку он из-за жары снял и держал в руках.
Шлык рыскнул глазами туда-сюда по двору, нет ли поблизости чего тяжелого, однако все было чисто — прибрано его же руками.
— Не колготись, — криво усмехнулся Григорий. — Поговорить надо.
— Говори, ежели, значитца, есть чего сказать. — Степан стоял напряженный, явно не собираясь отступать в сторону.
— Ну, что ж мы будем в воротах толковать, будто неродные? — пошутил Вогул, но глаза его оставались серьезными, даже скорее угрюмыми.
— А мы давно уже неродные. С той самой поры, значитца, когда ты Гриньку чуток не убил…
— Ну, не признал я тогда тезку, так рад же был, что не убил! Виноват, каюсь!
— …и дело наше огню предал!
— Не ваше дело, а муравьевское, — угрюмо сказал Григорий. — Ну, что, добром пустишь в дом али как по-иному?
— А чего тебе в доме делать?
— Сказал же: поговорить надо!
— Поговорить и во дворе можно… — Степан неприязненно посторонился, пропуская Григория, и добавил ему в спину. — Хотя, по-хорошему, тебя бы стражникам сдать, поджигателя и убивца!
— Сдашь, если сможешь. — Вогул, не оглядываясь, направился к лавке, вкопанной возле оградки палисадника, разбитого под окнами избы, и уселся, широко расставив ноги и положив куртку на колено.
На крыльцо вышла Матрена, увидела незнакомца и Степана, закрывавшего калитку, что-то по-своему поняла, поклонилась:
— Желаю здравствовать!
Вогул поднялся:
— И вам, хозяюшка, того же.
— А вы проходите в избу, как раз к столу поспели.
Степан хотел было что-то сказать, но передумал — махнул рукой, представил:
— Хозяйка моя Матрена Михайловна, а это — мой знакомец давнишний, Григорий… как тебя по батюшке-то, я и не ведаю…
— Алексеевич, — усмехнулся гость.
— Вот, значитца, Григорий Алексеевич.
— Проходите, Григорий Алексеевич, — пропела Матрена. — Гостем будете. Небось с дороги дальней?
— Да уж неблизкой, — снова усмехнулся Вогул, поднимаясь на крыльцо и входя в избу вслед за хозяйкой. Степан хмуро шел позади.
— А остановились где? Давайте, Григорий Алексеевич, вашу одёжу я на гвоздок повешу. Вон рукомойник в углу, и опосля — прямо к столу.
— Благодарствую, Матрена Михайловна. — Григорий прошел к рукомойнику, вымыл руки тепловатой водой, вытирая, ответил на первый вопрос: — Да пока нигде не остановился. Вот с дорога прямо к Степану… к вам.
— Так у нас и остановитесь, ежели не побрезгуете. У летней кухни пристроечка, топчанок там имеется с тюфячком и подголовничком. И простынка с наволокой найдутся. А ночи стоят теплые — перинка не потребуется…
Матрена говорила и говорила — провожая Вогула в горницу, усаживая за стол, ставя перед ним глиняную обливную тарелку и чарку зеленого стекла, подавая вилку железную двузубую и железную ложку — обе были начищены до блеска. Говорила так воркующе, что Степан, вернувшись на свое место, как раз напротив Григория, почувствовал болезненный укол в сердце: его-то Матрена столь горячо не обласкивала. Однако тут же сам себе возразил: а как же ее всклокоченный от страсти шепот в ночи, в самые изнеможительные мгновения — «Степушка… родненький… ох!.. еще!..» — и быстрые радостные поцелуи? Подумал и устыдился — все тело, снизу до самой головы, окатило жаром, — и невольно приобнял за плечи невенчаную — пока невенчаную! — жену, как бы показывая Вогулу свое право на нее.
Но Григорий, похоже, не обратил внимания ни на слова Матрены, ни на ревность Степана — он словно ушел в себя, в какие-то свои, не очень-то веселые, мысли. Отвечал, правда, впопад, пил-ел неторопливо, узнав от хозяйки, что стол посреди недели богато накрыт по случаю Степановой удачи, ничего не сказал, лишь поприветствовал «именинника» поднятой чаркой и выпил полную за здоровье и счастье хозяйки. Закусив пельмешками, поднялся:
— Позвольте, Матрена Михайловна, нам со Степаном выйти. Подышать свежим воздухом.
— Дак окошки все открыты, — простодушно улыбнулась хозяйка.
— Поговорить надо, — коротко сказал Степан и встал. — Ты, Матреша, спроворь, значитца, чайку, а мы перетолкуем и возвернемся.
Они вышли в июньскую ночь, хотя называть ночью это состояние природы было, пожалуй, неправильно — оно скорее напоминало прозрачно-дымчатые сумерки: парящий над гаснущей вечерней зарей молодой месяц пронизывал теплый воздух рассеянным светом, а на востоке небо уже начинало высвечиваться снизу, словно там, за горами, разгорался огромный, но бездымный, лесной пожар. Только в зените, на сгущенно-синем небосводе, сложившись в загадочные рисунки, горели яркие звезды. Сквозь кусты и деревья палисада время от времени высвечивались далекие сполохи.
— Что это там горит? — кивнув на них, спросил Вогул.
— Домницы на заводе. Руду плавят. У них работа ночь и день — без продыху.
Григорий сел на лавку, хлопнул, приглашая, ладонью по оструганной доске:
— Садись, Степан, в ногах правды нет.
— А в жопе, значитца, есть? — хмыкнул Шлык, опускаясь рядом с Вогулом.
— Не до смеху мне, брат, — опустив голову, неожиданно севшим голосом сказал Григорий. — Я ведь пришел на крючок тебя посадить…
— Этта на какой такой крючок?! — Степан вознамерился вскочить, но Григорий успел ухватить его за локоть. — Я чё тебе, значитца, вроде сома, чё ли?! — возмутился столяр. Он попытался вырваться, но пальцы Григория держали, как клещи.
— Сома, щуки, ерша — какая разница?! Крючок такой, что не сорвешься, сколь ни трепыхайся. — Григорий поднял голову, встретился взглядом со Степаном и даже в рассеянном свете месяца увидел в них такое напряжение тревожного ожидания, что отвернулся и ослабил хватку. — Я должен тебе дать задание, а ты должен его выполнить, — глухо сказал он.
— Этта какое такое задание?! — все-таки взвился Степан. — И почему я должон его выполнить?!
— Не кричи, — попросил Вогул. — Соседям об этом ни к чему знать. Для тебя же лучше.
— А-а, понял я, с каким заданием ты сюда явился! Шилкинскую историю, значитца, решил повторить? Злоб свою супротив генерала потешить? Ан не выйдет у тя ничего. Пароход железный, а железо-ть не горит! Не подожжешь, варнак, не подожжешь! — И для полноты превосходства своих слов над словами Вогула Степан даже припляснул, выворачивая ноги в домашней войлочной обувке и выделывая руками кренделя. — Оппа-оппа-оппа-па…
— А я и не должен ничего поджигать. Ты б не скоморошничал, а сел и послушал. — Григорий сказал это так спокойно-угрюмо, что Степан обескуражился и вроде бы покорно уселся на прежнее место. Но весь вид его говорил: ну, чего тебе еще? — Поджечь, брат, должен ТЫ!!! Да поджечь так, чтобы все сгорело! Весь завод!!
От неожиданности Степан громко икнул и закашлялся. Он кашлял долго, останавливался, чтобы глотнуть воздуха и снова заходился в длинном кхаканье.
Вогул терпеливо ждал.
На крыльцо с ковшиком в руке выскочила Матрена — «Ой, Степушка, чтой-то с тобой?!» — зачерпнула дождевой воды из деревянной кадки, что стояла под водостоком с крыши, и плеснула Степану в лицо.
Кашель прекратился.
— Иди в дом, Матрена, — рыкнул, отплевываясь, муж невенчаный.
Женщина открыла было рот — возразить, но окинула быстрым пытливым взглядом обоих мужиков и послушалась. Даже дверь за собой притворила.
Степан рукавом рубахи обтер лицо и несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Потом спросил почти весело:
— Ну, выкладай, брат мой Каин, каким, значитца, макаром ты меня заставишь завод жечь? На какой крючок возьмешь?
— Да крючок-то простой, Степа, но уж больно надежный. Такой надежный, что с души воротит. Зверская надежность!..
Григорий замолчал. Степан ждал. Он не мог предположить, что будет дальше, но каким-то неведомым образом почувствовал, что в старом друге-товарище, неожиданно ставшем врагом и убийцей, происходит что-то очень серьезное, идет невидимая миру, но беспощадная схватка.
— Я лучше тебе другое скажу, — продолжил Вогул. — Я вот уже пять лет свою обиду тут вот, — он ткнул себя в грудь, — ношу. Все делаю, чтобы генералу досадить, в любом его деле, большом ли, малом — неважно… В Петербурге хотел на перо посадить… ну, ножом пырнуть… да ловок он оказался, видать, не в одной рукопашной бывал, меня самого едва не зарубил… Две засады устроил — у Байкала и на тракте Охотском — облом вышел! Прям заговоренный какой-то!..
Григорий глянул на Степана — тот внимательно слушал, а навстречу взгляду встрепенулся, спросил:
— А с чего ты мне все это сказываешь? Совесть проснулась?
— Скажу и о совести. Ты слушай, слушай… Ну, ножиком пырнуть — это я сам додумался, а вот засады устроить меня один человек подбил. Не наш человек, из моей жизни прошлой, когда я в легионе был. Ох, Степа, какая же у него злоба на генерала! Куда мне, с моим задом поротым, с этой злобою тягаться!
— А ты, значитца, у энтого человека на коротком поводке? — съязвил Степан.
— Нет, — отрубил Вогул. — Я ему сразу сказал, что с Россией не воюю, что наша дорожка общая только до генерала.
— Слышь, уж не ты ли машину паровую по весне позадавешной украл? — прищурился Шлык. — А мы теперича над ей головы ломаем.
— Какую паровую машину? — удивился Григорий.
— Каку-каку! — рассердился Шлык. — Для парохода, что ты сжег. Аглицкую машину аж с Уралу везли, а она возьми и пропади по дороге! Твоих рук дело?
— Машину ты мне не приплетай. Не знаю никакой машины! Ты слушай, что дале скажу.
— Значитца, не ты, — задумчиво сказал Степан. — Ну да ладно, сказывай.
— Занесло меня в Китай, в Маймачин, что на границе…
— Слыхал про такой, — обронил Шлык.
— …а там — цельный выводок против генерала. И все — наши, русские… зубы на него точат Ну, я поначалу-то обрадовался: эвон сколько заединщиков на ворога моего! Оттуда и на Шилкинский завод в охотку сходил, чтобы красного петуха Муравьеву пустить…
— Ты не Муравьеву, а нам с Гринькой, значитца, петуха подпустил. А сына вобще чуток не убил…
— Да ладно тебе! Я ж повинился… Не думал я тогда, Степан, куда злоба моя поворачивает, не думал… А потом объявился этот, англичанин Ричард, и вывернул дело так, что мы должны работать на Англию, что скоро будет большая война и надо помешать Муравьеву укрепить Камчатку и русские посты на Амуре. А для начала — сжечь Петровский завод, чтобы не мог он пароходы строить. А потом и верфь в Сретенске, и плотбище в Атамановке. И все это поручено мне! И до того мне, Степан, тошно стало! Как же так, думаю, целюсь в генерала, а стреляю в Россию-матушку? Знамо ж дело, он не для себя старается… Я ведь прежде-то, пока в Европу, а после в Африку, не попал, о России нашенской и не думал вовсе. Знал дом родительский, соседей, городок наш уездный, а где-то была Тула губернская, где-то Москва Первопрестольная, где-то Петербург столичный. И всё — на особицу, а в целом — нет, не думалось. Ведь только издаля начинаешь воспринимать: это, брат, Россия! Отечество! И при этом все внутрях закипает, аж до слез иногда. Потому я и зарок дал, когда в легион Иностранный пошел: против Руси-матушки не воевать! В легион-то всякий сброд набирают, там одни офицеры французские, и послать легионеров могут куда угодно, а им похрен — лишь бы деньги платили да после контракта гражданство дали. А мне, оказалось, — не похрен!..
Небо на востоке над горами уже наливалось красным, месяц на закате уплыл за горизонт, звезды в зените гасли одна за другой. Григорий говорил, замолкал, снова говорил, чертя сломанным прутиком на земле какие-то ему одному ведомые фигуры, — Степан слушал, не перебивая. Он чувствовал, что вся эта неожиданная исповедь неспроста, что за ней последует что-то важное, а пока Вогулу надо выговориться; за те три месяца, что они проработали вместе в Туле, Григорий про свою иностранную жизнь рассказывать не любил, и потом у него вряд ли с кем было время и желание пооткровенничать, а человек всю жизнь молчать не может — так и умом рехнуться недолго.
Когда Вогул в очередной раз промолчал дольше, Шлык осторожно спросил:
— Для тя, значитца, жечь завод — супротив Расеи-матушки, и ты задумал энто варначье дело переложить на меня?
Вогул кивнул, но добавил:
— Только не я это задумал, а Ричард, когда узнал от купца Христофора Кивдинского, что тебя отправили сюда.
Степан оторопел:
— Откуль энтому купцу про меня известно? Мне об нем доводилось слыхивать: сбег, мол, с-под стражи от суда губернаторского, а чтоб он меня знал — чудно!
— Видать, есть у него осведомители, — мотнул головой Григорий. — Я сам чуть зубами не клацнул, когда имя твое услыхал. А еще больше охолодел, когда англичанин крючок для тебя выдумал.
— Крючо-ок! И каков же он, энтот крючок?
— А ты не догадался? Аринка, внучка твоя, — вздохнув, сказал Григорий.
— Аринка?! Внучка?! — вскрикнул Степан. — Вам и об ней известно?!
— Я ж говорю, осведомители хорошие.
— Ах, вы, сволочи-и! Дите малое заместо крючка! — Степан схватился за голову, но потом развернулся и рванул Вогула за рубаху на груди. — Да ежели что с Аринкой случится, мы ж вас на куски порвем! Ты понял, сучий выродок?!
— Понял, понял, — спокойно сказал Григорий, высвобождаясь из захвата Степана. — Я чего пришел-то? Давай, брат, вместе думать, как быть и что делать.
— Да как чё делать?! Как чё делать?! — снова взъерошился Шлык. — Щас кликну соседей и сдадим тя, значитца, стражникам.
— Ну и дурак. Ничего-то ты не понял. Я битых два часа толкую, что не хочу больше вредить делам генерала, коли они для России полезные, а ты за грудки хватаешь… Ну, сдашь ты меня стражникам — не буду вилять, есть за что, — а что после? Думаешь, Кивдинский с Ричардом не найдут кого другого послать, кто за деньги ни матушки, ни батюшки, ни дитёнка не пожалеет? Это для меня ты с Гринькой да с Аринкой, можно сказать, родные люди, а тот же Хилок наступил бы сапогом и не оглянулся…
— Чё еще там за Хилок? — хмуро спросил Степан.
— Да был такой у Кивдинского. Телохранитель. Шлепнули его в одной заварушке — и поделом! Зверюга был — не приведи господь. Очень о нем купец сокрушался.
— Да хрен с им, с твоим Хилком! — взвыл Степан. — Вот скажи, как Аринку охоронить от варначья?!
Григорий вздохнул:
— Честно скажу, Степан: не знаю. Пока стервь эта сидит в Маймачине, и тебе угроза будет, и внучке твоей.
— А вы чё ли не мужик, Григорий Алексеевич? — раздался женский голос из кустов, густо росших в палисаднике, да так нежданно-негаданно, что оба они вздрогнули и разом обернулись на полускрытое листвой распахнутое окно. В нем виднелись голова и плечи Матрены, очерченные светом деревянного фонаря, висевшего у нее за спиной. — Взяли бы и разорили это осиное гнездо.
Глава 3
1
В Мариенбаде Муравьевы пробыли до конца мая. Николай Николаевич пил воду из источника Рудольфа, холодную, неприятную на вкус, но чрезвычайно полезную от почечных колик, которые начали мучить его еще в Стоклишках. Екатерина Николаевна, побывав у специалиста по женским органам, пила более легкую, пузырящуюся газом целебную жидкость из источника Креста. Она не теряла надежды забеременеть, хотя муж ни единым словом не упрекнул ее за отсутствие детей и даже больше — ей порою казалось, что ему, при его огромной занятости, дети могут помешать, однако упорно просила свою покровительницу — святую Екатерину о ниспослании зачатия и пыталась лечиться от бесплодия. И в то же время она вновь и вновь обращалась к мысли о том, что причина кроется в Анри, в невозможности, при всей ее любви и преданности мужу, выбросить из сердца первое чувство. Это он, Анри Дюбуа, не позволяет ей иметь детей от другого мужчины. О как она его ненавидела за все, что случилось между ними в Иркутске! Как ненавидела себя за то, что сразу не открыла Николя глаза на «прекрасного офицера и славного человека» Андре Леграна! Она не представляла себе, как посмотрит в любящие глаза мужа, когда он узнает правду. А рано или поздно он, конечно, узнает — только от кого?! — вопрос отнюдь не праздный.
Николя видел, что Катрин что-то угнетает, пытался узнать, в чем дело, ничего не добился, решил, что просто сказывается перемена климата, и перестал докучать. А тут еще в конце мая на вечерней прогулке по лесопарку, разрезающему курортный городок как раз посередине, они нос к носу столкнулись с двумя явно русскими личностями. Хотя оба господина были в модных европейских костюмах, но те сидели на них не то чтобы неловко, но как-то неуверенно, словно платье и человек еще приноравливались друг к другу. Один господин, худощавый и светлоусый, имел явно военную выправку, а второй, с буйной рыжей шевелюрой, отличался полнотой и в то же время живостью, свойственными молодым русским помещикам, только-только дорвавшимся до управления наследственным хозяйством и сгорающим от желания его усовершенствовать.
— Ба, знакомые все лица! — воскликнул Николай Николаевич, раскрывая объятия старым товарищам по первому пребыванию за границей, тому самому пребыванию, которое подарило ему необыкновенное знакомство с будущей женой. Тогда, семь лет назад, они ради экономии снимали одну квартиру в Ахене — молодой генерал-майор Муравьев, юный поручик Голицын и двадцатипятилетний рязанский балбес-сердцеед Дурнов.
Друзья обнялись, расцеловались, и Николай Николаевич представил:
— Дорогая, это Дмитрий Васильевич Голицын и Иван Иванович Дурнов, я тебе о них рассказывал, а это, господа, супруга моя, Екатерина Николаевна.
Склоняясь, вслед за Голицыным, к ручке генеральши, Дурнов задержал взгляд веселых голубых глаз на ее зарумянившемся лице и после поцелуя обратился к Муравьеву:
— Ужель та самая?..
— Да-да, та самая, — немного самодовольно улыбнулся генерал.
Тогда, в Ахене, выдернув Катрин из-под колес поезда, он проводил ее до отеля, где она снимала номер, и в течение нескольких дней, пока девушка приходила в себя после известия о гибели жениха, с утра до позднего вечера находился подле нее. Естественно, с ее разрешения. Своим друзьям-приятелям ничего не рассказывал, считая, что чужие сердечные секреты раскрывать кому бы то ни было он не вправе, а те были настолько деликатны, что ничего не спрашивали. Только поинтересовались однажды, где он пропадает. Он ответил, что с той девушкой, на которую они все обратили внимание, и ответил так серьезно, что даже зубоскал Дурнов не прошелся по нему скабрезной шуткой.
А потом Катрин засобиралась домой, в По, и Николай Николаевич испросил разрешения сопровождать ее в достаточно далеком путешествии. Девушка уже привыкла к его постоянному присутствию и была даже рада — по крайней мере, ему так показалось, — этому предложению. В Ахен с ней приехала камеристка Мари, маленькая неказистая блондинка, которая не столько помогала, сколько была обузой — она мало что умела и вечно теряла необходимые вещи, — а Катрин нуждалась в участливом обществе, ей не хватало защитника, и эту роль с удовольствием взял на себя молодой русский генерал.
С большим сожалением, но с пониманием и пожеланием сердечной удачи Голицын и Дурнов простились с товарищем. Думали — навсегда, однако оказалось — всего на семь лет. И вот теперь неожиданная и оттого еще более приятная встреча друзей. Разумеется, начались вечерние посиделки с воспоминаниями за «Бехеровкой» — так называлась изобретенная местным курортным врачом Йозефом Бехером спиртовая настойка на двадцати травах, удивительно приятный и целительный напиток, который рекомендовалось принимать за раз лишь по маленькой рюмочке, но русским такой дозы было маловато, и они за вечер опустошали целую бутылку темно-зеленого стекла, на что хозяин питейного заведения сокрушенно покачивал головой, однако на следующее застолье безропотно выставлял очередную бутылку.
Два вечера Екатерина Николаевна с удовольствием слушала рассказы мужчин, в основном своего мужа — заново переживая его поездки по Забайкалью, совместное путешествие на Камчатку, тайно гордилась его борьбой с казнокрадами и мздоимцами, грандиозными планами по возвращению Амура России и переустройству необжитого края. На третий вечер почувствовала некоторое утомление, а на четвертый ей захотелось во Францию, в Париж и далее на юг, к любимым и родным Пиренеям.
— Николя, милый, — сказала она, сидя у зеркала за утренним туалетом и обмахивая пуховкой щеки, — курс лечения у тебя закончился. Не пора ли нам уезжать?
— Разумеется, пора, — откликнулся муж, занятый непосильным для военного человека трудом — выбором галстука. — Но у меня предложение: а не поехать ли нам в Испанию? Иван Иванович в прошлом годе был в Мадриде и Барцелоне и очень советовал посетить родину Сервантеса.
— Нет, дорогой, в Испании я была несколько раз, именно в Мадриде и Барцелоне, и больше туда не хочу. Если тебе интересно, можешь съездить один, а я побуду в шато Ришмон д'Адур, немного отдохну.
— Хорошо, хорошо, — рассеянно сказал Николай Николаевич. — Пожалуй, так и поступим. Слушай, Катюша, — в его голосе появились жалобные нотки, — ну, помоги ты мне наконец подобрать галстук. Накупили их целую дюжину, между прочим, по твоему настоянию, а я теперь ломай голову, к какой рубашке, какому сюртуку какой расцветки да какой ширины. С ума сойти!
Катрин засмеялась. Легко вскочив с низкого пуфика, на котором сидела перед зеркалом, она в три шага подбежала к мужу, обхватила его двумя руками за шею, почти повиснув на ней, и крепко поцеловала:
— Ты мой большой мальчишка!
— А ты — мой самый красивый галстук, — неуклюже пошутил он, прижимая ее к себе одной рукой, а другая тут же заскользила вдоль спины — ниже и ниже…
— Все-все-все, — высвободилась она. — Выбираем галстук. Остальное — потом, вечером. После прощания с твоими друзьями.
— Да, они настоящие друзья, — задумчиво произнес Николай Николаевич. — Ты знаешь, что мне сказал по секрету Митя Голицын? Он же служит в Министерстве иностранных дел, столоначальником в Азиатском департаменте…
— Ну, и что же секретного рассказал Дмитрий Васильевич? — прикладывая к рубашке мужа то один галстук, то другой и придирчиво вглядываясь в них, спросила Катрин.
— Сенявин, видимо, по указанию Нессельроде, нарушил высочайшее распоряжение. Государь приказал отправить китайскому трибуналу лист с разъяснением его указа по границам… ну, с учетом исследований Невельского и Ахте, а Сенявин все опять свел к Нерчинскому трактату, в прежнем его понимании. Опять призвал столбы пограничные поставить. Причем тянул с отправкой листа до той поры, пока мы не уехали из Петербурга, чтобы я до времени ничего не знал…
Николай Николаевич с каждым новым словом распалялся и все сильнее. Как всегда, лицо покрылось пятнами, на висках выступил пот. Катрин замерла, не успев отнять от рубашки выбранный галстук, Николя вырвал его у нее из рук, отбросил в сторону и забегал по комнате.
— Милый, успокойся… — попыталась она остановить разгоревшуюся мужнину ярость.
— Да как я могу успокоиться?! — закричал он. — Китайцы же ухватятся за это и сорвут переговоры по Амуру!
— Ну, давай тогда вернемся в Петербург, — спокойно, даже как-то безразлично, сказала Катрин.
Удивительно, но именно это безразличие мгновенно погасило разгоравшийся пожар.
— Мерзавцы! — словно сплюнул Муравьев, но это была уже последняя искра.
Походив еще немного и помолчав, он буднично сказал:
— Возвращаться сейчас — смысла нет: лист все равно ушел в Китай — не догонишь. Да еще и китайцы могут снова промолчать, как это было год назад. У них там — свои проблемы: война с тайпинами, с англичанами… Вернемся после отпуска — тогда и буду разбираться. И разбираться так, чтобы Митю Голицына под удар не подставить. Чтоб его в предательстве не обвинили.
— Значит, едем в Париж? — осторожно спросила Катрин.
— Да-да, в Париж. Через Карлсбад до Цвиккау дилижансом, а там по железной дороге — через Лейпциг, Франкфурт… В Париж, моя радость, в Париж!
2
В шато Ришмон д'Адур у Катрин было слишком много памятных мест, бесцеремонно напоминавших ей об Анри. Она разрывалась между строгим супружеским долгом, который требовал решительно отбросить прошлое, и мучительным желанием снова и снова всматриваться в почти не потускневшие, как оказалось, картины их близости и томиться от всплесков прежних любовных ощущений. Ей было ужасно стыдно перед Николя, она чувствовала себя безмерно виноватой, но тем не менее «порочные» воспоминания не оставляли ее.
Родители ничего не могли ей рассказать об Анри. Они ездили в шато Дю-Буа на похороны старого Армана, двоюродного брата Жозефины де Ришмон (матери Катрин и Анри носили одно имя, по каковому поводу Жерар де Ришмон иногда отпускал соленые солдатские шутки), видели Анри, его юную жену Анастай и чудесного их сына Никиту, но это было уже достаточно давно.
Николя на две недели уехал путешествовать. Он запланировал сложный маршрут, в который входило, помимо Мадрида и Валенции, посещение Лазурного Берега Франции и Марселя, возвращение в Испанию, в Барцелону[7], и уже оттуда возвращение в По, в шато Ришмон д'Адур. Настойчиво звал с собой Катрин, но та сослалась на усталость и осталась в замке родителей.
А вот теперь, истомленная воспоминаниями, она вдруг решила проведать Анри в его родовом имении. Родители не советовали этого делать, дабы не давать мужу повода для ревности, которая у русских бывает смертельно опасной.
— Во-первых, мой муж до сей поры считает, что Анри погиб, — сказала Катрин, сидя с родителями за утренним чаем. — Я и сама долго так думала. Во-вторых, он мне полностью доверяет, и я скорее умру, чем обману его доверие. — При этих словах она невольно покраснела, отчасти из-за того, что они прозвучали напыщенно, как в плохом театральном спектакле, отчасти потому, что слукавила, так как не открыла Николя секреты Андре Леграна. — Я имею в виду, что никогда ему не изменю.
— Если женщина говорит «никогда не изменю»… — Жозефина де Ришмон сделала многозначительную паузу и кокетливо поправила на груди кружева своего пеньюара, — …это значит, что она уже готова наставить мужу рога.
Жерар де Ришмон громко захохотал, заставив вздрогнуть горничную, разливавшую чай.
— Мама! — возмущенно воскликнула Катрин. — За кого ты меня принимаешь?!
— За красивую и очень чувственную женщину, — серьезно сказала Жозефина. — Ты думаешь, мы с отцом не знали, чем вы с Анри занимались в твоей комнате каждую удобную минуту? Или на ваших конных прогулках? Знали и не мешали.
Катрин уткнулась в чашку заполыхавшим лицом, на глаза навернулись слезы. Мать засмеялась и, дотянувшись, погладила ее по плечу маленькой легкой рукой:
— Не смущайся, моя девочка, все это замечательно. Мы вам и не завидовали, потому что у нас с твоим отцом было нисколько не хуже. Правда, Жерар?
— О да, моя птичка! — подтвердил отец. — Иногда даже в то же самое время. — И снова захохотал.
— Уймись, Жерар, — строго сказала мать. — Не надо опошлять красоту.
— Правда не бывает пошлой, — назидательно произнес отец, подняв указательный палец.
— Еще как бывает! — возразила мать.
Катрин поняла, что назревает спор, но ей это было неинтересно.
— Я все-таки поеду в шато Дю-Буа, — сказала она. — Папа, закажи мне на завтра место в дилижансе.
— Дорога дальняя, — предупредил отец. — Где-то около семидесяти лье. Ты очень устанешь.
Катрин засмеялась:
— Папа, ты забыл, я вам писала, как мы с Николя добирались верхом от Якутска до Охотска. По горам, болотам, вброд через реки — почти пятьсот лье!
— Пятьсот лье! — в ужасе воскликнула Жозефина де Ришмон. — Бедная моя девочка!
— Да какая же я бедная? — продолжала веселиться Катрин. — Я жена хозяина половины России! Полуимператрица!
Ее веселье заразило и отца и мать. Несколько минут все смеялись. Потом Жерар де Ришмон вдруг посерьезнел:
— А ведь верно говоришь, дочка: твой Муравьев — хозяин половины России! Как же, должно быть, тяжело ему управлять такой территорией, если там нет даже самых простых дорог!
И Катрин притихла. Она как будто впервые мысленно охватила бескрайние просторы Сибири, по которым ей довелось передвигаться — на санях, колесах, лодках, в седле, — представила села и деревни, городки и города, увидела сотни и тысячи людей — простолюдинов и чиновников, купцов и военных, — и ей стало жутко: действительно, как же Николя со всем этим справляется, ведь у него и помощников-то настоящих можно по пальцам пересчитать?! А сколько явных противников и тайных врагов?! И все-таки он делает свое дело и делает хорошо, иначе не благоволил бы ему сам российский император. Ей стало тепло и радостно от гордости за мужа, такого сильного духом и такого… такого трепетно нежного в любви… Он, конечно, великодушно простит ее, когда она наконец решится рассказать ему про Анри… если, конечно, решится…
Катрин оглушили известия, простодушно выложенные ей Коринной сразу же по приезде в шато Дю-Буа.
Новая хозяйка шато, окруженная четырьмя малышами — пятый, грудничок Арман, сын Коринны и Анри, спал в комнатке для самых маленьких — хлопотала вокруг дорогой гостьи. Роже Байярд знал Катрин, можно сказать, с ее детства и представил Коринне кузину хозяина наилучшим образом. Катрин немного удивилась подчеркнуто уважительному отношению Байярда к крестьянке, неожиданно ставшей управительницей большого имения, но, увидев, как вьются вокруг нее дети, поняла причину такого уважения: Роже обожал детей, сам вырастил четверых и всегда считал, что к плохому человеку они льнуть не станут. Кроме того, рождение Армана засвидетельствовало, что утверждение Коринны в шато Дю-Буа совсем не случайно.
Взяв хозяйство Дюбуа в крепкие крестьянские руки, Коринна осталась открытой, доверчивой и добродушной женщиной, какими чаще всего и бывают простолюдинки. За обедом она бесхитростно поведала Катрин всю историю страданий Анри, всплакнула над белокурыми головками прильнувших к ней Никиты и Анюты (она так и называла Анну-Жозефину на русский манер, с трудом выговаривая странное для французского языка имя — Аньют). В комнате Анастасии, где все осталось неприкосновенным, Катрин долго рассматривала висевший на стене большой живописный портрет юной жены Анри, втайне надеясь увидеть в ней свои, почти десятилетней давности, черты, но ничего похожего не обнаружила. Отвергнутый ею Анри не искал новую Катрин — наоборот, нашел совершенно иной образ, можно даже сказать, прямо противоположный: милое округлое, типично русское лицо, голубые, как сибирское летнее небо, глаза, волосы — золотой пшеничной волной… Как там у Пушкина? «Чистейшей прелести чистейший образец»? Да, именно так. Казалось бы, Катрин должна была испытать чувство ревности, но в сердце, кроме острой жалости к несчастной девочке, ничего не возникло. Впрочем, и Коринна, ставшая любовницей, а вернее, невенчаной женой Анри, вызывала у нее лишь сочувствие и уважение.
— Байярд говорил, что ее отравило письмо из России, — услышала она за спиной напряженный голос Коринны и так резко обернулась, что та растерялась и торопливо пояснила: — Подробностей я не знаю, об этом лучше расскажет комиссар Коленкур — он в полиции занимался этим делом, — но Анри мне сказал, что не успокоится, пока не отомстит человеку, приславшему это письмо. С тем и уехал.
— Куда? В Россию?
— Ну, раз письмо оттуда…
— А где я могу найти Коленкура?
— Наверное, в окружном комиссариате, в Бержераке, — сказал Байярд, тоже стоявший за спиной Коринны.
— Я хочу его немедленно увидеть. Роже, вы можете меня отвезти в Бержерак?
— Разумеется, мадам. Уже иду запрягать.
3
Комиссар Жозеф Коленкур сидел в своем кабинете в старом здании полицейского комиссариата на улице Сен-Эспри и читал газету. Нельзя сказать, что у него не было никаких дел — у полиции они есть всегда, но комиссару уже ничем не хотелось заниматься, поскольку время близилось к ежевечернему бокалу красного бержеракского Petit-Champagne Montbazillac[8] в кафе «Сирано» на набережной Сальвет. Там так приятно посидеть часок под скульптурой поэта с задранным носом, покуривая сигариллу, прихлебывая прохладное вино, мелкими иголочками покалывающее кончик языка, и совсем не думать, допустим, про украденное на Плас Бельгард столовое серебро.
В дверь постучали, и не успел комиссар недовольно сказать «Войдите!», как ее резко дернули, открывая, и в проеме показалась женская фигура в элегантном дорожном платье. Черная вуалетка, спадающая с небольшой шляпки, наполовину прикрывала лицо, но опытные глаза комиссара мгновенно ухватили главное: посетительнице не больше двадцати семи лет, не местная и необычайно взволнована, принадлежит к высшим слоям общества. Последний вывод не радовал — чисто из личных соображений. Жозефу Коленкуру изрядно надоело подтрунивание полицейской братии над его аристократической фамилией[9], из-за которой сослуживцы за глаза называли его «дивизионным генералом».
Комиссар встал и поклонился. Положение обязывало.
— Комиссар Коленкур? — Приятный голос слегка дрожал, подтверждая волнение хозяйки.
Он снова поклонился:
— С кем имею честь?
— Екатерина Муравьева, жена генерал-губернатора из России.
У комиссара отпала нижняя челюсть. Он не поверил своим ушам. Дело об отравлении мадам Дюбуа письмом генерала Муравьева было, пожалуй, самым значительным и интересным за всю его двадцатипятилетнюю службу в полиции, он страстно желал докопаться до его корней и схватить преступника за руку, однако два обстоятельства свели к нулю весь его энтузиазм. Во-первых, муж погибшей категорически воспротивился вмешательству полиции, заявив, что знает, где найти преступника, и сделает это сам. Во-вторых, префект «Сюртэ»[10] Аллар отказал Коленкуру в командировке в Россию, сославшись на отсутствие средств. С этим не поспоришь, c’est la vie[11]. Комиссар и не огорчился, что занимательное путешествие не состоялось, потому что обнаружил одну деталь, которая заставила его сначала глубоко задуматься, а чуть позже порадоваться, что по указанию Аллара дело вовсе закрыли, хотя о нем нельзя было сказать: «L’affaire est dans le sac»[12]. О детали этой комиссар предпочел никому не рассказывать. Потому что quand la sant va, tout va[13], а деталь эта пахла большими неприятностями. Именно для здоровья.
А сейчас жена автора того злополучного письма (хотя точнее следовало бы говорить «предполагаемого автора») стояла перед ним, и глаза ее сверкали решимостью.
— Мне известно, что вы, месье, вели дело об отравлении мадам Дюбуа. Мне хотелось бы увидеть письмо, которое убило мадам. Оно действительно из России?
Коленкур смутился. Конечно, письмо написано по-русски и подпись там генерала Муравьева, но…
— Вы садитесь, пожалуйста. Видите ли, мадам, я не могу это утверждать с полной достоверностью…
— Почему? — спросила Муравьева, садясь на стул у рабочего стола комиссара. Сам Коленкур остался стоять, ссутулившись и опираясь на стол костяшками пальцев. Он был худощав и высок; все его знакомые были ростом ниже, и ему почему-то всегда хотелось быть «как все», поэтому он привык сутулиться.
— Позвольте мне сказать об этом чуть позже. А пока я могу вас познакомить с фотографической копией. Само письмо, тщательно запечатанное, находится в архиве «Сюртэ». Яд, которым оно пропитано, остается опасным для жизни. Муж погибшей хотел оставить письмо себе, но префект Аллар категорически воспротивился. Ему также отдали фотографическую копию.
— Давайте вашу копию.
Коленкур открыл железный шкаф, достал из папки белый лист и подал Муравьевой. Сам опустился на стул, взялся было за газету, но тут же отложил ее в сторону.
На плотной бумаге отпечатался сероватый прямоугольник с более темными буквами текста. Катрин заглянула в конец, туда, где в правом нижнем углу были слова «Генерал-губернатор Восточной Сибири» и подпись — «Николай Муравьев».
— Это писано не рукой моего мужа и подпись не его. — Ее губы скривились в презрительной усмешке. — Кто-то сработал очень грубо.
— Нечто подобное я и предполагал, — заметил Коленкур и, протянув руку, поспешно добавил: — Давайте сюда. Остальное можно не читать.
— Нет уж, позвольте, я прочту. Все-таки интересно, что могут написать от имени генерала Муравьева женщине, о которой он, скорее всего, никогда и не слышал.
Комиссар заерзал:
— Мадам, содержание может вас… гм… покоробить и даже оскорбить…
— Вот как? Тем более любопытно.
Однако чем дальше она читала, тем бледнее становилось ее красивое лицо. Это было заметно даже под вуалеткой. («Наверное, дошла до слов о попытке изнасилования, — подумал Коленкур, и о том, что об этом сказала Христиани».) А потом кровь бросилась на щеки, рука, держащая бумагу, бессильно упала на колени, и Коленкур услышал искаженный болью шепот:
— Боже мой! Элиза! Этого не может быть!..
Минуты две она сидела, устремив глаза на герб Бержерака, висевший на стене. Комиссар тоже посмотрел — что там остановило ее взгляд? Лилии на левой, голубой половине щита? Вряд ли. Золотой дракон — на правой, красной половине? Красивый и коварный зверь… Элиза?! Та самая, на которую ссылается автор письма!
— Кто такая Элиза? — осторожно спросил Коленкур. Муравьева не ответила. — Близкий вам человек? Мадам! — Он повысил голос, чтобы встряхнуть впавшую в сомнамбулическое состояние женщину.
— Что? Вы что-то сказали? — очнулась она.
— Простите, что приходится напоминать, скорее всего о крайне неприятных для вас вещах, но необходимо разобраться до конца. Думаю, что это — в ваших интересах.
— Да, да, — кивнула Катрин.
— То, что написано в письме, правда?
— Конечно же нет! — возмущенно воскликнула Катрин, однако сразу поправилась: — Да, Анри… то есть господин Дюбуа был сильно огорчен… расстроен моим замужеством и… сделал попытку меня вернуть… Но я отказалась! Все было в рамках пристойности!
Последние фразы она произнесла громко и резко, почти выкрикнула. Коленкур сочувственно покивал:
— И вы рассказали все вашей наперснице Элизе, а она, выходит, кому-то еще, и эти сведения докатились до Парижа.
Муравьева удивленно воззрилась на комиссара:
— До Парижа?!
— Да, мадам. Кому-то очень хотелось, чтобы Анри Дюбуа очертя голову помчался в Россию мстить за жену… и за вас… — Коленкур помолчал, обдумывая, стоит ли быть до конца откровенным с этой милой женщиной: ведь его истина может стать для нее, а возможно, и для него, просто опасной. Но тут ему пришло в голову, что опасность для нее реальна в любом случае и лучше предупредить. Как известно, предупрежден — значит, вооружен. И решился. Но сначала встал, прошел до двери, выглянул в коридор и, плотно прикрыв створку, вернулся на место. И говорил уже не так громко. — Я предполагаю, мадам, может быть, даже знаю, кому хотелось подтолкнуть Дюбуа, но называть не буду. Не могу и не имею права. Скажу лишь, что конвертами, в одном из которых было прислано отравленное письмо, пользуется некое секретное учреждение.
— Судя по тому, к чему склонял меня Анри Дюбуа, я догадываюсь, какое это может быть учреждение, — холодно произнесла Муравьева.
— Мадам! — Комиссар, остерегая, поднес указательный палец к губам.
Муравьева понимающе кивнула и, понизив голос почти до шепота, спросила:
— Если дело закрыто, я могу взять копию письма? Она мне может понадобиться в России.
— Возьмите. И будьте крайне осторожны. — Коленкур также говорил вполголоса. — Вы когда намерены быть в Париже?
— Еще не знаю. Муж вернется из Испании — наверное, после этого… — Катрин замялась. Комиссар был ей симпатичен, располагал к себе откровенностью, которая, как она считала, несвойственна служащим в криминальной полиции, но ей не хотелось раскрываться перед ним больше того, что он уже знал из письма. Потому и заключила: — Нет, пока сказать не могу.
Он, кажется, понял ее настрой, неоднозначность этого «сказать не могу» и не обиделся, а четко произнес, назидательно подняв указательный палец:
— Пожалуйста, не забудьте про осторожность. Что-то мне подсказывает, что у вас могут быть сложности.
— В Париже? — уточнила Катрин.
— Они могут быть в любом городе, в любой коммуне, но в Париже вероятнее всего.
4
Мысль о предательстве Элизы горячей иглой колола сердце Катрин, и ей стоило большого труда не показывать Николя своих расстроенных чувств. Еще ее тревожило то, что Анри уехал в Россию и снова будет угрожать Николя, но ни о письме, ни о своей поездке в шато Дю-Буа и Бержерак она ему ничего не сказала. Подумала: еще успею, до возвращения в Россию времени много; может быть, что-то изменится. Впрочем, муж ничего и не замечал: он был весело возбужден после возвращения из Испании, где встретил бывшего члена ревизионной комиссии сенатора Толстого — Ивана Демьяновича Булычева, который буквально затащил его на корриду, и, к немалому удивлению Николая Николаевича, бой быков ему не показался столь уж отталкивающим.
— Представляете, — рассказывал он за обедом внимательно слушавшим родителям Катрин, — я-то думал, что это просто испанская резня, утоление жажды крови после запрещения дуэлей на шпагах, а оказалось — настоящее искусство, балет на грани жизни и смерти. Волнует необычайно!
— А вас, Николай, не волнует напряженность отношений России с Османской империей? — вежливо поинтересовался Жерар де Ришмон, ловко разделывая вилкой и ножом жареного кролика, традиционное обеденное блюдо в семье де Ришмон. (Этих кроликов в поместье и окрестностях была тьма-тьмущая.) — Как пишут наши газеты, русская армия под командованием князя Михаила Горчакова 3 июля вступила на территорию Молдавии и Валахии, которые находятся под турецким суверенитетом. Насколько я понимаю, до войны остается только шаг.
— Ну, воевать с Россией у турок кишка тонка, — нахмурясь, сказал Муравьев. — Мы их бивали не раз, и надо будет — еще побьем.
— Тем не менее, когда чрезвычайный посланник вашего императора князь Меншиков потребовал от турецкого султана в пятидневный срок заключить с Россией договор, передающий православное население Османской империи под покровительство российского императора, османы отклонили этот ультиматум. Их не остановил даже разрыв дипломатических отношений.
— Я читал об этом в немецких и французских газетах. — Голос генерала стал сух и холоден. — И помню слова князя перед отъездом из Константинополя: «Отказ Турции дать гарантии православной вере создает для императорского правительства необходимость отныне искать ее в собственной силе».
— У вас хорошая память, Николай, — заметил Жерар де Ришмон.
— Благодарю. Но хорошую память не мешало бы иметь и тем, на чью помощь в войне с Россией рассчитывает Турция. Позиция России благородна, она хочет помочь единоверцам, стонущим под игом магометан…
— Да, да, — поддакнул Жерар и добавил нейтральным тоном: — А в качестве бонуса получить проливы из Черного моря в Средиземное.
Лицо Муравьева пошло красными пятнами, и Катрин поспешила вмешаться:
— Николя, папа, давайте оставим политику тем, кто ею занимается. Мы же говорили про корриду. Николя, ты так вдохновенно о ней декламировал. «Балет на грани жизни и смерти» — это же настоящая поэзия!
Ей самой было противно от своей фальши, но ничего другого в этот момент она придумать не смогла. А отец тем временем невозмутимо поглощал жареного кролика, запивая легкое мясо превосходным рубиновым Сен-Эмильон.
Катрин продолжила отвлекающий маневр:
— Ты знаешь, я корриду видела еще девочкой, и она мне ужасно не понравилась. А вот сейчас, после твоих слов, мне снова захотелось ее посмотреть…
— О да! — поддержала дочь Жозефина де Ришмон. — Вы, Николя, тайком от жены стихи не сочиняете? Попробуйте, у вас должно получиться, не все же время заниматься государственными делами…
Слушая простодушную женскую болтовню, Муравьев постепенно остывал. Он залпом осушил бокал бордосского и принялся за остывшего кролика.
— Ты обязательно напиши об этом брату Валериану, а то он у себя в Олонецкой губернии ни о чем подобном и не слыхивал, — окончательно выдыхаясь, закончила Катрин.
Николай Николаевич оторвался от еды:
— Конечно, напишу, давно ему не писал. А ты — Элизе.
— А ей-то о чем писать? О Франции? Приеду — расскажу.
— Пожалуй… — согласился муж, наливая себе вина и, как ей показалось, не особенно вникая в ее слова. И тут она подумала, что после всего, что узнала от Коринны и Коленкура, вряд ли ей захочется встречаться и разговаривать с Элизой.
— Впрочем, — вдруг усмехнулась Катрин, — я все-таки ей напишу. Есть чем поделиться, не дожидаясь встречи. И ты Александра что-то совсем забыл.
— Да, да, и ему черкану.
Про Александра Катрин помянула совершенно напрасно: Николай Николаевич братьев не забывал, переписка с ними не прерывалась, где бы он ни находился. Муравьев умел и любил писать письма — обстоятельные, рассудительные, часто философические — это особенно чувствовалось в письмах к Валериану, с которым у старшего брата были все-таки более теплые отношения. Катрин как-то сказала шутливым тоном:
— Николя, у тебя будет чем заняться на старости лет: ты напишешь замечательные мемуары, которыми будут зачитываться и через столетие.
На что муж ответил очень даже серьезно:
— Я их напишу лишь в том случае, если исполню все задуманное. Только тогда я буду иметь право на мемуары.
Николай Николаевич не любил откладывать что-то намеченное в долгий ящик, поэтому уселся за письма сразу после обеда. Настроение его оставалось прекрасным, и это не могло не найти отражения в тексте. «Вообще я очень доволен настоящим моим путешествием, — писал он Валериану, который был в то время Олонецким гражданским губернатором. — Оно рассеяло меня от вечных трудов и забот, рассеяло многие неприятные впечатления по службе и оставило во мне лишь необходимое для службы, то есть твердое намерение употребить все мои силы и способы в пользу Государя и Отечества, и укрепило убеждение, что в России лучше, чем во всех других частях Европы».
Екатерина Николаевна, которой частенько доводилось перебеливать бумаги мужа или работать под его диктовку, когда у него болела покалеченная правая рука, а левой писать ему не хотелось, всегда поражалась его умению (а может, потребности) соотносить свои действия и замыслы с интересами императора и всей России. У Муравьева это было так естественно, без малейшей фальши, натянутости и выспренности, что она невольно проникалась его гражданскими чувствами и нередко всей душой становилась на его сторону, порою даже в сомнительных, на ее взгляд, прожектах. Правда, она старалась свои сомнения не таить, а высказывать мужу в глаза, что заставляло его иногда «бегать по потолку», но она считала, что это для него полезно. Заставляло взглянуть на себя несколько иными глазами. Так случилось, когда, после путешествия в Камчатку и знакомства с Завойко, построившим Аян, он загорелся обустроить Аянский тракт, заселив его крестьянскими, главным образом старообрядческими, семьями. Все равно, мол, их везде притесняют, а там никто не тронет и даже, наоборот, при усердном надзоре за трактом они получат многие льготы. Об этом прожекте весьма неодобрительно отозвался Дмитрий Иринархович Завалишин, резонно посчитав, что на диких, в основном болотистых, землях вдоль Аянского тракта крестьянское хозяйство развить невозможно, а значит, переселенцы либо сбегут, либо погибнут, и потраченные средства будут выброшены на ветер. Екатерина Николаевна сама вслух прочитала его письмо и тут же высказала свое одобрение старому декабристу. Описать гнев мужа, который в мечтах уже представлял тракт чуть ли не европейского вида, она не смогла бы даже теперь, спустя три года. Буря, шторм, ураган — близкие, но все равно недостаточные сравнения. Досадуя на всех противников прожекта, Николай Николаевич так-таки добился в Петербурге его одобрения; крестьян переселили, но Завалишин оказался прав: затея провалилась. На распаханных землях ничто не хотело расти, переселенцы голодали, построенные мосты сносило паводками… Тем не менее крайне расстроенный Муравьев не захотел признавать ошибку — он объяснил неудачу неблагоприятным стечением природных обстоятельств и недостаточным в борьбе с ними упорством крестьян. На Екатерину Николаевну он не обиделся, по крайней мере, никогда об этом не заговаривал, а вот Завалишину, похоже, критику не простил, и недовольство комментариями Дмитрия Иринарховича по поводу новаций генерал-губернатора нет-нет да прорывалось то в одном месте, то в другом. Дело неторопливо, но верно шло к разрыву их отношений.
…А Катрин в своем письме Элизе была жестка и непреклонна, что совсем на нее не походило. Она легко поняла, кому понадобилось снова отправить Анри в Россию, чтобы охотиться за генералом Муравьевым, — господам из разведки, которые через Анри пытались дотянуться до нее. Да, приходится признать — они сумели дотянуться через Элизу (подлая предательница!), да вот только лапы свои обожжете, merde canine![14] «…Не трудитесь оправдываться, — написала Катрин в письме, — я вас вычислила и поняла, что вы и в Иркутске-то появились с определенным заданием — подобраться как можно ближе к моему мужу, чтобы выведывать государственные секреты. Уезжайте немедленно! Придумайте что-нибудь, чтобы объясниться с бедным Иваном Васильевичем, и уезжайте. Это нужно для вашего же блага, потому что я буду вынуждена все рассказать Николаю Николаевичу, а он церемониться со шпионкой не станет. Мне же вас жаль — я к вам привыкла и чрезвычайно привязалась. И порываю с вами не из-за того, что боюсь вас — хуже того, что вы сделали для меня, уже не будет, — но ваши сведения обо мне были использованы для убийства чудесной невинной женщины. Поэтому я с великой болью и навсегда вырываю вас из своего сердца…»
Стоит ли говорить, что каждая строчка этого письма сопровождалась слезами презрения — главным образом, к самой себе, — слезами горечи и сожаления. Катрин оплакивала свою наивную молодость, которая так быстро и так неожиданно закончилась.
5
Предсказанные Коленкуром сложности проявились сразу после отъезда генерала Муравьева из Парижа в Лондон. Вернее, даже немного раньше — на следующий день по приезде в Париж.
Остановились Муравьевы у тетушки Катрин, Женевьевы де Савиньи, которая недавно овдовела. Узнав о приезде племянницы, она пригласила супругов погостить у нее в собственном доме на Рю Мазарен. «Бог мой, — обрадовалась Катрин, — там же все рядом! Латинский квартал, Люксембургский дворец и сад, Сорбонна, Пантеон… Пять кварталов до Нотр-Дам — чудесная пешая прогулка! А через Сену, по Новому мосту, рукой подать до Лувра, Публичного сада, театра Комеди Франсэз! И, разумеется, до модных магазинов и кофеен Риволи!»
— Николя, дорогой, ты помнить, как мы с тобой обошли весь Иль-де-ла-Сите? — спросила она, любуясь в окно: слева — островерхими башнями Консьержери, справа — монументальными — Нотр-Дам, выглядывающими из-за крыш домов на Рю Дофин и Рю де Савуа.
— Да, — откликнулся отдыхающий в кресле Николай Николаевич. Он только что выдержал обстрел дотошными вопросами тетушки Женевьевы, стремившейся вызнать все досконально о муже своей любимицы, и чувствовал себя до крайности измотанным. — Где-то там мы с тобой обнаружили оружейную лавку и вдоволь постреляли. Кстати, надо будет ее найти и запастись патронами к нашим «лефоше». Ты свой нигде не забыла?
— Разумеется, нет. — Екатерина Николаевна опечалилась, вспомнив о том, что один револьвер был подарен мужем Элизе Христиани, и вдруг оказалось, что она даже неплохо стреляет. Как странно, что тогда это никого не насторожило. Наоборот, все порадовались такому умению. — Дороги полны неожиданностей даже в благовоспитанной Европе.
— Это верно, — заключил муж. Он-то имел в виду недавний случай на Лазурном берегу, о котором не рассказывал впечатлительной жене.
Там, во время вечерней прогулки в курортном парке с князем Гагариным, их вздумали ограбить трое то ли бандитов, то ли клошаров. Князь посоветовал не сопротивляться и отдать портмоне, но Николай Николаевич вынул револьвер, который носил в специальной петле под полой сюртука, и одним выстрелом в воздух заставил нападавших бежать без оглядки. Князь был безмерно удивлен предусмотрительностью генерала, но горячо одобрил ее, когда Муравьев рассказал про покушение на него в Петербурге зимой 1848 года; именно после этого он и придумал иногда скрытно носить револьвер. Это все-таки удобней, чем ходить с саблей.
Екатерина Николаевна после поездки в Камчатку также брала «лефоше» с собою в любое, даже кратковременное, путешествие. Но не прятала его в одежде, а держала в своей ручной сумке. Тяжеловато, конечно, однако — надежно. Хоть и хороша русская поговорка: «береженого Бог бережет», но куда лучше: «на Бога надейся, а сам не плошай». Тоже русская, между прочим.
Утро следующего дня было превосходным. После общего с тетушкой завтрака, за которым Женевьева де Савиньи, изящная сорокалетняя блондинка, блистала парижским остроумием, Муравьевы в наилучшем расположении духа отправились на прогулку по Рю Дофин к острову Сите. Оружейная лавка нашлась на набережной Гран Огюстен между Новым мостом и площадью Сен-Мишель. Удивительно, но ее хозяин вспомнил их посещение, с удовольствием выслушал россыпь похвал револьверам «лефоше» и продал несколько коробок патронов со значительной скидкой.
Но, когда, уставшие и довольные, они вернулись домой, в Женевьеве обнаружилась резкая перемена; она стала мрачной и желчной и заявила Катрин, что у нее внезапно обострилась болезнь печени и племяннице придется пробыть какое-то время сиделкой.
— Вы говорили о поездке в Лондон, — лежа в постели, тяжело дыша и кривясь от боли, сказала она Муравьевым, обращаясь главным образом к зятю. — Боюсь, мон шер, вам придется съездить туда одному. В моем недомогании бывает ряд интимных моментов, которые лучше доверить близкой женщине, и приезд Катрин оказался очень кстати. А в Лондон я возила ее еще девочкой, так что она много не потеряет. Вы уж простите…
— Жаль, очень жаль, — скрывая недовольство, отозвался Николай Николаевич. — У нас были планы и по Парижу…
— Дорогой, мы сделаем так, — вмешалась Екатерина Николаевна, — ты сейчас поедешь в Лондон и выполнишь все задуманное, а когда вернешься — думаю, тетя уже выздоровеет…
— Обязательно выздоровею! Не будь я покровительница Парижа![15] — воскликнула больная со страдальческой улыбкой.
Катрин ободряюще улыбнулась ей в ответ, а Муравьев вздохнул:
— Хорошо. Тогда я не буду терять время и ближайшим поездом выеду в Кале, а там и в Англию.
— Катрин, девочка моя, пошли мажордома заказать для Николая место в вагоне первого класса, — слабым голосом произнесла Женевьева и утомленно откинулась на подушки, всем своим видом показывая, что чрезвычайно устала.
Муравьев поспешил выйти из спальни.
Наутро он с женой прибыл на вокзал Гар-дю-Нор. Маленький, тесный, битком набитый пассажирами и провожающими, он произвел на Катрин угнетающее впечатление. Ей вообще было как-то не по себе, томило нехорошее предчувствие, но она отнесла это на счет болезни тетушки и разлуки с мужем. А может быть, просто отвыкла в глухой провинции от шумной столичной жизни. Катрин проводила Николя до вагона, помахала ему на прощанье и, торопливо пробравшись сквозь суетливо-бестолковую толпу пассажиров и провожающих, вышла на Рю Сен-Кентен, чтобы остановить свободный фиакр: до Рю Мазарен путь был неблизок.
На подъехавшую к тротуару крытую повозку она не обратила внимания: ей хотелось ехать в открытом экипаже, чтобы любоваться парижскими улицами и до возвращения к постели больной вдоволь подышать свежим воздухом. Однако дверца фиакра распахнулась, из его темного нутра высунулись две руки в черных кожаных перчатках, ухватили Катрин за рукава платья, и не успела она опомниться, как оказалась на ковровом сиденье между двумя мужчинами в одинаковых черных сюртуках и цилиндрах.
Катрин открыла рот, чтобы позвать на помощь, но губы и нос зажал пахнущий чем-то неприятным платок, перед глазами проплыло усатое лицо с холодными глазами, и сознание покинуло ее.
Очнулась Катрин от легких пошлепываний по щекам. Видимо, обморок ее длился недолго, потому что она все еще находилась внутри экипажа — только он теперь стоял и дверца была открыта, Шлепал ее по щекам тот самый усатый. Второго в фиакре не было.
— Я закричу, — сказала Катрин и вцепилась в руку усатого.
— Кричите. — Усатый равнодушно пожал плечами и вдруг ловким движением вывернул свою руку из пальцев Катрин, схватил ее за локоть, дернул и вытолкнул из экипажа.
Тело Катрин молнией пронзил острый испуг — ей на мгновение показалось, что она сейчас упадет навзничь на булыжники мостовой и разобьется, — но в тот же миг сильные мужские руки подхватили ее и поставили на ноги.
— Благодарю, — машинально сказала она. Подняла голову и увидела немного ошалелые бледно-голубые глаза под черными полями цилиндра.
— Скажи-ка мне, Франсуа, — обратился нечаянный кавалер Катрин к усатому, выпрыгнувшему из экипажа, — тебя когда-нибудь благодарили задержанные дамы?
— Что-то не припомню такого, — хмыкнул Франсуа. — Брань площадную слышать доводилось — и от мужчин, и от женщин, а благодарности, пардон, никогда.
— Так я задержана? — вспомнив предупреждение Коленкура, спросила Катрин и огляделась по сторонам. Они находились в небольшом, почти квадратном внутреннем дворе: с трех сторон его окружали стены трехэтажного здания — все окна первого этажа перехвачены решетками, — с четвертой были глухие высокие ворота, через которые, видимо, фиакр и въехал. — Хотелось бы узнать — за что?
— Да, собственно, чего нас благодарить? — продолжал разглагольствовать усатый Франсуа, не обратив на вопрос Катрин никакого внимания. — Работа у нас с тобой, Жанно, так и называется — неблагодарная…
— Пройдемте, мадам, — указал Жанно на невысокое крыльцо, подпирающее массивную дверь, возле которой на цепочке висел деревянный молоток. Там все узнаете.
К двери вели три каменные ступени. Жанно поднялся первым и постучал молотком в дверь — не простым стуком, а замысловатым. Катрин внутренне усмехнулась: надо же, целая, можно сказать, крепость, а все же чего-то опасаются. Она почему-то не чувствовала страха — ни от произошедшего, ни от предстоящего, которое пока что было покрыто мраком неизвестности.
Глава 4
1
Невельской спешил занять Де-Кастри и Кизи.
Он еще не получил высочайшего повеления учредить в этих пунктах военные посты и выделить Сахалинскую экспедицию — почта с этими указаниями придет только в июле — и, как всегда, сам принимал необходимые, на его взгляд, решения. На свой страх и риск.
Риск, разумеется, был, а вот страха — нет. Или — почти нет. То ли отвык бояться, то ли привык, что все в конце концов получается так, как задумывалось им. А Катенька не упускала случая восхититься его действиями во славу нового величия России и ядовито посмеяться над близорукостью и приземленностью указаний генерал-губернатора. В глубине души Геннадий Иванович признавал, что она несправедлива в своем неприятии Муравьева, что его, Невельского, предложения преобразуются в высочайшие повеления и правительственные указы, а действия оправдываются главным образом (иногда единственным) потому, что в столице за них ратоборствует Николай Николаевич, но все чаще награды, которые получал Муравьев из рук императора, вызывали глухое раздражение. Он ловил себя на этом, сердился, потому что понимал: у генерал-губернатора много иных заслуг перед государем и Отечеством, — но осадок оставался и накапливался.
И тем не менее начальник Амурской экспедиции по-прежнему был верен себе: надо идти избранным курсом, а история потом все расставит по местам. Потому и торопился.
Мичман Разградский и приказчик Березин по его указанию заготовили на середине пути от Николаевского до Кизи, в селении Пуль, продукты для группы Бошняка, которой предстояло поднять в Де-Кастри русский флаг и заняться обследованием побережья дальше на юг, имея ближайшей целью залив Хаджи. Кроме того, Березину предписывалось возле селения Котово, в двух верстах от Кизи, с помощью местного населения готовить лес, имея в виду, что с началом навигации там будет основан русский военный пост.
Как только Разградский сообщил, что все исполнено, Невельской немедленно отправил группу Бошняка, в которую вошли художник Любавин, казаки Парфентьев и Васильев и тунгус Иванов. Бошняку Невельской приказал сразу после поднятия флага строить помещения для поста, приобрести хорошую лодку и с началом навигации идти на юг, тщательно описывая берега, делая промеры глубин и сравнивая результаты с картами Крузенштерна, Лаперуза и Броутона, поскольку уже неоднократно доводилось обнаруживать в этих картах грубые ошибки. Правда, если до конца быть честным, хотя Геннадию Ивановичу и льстило исправлять ошибки великих, в глубине души он не исключал того, что это все-таки были не ошибки, а результаты вулканических действий и землетрясений. За 75 лет после Лаперуза, да и за 50 после Крузенштерна береговые линии могли измениться просто неузнаваемо.
Помимо всего Бошняк, как всегда, должен был следить за появлением иностранных судов и объявлять капитанам о том, что все побережье вплоть до Кореи принадлежит России и любые их действия против местного населения влекут за собой серьезную ответственность.
В отчете генерал-губернатору о своих действиях Невельской писал: «Из этого, ваше превосходительство, изволите видеть, что залив Де-Кастри и селение Кизи ныне занимаются и что из залива с открытием навигации начнутся обследования берега к югу, в видах разрешения морского вопроса, обусловливающего важное значение для России этого края…».
Он знал, что Муравьев обязательно обратит внимание на его стремление обследовать побережье как можно дальше на юг, чтобы найти удобные незамерзающие бухты, обратит и будет весьма недоволен — генерал-губернатор убежден, что Авачинская губа и Петропавловский порт — наиглавнейшие точки приложения сил для утверждения России на Тихом океане. Слов нет, бухта по-своему уникальна, но все ее преимущества «съедает» одно-единственное неприятное обстоятельство: при извечном российском бездорожье она слишком далека от центров снабжения, и базирование там флота станет для империи непосильной обузой.
Разумеется, армия и военный флот — для государства всегда обуза, но, имея хотя бы один незамерзающий порт на востоке, Россия сможет торговать со всеми прилегающими к океану странами. Это сторицей окупит все затраты, одновременно развивая окраину, богатства которой — в этом генерал-губернатор и начальник Амурской экспедиции однозначно согласны — просто неизмеримы. Правда, чтобы добраться до них, опять же нужны дороги, дороги и дороги. И не «чрез лет пятьсот», как писал Пушкин (с Орловым как-то опять говорили об «Евгении Онегине»), а гораздо ранее. Хотя бы через сто — сто пятьдесят. У нынешнего правительства, ясное дело, денег нет (миллионы тратят неизвестно на что) — так, может, внуки-правнуки будут умнее и поймут, что без дорог никакому государству никогда не быть богатым. Все блага цивилизации приходят только по дорогам, а бездорожье — это сплошная дикость и глухомань.
…Бошняк и Березин в марте почти одновременно сообщили, что первые этапы задания выполнены. Невельской был доволен, но его беспокоило отсутствие достоверных сведений о главных фарватерах Амурского лимана. Те каналы, что известны, для морских судов мелковаты, но местные жители говорили, что есть более глубокие — один из них идет из реки вблизи от мыса Пронге к середине лимана и там, возможно, соединяется с Сахалинским, протянувшимся вдоль острова. Узнав об этом, Невельской тут же отправил в Николаевский пост подпоручика корпуса штурманов Воронина и мичмана Разградского с заданием: по вскрытии реки и лимана двумя командами на лодках проверить, существуют ли в действительности эти каналы.
Не упускал он из виду и нескончаемый сбор свидетельств и доказательств того, что земли по Амуру (да и по Уссури тоже) никогда не принадлежали Китаю. Нескончаемый — потому что боязнь потревожить интересы Китая была у канцлера Нессельроде и его когорты навязчивой и неутолимой.
Вот и вернувшийся из командировки за продуктами Дмитрий Иванович Орлов (привез он скверную гаоляновую водку и просо) доложил, что на Амуре были два миссионера, но аборигены их избили чуть не до полусмерти и прогнали, заявив, что предпочитают жить с русскими. Да и маньчжурские торговцы выражали удовольствие, что русские, поставив посты в Кизи и Де-Кастри, взяли этот край под свое покровительство и даже предлагали, чтобы лоча[16] поселились выше по Амуру, поближе к Сунгари, — для удобства торговых отношений.
То же самое сообщали Бошняк и Березин; приказчик устроил в Котове расторжку с гиляками, мангунами, гольдами и другими туземцами. Николай Константинович, кроме того, писал о том, как его группа добралась до таинственного залива Хаджи-Ty и обнаружила доселе не известную европейцам великолепную гавань, которую он назвал Императорской в честь Николая I. Гавань имела кроме основной еще несколько бухт, получивших названия в честь императрицы Александры, цесаревича Александра и великого князя — генерал-адмирала Константина. «Залив, — сообщал в своем донесении лейтенант, — опоясан горными отрогами, отделяющимися от хребта, идущего параллельно берегу моря. По склонам обращенных к заливу гор произрастают кедровые леса…
Каждая из бухт составляет обширную гавань, из которых бухта великого князя Константина особенно замечательна по приглубым берегам своим, к которым могут приставать суда всех рангов…»
— Какой же молодчина наш Коля! — говорил Геннадий Иванович, оторвавшись от чтения вслух письма лейтенанта. Катенька любила его слушать. — И как ему повезло сделать такое замечательное открытие! Это Бог вознаградил за все его труды и страдания в нашей экспедиции.
— Только напрасно Коленька поспешил с названиями, — задумчиво произнесла Екатерина Ивановна. — Этот залив следовало назвать его именем, а бухты — именами его товарищей. Честь императорской семьи нисколько бы не пострадала: их имена и так уже красуются на картах. Они попадают в историю только по праву рождения, а вот твои офицеры — настоящие герои, это они должны остаться в памяти людей и после своей смерти, дай им, Господи, долгой жизни! Это было бы честно и справедливо!
Последние фразы она произносила с уже присущей ей горячностью, раскрасневшись и сверкая огромными голубыми глазами, а упомянув Господа Бога, не забыла перекреститься. Геннадий Иванович с улыбкой смотрел на свою неукротимую жену и в который раз думал: «Боже мой, как же мне повезло! И за что, спрашивается, такое счастье? Она так самозабвенно любит мое дело, моих товарищей, так беспокоится о них, порою совершенно забывая о своих тяготах и горестях! Катенька, ты — чистая и беззаветная душа нашей экспедиции. Вот чьим именем я бы с радостью назвал свое самое замечательное открытие, но… не могу! Не имею права!»
Нет, право-то он имел. По неписаным международным законам первооткрыватель мог дать своему «детищу» любое имя, в том числе и собственное или имена родных и близких. Однако не в российских традициях было запечатлевать для истории себя или свою родню, и Геннадий Иванович, как и все его офицеры, традиции эти чтил.
— Что же ты молчишь, дорогой? — прервал его размышления осторожный голос жены. — Я что-то не то сказала?
— Ты сказала все просто замечательно! — Невельской обнял Катеньку за плечи и поцеловал в золотой завиток на виске. — Просто я немного задумался о честности и справедливости.
— И, как всегда, надумал что-то гениальное? — Она искоса лукаво глянула на него. Он смутился, а она засмеялась: — Ладно, я пошутила. Читай Коленькино письмо дальше. Он так интересно пишет!
Геннадий Иванович пожат плечами — письмо как письмо: за три года работы экспедиции он прочитал десятки таких сообщений. Доклад Бошняка, конечно, весьма ценен новыми данными о матером побережье Татарского пролива — описаниями ландшафта и жизни аборигенов, определениями координат рек, островов, бухт и прочих деталей береговой линии, но читать все это подряд, загружать милую головку специальными подробностями — зачем? Поэтому он читал медленно, с остановками, выбирая то, что действительно могло заинтересовать молодую женщину.
«Различные люди, встречавшиеся на пути, рассказывали мне, что до селения Кульмути, лежащего в 300 верстах от устья реки Самарги, ведется торговля с приезжающими туда инородцами и маньчжурами с рек Уссури и Сунгари; до этого селения ни хлебопашеством, ни огородничеством не занимаются; далее же к югу внутри страны есть манзы, которые имеют скот и огороды и занимаются хлебопашеством». Вот это чрезвычайно важно, — добавил Невельской от себя. — Если мы здесь разовьем хлебопашество и огородничество, да еще будет свой скот, то перейдем на полное самоснабжение. О чем еще мечтать? Живи, трудись и радуйся! Вот она, основа для создания российского Тихоокеанского флота!
— Читай дальше, мечтатель!
— Да читаю, читаю… «…В расстоянии около 800 верст от реки Самарги в большой залив впадает река Суйфун. С этой реки ездят в корейский город и на большое озеро Ханка, которое соединяется с рекой Уссури. На побережье Татарского пролива между реками Самаргою и Суйфуном, по словам населения, есть много закрытых бухт, из коих некоторые иногда вовсе не замерзают, и бухты эти находятся недалеко от реки Уссури. Река Самарга… имеет берега, покрытые строевым дубом и кленом; она глубока на пространстве около 200 верст, и по ней могут подыматься большие лодки. С этой реки ездят на Уссури через реку Хор и притоки. Этот путь — около 400 верст… Все жители побережья Татарского пролива ни от кого не зависят, никому ясака не платят и никакой власти не признают». Вот, Катенька, для Нессельроде еще одно свидетельство, — голос Невельского даже зазвенел, торжествуя, — что никаких китайцев в этих землях отродясь не было! И для Муравьева толчок: надо на юг стремиться, а не на север, в Камчатку, к черту на кулички. Тут и бухты незамерзающие, и хлебопашество, и скот! И путь к тем бухтам есть прямой, через Уссури! Сюда люди русские потянутся! А будут люди — будет Россия тут стоять. Двумя ногами! Да-а, Бошняка буду представлять к ордену. За Сахалин он получил «Владимира» четвертой степени, за Императорскую Гавань буду просить для него «Анну». Думаю, Муравьев поддержит.
— Муравьев за Колю уже свой орден получил, — язвительно сказала Екатерина Ивановна. — Императорский и царский Белого орла!
— Каждому — свое. Он себя не представлял, а меня представил. Я тоже получил — «Анну» второй степени с короной, и этот орден тоже императорский. Для моего чина — высочайший, — умиротворяюще произнес Геннадий Иванович. И печально добавил: — Из-за болезни Тюшеньки ты и порадоваться за меня не смогла…
Тюшенькой все называли дочку Невельских, Катюшу, которая почти постоянно болела из-за отсутствия материнского молока.
Екатерина Ивановна быстро взглянула на него сразу повлажневшими глазами и дрогнувшим голосом сказала:
— Знаешь, дорогой, я, кажется, опять беременна.
— Ну, и слава богу! — только и сказал Геннадий Иванович и склонился, целуя и прижимая слегка огрубевшие ладони ее маленьких рук к своим мокрым щекам.
2
Майор Буссе был в отчаянии.
Нет, поначалу-то он впал в ярость. Он прибыл в Аян 25 июня, но не нашел там ни корабля, на котором должен был отправиться в Петропавловск за десантом для Сахалина, ни заготовленных для десанта срубов домов, о чем говорилось в его командировочном предписании. Начальник Аянского порта капитан-лейтенант Александр Филиппович Кашеваров, коренастый креол с широким, грубо вырубленным черноусым лицом, красновато-смуглым то ли от матери (она была алеуткой), то ли от морского загара, принимая майора с визитом, в ответ на его негодование, замешанное на лейб-гвардейском высокомерии, добродушно рассмеялся:
— Человек предполагает, а Бог располагает, любезный Николай Васильевич. Корабли ходят здесь не по петербуржским предписаниям, а по погоде, которой, как вы, должно быть, знаете, распоряжается Господь.
— Ну, хорошо, это погода, а срубы для домов тоже в ведении Господа? Я их должен доставить в Петровское вместе с десантом и снаряжением никак не позднее 1 августа.
— Срубы — дело рук человеческих. Но откуда они могли взяться, любезнейший, ежели я узнал об их заготовке только из ваших бумаг? Как можно из них понять, десант на Сахалин предложил государю граф Нессельроде. Это какой же светлый ум у нашего канцлера! — покрутил головой капитан-лейтенант. — Набрать в Камчатке сто человек крепких людей — некрепким-то там делать нечего — и на компанейском корабле отправить зимовать на дикие берега. А вот заказать для них дома — забыть!
— Да это, может, и не канцлер придумал, а какой-нибудь чиновник из его министерства, — постепенно сникая, попробовал возразить майор.
— Может быть, может быть, — охотно согласился Кашеваров. — Наши чиновники в эмпиреях витают. Они искренне считают: раз ими сказано — значит, нами уже и сделано. А то, что между сказанным и сделанным много тысяч верст, да все горами, лесами и болотами, — это в расчет не берется. — И вдруг сменил интонацию с саркастической на деловую. — Так вот, любезный Николай Васильевич, мы ждем со дня на день транспорт «Байкал» из Охотской флотилии — почему бы вам не отправиться на нем?
— Не могу! — почти простонал Буссе. — Мне приказано пользоваться только судами Компании. Ей на обслуживание Сахалинской экспедиции выделяется пятьдесят тысяч серебром, а тратить деньги Амурской экспедиции я не имею права. И, кроме того, «Байкал» ведь военное судно?
— Военный транспорт. Кстати, любимый корабль Невельского, это на нем он открыл, что Сахалин — остров, и устье Амура обследовал. А к чему ваш вопрос?
— Первый же пришедший в Аян военный корабль следует загрузить товарами и военным снаряжением и отправить в Петровское. Груз пойдет для Сахалинской экспедиции. А корабль останется в распоряжении Невельского. Будет патрулировать лиман и пролив. Скажите, Александр Филиппович, а когда придет бриг Компании «Константин»? Именно он назначен для перевозки десанта.
Кашеваров покачал головой:
— Хотел бы вас утешить, но, честное слово, затрудняюсь. Во-первых, на «Константине» такой десант со всеми его тяжестями не сможет поместиться, во-вторых, бриг стар и весьма ненадежен, а в-третьих, если он и придет в Аян, что вполне невероятно, то разве самой поздней осенью.
— И что же мне делать?! — Остатки гвардейского лоска сползали с майора прямо на глазах. Он схватился за голову. — Первое задание — и такой афронт!
— Поскольку «Байкал» пойдет к Невельскому, напишите Геннадию Ивановичу, что и как, а сами отправляйтесь с оказией в Петропавловск. Набрать сто человек у Завойко — задача тоже ой-ой-ой! Уж больно прижимист Василий Степанович, а у нас тут каждый человек на счету. — Кашеваров немного подумал, расхаживая по гостиной, в которой принимал майора. Буссе с затаенной надеждой следил за ним. — Хорошо, Николай Васильевич, поскольку обеспечивать Сахалинскую экспедицию должна наша Компания, я, будучи ее служащим, смогу вам немного помочь людьми. Человек пятнадцать сумеем тут набрать, может, чуть больше, и вы их с грузом отправите Невельскому на «Байкале». Кстати, к нему едут священник, отец Гавриил, и офицер, капитан-лейтенант Бачманов, с женами. Бачманов направлен к Невельскому заместителем начальника экспедиции. Вот он и присмотрит за людьми и грузом.
— Спасибо, Александр Федорович, хоть что-то получится. А какова оказия для меня?
— Да ходит по Охотскому бот «Кадьяк». Старенький, гниловатый. Каждый год его латают, вот вроде бы и держится. В начале июля придет из Гижиги, заберет здесь груз и пойдет в Петропавловск. Он, конечно, тоже не компанейский, под началом у Завойко, так ведь и вы — человек государственный, порученец самого генерал-губернатора.
— А не опасно ли на гниловатом?
Кашеваров посмотрел на красавца-майора, к которому начал возвращаться былой лоск, хмыкнул:
— Мы ж офицеры, любезный Николай Васильевич, и каждую минуту должны быть готовы умереть за Бога, царя и Отечество.
— Так то в бою, а за просто так утонуть… Бррр!
— Ничего, вода не столь уж холодная, можно и выплыть. Да и в Охотском море китобоев полно. Увидят — спасут.
Буссе подозрительно посмотрел на капитан-лейтенанта: смеется он, что ли? Но Александр Филиппович был невозмутим, только подрагивали еле заметно кончики черных усов. В том же тоне он добавил:
— Вы бы сходили в церковь, на благодарственный молебен. Сегодня же царский день[17]. Заодно и помолитесь во спасение. Службу совершает сам архиепископ Иннокентий! Он с прошлого года у нас частенько бывает, можно сказать, живет вторым домом. Резиденция-то у него в Якутске.
— А вы идете?
— Непременно! Лицезреть и слушать владыку Иннокентия — значит получать истинное душевное наслаждение. Чудный пастырь! Ему бы митрополитом в Москве быть, а он — тут, Апостол Сибири и Америки. Небось знаете, что он двадцать пять лет Русскую Америку окормлял? Своими руками церковь построил и сам Священное Писание на алеутский перевел, чтобы вера христианская туземцам понятней была. А теперь, я слышал, хочет на якутский перевести. То-то радость якутам — службу на своем языке послушать.
— Да уж, наверное, — неопределенно ответствовал майор. Он решительно не мог взять в разум, зачем нужны эти переводы. В России, вон, службы идут на церковнославянском, который, похоже, никто (Николай Васильевич даже подозревал, что и сами священнослужители) не понимает, и ведь ничего — вера не рушится, а только укрепляется. Конечно, со временем, возможно, найдутся последователи святителя Иннокентия, переведут каноны на русский язык, но будут ли от этого толк и польза — вот вопрос. Разве так уж важно, что именно поют и возглашают в храме — к Богу надо обращаться и разговаривать с Ним тет-а-тет, желательно в тишине, когда трепет твоей души пребывает в гармонии с Его чутким слухом, а между Ним и тобой нет никаких посредников в парчовых одеяниях. Вот тогда есть надежда, что Он поймет тебя и поможет. А сквозь громогласное пение диакона и торопливое чтение канона твоя молитва может к Нему и не прорваться.
— Ну, вот что, любезнейший Николай Васильевич, — решительно прервал Кашеваров теологические размышления майора, — сейчас мы вместе идем на молебен, потом будет обед в доме святителя, это возле церкви, а затем вы переберетесь ко мне. Вы же нигде не остановились?
— Откуда вы знаете? Дорожный сундук я оставил на станции…
— Да как же мне не знать? Нижние чины у нас останавливаются в казарме, а офицерам податься некуда, кроме моего дома. Тут наверху, в мезонине, комнатка на три кровати. Две заняли Бачманов и отец Гавриил, а третья свободна. Вот вам и пригодится.
— Благодарю, — только и смог сказать Буссе, ошеломленный таким напористым гостеприимством. — А их жены? Вы же сказали, что они с женами.
— За их жен не беспокойтесь: они устроены на первом этаже, у моей супруги.
Да-а, пожалуй, такому гостеприимству не помешает и учиться, может быть, даже как искусству.
3
По новому штату, утвержденному правительством, Амурская экспедиция увеличилась более чем в пять раз. Правда, пока лишь на бумаге.
Начальник экспедиции получил права губернатора или областного начальника. Из камчатского экипажа должны были откомандировать 240 флотских нижних чинов для формирования роты. Командир этой роты, штабс-офицер[18], назначался помощником начальника. В роте должны состоять семь офицеров. Кроме того при экспедиции, сверх морских чинов, должны быть сотня конных казаков с двумя офицерами и взвод горной артиллерии при двух офицерах; а также доктор, два фельдшера, священник с походной церковью, правитель канцелярии с помощниками, три писаря, содержатель имущества… «Господи, где набрать такую прорву людей, — думал Невельской, — как их снарядить, где разместить и чем кормить, если всего около года тому назад 50 человек умирали здесь с голоду и никому до них не было дела?!! Ладно, там посмотрим, а вот о том, что все чины экспедиции отныне пользуются морским довольствием по камчатскому положению, что офицеры получат пенсионы за пять лет служения в том размере, какой определен по закону за десять лет службы в Охотске и на Камчатке, что служба в экспедиции считается год за два года для нижних чинов — можно сказать, что наконец-то справедливость восторжествовала. Будет хоть какое-то вознаграждение за ту самоотверженность, что два года двигала всеми членами экспедиции. Ну и, наконец, кончится двойное подчинение, и он, Невельской, во всех отношениях будет состоять под непосредственным началом генерал-губернатора Восточной Сибири».
Кстати, Муравьев тут же и проявил свое главенство над экспедицией, прислав подробные указания и инструкции в отношении Сахалина, который правительство признало российским, но отдало в ведение Российско-Американской компании. Занятие острова оно определило главной задачей новой, Сахалинской, экспедиции, временно, до прибытия правителя-администратора, ставя ее под начальство Невельского. Геннадий Иванович получил право (скорее обязанность) основать на острове несколько военных постов из десанта, который доставит с Камчатки майор Буссе, при необходимости переводя на службу в Компанию своих людей. Разумеется, на ее полное обеспечение.
Невельской горько усмехнулся, читая в инструкции про «обеспечение»: уж он-то испытал в полной мере, что это означает на самом деле. До чего же наивными бывают даже генерал-губернаторы! Или это качество присуще всем высоким российским начальникам? Они, пожалуй, искренне считают, что их слово — закон, немедленно принимаемый к исполнению. Увы! Увы! Увы! Вот Муравьев пишет, что в начале июля в залив Счастья прибудет 16-сильный пароход, закупленный Компанией в Англии специально для обслуживания экспедиции, а о нем ни слуху ни духу. А ведь Геннадий Иванович не просил, а взывал к начальству: пришлите два винтовых корабля с паровыми баркасами, без них невозможно ни обследовать фарватеры лимана, ни нести патрульную службу, тем самым показывая иностранным судам, что эти воды и берега принадлежат России.
И вот — удостоились: куплен пароход, аж в Англии и аж в 16 лошадиных сил! А что такое 16 сил? Он же на Амуре против течения не выгребет и сулой[19] в лимане не одолеет, а говорить будут: вы просили пароход, мы вам дали — чего еще надо? Много чего, господа, надо — в первую очередь совесть иметь и ответственность перед Отечеством, радеть об его чести и величии! Вам такой кусок земли первозданной в управление дают — там и леса строевые, и уголь прямо на поверхности, и реки рыбные, и пушного зверя не считано, Коля Бошняк на своем здоровье эти знания вынес — пользуйтесь, но и обследуйте, добывайте, но и защищайте. Тогда и служить она вам будет вечно…
Геннадий Иванович разволновался, словно и в самом деле говорил речь перед компанейскими акционерами. Хотя понимал: его бы и слушать никто не стал — им, кроме легких прибылей, ничего не нужно. Сегодня вложил рубль, завтра получил три, четыре, пять вот это стоящее дело, а ждать отдачи несколько лет — увольте!
— Геночка, дорогой, что ты там бормочешь? — послышался сонный голос Катеньки. — Иди спать. Тебе же завтра плыть вокруг Сахалина.
Да, Невельской собирался обойти на «Байкале» Сахалин — сперва на север, далее вдоль восточного берега острова до залива Анива, затем через пролив Лаперуза войти в Татарский пролив и подняться до бухты Де-Кастри. Основать два-три поста в южной части острова, один в Де-Кастри и последний пост — пока последний — возле селений Кизи и Котово, до которых добраться, естественно, по земле.
Почему последний — пока? Да потому, что Геннадий Иванович не собирался ограничиваться Сахалином, Де-Кастри и Кизи. Впереди ждала Императорская Гавань, тщательно описанная Бошняком, и тот огромный залив, о котором говорили аборигены и от которого рукой подать до Уссури. Пройди Бошняк этим путем, и уже сегодня можно было бы говорить о принадлежности России края, ограниченного с востока морем, а с запада — Амуром и Уссури. Но группа лейтенанта двигаться дальше на юг не смогла из-за острой нехватки продовольствия, они и так шесть дней обратного пути питались ягодами и рыбой, а самого Николая Константиновича свалила болезнь.
Муравьев в своем циркулярном письме предупредил, что граница с Китаем должна быть по левому берегу Амура, поэтому продвигаться южнее Де-Кастри и Кизи нельзя, но оговорился — наверное, не без умысла, — что это было предложено графом Нессельроде. Тот все еще опасался мифического китайского войска в районе слияния Амура и Уссури, которое в любой момент может двинуться против ничтожной горстки русских, спустить поднятый на Амуре русский флаг и тем самым унизить великую державу. Однако экспедиция уже третий год вовсю орудует в Приамурье, а китайцы на это никак не реагируют. Все предыдущие «преступления» Геннадия Ивановича, за которые ему не раз грозили матросской курткой, приводили в конце концов к признанию правильности его действий, а то и к наградам. Во всяком случае, служа на Балтике в мирное время, вряд ли можно было подняться за четыре года от капитан-лейтенанта до капитана первого ранга и получить два ордена. Конечно, тут велика роль и генерал-губернатора надо признать, что во всех острых моментах Муравьев был на стороне Геннадия Ивановича и аки лев бросался на его защиту перед сильными мира сего, — но, с другой стороны, и сам Николай Николаевич не оставался в накладе: в той же звезде ордена Белого орла есть и золото Амурской экспедиции.
Да, вот еще — Геннадий Иванович вздохнул едва ли не обреченно, ожидается визит американской эскадры. О ней писал Невельскому и новый глава морского ведомства, генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич: «По распоряжению президента Северо-Американских Штатов снаряжены две экспедиции: одна с целью установления политических и торговых связей с Японией, а другая — ученая — для обозрения берегов Тихого океана до Берингова пролива; почему правительство Штатов просило дружелюбного внимания и содействия этим экспедициям в случае, ежели бы суда зашли в пределы наших владений на азиатском и американском берегу. Государь император высочайше повелеть соизволил предписать начальствующим лицам в тамошних наших владениях оказывать экспедициям дружественное внимание и приветливость в должных границах благоразумия и осторожности». И добавлял в заключение своего вполне дружеского письма: «…Вы должны исполнять все, что обыкновенно соблюдается союзными державами, но при этом для предписываемых Вам благоразумия и осторожности иметь постоянно в виду честь русского флага, достоинство нашей империи, мирно водворяемую нами в краях, где Вы находитесь, власть и ввиду этого необходимую проницательность».
То есть надо понимать: при встрече радушно улыбайся, но ухо держи востро про честь, достоинство и престиж власти не забывай. А какой толк в этой «востроухости», если радушие, а тем более престиж, подкрепить нечем? Еще ведь неизвестно, чем обернется «дружеский визит» американцев. Недаром Коля Бошняк присылал оказией из Императорской Гавани записку с известием, полученным от немецкого шкипера (а тот узнал новость аж на Сандвичевых островах): мол, этим летом американцы хотят в Татарском проливе занять бухту для пристанища своих китобоев. А вдруг в самом деле захотят — как их остановить? Ну, хорошо, посту в Де-Кастри дана инструкция всегда держать на флагштоке Российский военный флаг и, кроме того, объяснить незваным гостям, что из-за наличия в лимане настоящего лабиринта банок и мелей плавание по нему военных кораблей просто опасно; что «…страна пустынна, гориста, без всяких путей сообщения; что по Нерчинскому трактату… et cetera… вся страна эта до корейской границы, равно как и остров Сахалин, всегда составляли и составляют российские владения». Ага, американцы, конечно, все, как один, джентльмены, поверят на слово. От этой нелепой мысли Геннадий Иванович даже хохотнул в голос, однако тут же спохватился, зажал рот и оглянулся на спящую жену, но та лишь поворочалась и снова тихонько засопела. В другое время он умилился бы этому нежному детскому сопению, но сейчас вслед за иронией снова пришло омрачающее душу воспоминание о поразительном бездействии правительства в отношении военного крейсирования вдоль сахалинского и материкового побережья. Впрочем, что уж ожидать понимания от бесконечно далекого Петербурга, ежели Муравьев, который как никто другой должен быть заинтересован в амурском деле, и тот начал лавировать, а то и вовсе сворачивать под ветер, дующий из столицы.
Вот, прислал требование устанавливать посты на берегах Сахалина «как можно южнее», а того не учел, что там нет ни одной бухты, пригодной для высадки десанта с последующей зимовкой. И ведь писано же об этом, и не раз! И что делать? Выполнить приказ — значит выбросить людей на произвол судьбы, а не выполнить… Ай, да что там, ослушаться, поди-ка, не впервой! Посему будем занимать главный пункт острова — японский рыбацкий поселок Тамари-Анива: там есть и средства для своза десанта с тяжестями, и условия для его первоначального размещения. Ну, разумеется, без ущемления рыбаков. Это же основное правило русских — действовать дружелюбием, а не силой, привлекать население на свою сторону не подачками, а согласием равных. Что из того, что местные жители понятия не имеют о власти, о границах? Зато у них личного достоинства ничуть не меньше, чем у любого европейца.
…Итогом ночных размышлений Геннадия Ивановича явилось его очередное письмо генерал-губернатору, в котором он изложил свое видение операции по занятию острова и, конечно же, не удержался, чтобы снова не заявить: «…Не на Сахалин, а на матерой берег Татарского пролива должно обратить главное наше внимание, потому что он, по неоспоримым фактам, представленным ныне экспедицией, составляет неотъемлемую принадлежность России. Только закрытая гавань на этом побережье, непосредственно связанная внутренним путем с рекой Уссури, обусловливает важность значения для России этого края в политическом отношении; река же Амур представляет не что иное, как базис для наших здесь действий ввиду обеспечения и подкрепления этой гавани как важнейшего пункта всего края… Петропавловск никогда не может быть главным и опорным нашим пунктом на Восточном океане, ибо при первых неприязненных столкновениях с морскими державами мы вынужденными окажемся снять этот порт, как совершенно изолированный. Неприятель одной блокадой может уморить там всех с голоду».
Невельской понимал, что такое письмо вполне может вызвать раздражение и гнев генерал-губернатора, но… пока оно дойдет до Иркутска, а если Муравьев к тому времени еще не вернется, то и до Петербурга, пройдет немало времени, к которому прибавится столь же немалое — для ответа, он за эти месяцы успеет и инструкцию выполнить по занятию Сахалина (разумеется, в своей интерпретации), и, по своему обыкновению, снова превысить данные полномочия — то бишь продвинуться как можно ближе к корейской границе, устанавливая посты в подходящих бухтах, а там, глядишь, и по Уссури, и напротив устья Сунгари, и у подножья Хингана, там, где он перепрыгивает Амур… Ну, собственно, проложить фактически границу с Китаем, как обозначено в Нерчинском трактате.
Тогда, пожалуй, можно будет сказать, что он, капитан Невельской, свою миссию выполнил. А после этого и матросская куртка не страшна, хотя вряд ли до нее дойдет: ведь и Муравьев, и долболобы из правительства не могут не считаться с тем, что никто, кроме Невельского с его самоотверженными товарищами, ничего подобного не сделает.
4
Взяв с собой 15 человек команды, художника Любавина и подпоручика Орлова, Невельской за двадцать два дня обошел на транспорте «Байкал» вокруг острова и еще раз убедился в том, что лучшего места, чем Тамари-Анива, для высадки десанта нет. Близилась осень, поэтому Геннадий Иванович направился в Императорскую Гавань и 6 августа заложил там пост Константиновский (8 человек во главе с урядником, им оставили 850 пудов муки и крупы, чего должно было хватить, даже с избытком, на всю зимовку), поставив перед начальником поста задачу — построить на зиму жилье и, как обычно, наблюдать за появлением иностранных судов, оповещая их о принадлежности края России.
Девятого августа «Байкал» пришел в Де-Кастри, в основанный Бошняком пост Александровский, который возглавлял мичман Разградский, веселый, никогда не унывающий молодой человек.
Пост размещался в большой полуземлянке на берегу залива, в ней жили сам Разградский, два казака и тунгус, служивший переводчиком. Возле строения, ближе к воде, возвышался довольно высокий флагшток с Андреевским флагом, сделанный из неошкуренной березы («Где только нашли такую стройную?» — подумал Невельской. В Приамурье берез было великое множество, но все какие-то корявые, свиловатые.) Позади полуземлянки виднелась поленница дров, а за ней — несколько штабелей не слишком толстых бревен, видимо, заготовки для строительства.
Все это капитан охватил одним взглядом еще при подходе шлюпки к берегу.
Команда поста выстроилась у флагштока для встречи начальника экспедиции. Мичман был в форменном сюртуке и морской фуражке, казаки и тунгус — в козлиных гулами и кожаных штанах шерстью наружу, заправленных в торбаза и олочи[20]. Лица исхудавшие, небритые; в руках казаков — кремневые ружья, у тунгуса — копье-пальма, из-за спины торчит лук, сбоку на перевязи — колчан со стрелами. Все держатся бодро, молодцом.
Шлюпка заскрипела носом по полоске галечника, служившей своеобразной пограничной линией между владениями моря и суши. Невельской спрыгнул на берег и, слегка увязая сапогами в сыпучем песке, пошел к флагштоку. За ним направились Любавин и Орлов.
Разградский шагнул навстречу капитану, вскинул пальцы к козырьку фуражки и звонким, почти мальчишеским голосом доложил:
— Ваше высокоблагородие, команда Александровского поста в честь прибытия в Татарский пролив первого русского корабля построена под флаг в полном составе. Больных и раненых нет. Командир поста мичман Разградский.
«В честь прибытия… первого русского корабля…» — Невельской, отдавая честь, на этих словах невольно оглянулся на свой любимый бриг, вставший на якорь в кабельтове[21] от берега.
«А ведь и верно: «Байкал» — первый в Татарском проливе! С чем тебя, милый, и поздравляю!» Геннадий Иванович усмехнулся, скомандовал «Вольно!» и, позвав мичмана прогуляться по берегу, спросил:
— А иностранцы, Григорий Данилович, вас не жаловали?
— Никак нет, Геннадий Иванович. — Разградский погрустнел. — Сплошные хозяйственные работы: валим деревья, ловим рыбу, охотимся… Надо бы строить казарму — людей не хватает.
— Я и тунгуса у вас заберу. Ненадолго — поведет нас к Кизи, потом вернется. А людей для строительства дам. Четырех человек.
— Неужто Дмитрия Ивановича? Он ведь у нас знатный строитель!
— Нет, не Орлова. Дмитрий Иванович на «Байкале» пойдет к западному берегу Сахалина, там на пятидесятом градусе есть небольшая бухта, Он высадится с пятью человеками, заложит с ними пост Ильинский, а сам двинется на юг до мыса Крильон в поиске мест для новых постов. Не хотел я их основывать раньше занятия Тамари-Анива, да, видно, придется: слишком уж запаздывает десант с Камчатки.
— Жаль, что не Орлова, — вздохнул Разградский, думая о своем. — Мы бы с ним казарму живо поставили. Надоело в сырой землянке. Это сверху тут сухой песок, а копни чуть глубже… Вы зайдите, Геннадий Иванович, посмотрите своими глазами.
— Сейчас и зайду, — кивнул Невельской. Он остановился, оглядывая панораму залива — широкую спокойную акваторию, окаймленную заросшими лесом буро-зелеными скалами, защищающими залив от ветров; в северной части выход в Татарский пролив частично перекрывали два острова, расстояние между которыми было примерно с милю, южнее и подальше располагался третий остров. Справа в залив впадала река Сомнин, а рядом с постом звенел чистой водой ручей Соколиный. — Прекрасная гавань! — воскликнул капитан. — Когда-нибудь здесь обязательно будет портовый город с железной дорогой. Жаль только, замерзает на целых пять месяцев.
— Ну, к тому времени, когда здесь город построят, а уж тем более железную дорогу, — сказал, улыбаясь, мичман, — я думаю, у нас будут мощные ледокольные пароходы.
— Возможно, возможно, — кивнул Невельской. — Но до того времени пока еще далеко, а потому нам следует все силы приложить, чтобы найти для Отечества незамерзающие гавани.
Они пошли обратно к флагштоку, под которым на чурбачке уже сидел и рисовал в альбоме Андрей Любавин, а подпоручик Орлов, собрав вокруг себя казаков и прибывших на шлюпке матросов, что-то чертил прутиком на песке.
— Дмитрий Иванович, Андрей, — окликнул их Невельской, — прошу внимания. Андрей, завтра мы уходим к озеру Кизи, там уже все должно быть готово к основанию Мариинского военного поста. Поэтому рисовать можете лишь до вечера. Дмитрий Иванович, вы свое задание знаете, а здесь дайте людям необходимые советы, как строить казарму…
— Я этим и занимаюсь, — откликнулся Орлов, прервав речь начальника.
Невельской молча пропустил его слова и затем продолжил, как ни в чем не бывало:
— …выберите подходящее, хорошо защищенное место и не забудьте снабдить строителей инструментами и гвоздями.
— Все будет исполнено в точности, Геннадий Иванович, — отрапортовал подпоручик и, краснея, добавил: — Простите, что перебил. Увлекся…
— Ладно, Дмитрий Иванович, здесь все свои, а вот при чужих — смотрите! — И даже пальцем погрозил капитан.
— Есть смотреть! — бодро и с явно лукавой интонацией ответствовал Орлов.
Все вокруг заулыбались, достоверно зная, что начальник экспедиции со своими товарищами никогда не держится субординации и ради дела стерпит любую вольность. А значит, нечего и волноваться.
— Геннадий Иванович, зачем я вам нужен в Кизи? — спросил Любавин. — Может, мне лучше пойти с Дмитрием Ивановичем к Сахалину? Я бы продолжил рисовать карту пролива. Вот и карту этого залива надо уточнить.
— С картой залива еще успеется: у Бошняка есть все промеры. А с проливом, пожалуй, вы правы. Полная карта нам очень даже пригодится, особенно с указанием всех течений и фарватеров. — Невельской улыбнулся в усы, глаза блеснули хитрецой. — Иностранцам показывать не будем, обойдутся. По крайней мере, пока. Потом, конечно, секреты открыть придется. Но это — потом, когда Россия утвердится на этих берегах, и нам перестанут угрожать всякие там Англии, Франции да Америки.
— А Китай? — спросил Разградский. — Мы ведь все время оглядываемся на Китай.
— Это наше правительство оглядывается. И даже не правительство, а канцлер граф Нессельроде боится. Сам же придумал какое-то мифическое китайское войско, и сам же его боится. Впрочем, — помрачнел Геннадий Иванович, — может, сам и не боится, а государя пугает, чтобы не пустить Россию на эти берега — оставить их той же Англии.
Глава 5
1
— Что случилось ты можешь наконец мне сказать?!! — Отчаянный выкрик, даже вопль, Ивана Васильевича не оставил бы, наверное, равнодушным самого заскорузлого человека. Двухгодовалый Васятка, игравший в своей кроватке, испуганно заплакал, однако Элиза даже не посмотрела в сторону сына, — стиснув зубы, с каменным лицом, она собирала свои вещи, разбросанные по ее обыкновению в обеих выделенных ей с Ваграновым комнатах.
Элиза вообще никогда не отличалась стремлением к порядку: богемные привычки, впитанные ею вместе со звуками виолончели с подросткового возраста, ничуть не изменились за четыре года пребывания в Иркутске, хотя здесь у нее не было концертной костюмерши, которая прибирала бы ее туалеты. Иван, наоборот, с малых лет приученный отцом-охотником к тому, чтобы каждая вещь находилась на предназначенном ей месте — чтобы руку протянул и взял даже с закрытыми глазами, на охоте от этого может и сама жизнь зависеть, — поначалу пытался как-то воздействовать на возлюбленную, но быстро понял всю безнадежность этой затеи и махнул рукой.
Назревавшее в их отношениях охлаждение, которое Иван Васильевич воспринимал как тяжелую болезнь, после рождения сына, казалось, начало уходить. В Элизе проснулись материнские чувства: она сама кормила Васятку грудью, ласкала ребенка, гуляла с ним по аллее на берегу Ангары — в тележно-санной мастерской молодого купца-промышленника Чурина по заказу Вагранова сделали легкую детскую коляску для лета и кузовок на санках для зимы, — а перед сном пела французские колыбельные, и в глазах ее светилась нежность. Так, по крайней мере, казалось Ивану Васильевичу. Он еще раз просил Элизу перейти в православие и обвенчаться, но та категорически отказалась, ее даже не вдохновил рассказ Катрин о дочери наполеоновского офицера Жанетте Полине Гёбль, которая последовала в Сибирь за своим женихом — декабристом Иваном Анненковым и обвенчаюсь с ним в Чите, приняв православие и став Прасковьей Егоровной.
— Полина очень любила своего Ивана, — наедине сказала Элиза подруге, — наверное, как и ты любишь Николя, а у меня, похоже, любовь прошла. — Глаза ее затуманились. — Хотя, признаюсь, в постели с Иваном было очень хорошо. Любовник он превосходный.
— Разве этого мало? — удивилась Катрин.
— Прежде было достаточно, а теперь… — Элиза покачала головой. — Я сказала: любовь прошла. А иногда думаю: была ли она вообще? Может быть, мне просто требовалось лекарство от одиночества.
— Я тебя понимаю, — призналась Катрин. — Когда я узнала, что Анри погиб, отчаяние просто захлестнуло меня, а рядом оказался Николя — нежный, внимательный, ничего не требующий. И меня потянуло к нему с такой силой, что я не могла противиться. Сама пришла к нему, и он не обманул мои ожидания. Во всем. Поэтому, когда Анри появился снова, мое сердце сделало выбор не в его пользу. Он это понял и, к счастью, исчез.
— Просто ты его разлюбила. У тебя — новая жизнь, до краев наполненная делами. Ты помогаешь мужу, у тебя есть свои дела в попечительском совете Сиропитательного дома, ты ищешь деньги для театральных спектаклей, принимаешь участие в заседаниях Географического общества — да всего не перечислить. А я сижу дома, пиликаю на виолончели для своего удовольствия. Ужас!
— Теперь, когда ты родила Васятку, думаю, время для виолончели вряд ли останется. Если бы ты знала, как я тебе завидую!
— Чему завидуешь?! Что в этом хорошего? — грустно усмехнулась Элиза. — Нет, я сына люблю, даже не ожидала, но… пеленки, горшки, болячки разные… А я ведь в Европе считалась известной, мои афиши собирали публику!
— Тебя никто в Сибирь не отправлял — сама поехала, — неожиданно резко сказала Катрин. И вдруг задумалась: — А спрашивается — зачем? Что ты здесь забыла?
Элиза испуганно — так на мгновение показалось Катрин — посмотрела на подругу и медленно, словно отвешивая каждое слово, ответила:
— Вот именно — не сама. Так пожелал мой меценат, тот, кто с тринадцати лет оплачивал мои занятия музыкой и вообще — всю мою жизнь.
— Кто он? И зачем это ему?
— Я не спрашивала. И вообще — какая разница, кто и зачем?! Платит и хорошо!
— И за это ты с ним… спала?
— Ты не поверишь, — нервно рассмеялась Элиза. — Нет! Вернее, так: всего один раз, после моего первого концерта. Он поздравил меня с успехом, устроил шикарный ужин, а потом все получилось как-то само собой. Но он был очень недоволен, что оказался не первым моим мужчиной.
— А кто же был первым? — лукаво улыбнулась Катрин. — Или это секрет?
— Да никакого секрета! Первым был бывший студент Парижской консерватории по классу виолончели, еврей, на пять лет меня старше. Я у него училась началам игры. Сам играл, как бог, я была без ума от его мастерства. Сейчас он — штатный композитор Комеди-Франсез, ты, может быть, слышала о нем Жак Оффенбах.
Катрин покачала головой: нет, это имя было ей неизвестно.
— Бог с ним, с Оффенбахом, — сказала она. — Как в России говорят: снявши голову, по волосам не плачут. Твое решение окончательное? Ивану Васильевичу не на что надеяться?
— Очень хорошая русская пословица. — Красивое лицо Элизы словно закаменело. — Вот именно: снявши голову…
Вагранов, разумеется, ничего не знал об этом разговоре. О себе он уже не думал, для него тогда важнее всего было утвердить Васятку как законного сына. Гражданский брак, в котором он жил с Элизой, церковь не приветствовала, но особо и не препятствовала, если муж с женой были разного вероисповедания. А вот с новорожденными вне церковного брака детьми возникали сложности. Ребенок мог стать законным только через усыновление — это производилось по суду, а не по церковной записи. Однако Николай Николаевич лично попросил архиепископа Иркутского и Нерчинского Нила разрешить крещение с записью хотя бы отца — в порядке исключения. Архиепископ Нил, который уже пятнадцать лет возглавлял кафедру, был широко славен своей образованностью и миссионерской деятельностью среди народов Сибири, переводил на инородческие языки Священное Писание, строил церкви, призывал во служение в Сибирь способных священников. Мнение его в епархии было непререкаемо. Правда, лишь для священнослужителей — со светской властью после назначения генерал-губернатором Муравьева у преосвященного начались трения. И виноватым в том, в глазах архиерея, стал молодой чиновник Струве. Муравьев поручил Бернгарду Васильевичу вести дела с инородцами — чтобы не было им притеснения со стороны властей, не чинились бы какие несправедливости, и тот столь усердно и толково повел дела от имени власти, что инородцы, буряты и тунгусы, на нового генерал-губернатора чуть ли не молились. Но еще более почитали они святителя Нила, потому что он, желая всех инородцев поголовно ввести в лоно Божьей церкви, обещал крестившимся любую помощь и защиту даже при нарушении ими порядка и закона. Новокрещенные этим охотно пользовались при каждом удобном случае, и Нил действительно применял все свое влияние для их защиты.
— Ваше высокопреосвященство, — не раз и не два пытался вразумить православного священнослужителя государственный чиновник-лютеранин, — вы таким образом поощряете правонарушения.
— Ну, что вы, сын мой, — добродушно рокотал архиерей, — это мелкие проступки, а церковь должна быть милосердна.
— Но не за счет власти и закона! — негодовал Струве и в конце концов доложил о том генерал-губернатору.
Муравьев поддержал своего чиновника, и это обидело архиепископа. Между ними сложились прохладные отношения, что тяготило обоих, поэтому владыко в просьбе Муравьева увидел шаг к примирению.
Узнав от генерал-губернатора историю появления на свет сына штабс-капитана, архиепископ сказал, оглаживая роскошную седую бороду:
— Дитя не виновато, что зачато во грехе. Церковь всех приимет в свое лоно. А поелику отец жаждет церковного восприятия чада, так тому и быти. Когда дитя народилось на свет божий? Двадцать четвертого августа? Значит, в день святого Варфоломея. Вот и имя наречем ему — Варфоломей!
— Владыко, отец хочет назвать Василием, в честь своего отца.
— Василием? Можно и Василием: двадцать четвертое августа как раз день именин Василия.
С того времени прошло почти два года. Когда раненого Вагранова привезли из Маймачина, Элиза ухаживала за ним трепетно и ласково, поставила, можно сказать, на ноги, и он начал верить, что все уляжется и станет, как прежде, и по ночам стремился возродить былую страстность, однако Элиза, хоть и не отказывала в близости, но загоралась редко — чаще оставалась холодна, а ему казалось, презрительно-равнодушна; он терзался, винил во всем себя, свою рану, которая оставила шрам не только на голове, но и в душе, и оттого в самый необходимый момент вдруг терял уверенность, утопал в стыде и, отторгнутый недовольной его бессилием женщиной, остаток ночи проводил без сна на краю кровати, боясь лишний раз пошевелиться и потревожить ее.
Не раз во время таких ночных мучительных бдений Ивану Васильевичу хотелось разом все прекратить — взять и разрубить этот гордиев узел. Но пугался — а как же Васятка? — и загонял свои «хотения» в дальний угол души: мне, мол, уже сорок шесть лет, пора забыть о телесных радостях, нужно о сыне думать, как его вырастить… Однако ложился в постель, и перед внутренним взором сами собой всплывали картины нежных встреч с Элизой, и рука тянулась приласкать ее, позвать на свидание — он слишком хорошо помнил, как ее тело мгновенно откликалось на эти прикосновения, но теперь пальцы натыкались на холодные складки крепко подоткнутого одеяла, и не было никакого движения в ответ.
Так все и тянулось до августовского дня, когда пришло письмо из Франции от Екатерины Николаевны. Они только отобедали, Вагранов собирался на службу, и тут Флегонт принес почту. Элиза радостно схватила запечатанный сургучом конверт, вскрыла его, пробежала глазами первые строчки на листке голубоватой бумаги и вдруг побледнела, пошатнулась и схватилась рукой за горло, как будто его пронзила острая боль.
— Что такое?! Что случилось?! — бросился к ней Иван Васильевич, но Элиза взглянула на него стеклянным взглядом, повела рукой, как бы отодвигая мужа в сторону (он и в самом деле отодвинулся), и ушла в спальню, захлопнув за собой дверь.
Вагранов даже не попытался последовать за ней. Постоял в полной растерянности перед закрытой дверью, потом спохватился, что должен спешить в Управление, где председатель Совета иркутский губернатор Карл Карлович Венцель назначил совещание по исполнению полученных от генерал-губернатора инструкций. Иван Васильевич позвал горничную Лизу, чтобы передать ей Васятку, и ушел, в надежде, что к вечеру Элиза успокоится и все станет ясно.
Венцель любил собирать чиновников Главного управления по самым разным поводам и увильнуть от этих заседаний не было никакой возможности. Приходилось сидеть и слушать обстоятельные, хотя чаще всего неконкретные, речи генерал-майора. Да и слушать-то его, можно сказать, почти не слушали, тем более что Карл Карлович, оправдывая свое происхождение, пересыпал русскую речь немецкими словечками, которые далеко не все понимали. Причина такой привязанности начальника к общим собраниям была, в общем-то, для всех очевидна. Красавец даже в свои пятьдесят шесть и добрейшей души человек, он за четыре десятка лет дослужился всего лишь до «младшего» генерала и глубоко от этого страдал. Поэтому, регулярно оставаясь в отсутствие Муравьева исправляющим дела главноначальствующего края, он чувствовал себя на заседаниях куда более значительной личностью. Это ли не повод остроумно посудачить о начальнике, чем во все времена отличались подчиненные, будь то люди служивые или чиновные, однако о Венцеле никто не слышал дурного слова. Более того, его, как ни странно, любили все, начиная от генерал-губернатора, снисходительно относившегося к слабости своего заместителя (несмотря на пристрастие к заседательству, Карл Карлович был весьма ответственным исполнителем, а Муравьев это в подчиненных ценил) и кончая чиновниками самого низшего, XIV, класса, коим, проходя, генерал поощрительно улыбался. Что ни говорите, а доброту души замечают и коллежские регистраторы.
Вагранов к генералу Венцелю относился со всем уважением и на его заседаниях сидел примерным учеником гимназии, но сегодня он был как на иголках. Тем более что инструкции, присланные Николаем Николаевичем на этот раз, его непосредственной деятельности не касались: после истории с Кивдинским и Остином в Маймачине, после попытки Хилла вновь зацепиться в Иркутске и, наконец, после пожара на Шилкинском заводе Вагранов с молодым Волконским следил за безопасностью подготовки к долгожданному сплаву, который ожидался уже весной будущего года. «Черт бы побрал этого милейшего Карла Карловича, — думал он, — развел турусы на колесах». Впрочем, можно отвлечься и подумать о том, что же произошло.
А произошло явно нечто из ряда вон выходящее.
О чем могло быть сказано в письме Екатерины Николаевны?! Может быть, что-то о родственниках Элизы? Вряд ли — она о них никогда не вспоминала, словно их не было и нет. Значит, тут что-то другое, и это «что-то» ее то ли напугало, то ли сильно расстроило. Судя по тому, как Элиза ушла в спальню, полученное известие ее просто ошеломило, ничего подобного она от подруги не ожидала. А что могло ее ошеломить? Самое вероятное, открытие какого-то секрета, тайны, которую она тщательно скрывала даже от очень близкого человека, каким для нее стала Екатерина Николаевна. Но тайна эта, видно, привела в замешательство и саму Муравьеву, коль скоро она не стала дожидаться возвращения в Иркутск, чтобы переговорить с наперсницей с глазу на глаз, а поспешила отправить письмо прямо из Франции — Иван успел заметить штемпель на конверте. Что же заставило ее так спешить? Стоп! А может быть, письмо означает, что Екатерина Николаевна вовсе и не желает личной встречи? Но это возможно лишь в том случае, если ей неприятно видеть свою, вполне вероятно, теперь уже бывшую, подругу, если ей не хочется слышать ее ложь или жалкие оправдания. Да-а! Пожалуй, это наиболее правдоподобно.
Вагранов даже улыбнулся, довольный своими размышлениями, и тут же снова поник, осознав, что эти умозаключения невольно оказались направленными против его Элизы. Да вот его ли? Похоже, знак вопроса становится все больше и больше.
Он вздохнул, искоса оглядывая сидящих рядом чиновников — заметил ли кто-нибудь его отвлеченное состояние? Он не боялся, что его «сдадут», — если кто и способен на такую мелкую пакость, так только управляющий делами Синюков (и чего это Николай Николаевич его до сих пор не выгнал?), но Антон Аристархович со всем вниманием слушал доклад Струве о ревизии Карийских золотых промыслов. Нет, он просто не хотел, чтобы кто-нибудь заметил его излишнюю взволнованность.
Вагранов тоже немного послушал Бернгарда Васильевича. История с исчезновением паровой машины, так и оставшаяся неразгаданной, невольно заостряла его внимание, когда речь заходила о золотых приисках.
В целом о событиях на Каре он знал.
Горный инженер Иван Разгильдеев одним из первых подсуетился по прибытии Муравьева на пост генерал-губернатора и пообещал новому начальнику края добыть на реке Каре в ближайшее лето 100 пудов золота, если будет заведовать золотодобычей во всем Нерчинском округе. Муравьев поверил и назначил его на этот пост с прямым подчинением самому себе. Разгильдеев устроил на Каре настоящую каторгу, поначалу добыл всего 60 пудов, но в следующее лето уже 95 и в 1852 году был назначен горным начальником Нерчинских заводов. На следующий год Иван Евграфович обещал уже 120 пудов, и дело к этому шло, но тут словно прорвало плотину — потоком пошли жалобы на жестокие условия жизни рабочих на промыслах, на палочную дисциплину, скверное питание, рост смертности из-за болезней и числа побегов… Генерал-губернатор не мог оставить эти злоупотребления без внимания и назначил ревизию. Вот о результатах ревизии Струве и докладывал.
Среди всей команды Муравьева этот молодой (всего-то 26 лет!) чиновник отличался исключительной принципиальностью и честностью, что, между прочим, нравилось далеко не каждому и в ближнем муравьевском окружении, Вагранов относился к нему с большой симпатией и сейчас не сомневался, что выводы Бернгард Васильевич сделает самые суровые, а потому снова погрузился в свои невеселые размышления.
Если он прав в отношении содержания письма, то, во-первых, что это за секрет, раскрытие которого так потрясло Элизу, а во-вторых, как она теперь поступит?
Екатерина Николаевна не хочет разговаривать с Элизой — из-за чего? Из-за обмана? предательства? попытки отнять мужа? Ну, последнее можно сразу исключить. Конечно, он не знаток женских характеров, но был абсолютно уверен, что у Элизы таких поползновений не было. Он бы сразу это если не увидел, то почувствовал. Да и Николай Николаевич так влюблен в свою Катрин, что все остальные женщины для него как бы вообще не существуют.
Обман и предательство ходят рядом, можно сказать, под ручку. Что из них одна женщина никогда не простит другой? Скорее всего предательство. Так же, как и мужчина. Предать Элиза могла, открыв кому-то (интересно, кому?!) то, что ей доверили как близкому человеку — а доверить что-либо ей могла лишь Екатерина Николаевна, и о предательстве этом она узнала во Франции.
От кого? От мужа? Вряд ли он стал бы молчать до заграницы. От своих родителей? Это возможно, однако лишь в том случае, если письмо от Элизы с компрометирующим Катрин известием ненамного опередило приезд дочери. И потом: вряд ли родители стали бы скрывать от дочери, от кого получено письмо. Да и само раскрытие тайны прямо указывало бы на предательницу. Но, глядя на Элизу, можно с уверенностью сказать, что она разоблачения не ожидала.
Значит, известие от нее получил тот, кто интересовался секретами семьи Муравьева и полученные сведения должен был хранить, но по какой-то причине они выплыли наружу. А ведь есть такие секреты, владея которыми, можно человеком вертеть как игрушкой!
Так что же из всего этого следует? А следует то, что тайны, оказывается, уже две — у Екатерины Николаевны и у Элизы. У каждой — своя. Но обе, возможно, угрожают благополучию семьи Николая Николаевича. А может быть, не только семьи и не только благополучию?!
Он должен узнать это, и узнать немедленно!
Не ища ответа на вопрос «во-вторых», Вагранов вскочил и бросился вон из кабинета Венцеля.
Струве замер на полуслове, не веря своим глазам. Да и никто из присутствующих не поверил, а у Карла Карловича просто отпала нижняя челюсть. Он хотел что-то сказать, протянул руку вслед убегающему офицеру, но тот уже исчез за дверью.
А дома Иван Васильевич застал жену, собирающую вещи.
— Что ты делаешь, Лиза? — стараясь быть спокойным, спросил он.
— Завтра я уезжаю во Францию, — бесстрастно сообщила она. — Сегодня время еще есть, ты подготовь мне подорожную и паспорт. Васятку, так и быть, оставляю тебе — он же записан твоим сыном.
«Вот и во-вторых, — как-то отстраненно и даже вяло подумал он. — А что ей остается делать, если встреча с Екатериной Николаевной не сулит ничего хорошего? Нет, — возникла и разгорелась мысль, — все-таки надо, надо, надо, непременно надо узнать, что произошло…» Он открыл рот, чтобы по возможности спокойно спросить, и вдруг сорвался. В душе взвихрилось осознание: «да ведь Элиза УЕЗЖАЕТ!»
Взорвалась и рассыпалась пылью жизнь: «Элиза, его любимая Элиза уезжает НАВСЕГДА!!» И глыбой упало — ПОЧЕМУ?! Неужели ничего нельзя ИСПРАВИТЬ?!! Сердце пронзило острой иглой…
И вот тогда он отчаянно закричал.
2
Вогул сам не знал, почему, а главное — зачем, приехал в Иркутск.
После встречи со Степаном и тяжелого, но облегчившего его душу разговора он твердо решил обезопасить жизнь Гриньки, которого считал названым младшим братом, и его дочки Арины. А обезопасить их можно было только одним путем — разгромив гнездо Кивдинского-Остина. Но вот удастся ли ему самому выйти из этой переделки живым и невредимым — ба-а-альшой вопрос. Хилок погиб — и поделом ему, однако у Кивдинского телохранителей хватает и без этого «медведя», а какая сила есть у Остина — вообще неизвестно: Ричард ни разу не выставлял ее напоказ. Но то, что она у него имелась, у Вогула не вызывало сомнения.
Этот англичанин, вообще-то, был для него загадкой. Разведчик? Да, конечно. Причем разведчик, похоже, высокого ранга — вон как ловко подделывается под китайца: говорит по-китайски и по-маньчжурски (Вогул сам видел и слышал, как Остин общается с местными жителями и служащими), одевается как китайский торговец, черные волосы заплетает в косу… Глаза, правда, не узкие, но Кивдинский говорил, что китайцы — всякие, есть и такие, что вполне похожи на европейцев. Но вот за каким лешим английского разведчика занесло в Маймачин — Григорий не понимал. Ведь здесь, кроме традиционной торговли, ничего и нет. Однако англичане, как ему втолковывал Анри Дюбуа, ничего просто так не делают, у них всегда есть свой особый интерес, свой прицел. Вот Остин каким-то образом втерся в доверие к кяхтинскому градоначальнику и стал его агентом — значит, получает от этого какую-то выгоду. И посланников Муравьева он сдал Кивдинскому совсем не случайно, а наверняка с определенной целью. Только с какой — непонятно.
Понятно одно: в этой компании шансов сломать себе шею вполне достаточно. Но, честно говоря, умирать в тридцать четыре года ему совсем не хотелось. Наоборот, появилась охота обзавестись наконец домом, большой семьей видно, потому он и к Гриньке привязался, — но лишь один Господь Всезнающий ведает, получится ли с этим что-либо путное. Понятно же, для семьи первым делом баба нужна, да не просто баба — женщина любимая и любящая, чтобы дети зачинались в нежности, а рождались в радости, были дорогими и желанными… А Вогул и само-то слово «женщина» впервые узнал в Иностранном легионе, от лейтенанта Анри Дюбуа, который рассказывал о своей возлюбленной возвышенно, с восторженным блеском в глазах, прерывающимся от волнения голосом.
И где такую женщину взять?! Да нет, не взять — найти. За все годы скитаний только одна и встретилась — там, на волжском берегу, — к которой после недолгого разговора его вдруг потянуло с непреодолимой силой, и в жар бросило, и сердце дало перебои, и захотелось выдать что-нибудь особенное… Он и выдал. Голову обнесло, и не помнил уже, почему вздумал взять ее, как брал других, именно «взять», не дожидаясь, пока у нее возникнет к нему хоть мало-мальское чувство — ну что-нибудь вроде симпатии. Впрочем, симпатия-то у нее народилась, он это почуял, когда рассказывал о своих мытарствах в плену, точно почуял, по-звериному, а дальше… А дальше и пошло по-звериному. Почему так — кто ж знает. Может, потому, что с детства деревенского в башку втемяшено: хочет баба, не хочет, а как мужик силу покажет, она вся — его, и бери ее по-простецки. Да вот не вышло по-простецки, а тут еще офицерик этот откуда ни возьмись вздумал рыцарем показаться… Ну, а про иркутскую историю и говорить нечего — правильно она его ножичком пырнула. Потому что она — женщина, а он как был зверем, так зверюгой и остался. Вот она и защищалась.
Ладно, проехали. А сейчас-то чего ты в стольный град Иркутск приперся, мил-человек? Чего, чего… Может, увидеть ее напоследок…
Вогул и увидел. На берегу Ангары, неподалеку от муравьевского дома. Там берег весь зарос кустарником, а ближе к проезжей части проложена аллея — по обе стороны утрамбованной и посыпанной песком дорожки рядами стоят стройные березы и разлапистые пихты. Вечерами по аллее прогуливаются живущие поблизости горожане с женами — чиновники, военные, купцы, а днем дорожку занимают немногочисленные мамаши и няни с детьми.
Элиза — имя ее он запомнил сразу и навсегда — три раза в день катала здесь на коляске маленького мальчика. Иногда мальчуган передвигался на своих ножках. Держась за коляску, он звонко смеялся, оглядываясь на мать, которая шла за ним напряженная, готовая, чуть что, прийти на помощь.
Вогул по приезде в Иркутск остановился на постоялом дворе мещанина Закатана, что находился на Благовещенской улице, неподалеку от пятиярусной краснокаменной церкви. Церковь это так, к слову; Григорий никогда в них не заходил, считая, что для общения с Богом посредники не нужны, хотя красоты их внешней не чурался, а Благовещенская была истинной красавицей — стройная и нарядная, она ненавязчиво радовала глаз и сердце. А выбрал Вогул этот двор из имеющихся в Иркутске четырнадцати, потому как место удобное — рядом с центром города, для его тощего porte-monnaie[22] недорого, и конюшня для конька верхового имеется. Он мог заехать к Кивдинским Антонина наверняка была бы счастлива приветить милого дружка, — но, во-первых, Григорий встречаться с ней не хотел, а во-вторых, считал, что это не по-людски — жить, хоть и временно, в доме человека, которого, возможно, скоро сам же и порешишь.
Переодевшись в номере, чтобы выглядеть приличным горожанином, он направился к Большой улице. Хотел было дойти до Ангары пешком, но передумал: путь неблизкий, двенадцать кварталов, если считать по левой стороне, или шесть (но больших!) — по правой, в общем, верста с гаком по пыльной дороге — пока дойдет, вид у него будет самый что ни на есть бродяжий. Поэтому Григорий кликнул извозчика, сел в пролетку и покатил, особо не торопясь, к Белому, как его называли иркутяне, дому, резиденции генерал-губернатора. Предполагал, что встретить Элизу проще всего именно там, возле дворца Муравьева. За себя Григорий не боялся: тех, кто знал его в лицо в этом городе, можно было пересчитать по пальцам на одной руке, и никто из них не представлял для него серьезной опасности. Если кто-то и увидит промелькнувшее в пролетке чернобородое лицо под лакированным козырьком светлого картуза, наверняка какое-то время будет мучительно рыться в памяти, почему оно показалось знакомым, и не факт, что вспомнит.
Местных урок Григорий в расчет не брал. Гуран погиб, Хрипатый куда-то исчез, а остальные его, можно сказать, почти и не знали. После возвращения с охоты на генерал-губернатора у него мелькнула мысль использовать их в своих целях, но люди были ненадежные, и он не стал с ними связываться.
В таких необременительных размышлениях Вогул проехал несколько улиц: с левой стороны шесть Солдатских и Заморскую, с правой — Тихвинскую и Морскую, — до Набережной и Белого дома оставалось два квартала, как вдруг его до основания потрясла, можно сказать до пота прошибла, простая мысль, которая почему-то сразу не пришла ему в голову: а что он скажет, если лицом к лицу столкнется с Элизой и она его узнает? Ведь последнее, что было между ними, — это его попытка насилия и ее попытка убийства, такие вещи со счетов не списываются даже по истечении многих лет, а тут и за годы не спрячешься — прошло-то всего ничего.
Поэтому Григорий велел извозчику свернуть на Луговую и выехать к Набережной по Харлампиевской. Оттуда до Белого дома всего-то три квартала вдоль Ангары, где по заросшему деревьями и кустарниками берегу проложено множество тропинок, что позволяло скрытно дойти до прогулочной аллеи. Он довольно быстро дошел и — надо же такому случиться! — нос к носу столкнулся с катившей коляску Элизой. Как раз в этот момент она разворачивалась, чтобы идти в обратную сторону. Внимание ее было поглощено ребенком, поэтому она даже не взглянула на вынырнувшего из кустов мужчину, который остановился в полной растерянности и молча глядел ей вслед.
Вогул потоптался, не зная что предпринять, и… пошел обратно. Никогда еще он не чувствовал себя столь неуверенно. К месту, нет ли вспомнился случай из службы в Иностранном легионе. В одном из боев с мятежниками Абд аль-Кадира Григорий оказался один против четырех вооруженных саблями берберов. Он вертелся, как черт, орудуя карабином с примкнутым штыком, и успевал не только останавливать разящие молнии клинков, но и наносить ответные удары, которые почти все достигали цели, потому что нападавшие были уверены в своем превосходстве и невольно допускали промахи. Легионер уложил всех; совершенно измотанный, он тут же скинул свой огромный походный havresac[23] и обнаружил, что тот разрублен в нескольких местах. Вогул всегда ругался по поводу его тяжести, а вот надо же — ранец спас своего хозяина от смерти. Но самое главное, что вспомнилось бывшему легионеру, — во время схватки он каждую секунду был уверен, что победит. Более того, он всем нутром чувствовал, что даже мгновенное сомнение в своей победе тотчас лишило бы его воли к сопротивлению, а это все равно как вышибло бы из рук оружие.
Кстати, именно за этот бой Григорий Вогул и получил сержантские лычки.
Впоследствии он всегда поддерживал в себе уверенность в своей правоте, в своей силе, в своей победе. И только однажды беспардонно и насильно был ее лишен по самодурству тульского губернатора Муравьева, что и послужило причиной непреходящей к нему ненависти бывшего легионера. Комбатанта, — вспомнил, как назвала его при знакомстве Элиза.
Эх, Элиза, Лизавета, я люблю тебя за это… Люблю?! Ну, как посмотреть… Заноза ты в душе, а почему, отчего — тревожно и непонятно и, видать, непонятность эта тянет, как железо магнитом. Вот снасильничал бы тогда — и дело с концом, все бы оборвалось, ан нет — получил перо в бок, еле выжил, а заноза не только осталась, но еще как бы и выросла.
Два дня приходил Вогул на берег и, скрываясь в кустах, наблюдал за прогулками Элизы. Трижды в день, примерно в одно и то же время, она выкатывала из калитки в воротах Белого дома коляску с малышом и часа два мерила аллею из конца в конец. Оба раза на вечернюю прогулку приходил высокий офицер, в котором Григорий сразу же признал того самого поручика, с которым сцепился на Волге, — теперь он стал штабс-капитаном. Припомнилось, что был он возле Муравьева и в Туле, и у Ленских Столбов, и на Охотском тракте — видать, близкий генералу человек. А по тому, как вился вокруг Элизы и сюсюкал с мальчуганом, ясно — к гадалке не ходи, — кем он им приходится.
Только вот закавыка: он-то вьется, а Элиза не отвечает, смотрит вперед с отстраненным лицом, словно она не здесь, на летней аллее над Ангарой, а где-то далеко-далеко. Может, в своей Франции, может, еще дальше. А мужа будто бы рядом вовсе и нет.
Вогул крайне удивился — не самому этому открытию, но тому, что оно его неожиданно взволновало. Он последнее время стал замечать за собой прежде вообще не испытываемые чувствования — как, например, умиление при мысли о маленькой Гринькиной дочке или угрызения совести из-за того, что едва не угробил самого Гриньку. За сожженный пароход совесть его не трогала, как и за покушения на Муравьева — это были звенья одной, и очень прочной, цепочки, сковавшей его с генералом. Правда, генерал о ней не подозревал, но какое это имело значение! Вот с Элизой — дело другое. Между ними тоже протянулась связь — нить ли, цепочка или целый канат, — о которой тоже знал только Григорий, но, заметив отчуждение между Элизой и ее мужем, он отчетливо осознал, что у него появился шанс попытаться хотя бы получить ее прощение. А дальше — куда фортуна повернет свое колесо.
Вогул решил: была не была, завтра он поговорит с ней. Во время послеобеденной прогулки. Утром он не пошел на свое потайное место, откуда вел наблюдение, поэтому не знал, что с малышом гуляла не Элиза, а горничная. Впрочем, какое это имело бы значение? Мать могла быть занята чем-то важным (она и была занята полученным утром письмом Екатерины Николаевны) или почувствовать недомогание — в общем, ее отсутствие вряд ли бы вызвало тревогу. А вот опоздание с послеобеденной прогулкой — на целых полтора часа! — заставило Вогула внутренне напрячься и насторожиться. Как дикий зверь чует запах железа от капкана, так Григорий почуял неладное в столь большом опоздании, а когда Элиза все-таки появилась на аллее, катя перед собой коляску, ощущение неладности и даже опасности происходящего резко усилилось: в страдальчески застывшем лице женщины не было ни кровинки.
И еще — из коляски слышался непрерывный детский плач, со всхлипами и тонким подвыванием, но мать это как будто не трогало. Можно было подумать, что она и не слышит своего ребенка.
Вогул решительно проломился сквозь кусты и вышел на дорожку навстречу коляске. Его появление было столь неожиданным, что вывело Элизу из ее сомнамбулического состояния. Она остановилась, вглядываясь в подходившего мужчину, и, видимо, стала узнавать, потому что выражение лица ее изменилось, в нем появилось что-то беспомощное. Она оглянулась, словно ища защиты, и Вогул увидел в начале аллеи, там, откуда она пришла, спешащую к ним высокую мужскую фигуру.
«Не успею, ни слова не успею сказать, — подумал Григорий, — так все нескладно получается!» Он поднял руку, успокаивая испуганную женщину, и… его оглушил раздавшийся совсем рядом ружейный выстрел.
Элизу отбросило спиной к стволу росшей позади березы, на лифе светлого летнего платья мгновенно расцвела ярко-красная кровавая «роза», тело женщины нелепо изогнулось и упало боком на край дорожки.
«Что это?! Как?!! Почему?!! КТО СТРЕЛЯЛ?!!!» Вогул замер, не зная что делать. И только легионерская выучка, привычка принимать быстрые решения в самых невероятных условиях, заставила его мгновенно просчитать ситуацию. Помочь Элизе невозможно: если она еще жива, то ненадолго, к тому же к ней бежит муж. Кто стрелял, неизвестно, а он, Вогул, оказался на месте убийства, и этот самый муж наверняка вспомнит случай на берегу Волги; кроме того, он может знать про попытку насилия и удар ножом, так что вот она, месть! А это значит — каторга, а то и виселица…
Вогул еще не закончил обдумывание, а ноги уже уносили его сквозь кусты: скорей, скорей, на постоялый двор и — прочь из города! Сбитый веткой, потерялся картуз, один острый сучок едва не выколол глаз, а другой зацепился за штанину и проделал в ней дыру. В довершение всего уже напротив Юнкерского переулка он споткнулся о какую-то кучу и едва не полетел кубарем. Выправился и уже шагнул дальше, как вдруг «куча» взвыла:
— Гришенька-а-а!
Он оглянулся. Никакая это была не куча — на земле сидела Антошка, Антонина Кивдинская, размазывая слезы по грязному лицу.
— Ты чего тут забыла, шалава?!
— Ногу подвернула-а-а…
Догадка бритвой резанула по сердцу.
— А ружье куда девала?!
В глазах Антонины плеснулся ужас, но губы уже произносили, словно сами по себе:
— Выбросила…
— Ну и сука же ты!..
Мысли Вогула заметались: «Что делать?! Бросить эту курву — пусть полиция разбирается, что, как и почему она натворила, — она же расколется! Сама на каторгу пойдет, и ему могут пришить соучастие. Элизу уже не вернешь, а эта дурища от ревности совсем спятила. Любовь называется! И убегать уже поздно: каждый встречный с радостью покажет полиции, куда «убивцы» побежали. Надо затаиться!»
Григорий подхватил девку под мышки и потащил к берегу — неподалеку были мостки, с которых жители брали воду в реке: на них можно умыться и быстренько привести себя в порядок. Разул там подвернутую ногу, велел подержать в воде; намочил свой карманный платок, обтер Антохе лицо. Услышав рассыпавшиеся невдалеке полицейские свистки, сказал негромко:
— Волосы прибери, растрепа, и ногой побалтывай. Мы тут гуляли и присели отдохнуть.
Антонина послушно убрала пряди под платок, забулькала опущенной в воду ногой.
Григорий снял свой черный суконный казакин, оставшись в подпоясанной наборным ремешком рубахе, расстелил его на траве и уселся, расставив ноги в юфтевых сапогах.
— Бегчи надоть, — негромко сказала Антонина. — Заарестуют.
— Сиди и молчи. Иль напевай чего-нибудь.
Антошка уже поняла, что Вогул ее выдавать не собирается, и послушно что-то замурлыкала, а Григорий лег на спину, глядя на облака в ярко-синем небе и покусывая сорванную травинку. Вроде бы весь из себя спокойный, а сердце в груди трепыхалось пойманной синичкой.
Свистки приблизились, тяжело затопали сапоги. Совсем неподалеку — по дорожке в кустах.
— Э-эй, мужик!
Григорий приподнялся на локтях, повернул голову: из кустов высунулись две головы — полицейские.
— Чаво?
— Тут никто щас не пробегал?
— Ктой-то топотал, а кто — Бог ведат. Антоха, ты видала?
— Не-а, — отозвалась девка и оправила рюши платья на высокой груди. Зыркнула хитрым глазом на полицейских и опустила голову — засмущалась. — Мы ж с тобой милешились.
Григорий рукой и миной на лице изобразил для полицейских что-то вроде «ничем не могу помочь». Головы переглянулись, хмыкнули и исчезли.
Вогул проводил их взглядом и снова улегся на спину.
Антонина еще немного побулькотила, потом обсушила ногу подолом платья, обулась, хромая, поднялась к Вогулу на пригорок и уселась рядом.
— Ты следила за мной? — спросил Григорий, не глядя на нее. У него внутри все кипело, но, как ни странно, боли не было: ярость не жгла, не обугливала его сердце, а, казалось, выжигала все темное и тяжелое, что успело накопиться в душе за последние годы и что так или иначе связывало его с Элизой. И — совсем уж удивительно — он даже чувствовал облегчение, словно ее смерть стала некой искупительной жертвой. Видимо, поэтому ему и не хотелось как-то наказывать Антонину. Да и кто он такой, чтобы оправдывать или наказывать?! Ежели есть за что, Бог накажет! — Ну, что молчишь?
Антонина вздохнула:
— Следила. Как ты на энту стерву пялился — да рази ж можно стерпеть?
— Давно следила?
— А те не все равно? — Антонина вдруг хихикнула. — И ей, стерве, таперича все равно!
Григорий закрыл глаза. Что ж, Антоха по-своему права. Когда его углядела в городе, сколько подсматривала — какая, в общем-то, разница?! Будучи в постели с ним, грозилась, что любую соперницу убьет, — вот и убила. Он тогда еще понял, что девка не шутит, но не придал ее словам особого значения, а вышло — зря не придал! И ведь не докажешь, что ничего такого у него с Элизой не было.
— Ты — дура! Такой грех на душу взяла — за ради чего?! — Антонина молчала, понурив голову. — Ты ж меня подставила! Муж ее считает, что это я убил, и полиция меня ищет!
— С чаво тебя-то?
— Я был рядом, а он меня знает. И картуз я, убегая, обронил, а там, внутри, имя мое.
— Настояшшее?! — ахнула Антонина.
— А мужу-то и полиции какая разница, Вогул я или Герасим Устюжанин? — Григорий открыл глаза и увидел над собой удивленное лицо девушки. — Ну, так в паспорте, который мне Машаровы справили. Я по нему на постоялом дворе записан, там и найдут.
— Не найдут, — твердо сказала Антонина. — В нашем схроне пересидишь.
3
Элизу похоронили на католическом участке Иерусалимского кладбища. Хотя о погребении специально не объявляли, проводить французскую виолончелистку пришли многие почитатели ее таланта: все бывшие в городе декабристы со своими семьями, ссыльные петрашевцы, армейские и казачьи офицеры, чиновники, учителя и учащиеся гимназии и Девичьего института, именитые купцы и промышленники, да и просто любопытные.
У могилы несколько прочувствованных слов сказал генерал Венцель, какие-то витиеватые стихи прочитал длинноволосый директор драматического театра Маркевич. (Бывший бродячий актер и владелец балагана уже три года возглавлял драматическую труппу, для которой по указанию генерал-губернатора на Большой улице, между Троицкой и Заморской, построили деревянный «храм искусств». Он очень гордился своим «высоким предназначением» и выступал по любому случаю с виршами собственного сочинения.) После Маркевича говорили еще — кто и что, Вагранов не вслушивался. Он был рад тому, что его никто не выдергивал из рядов столпившихся вокруг гроба — или забыли, или просто не знали, что он был мужем покойной.
И когда расходились, к нему никто не подошел со словами сочувствия.
Иван Васильевич раздал милостыню нищим на паперти Входоиерусалимской церкви, подошел к довольно крутому спуску на Подгорную улицу и окинул взглядом панораму Иркутска. Отсюда, с Иерусалимской горы, город был виден до самой Ангары, подковой огибающей его от Казарминской улицы до устья Ушаковки, за которой виднелись белые стены Знаменского монастыря. За четыре прожитых здесь года Иван Васильевич полюбил эту некоронованную столицу огромного края — ее немногочисленные белокаменные дома-дворцы купцов-миллионщиков, грузно застывшие, словно киты, неведомо как попавшие в редкоячеистую сеть улиц и переулков, сотканную из рядов деревянных изб, искусно изукрашенных резными наличниками окон и карнизами; ее шумные многолюдные базары — Хлебный, Мелочный, Рыбный; ее красавцы-храмы — отсюда, с горной высоты, их почти десяток открывался глазам — от Крестовоздвиженской церкви с левой стороны до Спасо-Преображенской и Успенской — с правой. Сейчас, после похорон, их кресты, сияющие над куполами и маковками в лучах полуденного солнца, казались Вагранову особенно притягательными: хотелось молиться во спасение души безвременно усопшей; что из того, что она была католичкой, — Бог-то все равно один, захочет — услышит.
Вагранов перекрестился на все церкви, не пропустив ни одной; на Спасо-Преображенскую даже дважды: это была домашняя церковь Волконских, и он в нее заходил неоднократно — и с Муравьевым, и с Михаилом Сергеевичем. Вот в Успенской, которую часто называли Казачьей (городовые казаки считали ее своей: и казарма была рядом, и улица Казачья), побывал только однажды — на отпевании Семена Черныха.
Нежданно-негаданно перед глазами всплыло лицо Насти, невесты Семеновой, и таким оно показалось милым, что защемило сердце. Подумалось: надо будет узнать у Аникея, как там жизнь складывается у девушки — здорова ли и кого родила. Вспомнились и поминки в доме Черныхов — как там ему, штабс-капитану Вагранову, было тепло среди простых казаков, и все собравшиеся казались родными и близкими. Вряд ли случайно — хоть и офицер он теперь, хоть и дворянин записной, а мужичья кровь к своим тянется, и ничем это не перешибить. Элиза тоже была не из дворянок, однако Европа ее вышколила, а она, Европа, значит, на русских всегда смотрела свысока. Вот и прожил он с musicienne четыре с лишком года, любились, или, как здесь говорят, милешились, до потери сознания, но так и не «сыгрались». Он это чувствовал постоянно, винил себя, винил судьбу, угнетался, но отрешиться от ощущения мезальянса не мог. И даже увлечения контрразведкой, когда ему показалось, что он достигает уровня Элизы, хватило лишь ненадолго. Впрочем, вместе с неудачной вылазкой в Маймачин как-то сами собой завершились и его с Мишей Волконским контрразведывательные действия.
До поминок, которые намечались для узкого круга в Белом доме, времени было еще много, и Вагранов решил пройтись пешком, благо Васятку по малолетству на похороны не взяли. Захотелось проветриться, тем более что третий день у него сильно болела голова, с той самой минуты, когда, пробежав аллею, он увидел лежавшую навзничь на краю дорожки окровавленную жену и выглядывающую из коляски перепуганную мордашку сына, который повторял жалобным голосом: «Мама-мама… мама…». Череп Ивана тогда словно раскололся в тех местах, куда вошла и откуда вышла маймачинская пуля. Его крепко шатнуло от нестерпимой боли: сквозь застлавшую глаза пелену он разглядел, что вся грудь жены порвана крупной дробью. Сразу стало понятно: стреляли из охотничьего ружья, с небольшого расстояния.
Но КТО и ЗАЧЕМ?!!
А может быть — ПОЧЕМУ?!!
Совершенно безобидная виолончелистка, которая и по городу-то ходила всего несколько раз, кому она могла столь навредить, что ее решили убить? Единственная зацепка — мужчина, вышедший из кустов навстречу Элизе. Кто это, Вагранов разглядеть издалека не смог, хотя фигура показалась смутно знакомой. И потом, в руках у него не было ружья, а выстрел раздался уже после его появления. Полицейские, которые дежурили у дома генерал-губернатора, прибежав на звук выстрела, нашли в кустах, причем в разных местах, ружье и картуз, на клеенчатой подкладке которого значилось имя владельца — Герасим Устюжанин, написанное черными чернилами. Вагранов такого человека не знал, к тому же не мог поручиться, что картуз вообще имеет отношение к убийству. Правда, позже припомнил, что мужчина был в картузе. Полицейские же, бросившиеся в погоню за ним, утверждали, что наткнулись лишь на любовную пару: чернобородый молодой мужик лежал на траве, а девка в платке сидела на мостках и бултыхала ногами в воде.
— Почему вы решили, что пара любовная? — спросил Иван Васильевич.
— Дак вид у них был такой, — смутился один из полицейских, молодой парень с редкими светлыми усиками, — вроде как оне токо што… этим самым занимались…
— Днем и прямо на берегу? — не поверил Вагранов. — С чего ты взял?
— Дак обое взбулгаченные, рожи красные, волосья растрепанные…
— А там место такое… укромное… — пояснил второй полицейский. — В этих кустах на берегу, ваше благородие, чего только ни бывает. Не у всех же дома условия есть.
Судя по правильной речи, этот полицейский — он был старше первого — успел поучиться в гимназии. «Выгнали за что-нибудь, иначе был бы чином повыше», — рассеянно подумал Вагранов. Он тогда очень устал и чувствовал себя просто раздавленным случившимся, поэтому махнул рукой и отпустил полицейских. А сейчас, неторопливо шагая по пыльной Казарминской улице в сторону Ангары, вернулся мыслями к той «любовной паре».
«Взбулгаченные… рожи красные… волосья…». Выходит, на мужике картуза не было, что, вообще-то, уже странно: Вагранов задумался, но не смог припомнить случая, чтобы горожане мужского пола появлялись на улице без головного убора. А растрепанный вид может быть и после быстрого бега по кустам. И мужик чернобородый; тот, на аллее, тоже, кажется, был с бородой, но это могла быть и тень от дерева на лице. Как ни крути, пара-то весьма подозрительна! Однако… если в руках мужчины не было ружья, тогда получается: стреляла девушка? Но это же абсурд! Впрочем, в Сибири все возможно… Хотя, даже если и так, чем Элиза могла досадить какой-то девице, причем так досадить, что та взялась за ружье? Иван Васильевич в женской психологии, мягко говоря, разбирался слабо, но мог с какой-то долей уверенности предположить, что женщина берет в руки оружие только в крайнем случае. Он слышал: бывает, что женщина из ревности убивает соперницу. Как говорят, мужика не поделили. Из-за какого же мужика могли убить Элизу? Из-за него, Вагранова? Ха, смешно! А других около Элизы не замечалось…
Штабс-капитан вышел с Казарминской на Мастерскую, которая шла над Ангарой до Большой улицы и Белого дома, пересек ее и остановился на небольшом обрыве над водой. Напротив, саженях в двадцати-тридцати, столпились заросшие кустарниками острова, разбивавшие могучее течение реки на замысловатое сплетение мелких и узких речушек, почти ручьев, каналов и проток. «Так и мысли мои разбегаются, — подумал Иван Васильевич, — а на стрежень никак не выйдут.
Хотя… Стоп-стоп-стоп, как это других не замечалось? А бывший легионер, который пытался овладеть Элизой и потом, раненный ею, куда-то пропал? И пропал из усадьбы Кивдинских, а у Христофора Петровича дочка-шалава… как ее?.. да, Антонина! Комбатант этот, французский подданный, — как припомнил Вагранов, — был черноусый, весь из себя видный. Могла Антонина в такого влюбиться? Да запросто! Влюбиться и отомстить за милого дружка. Во-от! Как его звали-то? Элиза говорила… кажется, Григорием. Да, да, Григорий Вогул! Если он опять в Иркутске объявился, значит, под чьей-то крышей. Скорей всего у Кивдинских, хотя гостиницы и постоялые дворы тоже не мешает проверить. Впрочем, свой французский паспорт он вряд ли будет предъявлять: его же следует регистрировать в полиции. Ну, и Устюжанина надо поискать, на всякий случай».
Хозяина картуза нашли быстро. Вернее, не самого, а место его пребывания на постоялом дворе. Вещи и конь были на месте, а Герасима полиция, прождав два дня, не обнаружила. Решили, что Устюжанин сбежал, а своими соображениями Вагранов ни с кем не поделился: ему вдруг подумалось, что смерть для Элизы явилась наилучшим выходом.
4
— Ну, переговорил со своим дружком-приятелем? — Зеленые глаза Кивдинского остро смотрели на Вогула из-под седых бровей.
— Переговорил, — коротко ответил Григорий.
Они сидели в маймачинском доме купца, чаевничали. Из трубы самовара пахло вкусным дымком сосновых шишек, от медных его боков шло умиротворяющее тепло; свежеиспеченные ватрушки с молотой черемухой и творогом испускали дразнящий ноздри аромат, который тонко смешивался с ароматом дорогого чая, выращенного на южных склонах гор Уишаня. Крутоносый заварной чайник из обожженной красной глины и чашки тонкого китайского фарфора, расписанные в Янчжоу в стиле горных пейзажей, радовали глаз своим совершенством — Христофор Петрович любил, чтобы в чаепитии все было красиво.
И действительно, красота накрытого к чаю стола настраивала на домашний уютный лад. Вот только крупноколотый рафинад в стеклянной сахарнице немного портил общую картину своими острыми углами. Глаза Вогула то и дело натыкались на этот сахар, и каждый раз он внутренне напрягался: бесформенные голубоватые куски словно напоминали, что придется делать, в случае если его план не удастся.
А план теперь отличался от того, что задумывалось после разговора со Степаном Шлыком.
Страшная смерть Элизы выбила Григория из равновесия. Некий тип с широким оскалом и косой на плече искоса глянул на него из-под глубокого капюшона: вот, мол, ты собирался сделать одно, а я вмешался — и все перевернулось. «И вмешался-то просто, — думал бывший легионер, — всего лишь подтолкнул глупую девку к ружью — она и ухватилась, вперед не глянув, к чему это приведет. Хотела мил-дружка к себе привязать — ну, привязала на пару дней, пока в схроне сидел, даже в койку затащила, а дальше-то что? Послал ее мил-дружок на постоялый двор — узнать, не приходила ли за ним полиция, а как узнал, что пришла да ушла, так и помахал рукой на прощанье. А ведь и в Маймачине может то же приключиться: кто-нибудь подвернется и одним случайным движением порушит замысленное. Да еще и спросит: ты вот решил купца и англичанина повязать да на российскую сторону перекинуть — а зачем? Подарок, что ли, генералу, ворогу своему закадычному, сделать? Ну, семейство Шлыков оборонить — это понятно, святое дело, однако же, поди-ка, можно попробовать как-нибудь по-другому — чтобы и овцы были сыты, и волки целы? А как думать надо, думать».
Григорий и придумал. Решение наипростейшее, но сработать может. А вот если не выйдет…
Не хотелось это брать в голову, но — приходится.
— И об чем же ты с ним переговорил? — Кивдинский налил себе новую чашку из заварника, чуть-чуть разбавил кипятком уж больно крепок напиток, горчит, а сахар Христофор Петрович не употребляет, говорит: мысли от сладкого слипаются.
Вогул тоже сладости не любил, вот ватрушки — дело другое. Особенно треугольные, как матушка пекла, и, конечно, с черемухой — в ней самой сладость есть, но не сахарная, а какая-то… какая-то… дикая, что ли. И косточки черемуховые молотые на зубах похрустывают — так славно.
Он и налегал на ватрушки.
Повторный вопрос застал его в момент, когда рот был полон откушенной сдобой. Кивдинский не торопил с ответом, но глядел пристально, изучающе. Григорий жевал неторопливо, обдумывая слова, которыми надо убедить старика отказаться от недобрых намерений и самому не подставиться.
— Степан за ради внучки на что угодно готов. — Григорий запил прожеванный кусок и тоже наполнил чашку новой порцией чая, а заварник залил свежим кипятком из самовара. Вторая заварка куда как крепче первой. — Однако, говорит: вреда особого пожар не принесет.
— Это почему же? — прищурился Христофор Петрович и даже чашку с блюдцем отодвинул в сторону. Так его озадачило неожиданное заявление.
— А говорит: после шилкинского пожара все, что есть деревянного на Петровском заводе, обмазали каким-то клеем, которого огонь не берет, а железо так и так гореть не будет. — Вогул нес эту чушь напропалую, напористо, без запинки. Он еще в Легионе, докладывая командиру о результатах разведки, убедился: чем увереннее несешь бред про скопление сил мятежников, тем больше шансов отдохнуть от боев в наскоро отрытых окопах. — У него есть другой расклад. — Григорий снова отхватил полватрушки и с удовольствием начал жевать.
— Да хватит те брюхо набивать! — рассердился Кивдинский. — Говори давай!
Вогул старательно изобразил спешное дожевывание, хлебнул чаю, поперхнулся и закашлялся.
— Тьфу на тебя! — окончательно рассвирепел старик. — Эй, Трофим!
На зов появился невысокий, но широченный в плечах мужик с пудовыми кулаками.
— Дай ему по спине, — показал на кашляющего Вогула Кивдинский. — Да не в полную силу, не то дух вышибешь.
— Не надо! — замахал руками Григорий, испугавшись всерьез. — Уже… уже все!
Он несколько раз глубоко вздохнул, останавливая кашель. Трофим, повинуясь жесту хозяина, неслышно исчез.
— Оклемался? — скривил в усмешке губы, а с ними седые усы и бороду, Христофор Петрович. — Вот уж точно: поспешишь — людей насмешишь. Так что там за расклад такой-сякой?
— Расклад — по машине паровой. Степан делает модели, по коим отливают части машины, то есть детали. В Англии для этих деталей используют самое лучшее железо, сталь называется…
— Знаю про сталь, — махнул рукой Кивдинский. — Дале сказывай.
— На Петровском заводе такой стали нет, гораздо хужей выходит. А чтобы детали были крепкие, у нас их делают толще. И получается — машина тяжеленная, а силы английской в ней нету. Поставят такую машину на пароход, она и тянуть будет плохо, только вниз по течению, а при плохой тяге управляемость тоже плохая, да и осадка у судна больше — значит, все мели будут его. Еще и корпус теперь железный!
— Это все?
— Ну-у… в общем, все.
— А расклад-то Степанов — в чем?
— А-а… главное позабыл. По Степановым моделям детали тоньше получаются, значит, прочность их — меньше. Ломаться будут чаще, а каждая поломка — остановка парохода на починку. Он больше стоять будет, чем ходить.
— Так-так-так… — Кивдинский подумал, пообжимал седую бороду в кулаке. Вогул спокойно жевал ватрушку, запивал ароматным чаем — вторая заварка, и верно, была куда приятней, — а у самого внутри какая-то жилка дрожмя дрожала: поведется хитрый старик на такую наживку или напраслина на Степана и впрямь окажется напраслиной? — И никто, значит, ничего такого не заметит? Они чё там, слабоокие, али как?
— Да ты не сомневайся, Христофор Петрович, Степан все так сделает, что комар носа не подточит. К нему никто и не придерется, коль скоро его сам Муравьев на завод послал.
— Не об Степане твоем думаю, — отмахнулся Кивдинский. — Чё, я не вижу, чё ли, как ты его отмазывашь? — Старик погрозил узловатым пальцем. Сердце Вогула екнуло: не прокатила, значит, выдумка! — Все я вижу, варначья твоя душа! Ну да ладно, можа, и правда твоя. А вот в голову мою думка затесалась… Помнишь, про торговлишку с Рычаром говорили? — Григорий кивнул и отставил свою чашку, обратив на Христофора Петровича неподдельное внимание. Что-то в его словах, и даже не столько в словах, сколько в том тоне, каким они говорились, показалось ему любопытным. — И я тогда булькотнул, что, мы, мол, купцы, в торговле с кем угодно заединщики. А теперь думаю: совра-ал! Какие мы, к лешему, заединщики?! Заединщики — значит, товарищи, а мы промеж своих грыземся не хужей волков. — Кивдинский поднял указующий перст. — Кон-ку-рен-ция! — со смаком, по частям, выговорил он иноземное слово. — А энтих, аглицких, к нашим богатствам только подпусти — сожрут! Схрумкают наши косточки и не подавятся. У наших-то какая-никакая, однако честь-совесть имеется. А у тех ее и с фонарем не сыскать. Какие уж тут заединщики!
Вогул ушам своим не верил. Он-то думал, что вот-вот придется схлестнуться со всей этой закордонной камарильей, а теперь, выходит, старый хрен-купец англичанину не брат и не сват, того и гляди, Муравьева начнет поддерживать. А Христофор Петрович, словно подслушав взъерошенные мысли Григория, продолжил:
— У меня, конешно, на генерала нашенского зуб огроменный, и я ему разор мой никогда не прощу, однако ж ежели по большой правде судить, то на Амур прицел он правильно выставил, и купечество сибирское, и промышленники наши ему за это еще не раз в ножки поклонятся. Там же богатства немереные — и зверь пушной, и рыба-кит, и леса — руби, не хочу! И всем энтим с аглицкими горлохватами делиться?! Мы чё, недоумки, чё ли?
— А ты откуда про богатства-то амурские знаешь? Бывал там или сказывал кто?
— Бывал, — неохотно уронил Кивдинский. И, помолчав, добавил: — С Корнеем Ведищевым по молодости сплавлялись. А он меня, гад такой, генералу заложил!
— А ты генералу отстегни деньжат на амурское дело — глядишь, и поладите.
Кивдинский пронзительно глянул на Вогула из-под седых бровей — проверил, — шутит, нет ли, но лицо Григория было непроницаемым, и старик, опустив голову, глубоко задумался.
Вогул тоже помалкивал. Ему самому было о чем подумать. Он уже знал, что Остин куда-то исчез из Маймачина, причем даже Кивдинский не знал, куда, но это, может быть, и к лучшему. «Гнездо», получается, разорилось само собой: вон и старик уже готов, если не на мировую с Муравьевым, то на перемирие. И основание у него, можно сказать, веское: понял, что от англичан ждать ничего хорошего не приходится. Если русский купец все меряет рублем, не претендуя на его превосходство, и ради этого готов дружить с кем угодно, то у английского торгаша главенство фунта стерлингов превыше всего и ради этого он готов воевать с кем угодно. Есть разница? Есть, да еще какая разница! Сам Григорий пропитался неприязнью к англичанам, служа в Иностранном легионе (кстати, в нем кто только ни подвизался, но британцев не было — ни одного!). Все его солдаты и офицеры знали, что мятежников Абд аль-Кадира тайно поддерживает и снабжает оружием Великобритания: так она руками алжирцев воюет со своей извечной соперницей Францией. И вообще, Англия — мастерица tirer les marrons du feu[24], особенно чужими руками.
Но что теперь делать ему, Вогулу? Он-то, в отличие от старика Кивдинского, списывать Муравьеву должок не собирается. Вот только остался он совсем один. Степан его отрезал от себя, Гринька считает убийцей (хотя правильней было бы если и называться убийцей, то несостоявшимся: все его покушения оканчивались ничем; видно, Господь Бог так распорядился, чтобы руки Григория Вогула оставались чистыми — и это, пожалуй, неспроста, надо обдумать), Анри вообще куда-то пропал — ни слуху о нем, ни духу. Остается два пути — примкнуть к уркам или вернуться в Европу. К бандитству душа не лежит; в конце-то концов, он — человек военный, солдат, а солдатская честь и грабеж мирных жителей в его сознании как-то не совмещаются. Да, он участвовал в разграблении города Константины, но там была война, а на войне издавна такая традиция — обзаводиться после победы трофеями, естественно, за счет побежденных. Так что совесть его с этой стороны спокойна. А нападать на кого-либо, чтобы просто поживиться, — совсем другое дело.
Так что не два пути остается, а только один — вернуться в Европу. Но почему бы и нет? Паспорт французский он сохранил, сил хватает — работа подходящая наверняка найдется. Да вот дорожка на Запад через всю Россию ему заказана: что Григория Вогула, что Герасима Устюжанина рано или поздно схватят. Зато на Восток прорваться, к Великому океану, есть резон: там, он слышал, корабли иностранные ходят, а с ними можно и в Америку уплыть. Про Америку в Легионе сказывали, что там любой может укорениться, там население сплошь из таких, как они, легионеры, состоит.
Ладно, с этим решено. Куда идти — ясно, а как идти? Через Китай — опасно: китайцы из-за войны с англичанами на всех белых обозлены; в лицо улыбаются, кланяются, а спину лучше не подставляй. Значит, надо вниз по Амуру, однако спускаться в одиночку — можно запросто пропасть, как говорится, ни за понюшку табаку. Так, может, лучше дождаться сплава? Говорят, он следующей весной начнется — а ему, Григорию, куда спешить? Там народу много будет, затеряться несложно. А пока прибиться к плотовщикам — плоты с ними вязать, вряд ли кто его у плотогонов искать будет. Можно и бумагой запастись, от того же Машарова: мол, послан помогать сплавному делу.
Вогул прокрутил план в голове и так и сяк, благо Кивдинский не отвлекал — тоже был погружен в раздумья, — и пришел к выводу, что решение со сплавом, пожалуй, наиболее подходящее.
Глава 6
1
Люди едут в какую-либо страну из любви к ней или по необходимости, или, наконец, из простого любопытства — Муравьев ничего подобного к Англии не испытывал. Более того, можно с уверенностью сказать, что он ненавидел эту страну, считая, что Россия уже полвека находится под ее незримым гнетом. До него доходили слухи, что именно англичане задумали заговор против императора Павла, так как испугались его примирения с Наполеоном и подготовки совместного похода в Индию, и он нисколько не сомневался в справедливости этих слухов. С той поры, по его мнению, они и крутили правительством России, как хотели, через своих агентов. Николай Николаевич был убежден в прирожденном коварстве и холодной расчетливости британцев, в их изначальном высокомерии и озлобленности против русских (правда, не понимал, откуда они произошли, эти качества их национального характера, да, в общем-то, глубоко над такими вопросами и не задумывался), а тут вдруг появилась возможность окунуться в непосредственную жизнь враждебной страны или хотя бы ее столицы. И он не преминул этим воспользоваться, ощутив себя вроде как разведчиком. Этому способствовало и то, что за границей ему приходилось носить цивильный костюм, и он откровенно скучал по военному мундиру. Кстати, в других странах, той же Франции, Германии или Испании, у него ощущений разведчика не было. Наоборот, он к ним чувствовал полное благорасположение.
Однако в Лондоне Муравьев довольно быстро устал. Несколько дней пребывания в крупнейшем городе мира были насыщены до предела «делами бездельника» (так он назвал свое времяпрепровождение). Поездки в кэбе по шумным улицам, заполненным самыми разнообразными людьми — от оборванных детей с грязными худыми личиками, на которых была написана постоянная готовность или украсть, или заработать любым способом мелкую монетку, до джентльменов в цилиндрах и сюртуках с бархатными воротниками, прогуливающих своих дам с кружевными зонтиками… Посещения музеев — Оружейной палаты Тауэра, Национальной галереи (он ничего не понимал в живописи и скульптуре, но был уверен, что Катрин обязательно спросит, что видел), постоянной выставки восковых фигур недавно умершей мадам Тюссо на Бейкер-стрит (его буквально потряс Кабинет ужасов Французской революции), Вестминстерского аббатства, дворца Тюдоров Хэмптон Корт, собора Святого Павла… Прогулки по Гайд-парку (вокруг прелестного озера Серпентайн), Риджентс-парку (чуть ли не целый день он провел в тамошнем зверинце), Грин-парку (тылы Букингемского дворца, постоянной королевской резиденции, были в строительных лесах)… Слава богу, избежал заходов в шикарные магазины Бонд-стрит и Оксфорд-стрит — решил, что для Катрин хватит и парижской Риволи, тем более что все равно ничего для нее не смог бы здесь купить: генерал, как он считал, вовсе не обязан что-либо понимать в платьях, сумочках, туфлях, украшениях и прочей «женской белиберде». Но зато каждый вечер, перед возвращением в свой отель — а он жил в самом центре Лондона, в огромном Hotel London Mayfair, занимавшем почти целый квартал на улице Гросвенор-Сквер между Карлос-плейс и Саут-Одли-стрит, — генерал заходил в какой-нибудь паб — выпить кружку темного эля и понаблюдать за отдыхающими горожанами. Ведь известно, что лучше всего человек проявляет себя в трех состояниях — в работе, отдыхе и в отношении к другим людям — особенно к старикам и детям. (Разумеется, есть еще одно определяющее проявление — в любви, но оно обычно скрыто от посторонних глаз.)
Как в Лондоне работают, он полюбопытствовал на строительстве грандиозной башни, задуманной — так ему пояснили — как часть готического здания Парламента на берегу Темзы; при общей ее высоте почти сто метров чуть выше середины должны установить огромные часы. Башню с часами будет видно с любого конца Лондона. Сооружение, конечно, грандиозное, в России ничего подобного нет, но Муравьева впечатлила не колоссальность строительства и даже не организованность работ, а их механизация — ему очень понравилось, что для подъема и перевозки грузов англичане применяют паровые машины. «Степана Шлыка бы сюда с его головой, — подумал он, — глядишь и перенял бы что-нибудь для наших нужд, а то у нас все руками, руками да на своем горбу».
Понаблюдал он и за другими работами — тех же кэбменов, уличных мусорщиков, полицейских. Нормальные, как правило, добродушные люди, любители пошутить и посмеяться. Никакой заносчивости, а уж тем паче злобности не ощутил. И это располагало к ответному дружелюбию.
В пабах, что были далеко от центра города, где собирался простой люд, Николай Николаевич слушал бытовые разговоры: о семейных делах, где главными персонажами были сварливые жены и непослушные дети, о заработках и налогах, о богатстве и бедности, сам заговаривал кое с кем, причем в нем сразу узнавали иностранца и, если не принимали за француза, то относились хорошо. А вот французов нескрываемо не любили, чему генерал ничуть не удивлялся, так как еще с уроков в Пажеском корпусе знал историю отношений Англии и Франции, которые веками грызлись, как кошка с собакой. Недаром именно между ними была Столетняя война.
В общем, размышлял он, попивая эль, сами британцы народ неплохой, а то, что у него правители любят нос задирать, так это и у нас случается. За примерами далеко ходить не надо. Вон светлейший князь Меншиков был отправлен послом в Константинополь и так высокомерно себя вел, даже с султаном, что война стала неизбежной (и она уже почти что началась). И ведь опять же пошел на поводу у британского посла… как его?.. Стратфорд-Рэдклифа об этом в Европе все газеты судачили.
Вот кого генерал невзлюбил, так это газетчиков.
В кафе и пабах ближе к Вестминстеру, на Пикадилли, Стрэнде, Пэлл-Мэлл или Трафальгарской площади, где публика была «чище», то бишь сословно выше — состояла из чиновников, мелких торговцев и предпринимателей, юристов, врачей, учителей — и где разговоры шли главным образом о политике, журналисты всегда оказывались в центре внимания. Они отличались крикливостью, безапелляционностью, всезнайством, кичились близостью к правительству и парламенту, интересы Великобритании ставили превыше всего и нападали в своих высказываниях на главного, якобы, противника этих интересов Россию. Все дискуссии вертелись вокруг предполагаемого захвата русскими Балкан, Константинополя и Проливов, раздела несчастной Османской империи, ради спасения которой Англия немедленно должна отправить свой флот в Черное море… Собственно, их и дискуссиями-то нельзя было назвать, поскольку каждое такое высказывание сопровождалось одобрительными аплодисментами, а то и криками «браво!». Эти аплодисменты и крики одобрения хулителям России недвусмысленно говорили о настроениях тех, кто создает так называемое общественное мнение. Это «общество» жаждало войны и приветствовало ее. «Послать бы вас самих в окопы, — с тихой яростью думал Николай Николаевич, — там бы вы быстро вылечились от воинственной лихорадки».
Много домыслов услышал Муравьев и об императоре Николае Павловиче и его семействе: о природной кровожадности русского царя, который якобы любит травить людей медведями; о дегенеративности царской семьи, которая спасается от полного вырождения только тем, что наследники женятся на немецких принцессах, но от этого становятся, подобно немцам, глупее и глупее; о том, что в императорском дворце устроена баня, где парятся вместе мужчины и женщины, а потом пьют водку и спят все со всеми. И много еще всякой грязной всячины.
Однажды он не вытерпел этой галиматьи, стукнул кружкой о стол так, что эль выплеснулся на скатерть, и встал, намереваясь дать укорот особенно злоязыкому щелкоперу, но тут за спиной раздался негромкий, однако твердый голос, причем говорящий по-русски:
— Спокойно, генерал Муравьев. Не делайте глупостей. Садитесь.
Голос был, как ни удивительно, женский. Собственно, это и удержало его от немедленного возмущения. Он хотел обернуться, но тот же голос удержал:
— Я сказала: садитесь. Поворачиваться не надо. Через полчаса жду вас в Гросвенор-Сквер-Гардене, напротив вашей гостиницы. Повторяю: через полчаса.
Он сел и все-таки обернулся, и успел увидеть мелькнувшие в дверях кафе полосатое платье и шляпку с какими-то цветами.
Ну, и что это было, вернее, кто это был? — спросил он себя, небольшими глотками допивая эль. Какой-то наш агент, удержавший именитого туриста от безрассудного поступка? Во всяком случае, по зрелом размышлении следует признать: если бы он, Николай Николаевич, начал свару с грязным витийствующим клеветником, это ничем хорошим для него бы не кончилось. В одном из вполне респектабельных пабов он видел, как разъяренная орава британских «патриотов» едва не разорвала в клочья седовласого джентльмена, осмелившегося задать очередному оратору невинный вопрос: а есть ли живые свидетели всех этих ужасов кровожадности и безнравственности русских? Каким-то чудом джентльмен вырвался и сбежал, провожаемый вульгарным улюлюканьем и разбойничьим свистом благонамеренных соотечественников.
Через полчаса, но уже в сумерках, генерал Муравьев вошел в Гросвенор-Сквер-Гарден, сад, расположенный через улицу перед его отелем.
Отель он выбрал по совету Ивана Демьяновича Булычева, с которым встретился в Байонне. К Ивану Демьяновичу Николай Николаевич относился с большой симпатией и уважением, поскольку из всей комиссии сенатора Толстого, ревизовавшей Восточную Сибирь (после чего был уволен генерал-губернатор Руперт), только Булычев и князь Георгий Львов решились поехать в Охотск и Камчатку, и от них впоследствии новый генерал-губернатор узнал много для себя полезного. Булычев приехал в Байонну прямо из Лондона и был переполнен восторженными впечатлениями. Ему как любителю старины чрезвычайно понравился стиль отеля, построенного почти сто лет назад, — изысканный и в то же время уютный; его очаровали высокие потолки, мраморный пол, мебель ценных пород дерева; колонны из красного гранита, поддерживающие архитрав портика главного входа, тяжелые бронзовые двери которого открывали два статных швейцара в красно-синих ливреях (цвета английского флага), богато украшенных золотым шитьем. Стиль пришелся по душе и Муравьеву, правда, для его тощего кошелька он оказался накладным, но генерал махнул рукой: э-эх, один раз живем! и снял одноместный номер на неделю. Зато, усмехался он, сэкономил на переездах, поскольку все достопримечательности столицы Туманного Альбиона оказались в пределах десяти-пятнадцатиминутной поездки в кэбе. Единственное, что его огорчало, это отсутствие рядом с ним его Катюши. С ней он мог бы поделиться непосредственными впечатлениями — их было великое множество, — а приходилось все держать в себе: восторги и негодования накладывались в душе слоями, и он предчувствовал, что по возвращении в Париж многие яркие детали померкнут и останется лишь нечто общее, подобное покрывалу на новом памятнике, обрисовывающему какие-то выпирающие части монумента, но скрывающему его оригинальную красоту. Только покрывало это, увы, уже не сдернешь.
Понравился Муравьеву и сам Гросвенор-Сквер-Гарден — большой по русским меркам, но ни в малейшей степени не сравнимый по величине с соседним огромным Гайд-парком, — зеленый островок посреди вздыбленных каменных волн городских построек. По сути, это была большая лужайка, окаймленная каштанами и липами, под которыми стояли деревянные белые скамейки со спинками. Улица Гросвенор-Сквер огибала сад с трех сторон, с четвертой, западной, стороны он почти вплотную примыкал к зданию посольства Соединенных Штатов Америки. Весьма уютный уголок и для одиночного отдыха, и для приватных встреч.
Муравьев выбрал скамейку под развесистым каштаном, благо ни одна не была занята, сел и закурил сигариллу. Из его «засады» хорошо были видны оба входа в сад — их высвечивали уличные газовые фонари — и пропустить появление женщины он бы никак не смог. До назначенного времени оставалось несколько минут. Николай Николаевич пускал из ноздрей тонкие струйки ароматного дыма и усмехался сам себе, с немалой долей иронии думая над свалившимся на него приключением. Ответа на вопрос «кто бы это мог быть?» по-прежнему не находилось. Другое дело — зачем назначена встреча. Просто предупредить об опасности могла любая русская, живущая в Лондоне. Хотя… как бы она определила, что он — тоже русский, да еще и узнала его? Значит, не любая. Кроме того, какие-то интонации в ее голосе показались ему смутно знакомыми — как будто прилетевшими из не столь уж далекого прошлого. Но, как ни напрягал он память, вспомнить не сумел. Ничего, еще несколько минут — и все загадки разрешатся…
Видимо, он слишком погрузился в прошлое, пытаясь найти ответы, потому что совершенно не заметил, когда и как таинственная женщина появилась рядом с ним. Вот только что никого поблизости не было, никто не входил в сад, а она уже сидит возле него на скамейке. Словно вечерний воздух вдруг уплотнился, образовав эту изящную легкую фигуру. Полосатое платье перехвачено в тонкой талии одноцветным кушаком (в бледно-голубоватом газовом свете истинные цвета не разобрать — все кажется черно-белым); руки в длинных белых перчатках, выше — белые же облегающие рукава, резко расширяющиеся у локтей и снова сужающиеся к плечам; кружева закрывают верхнюю часть груди до горла. На голове — шляпка с широкими полями, отороченными кружевами, тулья украшена цветами; лицо скрыто белой вуалью. На левой руке — белая сумочка. «Элегантно, черт возьми», — подумал Муравьев, одним взглядом охватив всю ее целиком и отметив детали одежды, названий которых он не знал, однако догадывался, что они весьма и весьма модны.
«Но как она умудрилась незаметно просочиться (он не нашел другого подходящего слова) в сад?!»
— Я пришла раньше, — сказала женщина, словно прочитав его мысли. — Там, позади вас, есть еще одна скамейка.
Говорила она по-русски, но теперь он уже явственно различил какой-то акцент. Возможно, английский. И снова повторилась тревожащая знакомая интонация.
— Кто вы и что вам надо? — Он постарался, чтобы тон был спокойным, даже немного равнодушным. Еще и пепел с сигариллы стряхнул этаким небрежным жестом. — Откуда вы меня знаете и почему оказались рядом? Следили за мной? По какому праву?
— Да не волнуйтесь вы так! — Он не увидел под вуалью, но она явно усмехнулась.
— И не думаю! — Он снова стряхнул пепел, хотя на кончике сигариллы его уже не было. Заметил это и рассердился. — С чего вы взяли?
— Столько вопросов сразу задают обычно встревоженные люди.
— Столько вопросов возникает у нормального человека, когда с ним говорят загадками.
— Хорошо, не будем спорить. Я развею некоторые ваши недоумения, но не все. Да, я следила за вами. Два дня, после того как случайно увидела на прогулке в Гайд-парке. Спасла вас сегодня от больших неприятностей.
— Это я понял, — кивнул Муравьев. — Благодарю. Но уж очень развязно по отношению к августейшей фамилии вел себя этот журналист. Так ведут себя только откровенные враги.
— А что, русские патриоты будут вести себя иначе, если кто-то затронет их национальные интересы? Насколько я знаю русских, так называемый квасной патриотизм у них в крови. — Женщина откровенно саркастически засмеялась. — Во Франции его называют лакейским патриотизмом.
Муравьев разозлился. Почувствовал, как лицо запылало от прилившей крови. Отбросил погасшую сигариллу и обеими руками вцепился в трость, словно собрался обрушить ее на противника.
— Генера-ал, — почти пропела женщина, — остыньте. Я не хотела вас обидеть.
Муравьев осадил себя. Передохнул.
— Не все патриоты у нас квасные, — хрипло сказал он. — А тем более лакейские. Есть и настоящие радетели за Отечество.
— Есть, есть, и вы — один из них, — снова засмеялась она, однако совершенно другим смехом. В нем теперь не было сарказма и даже проскользнуло что-то похожее на дружелюбие. — А за десять лет, генерал, вы почти нисколько не изменились.
— Десять лет? — насторожился он.
— Ну, почти десять. Время так быстро летит!
И теперь он узнал ее. По этой фразе, которую она не раз говорила с неповторимой чувственной интонацией после бурной ночи в спальне начальника Четвертого отделения Черноморской линии генерал-майора Муравьева.
— Алиша… — произнес он как-то неопределенно: не то утверждая, не то спрашивая.
2
Жанно и Франсуа провели Катрин сначала по железной винтовой лестнице вниз, в подвал, а там — по лабиринту освещенных факелами коридоров с каменными стенами, в которых были проемы на манер дверных, но двери заменяли железные решетки с висячими замками. Глухие помещения за решетками пустовали, и только в одном что-то шевельнулось, когда они проходили мимо, — оглянувшись, Катрин увидела заросшее косматой бородой лицо, прильнувшее к решетке, и пальцы рук, вцепившиеся в прутья. Вслед им раздалось рычание, в котором можно было разобрать слово «зверство». В голове промелькнуло: «замок Иф», «Эдмон Дантес» у себя дома, в шато Ришмон д’Адур Катрин как раз успела прочитать роман «Граф Монте-Кристо», и в памяти легко всплывали мрачные картины тюремного замка, в котором 14 лет томился невиновный заключенный.
Ей стало зябко, но тут они подошли к еще одной винтовой лестнице, по которой поднялись на площадку перед дубовой лакированной дверью; за дверью оказалась небольшая зала. Она была пуста, если не считать письменного стола с вольтеровским креслом за ним и простого стула на некотором расстоянии перед ним. За спинкой кресла виднелась еще одна дверь.
Тайные агенты — а Катрин не сомневалась, что попала в руки тайной полиции, ведь, пожалуй, об этом предупреждал ее комиссар Коленкур, — усадили задержанную на стул и встали за спиной.
Скрипнула дверь за креслом, и в залу вошел широкогрудый невысокий мужчина средних лет. Зачесанные назад прямые темные с проседью волосы открывали высокий лоб с залысинами; под кустистыми бровями светились умные глаза. Тонкий нос с горбинкой слегка нависал над большим, похожим на жабий, ртом. На левой стороне груди коричневого сюртука красовалась серебряная пятилучевая звезда ордена Почетного легиона на алой ленте с желто-красной розеткой — знак командора ордена.
Вошедший наклонил голову, видимо, здороваясь с Катрин (она кивнула в ответ), и мановением руки отпустил агентов. Она услышала, как за спиной удалились мягкие шаги и щелкнула замком входная дверь. Командор ордена опустился в вольтеровское кресло и откинулся на высокую прямую спинку.
— Может быть, для начала месье представится? — спросила Катрин, смело взглянув в глаза незнакомцу.
— Виконт де Лавалье, — мягко скользнул в уши глубокий баритон. — Шеф специального отдела «Сюртэ Женераль». Вам это о чем-нибудь говорит?
— О да! Ведь это вы подсылали ко мне Анри Дюбуа и скорее всего ваше задание выполняла в нашей семье Элиза Христиани? — Катрин решила играть в открытую: собственно, что ей терять? — Правда, у меня сложилось впечатление, что они ничего не знали друг о друге.
Лавалье помедлил с ответом, возможно, тоже решал, как себя вести.
— Насчет Дюбуа отрицать не стану, и они действительно не были знакомы, но почему вы решили, что Элиза Христиани — тоже наш агент?
— А разве нет?
Лавалье пропустил вопрос мимо ушей, направив диалог в свое русло:
— Вы недавно побывали в шато Дю-Буа и, конечно, узнали о письме генерала Муравьева…
— Это не его письмо! — резко прервала его Катрин.
Лавалье с интересом посмотрел на нее:
— Хорошо. Об этом поговорим чуть позже. А пока…
— А пока, господин виконт, я хочу знать, — решительно перебила его Катрин, — на каком основании меня, подданную Российской империи, ничем не нарушившую законов Франции, хватают, как преступницу, применяя насилие и обездвиживающие средства, привозят в неизвестное место против моей воли и, похоже, собираются подвергнуть допросу? Я буду жаловаться императору французов!
— Ой-ой-ой, сколько неподдельного пафоса! Сколько экспрессии! — воскликнул, не повышая голоса, Лавалье. И продолжил проникновенно: — Мадам, мои подчиненные не причинили вам ни малейшего вреда. Я в этом абсолютно уверен. Только небольшое неудобство в виде эфира, чтобы не привлекать ненужного — подчеркиваю: для вас ненужного — внимания. Ведь, если бы вздумали кричать — а вы обязательно стали бы звать на помощь, — вас пришлось бы объявить проституткой, обокравшей клиента. Согласитесь, неприятного в этом было бы намного больше, чем в десятиминутном обмороке.
Катрин была настолько ошарашена вероятностью объявления ее проституткой, что не нашлась, что сказать, однако ее возмущение не имело границ. Она разводила руками и открывала рот, но слов не было.
Виконт подождал, пока задержанная немного успокоится, и неторопливо сказал:
— Хочу пояснить в отношении жалобы. Жаловаться императору французов — это, разумеется, ваше право. В теории. А на практике оно появится у вас, в зависимости от того, чем закончится наша встреча.
— Вы мне угрожаете?! — снова вскинулась Катрин.
— Нет. Информирую. Но давайте продолжим. Итак, историю с письмом вы уже знаете. Знаете, что источником информации о вас послужила Христиани… А все-таки, почему вы решили, что она — наш агент? Раз уж мы начали, давайте говорить начистоту.
— Я не решила — просто предположила. Вспомнила, как она интересовалась делами мужа, его планами… Как рвалась в поездку на Камчатку. Я-то думала: жажда романтики, — а теперь поняла: ей важно было своими глазами увидеть состояние дорог и самой Камчатки. А тут и открытие Невельского подоспело. Вы ведь знаете об этом открытии?
— Разумеется, — кивнул Лавалье. — Я узнал о нем раньше вашего императора. Я имею в виду — российского.
— Ну вот!.. Прочитав письмо и вспомнив некоторые факты, я все сопоставила и пришла к выводу…
— Да вы прирожденная разведчица! — восхищенно рокотнул баритон виконта. — Но, понимаете ли, дело в том, что мадемуазель Христиани не является нашим штатным агентом. Как бы это сказать… Она нам помогала по нашей просьбе, вернее, по поручению своего мецената, которого весьма убедительно попросили мы. А теперь меценат потребовал ее возвращения в Европу, у него большие виды на ее концертную деятельность. И ей нужна замена!
Произнеся последнюю фразу с явным восклицанием, Лавалье уставился своими умными черными глазами на Катрин, несомненно, рассчитывая на определенную реакцию. И Катрин не обманула его ожиданий.
— Вы хотите, чтобы я заменила Элизу, и полагаете, что я соглашусь?!
— Но вы же умная женщина, мадам, и должны понимать, что выхода у вас нет.
В бархатном голосе виконта металлической струной прозвенела торжествующая нотка, а может быть, это Катрин только показалось, но у нее внутри, где-то чуть ниже сердца, зародился и быстро стал расти комочек злости, подобный холодному снежку, на который налипали новые порции снега (вспомнилось, как они с Мишей Волконским лепили снежную бабу). «Ну, мы еще посмотрим, кто кого!» — подумала она, и от этой дерзкой мысли ей стало легче и веселее.
— Выход есть всегда, — сказала Катрин и улыбнулась.
— Не скажите, — покачал головой Лавалье. — Отказаться вы не можете. Ну, если только предпочтете умереть, просто исчезнуть в наших подвалах. Вам их показали? Но, если даже так случится…
Он сделал театральную паузу, несколько секунд, давая ей прочувствовать сказанное. И она действительно ощутила вдруг леденящий выдох смерти, вместе с которым донеслось: «Зверррство!» — и прошептала:
— Вы не посмеете… — в то же время чувствуя, что посмеют. Вот возьмут и прямо из этой залы спустят в подвал, в одну из камер за решеткой. Теперь-то она понимала, что это — тюремные камеры, и что ее специально провели сюда через подвал. И никто не узнает, куда она пропала. Она представила бессилие Николя, который, конечно, в поисках ее перевернет всю Францию, и ей стало безумно жалко его, себя, друзей…
Нет, это невозможно, ее просто пугают. Надо взять себя в руки! И она действительно успокоилась, не предполагая, какой новый иезуитский удар готовит ей Лавалье.
— Мало того, что вы умрете, — мягким саваном обволакивал ее баритон, — в глазах мужа вы еще предстанете шпионкой. — Катрин изумленно вскинула голову. — Видите ли, благодаря Элизе Христиани у меня имеются рабочие материалы секретных отчетов генерал-губернатора Восточной Сибири императору, писанные вашей рукой. Он ее, конечно, знает: вы же часто помогаете мужу, переписывая отчеты и донесения. Так что есть чему поверить. А потом, немного позже, я постараюсь, чтобы император — ваш император! — узнал, что его любимец-генерал работает на французскую разведку — иначе как бы эти материалы оказались в моих руках?
О боже! В ее сердце вцепились когти ужаса, но тут же проскочила спасительная мысль: он говорит «я», «у меня», «в моих руках» значит, держит все у себя?! Значит, не будет его — исчезнет опасность! Катрин схватилась за сумочку, лежавшую на коленях, сунула в нее руку, и гладкая рукоять револьвера сама легла в ладонь.
— Оставьте, мадам, свой «лефоше» в покое, — четко произнес виконт. — Я знаю, что вы превосходно стреляете, но я это делаю быстрее и лучше. — В его руке неизвестно откуда появился небольшой тупорылый двуствольный пистолет, направленный на нее. — Франсуа и Жанно были предупреждены, и я, честно говоря, удивился, что вы не попытались воспользоваться своим оружием.
Катрин снова пришлось брать себя в руки. Она изобразила удивление.
— При чем тут оружие? Мне просто нужен носовой платок. — Катрин достала из сумочки батистовый четырехугольник, отороченный кружевами, и вытерла под вуалью лоб, действительно покрывшийся испариной.
— Н-ну, если так… прошу извинить. — Виконт положил револьвер на стол. — Издержки профессии, знаете ли. Надо всегда быть начеку. Итак, мадам, вы поняли, чем вам грозит первый вариант отказа — это ваше исчезновение и последующий позор — сначала для вас, затем для вашего мужа. Нормальному человеку и этого достаточно, чтобы согласиться с моим предложением. Но, допустим, вы своей жизнью не дорожите, а что касается остального — питаете надежду, что никто в шпионаж — ваш и вашего мужа — не поверит. Возможно, что и так, но карьера его в любом случае будет оборвана. Однако, если и это вас не пугает и вам нужны более сильные аргументы, — всплывает история с отравленным письмом.
Виконт опять сделал паузу — он явно был неравнодушен к театральным эффектам, — при этом бесцеремонно разглядывая «клиентку».
— При чем тут письмо? — внутренне напрягаясь, чтобы не поддаться давлению, которое она чувствовала всем своим существом, воскликнула Катрин. Мысли ее снова лихорадочно заметались в поисках выхода из западни.
— Письмо было послано генералом Муравьевым! И французский суд может отправить его на гильотину! — В устах Лавалье это прозвучало столь выспренне, что Катрин вдруг успокоилась и невольно усмехнулась несмотря на всю драматичность ситуации.
— Вы, должно быть, начитались готических романов, месье, — с горечью сказала она, — если полагаете, что боевой русский генерал из мести кому-либо может написать письмо такого содержания. Даже жене врага. Про чиновников не скажу, но русские офицеры, сколько я их знаю, — люди высокой чести и благородства. Вот французский аристократ, особенно мелкого пошиба, на подобную подлость способен вполне. — Она заметила, как непроизвольно дернулась щека виконта, и злорадно подумала: «Так тебе и надо, сукин сын, мерзавец!» И закончила: — Фальшивка, она и есть фальшивка.
— Фальшивка?! Вы видели само письмо?
— Видела. Разумеется, копию. Фотографическую копию, — подчеркнула она. — Почерк и подпись мужа даже не подделаны, а просто — неизвестно чьи.
— Ах, Аллар, Аллар, — покачал головой виконт. — Придется указать префекту полиции на нарушение тайны следствия.
— Какая может быть тайна, если дело закрыто?
— Вам и это известно? Однако следствие можно всегда возобновить в связи с новыми обстоятельствами, — вкрадчиво, но с нажимом произнес он.
Страх опять проснулся и царапнул коготком сердце Катрин. Она кашлянула, чтобы не выдать вспышку боли от этой царапины.
— Какие еще «новые обстоятельства»?!
— Ну как же! А появление генерала Муравьева на территории Франции — это же просто подарок правосудию! О прочем умолчу, но смею заверить: имеется и еще кое-что.
— Вы отлично знаете, месье, что мой муж никого не убивал, — сказала Катрин. Она безмерно устала от нескончаемого плетения виконтом правды и лжи; ей так захотелось, чтобы все как можно быстрее закончилось, что она уже готова была согласиться стать шпионкой. Подумаешь, потом расскажет все Николя, и они вместе что-нибудь придумают. Однако, прикинув «за» и «против», решила бороться до конца. — И о женитьбе Анри Дюбуа мы понятия не имели. Он исчез после неудачного покушения на Охотском тракте. Муж даже не знал, что Анри там был.
— Об этом ему могла сказать Элиза, — возразил Лавалье.
— Могла, — согласилась Катрин. — Но муж не стал бы таиться, а немедленно со мной объяснился. Как и по всему остальному, о чем написано в письме. Не такой он человек, чтобы играть в тайны и секреты. — Она спешила высказаться, только бы защитить Николя от угрозы. — С судом над ним у вас ничего не выйдет: он легко докажет, что письма не писал, — для этого есть графологи. Разумеется, вы можете устроить покушение на него в Европе, но генерал Муравьев — не рядовой военный, он — правитель половины России, его убийство станет грандиозным скандалом, и вам вряд ли хочется подставлять свою карьеру под этот топор. Тем более что смерть Муравьева мало что изменит на Амуре и Тихом океане, — а вы ведь этого добиваетесь, — у генерала есть прекрасные помощники, которые продолжат его дело…
Лавалье глядел на Катрин со все возрастающим интересом — она это видела по его глазам, — и когда остановилась передохнуть, даже подтолкнул ее:
— Я слушаю вас, мадам.
— Так что ваши «более сильные аргументы», виконт, оказались гораздо более слабыми. — Катрин вздохнула, помолчала. Лавалье терпеливо ждал. — Но умирать мне, честно говоря, не хочется… — Она горестно покачала головой. — Только вот не пойму, какой вам будет прок от сведений, которые смогу собрать я, — это такая мелочь!..
— Что вы, мадам! Как у нас говорят: и самая прекрасная девушка Франции может дать только то, что у нее есть. Хороший разведчик, собирая разные сведения, даже мелкие, сопоставляя их с другими, может делать очень важные выводы. Я не должен вам этого говорить, так как методы разведки открыты только для служебного пользования, но мне совсем не хочется, чтобы вас грызла совесть. Успокойте ее: ваш вклад в наш анализ будет столь мал, что вряд ли можно считать его преступлением, — так, на уровне светской болтовни. В столичных салонах выбалтывают куда более серьезную информацию.
— Благодарю за заботу о моей совести, — со всей иронией, на какую была сейчас способна, откликнулась Катрин.
— Значит, я правильно понял? Вы добровольно даете согласие на сотрудничество? — Он подчеркнул — «добровольно». Катрин развела руками: увы! Лавалье вынул из стола лист бумаги, гусиное перо и чернильницу. — Тогда подпишите обязательство.
Катрин внимательно прочитала: «Я, Муравьева Екатерина Николаевна, в девичестве Катрин де Ришмон, даю согласие…» Надо же, все приготовлено, даже написано каллиграфическим почерком — остается только поставить подпись.
— А как подписывать? По-русски или по-французски?
— Для надежности и так и так.
Катрин встала, положив лист на стол, и взяла перо. Наклонилась было и занесла руку, но остановилась и остро взглянула на виконта:
— У меня есть условие. Даже два.
— Какие условия?! — воззрился на нее Лавалье.
— Во-первых, вы должны отозвать из России Анри Дюбуа. Я не хочу, чтобы мой муж постоянно был под угрозой покушения.
— Принимается, — махнул рукой виконт. — А второе?
— За смерть Анастаси Дюбуа кто-то будет наказан?
— Вы хотите ареста вашего мужа? Пока что все указывает на него. Подписывайте бумагу, мадам, и договоримся об оплате ваших услуг.
— Вы с ума сошли! — вспыхнула Катрин. — Какая оплата?! Вы решили меня унизить еще и этим?
— Все, что бесплатно, — то аморально. Помните такую пословицу? Она родилась не в «Сюртэ Женераль» — это придумал народ. А народ зря говорить не будет.
— Я вижу: вы любите пословицы. Вот вам еще одна: «Кого дьявол купил, того и продал». А меня вы не купили и не купите.
Везли Катрин с завязанными глазами. Повязку сняли лишь перед самой высадкой из фиакра, рядом с домом тетушки.
Женевьева де Савиньи встретила племянницу уже в полном здравии. Когда Катрин спросила ее о самочувствии, тетушка неожиданно залилась слезами.
— Прости меня, моя девочка, — всхлипывала она. — Меня заставили солгать. Я не была больна.
Катрин не стала спрашивать, кто и как ее заставил. И так все было ясно.
3
— Алиша! — повторил Муравьев, теперь уже с чисто легким восклицанием, словно подтверждающим его уверенность, что здесь, в Лондоне, никого другого он и не мог встретить.
— Узнал-таки, — вздохнула Хелен, и вздох ее тоже получился неопределенным — то ли досадливым, то ли радостным.
«Но с чего бы ей радоваться? — подумал Муравьев. — Да, впрочем, и досадовать — тоже. Ноги тогда унесла, и ладно — но военному времени могли бы и расстрелять. А в Иркутске, когда Вагранов доставил их с Остином, даже и не встретились. Иван доложил, что агенты перехвачены, их и отправили в Петербург со всем внешним почтением, прикрывающим глубинное презрение. В российской провинции так частенько относятся к иностранцам. В отличие от столиц, где почтение подчеркивает пресмыкательство».
— Вы меня остановили — почему? — Николай Николаевич своим «вы» сразу установил дистанцию между ними — в крепости Бомборы он говорил ей «ты». Впрочем, она всегда была с ним на «вы». Даже в постели.
— А вы как думаете? — Она снова рассмеялась, на этот раз с явной неприязнью.
— Думаю, будь ваша воля, вы бы с удовольствием подзудили всю эту газетную сволоту, чтобы я на себе почувствовал силу английского кулака. Как на Кавказе подзуживали убыхов.
— О да, я бы так и поступила, но… — Она всплеснула руками, вложив в этот жест все свое разочарование. — Да, жаль, очень жаль! Знаете, генерал, увидеть вашу побитую физиономию — это было бы даже не удовольствие, а самое настоящее наслаждение.
— Боюсь, ваши записные Цицероны, да и вы сами испытали бы разочарование, — сухо сказал Муравьев. — У меня есть чем ответить на ваши хуки и апперкоты.
— Возможно. Однако здесь, в сквере, пять минут назад, мне ничто не помешало бы поквитаться с вами, — уже откровенно зло сказала «мадам Остин».
— Это за что же? — искренне удивился Николай Николаевич. — В Бомборах я вас ничем не обидел, скорее вы нам приносили вред. А то, что случилось на Шилке… Вагранов просто спас вас с супругом от гибели, его благодарить надо. Ну, а отправили обратно — не обессудьте: кто же будет терпеть шпионов у себя под боком. Английские власти на моем месте церемониться бы не стали: шлепнули за милую душу! Что, скажете: нет? Да, ладно, можете не отвечать, я и сам знаю: шлепнули бы. Так зачем я вам понадобился, my darling[25]?
Хелен открыла сумочку и извлекла из нее что-то свернутое в трубку. Прежде чем развернуть, глянула в лицо генерала, освещенное газовыми фонарями, стоящими вдоль центральной дорожки сквера; она словно тянула время, пытаясь вызвать его заинтересованность. Но Муравьев ждал с невозмутимым видом. Хелен медленно развернула свиток и повернула его так, чтобы свет от фонарей падал на него.
— Вам знакомо это лицо?
Муравьева качнуло, будто он получил внезапно тот самый апперкот: слегка повернув голову, на него смотрела Катрин с портрета Гау, того, который он не смог выкупить и который достался князю Барятинскому.
— Откуда он у вас? — севшим до сипоты голосом спросил генерал.
— Значит, знакомо. — Хелен свернула плотную бумагу в трубку и убрала свиток в сумочку. — Надеюсь, вы понимаете, что означает наличие у нас этого портрета?
— Его выкрали у князя Барятинского…
— Скажем так: позаимствовали на память. Но я спрашиваю не о том, как он у нас появился, а для чего?
— Для чего? — повторил Николай Николаевич. Понял, что прозвучало глуповато, но он все еще не пришел в себя от появления в его жизни снова этого прекрасного и в то же время злополучного портрета, и в голове гуляли завихрения.
— Как я держала сейчас в руках портрет вашей жены, так мы держим в руках ее саму. Пока что фигурально, — добавила Хелен, с удовольствием отметив, как дернулся Муравьев, — однако в любой момент это может случиться фактически…
— Не смейте мне угрожать! — хриплым от ярости голосом перебил ее генерал.
— Это не угроза, а предупреждение, поскольку все зависит от вас, my darling.
Хелен просто купалась в волнах бессильной (как она считала) ярости могущественного генерал-губернатора, от взгляда и слова которого трепетала половина России. «Как же умен и дальновиден сэр Генри, — думала она, — что не позволил мне тривиально убрать этого пошлого чиновника. Не-ет, вот так вот подцепить на крючок, чтобы затрепыхался, холодным потом покрылся и на что угодно был готов — это и есть высший класс профессионала-разведчика. Пусть противник оценит твои возможности, твою власть над его слабостями, пусть прочувствует неизбежность своего падения — и он весь твой, со всеми потрохами. И сэр Генри даже повторил со вкусом: with all giblets[26]!»
— Вы, очевидно, хотите, чтобы я остановил продвижение России на Амур? — сдержав себя, хмуро спросил Муравьев. — Так я сразу скажу: машина запущена, и у российского императора нет видимых причин, чтобы ее остановить.
Он говорил внешне спокойно, а внутри все трепетало в тревоге за Катрин. От этих негодяев-джентльменов можно ожидать чего угодно: они ведь действуют, опираясь лишь на голый расчет. И, между прочим, убеждены, что так и должен вести себя нормально мыслящий человек. Об этом ему поведал в одну из встреч в Петербурге Лев Алексеевич Перовский, много общавшийся с британцами по окончании битвы при Ватерлоо, участником которой ему довелось быть, и в командировках в Англию после назначения его министром уделов и управляющим Кабинетом его величества.
— Мы хорошо знаем принципы работы вашей машины. От вас требуется только одно — не форсировать сплавы по Амуру. Все остальное выполнят ваши бюрократы. Вернее, не выполнят, если ваш император не будет их пинать.
— Я три года долбил, как дятел: нужны сплавы, нужны сплавы, нужны сплавы — и вдруг замолчу? У кого-то это, конечно, вызовет облегчение, но у императора — точно! — подозрение: мол, что-то тут не так. — Муравьев задумался. Хелен ждала. — Другое дело — если сплав запустить и он провалится — к примеру, из-за непроходимости Амура.
— Это самое лучшее, что можно придумать! — искренне воскликнула Хелен.
— Вы так думаете? — Муравьев тяжело посмотрел на нее. — Хорошо, примем этот вариант. И что, мне надо что-то подписать?
— Нет. Мы используем более надежный способ.
— И какой же? — по-прежнему мрачно полюбопытствовал генерал. А сам подумал: «Наверное, устроят что-нибудь компрометирующее. Ну и пусть, сейчас главное — увезти Катюшу из Европы, а там — Бог не выдаст, свинья не съест».
— Если вы нас обманете, наш удар возмездия будет абсолютно неожиданным и сокрушительным.
Такая фраза из уст хорошенькой женщины прозвучала столь высокопарно, что Муравьев невольно усмехнулся. Хелен оскорбилась:
— Это слова моего шефа, а он их на ветер не бросает.
— Не сомневаюсь. — Муравьев покосился на сумочку в ее руках. — А вот насчет портрета — нельзя ли…
— Нельзя, — оборвала Хелен. И добавила, смягчая резкость: — Это собственность отдела, генерал, и не в моей компетенции ею распоряжаться.
Он кивнул: мол, понимаю, понимаю…
Она встала. Поднялся и Муравьев.
— Прощайте, my darling general! — Под ее насмешливостью он вдруг с удивлением различил нотку горечи и не смог на нее не откликнуться, напомнив ей о недавнем прошлом:
— Прощайте… Алиша.
Она вскинула голову, встречая его грустный взгляд, отвернулась, шагнула от скамьи, но сразу обернулась:
— Кстати, наша машина тоже запущена, и в день «X» произойдет то, что должно произойти. Опередить нас вы не сможете, устоять — тоже, так давайте хотя бы избежим лишних жертв с обеих сторон.
— Это касается и моей жены, — твердо и тяжело сказал Николай Николаевич. — Учтите, если с ее головы упадет хоть волос…
— Не упадет, — ответила она, уже уходя. — Делайте свое дело.
— Вот именно: делай свое дело — и будь что будет, — задумчиво произнес генерал, глядя ей вслед.
Глава 7
1
— Сашенька! — Николай Романович Ребиндер со вскрытым письмом в руке прошел в будуар жены. — Ты только взгляни, Сашенька, от кого мне пришло послание. От самого канцлера Нессельроде!
Александра Сергеевна сидела за пяльцами — вышивала. Она тяжело переносила первую беременность — всего-то три месяца! — и домашний доктор посоветовал ей для отвлечения внимания от тошноты заняться рукоделием. Екатерина Ивановна Трубецкая «во глубине сибирских руд» обучилась сама разным видам вышивания и научила всех четырех дочерей, так что Саша с большой охотой последовала совету врача. Более того, маймачинский амбань, узнав о недуге юной жены кяхтинского градоначальника, прислал мастерицу сучжоуской вышивки шелком по шелку, и та научила Сашеньку этому древнему искусству. Чтобы вышить даже простенькую картинку по-сучжоуски, нужно потратить месяцы кропотливого труда, а именно это и требовалось в Сашином положении. Она выбрала сюжет «Бабочки на цветах вишни» и уже третью неделю с удовольствием занималась им, стараясь путем тщательного подбора ниток передать тончайшие оттенки рисунка. После завтрака и прогулки садилась за пяльцы и не отрывалась до обеда. Вот и сейчас муж застал ее столь увлеченной работой, что она даже не слышала его слов и шагов. Пяльцы стояли у окна, чтобы было удобным освещение; солнечный свет пробивался через кисею летних штор, обрисовывая тонкий изящный профиль, оттененный волнистыми каштановыми волосами.
Николай Романович остановился в дверях, любуясь своей красавицей женой, и в сотый раз уже, наверное, восторженно ужаснулся про себя, что эта прекрасная женщина, которая на двадцать лет моложе, из княжеской семьи, любит его, обыкновенного дворянина, каких сотни и тысячи, который всего лишь три года как произведен в действительные статские советники. Отслужив девять лет в Министерстве внутренних дел в должности вице-директора Департамента духовных дел иностранных исповеданий, он с одушевлением принял назначение на пост первого градоначальника Кяхты, видя в том хорошие карьерные перспективы. Собственно, генерал-губернатор Муравьев эту должность и «пробивал» в министерстве именно под него, Ребиндера, потому что на столь важном пограничном посту ему нужен был человек, разбирающийся в правилах внешней торговли и таможенной службы, а у Николая Романовича за чиновничьими плечами были и Департамент внешней торговли, и Гродненский таможенный округ. А Департамент духовных дел, где все было расписано от сих до сих, надоел ему хуже горькой редьки. И вот он приехал в стольный град Иркутск, где генерал-губернатор лично ввел его в круг декабристов, был приглашен в дом Трубецких, с первого взгляда влюбился в двадцатилетнюю Сашеньку, очертя голову посватался и, к своему изумлению, получил согласие и самой девушки и ее родителей.
Ребиндеры в Кяхте были просты в общении, доступны, а Александра Сергеевна вообще стала украшением довольно многолюдного троицко-савского «света», который составляли купцы, офицеры пограничной стражи, чиновники городской управы и таможни, учителя трех местных училищ и ремесленной школы и, разумеется, их семьи.
Жизнь тут, можно сказать, кипела. Кяхта уже более ста лет была центром российско-китайской торговли, через нее ввозился чай не только для Российской империи, но и для всей Западной Европы (его там даже называли не китайским, а русским чаем). Купечество ширилось и богатело, однако было весьма недовольно ограничениями, наложенными на торговлю Министерством финансов, в первую очередь тем, что запрещено было торговать на деньги — только на обмен товарами. Министры финансов — Канкрин, Вронченко и Брок опасались вывоза из России золотых и серебряных монет и налагали на генерал-губернаторов обязанность бороться с контрабандой монеты. Муравьев поначалу безропотно принял эти правила и даже способствовал осуждению купца первой гильдии Маркова, которого три года продержали в тюрьме за найденные у него 14 тысяч рублей серебром, якобы приготовленные для контрабанды в Китай. Однако времена изменились, меновая торговля стала тормозить развитие, и генерал-губернатор как человек, склонный к реформам и новациям, все настойчивей предлагал правительству введение торговли за деньги. Николаю Романовичу он поручил провести тщательный анализ торговых операций для своего доклада в Петербурге, чем тот занимался с прилежанием и удовольствием.
А в конце июня, когда Муравьев был за границей, китайцы из Маймачина вдруг сообщили Ребиндеру, что создается комиссия для установки пограничных знаков по левому берегу Амура от Горбицы и ниже согласно листу правительства России. Николай Романович, зная, что исправляющий обязанности генерал-губернатора Венцель на ответные действия не уполномочен, о возникшей ситуации напрямую отписал в Министерство иностранных дел. И вот получил письмо от самого графа Нессельроде.
Николай Романович, налюбовавшись живой картиной «Вышивальщица», теперь уже специально потихоньку подошел сзади и поцеловал жену в обнаженное декольтированным платьем плечо.
— Ой! — испуганно сказала Саша и тут же засмеялась, обхватила правой рукой голову мужа и ласково-нежно прижала к своей голове. Потом отодвинулась, близко-близко заглянула ему в глаза и ответила легким поцелуем в губы. — Что-то случилось, милый?
У Николая Романовича от ее взгляда и поцелуя застучало сердце, но он взял себя в руки и протянул жене письмо:
— Вот. Удостоился личного ответа канцлера, Карла Васильевича Нессельроде.
— Да-а? — удивленно протянула Саша, беря сложенный втрое лист лощеной бумаги. — И что же он пишет?
— Прочти. — Николай Романович делано равнодушно встал у окна, заложив руки за спину и покачиваясь с носков на пятки. Внутри у него все ликовало: наконец-то Сашенька увидит, что ее муж чего-то стоит, коли с ним ведет личную переписку глава внешней политики России, к которому внимательно прислушивается сам император!
— Так, — говорила Саша вполголоса, пробегая глазами убористый текст письма, — комиссия соберется в ноябре в Урге под председательством амбаня Бейсэ… приглашают русских уполномоченных… «министерство поручает эту миссию Вам, милостивый государь Николай Романович, — цитировала она чуть погромче, — взяв с собой в сопровождение переводчика, офицера пограничной стражи…»
— Ты представляешь, — не выдержав, перебил муж, — мне поручается дипломатическая миссия!
— А вы подумали, Николай Романович, — осторожно спросила Саша (она никак не могла привыкнуть называть его без отчества и на «ты»), — как к этому отнесется генерал-губернатор? Общаться с правительством, тем более с Нессельроде, через голову своего начальства, да еще по столь щекотливому вопросу… — И, в большом сомнении покрутив головой, добавила: — А взять на себя междугосударственные пограничные переговоры — вообще, очень и очень рискованно.
— Но, Сашенька, разве возможно отказаться от поручения канцлера? — погружаясь в некоторое смятение, промямлил Николай Романович. — Он же меня уничтожит одним щелчком.
— Господи, Николай Романович, вы же знаете, что Муравьев своего человека всегда защитит. Об этом папенька не раз говаривал. Да и станет ли граф заниматься каким-то мелким чиновником!
— Я не какой-то мелкий чиновник, — обиделся муж. — Я — действительный статский советник! Четвертый класс Табели о рангах! Это по всем разрядам…
— Знаю, знаю, дорогой, вы — генерал-майор. Простите меня за оговорку. Но в глазах канцлера вы же просто городничий.
— Ты хочешь сказать: Антон Антонович Сквозник-Дмухановский[27]? — с сарказмом вопросил муж. — Ну, спасибо, друг любезный, припечатала! — Вконец разобиженный, Николай Романович почти вырвал из рук жены письмо и направился к выходу.
Сашенька вскочила и, догнав его у самых дверей, повисла у него на шее, целуя в бакенбарды и усы:
— Простите меня, дорогой, ради бога, простите! Я совсем не хотела вас обидеть. Умоляю!
— Ну, ну, хорошо, хорошо, — растроганно говорил он. Ее поцелуи всегда сводили его с ума, она отлично это знала, а он знал, что она знает, но тем не менее всегда подчинялся их чарам — иногда возбуждающим, иногда расслабляющим, как сегодня.
Он снова усадил ее за пяльцы и умиротворенно поцеловал в висок, прикрытый пушистым каштановым завитком.
— И что вы намерены делать? — словно ничего не произошло, обыденным тоном поинтересовалась Саша, принимаясь за вышивание.
Николай Романович подумал.
— Пожалуй, запрошу из Иркутска все дела, планы и документы по этому делу — чтобы подготовиться в полной мере. Хотя бы на всякий случай.
— А может быть, стоит написать письмо Муравьеву и все изложить, как есть? Оно как раз придет в Петербург к его возвращению из заграницы. Пусть Николай Николаевич сам выяснит у канцлера относительно пограничных знаков, у них все-таки слишком разное отношение к проложению границы с Китаем.
— Свет мой Анна Андреевна[28], откуда в твоей головке такие сведения? — колко припомнил жене «городничего» действительный статский советник.
Саша не обиделась:
— Генерал-губернатор частенько бывал то у нас, то у Волконских и все разговоры с папенькой и Сергеем Григорьевичем сводились к Отечеству, к будущему России, к Амуру и пограничным делам…
— А у детей и ушки на макушке?
— Еще бы! — засмеялась жена. — Там такие споры разгорались! Особенно, помню, о Русской Америке…
— А что — о Русской Америке? — насторожился Николай Романович. — О чем тут спорить?
— Николай Николаевич доказывал, что Русскую Америку мы все равно потеряем, ее, как Калифорнию, захватят Соединенные Штаты. Так что лучше, пока не поздно, ее выгодно продать. А папенька был против.
— Вот как! — неопределенно сказал Николай Романович. — Весьма, весьма любопытно… А касательно письма, милая, ты, пожалуй, права: написать надо. Хотя, боюсь, не успеет генерал-губернатор вернуться, чтобы как-то повлиять на переговоры в Урге.
— Зато ваше реноме не пострадает.
— Тоже верно… Однако пойду, подготовлю запрос в Иркутск. — Николай Романович направился к двери, но его опять остановили слова Саши:
— Я только не поняла, что там канцлер пишет о желании монголов принять российское подданство…
— А-а… Помнишь, у нас чаевничал лама Навак Чонжин? Он тогда рассказывал о сочувствии монголов русским. — Саша, вспомнив, кивнула. — Я отписал об этом в Министерство иностранных дел, и директор Азиатского департамента Сенявин очень этим заинтересовался. Вот канцлер и пишет, что на переговорах это надо иметь в виду. Они считают, что это много важней установки пограничных знаков.
2
Муравьев ворвался в кабинет Сенявина стремительно, словно штурмуя, как в юности, турецкие редуты Шумлы, за что тогда получил свой первый орден — Святой Анны третьей степени. Захлопнул за собой дверь перед носом рванувшегося следом секретаря и быстрым шагом, придерживая левой рукой шпагу, прошел к столу товарища министра. Он снова был в мундире, при орденах и чувствовал себя воином. Вспомнилось: «Есть упоение в бою…» — вычитанное где-то Катюшей.
Сенявин оторвался от бумаг, успел выйти из-за стола навстречу:
— Рад видеть вас, дорогой Николай Николаевич! — Он потянулся по привычке обнять за плечи, но столкнулся взглядом с бешеными глазами генерала и промямлил: — Как здоровье супруги?
— Спасибо, хорошо… — процедил сквозь зубы Муравьев. — Я с визитом, не предупредив, любезный Лев Григорьевич, но дело не терпит отлагательства.
— Я весь внимание…
— Только что прибыл курьер из Иркутска.
— И что же? — насторожился Сенявин. — Курьеры прибывают чуть ли не еженедельно. Случилось что-то экстраординарное? Да вы садитесь, садитесь.
Муравьев, не обратив на приглашение ни малейшего внимания, продолжал говорить стоя и вынуждал стоять Сенявина.
— Я получил донесение, что китайские уполномоченные скоро соберутся в Урге для трактования установки пограничных знаков, якобы вследствие ноты нашего правительства. Мне еще в Европе говорили, что такая нота была отправлена сразу после моего отъезда…
— Кто говорил?! — вскинулся Сенявин, и глаза ею угрожающе сверкнули.
«Эх, прости, Митя! — мелькнуло в голове Муравьева. — Ему же ничего не стоит вычислить, кто из служащих министерства был в это время за границей».
— Кто говорил — неважно, — отмахнулся генерал. — Важно — что именно говорил. Так была такая нота или нет?
— Милейший Николай Николаевич, мы ведем весьма живую переписку со всей Азией. Вот адмирал Путятин Евфимий Васильевич отправлен налаживать отношения с Японией…
— Милейший Лев Григорьевич, — перебил Муравьев, — я спрашиваю не об Японии, я спрашиваю о Китае.
— Да, да… о Китае… Кажется, припоминаю: было такое… Да, точно было! И даже вроде бы мы получили ответ из Пекина.
— И вы только теперь говорите мне об этом? Я прошу, я требую немедленно показать мне переписку с Китаем. Немедленно!
Лицо Муравьева залила краска, на висках взмокли волосы. Сенявин поспешил к столу, схватился за колокольчик.
На звонок в дверь заглянул секретарь:
— Слушаю, Лев Григорьевич?
— Принесите дело переписки с Китаем за этот год.
Секретарь исчез.
Муравьев отодвинул стул у длинного стола для заседаний, присел, не глядя на хозяина кабинета, погрузился в мрачные раздумья. Сенявин, заложив руки за спину, прошелся по мягкому ковру, скрадывающему шаги, остановился перед генералом, спросил, участливо улыбаясь:
— Что, не помогают заграничные воды?
Муравьев поднял тяжелый взгляд:
— О чем это вы?
— Нервы… нервы…
Муравьев покачал головой, усмехнулся невесело:
— Меня волнуют интересы России, а чему вы радуетесь?
— Мы тоже печемся о пользе Отечества.
Вошел секретарь с папкой, по знаку Сенявина положил ее перед генералом и скрылся за дверью. Муравьев углубился в чтение и тут же хлопнул ладонью по листу:
— И верно: отправлено сразу после моего отъезда из Петербурга! Не согласовали, не посоветовались! То-то китайцы засуетились. Еще бы — такой подарочек им преподносится! Что ж вы делаете-то, а, господа дипломаты?! Неужели не понимаете, что этой нотой не только Амур отдаете, но и лишаете защиты Камчатку и все Охотское море?! И это сейчас, когда уже идет война с Турцией, когда, того и гляди, ее поддержат Англия и Франция, и значит, под угрозой нападения будет весь наш крайний Восток. Не Китай на нас нападет — у него сил для этого нет — нападут европейцы, которые промышляют в Тихом океане. Вот к чему приведет ваша «польза Отечеству»! — Генерал-губернатор встал, поправил мундир и отчеканил, глядя прямо в глаза товарищу министра: — Государь сегодня возвращается в Петербург, и я, не медля ни дня, прошу у него аудиенции.
— Как вам будет угодно, — кисло отозвался тот.
Тем же вечером в гостинице Николай Николаевич с Екатериной Николаевной занимались обычной почтой. Ее скопилось много, надо было разобрать, рассортировать, на что-то ответить сразу… Известие о трагической смерти Элизы, полученное от Вагранова, явилось для них ни с чем не сравнимым потрясением. Екатерина Николаевна зарыдала, припав мужу на плечо, а он закаменел лицом, машинально поглаживая вздрагивающие плечи жены. По щекам текли слезы, повисая крупными каплями на рыжеватых усах.
Каждый плакал о своем.
Николай Николаевич горько сожалел, что не уберег талантливую musicienne, которая с редкостной для европейской женщины доверчивостью припала под крыло самого генерал-губернатора, а он с непозволительным легкомыслием отнесся к бродящей вокруг нее опасности и даже не сделал нужных выводов после нападения насильника. У него, боевого офицера, не единожды смотревшего в лицо смерти, высекала слезы предстающая перед глазами картина мертвой, с окровавленной грудью, Элизы.
Катрин плакала не о потере подруги — это она отгоревала еще во Франции, — ее ужаснула сама смерть молодой женщины, нанесенная неизвестно чьей рукой непонятно за что. И в то же время она чувствовала облегчение, оттого что, пусть и столь жестоким способом, судьба избавила ее от необходимости оправдываться перед Николя в том, в чем не было ее вины, — попытке насилия со стороны Анри. Нет, тут же покаялась Катрин, вина была: она же не сказала мужу, кто такой Андре Легран, и тем самым позволила бывшему возлюбленному надеяться на возврат прежних отношений; кроме того, утаила, что этот Легран — разведчик, правда, была убеждена, что в их глухомани и разведывать-то нечего; наконец — и это самое главное! — скрыла участие Анри в нападении на Охотском тракте. Господи боже мой, еще больше ужаснулась она, как же я виновата перед Николя, смогу ли я когда-нибудь оправдаться?! Если бы тогда сразу ему рассказать все-все… или почти все — как о парижском похищении… возможно, многих неприятностей не произошло бы.
И она заплакала еще горше.
Историю с похищением Катрин поведала мужу сразу же по возвращении Николя из Англии. Она долго думала, надо ли его посвящать в трагедию семьи Анри, но цепочка утаиваний и недоговоренностей неминуемо привела к выбору: либо рассказывать все, начиная от «воскрешения» Анри, либо добавлять к этой цепочке еще одно звено — тайну смерти Анастасии. И отчетливо сознавая, что и один случайный камешек может устроить камнепад, подобный тому, под который попал муж в Забайкалье (только теперь под камнями может оказаться она), тем не менее у Катрин не хватило духу на исповедь. И Николай Николаевич узнал лишь о том, что Екатерину Николаевну заставили дать согласие помогать французской разведке.
— Они, конечно, понимают, что никаких особых услуг ты оказать не можешь, — задумчиво говорил Николай Николаевич, расхаживая по гостиной апартаментов Женевьевы де Савиньи (сама хозяйка избегала лишнего общения — чувствовала себя виноватой, хотя Катрин не сказала мужу о мнимости ее болезни), — что непременно все мне расскажешь, но им только это и нужно — давить на меня постоянной угрозой разоблачения твоего согласия…
Муж не стал ее пугать своими приключениями в Лондоне, и потому Екатерина Николаевна не знала, что, говоря о ней, Николай Николаевич думал о себе, о том, что же имела в виду Алиша (ему было удобней так ее называть: она тем самым как бы ставилась на место, какое занимала в Бомборах), когда говорила о надежном способе держать его в руках. Портрет и предупреждение — значит, все-таки в основе — жизнь Катрин, а потому надо немедленно возвращаться в Россию. Конечно, убийцу можно прислать и туда, пример Элизы о многом говорит (неужели и это сделали они?!), но там легче защититься, зная, откуда может быть нанесен удар.
— Но мы что-нибудь придумаем, — продолжал он, остановившись у окна и глядя с третьего этажа на вечернюю Рю Мазарен. — А пока что собирайся. Мы уезжаем в Россию.
— А как же… — Екатерина Николаевна хотела было напомнить про обещание до отъезда вернуться в шато Ришмон д’Адур, но не договорила, поняв, что Николя прав: надо уезжать из Франции как можно быстрей, пока господа из разведки не придумали что-нибудь еще.
Николай Николаевич понял недосказанный вопрос.
— Мы напишем родителям письмо: мол, император срочно вызвал меня на родину, а ты не захотела надолго расставаться.
Так и сделали.
Уже в дороге из газет узнали, что Турция предъявила России ультиматум с требованием безотлагательно вывести войска из Молдавии и Валахии, а когда, опираясь на прежде признанное право России защищать православные народы, император отказался, султан Абдул-Меджид I объявил войну.
— Ну вот, началось, — только и сказал Николай Николаевич. И добавил: — Теперь никто от сплава не отвертится. Буду просить у государя срочную аудиенцию.
Однако срочно не получилось: император был в отъезде встречался в Киеве с командующим Дунайской армией князем Горчаковым. А тут и курьер прискакал из Иркутска с тревожным посланием от Венцеля: мол, Ребиндер запросил в Главном управлении документы по разграничению земель, якобы нужные для переговоров с китайцами. Об этих переговорах пришло письмо и от самого Ребиндера. Муравьев тут же отписал ему развернутое приказание: «…так как никакие вопросы о разграничении с нашей стороны не могут быть не только решаемы, но даже и начинаемы без Высочайшего повеления, то если бы китайские комиссары из Урги приехали в Кяхту, отвечать им, что он, Ребиндер, при всем желании удовлетворить их не может, не получив приказания от высшего начальства; что Муравьев сам еще не получил по означенному предмету никаких распоряжений, а потому Ребиндеру нет причины к особой поспешности… В разговорах же с китайскими чиновниками ограничиваться обыкновенными учтивостями, не излагая даже своего мнения о каких-либо предположениях нашего правительства».
После этого Муравьев и нагрянул к Сенявину, а затем поспешил испросить аудиенции у наследника — цесаревича Александра Николаевича и генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича. По договоренности они приняли его вместе в парадном кабинете императора.
3
Царственные братья встретили генерал-губернатора радушно, но вместе с тем были по-особенному сосредоточены: понятное дело — государственные заботы!
— Что у тебя, Николай Николаевич? — спросил наследник, приглашая генерала к столу, за которым братья пили чай с маковыми бубликами.
— Война, ваше императорское высочество, — ответил Муравьев, наливая себе чаю.
— У тебя-то какая война? — усмехнулся генерал-адмирал. — Где Турция и где ты?
— Не скажите, ваше высочество. Я должен рассказать вам истории, какие приключились — со мной в Англии, а с моей женой во Франции.
— Что ж, излагай.
Муравьев изложил.
— Так что перед вами новоиспеченный агент английской разведки, а в отеле дожидается французская шпионка, — закончил он свой недлинный рассказ.
Братья переглянулись.
— Что же получается? — сказал Константин Николаевич. — И англичане, и французы нацелились на наш крайний Восток? — Муравьев кивнул, подтверждая. — Интересно, совместно или врозь?
— Совместно, — хмуро сказал цесаревич. — Только что пришло известие, что их эскадры находятся в Мраморном море и готовы войти в Черное.
— Я уверен, что и в Тихом океане формируется англо-французский флот. Если уже не сформировался. — Муравьев отставил свою чашку: было не до чая. — И этот флот пойдет к Петропавловску и устью Амура.
— А почему не в Русскую Америку? — спросил цесаревич.
— Побоятся задирать Соединенные Штаты. У тех свои виды на тихоокеанское побережье. И я считаю, ваши высочества, что нашу Америку надо Штатам продавать. Пока они не взяли ее явочным порядком. Как Калифорнию у Мексики.
— Нну-у, Россия все-таки не Мексика, — засомневался Константин Николаевич.
— Разумеется. Но Мексика граничит с Соединенными Штатами, Штаты рядом с Русской Америкой, а Россия от нее через океан. Для России и Камчатка неимоверно далеко, но ее мы еще можем как-то защитить, а Америку — увы! — нет.
— Поживем — увидим, — философски заметил Александр Николаевич. — Америка пока что не насущный вопрос. У нас — война с Турцией.
— А фактически уже и с Англией и Францией, — сказал Муравьев.
— Они еще не объявили, — возразил великий князь.
— Впереди — зима. Французы помнят про поход Наполеона, да и англичане не любят зимой воевать. А вот весной объявят наверняка, если мы наваляем туркам, а мы им обязательно наваляем. Англия тут же бросится защищать обиженных, а племянник-император — мстить за дядюшку-императора. Газеты в Европе об этом открыто пишут.
— А батюшка уверен, что Англия и Франция не могут стать союзниками, — задумчиво сказал Александр Николаевич.
— Наверное, он уже тоже получил известие о флоте в Мраморном море и теперь не уверен, — грустно усмехнулся великий князь и вдруг так ударил кулаком по столу, что подпрыгнули чашки с блюдцами. — Ну, надо же, против России готовы объединиться даже заклятые враги. Чем мы им так насолили?! Ни на кого не нападаем, всех защищаем, всем стараемся помочь, а нам потом норовят плюнуть в лицо. Того же султана дважды спасали от его собственного вассала![29]
— Успокойся, брат. Они просто боятся появления русских в Средиземном море. Мы же учили с тобой про победы графа Орлова-Чесменского и адмирала Ушакова. Англичане кичатся своим Нельсоном, а он нашему Федору Ушакову в мичманы не годится. Ладно, — оборвал цесаревич себя, — не о том сейчас речь. Надо Муравьеву помочь. Говори, Николай Николаевич.
— Нужна срочная аудиенция у государя. Я хочу ему рассказать о том же, об чем и вам сказывал, и испросить разрешения на сплав по Амуру. Дальше тянуть с этим делом никак нельзя — мы можем потерять все, что было достигнуто в отношении укрепления России на берегах океана.
— Нессельроде упорно твердит об угрозе китайцев. Нам только войны с ними не хватает для полного счастья.
— Я на это твердо скажу, со всей уверенностью: китайцы — нам не помеха. Невельской три года у них под боком исследовал огромную территорию — Китай ни звука против не издал. Почему? Да потому, что это — не его земли! Местные жители о китайцах вообще ничего не знают, а видели только маньчжурских купцов, которые сами приветствуют приход русских: мол, порядок будет. А сейчас Китай зашевелился насчет разграничения, потому что Нессельроде своей нотой его, как шилом в бок, ткнул.
Николай Николаевич, как всегда, не мог говорить об Амуре спокойно: волосы взмокли, лицо покрылось испариной, — и он поспешно схватился за платок.
— Сплав, говоришь? — Александр Николаевич постучал пальцами по столу. — Но ведь к сплаву надо столько готовиться!
— Мы готовимся, ваше императорское высочество. Уже давно. За подготовку сплавных средств отвечает капитан второго ранга Казакевич, за снаряжение — подполковник Корсаков. Оба — отличные офицеры! Я буду ходатайствовать об их производстве в следующий чин. Я уверен, что как только сойдет лед на Шилке, мы сможем начать сплав.
— Тебе же за это грозит разоблачение из Англии? — засмеялся Константин Николаевич.
— Если государь не отправит на виселицу за государственную измену, остальное переживу, — скупо улыбнулся Муравьев.
4
На аудиенцию император пригласил и шефа жандармов, главного начальника Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии князя Алексея Федоровича Орлова.
— Князь послушает о твоих приключениях вместе со мной, — счел нужным пояснить Николай Павлович. — Это на случай, если на тебя пойдут доносы.
— Да им, государь, счету нет, — пробасил вальяжный князь, подкручивая роскошные усы. — Генерал-губернатор многим наступил на больную мозоль. — И подмигнул Николаю Николаевичу.
— Тем доносам цену мы знаем. Теперь будем знать цену другим, — сухо откликнулся Николай Павлович. — Рассказывай, Муравьев.
Николай Николаевич предельно лаконично поведал о случившемся. Император слушал, стоя у окна и глядя на ангела с крестом. Уже стемнело, осенний холодный дождь хлестал в стекло; на Дворцовой площади зажглись фонари, их свет рассеивался потоками воды, и вся площадь дрожала в призрачном мареве. Дрожал, словно от пронизывающего холода, и специально подсвеченный ангел. «Как ему сейчас неуютно и как, наверное, жаль Россию, которая опять втянулась в войну, — подумал император, — за двадцать пять лет уже пятую, если не считать Кавказской. А как ее не считать, если ей самой уже тридцать шесть годков, там за это время два поколения бойцов выросло. И на черта нам этот Кавказ?! Минеральные воды и так были у нас, а больше там и нет ничего. Если бы Грузия в Россию не попросилась, жили бы спокойно и горя не знали».
Император вздохнул и отвернулся. Муравьев закончил свой рассказ.
— Что скажешь, Алексей Федорович? — Выпуклые холодные глаза Николая Павловича уставились на князя.
— Что сказать, государь! — Князь поправил усы и снова подмигнул сидевшему от него через стол Муравьеву. — По моему разумению, генерал поступил совершенно правильно.
— Не о том я спрашиваю, князь, — раздраженно воскликнул император. — Ты же у нас опытный дипломат! Какой вывод из этих действий французов и англичан?
— Вывод простой, ваше величество: Муравьев им мешает, и мешает очень сильно. Значит, надо ему помогать, чтобы мешал еще сильнее. Чтобы порушил все их планы на Востоке.
— Во-от, уже теплей! Мне и сыновья так сказали. Что для этого нужно, Муравьев? Только учти: войска тебе не дам.
Муравьев внутренне напрягся, почувствовал, что приближается его звездный час.
— Войско у меня есть, ваше величество. Забайкальское казачье. Его и тех солдат, что расквартированы в Восточной Сибири, хватит. Сейчас нужны высочайшие повеления: во-первых, о сплаве по Амуру войск и снаряжения для защиты Камчатки, Сахалина, устья Амура и побережья к югу от устья. Сейчас Амур и Сахалин защищать нечем: на все наши посты семь десятков кремневых дрянных ружей и три пушки — одна двух- и две трехфунтовых. Пороху во всей экспедиции — полтора пуда и снарядов для орудий — по двадцать пять выстрелов на каждое; во-вторых, о том, чтобы все сношения с Китаем шли через генерал-губернатора. Я прошу, государь, соизволения вникать в дела русской миссии в Пекине. Иначе петербургские чиновники, не ведая предыстории вопроса и не понимая психологии китайцев, натворят таких дел, что их будем долго расхлебывать. Если бы такое повеление было раньше, ваше величество, не случилось бы этой истории с нотой о разграничении, которую теперь придется дезавуировать.
— Ты меня не упрекай. Я еще не уверен, что для этих повелений срок пришел.
— Да как же, государь?! — воскликнул Муравьев. — Большая война на пороге! Промедлим — потеряем все!
— Ты готовишься к сплаву?
— Полным ходом готовлюсь.
— Вот и готовься. Раньше весны все равно сплавляться не сможешь, а до того времени обстановка прояснится. Это все?
— Мне поступило донесение о том, что добыто сверх сметного исчисления более пятидесяти пяти пудов золота. Я прошу, государь, дать указание Министерству финансов оставлять часть добытого золота в Главном управлении Восточной Сибири для нужд вверенного мне края. Я экономлю тысячи рублей — так пусть сэкономленное хотя бы частично остается в моем распоряжении.
— Знаю, знаю о твоем рвении. Лишнее золото — это хорошо! Оно ох, как пригодится для ведения войны.
— Я уверен, что война и до нас доберется, государь. Я имею в виду крайний Восток.
— Долбишь в одну точку, как вода в камень? И правильно делаешь: глядишь, и продолбишь даже наши окаменелости, — усмехнулся Николай Павлович. Муравьев позволил себе чуть улыбнуться в усы, а князь грохотнул и тут же, выхватив платок, прикрыл им вроде бы кашель: успел заметить старый царедворец, как посерьезнел государь. — А пока что знаешь, что к тебе подбирается? Холера!
— Уже знаю, государь, и принимаю меры.
— Это когда ж успел? — искренне удивился император. — Полгода был за границей, а край свой блюдешь.
— Генерал Венцель, оставшийся за меня, написал, что переселенцы, коих направило в Восточную Сибирь Министерство внутренних дел, понесли с собой холеру и заражают ею сибирские села. Я уже приказал Венцелю немедленно отправить навстречу переселенцам ответственного чиновника и врача, чтобы остановить это движение и постараться с ним справиться.
— Как думаешь, успеют? Сколько до Иркутска верст?
— Около четырех тысяч, — сообщил Орлов.
— Долго курьеру скакать, — покачал головой император.
— Железную дорогу в Сибирь надо прокладывать, государь, — сказал Муравьев. — Не дай бог случится большая война на Востоке, как туда войска направлять по нашим-то дорогам? И телеграф нужен электрический.
— Да, ваше величество, — поддержал князь, — отстаем мы от Европы. У них и дороги железные, и пароходы военные, и ружья сплошь нарезные, а у нас кремневые да гладкоствольные. Дрянные — вон как говорит генерал. Ох, чую, наплачемся мы с ними. — Князь поправил усы и подмигнул Муравьеву: надо, мол, пользоваться моментом.
— Про железные дороги думает наследник, — устало сказал Николай Павлович. — Про пароходы — великий князь, это дело морского ведомства. Дайте срок, вот с Турцией разберемся, тогда и займемся — и дорогами, и телеграфом, и ружьями. Такие дела наскоком не решаются… В общем, так, Муравьев. Ты тут, в Петербурге, занимайся неотложными делами — я знаю, что хочешь добиться разрешения торговать в Кяхте не только меной, но и монетой, и потому приказал собрать особый комитет из лиц, сведущих в торговле, под председательством министра финансов Брока, — так вот, занимайся этим, но особо долго не задерживайся, а мы пока подумаем еще раз о твоих просьбах.
Николай Николаевич был разочарован, можно даже сказать, ввергнут в прострацию. Как ни убеждала его Екатерина Николаевна, а затем и великая княгиня Елена Павловна, которой они нанесли традиционный визит, — что император прав, что надо все взвесить, прежде чем делать столь решительные шаги, — он был на грани отчаяния. Он посчитал, что государь, узнав о согласии, пусть и вынужденном, работать на иностранные разведки, перестал ему доверять. И, как всегда в критических случаях, ринулся к письменному столу — излить душу в письме брату Вениамину. И, опять же как всегда, его личные переживания тесно сплелись с тревогами об Отечестве — если бы он их разделял, то это был бы уже не он, Николай Николаевич Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири, а кто-то совсем другой, хотя, быть может, и под таким же именем.
«Ты спрашиваешь об моих делах до сих пор я об них ничего положительного сказать не могу и до сих пор еще никаких распоряжений к моему обратному отъезду не делаю; может быть, Бог поможет еще избавиться от горькой чаши, которая мне там предстоит, если не произойдет никаких перемен.
…Англия по-прежнему к нам враждебна и ждет весны, чтоб действовать против нас и в Черном, и в Балтийском море… В Петербурге же очень боятся войны с Англиею… и теперь известные люди в самых тесных отношениях с английским посланником. Они и знать не хотят, что с Англиею поладить мы можем только, унизив Россию и утратив все ее влияние в Европе и даже ее самостоятельность, что, напротив, война с Англиею погубит ее; но надежда на Государя, который не даст себя обмануть ни англичанам, ни друзьям их в Петербурге.
Катенька моя все прихварывает… ей здешний климат вовсе не способен, а потому, если не поедем обратно, то уедем куда-нибудь в глушь, где бы можно было и жить с нашими малыми средствами; я храню мою заграничную штатскую одежду, которой будет достаточно на первый случай». — Николай Николаевич грустно усмехнулся: он не представлял, как будет привыкать к постоянному ношению сюртука или даже фрака — с двенадцати лет в мундире; одна надежда — уволят с правом ношения военной формы, она, конечно, дороже обойдется, зато своя, родная.
«Неприятно быть в этом двусмысленном положении, — продолжил он после недолгого раздумья, — и если б не предстояло мне в Восточной Сибири исполнить окончательно начатое дело, то я бы давно уже удалился; уверяю тебя, что никто еще в таком странном положении, как я, не находился, и причина простая: меня выхватил из рядов сам Государь и поставил так высоко, что заметили меня и другие, с которыми я однако ж ничего общего иметь не могу; я иначе люблю моего Государя и Отечество, чем они; я иначе понимаю пользы их, чем они; я с ними не родня, не сват и круга их не ищу, и поэтому я для них несносен, а от Государя очень далек; правда, меня любят Его сыновья, но ни перед кем из них хорошего никто за меня не замолвит, а, напротив, при случае всякий набросит тень; дело у меня важное, где бы надо явное неограниченное доверие, а допустить до этого все, окружающие Его и царственную семью Его, не хотят — вот мое положение, в котором ближе всего применяется русская пословица: «Бог высоко, царь далеко».
Николай Николаевич в горестных размышлениях вольно или невольно преувеличивал свое одиночество на холодных вершинах власти: за него при случае всегда готовы были замолвить перед государем доброе слово и великая княгиня Елена Павловна, нежно любившая своего «маленького пажа» Николашу, и бывший его начальник, а ныне министр уделов граф Лев Алексеевич Перовский, да и старшие сыновья императора не оставляли своим вниманием происходящее на Амуре и крайнем Востоке. Правда, цесаревичу, поставленному отцом во главе Амурского комитета, уже изрядно надоели происки Нессельроде против Муравьева, да и муравьевская настырность его утомляла; ему претили дипломатические тонкости внешней политики — куда интересней было заниматься внутренними делами России. А великому князю Константину очень нравилась идея создания на Тихом океане военного флота (о торговом он вообще не думал) и потому исследования Невельского, его стремление найти незамерзающую гавань получали у него воодушевленную поддержку, ну а, поскольку прямым начальником капитана был генерал-губернатор, Константин Николаевич покровительствовал и ему. Правда, покровительство это принимало иногда странную форму. Так, согласившись с настойчивыми просьбами Невельского о присылке военных кораблей для патрулирования Татарского пролива, глава морского ведомства, обсчитав, во что обойдется содержание фрегата и корвета в столь отдаленных местах, и не имея таких денег в министерстве, предложил львиную долю расходов взять на себя Главному управлению Восточной Сибири. Ему как-то не пришло в голову, что Муравьеву неоткуда взять эти деньги, кроме как жестоко сэкономив на всем прочем. Скрепя сердце Николай Николаевич пошел на это, утешая себя тем, что поддержка великого князя стоит того и со временем все окупится сторицей.
И, несмотря на сухость и даже некоторую холодность аудиенции у императора, ход «через сыновей» оказался очень даже успешным: в январе 1854 года генерал-губернатор получил все, что хотел. Одно за другим последовали высочайшие повеления: о предоставлении ему права прямого сношения с китайским правительствам по вопросам разграничения восточных территорий (и об этом Министерство иностранных дел отправило китайскому Трибуналу специальный лист, а генерал-губернатор получил себе в штат секретаря по иностранным делам и переводчика); о возможности распоряжаться остаточными суммами от сметных исчислений по всем ведомствам Восточной Сибири (отчет об их расходовании должен был представляться непосредственно государю); и самое главное — о решении плыть по Амуру, не дожидаясь ответа китайского правительства на сделанный по этому поводу запрос.
Император вызвал Муравьева к себе, чтобы лично вручить ему последнее повеление.
— Ну, что, рад, Николай Николаевич? — спросил с легкой усмешкой на полных губах.
— Неописуемо, ваше величество, — ответил генерал-губернатор, а у самого сердце прыгало в груди. — Сто семьдесят пять лет Россия ждала этой минуты!
— Но смотри, Муравьев, никаких военных действий! А то мне доносят, что ты чуть ли не военную экспедицию в Цыцыхар[30] снаряжаешь.
— Будет ваше указание — снаряжу.
— Но-но-но! Чтобы и не пахло пороховым дымом. — Голос императора не на шутку посуровел.
Муравьев, покорствуя, склонил голову:
— Пройдем без выстрела, государь!
Глава 8
1
Теннь… Свисссь!..
Тенькнула тетива, и легкая талиновая стрелка с фазаньим перышком на хвосте канула в глубине зеленого шатра кедра, обвешанного, словно взбитыми облаками, наносами пушистого снега.
Секунду спустя по одному из наносов, разбивая его конвульсиями в искрящуюся под солнцем пыль, скатился рыжевато-бурый меховой комок. Упал в наметенный под кедром сугроб и в последнем предсмертном движении развернулся в нечто бесформенное, издали похожее на оторванный воротник женской шубейки. Или — на брошенный в снег малахай.
Соболь!
Собаки — лайки Черныш и Пальма, которые дружно облаивали кедр, враз замолчали и бросились к добыче, но были остановлены коротким свистом.
— Да, Никанор, ты — лучший стрелок от Байкала до самого океана! — восхищенно покрутил головой Скобельцын, подобрав зверька и вынув из его глаза тонкую стрелу — тупую, без наконечника — чтобы шкурку не повредить.
Орочон засмеялся, цокнул языком, хотел что-то сказать, но вдруг схватился за копье-пальму и настороженно всмотрелся вперед. Даже руку приложил козырьком над глазами.
— Что такое, брат? — всполошился и Григорий, снимая с плеча ружье. — Что случилось?
Вместо ответа Никанор выбросил вперед руку с копьем, указывая в глубину леса:
— Ходун, однако.
Собаки, словно только этого и ждали, рванулись туда и, выйдя на след, залились особенным, со злобным подтявкиваньем, лаем.
Скобельцын мгновенно вспотел. Он был опытным охотником и потому хорошо знал, что встреча с медведем-шатуном в середине зимы не сулит человеку ничего хорошего. По какой-то неведомой причине медведь просыпается и, проголодавшись, вылезает из берлоги. Зверь большой, пищи ему требуется много, но, в отличие от волков, рысей, тигров он охотиться по снегу не умеет, быстро тощает и, осатанев от голода, нападает на всех, кто попадется, а хуже того, приходит в деревни за собаками, скотиной и даже врывается в избы, задирая людей. И редко кто остается живым после встречи с этим отчаянно злобным и несчастным зверем.
Каждый охотник знал, что шатуна надо непременно убить, избавив его самого от мучений, а людей от страха. Но схватка один на один была очень опасна, люди обычно устраивали облаву, и даже при этом не обходилось без увечий и смертей.
Никанор был отличным охотником — Скобельцын хорошо помнил их первую встречу, когда Никанор вез тушу кабана-секача, справиться с которым может далеко не каждый, — и все-таки Григорий сильно удивился, когда орочон решительно двинулся в указанном им самим направлении.
— Эй, брат! — окликнул он. — Вдвоем нам не справиться, надо людей подымать.
— Спешить надо, — отозвался Никанор, не останавливаясь. — Там человек. Ходун по следу идет.
Человек?! Григорий устремился за орочоном, больше ни о чем не спрашивая — какие тут разговоры, если нужно и можно кого-то спасти? Широкие охотничьи лыжи почти не проваливались в снег, скользили хорошо, однако Скобельцын еле поспевал за Никанором, бегущим в легких, сплетенных из лыка снегоступах.
След человека на лыжах (значит, скорее всего не местный; аборигены предпочитают снегоступы: вон в Усть-Стрелке Скобельцын, почитай, из охотников лишь один и пользуется лыжами) был не самым свежим — иней уже припорошил лыжню — а вот медвежий, легший поверх, ясно показывал, что зверь прошел не так давно, часа три-четыре назад. Григорий с Никанором в то время уже вышли на охоту, но ружейного выстрела не слышали, а ведь зимняя тайга разносит звук очень далеко. Конечно, человек на лыжах мог уйти на большое расстояние, но тогда шатун вряд ли стал бы его преследовать: Усть-Стрелка-то с ее живностью куда ближе. Остается одно: преследуемый из ружья не стрелял — то ли не был вооружен огненным боем, то ли не успел или не сумел им воспользоваться. В здравом уме и рассудке никто в тайгу безоружным не сунется. Аборигены могут пойти с копьем и луком, но они не пользуются лыжами, а люди пришлые не пойдут без ружья. И вывод из всех размышлений остается печальный, для человека безысходный.
«Стоп, — подумал Григорий, — а мое-то ружье снаряжено не на медведя. Да и нет с собой подходящего припаса — никто ж допрежь про шатуна не слыхивал, чего было опасаться?»
Ну да ладно, Бог не выдаст, собачки помогут. Вон они как умело идут носом по лыжне. Остановятся, враз оглянутся, взрыкнут коротко и дальше пошли. Хорошие собачки, брат и сестра. Пальму Григорий Никанору подарил, кутенком трехнедельным. Побратим как раз в Усть-Стрелку пришел, увидел Григория, обрадовался, словно не он веснусь[31] группу Шварца от погибели спас — кабанятины дал, чаю-соли привез, даже хомы, водки китайской неочищенной, целую бутылку, — а наоборот, Скобельцын его вызволил из беды неминучей. И побратим с поклоном отблагодарил его собачкой. Никанор, чистая душа, аж прослезился.
Сколько они прошли, Григорий не знал, больше часа бежали петлявшей по тайге от чистины к чистине лыжней, как вдруг собаки остановились, зарычали и попятились. Остановились и охотники, вглядываясь в неглубокую упадину между пихтами, в которую нырнули лыжня и медвежий след. Солнце уже перевалило зенит, а в упадине под разлапистыми деревьями было сумеречно. Но в конце ее явно просматривалось большое, очень темное и неподвижное пятно.
— Ходун? — шепотом спросил Скобельцын побратима.
— Ходун, — кивнул Никанор.
— Мертвый?
Никанор пожал плечами.
Еще постояли, всматриваясь и вслушиваясь. Собаки жались к ногам. Пятно не двигалось.
И тут до их ушей долетел стон. Слабый, но, без сомнения, человеческий.
Охотники переглянулись и осторожно двинулись в упадину. Их опередили собаки, которые стон тоже услышали и, видать, сами решили, что стонавшему человеку нужна помощь. Они залаяли звонко, весело, словно сообщая раненому, что помощь пришла и теперь все будет хорошо.
Пятно оказалось распластанной на снегу тушей большого медведя, из-за мохнатого плеча которого виднелось чернобородое окровавленное лицо. Рядом валялись лыжи и ружье, а поодаль — лисий малахай.
К удивлению охотников, победитель шатуна оправился очень быстро. Он, собственно, и не был серьезно ранен, если не считать глубокой рваницы на голове: ударом лапы зверь едва не снял скальп, но в последнее мгновение человек успел отклониться, и лишь два когтя наискось через весь лоб вспороли кожу до кости. Узкая длинная полоска ее свисала с правой брови, прикрывая глаз. Кровь на лице успела подсохнуть, и вид человека был устрашающим. Тяжело дыша, он сидел возле перевернутой на спину медвежьей туши, прикладывал к царапине снег и болезненно морщился.
Молчал.
Молчали и охотники, занявшись медведем: осматривали, пригодна ли к хозяйству шкура, стоит ли ее снимать. Ползимы прошло, медведь и в берлоге-то отощал, а тут еще пошатался без пищи и совсем запаршивел, шкура местами облысела, шерсть висела клочьями.
Лайки покрутились возле туши, успокоились и легли на снег.
— Матерый был зверюга, — покачал головой Скобельцын и обернулся к раненому. — Чем ты его увалил-то? Чтой-то я и раны не вижу. Кровишши натекло — аж до земли протаяло, а раны не видать. Шилом, что ль, тыкнул — так это ж какое шило требуется?
Человек заозирался:
— В снегу нужно поискать, — сказал хрипло. — Штык должен быть. — И добавил наконец-то: — Спасибо, мужики! Если б не вы, замерз бы к хренам собачьим.
— Богу скажи спасибо, — отозвался Скобельцын. — Не надоумил бы нас с Никанором пойти охотничать, не привел бы к твоему следу…
Человек поднял лицо к небу, что-то прошептал и перекрестился. Да, видно, попал пальцами в рану, невольно охнул, подобрал висевший лоскут кожи и попытался приложить ко лбу. Не вышло.
— Перевязать надобно, — сказал Скобельцын и обратился к Никанору по-орочонски: — У тебя живичка есть, брат? — А сам сбросил на снег заплечный мешок и, достав из него кусок холстины, оторвал узкую полосу.
Никанор бросил заниматься медведем, сожалеюще махнул на него рукой и только тогда ответил побратиму:
— Как не быть? Живичка у всякого орочона есть. Не будет живички — чем раны лечить?
Он выудил из-за пазухи кожаный мешочек, развязал туго затянутую горловину и выдавил густую мазь на подставленную холстину. Григорий растер мазь по ткани и, тщательно приложив на место оторванный со лба кусок кожи, принялся за перевязку. Между делом спросил:
— Как тебя как кличут-то, меченый?
— Герасим Устюжанин. А можно и так — Меченый. Это, видать, теперича на всю жизнь.
— И то! А я вот — Григорий Скобельцын, казак пограничный. А это побратим мой — Никанор.
— Никанор? Имя — русское, а что говорил — непонятно. Это по-каковски?
— А тебе не все ль едино? — Григорий закончил перевязку, осмотрел, все ли ладно — остался доволен. И Герасиму все-таки ответил: — Орочон он, народец такой тут имеется — орочи. На Амуре ведь что ни речка, то свой народ.
Устюжанин потрогал повязку, кивнул благодарственно:
— Спасибо, Григорий. — И вроде бы удивился: — А мы что ль на Амуре?
— Нет. Но Амур — недалече. Верст тридцать с гаком. Так, говоришь, штыком ходуна завалил? Навроде не солдат — откуль штык-то взял?
— Можно сказать, нашел, — помрачнел Устюжанин. — На Аргуни, где-то пониже Цурухайтуя, на зимовье наткнулся. А в нем — скелет. Видать, солдат беглый. Ружье там было солдатское, со сломанным замком и штыком. Ну, ружье у меня свое, а штык взял, почистил, к своему приспособил. И вот — пригодился.
Пока шла перевязка, пока русские разговаривали, Никанор утоптал площадку, набрал неподалеку сушняку и запалил костерок. Остро заточенным топориком — тоже подарок Григория — отрубил у медведя заднюю лапу, ловко ободрал, ножом срезал куски мяса. Что-то бросил в походный котелок, что-то — собакам. Мясо в котелке засыпал доверху снегом и поставил на огонь.
— Надо штык поискать, — сказал Герасим. — Он еще пригодится.
— А ты куда путь держишь? — поинтересовался Скобельцын. — Сам, случаем, не беглый?
— Пограничная жилка взыграла? — усмехнулся Герасим. — Я вольный охотник, на подряде у Гаврилы Машарова. Слыхал про такого купца-золотопромышленника?
— Слыхать слыхал, а видеть «таежного Наполеона» не доводилось. А тебя-то сюдой каким хивузом[32] занесло? Хватить мурцовки[33] захотелось?
— Про мурцовку не скажу, потому как не знаю, — покачал головой Устюжанин. — А на Амур послал меня хозяин. Прознал, что вот-вот генерал-губернатор начнет сплавляться, и отправил как бы прежде генерала разведать, много ли тут зверя пушного да мясного, да с кем торговать можно. Видать, решает для себя, стоит ли деньги на сплав давать, не убыток ли будет.
— И бумага на то есть?
— А как же, — ухмыльнулся Герасим. — Все, что надо, имеется. Показать?
— Утресь поглядим, — махнул рукой Скобельцын. — Уже темняется, все ухряпались. Никанор, — обратился он к орочону, — солнце заходит. Как — заночуем?
— Заночуем, однако, — отозвался побратим. — Мало-мало мясца поедим и заночуем.
Они соорудили над кострищем юрту — островерхий шалаш, обложенный пихтовыми лапами, для сохранности тепла едва ли не до половины высоты присыпанный снегом; сами устроились на лапнике вокруг костра, в котором стояли два обрубка сухостоя; осенью древесина напиталась влагой и потому не горела, а медленно тлела, дыша ровным теплом. Дыма было немного, да и тот силой тяги уносился вверх.
— Герасим, — подал голос Скобельцын, — ты бы все ж-таки сказал, как ходуна увалил. Авось пригодится.
— А чего сказывать? — отозвался Устюжанин. — Твоя правда — Бог помог. Кабы не снег глубокий, шатун бы меня раньше нагнал, и вряд ли я бы против него устоял. А тут иду, слышу — позади будто зверь ревнул… Оглянулся, а он в яму провалился и, видать, от неожиданности взревел. Гляжу — выбирается, в снегу барахтается. Ну, я лыжи скинул — на них ведь не повертишься, — штык к ружью приладил…
— Так вот взял и приладил? — не поверил казак.
— Да нет, — досадливо возразил Герасим. — Я ж сказал: штык приспособил сразу, как нашел, а потом снял, чтоб за ветки не цеплялся.
— Ну-ну, а дале чё?
— А дальше — что? Выбрался он. Идет, тяжелый, проваливается, рычит, глаза бешеные…
— Ты-то спужался?
— Наверно… Но как-то не мыслил о том. Думал, как бы его на дыбки поднять, чтобы грудина открылась…
— Шапку бы вверх кинул, он бы и встал.
— Кинул… а он не встал. Даже головы не повернул.
— Вот те на! — удивился Скобельцын. — И как же ты?
— Он пасть разинул — и на меня! Ну, я в пасть и ударил… Вот тогда он встал и лапой махнул. Ружье вышиб, а штык застрял… И тут я растерялся. Он стоит, ревет, обеими лапами штык выдирает, кровь из пасти хлещет, а я перед ним стою, не знаю что делать…
Устюжанин замолчал, видать, сызнова переживая случившееся, весь тот страх и ужас, которых просто не могло не быть, думал Скобельцын, когда на тебя накатывает мохнатая гора с раззявленной зубастой пастью, которой ничего не стоит откусить человечью голову. Он всей душой сочувствовал этому смелому человеку, восхищался его мужеством, думал, что на его месте и сам вел бы себя, наверное, точно так же, и оттого проникался к нему заведомым дружелюбием. И не смущало его то, что человека в одиночку понесло в неведомые края: купцы, конечно, за ради будущих прибылей запросто пошлют незнамо куда, но согласиться пойти мог лишь либо отчаянный, либо очень уж отважный человек. Устюжанин мог быть и тем, и другим, и обоим вместе взятым.
— А ты бы тычмя[34] к ему прильнул да ножом в сердце, — сказал Григорий и тут же устыдился: тоже себе, взялся учить человека, как со смертью обниматься.
— Да забыл я про нож! — в сердцах воскликнул Герасим, и тут же заворочался Никанор, подняли головы пристроившиеся возле него собаки.
— Ладно, ладно, спим, — поспешил успокоить всех Григорий. И действительно вскоре задышал ровно, с легким посапыванием.
Только Вогул, а теперь Герасим Устюжанин, долго лежал и думал, за каким, на самом-то деле, дьяволом его сорвало с обжитого места и понесло, как хивузом поземку, без путей-дорог, в даль нехоженую и незнаемую. Ведь сам себе решил дождаться сплава, пристроиться к нему, а там, у океана, уже и сообразовываться с открывшимися возможностями — так нет, не усидел с плотовщиками, поднял сам себя за шкирку и отправил в никуда. Сколь прошел с удачей под ручку и вот нарвался — по-первости на медведя, теперь на казака пограничного. И ведь не сбежишь — помял-таки шатун ребра, что-то, видать, и сломал — боль завязла в груди, дышать трудно, отлежаться бы надо.
И лоб зудится, сил нет, а почесать нельзя.
Впрочем, нечего горе горевать, пока черти в кулачки не бьют[35]. Qui vivra, verra[36].
2
— Попроси, Васятка, Боженьку, чтобы маме на том свете было хорошо. Крестись, малыш, крестись, — говорил сыну Иван Васильевич, стоя у засыпанной снегом могилы Элизы. Они каждое воскресенье приходили на Иерусалимское кладбище. Крестился сам на каменную пирамидку с католическим крестиком наверху и краем глаза следил, как маленькая ручонка, освобожденная от вязаной варежки, передвигается со лба на живот и с правого плечика на левое.
Васятка даже сопел от усердия и все махал, махал неумело сложенным крохотным троеперстием, вызывая улыбку отца.
— Ну, хватит, сынок. Боженька тебя уже услышал, и мама увидела, как ты ее любишь.
Иван Васильевич усадил сына в санки и повез его к Иерусалимской церкви, от которой вниз по склону на Подгорную улицу целыми днями каталась иркутская ребятня. Кто на санках, кто на ледянках — это плетенная из тальника неглубокая корзина, снизу для хорошего скольжения покрытая нарощенным льдом, — а кто на лыжах. Несколько пацанов притащили розвальни без оглобель; дружной ватагой их затаскивали наверх, разворачивали, и, запрыгнув или завалившись в сани как попало, орущая от восторга куча-мала катила аж до Матрешинской улицы.
Вагранов пустил санки с сыном вниз, вслед за розвальнями, а сам сбежал, скользя сапогами по укатанному снегу. Почти в самом низу, уже на Подгорной, не устоял, ноги потеряли опору, и штабс-капитан остаток склона съехал на спине, попав сапогами в санки сына, к неописуемому веселью ребятишек.
А Васятка вдруг заплакал.
— Ты чего, сынок? — подскочил к нему отец.
— Да-а, все над тобой смею-у-утся-а-а, — в голос зарыдал малыш.
Иван Васильевич присел перед ним на корточки, начал утирать крупные слезы, катившиеся из больших серых глаз:
— Не надо плакать, сын, ты же мужчина, а мужчины не плачут. А смеются — потому что я смешно упал. Такой большой, а упал совсем как маленький.
— Маленький, как я? — И слез у мальчугана как не бывало.
— Да ты-то у меня уже большой. А я упал как маленький-маленький.
Васятка, видимо, представил, какой папа маленький, и звонко засмеялся.
— Ну, вот и славно, — облегченно вздохнул Иван Васильевич. Перед слезами женщин и детей он совершенно терялся, и Элиза иногда этим пользовалась, особенно последнее время перед гибелью.
Вспомнив об этом, Иван Васильевич помрачнел, усадил малыша снова в санки и повез его по Подгорной в сторону Успенской церкви: вздумалось ему проведать семейство Черныхов, которые жили на Ямской, неподалеку от казармы городовых казаков. Давненько у них не бывал, да вот повод нашелся — узнать, нет ли весточки какой от Аникея, который уже месяц как отправился под начатом подполковника Корсакова в Петербург с тремя казаками — сопровождать на обратном пути из столицы в Иркутск генерал-губернатора с супругой. Но в глубине сердца пряталось еще одно желание — хоть ненароком встретить Настену Путинцеву, вдову невенчаную Семена Черныха. Вот и видел-то ее всего два раза — зимой на поминках по Семену да весной на похоронах его останков, — а зацепила она чем-то его сердце, уже тогда израненное видом каждодневно рушащейся его некогда счастливой жизни с Элизой. Аникей как-то обмолвился, что родила Настена им на радость внука — назвали, конечно же, Семеном, — и Вагранов небезосновательно надеялся увидеть ее с ребенком в доме деда и бабушки.
Зачем — вот вопрос, на который он ответить не мог.
Он все время чувствовал свою вину в смерти Семена. Хотя, казалось бы, предусмотреть двойного агента в Маймачине было невозможно, однако какие-то сомнения в душе зашевелились, а Иван повел себя слишком легкомысленно. Он и тогда, в ту злополучную ночь, ругал свое контрразведывательное самомнение, но, уж после того как излечился от раны, и того пуще. Постоянным укором стоял перед глазами вид Аникея, упавшего на колени перед Настеной: «Ну, спасибо те, Настюня, доченька родная!» И — лбом об пол. И — еще!
Так, может, ему просто хочется загладить свою вину перед Черныхами, перед Настеной и ее сыном? Все они лишились самого важного в жизни: Черныхи — сына, Настена — жениха, маленький Семка — отца, — и никто ни единым словом не виноватит штабс-капитана Вагранова.
Иван Васильевич вспомнил, как попытался заговорить с Аникеем на эту тему. Вахмистр, годами равный, а званием много ниже штабс-капитана, неожиданно резко оборвал его, заявив, что Семен был казаком, а значит — воином, и погиб как воин, при исполнении долга; и даже оскорбительно думать, что его смерть явилась результатом будто бы глупости командира. Оба они знали, что идут не на прогулку, вот и сам штабс-капитан чудом остался жив, так что незачем считаться.
Вагранов тогда устыдился, но тем не менее совесть его оставалась неспокойной. А после нежданной и непонятной гибели Элизы он вообще находился в раздрызганном состоянии. Каким-то непонятным глубинным чутьем Иван Васильевич улавливал, что между этими далекими друг от друга событиями есть связующие ниточки, но ухватить их и вытащить на поверхность не мог, как ни старался. С большой натяжкой он предполагал, что загадочный Герасим Устюжанин, чей картуз нашелся в прибрежных кустах, а сам он бесследно пропал с постоялого двора, мог бы пролить свет на темные стороны произошедшего, но кто знает, жив ли этот Герасим.
И еще одно обстоятельство не давало покоя контрразведчику Вагранову: разбирая вещи Элизы, которые она готовила к отъезду из России, он обнаружил бумаги на французском языке с рисунками-копиями карт Нижнего Приамурья, Татарского пролива и берегов Сахалина — он был хорошо знаком с секретными отчетами капитана Невельского о работе Амурской экспедиции и ничуть не сомневался, с каких оригиналов снимались эти копии. Однозначно получалось, что под боком у генерал-губернатора четыре года орудовала французская разведка, из чего сразу же вырастали непростые, по сути, вопросы.
Во-первых, сообщать ли генералу об этом ужасающем открытии? О потрясении, которое обрушится на Николая Николаевича, с удовольствием покровительствовавшего иностранной артистке, об уязвлении его болезненного самолюбия не хотелось даже думать. Как и о том, чем эта история обернется для самого Ивана Васильевича, не разглядевшего шпионку в своей постели. Вывод напрашивался один — промолчать, тем более что человека больше нет, бумаги никуда не ушли, и проблема, можно сказать, закрыта.
Но — закрыта ли на самом деле? Потому как сразу же возникает вторая: какую роль играла — а может, и продолжает играть — Екатерина Николаевна, дочь наполеоновского офицера и ближайшая подруга шпионки? Принимая участие в подготовке отчетов, не сообщала ли она своей наперснице нужные ориентиры поиска документов, а то и помогала в их копировании? Если это окажется правдой, такого удара генерал точно не выдержит — застрелится. Вагранов похолодел от одной мысли о подобном исходе: Николая Николаевича он боготворил и готов был в любой момент за него жизнь отдать. Так что вывод отсюда следовал один — оградить генерала даже от тени подозрения. А для этого незаметно последить за Екатериной Николаевной. Конечно, весьма сомнительно, чтобы она сама продолжила заниматься шпионажем, но, как говорится, береженого Бог бережет. Ну, а если за ней все «чисто», тогда, может быть, стоит показать ей бумаги Элизы.
А может, и не стоит.
За такими довольно-таки невеселыми размышлениями Вагранов не заметил, как дошел до усадьбы Черныхов. Благо Васятка помалкивал: малыш подобрал на дороге прутик и, свесившись набок через бортик саночного кузовка, чертил им по пути на снегу замысловатые загогулины. «Эх, сынок, сынок, — оглянувшись на него, подумал Вагранов, — вот вырастешь ты, спросишь, кто твоя мамка, — и что же я тогда отвечу?» Он вздохнул, подтянул санки поближе и, наклонившись, потрепал сына по головке — тот поднял удивленные глаза и радостно заулыбался навстречу отцовской ласке и потянулся, чтобы его взяли «на ручки». Иван Васильевич, конечно же, не удержался, выдернул его из кузовка, прижал к груди и неожиданно почувствовал, как защипало в носу и глазах, и все окружающее расплылось и задрожало, и огромный снежно-солнечный мир — с его изукрашенными резьбой домами, голыми деревьями, белой колокольней ближайшей церкви, ослепительно-синим небом, людьми, лошадьми и собаками на улице — весь, целиком, сжался и уместился в двух каплях, набухших до невероятной величины и сорвавшихся под своей невыносимой тяжестью на кожу Васяткиной шубейки, а с нее — в снег.
Иван Васильевич всхлипнул от неизбывной тоски.
— Папанька, ты плачешь? — Васятка, отстранившись, кулачками в вязаных варежках принялся вытирать отцовские щеки. — Тебе маму жалко?
— Жалко, сынок, жалко. Остались мы с тобой одни. Но — что делать! — ее Боженька забрал. Будем жить без нее.
— Что, плохо, маленький, без мамки? — услышал Вагранов за спиной мягкий женский голос.
Он резко обернулся и поскользнулся на утоптанном снегу. Удержала от падения женская, неожиданно крепкая рука, и он увидел — сначала большие глаза, серьезно и внимательно глядящие из-под «козырька» неплотно повязанного пухового платка, а уже потом — все розовощекое круглое лицо с темными бровями вразлет, яркими чуть припухлыми губами и нежным подбородком, помеченным небольшой коричневой родинкой, придававшей Настене — а это была она — особую прелесть. Овчинная белая шубейка ладно сидела на ее стройной фигуре, и к этой шубейке очень хорошо подходили белые пимики.
— Здравствуйте, Анастасия Макаровна, — через Васяткино плечо неуклюже поклонился Вагранов.
Ему показалось, что Настена ничуть не удивилась его обращению, хотя до этого им не доводилось встречаться лицом к лицу, но, конечно, от Аникея могла знать о Семеновом командире (горе-командире!) и видеть его на похоронах.
— Доброго вам здоровья, Иван Васильевич! — так же мягко, как и Васятке, сказала она.
Мальчуган развернулся на руках отца и уставился на незнакомку. Создалась неловкая пауза.
— Вы к Анне Матвеевне? — нарушила молчание Настена.
Вагранов кивнул.
— Тетя красивая, — вдруг сказал Васятка. — Папаня, пусть она будет нашей мамой?
Настена покраснела так стремительно, словно лицо ее вдруг обдало нестерпимым жаром. В серых глазах заметалось что-то непонятное, жалобно-паническое. Она прикрылась уголком платка, попятилась, спиной открыла калитку черныхова двора и убежала в избу.
— Ну, вот, — расстроился Иван Васильевич. — Смутили хорошего человека. И что теперь прикажете делать? А, Василий Иванович? Как в дом заходить?
— Ногами, — сказал Василий Иванович и соскользнул с рук отца. Ему нравилось ходить в гости. Он уже бывал у Волконских, у Трубецких, у Штубендорфа — везде его привечали, угощали разными вкусностями, везде он был в центре внимания.
Вот и сейчас он важно и решительно направился по расчищенной в сугробах дорожке, по которой убежала «красивая тетя». Отец нехотя пошел за ним.
Однако желанию Васятки чем-нибудь полакомиться в гостях сегодня не довелось сбыться.
Едва Вагранов приблизился к черныховой избе — крепкому пятистеннику, высокое крыльцо которого было под единой крышей с летней кухней, как с этого крыльца скатился колобком мужик в красной рубахе; надевая на ходу черный полушубок, он кинулся к проходу на зады усадьбы, где располагались стайки для домашней живности — коровы, лошадей, коз и свиней — и огороды.
У Вагранова сработал инстинкт охотника: убегает — значит, боится и боится встречи с ним, Ваграновым. И он, не раздумывая, рванулся в погоню.
Мужику не повезло: проход на зады был перекрыт слегами. Он попытался сходу перепрыгнуть слеги, да зацепился ногой и рухнул вниз головой на дощатый настил. И, кажется, что-то себе сломал. Вагранов увидел, как задергались конвульсивно ноги, неестественно вывернулась рука, и все кончилось.
Когда Иван Васильевич отодвинул слеги и склонился над мужиком, тот уже не дышал. Вгляделся в бородатое лицо и понял, кто и почему кинулся от огня и попал в полымя. Ферапонт! Управляющий занадворовским прииском. Тем самым, который непонятным образом исчез, и о котором хотел штабс-капитан задать управляющему прямой вопрос. Но вот так получилось, что ушел Ферапонт от ответа, хотя и не в ту сторону, куда ему хотелось.
— Папка, а чего это дядя лежит? — поинтересовался подошедший Васятка.
Вагранов поднял голову и огляделся. С крыльца, осторожно ступая, спускалась Анна Матвеевна в накинутой на голову шали, за ее спиной из дверей выглядывала Настена с ребенком на руках. Лицо ее было испуганным.
— Па-апка-а, — дернул Васятка отца за рукав шинели, — ну чего он лежит и не шевелится?
— Отдыхает, — деревянным голосом откликнулся отец и обратился к подошедшей хозяйке: — Вызывайте полицию, Анна Матвеевна. Видать, Ферапонт шею себе сломал.
А сам подумал: «Вот и сходили в гости, вот и повидался с Настеной».
3
В Тулуне на постоялом дворе Михаил Сергеевич Волконский ожидал известий о движении переселенцев, несущих с собой холеру, и нервно метался по своему номеру. Ждать, как известно, — дело неблагодарное, изматывающее, и он не находил себе места. Его спутники, врач Иван Сергеевич Персин, кстати, давний знакомец Волконских и Трубецких, и чиновник особых поручений Александр Илларионович Бибиков, на время командировки назначенные помощниками Михаила Сергеевича, проводили время за безобидной карточной игрой в подкидного «дурака». Они были старше своего временного начальника — Бибиков на шесть лет, а Персин — вообще на целых двадцать восемь, — отлично понимали, сколь сложное задание выпало на их долю, а главное — на долю их юного руководителя, поэтому не суетились, не ревновали друг друга, а спокойно ждали развития событий.
Разумеется, опыта борьбы со страшной болезнью у чиновников не было, а вот Иван Сергеевич, заканчивая в свое время Императорскую медико-хирургическую академию, поучаствовал в схватке с третьей волной всемирной эпидемии холеры, обрушившейся на Петербург. По дороге в Тулун он рассказал Волконскому и Бибикову, что такое эта «собачья смерть», как ее прозвали в народе.
— Начинается она с жуткой «медвежьей болезни», то есть, пардон, с поноса — до тридцати раз в день. Представляете? Нет, судари мои, вы и представить этого не можете, когда из человека через анус буквально высасывается вся какая ни на есть жидкость. Потом появляется рвота, выворачивающая больного наизнанку. Обезвоживание приводит к судорогам, снижению температуры тела, кожа как бы ссыхается, морщится, из-за сухости во рту теряется голос, скулы и нос заостряются, глаза западают, смотрят гипнотически, как у сфинкса…
— Да-а, такого встретишь ночью — насмерть перепугаешься, — легкомысленно, как бы не всерьез, заметил Бибиков.
— Не встретишь, сударь мой, не встретишь, — мрачно ответствовал Иван Сергеевич. Обычно веселый и живой, и потому всегда казавшийся моложе своих лет, сейчас он выглядел настоящим стариком.
— Почему, Иван Сергеич? — осторожно спросил Волконский, понимая, что доктор глубоко погружается в воспоминания далекой юности, и они ранят его душу не только общей картиной гибели множества людей, но и какой-то личной драмой или трагедией.
— Потому что весь Петербург, сударь мой, был поделен на карантинные зоны, каждого выявленного больного немедленно отделяли от здоровых и помещали в лазарет. Дороги из столицы были перекрыты, всех проезжающих в любую сторону держали на двухнедельном карантине — их самих, вещи, экипажи обкуривали серным дымом. За всем следили министр внутренних дел граф Закревский и профессор университета Мудров. Но почему держали две недели, почему использовали именно серный дым — никто не понимал, поскольку никто не знал, что именно вызывает болезнь. Больше всего грешили на нечистую воду, рекомендовали ее кипятить, и это иногда помогало. А еще обтирались водкой, уксусом, белильной известью, принимали и внутрь — ту же водку, опийную настойку…
Чиновники слушали внимательно, ибо им скоро предстояло пережить то же самое, что двадцать три года назад пережил старый доктор. Холера появилась среди переселенцев, которых усиленно зазывали на новые земли — в Забайкалье, на Амур. Может, из-за плохой воды, может, по какой другой причине, но люди начали умирать. Перепугавшиеся жители сибирских деревень, сел и городов, которые отродясь не знали о такой хворобе, не пускали переселенцев ни на кладбища, чтобы похоронить умерших, ни на дороги через свои поселения — только в объезд. И несчастные безместные люди, не желая предавать земле своих близких без церковного отпевания, везли усопших в телегах, продолжая заражать себя и других.
— Иван Сергеич, а много умирает из тех, кто заболел? — уже без прежней бесшабашности спросил Бибиков.
— Много, — вздохнул Персин. — В Петербурге тогда в считаные дни померли больше десяти тысяч. В основном простолюдины, но были и аристократы, и врач и, которых призвали бороться с холерой, и студенты-медики. Заразился и умер профессор Мудров, многие теряли своих родных и близких.
— У вас тоже кто-то умер? — догадался Волконский.
Персин кивнул, глаза его повлажнели.
— Полинька, невеста моя… Как на костре сгорела…
Помолчали, отдавая дань скорби по безвременно ушедшим. Потом Михаил Сергеевич сказал, словно оправдываясь:
— Карл Карлович нас так спешно отправил — без подготовки, без плана действий, без снаряжения…
— Приказ генерал-губернатора — остановить переселенцев, — пояснил Бибиков, который был ближе к Венцелю, — а вы же знаете: Карл Карлович в доску расшибется, чтобы в точности выполнить указание Муравьева.
— Да у него ничего, кроме усердия, и нет, — грустно усмехнулся Персин. — Как, думаю, и у других губернаторов, которые не смогли остановить переселенцев.
— А что, по-вашему, нам потребуется? Водка, спирт, известь?
— Первым делом, Михал Сергеич, надо найти место, где устроить карантин. Желательно недалеко от какого-нибудь села, чтобы со всеми предосторожностями отпеть и похоронить усопших, а после этого заняться остальными.
— Остальными… это — обтирать водкой, окуривать серой?
— У меня есть еще порошки каломеля для приема внутрь, но их мало, хотя я собрал все, что было.
— У нас и водки нет…
— Ну, самогон-то, я полагаю, в деревне найдется. Денег вам сколько-нибудь выделили? Вот на все и надо закупить самогону. Этим может заняться Александр Илларионович. А вам, Михал Сергеич, как человеку, облеченному властью, надлежит вести переговоры — с населением, со священниками, с самими переселенцами. Им же в карантине надо будет как-то жить, чем-то питаться, пока холера не утихнет.
— Что бы мы без вас делали! — с чувством сказал Волконский. — А так есть надежда, что справимся.
— Надо справиться, Михал Сергеич! Надо остановить эту заразу, иначе муравьевская мечта — Амур освоить, — Иван Сергеевич усмехнулся, — так и останется мечтой. Вы уж простите мою невольную патетику, судари мои, но земля только тем служит, кто на ней работает, а без переселенцев на ней работать будет некому. Потому и ждет генерал-губернатор этих переселенцев, аки спасителей Отечества.
— В этом последнем вы, конечно, правы, — тон Волконского заметно похолодел, — но я не понимаю, что смешного в мечте генерал-губернатора.
— Ай, да не обращайте внимания, сударь мой. Это так, стариковская небрежность…
Но Иван Сергеевич лукавил. Он действительно не верил в реальность генеральской мечты и несколько раз высказался о ней с такой же усмешкой в приватных разговорах. Доброжелателей у нас, как известно, всегда в избытке, и это немедленно стало известно Муравьеву. Все знали, что в гневе генерал-губернатор бывает яростен и нередко несправедлив, и доктор ожидал самых суровых последствий своего свободомыслия, однако, как ни странно, ничего подобного не случилось. И лишь немного позже от своего доброго знакомого, почти приятеля, иркутского земского исправника Ефимова, он узнал подробности своего чудесного спасения.
Случилось это как раз в день назначения Ивана Владимировича, бывшего до того управляющим казенного Александровского винокуренного завода, исправником Иркутского округа. Следует сказать, что карьера Ефимова, сравнительно молодого человека, при Муравьеве двинулась весьма успешно. Они встретились в Усть-Илге, когда Муравьев с супругой и свитой спускался на павозках по Лене, совершая свое путешествие в Камчатку. Ефимов, двадцативосьмилетний чиновник, был в то время управляющим небольшим Илгинским винокуренным заводиком, в самой глуши Иркутской губернии. Но молодому генерал-губернатору так понравилась постановка дела на этом заводе, что, возвратившись из Камчатки, он вспомнил о дельном человеке и тут же назначил его управляющим Александровским заводом, который был много больше Илгинского и находился всего в 70 верстах от Иркутска. Выказывая Ивану Владимировичу исключительное доверие, Муравьев лично поручил ему провести закупки зерна для завода, причем устно разрешил платить сверх назначенной цены больше на две копейки за пуд. Дела на Александровском заводе пошли значительно лучше прежнего, и через два года генерал-губернатор предложил успешному администратору пост земского исправника. Ефимов отказывался, но Николай Николаевич при каждой встрече возвращался к своему предложению и наконец уговорил. И вот, после получения согласия Ивана Владимировича, генерал неожиданно спросил, давно ли он знаком с Персиным, и, узнав, что уже больше семи лет, посоветовал прекратить это знакомство. Не объясняя причин.
— Простите, ваше превосходительство, но я не могу исполнить ваше пожелание, — ответствовал Ефимов.
— Почему?
— А потому, что вы первый будете иметь право назвать меня подлецом, если мои знакомства с людьми я стану соображать с вашим к ним расположением или нерасположением, — волнуясь, но твердо сказал молодой чиновник.
Генерал-губернатор, склонив голову набок, испытующе посмотрел на него и перешел к другим служебным вопросам.
Это происшествие и считал Иван Сергеевич причиной, почему он избегнул, казалось бы, неотвратимого наказания.
Правда, этот случай не научил его осторожности в высказываниях и спустя некоторое время он уже сам обратится к Ефимову с просьбой умалить гнев генерала, вызванный опять-таки его небрежным поведением, но это случится много позже, через три года.
— Михал Сергеич, — постучал в дверь номера Бибиков, — загонщик из Нижнеудинска прибыл.
Загонщик, то бишь гонец, прискакал с письмом от исправника.
«…Часть переселенцев я остановил до Нижнеудинска, — писал Ефимов, — но большой обоз миновал его и через Хингуй и Худоеланское движется к Будагову… Только возле Кындызыка есть подходящее для карантина место — надо срочно договориться с жителями и священником Кындызыка поставить там временную часовню, чтобы отпеть и похоронить умерших. Тогда карантин будет иметь успех…»
Кындызык… Михаил Сергеевич мгновенно вспомнил сельцо с этим странным названием, старосту Ярофея и его жену Матрену, умевшую говорить стихами. Если Ярофей по-прежнему староста, они поладят. Откуда взялась у него эта уверенность, Волконский вряд ли бы смог внятно объяснить, но он приказал немедленно закладывать кибитку и, не теряя времени, мчаться в Кындызык. Сани с закупленными Бибиковым водкой и самогоном, залитыми в дубовые бочки, двинулись следом.
Во многих сибирских селах Московский тракт проходил немного в стороне, это облегчало задачу их защиты и усугубляло положение переселенцев: никто из местных жителей, напуганных «собачьей смертью», с ними просто не желал разговаривать — запирали въезды в поселения, навстречу подходившим и подъезжавшим выставляли вилы, медвежьи рогатины, а то и ружья, если таковые имелись, и никакие уговоры, никакие мольбы, никакие воззвания к милосердию и совести не оказывали действия на закаменевшие сердца. Были случаи, когда и поднимали на те вилы и рогатины остервенело рвавшихся к жилью людей — неважно, мужчин или женщин, стариков или детей. Жизнь родных и близких была дороже жизни чужаков. Власти, которые вначале попытались воздействовать строгостью на своих подопечных, столкнулись с их полным неподчинением, опасаясь бунтов, отступили и в меру сил и умений старались облегчить страдания переселенцев. Увы, очень мало было мест, где это удавалось.
Ярофей Харитонов — он так и оставался старостой — встретил губернских посланцев неприветливо. Все односельчане уже знали о напасти, приближающейся к их домам, к их семьям, и встали наизготовку: перекрыли жердями мост через речку Кындызык на въездной дороге, поставили сменных дежурных, а для оповещения о тревоге повесили на перекладине полупудовый колокол, одолженный по такому случаю батюшкой сельской церкви.
— Сход решил: не пущать! — сверкнул Ярофей черными глазами, недослушав Волконского, который начал говорить о способах борьбы с болезнью.
— Да нет, Ярофей, вы не поняли. Мы как раз хотим не впускать их в село, а остановить в поле перед речкой — карантин там устроить. Ну, то есть лагерь, где можно будет отделить здоровых от больных. У нас же и доктор есть, вот Иван Сергеевич Персин. Он двадцать лет назад боролся с холерой в Петербурге и, как видите, жив остался. И, наконец, надо похоронить мертвых, чтобы они не заражали живых!
— Ага, чтоб они церковь заразили! Не позволим!
— Церковь не понадобится…
— Энто как? Без отпевания, что ль, хоронить? Не по-божески, они ж хрестьяне. И не преступники, поди…
— Часовенку надо поставить. Как на войне, что-то вроде походной церкви. Мы же здесь тоже, как на войне, — только враг у нас невидимый, а людей косит похлеще артиллерии.
Ярофей задумался. Волконский заметил по его глазам, как что-то стронулось в его душе, и обрадовался и уверовал: все получится, как надо. Староста оглянулся на доктора, стоявшего у саней, в которых лежали бочки с водкой и самогоном. Персин разговаривал с Матреной Харитоновой, заигрывал с мальчонкой, примостившимся на ее руках. «Видимо, все-таки наградил их Господь ребенком — вон как светится лицо матери», — подумал Волконский.
— Ладно, — поразмыслив, сказал староста, — я переговорю с сельчанами. Поставим энтот карантин, но не впритеску[37] к Кындызыку, а подале. И часовню — там же. Отцу Илиодору пущай доктор расскажет, как беречься, кады он отпевать зачнет.
— Всё расскажем, — заверил обрадованный Волконский. — Мы же тут будем. Вместе со всеми. Нам ведь тоже умирать не хочется.
Глава 9
1
«Получив в Красноярске бумаги Невельского, хотя и давнишние, но заключающие любопытные подробности о занятии им Сахалина, я поспешаю представить оные Вашему Высочеству при моем рапорте и вместе с тем приемлю смелость ходатайствовать о награждении офицеров Амурской экспедиции согласно справедливой о том просьбе Невельского…»
Они находились с Екатериной Николаевной в том же кабинете, что и шесть лет назад, при первом путешествии из Петербурга к месту службы Николая Николаевича, и так же, как тогда, он диктовал ей письмо — только в тот раз это был первый доклад императору, а теперь уж неизвестно какое по счету послание главе морского ведомства — генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу. Даже время совпадало — те же последние дни февраля, и енисейский губернатор был все тот же — Василий Кириллович Падалка, и отношение к нему генерал-губернатора оставалось неизменным — уважительным и благожелательным.
Господи, сколько всего вместилось в эти шесть лет! Кому-нибудь другому хватило бы, наверное, на две, а то и три жизни. Столько произошло событий, можно сказать, на всем необозримом пространстве Европы и Азии, от Испании до Японии и от Китая до Камчатки — как по службе, так и в личной жизни, столько являлось и исчезало людей, столько было бескровных битв, а в них — и побед и поражений, что, казалось бы, начни Николай Николаевич все это записывать — получится, пожалуй, толстенная «амбарная» книга. И все это ради главного — выхода на великий Амур, без которого у России нет выхода на Великий океан, а без этого последнего она сама никогда не станет по-настоящему великой.
И вот сейчас до этого главного осталось всего ничего — какие-то несколько месяцев: пойдет лед на Шилке и Аргуни, и следом за ним двинется в поход плавучая армада. Казакевич уже построил сплавные средства — лодки, баржи, павозки, плашкоуты, плоты, заканчивает дело с пароходом; Корсаков подготовил к отправке 25 тысяч пудов нужных для Камчатки и Нижнего Амура грузов и снаряжения, занят отбором солдат и казаков (надобно не менее 700 человек и следует подсказать ему, как их распределять), купцы наконец-то поверили, что Амур вернется к России, и начат и наперебой предлагать свое участие как в самом сплаве, так и в налаживании торговли.
Да, кстати, купцы… Николай Николаевич оторвался от размышлений, во время которых Екатерина Николаевна терпеливо ждала продолжения диктовки, покусывая перо и глядя в окно на краснокаменный собор Он наклонился к ней, поцеловал в ровный пробор каштановых волос:
— Извини, дорогая, — и позвонил в бронзовый колокольчик.
Тут же распахнулась дверь и появился старший адъютант, майор Сеславин. Муравьеву нравилась его всегдашняя подтянутость, скрупулезная исполнительность, даже холодноватая сухость, и он чаще других брал майора в свои поездки. Вот и Корсаков, зная об этом, взял Сеславина в Петербург на встречу генерала из заграницы. Михаил Семенович, получив срочные указания по сплаву, умчался обратно в Иркутск, а Сеславин, естественно, остался главным порученцем при генерал-губернаторе.
— Александр Николаевич, — обратился к нему Муравьев, — я приглашал городского голову Кузнецова Петра Ивановича…
— Уже ждет, ваше превосходительство. Семнадцать минут.
— Ну, что же вы! Надо было сразу доложить.
— Виноват, ваше превосходительство, но вы сами приказали вас не беспокоить.
— Да?! — Муравьев оглянулся на жену, та кивнула, подтверждая слова майора. — Вот память стала дырявая!
— Мне уйти? — спросила Екатерина Николаевна, поднимаясь.
— Нет-нет, Катюша, останься. Мы с ним переговорим накоротке. А впрочем, ты подожди несколько минут, я к нему выйду сам. Александр Николаевич, проводите городского голову в малую гостиную.
Сеславин вышел.
— Неудобно, — сказала Екатерина Николаевна. — У тебя же деловой разговор?
— Разговор деловой, но чисто формальный. Петр Иванович подал мне свои предложения по делам купеческим. Он же не только голова губернского города, но и купец первой гильдии. Предложения весьма недурны, и я решил на первый раз ограничиться лишь его участием в сплаве. О том и хочу ему сказать. Остальные подождут! — В Николае Николаевиче вспыхнуло раздражение, и он начал распаляться. — Глядя на Занадворова да на Кивдинского, спиной ко мне поворачивались, а теперь все патриотами стали! Ишь, какие прыткие!
— А что Занадворов, что Кивдинский? Разве они тебе ровня? По-моему, дорогой, ты напрасно раздул их дела так, что о них всюду заговорили, а занадворовское дело докатилось до Сената. Остался бы выше этого!
— Я не допущу, чтобы дурно говорили о моих чиновниках! Занадворов оклеветал Молчанова. Я провел им очную ставку в присутствии свидетелей, и этот подлец не смог подтвердить факт получения Молчановым взятки. Поэтому его и посадили под арест. А главное: он был уверен, что его богатство переломит любой закон. Ты же знаешь: я так и написал государю, что если мы пойдем на поводу богатства, то никакой бедняк не сможет найти у нас защиты. И государь меня понял и приказал держать Занадворова под арестом до окончания суда. И давай оставим это, меня человек ждет.
Муравьев вышел, едва ли не выскочил, из кабинета, ощутимо хлопнув дверью. Прежде он себе такого не позволял, хотя Екатерине Николаевне доводилось высказываться по поводу неверных, на ее взгляд, решений генерал-губернатора. Устал Николя, а может, сердится на то, что за всю дорогу от Петербурга у них не было ни одной любовной встречи: Катрин нездоровилось именно по женской части; она почему-то стеснялась сказать об этом мужу и чувствовала себя перед ним виноватой, а он ничем не выказывал своего недовольства — был предупредителен и заботлив, как всегда. Но вот теперь… Надо поговорить, успокоить, решила она, объяснить, что заболеть может каждый, а женщины вообще очень чувствительны даже к перемене погоды. Но ведь все проходит. Как там написано на кольце Соломона? Кажется, «И это пройдет»? Мудрый был царь Соломон!
Впрочем, Николя мог бы и сам догадаться, что у нее не все ладно со здоровьем. Доктора с ними не было, но по прибытии в Красноярск она сразу же попросила любезного Василия Кирилыча пригласить к ней врача, а мужу сказала, что дорога слишком сильно ее утомила. Так уже случалось, и он отнесся к вызову доктора спокойно, ей даже показалось — равнодушно, что ее немного обидело, хотя она видела, что в первый же день ему принесли целый мешок писем и донесений, и мужу стало просто не до нее.
Когда Николя вернулся — а вернулся он довольно скоро: Катрин не успела даже продумать, как именно она скажет о своем недомогании, — он словно забыл о недавнем споре, едва не перешедшем в ссору: глаза его весело блестели, и весь вид говорил о довольстве жизнью. «Если сказать, что он недавно вылетел из кабинета, — подумала она, — то сейчас можно употребить слово «впорхнул»». Генерал-губернатор впорхнул в кабинет она даже засмеялась от удовольствия видеть его таким general volant.[38]
— Ты чего? — Он оглядел себя. — Что-то не так?
— Все так, милый. Просто я рада, что ты вернулся.
Катрин встала ему навстречу и обвила руками его крепкую шею.
Поцелуй получился долгим. Он вскружил ей голову, заставил громче и чаще стучать сердце, перехватил дыхание. И бог с ним, с недомоганием!..
Оторваться было невозможно. Захотелось махнуть на все рукой и прямо тут, в кабинете, на большом персидском ковре, предаться безудержной любви.
Похоже, та же мысль ворвалась и в голову генерала, потому что Катрин краем сознания уловила, что Николя вроде бы приноравливается, как аккуратнее уложить ее на этот самый ковер.
— Все-все-все! — Она с огромным трудом, но все-таки отъединила свои губы от его — мягких, притягивающих, поглощающих не только дыхание, но и всю ее целиком. — Все!!! До вечера! Тебе еще надо работать!
— Да пусть она катится колесом, эта работа, до самого Петербурга, — пробормотал он, зарываясь лицом в ее волосы. — Я так соскучился — сил нет!
— Вот и побереги их до вечера, — засмеялась Катрин. — Они тебе очень даже понадобятся.
— Ловлю на слове.
Он со вздохом отпустил ее и оправил помявшийся мундир. Катрин тоже привела в порядок платье и волосы и с видом примерной ученицы Девичьего института взялась за перо.
— На чем мы остановились?
— «…согласно справедливой о том просьбе Невельского», — перечитала Екатерина Николаевна. — Это о награждениях офицеров Амурской экспедиции.
— Да-да… — Николай Николаевич помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил: — «Весьма замечательно обращение Невельского с японскими властями и жителями Сахалина, а в особенности то, что и те и другие собираются покойно спать под защитою нашей батареи и команды. Все это доказывает доверие и уважение, приобретенные Амурской экспедициею, несмотря на всегдашние в том сомнения Министерства иностранных дел; оно не может поверить, что прямыми и добросовестными действиями, с надлежащею энергиею, можно было успевать больше, чем интригами; тогда как оно всеми своими хитростями и страхом англичан никогда ничего полезного для России не достигло, разве только нынешней войны, но и той без намерения…»
— Ты не слишком резко говоришь про министерство? — озаботилась Екатерина Николаевна. — Все-таки пишешь не Льву Алексеевичу, а сыну императора. Вдруг дойдет до государя?
Муравьев походил по кабинету, подумал и махнул рукой:
— Его высочество тоже не в большом восторге от ведомства Нессельроде и не скрывает этого. Он, как и я, расположен к американцам, а Нессельроде то и дело ссорит нас с ними, в угоду тем же англичанам. Да, кстати, генерал-адмирал писал, что командор Перри со своей эскадрою намеревается после Японии прибыть в Аян и к устью Амура и наставлял оказывать американцам всяческое содействие. Надо срочно кого-то отправить в Аян для встречи командора…
— Может быть, Мишу Волконского? Ты же читал в письме Венцеля, что он прекрасно справился с холерой у переселенцев, пусть теперь попробует себя в дипломатии. Язык он знает, хорошо образован. Вряд ли кто скажет что-то против. И старшим Волконским будет приятно.
— Да-да-да… Пожалуй, это достойно… Сейчас закончим письмо великому князю, и я не медля отпишу Карлу Карловичу. Надо, чтобы Миша, ну, и еще кто-нибудь, пусть сами решат, прибыли в Аян до первого июня. Потому что американцы могут там появиться сразу, как только порт очистится ото льда. Кстати, он может заодно обревизовать Якутско-Аянский тракт.
— Ты же согласился, что прав был Завалишин: старообрядцы не смогли его обустроить, — заметила Екатерина Николаевна.
— Прав-то он прав, да не совсем прав. Корсаков три года назад переселил туда сто два семейства старообрядцев. Казна помогла им обзавестись на новом месте хозяйством — лошадей дали, скота разного, семян для земледелия, инструмент для строительства. Они избы поставили, огороды завели, кое-где пашни засеяли, кто-то даже мосты небольшие навел, а по весне паводок все затопил, мосты снес и что получилось? Где природа не вмешалась, там порядок, а у остальных — полная разруха! Конечно, этого бы не случилось, если бы места для станций можно было выбирать произвольно — где удобней для хозяйства, но на трактах и у почтовой гоньбы свои правила — тут ничего не поделать.
— Так что же там сегодня? Тракт закрыт?
— Насколько известно, часть станций действует. Вот Волконский и проверит — что там и как, и даст свои предложения. Пускай голову поломает над государственным вопросом — его чиновничья жизнь только начинается, глядишь, и дойдет до степеней известных.
— Николя, ты просил меня напомнить про лист для китайского Трибунала. Что это за лист?
Муравьев засмеялся:
— Сенявин и Нессельроде со скрежетом зубовным написали в китайский Трибунал о том, что отныне генерал-губернатору Восточной Сибири непосредственно поручается вести переговоры о разграничении территорий. — И посерьезнел. — Так вот, надо, чтобы Венцель задержал этот лист до моего прибытия в Иркутск. Я хочу с этим листом отправить в Пекин своего доверенного человека. Понимаешь? Не почтой — как рядовое послание, — а с моим человеком — чтобы китайцы поняли, что будут иметь дело не с размазнями из министерства, а с настоящим защитником российских земель.
2
Николай Николаевич ходатайствовал перед генерал-адмиралом о награждении офицеров Амурской экспедиции за занятие острова Сахалин, а ведь Невельской вел себя отнюдь не так, как ему предписывали из Петербурга и сам Муравьев.
Капитан понимал, что столь самоуверенное поведение вряд ли понравится власть предержащим, но не мог и не хотел поступать иначе. Что им двигало — упрямство, природная независимость, вера в свое везение или в разум и благородство своего непосредственного начальника, то бишь Муравьева, — один Бог разумел, но можно предположить, что все складывалось понемногу, а в результате он поступал так, как поступал.
Он действовал, как всегда, сообразно сложившимся обстоятельствам, а вот обстоятельства эти не желали считаться с указаниями начальства.
Шестнадцатисильный пароходик, доставленный в Петровское, дабы удовлетворить многократные просьбы и даже требование начальника экспедиции, оказался совершенно непригоден для исполнения обязанностей, которые на него возлагали высокие чины из Главного правления Российско-Американской компании и сам генерал-губернатор. Хотя Невельской сразу дал ему название «Надежда», после первого же испытания парохода оно стало звучать злой насмешкой.
А испытание было самое простое: Геннадий Иванович вознамерился переправить на пароходе грузы, предназначенные для Николаевского, Мариинского и Александровского постов. Загрузив пароход и прицепленный к нему на буксире ботик (тот самый, что построил Дмитрий Иванович Орлов), 19 августа, при самых благоприятных на море условиях, вывели маленький караван из залива и получили огромное разочарование. Пароход моментально начало заливать, у него лопнули все дымогарные трубы, которые оказались проржавленными едва ли не насквозь, и это чудо техники превратилось в бесполезный хлам, практически не подлежащий ремонту.
А ведь Главное управление Компании предполагало, что этот совершенно неприспособленный для моря кораблик осенью проведет через лиман в Татарский пролив компанейский бриг «Константин» с десантом, возглавляемым майором Буссе. Это тот самый бриг, который начальник Аянского порта напрямую называл «ненадежным» для перевозки людей и грузов. Можно себе представить, каков был бы результат такой проводки.
В общем, экспедиция снова осталась при своих ничтожных транспортных средствах — орловском ботике, двух шлюпках и гиляцких лодках.
Вот тут и проявился талант организатора у нового заместителя начальника экспедиции, только что прибывшего в Петровское Александра Васильевича Бачманова. Он сумел, в отсутствие Невельского, который отправился на Сахалин с Буссе и десантом, так поставить дело, что все исполнилось наилучшим образом — Николаевский, Мариинский и Александровский посты были обеспечены на зиму всем необходимым. Геннадий Иванович не мог нарадоваться на такого помощника.
Радовался он и еще одному обстоятельству, во многом облегчившему ему жизнь: у его Катеньки появились сразу две подруги. Бачманов приехал с женой, очаровательной Елизаветой Осиповной; вместе с ними на том же корабле прибыло семейство священника Вениаминова — отец Гавриил, сын святителя Иннокентия, и Екатерина Ивановна, полная тезка Невельской.
Геннадий Иванович теперь мог уезжать в длительные командировки, не опасаясь за душевное состояние любимой супруги. Прибытие из Петропавловска десанта во главе с майором Буссе как раз и заставило его отправиться в такую командировку.
Двадцать шестого августа на рейде Петровского зимовья появился компанейский корабль «Николай», и шлюпка доставила Николая Васильевича Буссе на берег. Майор застал Невельского в самый разгар спора с лейтенантом Бошняком по поводу дальнейшего обследования материкового берега к югу от Императорской Гавани.
— Ну, как вы не понимаете, Геннадий Иванович, — горячо говорил Бошняк, — с этим нельзя не спешить. Говорят, американцы могут появиться в проливе уже этой осенью. А ну как займут какую-нибудь из необследованных бухт и поднимут там свой флаг? Чем мы докажем, что берег наш?
— Успокойтесь. Николай Константинович, — попыхивал Невельской трубочкой, подаренной матросом Чуфаровым, — я, конечно, гарантии дать не могу, но что-то мне подсказывает, что командор Перри не собирается претендовать на эти земли. Вот Алеутские острова им подходят куда больше…
Тут они заметили на пороге стоящего с весьма удивленным лицом майора, и спор прекратился.
— Ну, я попозже зайду, Геннадий Иванович, — заторопился лейтенант. — Думаю, мы еще не договорили.
— Заходите, заходите. Хотя, по-моему, все уже сказано.
Лейтенант кивнул гостю и бочком-бочком выбрался мимо него на кухню, а там и на улицу.
Майор головы не повернул ему вслед, а обратился к капитану первого ранга:
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Майор Буссе прибыл с десантом для Сахалина.
Невельской встал, протянул руку:
— Я о вас уже знаю. Здравствуйте, Николай Васильевич. Зовите меня просто — Геннадий Иванович.
— Слушаюсь, — щелкнул каблуками Буссе.
— И, пожалуйста, без чинодрайства. Рад приветствовать вас в нашей «столице». Садитесь, Николай Васильевич. Чем порадуете?
Майор осторожно опустился на стул напротив начальника экспедиции.
— Десант для Сахалина прибыл в полном составе, ваше… Геннадий Иванович. Девяносто человек нижних чинов. Вот ведомость грузов и продовольствия, выделенных губернатором Камчатки для их зимовки. — Буссе подал бумаги, и капитан стал их просматривать, продолжая слушать и вести разговор. — Поскольку, согласно данной мне инструкции, офицеров для десанта должно выделить из состава Амурской экспедиции, я в Петропавловске взял лишь одного — лейтенанта Рудановского.
— Как зовут лейтенанта? — воспользовался паузой Невельской.
— Н-не знаю, — удивился майор.
— Вот как! А почему он не явился представиться?
— Ждет на корабле ваших указаний по выгрузке.
— Выгрузке? Так, так… А потом?
— А потом я на «Николае» намерен вернуться в Аян и оттуда отбыть в Иркутск для личного доклада его превосходительству о выполнении задания.
— А что будет с десантом и грузом?
— Как — что? — удивился Буссе. — Ваши люди погрузят все на бриг «Константин» и отправят на Сахалин под командованием ваших офицеров. Там, согласно предписанию, в одной из бухт западного или восточного берега должен быть высажен десант и должны быть основаны еще два-три поста, не забираясь далеко на юг и не заходя в залив Анива… — Буссе заметил усмешку под усами капитана и забеспокоился: — Я что-то не то говорю, Геннадий Иванович?
Невельской пыхнул ароматным дымком, покачал головой:
— Говорите вы все по предписанию, Николай Васильевич, только где вы увидели бриг «Константин»?
— Не видел. Но… он еще, наверное, придет?
— Нет, не придет. Да если бы и пришел, толку от него было бы не больше, чем от пароходика «Надежда», который вы, должно быть, видели у причала. Он стар и весьма ненадежен. Это во-первых. Во-вторых, судя по ведомости, выделенного казенного довольствия далеко не достаточно для безопасной зимовки на Сахалине.
— А что не так? — напрягся майор.
— Мало инструмента для постройки жилья, нет запаса товаров для обмена на свежие продукты с аборигенами, очень мало водки, чая, сахара и табаку, необходимых для людей при первоначальном водворении. И, пожалуй, самое главное: нет медицинских средств от болезней, которые обязательно появятся на зимовке в новом месте. Мы, к сожалению, все это испытали на себе, потеряв несколько человек. И взрослых, и детей. — На последних словах лицо Невельского так омрачилось, что майор понял: капитан сказал о том, что очень ранило его сердце.
— Примите, Геннадий Иванович, мое сочувствие, — склонил он голову.
Невельской поперхнулся дымом, закашлялся до слез, махнул рукой:
— Ничего… ничего… благодарю…
Буссе терпеливо ждал.
— Харитония Михайловна! — откашлявшись, неожиданно крикнул капитан и представил майору полную женщину, которая не вошла, а подобно ладье, вплыла в комнату. — Супруга нашего офицера Орлова, а это — господин Буссе Николай Васильевич, командир сахалинского десанта. — Майор вздрогнул, но ничего не сказал, встав и поклонившись женщине. Та сделала неловкий реверанс. — Харитония Михайловна, не в службу, а в дружбу, заварите нам чаю. С лимонником, как вы умеете. А то моя Катенька ушла с Елизаветой Осиповной, я остался без хозяйки.
— Не беспокойтесь, Геннадий Иванович, все сделаю. — Орлова столь же плавно удалилась на кухню.
Майор проводил ее взглядом и повернулся к капитану:
— Геннадий Иванович, простите, я не понял: вы оговорились относительно командования десантом? Мне надлежит…
— Что вам надлежит — буду решать я, — перебил Невельской. В прежде добродушном голосе появились железные нотки. По крайней мере, так показалось майору, и он внутренне сжался в нехорошем предчувствии. — Вы прикомандированы к Сахалинской экспедиции, а она, до вступления в должность назначенного управителем острова капитан-лейтенанта Фуругельма, подчинена мне. Вы, Николай Васильевич, уверены, что свою миссию выполнили, а я вам показываю, что данное вам поручение надлежащим образом не исполнено.
Харитония Михайловна внесла поднос с исходящим паром чайником, чашками, колотым сахаром в стеклянной плошке и галетами, горкой лежащими на белой салфетке. Невельской поблагодарил, она вышла, а капитан жестом пригласил майора к угощению. Отложив трубочку, сам налил чаю, бросил в него кусок сахару и, размешивая напиток серебряной ложечкой, продолжил:
— В-третьих, в Петровском, как вы могли заметить, практически нет перевозочных средств, чтобы переправить десант с грузами на берег, а при появлении подходящего транспорта погрузка на него займет столько времени, что отправка людей поздней осенью в полную неизвестность чревата опасностью для их жизни. Вы пейте чай, Николай Васильевич. Чай с лимонником — вещь чрезвычайно полезная для здоровья. — Буссе налил, попробовал: язык слегка вяжет, но — вкусно. Прихлебывая горячий коричневый напиток мелкими глотками, слушал капитана, который говорил, словно вколачивал гвозди. — В-четвертых, у меня никогда не было и в настоящее время тоже нет свободных офицеров, все заняты весьма необходимыми обязанностями. Я постоянно прошу вышестоящие власти присылать пополнение, однако меня не слышат, а посылать девяносто человек с одним офицером с точки зрения безопасности людей, согласитесь, непозволительно. И, наконец, в-пятых: на берегах Сахалина нет удобной гавани для высадки людей и грузов и для стоянки судов. К тому же, ввиду близости осенних штормов, делать это надо быстро, а перевозочных средств на самом транспорте, конечно, не хватит. Единственное место, где можно найти эти средства, а также необходимую помощь, — это селение Тамари-Анива, но в этот залив предписано не заходить.
Допив свой чай, Геннадий Иванович снова взялся за трубку. Буссе не курил, дым его раздражал, но он терпел, считая, что не вправе показывать начальству свое неприятие. А Невельской или не замечал промелькивающее иногда на лице майора недовольство, или относил его к другим причинам. Скорее всего, к своим словам.
— И что же из всего сказанного исходит? Думаю, вы поняли, что буквально следовать предписаниям из Петербурга никак не получается. Если ждать бриг «Константин», а он, паче чаяния, может вообще не прийти, и это скорее всего, то десант надо оставлять на зимовку в Петровском, однако у нас нет для него помещений. Вон прибыли две маленькие семьи — моего заместителя Бачманова и священника Вениаминова — и то пришлось срочно отрывать людей от основных дел и строить для них жилье. А тут девяносто человек! С другой стороны, у меня, как и у вас, есть приказ в эту навигацию утвердиться на Сахалине, и это правильно — чтобы предупредить любые покушения иностранцев на берега Татарского пролива. Поэтому я вынужден действовать решительно, не стесняясь указаниями из Петербурга и Иркутска. Устраивать посты на восточном или западном побережье острова без занятия главного его пункта — а этот пункт Тамари-Анива! — вредно и не соответствует достоинству России, так как подобные действия могут расцениваться как робость, чего я допустить никоим образом не могу. Потому что вся ответственность лежит на мне, а я должен всегда иметь в виду главную цель — интересы и благо Отечества.
Таким образом, план действий следующий. Поскольку в Амурской экспедиции нет офицеров, с десантом на «Николае» отправляемся мы с вами. Но сначала вернемся в Аян и пополним запасы продовольствия и товаров до необходимого количества. Затем высадимся и утвердимся в Тамари-Анива, и вы остаетесь там зимовать. — Заметив, как сразу скисла физиономия майора, капитан утешил: — Конечно, поначалу будет трудно, однако далеко не так, как было два года здесь, в Петровском, нашей команде. Если там есть возможности для зимовки судна, то какой-то корабль останется на зимовку. Или бриг «Константин», или один из наших транспортов — «Иртыш» либо «Байкал».
— «Николай» нельзя использовать, — хрипло сказал Буссе. — Его приказано немедленно вернуть в распоряжение Компании.
— У нас нет другого выхода. В голосе Невельского снова прозвучало железо. — Думаю, Кашеваров нас поймет.
— Понять он может, но приказ есть приказ.
— Ничего, на месте разберемся. А сейчас я даю вам два дня для медицинского осмотра команды с нашим доктором — на случай, если кто по здоровью не сможет быть в десанте. Это во-первых, а во-вторых, попрошу вас подсчитать, сколько нам еще надо запасов для успешной зимовки. Двадцать восьмого утром отправляемся в Аян, а оттуда на Сахалин, в Тамари-Анива.
Буссе не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться.
Позже Геннадий Иванович записал в своем «судовом журнале»: «Н. В. Буссе удивлялся и не мог понять дружеского моего обращения с моими сотрудниками-офицерами. Он никак не мог допустить, чтобы начальник, облеченный огромной самостоятельной властью в крае, мог дозволять подчиненным рассуждать с ним, как с товарищем, совершенно свободно оспаривать его предположения. Я старался одушевлять моих сотрудников и постоянно повторять им, что каждый командированный офицер должен быть проникнут чувством своей необходимости и полезности для блага Отечества, что только при отчаянных и преисполненных опасностей действиях наших мы можем предупредить потерю края и навсегда утвердить его за Россией. Вот что связывало всех нас как бы в одну родную семью. Весьма естественно, что это было непонятно не только Буссе, но и высшим распорядителям в Петербурге».
Точно так же «высшим распорядителям» и окружению их, за малым исключением, были чужды и непонятны патриотические устремления Невельского и его офицеров. Патриотизм для этих «небожителей» обязательно сочетался с эпитетом «квасной» и представлялся в виде лаптей, серпа, деревянных трехрогих вил и прически «под горшок», а само слово «патриотизм» было в их обществе почти ругательным. Хотя призыв «За Веру, Царя и Отечество» произносили чуть ли не ежедневно.
Невельской успешно выполнил приказ по занятию острова Сахалин, о чем и отправил донесение, которое встретило генерал-губернатора в Красноярске.
3
Не зря говорят: «Человек предполагает, а Бог располагает».
Всю дорогу после Красноярска Муравьевы только и говорили что о сплаве по Амуру. Для себя выбирали, как будут плыть и на чем — на плоту, на лодке или пароходе. Катрин казалось, что на плоту будет интересней и, наверное, романтичней, но муж напомнил ей, как разбился плот с англичанами, и как Вагранов спасал их из ледяной весенней воды — поэтому плот как средство передвижения отпал навсегда. Они даже поспорили, сколько времени будут плыть — скорее или дольше, чем по Лене. Николай Николаевич считал, что дольше, хотя бы потому, что на Амуре, в отличие от Лены, нет лоцманов, и поэтому задержки будут неизбежны.
Отдельно обсудили, извещать китайцев о сплаве или нет.
С одной стороны, власти сопредельного государства должны быть в курсе, что творится на пограничной реке, и высказать свое мнение о происходящем. С другой — Амур еще не был определен как река пограничная. И даже его низовья, фактически уже принадлежащие России, не были никак закреплены.
— Пока что он до Уссури как бы ничейный, — говорил генерал, вместе с Екатериной Николаевной подпрыгивая на ковровых сиденьях, когда колеса экипажа попадали на ухаб или в рытвину. Последние до Иркутска 500 верст они уже двигались не на полозьях, а в большой карете, которую, неприятно морщась, называли рыдваном. И дорога была — не приведи господи! — но приходилось терпеть и беречь зубы и язык, особенно во время разговора. — Китайцы же полтораста лет назад проплыли по нему и по Шилке до самого Нерчинска, никого не спрашивая, хотя никаких прав на то не имели. Русские казаки — Поярков, Хабаров — первыми по Амуру прошли, следовательно, по всем канонам, река должна быть наша!
— Мне кажется, дорогой, — заметила Екатерина Николаевна, — с вопросом «кто первый» надо быть поосторожней. Я читала, что внук Чингисхана, Хубилай, стал первым императором всего Китая и владел землями до Байкала и Сахалина. И это было шестьсот лет назад, а не двести, когда на Амуре появились русские казаки. А Римской империи вообще принадлежало полмира, но ведь нынешний Рим на него не претендует. Ты себя называешь наследником Пояркова и Хабарова, и это так, но в переговорах с китайцами об этом, по-моему, лучше умолчать. Все меняется. Когда-то китайцы ушли с Амура, они, наверное, и сами не помнят, почему, и все в этих землях о них забыли. Потом пришли и ушли русские…
— Не сами ушли — силой заставили, — мрачно сказал генерал.
— Китайцев, может быть, тоже кто-то силой заставил, мы же этого не знаем, — возразила Екатерина Николаевна. — Главное: со временем все меняется, в том числе и границы государств. Вон в Европе как все изменилось за каких-то сто-двести лет, и никто не требует вернуть все назад. Тебе надо договориться о границах, которых требует новое время. Выгодных и для России, и для Китая. Чтобы в будущем не было оснований для войны.
Слова Катрин заставили Муравьева глубоко задуматься.
Путешествие в рыдване не прошло для Екатерины Николаевны бесследно. Поначалу по возвращении в Иркутск она чувствовала себя неплохо, а спустя несколько дней серьезно занемогла. Врачи уложили ее в постель, и после осмотра Штубендорф приватно сказал Муравьеву, что об участии Екатерины Николаевны в сплаве не может быть и речи. Путь неизвестный, что предстоит перенести — тоже: вдруг там зараза какая гуляет?
Известие об этом Катрин перенесла стоически — с одним лишь глубоким вздохом разочарования. Гораздо больше, по крайней мере, внешне, ее огорчила невозможность быть в Иркутском кафедральном соборе на молебне в «царский день» 17 апреля, день рождения государя наследника Александра Николаевича, и пасхальной заутрени, которую совершили сразу три архиепископа. Так получилось, что в Иркутске одновременно собрались Нил, которого назначили в Ярославскую епархию (не без содействия генерал-губернатора), Афанасий, прибывший на его место, и Иннокентий, святитель Америки и Сибири, приехавший обсудить с Муравьевым свое участие в сплаве, во исполнение давнишней идеи нести православную веру на Амур. С этой целью год назад он отправил своего сына, священника Гавриила, в Николаевский пост, а теперь и сам устремился на новые земли.
Заутреня Светлого Христова Воскресения получилась грандиозной.
Принаряженные прихожане собрались к храму задолго до полуночи. За две минуты до 12 часов торжественный благовест возвестил о наступлении великого праздника, и на паперть вышли сразу три архиерея — все в полном торжественном облачении с посохами и трикириями в руках. За ними шел причт собора. С пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», под непрерывный трезвон колоколов, с горящими свечами, в сопровождении народа, они обошли храм и остановились у запертых западных дверей.
Обычно здесь священник, а за ним хором весь причт, троекратно возглашали: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». На этот раз архиепископы произнесли песнь поочередно, хор их повторил, затем каждый возгласил «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…» и рукой с зажатыми в ней крестом и трикирием начертал знамение креста перед дверями. Хор дружно спел: «Христос воскресе из мертвых…» — двери храма отворились и народ повалил внутрь.
Священное Евангелие архиереи читали на 11 языках, в том числе на бурятском, якутском и алеутском. На почетном месте стояли генерал-губернатор и три генерал-майора — иркутский губернатор Венцель, наказной атаман Забайкальского казачьего войска, военный губернатор Забайкальской области Запольский и командир 3-й бригады 24-й пехотной дивизии Михайловский. За ними теснились офицеры штаба, старшие чиновники Главного управления и купцы — торговцы и золотопромышленники — кто-то с женами, кто-то без оных, а дальше — вперемешку — низшие разряды служивого, чиновного и торгового люда.
Было жарко и душно, запахи ладана, парфюма и человеческого пота смешивались в невообразимое амбре, но, казалось, никто этого не замечал душа каждого, подхваченная величаво и нараспев произносимыми с амвона богочтимыми словами, уносилась под расписной купол храма, а оттуда, через крест на куполе, прямиком к Всевышнему.
И каждый надеялся, что воскресший Бог его услышит.
Надеялся и Николай Николаевич Муравьев.
Он никогда не был ревностно набожным, однако всякое свое дело начинал «с Божьей помощью» и необходимые церковные службы посещал исправно. Но сейчас — под воздействием то ли истовой веры сразу трех мощных духом священнослужителей, то ли необычайного воодушевления всех сословий, узнавших накануне о походе на Амур, то ли совокупно того и другого — генерал-губернатор испытывал чрезвычайный душевный подъем и молился о том, чтобы ему хватило сил телесных для достижения великой цели, к которой он шел, как ему казалось, всю сознательную жизнь.
Он всегда верил в силу слова, обращенного к людям, — слова командира, губернатора, государя, — а сейчас уповал на силу слов, обращенных к Всевышнему.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Тем же вечером прошел торжественный обед в Общественном собрании. Это был первый обед после вступления Муравьева на пост генерал-губернатора, который он согласился принять от иркутского купечества. Купцы и промышленники, обрадованные этим знаком примирения, поданным властью, спешили с подношениями в амурское дело. Звучали торжественные здравицы в честь главноначальствующего края, который ныне возрождает дух Албазина и поднимет наконец-то Сибирь на должную высоту. Как выразился один из восторженных почитателей генерала, «вся Сибирь встрепенулась при вести об открытии плавания по Амуру». А другой, не чуждый изящных искусств, прочитал недурные вирши собственного сочинения, где были такие слова:
…Отъезд твой скорый предвещает Сибири новую зарю; Он свежи лавры обещает Руси и Белому Царю. Сибирь с надеждой несомненной Глядит на рдеющий Восток И ждет, что труд твой вдохновенный Богатствам нашим даст исток. Амуром путь ты им проложишь. Движенье силам нашим дашь, Добра начало тем положишь — И край счастливый будет наш[39].Муравьев к поэзии относился довольно равнодушно, сделав исключение лишь для Державина за его стихотворение «Вельможа». Более того, если замечал за кем-либо из подчиненных склонность к чтению, а то и, пуще того, писанию виршей, рано или поздно недовольство начальника настигало этого «творца». Так совсем недавно случилось с опытнейшим горным инженером Алексеем Николаевичем Таскиным, который много лет служил при Руперте, а потом уехал на Алтай. Муравьев пригласил его в Главное управление возглавить горное отделение и четыре года был им весьма доволен. Но Алексей Николаевич обладал многими талантами: прекрасно танцевал, пел, играл на фортепьяно и не чужд был актерства. А кроме того, неплохо владел пером и как-то, шутки ради, написал комедию в стихах, в которой довольно остро показал иркутское общество. Он не собирался отдавать ее в театр, даже не читал публично, тем не менее Муравьев о ней узнал и однажды на совещании язвительно сказал, не обращаясь, впрочем, прямо к Таскину:
— Службой надо заниматься, господа. Службой, а не стихоплетством.
Алексей Николаевич оскорбился, тут же подал в отставку и уехал на Алтай. Генерал его не удерживал.
Узнав об этом, Екатерина Николаевна от негодования даже заплакала.
— Как ты мог?! — говорила она, вытирая слезы. — Талант поэта — это самый высокий талант, какой только может быть у человека! А написать комедию в стихах — это все равно что стать равным Богу!
— Ну ты, Катюша, скажешь тоже! У Бога, наверное, сто талантов, не человеку с ним равняться. И вообще, по-моему, занимайся тем, к чему душа лежит, и никто тебе поперек не скажет. А то — чиновник пишет комедию в стихах! Ну и зачем ты пошел в чиновники?
— Грибоедов, к твоему сведению, тоже чиновник был, дипломат, а его комедию «Горе от ума» считают гениальной.
— Слышал, слышал про Грибоедова, еще в Пажеском корпусе. Так его же персы убили! Вот если бы не пошел он в чиновники, занимался своими комедиями, может быть, и до сего дня был бы жив и славен. Я ведь, Катюша, не против Таскина, я против того, чтобы он занимался и тем, и другим, и третьим. Всегда что-то будет страдать. А мне нужен не поэт, но старательный чиновник, и это, по-моему, более важно, чем кропать посредственные стишки.
— Я читала отрывки из его комедии. Алексей Николаевич — человек явно одаренный.
— Ну и писал бы свои вирши, — сказал, как отрезал, Николай Николаевич.
— Литература мало кого кормит, — грустно заметила Екатерина Николаевна. — А дети есть просят. И если нет имения, надо служить.
— У меня тоже нет имения… Но, знаешь, если ты одаренный, да к тому же старательный, то и признание явится, и деньги будут. Я не силен в латыни, но помнится еще из Пажеского: «Amat victoria curam» — «Победа любит старание». Это мой девиз во всем.
Такой вот был нелицеприятный разговор о поэзии, а тут купец, золотопромышленник, читает целую оду в честь его, Муравьева, и ему вдруг стало приятно. Не потому, что лестно, а потому, что «стихоплет» очень верно передал его заветные мысли — о том, что выход России на Амур даст энергический толчок развитию Сибири и всего Отечества, и толчок этот станет источником богатства для всех людей. В шуме застолья он толком не расслышал фамилию автора оды и не стал ее уточнять, чтобы никому не пришло в голову, что генерал-губернатор падок на лесть.
Но сами стихи запомнил — память у него действительно была хорошая.
Наутро Муравьев выехал в Кяхту. Он намерен был до отплытия по Амуру отправить в Пекин своего посланника с тем самым листом Министерства иностранных дел, в котором он, генерал-губернатор, определялся представителем России в переговорах по новой границе. В качестве посланника генерал выбрал подполковника Ахиллеса Ивановича Заборинского, тридцатитрехлетнего офицера Генерального штаба, с 1848 года служившего под его началом. Заборинский был и порученцем по особым делам, и дежурным штаб-офицером войск, расположенных в Восточной Сибири, а с 1852 года — управляющим частью Генерального штаба. Служил он честно и добросовестно, на глаза не лез, но все поручения выполнял неукоснительно, что очень нравилось генерал-губернатору. При этом Ахиллес Иванович неоднократно высказывал Муравьеву свое критическое мнение относительно некоторых его распоряжений, и генерал, при своем, можно сказать, абсолютном убеждении в непогрешимости начальства, то бишь его самого, тем не менее не только не впадал в гнев, но и выслушивал критику достаточно благосклонно. Хотя оставался при своем решении, даже если оно было ошибочным. Так было с попыткой обустройства пресловутого Аянского тракта. Заборинский заявил, что нельзя переселять людей на новые места, руководствуясь только маршрутной съемкой, которая обнимала весьма небольшой район по сторонам пути, что он по своему личному опыту знает, как обманчивы красоты природы в Восточной Сибири, где на каждом шагу рядом с прекрасным местом встречаются болота и тундры, угрожающие здоровью человека. Генерал выслушал его, но решения своего не изменил, а в течение трех лет большинство переселенцев погибли от тифа и цинги, и теперь где-то там юный Волконский пробирается из Якутска к Аяну, попутно ревизуя состояние тракта. Кстати, когда Ахиллес Иванович узнал, что Михаилу Сергеевичу предписано быть в Аяне к 1 июня, он крайне удивился и напомнил Муравьеву, что весной тракт находится в совершенно нерабочем состоянии, и Волконский не сможет по нему проехать.
— Не сможет проехать — значит, пройдет пешком, — резко возразил генерал-губернатор.
Забегая вперед, можно сказать, что так и случилось: Волконский и его спутник инженер Лейман, взяв легкую лодку, с помощью двух якутов около 700 верст поднимались бичевой вверх по Мае и пешком перевалили хребет Джугджур. В Аян они прибыли только к 22 июня. К счастью, американцы туда не пришли.
Видимо, основываясь на убежденности в своей непогрешимости, Муравьев искренне считал, что под его руководством любой человек может выполнять любую работу, лишь бы он был честным и пользовался его, Муравьева, доверием. Так, незадолго до отъезда за границу он предложил Заборинскому возглавить горное отделение.
— Простите, Николай Николаевич, — смягчая улыбкой невольную резкость последующих слов, сказал Ахиллес Иванович, — ни вы как главный начальник, ни я, кого вы хотите приставить к делу, ничего в этом деле не смыслим как же можно этим делом заниматься?
— Специалистом быть необязательно, — безапелляционно заявил генерал, — надо лишь быть честным работником и неустанно преследовать зло. Я вот знаю, что в горном ведомстве воруют и только что своей волей уменьшил им смету расходов на сто пятьдесят тысяч рублей.
— Как же они управятся? — удивился Заборинский.
— Управятся. Меньше положат в свой карман.
— Не знаю, не знаю, — покачал головой Ахиллес Иванович. — Они там скорее отыграются на рабочих, а свой карман не облегчат.
— Облегчат, — отрезал Муравьев. — Я же не ворую и доплачиваю судейским из своего жалованья. Почему я могу, а они не могут? — Генерал помолчал и снова спросил: — Так что скажете в отношении моего предложения?
— Николай Николаевич, как же я поменяю мундир Генерального штаба на горный, если вы им так не сочувствуете?
Муравьев озадаченно дернул головой:
— Да, вы правы. Я это как-то упустил из виду.
Наверное, эти вот обстоятельность и честность послужили основанием для выбора Заборинского на роль представителя генерал-губернатора. Ахиллесу Ивановичу весьма польстило такое доверие, и он, готовясь к поездке в Пекин, перелистал все книги по Китаю, какие ему удалось обнаружить в Иркутской городской публичной библиотеке.
4
Свита Муравьева в поездке в Кяхту была небольшая. Он взял с собой кроме Заборинского двух чиновников особых поручений — Свербеева и Бибикова, переводчика с маньчжурского Сычевского и адъютанта Сеславина. К сожалению, где-то задержался в пути Крымский Кондрат Григорьевич, старый дипломат, еще в 1820-е годы служивший в духовной миссии в Пекине, а теперь состоявший при Министерстве иностранных дел и откомандированный в помощь генерал-губернатору. Просился и Вагранов, но Николай Николаевич сказал, что в Кяхте ему делать нечего, пусть сразу едет в Шилкинский Завод в помощь Казакевичу, который уже замучился с подготовкой плавсредств. Так что поезд получился всего из двух карет, в каждой по три человека, и двух возков — в одном слуга Сейфулла, которого все называли на русский манер Савелием, вез все необходимое для дорожных привалов, а второй служил для отдыха сменной казачьей охраны, которую, как всегда, возглавлял вахмистр Аникей Черных.
Первым делом заехали в Петропавловское. Муравьев не забыл про свое обещание старому казаку Корнею Ведищеву взять его с собой на Амур. Вот и приспела пора выполнять обещанное.
Станичный атаман Никитин обомлел, узнав, что генерал-губернатор останавливается в Петропавловском на обед, однако быстро сориентировался, выяснил у Савелия, что потребно для трапезы, и, пока Муравьев в избе Ведищева общался с казаком, в трактире накрыли праздничный стол.
Корней Захарович прихварывал и, накрывшись одеялом, сшитым из цветных лоскутов, лежал в кровати, когда в избу вошел генерал в сопровождении Заборинского и Сеславина.
— Батюшки-светы! Вашество! — только и сказал старый казак, подскочив в постели и вытаращившись на нежданных гостей.
— Лежи, лежи, Корней Захарович, коли неможется, — сказал Николай Николаевич, беря табуретку и присаживаясь к кровати. Ведищев снова опустился на подушки. — Как дела? Где твоя старуха? Почему не ухаживает за больным героем?
— Хорош герой — хворый да старой, — Ведищев ощерил в улыбке почти беззубый рот. — А старуха померла — вот и все мои дела.
Улыбка погасла, рот жалобно скривился — казалось, старик вот-вот заплачет, но он сдержался.
— А ты, вашество, по каким-таким делам в наши края?
— А я за тобой, Корней Захарович! По высочайшему указанию иду на Амур, а без тебя, потомка албазинского казака, никак не могу. Мы ж договаривались!
Вот тут Корней Ведищев заплакал. Крупные слезы потекли из покрасневших глаз по морщинистым щекам на седую кудреватую бороду.
— Ну что ты, что ты, старый!
Муравьев оглянулся на офицеров, оставшихся стоять у дверей, и догадливый Сеславин подал генералу чистый носовой платок. Но Ведищев уже сам вытер щеки и глаза уголком лоскутного одеяла и глубоко вздохнул, справляясь с волнением. Потом сел на кровати, спустив голые ноги на круглый вязаный коврик.
— Это я, вашество, от радостев плачу, что не забыл ить старика-козопаса. Ты не мотри, что лежу, — ишшо долго прохожу. С твоей да с Божьей помочью поклонюсь Амуру-батюшке. Говори, кады и куды ехати?
— Для начала, Корней Захарович, приходи к нам на обед, где-то через час в трактире. А поедешь в Шилкинский Завод вместе со мной, когда я буду возвращаться из Кяхты, это, наверное, числа четвертого-пятого мая. Будешь к тому времени готов?
— Не изволь беспокоиться, вашество! Корней Ведищев никады никого не подводил. Это Христофорка на меня напраслину возвел.
— Какой Христофорка? — не понял Муравьев.
— Да Кивдинский, чтоб ему трижды через жопу икнулось! — Генерал от такого пожелания чуть сам не икнул. Он посмеялся, покрутил головой: ну, старик! А тот продолжал: — Помнишь, я про Васильева сказывал, с которым по Амуру сплавлялись? Я тады не указал, что с нами Кивдинский ходил, зол был на него, не хотел поминать. Христофорка годов на пять меня молодше, тады совсем малявый был, однако ничё не скажу — с гребями и парусом справлялся. Мы-то с Васильевым с рыбой да мясом вошкались, а Христофорка рухлядь пушную добывал — где сам зверя бил, где у тамошних охотников меновал. На том и разбогател!.. Ох, чей-то я разбухтелся — кому энто надобно!
— А какую напраслину на тебя Кивдинский возвел?
Ведищев пожевал губами, посмотрел в давно не беленый потолок.
— Я, вашество, уж и запамятовал. Токо с той поры дорожки наши разбежались. Он в Бянкину подался, а я вскорости — сюды. Старуха моя родом отсюдова, вот и сманула…
Муравьев слушал старого казака, а сам размышлял. После торжественного обеда в Иркутске глава первой купеческой гильдии передач ему письмо от Кивдинского. Тот слезно просил простить его, зарекался заниматься контрабандой и предлагал полумиллионный взнос в амурское дело.
Собственно, когда генерал-губернатор отдал приказ арестовать купца, у него не было веских оснований, чтобы доказать, что тот занимается контрабандой золотой и серебряной монеты в Китай, — так, одни подозрения. Побег Кивдинского из-под ареста был, конечно, серьезным противодействием власти, однако это можно считать действиями невиновного, который опасался быть неправедно осужденным. Историю с неудавшимся похищением из Маймачина вполне можно расценивать как акт самозащиты.
Это были аргументы в пользу прощения с одной стороны. С другой — крайне нужны деньги на второй пароход, для которого уже готова машина на Петровском заводе (кстати, надо не забыть пригласить к сплаву заводских мастеров, в том числе и Степана Шлыка), на обустройство военных постов в Кизи, Де-Кастри и Императорской Гавани, наконец, на содержание патрульных кораблей в Охотском море и Татарском проливе. Поэтому полмиллиона «живых» рублей очень даже кстати, за них можно многое простить.
Как только вышли от Ведищева, Николай Николаевич приказал Сеславину пригласить на обед промышленника Павла Христофоровича Кивдинского.
— Передайте ему, Александр Николаевич, что, мол, генерал-губернатор имеет желание познакомиться со старшим сыном известного купца первой гильдии. Если он человек умный — поймет.
— А вы не думаете, Николай Николаевич, что это — простая хитрость старого пройдохи? — засомневался Заборинский.
— Думаю, Ахиллес Иванович, что этот, как вы сказали, старый пройдоха понял, что он может потерять из-за своей конфронтации с властью и, наоборот, что может найти в участии в грандиозном амурском деле. Потому и спешит вернуться на подобающее в торгово-промышленном обществе место. Я внимательно слушал Корнея, как Христофорка вел себя на их сплавах, и хорошо уяснил себе его характер. Такой человек своего не упустит, но и нашим замыслам послужит. И вообще — одним сторонником амурского дела будет больше. Хорошо! Да и одним врагом — меньше, а это тоже немало.
Глава 10
1
Гринька и Кузьма водились со своими ребятишками с большим удовольствием, правда, времени у них на это было совсем немного: казаков замучили строевой подготовкой и отпускали по домам лишь на воскресенье. Рота Шамшурина была назначена к сплаву почти в полном составе. Только детным казакам разрешали остаться в распоряжении командира батальона, и кое-кто этим воспользовался, а вот Шлык с Саяпиным, не сговариваясь, заявили о своем желании сплавляться.
Дома они, конечно, получили нахлобучку, в первую очередь от жен, которым разрешали ночевать дома, а не в остроге, но с мужьями им доводилось спать лишь раз в неделю, а тут вообще разлука намечалась на целое лето, возможно, до поздней осени. Это какая ж молодуха такое выдержит?
Первой, разумеется, начала атаку Любаша.
Вернувшись с учений в субботу после полудня, мужья отобедали в избе Саяпиных и под звонкий смех Аринки и Федюни кувыркались на половиках, сотканных из тряпок Устиньей Макаровной. Татьяна и Любаша плечом к плечу уселись на лавку возле печи, заговорщически переглянулись, и старшая подруга — а это была Любаша — спросила медовым голосом:
— Кузя, сокол мой ясный, ты почто не захотел дома остаться? Али тебе любушка твоя не мила?
Кузьма в этот момент, к вящей радости ребятишек, стоял на голове, болтая в воздухе босыми ступнями. Услышав приторно-ласковые вопросы жены, он замер и спустя мгновение рухнул, придавив Федюню, которому вздумалось поддержать тятю за штаны.
Федюня завопил благим матом, Аринка тут же последовала примеру дружка-приятеля, дочку подхватил и начал успокаивать Гринька, Кузьма, в свою очередь, давай утешать сына… Отцы старались изо всех сил — молодые мамы не вмешивались, так и сидели на своей лавке, ждали, когда все успокоится.
Успокоилось все довольно быстро, хотя мужья явно были не прочь оттянуть время объяснения со своими благоверными.
— Мы ждем, — подала голос Татьяна.
— Дак это ж Любаша Кузьму спрашиват, — попытался откреститься Гринька, но Танюха не дала ему увильнуть:
— А я тебя тож вопрошаю! Нам с Любаней обоим хотится знать, на что вы сговорились нас променять.
— Али мы вас ухряпали в усмерть, — добавила подруга, — и аж на одну ночку силов не достает?
— Да ничё мы не сговаривались, — как в омут головой, ринулся Кузьма. — Верно, Гриня? Тот усердно закивал. — Само тако вышло.
— И не ухряпывались мы ни разу, — заулыбался Гринька. — Верно, Кузя? — Тот усердно закивал. — Да мы завсегда готовые.
— К чему это вы готовые? — заинтересовалась Татьяна и переглянулась с Любашей. У той заблестели глаза.
— Ну… к энтому самому… — засмущался Гринька.
— Ухряпаться, — бухнул Кузьма. — В усмерть!
— Видали мы таких! Оне готовые! — возмутилась Любаша. — А кто ж энто собрался уплавиться, бросить малых деток, быдто утуканы[40] оне…
— И нас, будто не жены мы, а распоследние хлестушки[41], — подхватила Танюха.
И, обнявшись, голова к голове, молодухи дружно заревели. Ребятишки тут же уцепились за них и тоже заскулили, а мужья сели у стены напротив прямо на полу и уставились на свои семейства. Кажется, даже немного испуганно.
Хлопнула входная дверь — с клубами морозного воздуха из сеней вошли Савелий Маркелыч и Устинья Макаровна. У Любаши и Танюхи слезы тут же сами высохли, а ребятенки продолжали хныкать и поскуливать.
— Что такое? Чего приключилося? — Устинья Макаровна шубейку скинула на руки Савелию Маркелычу, большие пимы стряхнула с ног у порога и устремилась к внучатам. Сгребла их в охапку и давай нацеловывать. — Ох, вы мои, родненькие! Кто ж энто вас заобижал?
— Маманя плачет, — пискнула Аринка. Федюня промолчал.
— А с чего маманя плачет? — В горницу вошел Савелий Маркелыч. — Чево стряслось, Татьяна? Утресь[42] в лазарете яровная[43] была…
— Да с чего, папань, яровать-то? — откликнулась за подругу Любаша. После свадьбы Савелия Маркелыча и Устиньи Макаровны обе, и Люба, и Таня, стали звать их «папаня» и «маманя». Старшие этому тихо радовались. Вот и сейчас Савелий Маркелыч расцвел от Любашиного «папань». — Мужички-то наши в убег наладились.
— Какой такой убег? — вскинулась Устинья Макаровна, и Савелий Маркелыч моментально посуровел лицом:
— Ну-тка, докладайте, добры молодцы?
— А чё докладать? — преувеличенно бодро отозвался Кузьма. — Мы с Гриней записались на сплав — вот и весь доклад.
— Земли новые поглядим, — добавил Шлык. — Надо ж знать, куды переселяться.
— Как переселяться?! — дружно вскрикнули молодые жены. — А мы?
— Мне еще почти год под конвоем ходить…
— А мне — все полтора!
— Погодьте, погодьте, — остановил женский напор Савелий Маркелыч. — Ну-тка, парни, как на духу: что там за переселение?
— Дак мы тако полагаем, что на Амур переселение будет, — степенно пояснил Кузьма. — Понятно, не в энтом годе, но все едино — будет. И первыми, ясен день, казаки пойдут. Вот и надобно на месте оглядеться — куды потом плыть.
— Чтоб хозяйновать было хорошо да ладно, — вступил Гринька.
— А я во сне как-то видала, — вдруг сказала Татьяна, — как мы там жить будем. Усадьбы на берегу Амура красивые — с тесовыми воротами. Мы с Любаней у ворот стоим, а Гриня с Кузей от реки идут, в сапогах, кафтанах, сабли на боку. А мы к им навстречу как побежи-им. — Татьяна раскинула руки и глаза зажмурила. — Хорошо-о-о!
— Вот видишь! Хорошо! А вы зараз на нас — с рогачом! — заобижался Кузьма. — Хлюзди[44] вы!
— Какой рогач?! Какие хлюзди! — возмутилась Люба. — Вы ж ни слова не сказали, зачем на сплав записались.
— А мы кто — шептуры[45], чтобы от таких красавиц да дитенков бегать? — Кузьма оторвал от материного подола Аринку и Федюню, начал их тискать, те весело заверещали. — От этих яровных чушенят[46] никуда не убежишь!
2
«Скорбутом болела треть экспедиции, и наш доктор Евгений Григорьевич Орлов прилагал все усилия, чтобы его одолеть. Благодаря ему и Божьей помощи значительной смертности не было. У маньчжуров мы покупали водку, просо и чай, у туземцев — свежую рыбу, а тунгусы, хоть и в малом количестве, продавали оленину, так что мы могли довольствовать больных свежей пищей. Все это имело благотворное влияние, и больные вскоре начали поправляться».
Геннадий Иванович пробежал глазами написанное и закрыл «судовой журнал». Задумался. Всего несколько строчек, а за каждой — своя, порой большая история. Он нередко перечитывал прежние записи, заново переживая отраженные в них события, глубоко проникаясь их значимостью в жизни экспедиции, тем самым словно набираясь сил на дальнейшие свои действия. И не переставал восхищаться и гордиться товарищами — Чихачевым, Бошняком, Орловым, Березиным, Ворониным и многими другими, и в голове его вызревало название будущей книги о плавании на «Байкале» и исследованиях Амура. Что-то вроде — «Подвиги русских офицеров на крайнем Востоке России в такие-то годы». Конечно, в книге будет рассказано не только об офицерах, а и о казаках, о тех же Семене Парфентьеве и Кире Белохвостове, без которых не обходится ни одна командировка по Приамурью, о матросах, о мастеровых с их женами и детьми…
Да, жены… героические женщины, иначе не скажешь. Все — начиная от Марии Решетниковой, жены плотника Семена, до Харитонии Михайловны Орловой, до Авдотьюшки и Катеньки. А вот дети… Как их назвать? Они не геройствуют, не совершают подвигов — они просто живут там, куда их привезли, или где на свет божий появились, как вон дети Орловых… Правда, тут, в Петровском зимовье, пока что родилась только Катя… Катюша-маленькая… Тюшенька…
Невельской горько вздохнул.
Вспомнились воспаленные, полные отчаяния глаза доктора, когда он пришел осмотреть полыхающую жаром восьмимесячную Катеньку. Девочка уже устала плакать и тихо поскуливала, как голодный щенок. Екатерина Ивановна, понуро опустив плечи, сидела подле нее.
— Геннадий Иванович, голубчик, надо что-то делать! Лазарет переполнен, два матроса уже умерли и вот ваша девочка…
— Что?! Умирает?! — вскрикнула жена, Катенька-старшая, ухватив Евгения Григорьевича за полу сюртука и заглядывая ему в лицо. Страшно вскрикнула, каким-то черным голосом, от которого по спине Невельского пробежала судорога.
Он шагнул от изголовья детской кроватки, где стоял, наверное, больше двух часов, хотя Екатерина Ивановна несколько раз пыталась его отправить заниматься неотложными экспедиционными делами. Но он был не в силах отойти, чувствуя, что связан с больным ребенком незримыми нитями, по которым еще может передавать Катеньке свою силу. А сейчас шагнул и обнял жену за опавшие плечи — она отпустила сюртук доктора, повернулась к мужу и беззвучно зарыдала, спрятав лицо на его животе.
Доктор отвел глаза, произнес глухо, ни к кому, собственно, не обращаясь:
— Надежда еще есть. Нужно материнское молоко…
— Вы же знаете: у Екатерины Ивановны нет молока, — с неприкрытой укоризной сказал Невельской.
Разумеется, доктор все знал. Молока у Екатерины Ивановны не было от постоянного недоедания: она наотрез отказывалась получать дополнительное питание, чтобы ничем не отличаться от остальных членов экспедиции. Исхудала до восковой бледности, от прежнего румянца не осталось и следа. Некогда сияющие глаза потускнели и стали еще больше. Обведенные черными кругами, они, казалось, занимали теперь половину лица. Сколько раз Геннадий Иванович рвал себе сердце покаянием, что не внял приказанию Муравьева не брать с собой жену: вот и расплата первого ребенка Катюша потеряла, не вынеся тягот дороги из Якутска в Охотск, второй умирает, не дожив и года…
Знал доктор и о том, что начальник экспедиции сделал все возможное в их условиях, отправив для добывания продуктов молодых членов экспедиции мичманов Петрова и Разградского с казаками, а также опытного приказчика Березина. Но вот чего он не мог знать, так это того, что мичманам было указано попутно с добыванием продуктов для Петровского зимовья восполнять пробелы в исследовании Приамгунского края и правого берега Нижнего Амура, имея в виду скорое занятие залива Де-Кастри и селения Кизи. Невельской даже в этих условиях думал не только о выживании экспедиции, но и о великом деле, взваленном на его плечи императором и Отечеством.
— Надо что-то делать! — повторил доктор Орлов, страдальчески сморщив лицо, заросшее клочковатой пегой бородой. — Нужна печенка, нужен рыбий жир…
— Со дня на день должен вернуться Александр Иванович Петров, — негромко сказал Геннадий Иванович, осторожно поглаживая спину прижавшейся к нему жены. — Я уверен, он привезет свежее мясо и рыбу. А пока поите больных пихтовым отваром. Не мне вас учить.
Евгений Григорьевич махнул рукой и пошел из комнаты, но тут хлопнула входная дверь, и в клубах морозного пара в общую кухню ворвался вестовой Андрей Смирнов.
— Ваше высокоблагородие, Геннадий Иваныч, — заорал он от порога, вглядываясь в комнаты Невельских, и тут же заткнулся, получив по лбу половником от кухарящей Авдотьюшки.
— Ты чего блажишь, полоумный? — прошипела она. — Тюшенька наша еле дышит, а ты базлаешь!
Со своей половины выглянула Харитония Михайловна, из-за ее широкой юбки с двух сторон вынырнули детские головки, но мать шлепнула их по макушкам, они исчезли, а Орлова присоединилась к Авдотьюшке.
Невельской оставил жену у кроватки и вышел в кухню:
— Что случилось, Андрей? — устало спросил он вестового, прикрывая за собой дверь.
— Накован приехал, Геннадий Иваныч, — громким шепотом заговорил Андрей. — С женой! Сюда идут!
— Ты что, не мог остановить? Ты же понимаешь, нам сейчас не до гостей…
— Так ить не в гости — робенок у их! Сонька-т кормящая! С молоком! Они и приехали, потому что про Тюшеньку узнали…
Дверь из сеней распахнулась, и в дом ввалились сначала сияющий, рот до ушей, Накован в собачьей шубе шерстью наружу, подпоясанной кушаком из красной китайки, лисий малахай он держал в руке, от черноволосой головы валил пар, — а за ним Соня-Сакони, одетая, как и муж, только шубка ее была короче, воротник — соболий, а синий кушак вышит бисером. Но главное — в руках она бережно держала продолговатый сверточек-кулек из оленьей кожи, для надежности подвешенный за ремень на шею.
Авдотьюшка и Харитония Михайловна тут же оставили поварские дела и занялись Соней и ее малышом.
Последним вошел подпоручик Орлов. «Слава богу, — подумал Невельской, — Дмитрий Иванович не успел уехать в командировку, будет кому переводить: Орлов хорошо знал гиляцкий язык».
— Здорово, насяльника! — весело сказал Накован. На этом его познания в русском языке кончились, и он перешел на гиляцкий. Орлов переводил. — Сын у нас родился. У Сакони молока много, у твоей бабы его нет, и дочка болеет. Сакони будет кормить твою дочь. Молока хватит на двоих…
Пока он говорил, а Невельской, у которого горло перехватило от осознания, что Бог услышал их с Катенькой молитвы и прислал нежданную помощь, слушал, весь превратившись во внимание, Авдотьюшка и Харитония Михайловна помогли Соне снять шубу и вынуть младенца из кулька. Гилячка осталась в оленьих штанах, синем халате из китайки, расшитом атласными разноцветными ленточками, и мягких сапожках из оленьего камуса. Малыш был завернут в одеяльце из беличьих шкурок, в открытом треугольнике круглилась смугло-розовая мордашка с пупырышкой носа, ярко-красным цветочком рта и двумя полукружьями черных ресниц — сын Накована сладко спал.
— Ка-акой красавчик! Прямо ангел небесный! — заворковали женщины. Соня осветилась счастливой радостью.
— Спасибо, Накован! Спасибо, дорогой! — дослушав, с чувством сказал Невельской и приобнял гиляка. Глаза его влажно блестели. — Давай раздевайся, будем пить чай. И тебе, Соня, огромное спасибо! Евгений Григорьевич, — обратился он к доктору Орлову, — как вы считаете, кормление Тюшеньки не будет опасным для Сони и ее малыша?
Доктор даже головой замотал:
— Нет, Катенька незаразная.
Он вдруг засуетился, подхватил Соню под руку и скрылся с ней за дверью, ведущей на половину Невельских. Соня только и успела, что оглянуться на мужа, который снисходительно махнул ей: «Иди-иди, девку корми». Их ребенок остался на руках Харитонии Михайловны.
Накован и Дмитрий Иванович разделись и присели к столу, который Авдотьюшка сноровисто накрывала к чаю, Харитония Михайловна тихонько баюкала, видимо, проснувшегося гиляцкого мальчонку, а Геннадий Иванович стоял у двери и прислушивался к тому, что творится в комнате. И так же, как прежде он, внимая Наковану, отчетливо слышал сиплое поскуливание дочки, отчего сердце заходилось жалостью, теперь даже через притворенную дверь доносилось сладкое чмоканье, и оно перекрывало для него все кухонные звуки — разговор на гиляцком Орлова и Накована, звяканье Авдотьиных кастрюль и чашек, напев малороссийской колыбельной. Все это было совершенно несущественно по сравнению с причастием к младенческой радости насыщения.
— Насяльника, — вывел Геннадия Ивановича из блаженного оцепенения голос Накована. Он повернулся к чаевникам, непонимающе уставился на гостя. Тот что-то добавил по-гиляцки и засмеялся.
Орлов перевел:
— Хорошо девка сосет. Однако крепкая баба будет. — И от себя добавил: — Он же охотник, все слышит.
— Переведите, Дмитрий Иванович: Тюшенька поправится, я ему ружье подарю. И стрелять научу.
…Но Тюшенька не поправилась. Видно, перешла рубеж, за которым возврата к жизни нет. Двенадцатого мая Невельские схоронили малышку, и тут силы оставили Екатерину Ивановну — она попросту слегла. Евгений Григорьевич поставил диагноз «нервное истощение» и прописал есть больше молодой черемши (эта полезная во всех отношениях трава уже появилась на открытых солнцу местах) и по возможности гулять на свежем воздухе (слава богу, чего-чего, а свежего воздуха, в отличие от продуктов, хватало в избытке).
Геннадию Ивановичу болеть было некогда, и он тихо радовался своей загруженности делами: они отвлекали от печальных мыслей о страданиях самого дорогого его сердцу человека. Вернее сказать, не отвлекали, а заставляли, хотя бы на дневное время, отодвигать свои горести чуть подальше, потому что по ночам они, эти горести, наваливались невыносимой тяжестью и не давали спать. Он закрывал глаза, старался не ворочаться, дышать ровно и спокойно, чтобы Катенька верила, будто он погрузился в глубокий сон. Чтобы поверила и сама заснула; он знал, что и она лишь притворяется спящей, чтобы успокоить его. И так длилось несколько дней, пока бессонница не довела обоих до полного изнеможения.
— Знаете что, господа хорошие, — заявил доктор Орлов, зайдя проведать Екатерину Ивановну, — на вас смотреть страшно. Кончайте нянькать свои страдания. Жизнь продолжается. Будут у вас еще дети, если, конечно, вы не замыслили с горя умереть.
Ночью они снова лежали без сна, но уже не скрывались друг от друга. В зимовье стояла сонная тишина, только ритмично шуршали волны, накатываясь на галечный берег. В раскрытое окно, затянутое кисеей от комаров, тянуло прохладой. От рассеянного той же кисеей лунного света призрачно светился воздух в комнате, превращая ее в волшебный грот, в котором добрая фея хранила радости и хорошие поступки.
— Доктор прав: жизнь продолжается, — вполголоса, чтобы не услышали соседи, сказал Геннадий Иванович.
— Да, милый, — откликнулась Катенька.
Он повернул голову и увидел ее огромные глаза, блестевшие отраженным лунным светом. Золотые локоны вокруг исхудавшего личика тоже волшебно светились.
— Я люблю тебя, — сказал он.
Катенька выпростала из-под одеяла тонкую руку — на пальце искоркой блеснуло обручальное кольцо, — положила ему на голое плечо и легонько потянула:
— Иди ко мне…
3
По заданию Казакевича Вагранов приехал на Петровский завод. Он должен был присутствовать на испытании второй паровой машины, проследить за ее разборкой и отправкой на Шилкинский завод, а также пригласить от имени генерал-губернатора на открытие сплава всех мастеров, принимавших участие в изготовлении паровых машин и металлических деталей корпуса парохода, во главе с директором Дейхманом. Ивану Васильевичу было немного обидно, что генерал-губернатор не взял его с собой в Кяхту — очень ему хотелось взглянуть в глаза Ребиндеру, теперь, когда стало доподлинно известно, что его «агент» в Маймачине матерый английский шпион Ричард Остин. Когда к Ивану вернулась память, он попытался доказать Николаю Николаевичу, что надо «прощупать» кяхтинского градоначальника, знал ли он, кто именно на китайской стороне работает, как ему казалось, на Россию. Однако Муравьев, который прежде всегда поддерживал своего верного порученца, на этот раз категорически воспротивился самой идее «прощупывания». Он предпочел напрямую спросить об этом Ребиндера, тот, разумеется, возмущенно сказал «нет», и Николаю Николаевичу этого оказалось достаточно. Нет, он, конечно же, допускал, что кто-либо в столице играет на руку ненавистным англичанам, и даже, как говорится, мог указать пальцем — кто, но признать подобное в своем окружении — а Ребиндер входил в его ближний круг, хотя бы потому что был зятем Трубецких, — это, господа хорошие, увольте! Что же, генерал-губернатор, по вашему мнению, в людях не разбирается? Поэтому Иван Васильевич и своими соображениями в отношении Элизы не стал с ним делиться, оставил их при себе — просто как память.
Неприятным последствием предложения Вагранова по Ребиндеру явилось еще и то, что генерал напрочь охладел к контрразведывательной деятельности и стал понемногу отдаляться от Ивана Васильевича, все больше опираясь как на адъютанта на Сеславина — сначала майора, а теперь уже и подполковника. Понятно, тот прекрасно говорил по-французски, окончил Пажеский корпус, в одно время с Муравьевым служил на Кавказе, а у Ивана Васильевича — ни образования, ни знания языка и одна лишь заслуга — в бою под Ахульго спас жизнь командира. Да вот еще — как неожиданный подарок — любовь Элизы и рождение сына. Муравьев относился к виолончелистке с большим уважением, даже почтением, и часть этих чувств, как полагал Вагранов, переносилась и на него.
Теперь, после смерти Элизы и почти полностью прекратившейся адъютантской службы, Вагранов решил перебраться из Белого дома на съемную квартиру, так как решительно не хотел быть приживалом в семье Муравьевых. Вот только с Васяткой будут сложности, но это потом, после сплава, там надо будет найти нянюшку, а пока горничная Лиза охотно водится с сиротой.
Испытания паровой машины проводились в специально выгороженном в цехе углу; Дейхман называл его «бокс» — на английский манер. Машина стояла на возвышении, занимая почти весь угол. Вокруг нее возились рабочие в замасленных робах.
Мастера проверяли узлы, болты и гайки крепления, чтобы, не дай бог, из-за какого-нибудь пустяка, а то и просто недосмотра, не случилось взрыва или даже простой поломки механизма. Здесь такие случаи бывали: однажды сорвало крышку котла, в другой раз не сработал перепускной клапан и вышибло поршень вместе со штоком… Как говорил Степан Шлык, «робячьих нежданок» хватало, что, вообще-то, при известном русском разгильдяйстве, извечной надежде на «авось», выглядело вполне естественно. «Да, — думал директор, — забылись времена герра Петра, который нерадивых и дурноделов самолично колошматил тростью или подвернувшимся под руку дрыном».
Оскар Александрович нервничал: опасался проштрафиться перед личным посланцем генерал-губернатора. Муравьев уже не раз приватно говаривал, что пора ему на повышение, да все никак место подходящее не освобождалось и случая не было, который послужил бы законным для того основанием. Постройка паровых машин, первых в Восточной Сибири, явилась бы достаточным поводом для шага наверх, поэтому Оскар Александрович тихо молился своему протестантскому Христу, чтобы испытание прошло без сучка без задоринки, иначе, как говорит старая пословица: «Böses kommt geritten, geht aber weg mit Schritten»[47]. И последствия придется долго расхлебывать.
Вагранов пришел на испытания раньше других членов приемочной комиссии. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Ночью к нему приходила Элиза, ласкала его нежно и страстно, как в первые встречи, а уходя, сказала: «Сядь подальше от окна, не то камень влетит и покалечит». Чисто так сказала, внятно и без французского акцента. Иван этому удивился, а Элиза понятливо улыбнулась: «Здесь все так говорят. Ты разве не заметил, что губы не шевелятся? Мы говорим мысленно, а у мыслей нет акцента». И он тут же заметил: верно, губы ее не шевелятся. Да и его собственные — тоже. А еще он сказал: «Я скучаю без тебя». Она снова улыбнулась, покачала головой и, ничего не ответив, исчезла.
Очень его расстроило свое поведение во сне и, главное, то, что он мгновенно растаял от ее ласки. Она же им чуть ли не открыто помыкала последний год, и он просто кожей ощущал, как это сильно повлияло на отношение к нему Муравьевых, а тут нате вам — снова готов к унижениям. Да-а, ничему его жизнь не научила, не умеет он себя правильно поставить перед женщиной: вместо того чтобы сказать «цыц!», цацкается, подлаживается под ее капризы. А тут какое-то окно с каким-то камнем? Не замечал он никогда, чтобы кто-то где-то камнями в окна швырялся. Попробовал бы какой стервец, его тут же в участок бы забрали и внушили розгами или плетями через задний ум, что такого безобразия никто не потерпит.
Вагранов размышлял, а подготовка к испытаниям шла своим чередом, и члены приемочной комиссии, которую возглавлял Дейхман, — это были те же мастера, знакомый Вагранову чиновник Шарубин и верхнеудинский исправник Беклемишев — рассаживались на лавках перед длинным и высоким, почти в половину стены, незастекленным окном, защищенным металлической сеткой. Через него, не опасаясь, можно было следить за тем, что происходит в боксе.
Может быть, Элиза говорила об этом окне?
— Будь здоров, твое благородие! — Рядом с ним уселся Степан Шлык. Одет он был празднично — черный суконный сюртук, коричневая плюшевая жилетка с часовой цепочкой, белая косоворотка; плисовые штаны с напуском на юфтевые сапоги дополняли костюм мастера. — Мне Ляксандрыч твердит: «Посланец генерала, посланец генерала», — а тут гляжу, значитца, лицо знакомое, ну так и есть — от генерала!
Вагранов протянул руку, поздоровался, однако особой радости не выказал. Спросил скучно, без интереса:
— Сын-то как? Кто у него родился?
— Гриня мой в казаках, а Танюха, значитца, дочку тетешкат, Арникой кличут. Така девка славна — ягодка-земляничка!
— Рад за него.
Замолчали.
Подошел Дейхман, оглядел собравшихся, вздохнул как-то обреченно:
— Начинаем, господа, — и свистком подал сигнал.
Рабочие покинули бокс, закрыли железную дверь. Что-то зашумело, над машиной поднялось облачко пара.
— Собственную топку машины мы сейчас не используем, — пояснил Оскар Александрович. — Пар по трубе подается от другой машины, большой заводской.
— А где она? — спросил Вагранов, оглядывая цех.
— А вона, — показал Степан на железное чудище в другом углу цеха. Из-за пелены пара, окутывавшего машину, Вагранов не сразу ее заметил.
Тем временем задвигались поршни двух цилиндров испытуемой установки, постепенно начало раскручиваться колесо маховика — быстрей… быстрей…
— Внимание! — громко сказал Дейхман. — Я включаю передачу на колеса парохода.
Он повернул рычаг, и все увидели, как закрутились макеты гребных колес на рабочем валу.
— Сколько сил в машине? — спросил исправник Беклемишев.
— Приблизительно шестьдесят лошадиных сил, — ответил Дейхман. — Это максимум.
— А сейчас она работает на сколько?
— На половину мощности.
— Ну, так дайте полную!
Дейхман снова повернул рычаг, макеты колес закрутились быстрее, и тут случилось непредвиденное. Раздался треск, затем резкий свист, грохочущий удар, над головой Вагранова что-то прогудело, и в следующий миг в защитную сетку окна — но не из бокса, а снаружи — ударился крутящийся обломок железной трубы. Сетка, спружинив, оттолкнула обломок, который снова пролетел мимо головы штабс-капитана. Причем как-то замысловато крутанулся, с гудением огибая ее. Летел бы не крутясь — точно ударил бы в висок.
Весь цех заволокло паром, продолжавшим со свистом вырываться из лопнувшей трубы. Сама машина, кажется, не пострадала. Маховик продолжал вращаться — сквозь пар видны были его спицы, — вхолостую двигались поршни, щелкали клапаны…
«Сядь подальше от окна, не то камень влетит и покалечит».
Вагранов ошарашенно помотал головой, почти не различая встревоженные лица членов комиссии, обступивших его. Он не сразу пришел в себя.
— А ты, твое благородие, в рубашке, значитца, родился, — заметил Степан Шлык, вертя в руках обломок, который подобрал и передал ему кто-то из рабочих.
Пар уже перекрыли и в цеху понемногу становилось светлее. Рабочие кучкой стояли в стороне, несколько человек возились возле большой машины.
Комиссия вполголоса совещалась о дальнейших действиях. Вагранов в обсуждении не принимал участия, продолжал сидеть на своей лавке. Шлык остался возле него.
— Это Элиза спасла меня, — негромко сказал Иван Васильевич, как бы для самого себя.
— Что? — наклонился к нему Степан.
— Ничего. Ничего…
— Ничего-то оно, значитца, ничего, — сказал Степан, по-прежнему разглядывая кусок трубы, — но энта штука летела тебе в голову и враз увильнула, значитца, в сторону… Так не быват!
— Элиза меня спасла, — повторил Вагранов.
— Что спасла видать, верно, а кто она така, энта Лиза?
— Жена… Была. Недавно умерла.
— Значитца, неупокоена ее душа, — убежденно произнес Степан. — А детки есть?
— Сын.
— Малой?
— Два года. С половиной.
— Ну, тады ясно-понятно. Наказ тебе от нее — сына берегчи. Она тебя уберегла — ты, значитца, сына береги.
Вагранов кивнул, соглашаясь, потом глянул в сторону совещающейся комиссии:
— О чем они там толкуют? — Голос прозвучал тускло, устало.
Шлык развел руками:
— Да, верно, спорют, как, значитца, засчитывать испытание. Выдержала его машина али нет.
— А ты сам как думаешь?
Степан ответить не успел — к ним подошел Дейхман.
— Как вы себя чувствуете, герр Вагранов? — участливо спросил он.
— Спасибо, хорошо. — Иван Васильевич встал, расправил плечи. Он вдруг почувствовал облегчение, словно камень с души свалился. — Смерть в глаза заглянула, но мимо прошла.
— О-о, это уже стихи! — восхитился Оскар Александрович. — Вы пишете стихи?
— Нет. Даже не пробовал. Ну, что вы там решили, господа комиссионеры?
— А-а. Сейчас заменят паропровод, и проведем еще одно испытание. Хотя и так ясно, что сама машина его выдерживает. Паропровод оказался с трещиной. Зато вам, как говорят в Германии, «gut leben, lang leben».
— «Хорошо жить — долго жить», — неожиданно перевел Степан, и Дейхман с Ваграновым изумленно воззрились на него. — Немец у меня был в соседях в Туле, мастеровой, — смущенно пояснил Шлык, — так у него на всякое дело приговорки были. Чаще всего говаривал: «Wie die Mache, so die Sache».
— «Какова работа, такова и вещь», — пояснил Вагранову Дейхман.
— Во! В точности как для нашей машины! — уверенно заявил Степан. — Можно бы вдругорядь и не испытывать. А, Ляксандрыч?
— Можно. Однако лучше испытать, — спокойно сказал Дейхман. — Если уж мы говорим на языке пословиц, то у немцев есть подходящая: «Heiraten in Eile bereut man in Weile» — «В поспешной женитьбе со временем раскаиваются».
— А у нас говорят кратко: «Поспешишь — людей насмешишь», — внес свою лепту в обмен пословицами Вагранов.
— Ну, коли речь о женитьбе, — не сдался Шлык, — то можно и так: «Свадьба — не напасть, после б свадьбы не пропасть». — И первый засмеялся.
Дейхман и Вагранов поддержали его легким смешком.
— Помню одну такую «свадьбу», — оборвав смех, сказал Дейхман. — Три или четыре года назад купец Занадворов обратился ко мне с просьбой наладить работу паровой машины на прииске. Купил ее у братьев Машаровых, те ее даже не распаковывали. — Услышав о паровой машине Занадворова, Иван Васильевич, хоть уже и не считал себя контрразведчиком, тем не менее навострил уши. — Машина английская, они такие обычно для пароходов делают, а тут надо было для промывки золотого песка приспособить.
— Делал я машинку для промывки, тока не паровую, а водяную, — заявил Степан. — Для Ефима Андреича Кузнецова, царство ему небесное…
— Да, да… Так что там с занадворовской машиной? — не дослушав Шлыка, нетерпеливо обратился Вагранов к Дейхману.
— С машиной все было в порядке, а вот с промывкой… Слишком торопил меня Фавст Петрович, и, когда промывку запустили, все полетело к чертовой матери. — Ругательство Оскар Александрович произнес с удовольствием, четко выговаривая слоги и слова. Видимо, было что вспомнить. — Потом все, конечно, наладили, и два дня агрегат… как это… «обмывали». И Занадворов со смехом рассказывал, как спрятал эту машину от чиновников генерал-губернатора, а их самих разыграл, будто они на прииске у него вовсе и не были.
— Так вот просто и рассказывал? — удивился Вагранов. — Не побоялся при постороннем человеке?
— Он был пьяный и хвастал. Я, говорит, любого в золоте утоплю, хоть чиновника, хоть самого генерал-губернатора.
— Поня-а-атно, — процедил Вагранов сквозь зубы. — Ай да Фавст Петрович, смелый человек! Потому и сидит сейчас в остроге, что не побоялся оклеветать человека при исполнении служебного долга. — А сам подумал: ну, мы тебе припомним эти игры-розыгрыши!
— Оскар Лександрыч, — подошел мастер слесарей Павлов, — все изделали, можно начинать.
Дейхман вынул из кармана свисток и подал сигнал. Затем возгласил:
— Господа члены комиссии, займите свои места. Проводим новое испытание.
4
В доме Волконских шили флаги расцвечивания для сплава. Придумали это дело две Николаевны — Мария и Екатерина, и на их предложение охотно откликнулись почти все семьи декабристов, жившие в Иркутске: всем хотелось принять хотя бы малое участие в историческом событии.
Когда Николай Николаевич узнал об этом, поначалу удивился.
— Как, и мужчины желают заняться рукодельем? — спросил он у Екатерины Николаевны.
Генерал-губернатор после своего знаменитого визита к декабристам, который вызвал разносторонние толки в столице и стал поводом для нескольких доносов в Третье отделение, прислушался к совету осторожного Льва Алексеевича Перовского и общение с «государственными преступниками» ограничил до одной-двух встреч в год. Советовал так же поступать и жене, но та резко воспротивилась, заявив:
— Ты, конечно, на государственной службе и должен играть по ее правилам, но меня они не касаются.
Муравьев подумал: «Касаются, милая, и даже очень», — но промолчал. С одной стороны, знал о преклонении Катрин перед декабристками, с другой — решил: если император потребует объяснений, придумать что-нибудь вроде прощупывания с помощью жены настроений среди поселенцев. Конечно, выглядит нехорошо, но это — так, на всякий случай.
Объясняться не пришлось, но и количество встреч не увеличилось: у генерал-губернатора просто не было времени, а Катрин, бывая у декабристов, не докучала ему новостями, вынесенными из этого общения. Поэтому шитье флагов стало для него главной новостью.
— Представь себе — да, — улыбнулась наивности его вопроса Катрин. — Только Сергей Григорьевич отказался: он занят посевами рассады в оранжерее. Но мужчины у нас не шьют — у них работа творческая, они придумывают флаги.
— Что значит «придумывают»? Флаги расцвечивания, насколько я знаю, существуют давным-давно. Я сам их как-то видел в Петербурге на кораблях.
— Конечно, существуют, но кто знает и помнит, как они выглядят? Моряков в Иркутске нет, вот и приходится придумывать. Да и какая разница?! Лишь бы красиво было.
Муравьев подумал и согласился: действительно, какая разница!
— А где вы ткани берете?
— Покупаем у купцов. Я покупаю. Ты извини за непредвиденные расходы, но мне очень хочется, чтобы все выглядело ярко и красиво.
— Да нет, не извиняйся — придумка очень хорошая. Я прикажу — на это дело выделят денег из казны, а у меня просьба, Катюша: сделайте на мой баркас штандарт генерал-губернатора с гербом рода Муравьевых. У меня есть рисунок где-то в бумагах. Золотой щит, разделенный на четыре части: в первой и третьей — корона, пронзенная саблей и стрелой, а во второй и четвертой — черный орел, держащий в клюве венок. Помнишь?
— Еще бы не помнить! Про этот герб писал донос бывший губернатор Пятницкий, — усмехнулась Екатерина Николаевна. — Сделаем тебе штандарт!
К Волконским пришли Трубецкие с дочерьми, Елена Сергеевна Молчанова с маленьким сыном, жившая теперь отдельно от родителей, и Александр Поджио с молодой женой Ларисой Андреевной, классной дамой Девичьего института. Муж Елены, Дмитрий Васильевич, обвиненный Занадворовым во взятке, в связи с этим находился под домашним арестом, а следствие все тянулось и тянулось, и суда, который мог снять с него позорное обвинение, все не было. От волнений, от позорного клейма взяточника Молчанов болел, его мучили приступы психического расстройства; Елене Сергеевне ничего не оставалось, как ухаживать за ним, и она была рада вырваться из душного дома хотя бы на время — побыть с родными и развлечься забавным занятием, придуманным матушкой и генеральшей Муравьевой.
Екатерина Николаевна передала всем просьбу мужа и добавила от себя:
— За штандарт возьмусь, конечно, я, но мне нужна помощница — одной будет трудно. И делать будем у меня дома.
— Против нас не возражаете? — спросила Елена Сергеевна, обнимая прильнувшего к ней ребенка. — Мы с сынулей готовы вам помогать.
— Что вы, Елена Сергеевна! Я буду только рада — и вам, и вашему сыну. У нас еще там Васятка Вагранов без отца и матери — вместе будут играть.
— А что, убийство Элизы так и останется нераскрытым? — спросила у Муравьевой Мария Николаевна. — Какое ужасное преступление! Бедная девочка!
Действительно, полиция так никого и не нашла. Подозреваемый Устюжанин исчез. Девушка, которую полицейские даже не разглядели — оба запомнили только большую грудь, едва не вываливавшуюся из выреза кофты (и удивительно, что заметили, ведь она сидела к ним спиной!), — как сквозь землю провалилась. Вернувшийся из-за границы генерал-губернатор устроил полицмейстеру беспощадный разнос, грозился уволить в отставку без прошения, а следовательно, без пенсии, однако это, конечно же, ничем не помогло. В первый же по возвращении день Муравьевы вместе с Ваграновым и Васяткой побывали на могиле Элизы, возложили цветы и венок, а вечером справили поминки. Иван Васильевич, заметила Екатерина Николаевна, сидел как деревянный, но она и сама не могла преодолеть холод, сжимающий ее сердце при одном воспоминании об Элизе. Это бросилось в глаза даже Николаю Николаевичу, который последнее время редко замечал такие тонкости, но в этот вечер был по-особенному чувствителен: выпил рюмку водки и сидел грустный и печальный.
Все молчали. Иван, выпивший больше, чем позволял себе в обычные дни, вдруг склонился над столом, прикрыв лицо рукой, сквозь пальцы просочились крупные капли и протекли по тыльной стороне ладони, оставляя мокрые дорожки.
Его не утешали. Но Екатерина Николаевна внезапно с удивлением обнаружила, что повлажнели и ее глаза, готовые пролиться слезами. Нет, она не простила предательства бывшей подруги, но ей стало искренне жаль ее. Ведь, по сути, Элиза была глубоко несчастной женщиной, доброй от природы, но вынужденной творить зло, причем людям, которые с открытой душой радовались ее радостями и печалились ее печалями. Одаренная по Божьей милости талантом musicienne, она не могла не страдать от своего незавидного положения.
Екатерина Николаевна подумала об этом и сейчас, после вопроса Марии Николаевны, который молчаливо поддержали все собравшиеся взрослые люди. Вопроса, на который у нее не было ответа.
— Все в руках Бога, — сказала она. — Он, конечно, знает, кто и почему убил Элизу, но, видимо, не считает нужным подсказать нам, как раскрыть истину. Наверное, хочет сам наказать виновных.
— Ой, знаете, дорогая, — вздохнула Волконская, — у нас, у русских, говорят: «На Бога надейся…»
— Знаю, — грустно улыбнулась Екатерина Николаевна. — «…а сам не плошай». Я уже много знаю русских пословиц. Наверное, даже больше, чем французских. Но смерть Элизы… — она задумалась, подыскивая слова, — она столь странная и неожиданная, что, мне кажется, тут не обошлось без Божьего провидения. Поэтому я и говорю: все в руках Бога.
Глава 11
1
С отправкой своего представителя в Пекин у Муравьева не получилось. Маймачинский гусайда пограничной стражи Ли Чучун наотрез отказался пропустить Заборинского через границу без указания ургинского амбаня Бейсэ. На него не действовали никакие увещевания дипломатического секретаря Свербеева — ни объяснения важности пакета из Петербурга для китайского Трибунала, ни присутствие при разговоре русского генерал-губернатора, наместника самого царя в Восточной Сибири, ни угрозы наказания от императора Поднебесной за то, что маленький гусайда поссорит две великие империи…
— Зачем тянуть ростки, помогая им расти? — твердил Ли Чучун. — Всему есть время. Отправляйте пакет дипломатической почтой и получите ответ, если на то будет воля нашего пресветлого императора.
Эта морока длилась так долго, что Муравьев, до того сидевший молча, вспылил и встал.
Гусайда помедлил, давая прочувствовать значимость китайского офицера, затем тоже поднялся.
— Переведите этому… — генерал запнулся; хотелось крепко, по-армейски, обругать гусайду, но он сдержался: в конце концов, тот ничем не хуже наших бюрократов, — этому ревнителю порядка, что я восхищен его дисциплинированностью, но заявляю: если до середины мая ответа из Пекина не будет, я отдам приказ об отплытии.
Сычевский перевел. Ли Чучун всполошился:
— Нельзя плыть без разрешения. Император будет очень недоволен. Он пошлет армию, чтобы остановить сплав, и может быть война.
— У России уже идет война с Турцией, Англией и Францией. Именно из-за нее мы должны переправить по Амуру свои войска, чтобы защитить наши владения. А в Китае идет война с тайпинами, и все армии императора на этой войне. Так что между нами войны не будет. И мы не спрашиваем разрешения на сплав, а уведомляем, что наши действия не направлены против Китая. Так что срочно связывайтесь с ургинским амбанем и решайте вопрос с пропуском моего представителя. Я жду два дня.
Когда Муравьев с Заборинским, Свербеевым и Сычевским возвращались в Кяхту, генерал, сморщившись и потирая левую сторону груди — что-то сердце начало сдавливать, — сказал с досадою:
— Больше я напрямую ни с одним китайским чиновником говорить не буду. Еще взорвусь и что-нибудь скажу не то или сделаю.
— А что «не то», Николай Николаевич? — полюбопытствовал Заборинский.
— Морду набью, — коротко ответил генерал.
Но и через два дня ничего не изменилось. Муравьев подозревал, что гусайда в Ургу никого не посылал, но это уже было неважно: требовалось действовать, как он и обещал, то есть запускать махину сплава.
— Может быть, еще подождать дня два-три? — предложил Заборинский.
— Я не могу отступать от своих слов, — мрачно сказал Муравьев, меряя шагами взад-вперед кабинет кяхтинского градоначальника, в котором они находились вшестером, включая самого Ребиндера. — Китайцы решат, что русский генерал-губернатор бросает слова на ветер. А это — унижение России. Мы сплавимся без их согласия. Думаю, что тайпины для императора Поднебесной важнее, чем движение русских по Амуру.
— Это как сказать, — заметил Ребиндер. — Китайцы не дураки. Тайпинов император рано или поздно задавит. Если понадобится, нас на помощь позовет. Нам подавлять революции не впервой. А вот земли по Амуру будут потеряны для них навсегда.
— Земли по Амуру — русские земли! — Муравьев так резко остановился перед Ребиндером, сидевшим на диванчике у стены, что тот непроизвольно вскочил, почти на голову возвысившись над генералом. — Зарубите это себе на носу, любезный Николай Романович, и не пытайтесь ставить под сомнение. Особенно перед иностранцами. А то небось и со своим маймачинским агентом в том же духе беседовали? Где, кстати, вы его умудрились откопать?
Ребиндер густо покраснел:
— Извольте, сударь, разговаривать со мной достойным образом. Я не штабс-капитан какой-нибудь, которого вы в армии били по физиономии, я имею чин четвертого класса!
Муравьев откровенно опешил. Он не ожидал такого контрудара и, естественно, не был к нему готов.
— Да полно, полно, Николай Романович, — забормотал он сконфуженно, косясь на напряженные лица Заборинского и чиновников. — Ну, погорячился я, виноват, простите великодушно. Расстроил меня этот гусайда. Примите мои извинения.
Ребиндер был человеком отходчивым и ссориться ни с кем не любил.
— Извинение принимается, — сказал он. — Что касается агента…
— Да бог с ним, — поспешно сказал Муравьев. — Это так, к слову. Для меня куда важнее ваши заслуги в сношениях с китайцами. Да вы садитесь, садитесь… Ахиллес Иванович, Епифаний Иванович, да и вы, молодые люди, должно быть, и не знаете, что Николай Романович в прошлом августе совершил поистине историческое деяние?
— Ну что вы, Николай Николаевич, какое там историческое, — смущенно махнул рукой Ребиндер, опускаясь на свой диванчик.
— Да как же не историческое?! Вы встретились с амбанем — первый случай такого уровня переговоров за двести лет отношений с Китаем, Мне вот выше гусайды пока не довелось.
— Все еще впереди, Николай Николаевич. Теперь вы будете вести все переговоры как полномочный представитель Российской империи. А я… я просто выполнял ваши указания, предлагал совместно защищать устье Амура от англичан или американцев.
— От англичан — да, а от американцев я подвоха не жду. У них дел полно на своем берегу океана. Они, конечно, зубастые ребята и в будущем, возможно, у нас будут проблемы, но пока главный наш враг — Англия! — убежденно сказал Муравьев. — А еще, Николай Романович, я очень ценю ваш доклад в Сибирском комитете по торговле с Китаем.
— Он тоже был подготовлен по вашему указанию.
— Ну, указывать — это просто, а подготовить и доложить так, что после доклада комитет дал кяхтинской торговле заметную свободу — это как раз то, ради чего и создавалось здесь градоначальство. Вы в полной мере выполнили возложенные мною на вас задачи. Благодарю!
— Да вы уже меня официально благодарили…
— Что вы, Николай Романович! — подал голос Заборинский. — Услышать дважды благодарность генерал-губернатора — все равно что орден получить.
— Надеюсь, орден будет: я представление сделал.
— Благодарю вас, ваше превосходительство, — привстал Ребиндер, но Муравьев за плечо усадил его обратно и сел рядом.
— Ну что же, господа, — сказал он, хлопая себя по коленям, — подвожу итог. Завтра утром мы покидаем гостеприимную Кяхту… — сделал паузу и спросил с легкой улыбкой в усах: — Обед, надеюсь, всем понравился?
Кяхтинские торговые люди, прослышав про обед в Иркутске, решили не ударить в грязь лицом перед стольным градом Сибири. И — не ударили!
— Да уж, — вздохнул Заборинский. — Купцы постарались. До сих пор в себя прийти не могу.
Сычевский скромно промолчал. Он вообще старался вести себя незаметно, как подобало, по его мнению, чиновнику IX класса, титулярному советнику. И это ему удавалось.
А Свербееву и Бибикову полагалось помалкивать, пока не спросят.
— Так вот, — продолжал генерал в том же духе, — Кяхту мы покидаем, вполне удовлетворенные как приемом, так и участием местных миллионщиков в великом амурском деле, и едем далее следующим образом. Вы, Ахиллес Иванович и вы, Епифаний Иванович, едете прямиком в Шилкинский Завод. Там сосредоточивается вся подготовка к сплаву. А я с молодыми людьми заеду в Петропавловское за стариком Ведищевым, далее — в Бянкино, к Кивдинским, за обещанным полумиллионом, и на лодке прибуду в Шилку. Наверное, шестого или седьмого мая. К тому времени, говорят, лед уже пройдет. — Муравьев посидел еще несколько секунд, как бы вспоминая, не забыл ли чего, потом снова хлопнул себя по коленям и резво вскочил. — Нас ждет поистине великое дело, господа, и никто нас не остановит!
2
Седьмого мая, как и предполагалось, Муравьев прибыл в Шилкинский Завод, или, попросту говоря, в Шилку, из села Бянкина, на лодке, в сопровождении охраны, молодых чиновников и Корнея Ведищева. Вид у него был весьма довольный: он помирился с вернувшимся в родной дом Христофором Петровичем Кивдинским и получил от него обещанное. Частично деньгами, частично товарами, нагрузившими еще две лодки.
К тому времени в Шилку съехались на проводы сплава военный губернатор и наказный атаман Забайкальского казачьего войска генерал-майор Запольский из Читы, командир 3-й бригады 24-й пехотной дивизии Отдельного Сибирского корпуса генерал-майор Михайловский из Верхнеудинска, исправляющий должность горного начальника Нерчинских заводов инженер-подполковник Разгильдеев из Нерчинска. Все со своими старшими офицерами и заводскими чиновниками.
Вообще, в эти дни небольшой городок переполнился приезжим народом. Всюду мелькали мундиры разных родов войск — армейские, флотские, артиллерийские, инженерные, казачьи, — словно большой военный лагерь готовился к сражению. Наверное, так оно и было, только сражение обещало быть бескровным. Из штатских выделялись чиновники — их тоже можно было узнать по мундирам, а купцы, мещане, работный люд различался лишь по чистоте и богатству одежды.
Все были воодушевленно возбуждены, многословно и горячо обсуждали предполагаемые перипетии путешествия. Особым вниманием пользовались местные плотовщики, хорошо знающие вздорный и необузданный нрав весенней Шилки вплоть до ее встречи с Аргунью; ниже, по Амуру, сплавлялись немногие, однако ходили они на лодках, теперь же вниз шел огромный караван плотов, лодок, барж и павозков — а это далеко не одно и то же.
Любовался народ и уличными украшениями, на которые расстарались местные власти и первый из них подполковник Разгильдеев. Иван Евграфович после ревизии Струве изо всех сил стремился обратить внимание генерал-губернатора на свои хорошие дела. Он провел подписку среди офицеров и старших чиновников на праздничный ужин. Муравьев было воспротивился, но, видя, с каким энтузиазмом все восприняли предложение Разгильдеева, дал согласие и внес свой вклад по подписке.
Но с ужином дело шло обычным порядком, а вот украшение города родилось из фантазий самого Разгильдеева и его помощников. Разглядеть его краски сегодня сквозь плотные слои лет чрезвычайно трудно, практически невозможно, однако, слава богу, нашелся очевидец, положивший увиденные картины на бумагу. Этим очевидцем явился благочинный, протоиерей Симеон Боголюбский. И вот его впечатления (с малыми сокращениями и некоторыми уточнениями).
«Праздник был назначен на 9 мая, день святителя Николая.
Вечером этого дня главная улица завода, на полторы версты в длину, по обеим сторонам обставлена была деревьями, в виде большой аллеи, и при них на подмостках стояли плошки. На этой же улице возвышался храм Славы с боковыми пирамидами, украшенными плошками и разноцветными фонарями; в центре помещен был транспарант с вензелевым изображением государя императора под короною; вверху был парящий орел, а внизу написано:
Ура, наш мудрый Николай! Твои орлы парят высоко… Молчи, Монгол! Не спорь, Китай: Пекин для русских недалеко!Посреди улицы, на нагорной площадке, устроен был из деревьев — лиственницы, черемухи, березы, сосны, багульника и мелкого кустарника — полукруглый садик с аллеею, обставленною такими же деревьями. В полукружии возвышались: посредине — храм, а по бокам — пирамиды. Все это сооружение связывалось арками легко и красиво, а пирамиды кроме огней украшены были и цветами. В глубине этих арок, или храмиков, вставлены были три транспаранта. На среднем транспаранте была написана аллегорическая картина — рыцарь на Стрелке, где соединяются Шилка и Аргунь, стоящий на пьедестале из военных доспехов. В одной руке рыцаря щит, в другой меч. Этим мечом витязь показывает на Восток, а там, вдали, возле устья Амура, видны: крест, поклонение ему монгольских племен, восходящее солнце и т. д.; над рыцарем парит двуглавый орел; над устьем Амура — тоже. В средине между орлами, в облаках, является на торжественной колеснице, везомой двумя лошадьми, Марс. Внизу, по берегам Амура, видны пажити, нивы, церкви, сельские работы, горное дело; равно показана фауна края: звери, кит, рыбы, птицы и т. д. На устье Амура, в глубине картины, виден город, а на взморье — корабли: суда, пароходы, лодки и т. п. Под картиною помещены следующие стихи:
Туда, наш витязь полунощный, Туда, где царствовал Чингис, Как исполин Сибири мощный, Возьми Амур и укрепись! Орлом лети через твердыни, По волнам лебедем плыви, Промчися вихрем по пустыне И мысль Великого сверши! Та мысль была — Отца Петра: Она, как океан, глубока, Сильна, как крылия орла, Богата, как страна Востока! Узрев тебя, и океан Смиренно ляжет под стопами; Толпа гиляк-островитян Придет с покорными главами. Иди же с миром, наш герой, Иди, куда звезда ведет… Тень гения страны родной Из лавр венец тебе сплетет!В правой боковой пирамиде на транспаранте написаны были исторические события, совершившиеся во время управления Восточной Сибирью Н. Н. Муравьевым:
«В достославное царствование Государя Императора Николая I, в управление Восточной Сибирью генерал-лейтенанта Муравьева, совершилось:
I
В лете 1851 года — преобразование Забайкальского края.
II
В лете 1852 года — Забайкальскому казачьему войску розданы знамена, в командование войском наказного атамана генерал-майора Запольского.
III
В лете 1853 года — по рекам Шилке и Унде добыто 171 пуд золота.
IV
В лете 1854 года — на воды рек Шилки и Аргуни спущена легкая флотилия для плавания по Амуру. Главным строителем флотилии был капитан 2-го ранга Казакевич».
С левой стороны в пирамиде вставлена была клеевая картина, на которой изображена река и по ней плывущая лодка с тремя штабс-офицерами, а внизу написано:
Хвала и вам, отважные пловцы Корсаков, Невельской и Казакевич! Так встарь яицкие ходили удальцы, И так ходил Ермак наш Тимофеич.За этими арками, в глубине панорамы, на возвышении, поставлен был щит, на котором бенгальским огнем горели буквы «Н.Н.» (вензель Муравьева)».
Когда генерал-губернатор осматривал все эти сооружения и украшения, военный оркестр несколько раз играл «Боже, царя храни…», огненными разноцветными фонтанами взрывались фейерверки, многочисленные зрители по сторонам улицы кричали «ура» и бросали в воздух шапки.
Ликование было непринужденным, рождалось душевным восторгом от первого и, наверное, последнего такого праздника в этом городке, все годы своего существования знавшего лишь изнурительную работу на заводе, на плотбищах, приисках — да военную службу, которая была не менее изнурительной.
Вагранов, сопровождавший Муравьева, выхватил взглядом среди работного люда, толпившегося на обочине, знакомое молодое лицо, поманил парня пальцем и, когда тот подошел, в удобный момент представил его генералу:
— Вот, Николай Николаевич, плотогон Ваньша Казаков, тот самый, который помогал задержать английских шпионов.
Муравьев, в первый момент недоуменно поднявший брови — кто это и зачем он мне нужен?! — услышав про английских шпионов, сразу подобрел лицом.
— Рад, очень рад, — похлопал он парня по плечу. — Ну, как, Ваньша, нравится тебе праздник?
Ваньша, сминая в больших руках сдернутый с головы картуз, сказал, мучительно запинаясь:
— Глянется… Тупоресь никадысь[48] такова не видал… Дён нонеча яровной…[49]
— А на сплав записался?
— А как же! И я, и тятя, и Архип Седых — все вместях уплавимся, токо на разных плотах…
— Молодцы! Вот вам рубль серебряный, погуляйте сегодня, а на плотах — ни-ни, чтоб ни капли! Ну, а за тех англичан прими мою отдельную благодарность, — и генерал подал парню еще один рубль. — Подружка у тебя есть?
— А как же! Марфуша Седых, дочка дядьки Архипа…
— Вот и купи ей какой-нибудь подарок.
— Благодарствуем! — поклонился Ваньша. Не в пояс поклонился — с достоинством, как подобает мастеру-плотогону.
Муравьев с любопытством посмотрел на него, хмыкнул и тоже наклонил голову, прощаясь.
Генерал шел по улице, в сопровождении огромной свиты, и то и дело помахивал правой рукой, приветствуя собравшихся на праздник. Настроение у него было приподнятое (Разгильдеев, глядя на него, тихо радовался, что все идет без сучка-задоринки). Вчера вечером из Нерчинско-заводского Богоявленского собора привезли в дар сплаву чудотворную икону Божией Матери «Слово плоть бысть» в серебряном окладе и специальном наборном и остекленном кивоте. Икона эта пережила все китайские осады Албазина и с той поры стала называться Албазинской. Все Забайкалье истово верило в ее чудотворность и, похоже, были для того исторические основания. Утром 8 мая благочинный протоиерей Симеон Боголюбский с прибывшим вместе с ним причтом отслужил возле иконы напутственный молебен и благословил ею генерал-губернатора на подвиг во славу России. И столь торжественна была эта служба, что не только у многих присутствовавших, но и у самого Муравьева от волнения выступили слезы на глазах. Генерал с непривычным для него чувством благоговения приложился губами к иконе и приказал передать ее в войска; собранные для сплава, они разбили лагерь на правом берегу Шилки напротив города. (Причалы левого берега были заняты баржами и павозками, нагруженными хлебом, мясом, вином и иным продовольствием, предназначенным для Камчатки и Амурской экспедиции. Там же стояли плашкоуты с пушками, порохом, свинцом и другим вооружением.)
Кстати сказать, и сам генерал-губернатор квартировал в военном лагере. В обычной палатке, опекаемый лишь молчаливым слугой Савелием и верным Ваграновым. По возвращении штабс-капитана из Петровского Завода, Николай Николаевич выслушал его доклад о доставке машины, смотреть ее не стал, а велел держать в резерве, на случай поломки той, что стояла на пароходе «Аргунь», Вагранова же оставил при себе.
Иван Васильевич был рад вернуться к службе офицера для особых поручений. Отдел контрразведки как-то незаметно распался; Волконского постоянно использовали для других целей, а самому Вагранову эта деятельность после гибели Элизы просто-напросто опротивела. Да и грызла его душу тоска по несбывшейся любви, и отражение этой тоски теперь всегда можно было увидеть в его глазах. Не знал Иван Васильевич, что генерал потому и взял его снова для особых поручений, что разглядел ту глубинную растерзанность и решил загружать его как можно больше, чтобы отвлечь от бесплодных сожалений о прошлом. Николай Николаевич сам тяжело переживал даже кратковременную разлуку с Екатериной Николаевной и, как ему казалось, хорошо понимал состояние своего наперсника, навечно разлученного с любимой.
Вот и сейчас, идя на праздничный ужин, он представил на мгновение вечность такой разлуки и содрогнулся от ужаса, что это может случиться и с ним. «А что тут особенного, — холодно сказал рассудок, — все смертны, и сплав этот амурский — не прогулка по курортной аллее; он может оказаться смертельно опасным, тем паче что идет война, и еще неизвестно, как встретят караван китайцы: если подтянут пушки и обстреляют — тут и конец твоим честолюбивым надеждам; если даже останешься жив, император не простит такого провала; офицеры в подобных случаях пускают пулю себе в висок — вот тебе и вечная разлука…»
«Не-е-т! — завопил в душе другой голос. — Со мной ничего такого не произойдет! Я столько лет ждал, столько готовился, и у меня все будет хорошо, будет просто замечательно! Это — первый рывок, все остальное — легче и проще. Господь любит Россию и не допустит провала…»
Он очнулся уже за столом — как дошел, не помнил: был в прострации. Осторожно огляделся. Слава богу, никто ничего не заметил — сейчас, в начале похода, главнокомандующий перед подчиненными должен излучать особую уверенность, не допускать ни тени сомнения в успехе предприятия, никаких колебаний в принятии решений — в этом половина победного результата, а может быть, и вся победа.
Генерал откашлялся — шум за столом, обычный при рассаживании гостей, моментально стих, — подправил рыжеватые усы и поднял граненую хрустальную рюмку с водкой.
— Дамы и господа, мы собрались, чтобы по старинному русскому обычаю празднично отметить начало исторического события — возвращения великой России на великий Амур. Сто семьдесят пять лет назад наши предки-первопроходцы вынужденно ушли с его берегов — теперь настало время возвращения. Мы идем в неведомое, мы с честью пройдем это неведомое до конца, и оно откроется нашему Отечеству всеми своими богатствами. Мы — не завоеватели. Государь император, посылая нас в этот поход, повелел, чтобы на Амуре не пахло военным порохом — мы выполним его мудрый наказ. Я поднимаю этот тост во здравие нашего великого государя Николая Первого, во здравие его августейшей семьи. Ура!
— Ура! Ура! Ура! — прокатилось по зале.
Все встали и подняли бокалы.
За окнами ударили залпом пушки, цветными сполохами фейерверка озарились стекла, военный оркестр заиграл «Боже, царя храни…». По его окончании, чуть погодя, хор каторжных запел русскую народную песню.
В лагере за рекой в небо взлетели ракеты, превращаясь в разноцветные искрящиеся шары, — там тоже шел праздничный ужин.
На улицах Шилки купцы выставили столы для всех гуляющих — с водкой и простой, но обильной закуской. Народ пил, закусывал и братски обнимался. Люди в городе не слышали, как там, в главной зале, поднимаются тосты во здравие генерал-губернатора, последователя Пояркова и Хабарова, и его сподвижников, заново открывающих Амур, вспоминаются слова великих Петра и Екатерины о нужности Амура для России и восхваляются деяния Муравьева как исполнителя их замышлений, — люди не слышали пафосных и выспренних тостов, но их сердца выплескивали такую безмерную любовь к своей трудной и норою неласковой земле, что не могли не чувствовать себя в эти моменты родными братьями и сестрами.
И, словно подтверждая эту нехитрую истину, хор каторжных пел песню на стихи карийского ссыльно каторжного Макеева:
Как за Шилкой за рекой В деревушке грязной Собрался народ толпой, И народ все разный. Посмотреть все хочут бал В Шилкинском Заводе; Каждый шел и рассуждал Все о пароходе. Вдруг на Шилке на реке Волны заиграли, И чуть видно, вдалеке. Лодки выплывали. Раздалось: ура! ура! — Все засуетились, И из каждого двора К Шилке торопились. Жданный всеми генерал, Громкий по державе, Ободряя всех, сказал О походной славе: «Не жалеть своих трудов, Подвигом гордиться! С нами Бог и рой штыков! Нечего страшиться!» «Кто со мною?» — он сказал, Обратясь к народу. — Все готовы, генерал, Хоть в огонь, хоть в воду!3
Муравьев собирался отправиться в поход сразу после праздника, однако на следующее утро прискакал казак из Усть-Стрелки, от сотника Кирика Богданова, с сообщением, что в устье Шилки и на Амуре еще плотно идет лед и надо неделю повременить.
В тот же день на Аргунь, в Цурухайтуй, откуда в Усть-Стрелку на соединение с караваном должны были сплавиться несколько павозков с продовольствием, отправился гонец с тем же указанием: неделю повременить. А в саму Усть-Стрелку был послан приказ: подготовить к сплаву сотню казаков во главе с есаулом Имбергом, включив в нее знающих Амур хотя бы до Албазина, а зауряд-сотнику Скобельцыну явиться лично к генерал-губернатору.
Приказ писал Вагранов под диктовку генерала. Услышав про Скобельцына, он явно удивился, что какой-то зауряд-сотник смог заинтересовать генерал-губернатора, но, разумеется, промолчал, однако Муравьев заметил его удивление и, подписывая приказ, счел нужным пояснить:
— Очень дельный человек этот Скобельцын. Мне Ахте рассказывал, как он не раз выручал его экспедицию, когда они вели изыскания на становике. Прекрасно знает Верхний Амур: отец у него зверопромышленник, с детства брал его с собой, поэтому он говорит на многих местных языках.
— А вы лично его знаете?
— Встречались, когда он приезжал в Нерчинск по поводу присвоения офицерского чина. Я его благодарил за службу. А теперь вот пригодится его знание Амура.
В ожидании конца ледохода Муравьеву пришло в голову испытать пароход «Аргунь». Его только что спустили на воду, освятили и подняли на нем Андреевский флаг. «Аргунь» должна была пройти две версты вниз по течению и вернуться обратно, где для встречи приготовили оркестр. В общем, генерал решил устроить еще один праздник — открытие пароходного движения. Пока что по Шилке, а затем и по Амуру.
Но, к великому сожалению собравшихся и большому раздражению главноначальствующего, из этой затеи ничего хорошего не получилось. Нет, вниз по течению пароходик сбежал очень даже резво, а вот обратно преодолеть течение — не вышло: силенок не хватило. Притащили его к причалу самой обычной конной тягой, попросту говоря — бичевой.
Генерал-губернатор встречал незадачливый кораблик в окружении заводских мастеров — Белокрылова, Павлова, Дедулина, Бакшеева, Шлыка. За их спинами прятался от рассерженного начальства чиновник Шарубин, непосредственный куратор строительства парохода. Дейхман, наоборот, стоял в первом ряду, возле невозмутимого Казакевича.
Пароход пришвартовали к причалу, фалы, послужившие бичевой, отвязали от кнехтов, лошадей увели. Командир «Аргуни» Сгибнев, недавно, по представлению Казакевича, произведенный из мичманов в лейтенанты, сбежал по сходням и вытянулся перед начальством.
— Разрешите доложить… — отдав честь, начал он, но генерал гневно оборвал:
— Что ты мне хочешь доложить, лейтенант?! А? Что ты получил не колесный пароход, а римскую колесницу с упряжкой в две квадриги? У тебя же машина в шестьдесят лошадей! Ну, в чем дело, лейтенант?! Или захотелось матросскую куртку надеть? Так я тебе это мигом устрою!
Александр Степанович, хоть и стоял по стойке «смирно», только поворачивая голову вслед движениям генерала, однако перед начальством не робел, отвечал с достоинством, чем еще больше раздражал генерала, который возбужденно-нервно ходил взад-вперед перед строем мастеров.
— Течение сейчас слишком быстрое, ваше превосходительство, а судно железное, тяжелое — мощности машины не хватает. Да и нет ее, полной мощности: машина на дровах, а они быстро прогорают, давления пара недостаточно.
Муравьев резко остановился перед высоким лейтенантом, ухватил за верхнюю пуговицу форменного сюртука, потянул, заставляя наклониться, и почти прошипел в лицо:
— У вас есть парусное вооружение, почему не применили?
— Команда не обучена, ваше превосходительство. На реке с парусами управляться сложнее, чем на море.
— Почему не обучили?!
— Позвольте, я отвечу, ваше превосходительство, — вмешался Казакевич.
Генерал отпустил Сгибнева, оглянулся, недовольно сморщился, но махнул согласно рукой:
— Отвечайте, Петр Васильевич.
— Команда набиралась с большими сложностями, Николай Николаевич. По всей губернии искали механика-машиниста. Свободных не было. По предложению Михаила Сергеевича Волконского пригласили его одноклассника по гимназии Петра Кивдинского…
— Сына купца?
— Да. Младшего сына.
— Ну и как?
— Справляется. Ну, кочегара найти — не проблема. А вот матросов… Добровольно никто идти не хотел — пришлось брать из рекрутов, а обучать — уже было некогда. Да и Сгибнев всего месяц как командир…
— «Аргунь» корабль военный, будет включен в состав Охотской флотилии, — уже гораздо спокойнее сказал Муравьев. — И надо срочно строить второй пароход, полегче, деревянный. Машина для него есть?
— Есть. Доставлена в Шилку, — подал голос Вагранов, стоявший в стороне, среди свиты генерал-губернатора, но хорошо слышавший его каждое слово.
— Вот и назовем его — «Шилка». «Аргунь» уже есть, будет «Шилка», а там и «Амур». Но для «Амура» надо будет машину помощней. Осилите, Оскар Александрович?
— Осилим, Николай Николаевич, — ответил Дейхман. — Но есть одно большое «но».
— Как это? Что это? — не понял Муравьев.
— Вы слышали, что сказал Сгибнев: из-за недостатка давления пара машина не вырабатывает положенную мощность. Нужен черный каменный уголь.
— Уголь есть, и в большом количестве, на Сахалине, но это далековато. На Нижнем Амуре он будет использован обязательно, а отсюда до него далековато. Надо искать. Где Разгильдеев?
— Здесь я, ваше превосходительство, — откликнулся из свиты инженер-подполковник. — Уже понял: будем искать. Есть сведения, что севернее Петровского Завода в речном обрыве, да и где-то на Аргуни видели следы черного угля. Он и нерчинским заводам крайне нужен.
— Так что ж вы так долго телитесь? — сердито сказал Муравьев. В своем кругу он не очень стеснялся в выражениях: мог и обругать матерно, так что обычная его грубость приближенными воспринималась как бравурная музыка, а не унижение достоинства.
— Край обширный, речек много… — пробормотал Разгильдеев. — Но мы стараемся.
— Ладно, — решительно заявил генерал-губернатор. — Что есть, то есть. Надо срочно подготовить баржу с дровами для парохода, чтобы не терять на них время по дороге.
— Уже заготовлена, — ответствовал Казакевич.
— Молодцы, молодцы… — Генерал прошелся перед мастерами. — Все молодцы! А построите второй пароход — ваши имена, можно сказать, останутся в истории. Потомки будут говорить: вот эти люди были первыми в Амурском пароходстве! — Он заметил, что Шлык порывается что-то сказать. — Чего тебе, Степан Онуфриевич?
— Дак это, значитца, дозволь… те слово молвить, господин генерал?
— Ну, говори.
— Дозволь с тобой… с вами… уплавиться?
— А кто второй пароход будет строить? Он же должен быть деревянный — самая твоя работа.
— Деревянный я уже, значитца, тутока строил. Здешние плотники не хужей меня, да и столяры найдутся. А мне уж больно лестно на Амур, значитца, глянуть. Да посмотреть, — Степан хитро прищурился и вдруг подмигнул Муравьеву, — как у тебя в энтом деле получится.
— А-а, помню, помню, — засмеялся Николай Николаевич. — Ты в Сибирь за мной пошел, а теперь и на Амур тоже хочешь?
— Хочу.
— Ну а в Сибири-то как, по-твоему, у меня все получилось?
— Все не все, но — получатся.
— Не все — это верно, — вздохнул генерал-губернатор и пожаловался: — Дел очень много. А людей надежных маловато.
— А людей надежных много не быват, — умудренно сказал Степан. — Надежный, он потому, значитца, и надежный, что могёт заради твоего антиресу от своего отказаться. А от своего антиресу мало кто отказыватся.
— Вот и ты от своего интереса не хочешь отказываться, — усмехнулся генерал.
— Не скажи, — возразил Степан. — В таком походе великом плотники нужны? Нужны! Мало ли кака починка потребоватся, а я плотник, значитца, первостатейный! Так что наши антиресы тутока в обнимку идут.
— Ну, хорошо… — сдался Муравьев. — Выбирай себе плот. — И обратился ко всем: — Сегодня из Усть-Стрелки прибыл зауряд-сотник Скобельцын с известием, что лед прошел и можно отправляться. Поэтому завтра в четыре утра отслужим напутственный молебен и выходим. Зауряд-сотник будет показывать дорогу. Регулярные совещания проводим перед ужином на штабном плашкоуте, он же послужит и офицерской столовой. Вы, Петр Васильевич, как «адмирал», командующий всеми плавсредствами, пойдете на «Аргуни», а я со Скобельцыным — на баркасе с гребцами, под своим штандартом. Думаю, баркас более маневренный, чем пароход, а удобств мне много не требуется. Была бы постель да столик для работы с бумагами — и достаточно.
Глава 12
1
14 мая 1854 года рано утром (некоторые очевидцы, видимо, любители поспать, полагали, что вообще сразу после полуночи) выстрелом из пушки был дан сигнал общей готовности, и военный лагерь на правом берегу Шилки пришел в движение.
Военные всех рангов и видов войск приводили себя в порядок: умывались, собирали амуницию, готовили к сбору палатки; дымили полевые кухни; специальные команды грузили походное снаряжение на баржи и павозки; командиры, заранее получившие номера плавсредств под погрузку подразделений, группировали солдат и казаков поблизости от «своих» сходней. Конные казаки заводили лошадей на приспособленные под загоны плашкоуты.
Подъесаул Шамшурин выстроил сводную полуроту казаков у плашкоута № 13, приказал хорунжим ждать полевую кухню с завтраком и убежал в штаб подполковника Корсакова, назначенного общим командующим сплава.
— Подняли, кады ишшо черти в кулачки не бьют, — сварливо сказал Кузьма Саяпин Гриньке Шлыку, широко зевнул и перекрестил свою зубастую пасть. — Да и номер чертов дали. Таперича хватим с им мурцовки.
— А скоко всего номеров-то? — спросил Гринька.
Просто так спросил, потому что ему было решительно все равно, на чем и под каким номером плыть. Все эти баржи, павозки, лодки были большие, неуклюжие и, на его взгляд, совершенно неповоротливые. Неделю назад в их полуроту по приказу самого генерал-губернатора включили старого казака Корнея Ведищева, и тот вечерами успел порассказать молодым парням, каковы по весне Шилка и Амур. Больше даже Шилка, которая разбухает, принимая через ручьи и речушки (а число их бессчетно) талую снеговую воду; Амур же весной буянит много меньше, а вот в августе, когда с океана приходят непроглядные теплые дожди («Музоны называются, — важно пояснил старый пенек. — Оне, кады льют, анагды песни поют»), а в горах быстро тают толстые снеговые шапки, река поднимается на четыре-пять сажен и управиться с ней не под силу даже матерым плотогонам и загребным. Но и у Шилки, и у Амура тьма-тьмущая кривунов, щек, а то и труб[50], и провести по ним такой караван — это вам не щербу[51] хлебать.
— Номеров? — переспросил Кузьма и снова зевнул, заражая зевотой всех стоящих рядом. — Да почитай, с казаками наш — последний. А скоко с солдатами да под грузми — не ведомо. Да, Гринь, — оживился побратим, — я вчерась батьку твово видал.
— Где? — встрепенулся Гринька. — Чё сразу не сказал?
— Да в ум не взял, — досадливо махнул рукой Кузьма. — Ротный за какой-то хренью послал, я и запамятовал. А видал его на берегу, рядом с генералом. Тамока «Аргунь», быдто халку[52], лошадьми прибурлачили, оне все и стояли, ждали. А потом ушли.
— Хорошо, ежели б он с нами отправился, — мечтательно сказал Гринька. — Тятя всю жизню хотел до края земли дойтить. А мы ж на самый край плывем!
— От, и чаеварка наша на колесах, — кивнул Кузьма на приближающуюся полевую кухню. — Щас кашей брюхо набьем, сливан попьем — и на боковую.
— Я те дам на боковую! — построжился неожиданно объявившийся подъесаул. — После завтрака погрузите кухню на плашкоут, потом — общее построение на молебен, а уж далее — грузимся сами и отчаливаем. И про боковую забудьте — на веслах, на рулях работы всем хватит… Да, а где Корней Ведищев, кто его видал?
— Ведищева к генералу увели, господин подъесаул, — ответил хорунжий Эпов. — За ним вестовой прибегал.
— Ну, ладно. Приступайте к завтраку, — приказал Шамшурин и первым получил котелок каши и кружку чая. Понюхал варево, глотнул из кружки и скривился. В походе командиры рот питались вместе с подчиненными, и никто не выказывал недовольства. А вот Шамшурин не мог забыть, какими угощениями он пользовался, когда был капитан-исправником.
Казаки получали свои порции и рассаживались где кому удобнее. Побратимы облюбовали молодую травку возле небольшого пенька, который годился в виде столика. За две недели лагерной стоянки берег реки преобразился и далеко не в лучшую сторону. Все деревья и кустарники были вырублены на топливо, трава вытоптана; каким-то чудом сохранились ее «пятачки» на самом крае берега, и парни обосновались как раз на таком «пятачке».
Ели ячменную кашу, запивали чуть сладким чаем, пахнущим банным веником, и любовались видом на Шилкинский Завод.
Солнце поднялось уже высоко, его лучи искрились в струях быстро бегущей воды, обтекающей смоленые бока плашкоута, сияли маленькими солнцами на куполах шилкинской церкви, колокола которой вдруг разразились благовестом.
На том берегу возникло движение. Сначала появились хоругви, под ними шли священнослужители в торжественном облачении с иконами в руках и пели пасхальный канон, так как еще не кончился сорокадневный праздник Светлого Воскресения Христова. Несмотря на ранний час за ними следом плотной толпой шли жители Шилки и приезжие.
Святое шествие погрузилось в лодки, и гребцы повели их на правый берег, на котором в это время трубы пропели общее построение. Сводный батальон спешно выстраивался вокруг стола, накрытого белой скатертью, на котором икона Албазинской Божьей Матери серебром оклада и стеклом кивота отражала яркий солнечный свет.
Муравьев со своим окружением подошел к берегу, чтобы встретить причт крестным знамением и общим поклоном. Протоиерей Симеон Боголюбский благословил встречающих, и все вместе они прошли к столу с чудотворной иконой.
Батальон взял оружие «на караул», офицеры отдали честь.
— Дети мои, — обратился генерал к своему разнородному войску, — настало время отправиться в поход. Полтораста лет Россия ждала этого часа. Теперь она с надеждой смотрит на нас. Помолимся же Господу Богу и попросим Его благословения на наше путешествие.
— Рады стараться! — ответил мощный хор молодых глоток, после чего все сняли шапки, преклонили колена, и начался молебен о ниспослании Божьей благодати всем воинам, плавающим по морям и рекам.
Затем был чин освящения судов ратных, на коих следовало плыть, а вслед за тем — барж, баркасов, плашкоутов, плотов, собранных у левого берега.
Под непрерывный колокольный звон отправляющиеся в поход занимали места, отдавали швартовы, с помощью шестов отчаливали от берега. Отвалил от причала и пароход. Его колеса стали постепенно раскручиваться, расплескивая воду широкими лопастями. На палубе заиграл духовой оркестр.
На генеральской лодке подняли два флага — Андреевский, белый с голубым косым крестом, и личный штандарт главноначальствующего — тоже белый с золотым гербовым щитом, коронами и орлами, — над которым трудились Екатерина Николаевна и Елена Сергеевна Молчанова. Гребцы взялись за весла, и лодка вынеслась на стрежень. На носу ее бок о бок стояли генерал и Корней Ведищев. Позади них возвышался Григорий Скобельцын. Он был лоцманом.
Провожающие радостно кричали «ура», в воздух полетели шапки. Гулко ударила заводская пушка, по распадкам окружающих гор прокатилось эхо.
Весла шлепали по воде, на стрежень одно за другим выходили суда и плоты. Кормщики, набранные из плотогонов, стояли на рулевых гребях и все силы и внимание направляли на то, чтобы не было столкновений. Караван растянулся на две с лишним версты, казалось, ему не будет конца.
Но вот за ближайшим поворотом скрылась корма последнего плашкоута, и разом все стихло.
Великий поход начался.
2
До Усть-Стрелки караван шел почти четыре дня, останавливаясь лишь на ночлег. Дневка с обедом была всего один раз, в первый же день, у складочных магазинов Усть-Карийского золотого промысла. Обед, главным блюдом которого для Муравьева и его штаба была огромная белуга, неведомо как заплывшая в Шилку, устраивал опять же Разгильдеев.
Батальон также накормили роскошной ухой, а гражданские, плывшие большей частью на плотах, еду готовили сами — благо припасов хватало.
Муравьев был доволен угощением и отдыхом: он, вообще-то, за последние перед отплытием недели изрядно устал, поэтому позволил себе пару лишних рюмок вина и сейчас расслабленно радовался хорошему дню, яркой весенней природе и отсутствию серьезных происшествий.
Несерьезные — были, но их последствия старались быстро исправить своими силами, не привлекая внимания начальства.
Обед с отдыхом незаметно перетек в ужин, а там и в ночлег.
Молодой секретарь Муравьева по дипломатической части Николай Дмитриевич Свербеев (сын старого дипломата, он после окончания Лицея служил чиновником по особым поручениям в Якутском областном правлении, там его приметил Струве, временно исправлявший должность областного начальника, приметил и рекомендовал Муравьеву для открывшейся вакансии секретаря), не утративший юношеского романтизма, так описывал свои впечатления от этого ночлега: «…Когда совсем уже стемнело, засветились огоньки на левом и правом берегах, задымились солдатские котлы, и денная суета, шум и хлопоты уступили место тишине, изредка прерываемой окликом часового. Не забуду я этой чудной майской ночи, Усть-Карийского привала и целого этого дня, столь полного радостными впечатлениями, столь увлекательного ожиданием дальнейшего плавания по краю неизвестному, о котором так много толковали в Сибири и которого между тем никто не видал воочию».
Знал бы он, чем обернется всего лишь через полгода этот привал для его рекомендателя, к которому он питал искреннюю симпатию!
Зато отлично знал, что делает и чем это может обернуться для того же лица горный начальник Нерчинских заводов — инженер-подполковник Иван Евграфович Разгильдеев, когда во время ужина ненавязчиво наговаривал генерал-губернатору о предвзятости ревизии Усть-Карийского промысла Бернгардом Васильевичем Струве. Он, Разгильдеев, всего лишь стремился к наведению порядка на приисках, порядка, без которого не могли быть добыты те 106 пудов золота, что так пришлись по душе его императорскому величеству. (И за которые генерал-губернатору была объявлена высочайшая благодарность. Но Разгильдеев об этом даже не заикнулся, хотя, разумеется, знал.) А Струве, по молодости лет, по благородному юношескому стремлению всех защитить, собрал жалобы тех, кому не нравился установленный Разгильдеевым порядок, и обвинил его в произволе. А какой же это произвол, если наказываются смутьяны и наказываются по закону? Да, некоторых пороли, ну так что ж, спускать, что ли, противодействие власти? За это никто по головке не гладит, а пример строгости, при всем своем безграничном человеколюбии, показал государь император. Зачинщики мятежа на Сенатской справедливо получили полной мерой, а из остальных скольким были всяческие послабления — и по условиям каторги, и по срокам, и по местам поселения. А он, Разгильдеев, только порол и только за большие провинности. Вот взять хотя бы пьянство. Приказано было — в рабочее время не пить, а они с утра — чуть не в усмерть!
Слышал, нет ли инженер-подполковник про тульские порки пьянчужек, но попал в точку. Муравьев покраснел и спросил, выпрямляясь в кресле, в котором сидел у походного столика:
— И что, они тоже жаловались?
— Жаловались, Николай Николаевич, — вздохнул Разгильдеев, скромно опуская глаза.
— И Струве принимал их жалобы?
— Целую папку собрал!
— Ладно, Иван Евграфович. Вернусь из похода — там посмотрим.
Несмотря на трудности сплава и события, связанные с войной, Муравьев не забыл этого разговора; к нему прибавились некоторые недочеты в управлении Бернгардом Васильевичем Якутской областью — о них генералу доложили, когда он через Якутск возвращался домой, — все это вместе вызвало у Муравьева сильнейшее раздражение и по приезде он не принял Струве с докладом о делах в Иркутской губернии (молодой чиновник управлял ею, пока Венцель замещал генерал-губернатора). Бернгард Васильевич понял, что впал в немилость, и не стал искушать судьбу: сказался больным и подал рапорт об отставке. А вскоре покинул Восточную Сибирь.
Екатерина Николаевна пыталась образумить мужа, но тот закусил удила и не захотел менять гнев на милость. Как говорил сам Струве, генерал-губернатор не простил ему, что он, рядовой чиновник, не дал себя оскорбить.
В Усть-Стрелку пришли поздно вечером. Здесь намечено было подождать отставших. Отставали чаще всего из-за неожиданных мелей: половодье сильно изменило картину фарватера и даже опытные лоцманы и кормщики допускали ошибки, загоняя свои суда на залитые водой берега. И тогда, как добродушно выражались жертвы этих ошибок, приходилось до седьмого пота корячиться, стаскивая и сталкивая баржу или павозок с мели.
Плотам легче: они проходили там, где глубина была всего-то по колено. Столь же просто вели себя все плоскодонные посудины с малой осадкой: не теряй управления, не позволяй вихревому течению себя закрутить, не подставляй бока бойцам, вроде Черного Куцана, — и все будет, как надо. Конечно, чтобы выполнить все эти «не», и рулевые, и гребцы ухряпывались до полного изнеможения, но если гребцы менялись довольно часто, то кормщиков не хватало, сменять их было некому, и к вечеру, вконец измочаленные, они просто не могли стоять на ногах. Не спасало и выделение им помощников — среди них мало находилось толковых, перенимающих опыт, больше использовалась их грубая сила.
Население станицы высыпало на берег Шилки посмотреть на чудо чудное — павозок, по бортам которого крутились огромные колеса, загребая воду, а из высоченной трубы, торчащей над палубными постройками, валил густой дым. Когда Стибнев, следуя правилу подхода к причалу (которого, кстати, не было), огласил реку ревом парового гудка, бабы и ребятишки шарахнулись от Шилки и бежали до самой Аргуни, на другую сторону станицы. Казаки же проявили завидную храбрость: они лишь попятились, крестясь и матерясь. Когда с борта матросы им бросили носовой и кормовой концы, прося подтянуть пароход к берегу, они сначала с неохотой, а потом дружно так потянули, что едва не поломали колесо о береговую отмель.
Убежавшие вскоре вернулись — в основном ребятня — и не отходили от парохода до поздней ночи. Бабы же поспешили к своим избам: им надо было собирать в поход мужей и старших сыновей. Станичный атаман Кирик Богданов уже всех известил, что Усть-Стрелка должна выставить в поход сотню казаков под командованием есаула Имберга. Сотня набиралась еле-еле, и Кирик Афанасьевич обрадовался, когда Герасим Устюжанин, с зимы живший в Усть-Стрелке, предложил записать его в казаки и отправить в поход.
— А как же твой договор с Машаровыми? — для порядка спросил станичный атаман.
— А он у меня бессрочный, — беззаботно сказал Герасим. — Из похода вернусь — много больше расскажу.
— И то верно. Но в реестр тебя занесть — права такого не имею.
— А неважно! Ружье у меня есть, сабля, думаю, у вас найдется, а припасов дадите.
— Лады! С Имбергом и Скобельцыным я договорюсь.
Так Вогул стал казаком.
К утру 18 мая караван собрался полностью; с Аргуни пришло известие, что и та малая часть, что шла от Цурухайтуя, тоже на подходе, в нескольких верстах.
Усть-Стрелка, где и усадеб-то было чуть больше сорока, бурлила народом. Муравьев приказал оркестру с раннего утра играть веселую музыку, чтобы подбодрить и путешественников, и местное население, которое со слезами провожало в поход почти всех мужчин и парней. Скобельцын отобрал из них десяток лоцманов, знающих Верхний Амур хотя бы до Кумары[53], и распределил их по судам. Оставшимся девяноста отдали плашкоут № 13, переселив шамшуринскую полуроту на плоты. «Переселенцы» радовались, как дети: им уже до смерти надоело грести, кое у кого на руках набухли кровавые мозоли, на плотах же надо было работать лишь на рулевых веслах. Тоже не сахар, но все-таки несравнимо легче.
Особенно повезло Гриньке с Кузьмой: они попали на плот, где находился Степан Шлык. Все трое долго обнимались и тут же договорились устроить маленький пир — сразу, как только караван отойдет от станицы. Парни отпросились у хорунжего Эпова и сбегали на берег за свежим мясом. Гринька раздобыл лосиную ляжку, а Кузьма сверх того притащил на горбу полмешка картошки.
К полудню пошел дождь, он мелко сеялся из низких туч, набегавших с юга, из-за сопочника на правом берегу Аргуни. Все ожидали, что Муравьев отложит отправление, но ошиблись: как только вдали показался цурухайтуйский караван, генерал приказал сниматься со швартовов. Сгибнев порадовался, что с утра медленно, но верно поднимал давление пара. Теперь, получив приказ, он дернул шнурок ревуна, тот рявкнул, выпустив белый кудрявый клубок, и «Аргунь» начала отрабатывать задний ход. Оркестр на палубе заиграл марш.
На берегу осталось мало народу — плачущие бабы, хмурые старики. И только ребятишки бежали с веселым гиканьем, не желая расставаться с чудным колесным павозком, до самой стрелки, еще разделяющей воды Шилки и Аргуни, стрелки, за которой начинался Амур.
Лодка генерала снова вырвалась вперед и первой вошла в воды Амура. Муравьев наклонился, заранее приготовленным стаканом зачерпнул темной амурской воды, которая в стакане оказалась чистой и прозрачной, и поднял, как бокал драгоценного вина:
— Друзья мои, товарищи, братья по оружию! — голос его зазвенел и долетел над водой до ближайших плотов и павозков. — Я поздравляю всех с возвращением на воды великого Амура! — И выпил до дна.
На плотах и палубах закричали нестройно «ура». Оркестр заиграл «Коль славен наш Господь в Сионе», и в расширяющуюся голубую прогалину неба выкатилось большое оранжевое солнце.
Николай Дмитриевич Свербеев в дневнике путешествия, который ему поручил вести Муравьев, восторженно записал: «Торжественна была эта минута, после двухвекового промежутка повторившаяся для русских на Амуре! Весело было смотреть на суда, которые неслись по гладкой поверхности реки».
На плоту Шлыка кипела подготовка к пиру: развели огонь в очажке, оборудованном на железном листе в центре плота перед балаганом, несколько человек чистили картошку — она была, конечно, прошлогодней, но крепкой, без ростков видно, хранили в холодном погребе. Сам Степан наточил топор и вышел с лосиной ногой к колоде в хвосте плота порубить мясо на куски — сначала крупные, потом помельче, чтобы уваривалось быстрее.
Он успел отрубить от ляжки пару хороших кусков и замахнулся топором снова, как вдруг что-то большое и темное обрушилось с неба чуть ли не на голову, ударило по глазам, сбило с ног; падая, Степан уже не мог остановить замах топора и рубанул мимо колоды. Бритвенно острое широкое лезвие вонзилось как раз в замковый узел смоленых канатов, крепящих хвостовую часть плота, и легко развалило его на две части. Быстрое течение веером развело бревна половины плота, разрывая крепления его середины; рухнул в воду один из двух станков с кормовым веслом-правилом и кормщик с помощником, только что лениво пошевеливавшие лопастью правила (на повороте в Амур работали носовые греби), оказались с головой накрыты волной; обрушились две стены балагана и в расходящиеся щели между бревнами посыпались складированные в балагане вещи.
На плоту развернулась бестолковая суета.
Упавший Степан бросил топор, вцепился в ускользающее бревно, заорал подскочившим Гриньке и Кузьме:
— Ташшите канат, вяжите крайнее бревно…
Парни бросились искать канат.
Несколько человек, собравшись на уцелевшей половине плота, занялись спасением кормщика и его помощника, которые бултыхались в ледяной воде совсем рядом, но никак не могли дотянуться до протянутых рук.
Все что-то громко кричали, перебивая друг друга.
К аварийному плоту поспешили ближайшие лодки; наползал, нависая бортом, плашкоут № 13, с борта которого уже бросали веревки.
Развернулся и пароход. Волна от его колеса докатилась до раненого плота и подняла разрозненные бревна. Они «заиграли» вразнобой.
Оступился и упал Гринька. Ногу Кузьмы зажало в щели, и он всеми силами старался ее выдернуть.
Занятые собой парни не заметили, как тело Степана соскользнуло с бревен и старший Шлык оказался в воде; бревна резко сомкнулись, с силой ударив его по голове, и оглушенный Степан скрылся в глубине.
Гриньке торкнуло в сердце; он оглянулся, не увидел отца и с воплем:
— Тятя-а! — прыгнул в воду, ныряя под плот. В просвеченной солнцем воде заметил ускользающее в сторону белое пятно отцовской рубахи и устремился за ним.
Краем глаза он уловил, что с двух сторон туда же стремятся еще две темные тени, но разглядывать, кто это, было некогда — он вцепился в шевелюру отца и потянул к себе, еще четыре руки ухватились за рубаху Степана и штаны, и втроем они потащили утопавшего наверх — к воздуху и солнцу.
Когда до поверхности оставалось совсем немного, один из спасателей вдруг отпустил Степановы штаны, изогнулся и схватился за свою ногу. «Корчей свело, — машинально подумал Гринька, — самого тащить надобно». И верно, второй спасатель тоже оставил Степана и взялся вытаскивать первого.
Вынырнули все вместе. Множество рук с разных сторон подхватили их, помогли выбраться на плот, который уже увязывали новыми канатами.
Степана уложили на заботливо подстеленные доски, лицом вниз; Гринька и Кузьма приподнимали его за поясницу и встряхивали — чтобы вода выходила. После нескольких встряхиваний изо рта полилось, Степан закашлялся.
— Тятя, живой! — обрадовался сын. — Живой!!
Степана подержали вниз головой, чтобы вся вода ушла, и уложили на спину. Гринька склонился над ним, вытирая кровь, которая струйкой текла из раны на голове. Степан тяжело дышал, не открывая глаз.
Тем временем одного спасителя, того, которого самого пришлось спасать из-за судороги, скрутившей ногу — видимо, вода была слишком холодна, — окружили плотным кольцом чиновники, офицеры, высадившиеся из причаливших к плоту лодок, и это не вызывало удивления: спасатель был не кто иной, как сам генерал-губернатор. Ему моментально доставили сухую одежду, растерли водкой, рюмку он выпил для прогрева изнутри и заозирался: где, мол, мой спаситель?
А спаситель, пока шла суматоха, незаметно перебрался на борт плашкоута, который двигался впритык, или, как говорят в Забайкалье, тычмя, с плотом, и успел сменить мокрые штаны и рубаху (сапоги он скинул, перед тем как нырнул с борта вслед за Гринькой). И все время бормотал, ухмыляясь:
— Ну, надо же, как судьба повернула! Видать, Господь Бог пошутить изволил.
— Ты чего гундишь, Устюжанин? — подошел к нему есаул Имберг. — Спас генерала — топай за наградой.
— Я не генерала спасал, господин есаул, — сказал, вытягиваясь во фрунт, Герасим.
— Да ты сиди, сиди, — усадил его есаул. И усмехнулся: — И кого же ты спасал, Устюжанин?
— Человека, господин есаул. А человек человека должен без награды спасать, — убежденно сказал Герасим. — Один раз я его, другой раз — он меня.
— Без награды, говоришь, должон? — Имберг подкрутил усы. — Ну-ну…
Сказал неопределенно и отошел по своим делам.
Пока шла суета вокруг спасенных, плот снова связали, уплывшие ящики и бочки выловили, и постепенно все успокоилось.
Муравьев так и не узнал, кто ему помог выбраться, но, в общем-то, не сильно и настаивал на поиске. Чтобы история не раздувалась слухами — мало ли что может случиться в таком непростом путешествии. Гриньке выдал награду — пять рублей, и на том дело закончилось.
А за ужином на плашкоуте, где была штабная кухня, сказал приватно Свербееву:
— Вы, Николай Дмитриевич, на заметку берите все, что происходит, но в книгу свою… вы ведь про сие путешествие наверняка книжку напишете? — Свербеев кивнул. — Да. Так вот, в книгу всякие неприятности вроде сегодняшней не включайте.
— Да как же, Николай Николаевич… — вскинулся возразить молодой секретарь, но Муравьев сжал его руку.
— Книга ваша, я уверен, получится замечательная! Всякий, кто ее прочитает, наверняка возбудится желанием своими глазами увидеть то, что увидели вы. И пусть перед его взором предстанут удивительные картины амурской природы, пусть он ощутит, какая тут прекрасная погода, какая вода, какое небо… солнце! А наши досадные неурядицы — это же случайности, а случайностям, согласитесь, не место в книге, которой суждена долгая жизнь. Ну, разве не так?
3
На холме, где двести лет назад стояла Албазинская крепость, возвышался православный восьмиконечный крест, видный издалека.
Караван приближался к историческим руинам под оркестр, игравший, как и при отплытии, «Коль славен наш Господь в Сионе».
— Наш крест, поклонный, — горделиво сказал Корней Ведищев Муравьеву, сидя рядом с ним в лодке, подходившей к пологому берегу. — Из листвицы. Тридцать лет стоит!
— Какой же он высоты? — подивился генерал-губернатор.
— Высоты-ы? — Ведищев пожевал губами, вспоминая. — Кажись, сажени три… Да, три, не мене. Помнится, мы с Гурьем и Христофоркой Кивдинским чуть пупки не надорвали, покудова поставили его.
— Как же китайцы не сожгли его, не свалили?
— Видать, Бог боронит память о тех казаках.
Лодка ткнулась в берег. Ведищев встал и перекрестился:
— Ну, пошли, вашество, поклонимся. Пращурам нашим геройским, молодечеству их. Нонеча бы так стояли: кажный един супротив дюжины ворогов!
Народ повалил на берег. Впереди шел Муравьев, за ним несли иконы и столик для них у креста должен был совершаться молебен в память защитников Отечества, положивших жизни свои на этих дальних берегах, но не посрамивших чести казачества.
Походный священник Филофей установил на середине столика лицом на восток кивот с Албазинской иконой «Слово бысть Бог», а возле нее с правой стороны икону покровителя путешествующих — Николая Чудотворца, с левой — благоверного князя Александра Невского, покровителя православных воинов.
Люди сняли шапки, опустились на колени, и отец Филофей начал богослужение.
Николай Николаевич машинально обмахивался крестным знамением, а думал о поклонном кресте, о его смысле и значении. О том, что этот, деревянный, в каком-то роде стал отражением в веках того духовного креста, который в свое время взвалили на себя казаки-первопроходцы, открывая новые земли и тем самым расширяя пределы Родины. Они, конечно, даже не думали о своей исторической миссии — ими владели иные, вполне приземленные помыслы — найти места, пригодные для простой, по-человечески счастливой жизни: чтобы была какая-никакая свобода, а вместе с ней — свой дом, хозяйство, жена, детишки… Недаром многие пришельцы охотно сочетались с местными красавицами, рожали детей и укоренялись в этих новых землях, не осознавая, что тем самым продолжают нести свой духовный крест. И защитники первых острогов, сражаясь с врагом, многократно превышающим их силы, вряд ли думали о том, что восходят на свою Голгофу, — они просто прикрывали грудью свои семьи, свои пашни и пажити. Исторический подвиг пращуров оценили потомки, те же Ведищев, Васильев, Кивдинский, устанавливая этот памятник. Им никто не указывал, никто их не заставлял — все сделали сами, а ведь это не легкий, не однодневный труд. Но это был высокий порыв, была духовная потребность соединить разорванную связь времен, можно сказать, была их миссия. И они ее выполнили.
«А вот поставят ли поклонный крест в память наших деяний, — думал Муравьев. — Не сегодня, не завтра — сейчас вся Сибирь радостно возбуждена возвращением на Амур, все рвутся принять участие — кто словом, кто делом, кто имуществом своим — еще бы: правое крыло орлицы делает первый взмах! — а через сто, двести, триста лет — будет ли где-то на Амуре стоять такой вот величавый в своей простоте памятный знак? Ведь это так важно знать — что ты не зря жил на свете и что тебя не забыли!»
Николай Николаевич внутренне усмехнулся, слегка иронизируя над пафосом таких мыслей, но глаза защипало: все-таки Родина, Отечество — слишком высокие слова, чтобы их разбрасывать направо и налево, но и жить без них невозможно — иначе это будет не жизнь с ее горячей кровью, а лягушачье прозябание в теплом болоте.
Он покосился на стоявшего рядом на коленях Корнея и увидел, как по лицу старика текут счастливые быстрые слезы.
Богослужение закончилось тостом. Николай Николаевич приказал выдать всем по стакану вина, поднял свой за всех воинов, живых и павших и выпил до дна. Отдавая стакан Вагранову, смущенно сказал:
— Что-то я последнее время многовато стал пить. Все тосты и тосты — так и заболеть недолго. Ты, Иван Васильевич, попридержи меня.
— Слушаюсь! — машинально откликнулся Вагранов.
Муравьев заметил его отрешенность и раздражился:
— Что ж ты «слушаюсь» да «слушаюсь». Я же тебя по-дружески прошу. О чем ты думаешь?!
Вагранов улыбнулся:
— Я подумал, как здорово смотрелся бы тут владыко Иннокентий с его мощью и голосом!
— Пожалуй! Филофей мелковат и голос жидок. Жаль, что владыко не смог с нами отправиться, а он очень хотел. Какие-то дела неотложные образовались.
— Ваше превосходительство, — подошел к ним Скобельцын, — тут манегры местные явились.
— Что им надо? — быстро спросил Муравьев. — Награды захотелось?
На одной из остановок в лагерь заявилась группа орочонов во главе со своим старейшиной: их удивило появление такого невиданного количества больших лодок и чудища дымнохвостого — парохода. Генерал взялся их расспрашивать, как живут, да нет ли недоимок. Толмачом был, разумеется, зауряд-сотник. Старейшина ответил с достоинством, что недоимок нет, а живут хорошо. Муравьев пожелал их наградить, хотя Скобельцын советовал этого не делать: мол, им внимания такого высокого начальства вполне достаточно. Однако генерал-губернатор наградил их кафтанами с золотыми галунами, медалями и кортиками в серебряной оправе.
— Смотрите же, будьте полезны, когда в этом будет надобность, — добавил он.
Орочоны приняли подарки без низкопоклонства, обещали служить «большому батюшке царю» и с тем же достоинством удалились в тайгу.
Вот и сейчас генералу показалось, что и манеграм нужны награды.
— Нет, ваше превосходительство, — ответил зауряд-сотник, — они толкуют, что большие лодки попали не в ту протоку и сели. Глубжина[54] мала.
Лицо Муравьева омрачилось, но он сдержался: такие случаи уже становились заурядными. По мере продвижения вниз по Амуру уменьшалось количество лоцманов, хорошо знающих фарватер, и попадание на мель неуклюжих барж и плашкоутов никого не удивляло. Исключительность этого случая была лишь в том, что протока оказалась западней: широкая и полноводная в начале, она быстро сузилась, а течение, соответственно, ускорилось и затянуло плохо управляемые посудины на отмели. И теперь задача заключалась в том, чтобы все их по очереди снимать и по прихотливому фарватеру приводить к месту стоянки каравана.
— Григорий Дмитриевич, — обратился генерал к Скобельцыну, — сможешь это сделать?
— Да смочь-то смогу, токо дело это устряпошное. Их там поболе десятка, весь день провожжаемся, а водохлест востро[55] уходит. Вода падат, — пояснил зауряд-сотник, заметив непонимание в глазах генерала.
— Тем более надо торопиться! — воскликнул Муравьев. — А с виноватых я три шкуры спущу! Давай, Скобельцын, действуй! Я в тебя верю!
Всю философскую задумчивость, навеянную размышлениями у поклонного креста, сняло в одно мгновение. Тут же по его распоряжению сколотилась команда кормщиков в помощь Скобельцыну, и на баркасе с сильными гребцами они резво ушли вверх по течению, прихватив в качестве проводника одного из манегров.
Провозились действительно до вечера. Когда уже в сумерках собрался весь караван, генерал вызвал к себе на плашкоут, где на ужин собрался его штаб, виновных в случившемся. Ими оказались два молодых подпоручика — Медведев и фон Глен.
История происшествия была проста.
По приказанию Казакевича баржи, павозки и плашкоуты шли поротно, одно судно за другим, связками, в кильватер. Когда шедший впереди фон Глен заметил быстрое сужение берегов и приказал горнисту подать сигнал вслед идущим, чтобы они сворачивали в другую протоку, было уже поздно. Следовало развязаться, развернуться, но течение не позволило этого сделать. В результате четыре плашкоута в связке фон Глена и семь барж в связке Медведева оказались на мели.
— Мальчишки! — орал побагровевший Муравьев, бегая перед вытянувшимися бледными от ужаса подпоручиками. — Да вы знаете, что я с вами могу сделать по обстоятельствам военного времени?! Эта задержка из-за вашего разгильдяйства может обернуться кровью ни в чем не повинных людей, которые вовремя не получат военного снаряжения. За это на фронте расстреливают без сожаления! — Генерал не стеснялся в выражениях, перемежая гневные крики знакомым многим из присутствующих армейским матом. Они слушали главноначальствующего, опустив головы. По щекам подпоручиков катились слезы. — Подполковник Корсаков! — рявкнул наконец Муравьев.
— Да, ваше превосходительство.
— Вы командуете личным составом сплава. Эти так называемые офицеры в вашем ведении?
— Так точно.
— Их следует примерно наказать. Подпоручика Медведева оставить с вещами здесь на берегу — пусть выбирается, как знает. Подпоручика фон Глена предупредить, что при следующем проступке он будет расстрелян перед строем, а пока посадить под арест не меньше чем на неделю.
— Ваше превосходительство, это будет не наказание, а отдых, — сказал Корсаков.
— Да? Да! Тогда неделю дежурства!
— Будет исполнено.
— А вы, — генерал повернулся к подпоручикам, — убирайтесь с глаз долой! Офицеры, мать вашу перемать!
Подпоручики ушли. Медведев откровенно плакал, как ребенок. Фон Глен его не утешал: у него самого положение походило на отложенную смерть — попробуй на трехтысячеверстном маршруте не повторить посадки на мель.
Но не прошли они и пятидесяти шагов, как их догнал Корсаков.
— Постойте, господа! — Все остановились. Корсаков всмотрелся в лица офицеров, озаряемые недалекими сполохами солдатских костров (многие предпочитали ночевать на берегу), и ободряюще улыбнулся. — Не страдайте, господа, все обойдется. Просто не попадайтесь на глаза генералу, а позже он успокоится. Но дежурство вне очереди вам обеспечено. Идите ужинайте.
— Благодарим, господин подполковник! — дружно выдохнули с облегчением офицеры. — Храни вас Бог!
— Да ладно, ладно, — засмеялся Корсаков. Повернулся и ушел.
Офицеры переглянулись.
— За это стоит выпить, — сказал фон Глен.
— Непременно! — поддержал Медведев. — И за Корсакова тоже!
Глава 13
1
Рано утром Степан, уже оклемавшийся, но еще с завязанной чистой тряпицей головой, Гринька и Кузьма сидели на бревешке возле плотового балагана и любовались амурскими красотами.
А полюбоваться было чем.
Амур раздвинулся не меньше чем на версту. Караван шел под высоким — то скалистым, то просто обрывистым — левым берегом. Правый голубел вдалеке островерхими сопками-тычками.
Вода была гладкой, как будто без течения, хотя на самом деле оно чувствовалось по ходу плота и бурлению у подножья береговых скал.
Плашкоуты, баржи, павозки, лодки шли теперь не в связках — Казакевич отменил свой приказ после случая у Албазина, — а как кому удобнее. Далеко позади дымила «Аргунь»: после каждого привала она теперь замыкала караван, чтобы прийти на помощь отстававшим или застревавшим на затопленных островах, которых было великое множество.
— Тятя, глянь — олень!
На скале стоял большой рогатый зверь и, задрав голову, трубил.
— Это изюбрь, — пояснил Кузьма, знакомый с забайкальским зверьем, которое мало отличалось от местного. — А вон, в аянчике[56], козули на водопое.
И верно, на каменистом бережку заливчика собралось семейство косуль. Самец, крупный, высокий, подняв красивую голову с длинными, чуть загнутыми рогами, пристально смотрел на проплывающих, но в его позе не было ничего тревожного. Две козочки пили воду, ни на кого не обращая внимания. Все были покрыты летней рыжеватой шерстью.
— Совсем не боятся, — сказал Степан. — Значитца, людей тута нету.
— Да людей-то мы уже скоко дней не видали, — вздохнул Гринька. — Стоко земли и никого нет!
— А я вечорась[57] китайца верхи[58] видал, — потягиваясь, сказал Кузьма. — На кривуне[59] к их берегу впритеску подошли, я и увидал.
— А чё не сказал? — обиделся Гринька.
— Да как-то не допер. Прости, брат.
— Ладно, ишшо насмотримся на их.
У края плота круто плеснула рыба. Гринька лег на бревна, заглянул в воду и разинул рот. Оглянулся на Степана и Кузьму и сказал, почему-то шепотом, словно его могли услышать в воде:
— Тятя, Кузя, вы гляньте сюды!
Шлык и побратим плюхнулись рядом.
— Да тише вы! — зашипел Гринька. — Вот медведи!
Они посмотрели в воду и обомлели. Рядом с плотом плыла длинноносая рыба, огромная, может, чуть покороче бокового бревна. Степан осторожно опустил в воду руку и потрогал гребень, идущий вдоль всей спины чудовища. Рыба резко вильнула в сторону и ушла в глубину, взмахнув острораздвоенным хвостом; волна окатила людей с ног до головы.
— Вот дак калужина, господи прости! — восхищенно вскрикнул Кузьма. — Вот бы споймать!
— Дак така тебя самого споймат — не подавится, — засмеялся Степан. — Ты видал, кака у ей пасть?
— Во! — Гринька развел руки, показывая размер рыбьей пасти, и закатился смехом, тыча пальцем в Кузьму. Тот добродушно поддержал побратима.
— Эх, хорошо идем! — заявил Степан, перевернувшись на спину и глядя в голубое небо с редкими кучками облаков. На миг среди них просквозило скорбно-укоризненное лицо Матрены — такое было при прощании в Петровском Заводе — и Степан зажмурился, чувствуя, как загорелось виноватостью его лицо.
— Сплюнь, — посоветовал сын. — Самое время.
— Што такое? — резво вскочил Степан и пригляделся, куда указывал Гринька. Там по светлой воде скользили, взмахивая веслами, будто крыльями, и уходя одна за одной в протоку, черные длинные хищные лодки.
— Зря ты, Кузя, про китайца смолчал, — упрекнул побратима Гринька.
— А ты думашь, я один его видал? И энтих китаезов не мы одне видим.
Как бы подтверждая его слова, на носу «Аргуни» пыхнуло белое облачко и вслед за тем долетел гулкий звук холостого выстрела.
— Вот, общая тревога, — удовлетворенно сказал Кузьма.
Муравьев хотел догнать и перехватить лодки, но Скобельцын отсоветовал.
— Они наверняка шли в Горбицу, — сказал он. — Туда вешно[60] завсегда китайские чиновники приходят — пикеты проверять. — И уважительно добавил: — Люди вытные. Ну, тоись, умные, с опытом. А значит, кумекаю, пошлют верхи гонца и в Цыцыхар, и вниз по Амуру — в Айгун, что за Зеей-рекой. Там ихний амбань. Наш караван все едино не скрыть — так пущай готовятся.
— А если у них в Айгуне войска? — обеспокоился генерал.
— Да откуда в Айгуне войска, Николай Николаевич? — вмешался Корсаков. — Им с тайпинами не расхлебаться. Они поэтому и на лист не ответили, чтоб туману напустить — будто недовольны и козу нам хотят устроить. Ну, недовольны-то они, конечно, недовольны, да только ответить нашему сплаву нечем. Ну, соберут они в Айгуне хиленькую команду, а у нас — что? Сводный батальон, сводная сотня, конная и пешая, батарея полевая — как выстроим всех, они от одного вида нашего в штаны наложат. И стрелять не придется.
— Я слово дал государю — пройти без выстрела. — напомнил Муравьев.
— Слово — не воробей: вылетит и — наповал! — позволил себе вольно высказаться обычно молчаливый Казакевич.
— Петр Васильевич! — укорил генерал. — Вот уж от вас-то не ожидал такого легкомыслия!
— Шутка, Николай Николаевич, — смутился капитан второго ранга. — Прошу извинить. Но ведь прав господин Грибоедов: иное слово страшнее пистолета.
— У него там что-то про злые языки, — сказал Корсаков.
Муравьев махнул рукой:
— Ладно, господа, шутки побоку, пойдем как есть. А перед Айгуном, Миша, — в узком кругу он позволял себе называть троюродного брата по имени, — надо выдать всем свежее нижнее белье, свежее мясо и другие припасы, вычистить оружие, ввернуть новые кремни. Чтобы взбодрились служивые. И действительно, выстроим всех, а если надо, дадим салют холостыми зарядами в воздух пусть амбань прочувствует. А вы, Петр Васильевич, прикажите всем поднять флаги расцвечивания. Это на китайцев тоже подействует. Они, бывает, плохо слышат слова, даже если те страшнее пистолета, но хорошо видят силу и уважают уверенность.
На том и порешили, и успокоившийся Муравьев, как обычно, на своей лодке со штандартом начал объезд каравана. Старшие по судну докладывали генералу о состоянии своей команды, могли высказать и жалобы или просьбы. Сопровождавший Муравьева Свербеев все записывал в особый журнал, по этим записям после ужина делался разбор плавания и намечался план на следующий день.
Заглянул генерал-губернатор и на плот Шлыка — проведать спасенного. Кузьма как раз приготовил чай сливан, не такой, конечно, как дома, — сливан, после заваривания и заправки маслом, яйцами и сливками, надо посолить и потомить в русской печи, а тут не было ни печи, ни сливок, — но все-таки получилось вкусно. Генералу понравилось.
— Как вам тут — плыть не скучно? — поинтересовался Николай Николаевич.
— Да кады скучать-то, господин генерал? — ответствовал Степан как старший по плоту. — То на правилах стоим, то готовкой заняты, то груз проверим — все ж-таки, значитца, провиант армейский везем, не абы что.
— Любо нам тута — вот и не скучам, — не удержался Гринька.
— Токо пусто как-то, — добавил Кузьма. — И где люди-то?
— Да, людей маловато, — согласился генерал. — Переселять надо, станицы ставить. Вы приглядывайте места покрасивей, поудобней и на заметку берите — самим же пригодится. Как жены-то ваши молодые, согласятся переехать?
— Нашим женкам ишшо каторжи́ть да каторжи́ть, — вздохнул Кузьма. — Гринькиной Татьяне год, моей Любане — полтора.
— Ну, нам не нонеча ж переежжать, — сказал Гринька. — Не ране чем через год — вот срок и выйдет.
— А я вот думаю, господин генерал, — сказал Степан, — переежжать, значитца, поедут перво-наперво молодые неженатые… Так?
Он замешкался, словно не решаясь высказаться до конца.
— Ну-ну, — подбодрил Муравьев, прихлебывая вкусный чаек. — Договаривай.
— А середь каторжанок молодых девок да баб в самом соку хучь отбавляй. Лучшее, значитца, их времечко пропадат ни за грош! Вот и отбавить их на новые земли. Каторжанкам, значитца, — послабление, а молодым казакам — невесты и жены. И всем — радость!
Муравьев даже чай отставил:
— Ну, ты, Степан голова! А я обговорю в Сенате, чтобы переселенкам сроки каторжные снимали — славное выйдет дело! — Генерал глянул на парней. — Вот, хлопцы, учитесь мыслить, пока такой человек жив. — И вдруг по лицу его пробежала тень. — Послушай, Степан, я вот все думаю и не нахожу ответа… Не поверишь, но ведь как на тебя беркут напал, и как ты тонул, я давным-давно во сне видел. И не однажды. Правда, каждый раз иначе, так, совсем немного, а в целом — все в точности. Может, ты объяснишь? И, кстати, кто меня вытащил, так и не знаю.
Степан задумался, а парни, о чем-то вполголоса толковавшие между собой, изумленно примолкли.
Генерал ждал.
— Чево те сказать, Николаич? — раздумчиво произнес Степан, кажется, даже не заметив, что назвал главноначальствующего, можно сказать, по-приятельски. Но этого не заметил и сам Муравьев. А может, просто воспринял как естественное обращение старого знакомого. — Должно быть, Господь так крепко обозначил твою путь-дорожку, что ты видишь наперед, чево на ей случится. Тоись, значитца, вещщие сны. А кто тя спасал, — он развел руками, — прости, не скажу.
— Ну, хорошо. — Генерал встал. Встали и Шлыки с Кузьмой. — За вкусный чай спасибо, впервые такой пил. За объяснение — тоже. Может быть, ты и прав, Степан Онуфриевич. А мне пора: скоро Айгун, надо место выбрать для стоянки, чтобы к встрече с китайцами приготовиться. Они по своему берегу, похоже, всех людей угнали куда подальше, чтобы те с нами не общались. Ну да никуда не денутся — встречать придется.
Место Скобельцын нашел на левом берегу при впадении в Амур широкой мощной Зеи, за несколько верст от городка Айгуна. Генералу место понравилось, и войска начали высадку — привал был определен до следующего утра. Двух чиновников, один из которых был Николай Дмитриевич Свербеев, а второй переводчик Епифаний Иванович Сычевский, Николай Николаевич отправил на лодке в Айгун — предупредить амбаня, что утром к нему явятся командиры сплава.
Чиновники вернулись поздно вечером и рассказали, что амбань буквально был сражен известием о прибытии русских. У него изменилось лицо.
— Такое было впечатление, что мы опередили всех гонцов, — рассказывал Свербеев, — а когда я сказал, что уже месяц, как в Пекин отправлен лист о нашем сплаве, амбань заявил, что из столицы не было никаких сообщений.
— Амбань просит нас задержаться на две недели, пока он свяжется с Пекином и получит ответ, — добавил Сычевский. — Все это время он обязуется снабжать нас продовольствием.
— Я решений своих не меняю, — заявил Муравьев. — Не моя вина, что их бюрократия медленно работает. Утром придем в Айгун, и пусть он попробует нам препятствовать.
Незадолго до ужина Муравьеву вздумалось обойти лагерь, своими глазами увидеть, как солдаты и казаки готовятся к важному, может быть, важнейшему в их путешествии, событию. У первого же артельного костра он поинтересовался, получили солдаты свежее мясо, белье, новые кремни для ружей и другие припасы. Солдаты отвечали откровенно, что ничего не получали. Генерал повернулся, ища глазами в своей свите подполковника Корсакова, но того и след простыл.
Быстрыми шагами Муравьев направился к другому костру. Разговор повторился почти дословно, и у третьего — тоже.
Муравьев рассвирепел:
— Подать сюда Корсакова! — рявкнул он. — В мою палатку! Немедленно!
Корсаков, успевший отплыть на легком вельботе, якобы для проверки, нет ли отставших, был вынужден вернуться и предстать перед разъяренным родственником и командиром.
— Оставьте нас! — приказал генерал-губернатор своей свите. Когда все вышли из палатки, он схватил подполковника за пелерину походного плаща и заговорил вполголоса, но это больше походило на рычание: — Ты что же делаешь, братец?! Позоришь меня перед всем штабом?! Почему не выполнил приказания?! А?!! Ты решил, что если я назвал тебя Мишей, то можно наплевать на приказ?!
Корсаков молчал. Да и что он мог сказать в свое оправдание? Что опять несколько барж заплутали между островами, и он был занят их поисками и спасательными работами? Что за этими заботами напрочь забыл о приказании? Это только усугубило бы его вину. Уж лучше подождать, пока брат-генерал немного успокоится.
Не дождавшись ответа, Муравьев отпустил пелерину и побегал взад-вперед по тесному пространству палатки. Потом снова остановился перед опустившим повинную голову подполковником.
— Пользуешься тем, что я тебя люблю, — сказал уже более спокойно. — Ты молод, не служил на Кавказе и не знаешь русского солдата. Его напои, накорми и тогда хоть черта подавай — всех одолеет. Ладно, иди выполняй то, что я раньше приказывал, и пусть объявят общий сбор и вынесут несколько ведер спирту. Я хочу кое-что сказать служивым.
Корсаков вышел.
Через несколько минут загремели барабаны. Сводные батальон и сотня выстроились в центре лагеря. Перед строем поставили ведра со спиртом. Муравьев появился во главе своего штаба. Остановился возле первого ведра и обратился к войску:
— Я служил на Кавказе, солдаты меня любили, со мною в огонь и воду готовы были идти. Надеюсь, если будет нужно, вы, дети мои, на свою руку охулки не положите. Я пью за вас, а вы выпейте за меня.
Генерал зачерпнул ковшом спирт и сделал несколько глотков, потом передал ковш близстоящему солдату, и тот тоже сделал несколько глотков.
Муравьев обнял его и поцеловал.
— Рады стараться, ваше превосходительство! — восторженно взревел строй. — За вами в огонь и воду!
2
Утром после пушечного выстрела Муравьев со свитой взошел на пароход, и «Аргунь» под музыку духового оркестра, взяв на буксир несколько баркасов с солдатами и легкими пушками, пошла в Айгун.
Оставшиеся в лагере солдаты и казаки были приведены в полную боевую готовность, и китайские наблюдатели, если они были на другом берегу, напротив устья Зеи, могли убедиться в решительности русских.
На айгунском берегу стояло несколько небольших пушек и собралось войско, весьма разнородное по вооружению, — были там луки со стрелами, копья, заостренные колья. Возле палатки амбаня, над которой развевался белый флаг с золотым драконом, стояла охрана с ружьями.
Когда «Аргунь» с баркасами на буксире, давая короткие гудки, лихо развернулась против течения и встала на якорь, китайское войско заметно шатнулось подальше от берега. Видимо, пароход для них был в диковинку.
Муравьев поначалу сам хотел встретиться с амбанем, но ему отсоветовал Крымский. Старый дипломат, в отличие от руководства министерства, к идеям Муравьева относился весьма благожелательно.
— Ваше превосходительство, — сказал Кондрат Григорьевич Николаю Николаевичу, — не того ранга амбань, чтобы генерал-губернатор, облеченный доверием самого государя императора, вел с ним личные переговоры. Китайцы в этих вопросах очень щепетильны, и вы, сами того не ведая, понизите в их глазах и свой статус, и престиж стоящей за вами России. Поэтому пошлите нас с Николаем Дмитриевичем, для него это будет первый дипломатический опыт. Ну и Сычевского впридачу. Дайте нам гербовую бумагу с полномочиями и несколько офицеров для солидности.
Муравьев вспомнил свое участие в переговорах с гусайдой Ли Чучуном и признал справедливость слов министерского чиновника. Что-что, а уронить престиж Отечества для него было смерти подобно.
Все было сделано, как сказал Кондрат Григорьевич. Переговорщики и четыре офицера, среди которых были Скобельцын (он лично знал амбаня, тот не раз приезжал в Горбицу с инспекцией) и Вагранов, сели в шлюпку и направились к берегу. Едва они один за другим ступили на китайскую землю, к ним подбежал гусайда в темно-синем халате, подпоясанном кушаком с подвесками и кистями, и высокой остроконечной шапке с синим шариком на макушке. После короткого разговора гусайда махнул рукой, и к делегации пристроились четыре солдата с копьями — по два с каждой стороны. Гусайда пошел впереди, и все скрылись за спинами воинственной толпы.
Переговоры длились больше двух часов, и все это время Муравьев, нервничая, шагал взад-вперед по палубе «Аргуни». Войска стояли наготове и только ждали сигнала, чтобы начать высадку на китайский берег.
А тем временем в палатке амбаня шел нудный нескончаемый разговор. Амбань был в парадном халате; верхняя его часть — распашная кофта чаофу цвета индиго — украшена белым «облачным» оплечьем юньзянь и расшита мелкими золотыми птицами среди цветов и листьев; нижняя — длинная зеленая юбка чан — отделена от верхней двумя поясами — выше матерчатый, ню, с кистями, ниже кожаный, гэдай, с серебряными подвесками; на голове островерхая шапка гуаньли с шариком цвета индиго. На груди амбаня красовалась нашивка буфан с головой тигра. Все облачение, казалось, должно было поразить скромно одетых в европейские одежды русских переговорщиков, но Крымский, хорошо знающий китайско-маньчжурские правила, отлично понял, что амбань ни на йоту не превысил свой уровень государственного чиновника средней руки и просто предстал в деловом костюме.
Амбань жестом пригласил русских за низенький столик, на котором исходили паром чашки тончайшего фарфора. Едва чай остывал, две китаянки (или маньчжурки) в шелковых зеленых — цвета весны — длинных и узких платьях ципао, мелко семеня, меняли чашки на горячие.
Русские офицеры и китайские то ли чиновники, то ли тоже офицеры остались стоять за спинами своих переговорщиков. Вагранов приглядывался к китайской группе и вдруг столкнулся взглядом с изумленно расширившимися глазами. Изумился при виде Ивана Васильевича китаец в расшитом золотисто-голубыми драконами темно-синем халате и гуаньли с голубым шариком. Вагранов напряг память и узнал его.
Это был Ричард Остин.
Иван Васильевич, разумеется, не мог знать, что Остин прибыл в Айгун накануне прихода каравана и предъявил амбаню лист от губернатора провинции Хэйлунцзян, в котором говорилось, что господин Чжао Цзань направлен в Айгун советником по пограничным вопросам. Амбань немного удивился, что китаец с юга, по виду чжуан, говорящий на кантонском наречии, послан советником на маньчжурский север, но, привыкший не обсуждать указания сверху, принял чиновника со всем уважением.
— У меня есть сведения, — первым делом заявил новый советник, — что вниз по Амуру движется караван русских.
— Слухи об этом ходят уже два года, — возразил амбань, — однако до сих пор они не подтверждались. Но на всякий случай у меня наготове несколько джонок.
— По пути сюда я перехватил гонца из селения Хума, что на реке Хумаэрхэ, — с раздражением сказал Чжао Цзань. — Он рассказал, что в составе каравана идет большая джонка с трубой, из которой валит черный дым. Она разобьет ваши джонки. Надо выкатить на берег пушки и собрать всех солдат. Русские не имеют разрешения богдыхана, их надо остановить силой.
— Из Пекина нет никаких приказаний. Вдруг Трибунал дал согласие на проход каравана? — по-прежнему сомневался амбань. — Если мы попробуем его остановить, может быть ссора с Россией и большие неприятности для меня и моего гусайды. Вплоть до отсечения головы. Но пушки выкатить можно и солдат собрать тоже.
Он еще питал надежду, что все обойдется, но лишь до появления русских чиновников с известием о сплаве. Когда же спросил, большой ли караван, то ужаснулся их ответу. Семьдесят семь плотов, плашкоутов, баркасов, павозков и настоящий пароход! Да это же целая флотилия! Как же возможно ее пропустить?! А как — не пропустить?!
Но русские сказали, что они сообщили о сплаве в Пекин и у амбаня разрешения спрашивать не собираются. Просто извещают о своем проходе, чтобы не случилось чего-либо непредвиденного.
Амбань попросил времени до утра — он должен подумать. С тем и расстались.
А теперь амбань воочию увидел, какое перед ним войско и похолодел. Такое его пушки не остановят. Да у русских и у самих есть пушки, пехота и даже кавалерия: две баржи лошадьми заняты. Как высадят десант — что от Айгуна останется!
Он прислушался к тому, что говорил по-маньчжурски самый старший переговорщик Кжи-мысыки-фу:
— …экспедиция, которую возглавляет лично генерал-губернатор всей Восточной Сибири, снаряжена по приказу русского императора и не направлена против Китая. Задерживаться ей нельзя, так как она спешит к устью Амура, где ее ждут срочные дела. Генерал-губернатор весьма сожалеет, что почта из Пекина идет слишком медленно…
Все это, в том числе и предложение амбаня подождать две недели, было сказано уже по три раза и надо было что-то решать. Амбань беспомощно оглянулся на советника Чжао Цзаня — тот отрицательно покачал головой. Амбань открыл было рот, чтобы произнести свое предложение в четвертый раз, и вдруг вмешался русский офицер, стоявший за спиной переговорщиков:
— Кондрат Григорьевич, спросите амбаня, что тут делает английский шпион и почему амбань его слушает, — и он, вопреки всякому этикету, показал пальцем на советника.
— А вы уверены, Иван Васильевич, что это английский шпион? — состорожничал Крымский. — Он, конечно, мало похож на чистокровного ханьца, но, может быть, полукровка?
— Он чистокровный англичанин, но и по-русски понимает. Мы с ним дважды пересекались в Забайкалье. Второй раз меня чуть не убили.
— Ну, хорошо, я спрошу.
Крымский спросил. Амбань позеленел.
— Этого не может быть! Это — советник Чжао Цзань из Цицикара. У него есть документ!
Крымский перевел, и тут Вагранов сказал, наверное, самые решающие слова:
— Его советы поссорят Россию и Китай, что и нужно Англии. А амбань получит большие неприятности. Вплоть до отсечения головы.
Амбань поразился тому, что русский почти слово в слово повторил сказанное им, амбанем, советнику Чжао Цзаню. Это не могло быть случайностью, значит, само Небо подтверждает правоту русского. И он решился:
— Я не могу и не буду больше вас задерживать, уважаемые. Мои уполномоченные передадут генерал-губернатору пожелание успешного пути.
Делегация встала и раскланялась. Но от генерал-губернатора у Скобельцына было еще личное поручение, и он обратился к амбаню по-маньчжурски:
— Уважаемый амбань, генерал-губернатор просил выделить каравану китайского лоцмана, знающего удобный фарватер до Нижнего Амура.
Амбань ответил совсем неофициально:
— Сы-ко-бель-цин, мы не имеем такого лоцмана. Сожалею, но помочь не могу.
— Врет, конечно, — говорил Скобельцын товарищам на обратном пути, — но понять его можно. Своя голова дороже.
После ухода русских советник Чжао Цзань был взят под стражу и отправлен в Цицикар. В сопроводительном письме амбань почтительно известил высокого губернатора, что русские признали в советнике английского шпиона.
3
Тридцатого мая караван миновал устье Бурей, а через сотню верст берега резко сблизились и поднялись хмурыми горами с редкими распадками между ними. Кое-где на вершинах шапками сидели облака. Утреннее солнце пряталось за ними, и все вокруг казалось серым и угрюмым.
Вода перестала быть прозрачной, стали видны ее толстые струи, сплетавшиеся в косы, которые вдруг начинали пушиться шипучей пеной. Под скалистыми береговыми выступами закипели буруны.
— Хинган, — сказал Скобельцын Муравьеву. — Хинганские Ворота. Теперь на сотню верст хватим мурцовки.
— А что такое? Будут пороги?
— Порогов, слава богу, не быват, даже при малой воде. Однако быстерь[61], как на Шилке, бойцов много, зато вобудёнок[62] можем все Ворота пройтить.
Течение стремительно несло плоты и плоскодонные посудины. Колеса «Аргуни» крутились в обратную сторону, тормозя движение парохода, но это помогало едва-едва.
На переднем плоту у носовых правил стояли Евлан и Ваньша Казаковы — самые опытные плотогоны. Хотя говорить «стояли» было бы совершенно неправильно: вместе с помощниками они работали, как машины, отчаянными усилиями отводя свой плот от опасных скал.
На других плотах картина была точно такая же. Кормщики тоже выбивались из сил.
Люди с шестами выстроились на краю плотов и у бортов плашкоутов, баркасов и павозков, их задача была отпихиваться от слишком приблизившегося скалистого берега. Амур делал крутые повороты, и они переходили, а то и перебегали, с одного края плота на другой или от одного борта к другому.
Крики людей и гудки парохода, шум воды и гулкие шлепки весел и правил отражались от скалистых щек и улетали в распадки.
На плоту Шлыка Кузьма и Гринька, мокрые с ног до головы от брызг и неожиданных ударов волн, матерясь, ворочали тяжеленные правила. Сам Степан с несколькими казаками из полуроты Шамшурина бегали с шестами, отталкиваясь от скал.
Только к вечеру, когда люди совсем выбились из сил, когда невыносимо хотелось бросить все к чертовой матери, упасть и не шевелиться, караван вырвался из теснин и сразу стало светло, закатно-солнечно, ярко зазеленели пологие берега, и речные струи заискрились, рассеивая тысячи разноцветных «зайчиков».
— Тяжеленько тут придется пароходам, — сказал, бросив шест, Муравьев (он, как и другие офицеры штаба, всю сотню верст, забыв про раненую руку, «бодался» с берегами). — Ну да ничего, построим такие мощные, что им любые «ворота» будут нипочем. И вверх и вниз пойдут!
Второго июня караван прошел Сунгари и пятого — устье Уссури. Дальше, до озера Кизи, судя по имеющейся карте, больших притоков не было, зато островов и проток появилось бессчетное количество. Найти среди них главный фарватер стало практически невозможно: никто из имевшихся лоцманов до этих низовий не сплавлялся, а Корней Ведищев, ходивший до устья, уже ничего не помнил. Да если бы и помнил тот свой путь, вряд ли смог бы его повторить: ежегодные августовские разливы уничтожали одни острова и наводили другие, меняли затоки и протоки, образовывали в пойме неожиданные озера и болота.
Местные жители, которые изредка попадались по берегам, ни русского, ни маньчжурского языка не понимали, некоторые говорили по нескольку слов из того и другого, свидетельствуя тем самым, что общались с пришельцами, но помочь в выборе правильного пути не могли. Муравьев на отдыхе одаривал их серебряными монетами, они кланялись, приносили вяленую и свежую рыбу и исчезали в таежных дебрях.
Поэтому караван шел осторожно. С баркасов делали промеры глубин, обозначали фарватер вешками, и кормщики старались по ним вести свои посудины.
— Да-а, увидишь все это своими глазами, — говорил Муравьев Казакевичу, — и поймешь, сколь велики были труды Невельского со товарищи. Издалека все выглядит куда как проще и легче. Одно меня утешает, что помогал им всем, чем мог, и награды за свои труды они получали достойные.
— Самой достойной для них наградой, простите за пафос, Николай Николаевич, будет нетускнеющая об их делах память, — отвечал Петр Васильевич. — А еще — чтобы земли, ими открытые и исследованные, не пропали в забвении.
— Да что ж вы такое говорите, Петр Васильевич! Оставить их в забвении было бы величайшей глупостью правительства, — решительно сказал Николай Николаевич. За последние годы эти мысли так проникли в его сердце, что он немедленно возбуждался при одном их упоминании. А от правительства в лице Нессельроде и иже с ним столько уже вынес, что ничего хорошего от него не ждал и только удивлялся многотерпению государя императора. — Конечно, министры приходят и уходят, они, но сути своей, временщики, а у временщика важнейшая забота — свое благосостояние. Одна надежда, что государь как хозяин земли Русской не допустит нерачительного к ней отношения. А иначе — зачем все это? — показал генерал на растянувшийся вдаль караван. — Зачем Амурская и Сахалинская экспедиции? Зачем, наконец, все мы?!
Петр Васильевич ничего не ответил. Да и что можно было ответить на эти, может быть, самые главные и в то же время такие риторические вопросы? В какие-то моменты жизни они возникают почти у каждого человека: зачем я живу, страдаю, радуюсь своим победам и мучаюсь своими поражениями — все это кому-то и зачем-то нужно? И хорошо, если ответ будет: да, нужно.
Они находились на мостике «Аргуни» и даже с этой небольшой высоты были видны неоглядные дали амурской поймы. Петру Васильевичу в какой-то момент показалось, что они плывут по темно-зеленому океану, волны которого колышутся так медленно, что кажутся застывшими, — это кое-где над кустарниками и мелколесьем вздымались купы более высоких деревьев — сосен, пихт, елей, дубов… «Эти волны-купы своими формами, цветами и оттенками оживляли однообразную равнину, превращали плоскую картину в объемную — так выдающиеся люди, — подумал вдруг капитан, — своими делами, своими незаурядными жизнями одухотворяют человечество и оправдывают его существование в глазах Бога».
«Вот как, — иронически усмехнулся про себя Казакевич, — да я философом становлюсь; не дай господь, еще и вслух так же рассуждать начну — то-то смеху будет».
И он тихонько рассмеялся первым — над собой, над своими мыслями.
— Я сказал что-то смешное? — нахмурился Муравьев.
— Да нет, что вы, Николай Николаевич! Это в голове моей мелькнуло нечто поэтическое, и оно показалось таким смешным, что я не удержался. Прошу меня извинить.
— Это вы простите мою мнительность, — смутился Муравьев и постарался уйти от неловкой ситуации. — Интересно, сколько еще до Мариинского поста?
— Миль двести, не меньше, — подумав, ответил Казакевич. Он в подзорную трубу обозрел окрестности. — О-о, вон, кажется, лодка оттуда. По крайней мере, офицер на ней — наш моряк.
Действительно, вскоре к «Аргуни» подошла и развернулась, пристраиваясь к борту, четырехвесельная шлюпка с молодым морским офицером на руле.
— Кто вы и сколько еще до Мариинского поста? — нетерпеливо закричал в жестяную трубу-мегафон генерал-губернатор.
Офицер встал на корме шлюпки и отдал честь.
— Мичман Разградский, ваше превосходительство! — крикнул он в ответ. — До Мариинского поста около пятисот верст. Я привез вам письмо от Геннадия Ивановича Невельского.
— Давайте сюда письмо! — крикнул Муравьев Разградскому, а Казакевичу недовольно сказал: — Вот видите, около пятисот, а вы говорите: двести.
— Я сказал: двести миль. Имел в виду, разумеется, морские мили. Это триста семьдесят километров. Немного ошибся.
— Ага, немного, на сто пятьдесят верст, — сварливо сказал Муравьев, но тут же улыбнулся, как бы говоря: не принимайте мое недовольство всерьез. — Но все равно, пора поднять флаги расцвечивания. Петр Васильевич, потрудитесь отдать распоряжение.
Разградский взбежал на мостик, снова козырнул и вручил генерал-губернатору запечатанный пакет.
— Ну-ка, ну-ка, что там пишет Геннадий Иванович? — бормотал Николай Николаевич, разрывая обертку пакета и пробегая глазами содержание письма. — Та-ак… Настоятельно предлагает оставить сотню казаков на устье Хунгари, правого притока Амура, чтобы они через Хунгари и Хуту, которая впадает в реку Тумнин, вошли в сношение с Императорской Гаванью — туда должна прийти из Японии эскадра Путятина. Как считаете, Петр Васильевич?
— Геннадий Иванович если что предлагает, то можно быть уверенным, что он продумал вопрос основательнейшим образом.
— Да не такой уж это сложный вопрос!
— И тем не менее. У Невельского нет малых вопросов. Сейчас, когда разворачивается война и есть угроза нападения на наши восточные владения, любая мелочь может оказаться существенной. Вот придет Путятин в Императорскую Гавань, а вслед за ним нагрянут англичане и французы — что тогда?
— Я над этим думал всю дорогу и давно решил укреплять все наши посты.
— Вот видите. Значит, Геннадий Иванович прав.
— Это значит, что голова есть не только у начальника Амурской экспедиции, но и у генерал-губернатора, — неожиданно рассердился Муравьев.
— Простите, Николай Николаевич, — сконфузился Казакевич, — я не это имел в виду.
Муравьев махнул рукой. Сейчас он был неприятен самому себе: и чего так взревновал к Невельскому, да к тому же показал подчиненным эту ревность? Отвернувшись от мичмана, он совсем забыл, что тот остался стоять на мостике. А вспомнив, ощутил, что краснеет. Этого еще не хватало!
— Мичман, вы спускайтесь в кубрик, отдохните с дороги. Выпейте чаю…
— Слушаюсь, — вытянулся Разградский.
— …А через час я отправлю «Аргунь» вперед, вместе с вами и вашей командой. Надо предупредить Невельского о нашем приходе. Он ведь в Мариинском?
— Может быть, и в Де-Кастри. Но там — рядом. Его сразу известят.
— Хорошо. Надо найти место для причала и высадки людей и лошадей, выгрузки продовольствия и военного снаряжения. Задача непростая.
— Мы давно готовимся, ваше превосходительство, — бодро заявил Разградский. — Начали еще до получения известия о разрешении сплава. Геннадий Иванович был уверен, что сплав нынче состоится обязательно.
Мичман сказал это с такой веселой убежденностью в ясновидении своего начальника, что Муравьев невольно глянул на Казакевича, а тот развел руками: мол, что я говорил?
— Идите, мичман, — мрачнее, чем следовало бы, сказал генерал. Ревность продолжала грызть его сердце. Ревность и мысль о том, как неодобрительно отнеслась бы к ней его Катрин.
Разградский на пороге обернулся и совсем не по форме сообщил:
— А у Геннадия Ивановича второго апреля дочь родилась! Оленька!
— Вторая?! — в голос ахнули Муравьев и Казакевич.
— Первая, Катенька, умерла. Чуть больше года пожила и умерла, — вздохнул мичман.
— Вот как! — изменился в лице Муравьев. — А ведь Геннадий Иванович ни словом не обмолвился!
Разградский пожал плечами и вышел.
В каюте повисло тягостное молчание.
4
«Аргунь», украшенная от носа до кормы через обе мачты флагами расцвечивания, прибыла в Мариинский пост 12 июня, и оттуда в Де-Кастри немедленно был послан гонец за Невельским. Геннадий Иванович всего несколько часов тому назад добрался до Александровского поста, чтобы встретить прибывающие в залив корабли. До того он лично обследовал на байдарке весь Нижний Амур от Николаевского до Мариинского и далее вплоть до селения Оуля-Куру, что в 500 верстах выше по течению.
Муравьев писал ему, что сплав прибудет после 20 мая, однако, судя по всему, караван задерживался. Но это было понятно — путь неведомый, река капризная, люди неопытные, так что задержка вполне оправданна. Он не знал, что вскоре после прохода мимо устья Уссури караван попал в кратковременный, но весьма опасный шторм, который расшвырял и потопил несколько плашкоутов и баркасов, так что два дня ушло на их подъем, спасение и просушку грузов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Невельской прождал до 5 июня, а вечером этого дня из Мариинского прибыл нарочный с известием, что в Де-Кастри пришли два транспорта из Петропавловска и винтовая шхуна «Восток» под командованием капитан-лейтенанта Римского-Корсакова из Императорской Гавани, посланная вице-адмиралом Путятиным, находившимся с дипломатической миссией в Японии. Римский-Корсаков сообщил о начале войны с Англией и Францией и у него имелись важные бумаги для передачи лично Невельскому. Поэтому утром 6 июня Геннадий Иванович поспешил в Де-Кастри, оставив в Ояля-Куру мичмана Разградского с письмом для Муравьева. В письме он убедительно просил Муравьева оставить посты в устьях рек Уссури и Хунгари. «При наступивших военных обстоятельствах, — писал Невельской, — такие посты делаются уже крайне необходимыми, как для обеспечения сообщения с Забайкальем, так и с Маньчжурией — местностями, откуда мы при военных обстоятельствах только и можем продовольствовать наших людей, могущих собраться в низовьях Амура».
Еще в марте Геннадий Иванович отправил Муравьеву обстоятельный доклад о новейших исследованиях Сахалина и Нижнего Амура, в котором не преминул дать свои выводы и прогнозы. «Пионерный характер наших действий в Приамурском и Приуссурийском краях, вследствие обширного и пустынного их положения и разнообразия природных условий, должен продолжаться еще долго, — говорилось в докладе. — Топор, заступ и плуг должны иметь здесь первенствующее место. Команды, сюда присылаемые, должны составлять здесь главных работников. Военная и гражданская организация в том виде, в каком они находятся в России или на Кавказе, здесь решительно неуместны. Реки Амур и Уссури составляют надежные базисы наших действий. Банки лимана и пустынные, бездорожные, лесистые и гористые прибрежья Приуссурийского и Нижнеамурского краев будут надолго составлять самую надежную защиту против всяких неприязненных покушений на этот край с моря и вследствие этого обеспечат наши действия в нем. Поэтому ныне все средства здесь должны быть употреблены отнюдь не на создание совершенно бесполезной в этом крае организации с армией военных и гражданских чиновников, или на сооружение каких-либо долговременных укреплений и зданий, а на то, чтобы были в этом крае надлежащие суда для внутренних сообщений, чтобы были военнорабочие и земледельческие силы и лица, могущие разъяснить богатства природы этого края. Устье реки Уссури здесь представляет центр, из которого должны исходить пути, обеспеченные земледельческими поселениями, к главным местностям, как то: к Забайкальской области, устью реки Амура и к гаваням, лежащим на прибрежьях края.
Вот в чем единственно здесь и состоит правительственная задача, непосредственно вытекающая из всех фактов, добытых Амурской экспедицией, как пионером, указавшим уже на важное значение его для России в политическом и экономическом отношении».
Доклад этот генерал-губернатор получить не успел.
Узнав о приближении каравана, Невельской оставил все дела и срочно перебрался в Мариинский пост. Собственно, причины для особых волнений у него не было: Разградский нисколько не преувеличил, сказан генерал-губернатору, что все предусмотрено и подготовлено к приему сплава. Сам начальник Амурской экспедиции, проверив причалы и места складирования — для грузов на случай дождей заготовили навесы, а для людей площадки под палатки; из постоянных построек в посту были две избы казарменная и гостевая, — отправился на байдарке навстречу каравану.
Встретились они в самое нужное время: караван подошел к большой развилке русла и намеревался пойти по левому, более широкому рукаву, а оказалось, что к Мариинскому посту вел правый.
Байдарка Невельского пришвартовалась к плашкоуту Муравьева, как пять лет назад баркас генерал-губернатора — к борту «Байкала», и капитан первого ранга доложил главноначальствующему о готовности Мариинского рейда принять весь караван.
На этот раз не было восторженных объятий и торжественных построений — встреча носила сугубо деловой характер. Муравьев пригласил Невельского в свою штабную каюту, где собрались все командиры, и попросил дать развернутую картину состояния постов как на материке, так и на Сахалине.
— Посты — Петровский в заливе Счастья, Николаевский в устье Амура, Александровский в бухте Де-Кастри, Константиновский в Императорской Гавани и Муравьевский и Ильинский на Сахалине в настоящее время в полном порядке, — докладывал Невельской. — Осенью прошлого года подпоручик Орлов, основавший пост Ильинский, исследовал западный берег острова к югу до сорока семи градусов северной широты и восточный берег залива Анива от тех же сорока семи градусов до Муравьевского поста. Лейтенант Рудановский из Муравьевского поста исследовал берега к востоку и юго-востоку от поста и частично восточный берег острова. Рудановский обнаружил закрытый залив, фактически большое озеро, названное им именем майора Буссе, пригодное для зимовки небольших судов. Население острова в основном — айны, тунгусы-орочоны и гиляки. Есть небольшое количество японцев-рыбаков. Все они признали русское присутствие как законное и относятся к нам весьма дружественно. Еще одним свидетельством принадлежности острова России можно назвать исторический факт, что уже в шестнадцатом веке, за двести лет до японцев, его заселяли удские тунгусы, подданные Российской империи. Более того, приказчик Компании Самарин обнаружил селения, в которых живут русоволосые потомки лоча-орочонов, то есть русско-тунгусских метисов. Они женились на женщинах айнов и теперь называют себя айно-лоча-орочонами.
— Очень хорошее известие, — заметил Муравьев. — Оно наверняка пригодится, если кто-то вздумает оспаривать наши права на остров. Вы сказали, Геннадий Иванович, что с постами все в порядке в настоящее время. А что, было что-то не в порядке?
— Редкостно лютая зима. В Императорской Гавани непредвиденно пришлось зимовать экипажам кораблей «Николай» и «Иртыш». Восемьдесят четыре человека вместо двенадцати. На «Николае» хватало продовольствия и теплой одежды, но лишь для своего экипажа; на «Иртыше», который был неисправен и не смог уйти в Петропавловск, никаких запасов не было, к тому же несколько человек болели. Всем реально грозил голод и пришлось предпринимать большие усилия, чтобы спасти этих людей.
Невельской сказал «большие усилия», а на самом деле усилия прилагались неимоверные. Начальник Муравьевского поста Буссе, не признававший товарищеских отношений в экспедиции, проигнорировал приказ Невельского, которым он предписывал майору, в случае зимовки «Иртыша», снабдить его экипаж продовольствием и теплой одеждой — запасов поста на это хватало — и заменить больных здоровыми, оставив первых у себя. Буссе отправил неисправный транспорт в Императорскую Гавань (для зимовки в найденном Рудановским заливе он был слишком велик), а Невельскому написал, что не смог выполнить приказ, потому что должен заботиться о гарнизоне своего поста, о его питании и здоровье. Кроме того, мол, поползли слухи, что по весне придут японские джонки с войсками, поэтому он занялся постройкой частокола и башни для защиты поста, а больные люди были бы только помехой.
Зато, когда в Императорскую Гавань зашла винтовая шхуна «Восток», ее командир, Воин Андреевич Римский-Корсаков, по-братски поделился всеми запасами с бедствующим постом. Это помогло ему продержаться какое-то время.
Узнав из отчаянного письма начальника Константиновского поста Бошняка, посланного с оказией в Петровское, что смерть нависла над без малого сотней людей, Невельской немедленно снарядил все имеющиеся силы на доставку туда продовольствия и медикаментов. Но зима поначалу была страшно морозной и бесснежной, собачьи упряжки с большим трудом преодолевали даже небольшие расстояния, горные перевалы были вообще недосягаемы. Потом упали обильные снега и завалили все тропы. И лишь после Нового года на пост пробились тунгусы на оленях; мясо этих животных спасло некоторых больных, но 19 человек отдали богу душу.
Страдания от холода в сырых, наскоро сооруженных землянках, были также ужасными. Суконные покрывала ночью примерзали к стене, а к утру замороженное дыхание десятка людей повисало с потолка длинными сосульками-сталактитами. И так изо дня в день всю долгую зиму.
Геннадий Иванович не стал утомлять начальство этими подробностями. Впрочем, о лишениях экспедиции в прошлые зимы он писал генералу неоднократно, так что тот легко может представить, каково им было на этот раз. А наказать Буссе — не столько за пренебрежение к приказу начальника, сколько за преступное равнодушие к судьбе десятков людей, оставленных им без самого необходимого, — он решил по-столичному: не представлять майора ни к очередному чину, ни к ордену. Для честолюбия самонадеянного бывшего лейб-гвардейца, посчитал он, это будет хлестким ударом, хотя вряд ли уже изменит его высокомерие.
Не знал Геннадий Иванович, что влиятельные покровители Буссе в Петербурге подсуетились, и Николай Васильевич получил чин подполковника, что через два года он уже примерит эполеты полковника, а в тридцать лет станет генерал-майором и первым военным губернатором новой, Амурской, области. И орденов на этом поприще получит немало. Вот только проживет на этом свете всего тридцать восемь лет: уж не те ли 19 невинных душ призовут его на Суд Божий?
Не знал Невельской пока что и того, что вице-адмирал Путятин, опасаясь появления у берегов Сахалина кораблей противника, предложит новоиспеченному подполковнику снять Муравьевский пост, чем тот с радостью и воспользуется. Команда и имущество поста будут погружены на транспорт «Двина» и отправятся в Императорскую Гавань.
— Я об одном сожалею, ваше превосходительство, — сказал Невельской, заканчивая доклад, — что военные обстоятельства задерживают наши дальнейшие исследования побережья к югу от Императорской Гавани. По сведениям, полученным от местных жителей, там есть несколько превосходных бухт, от которых рукой подать до Уссури. Когда мы их займем, весь край между Амуром, Уссури и морем будет под нашим контролем и станет действительно неотъемлемой частью России. Уссури предназначено стать естественной границей между нами и Китаем, поэтому на ней немедленно надо ставить несколько военных постов.
— Поставим, все поставим, дорогой Геннадий Иванович, — благодушно сказал Муравьев.
— А в заключение позвольте поздравить всех с историческим моментом: первый сплав достиг Мариинского поста. Экспедиция ваша успешно завершена! Ура! — воскликнул Невельской и вытянулся, отдавая честь.
— Ура! — подхватил Казакевич, и штаб дружно поддержал «адмирала» сплава.
— Все войска и припасы, ваше превосходительство, назначенные в Камчатку, можно быстро переправить в Де-Кастри, где уже стоят наготове суда, — добавил Геннадий Иванович.
— Отлично! — воодушевился Муравьев. Раскомандировка, господа, такова: подпоручик фон Глен и прапорщик Баранов с командою отправляются в Ситху, капитан второго ранга Арбузов с командою и военным снаряжением — в Петропавловск, капитан Кузьменко, с ним шестьдесят солдат, орудия и сотня казаков с есаулом Имбергом остаются в Мариинском посту. Вопросы есть? — Муравьев оглядел присутствующих и закончил: — Вопросов нет. Сегодня вечером — торжественный ужин в честь нашей первой победы, Я тоже поздравляю всех и смею уверить, что все заслужившие получат награды нашего государя. И первым, я думаю, будет подполковник Корсаков, который завтра же отправится в Петербург с донесением.
Снова грянуло «ура». Офицеры обнимали и поздравляли друг друга. Генерал поцеловал каждого.
Невельского он поцеловал последним и, приобняв за плечи, вывел его на палубу «Аргуни», остановился у поручней, глубоко вдохнул чистый воздух, напоенный запахами свежей воды и молодой зелени. Как хорошо!
— Должен вам сказать, дорогой мой Геннадий Иванович, после устья Хунгари мы плыли как бы по русской реке. До Уссури, если нам встречались прибрежные деревни, они были пусты. Жителей то ли угоняли в глубь страны, то ли они сами бежали от страха — в любом случае без воздействия власти не обошлось. А ниже Хунгари к нам выходили любопытные гольды, приносили изобильно рыбу, иногда выставляли проводников. Как-то явился маньчжурский купец со своими приказчиками, упал на колени и просил прощения за то, что торгует без разрешения русских, и молил выдать ему такое разрешение. Лучшего доказательства влияния вашей экспедиции на этот край, на коренных его жителей и даже на маньчжуров, причем за столь короткое время, и придумать невозможно.
— Надеюсь, теперь никто не скажет, что я преувеличивал в своих донесениях, когда писал, что Нижнеамурский край по праву должен принадлежать России, — с еле заметным сарказмом заметил Невельской.
— Уверен, что никто, — серьезно сказал генерал-губернатор. — Я в своем рапорте государю об успешном завершении нашего плавания особо отмечу отвагу и решительность начальника Амурской экспедиции и ее сотрудников в освоении края.
— Благодарю вас, но прошу ваше превосходительство отметить и необходимость нашего продвижения на юг, вплоть до Кореи. Как мне успел рассказать капитан-лейтенант Константин Николаевич Посьет, Путятин, идя из Японии сюда, успел открыть рядом с Кореей две превосходные, наверняка незамерзающие гавани[63], которые надо как можно скорее занимать нашими постами…
— Ну вот, опять вы за свое, Геннадий Иванович, — тоскливо сказал Муравьев.
— Да, за свое, — упрямо подтвердил Невельской. — Когда же вы поймете, ваше превосходительство, что Петропавловск слишком неудобен, чтобы быть базой нашего флота, что наши исследования доказали огромные перспективы для Отечества именно Приуссурийского края? Там тепло, там следует развивать земледелие и животноводство, чтобы снабжать продовольствием весь край и Камчатку, там надо создавать промышленность, чтобы на месте строить корабли…
— Все, что вы говорите, дорогой мой, замечательно, однако это — дело будущего. Сегодня наша база на Тихом океане — Петропавловск, Камчатка, и, собственно, наш сплав стал реальностью лишь благодаря необходимости их защиты. Все-все-все, Муравьев выставил обе ладони, словно защищаясь от желавшего продолжать спор Невельского. — Давайте обратим наше внимание на долгожданное торжество.
— Ваше превосходительство, — подал из каюты голос Казакевич, — прежде надо решить один весьма важный вопрос…
— Что такое? — оборотился к нему Муравьев.
— Как быть нашим плотовщикам, кормчим, лоцманам? Плавсредства, как я понимаю, будут использованы для местных нужд, а им-то, вольнонаемным, незачем тут оставаться. Значит, их надо отправлять обратно, тем более что, я думаю, будут еще сплавы, а опытные кормщики и лоцманы — они ведь при нужде дороже золота.
— Спасибо, Петр Васильевич, что напомнили. — Муравьев походил, подумал. — Знаете что? Соберите-ка их всех, и мы посоветуемся. Они — люди тертые, многое лучше нас понимают.
Вольнонаемных собрали в избе-казарме. На встречу с ними пришли Муравьев и Казакевич — для остальной свиты генерал-губернатора тут просто не нашлось места.
Сидеть было не на чем, поэтому все стояли. Муравьев быстро окинул взглядом крепких широкоплечих мужиков — в основном бородатых, но были среди них и молодые, как, например, Ваньша Казаков, которого генерал-губернатор запомнил по представлению Вагранова. Заметил он и стоявшего в стороне Степана Шлыка, с улыбкой кивнул ему, как старому знакомому. Степан в ответ поклонился.
«Как же к ним обратиться? — подумал генерал. — Не господами же называть не поймут».
— Здравствуйте, товарищи! — вырвалось у него как-то само собой. Мужики запереглядывались, нестройно ответили: кто-то по-солдатски «здравия желаем», кто-то просто «здрасте», кто-то молча поклонился, как тот же Степан. — Вижу: вы удивились, что я вас так назвал. Но в этом нет ничего странного: мы с вами прошли очень тяжелое, можно сказать суровое, испытание и стали настоящими боевыми товарищами. И я тем более могу вас так называть, поскольку у нас впереди еще не один подобный сплав. В этот раз мы сплавили войска, потому что идет война, и враги обязательно полезут сюда, на наши новые старые земли, которые, сами понимаете, надо защищать. Я назвал земли «новые старые», потому что двести лет назад их открыли русские казаки, а сто семьдесят пять лет тому назад маньчжуры силой заставили нас их оставить, и вот теперь, во многом благодаря вам, мы к ним возвращаемся. В следующем сплаве сюда пойдут переселенцы, здесь появятся не только военные посты, а и русские села и казачьи станицы: потому что мало — вернуть землю, мало — ее защитить, землю надо обустраивать, обихаживать, заботиться о ней — только тогда она станет по-настоящему нашей. Если мы ее оставим неустроенной, дикой, то любой сосед может сказать: «А она вам не нужна. Отдайте нам — в наших руках она расцветет и раскроет свои богатства». Поэтому надо ее заселять, обживать, поэтому нужны сплавы, поэтому нужен и ваш огромный труд, за который я хочу сказать вам большое русское «спасибо» и отдать офицерскую честь.
Муравьев, а вслед за ним Казакевич вытянулись и отдали честь.
Мужики загомонили, начали кланяться: не каждый, поди-ка, год им отдает честь сам генерал-губернатор. Такое может случиться раз в жизни.
— Господин генерал, — выдвинулся вперед Евлан Казаков, — спросить дозвольте? Мы вам тупоресь, ну, тоись тутока, ишшо потребны? А не то нам домой надобно…
— Вот! — даже обрадовался Муравьев. — Я же для этого вас и пригласил — посоветоваться, как вам лучше домой добираться.
— Дак мы и без совета могём. Вешный водохлест, однако, спал. Дозвольте выбрать лодку, пушшай нам дадут попить-поись на дорогу, мы и пойдем, помолясь, на верховину.
— Понял, — кивнул Муравьев. — Петр Васильевич, распорядитесь передать им парусную лодку, какую они выберут сами, любую, кроме моего баркаса, и снабдить двухмесячной нормой продуктов и водки. Да, еще. Выдайте пять-шесть ружей с запасом зарядов. Стрелять-то умеете? — спросил он у Евлана. Умеем, кивнул тот. — Это на случай нападения с китайской стороны. Вы там ушами не хлопайте. Китайцы на нас обозлены и могут на вас отыграться.
— Ну, энто мы им… Пушшай сунутся… Рога-т пообломам… — снова загомонили вольнонаемные.
— А поохотничать? — подал голос Ваньша Казаков. — Свежатинки добыть? На сухарях-т бежко выморисся[64].
— Можно, — кивнул Муравьев. — Только не увлекайтесь. Выстрелы могут привлечь внимание тех же китайцев.
— Эх, есть у меня мысля, — сказал вдруг Степан Шлык, — приладить к лодке колеса, навроде, значитца, пароходных, тока маненькие. И крутить их руками али ногами. Тока тутока их не изделать, — добавил он с грустью и махнул рукой.
— Ничё, паря, — приобнял его за плечи Евлан. — Мы и на гребях пойдем востро.
— Вы-то пойдете, — высвободился Степан из-под медвежьей лапы плотовщика, — а я, господин генерал, прошу отправить меня, значитца, с той командой, что в Камчатку назначена.
— Это еще зачем? — удивился Муравьев. — До края света хочешь дойти?
— Это само собой, — кивнул Степан. — Тока тамока руки мои сгодятся.
— Тебя же, я слышал, зазноба ждет в Петровском Заводе, — усмехнулся генерал.
— Подождет. — Степан ничуть не удивился такой его осведомленности: на то оно и начальство, чтобы все знать.
— А ведь и верно, — задумчиво сказал Муравьев, — твои руки, а больше того — голова, очень даже могут там пригодиться на строительстве укреплений. Я тут тебя познакомлю с инженер-поручиком Мровинским, он как раз для того в Камчатку и направлен. Ну, что, товарищи, все обговорили?
— Кажись, все, — сказал, как припечатал, Евлан.
— Тогда всем еще раз спасибо и — счастливого возвращения. Степан Онуфриевич, пойдем с нами. Да, — уже на выходе обернулся генерал, — не забудьте Корнея Захаровича Ведищева. Чтоб живой и здоровый домой вернулся.
5
Праздничный ужин был устроен в большой палатке. Главным блюдом на нем была калуга, выловленная накануне. «Начинали сплав с белуги, — подумал Вагранов, — заканчиваем калугой».
— Да заради лишь такой рыбы стоило идти на Амур, — пошутил красноярский купец первой гильдии Кузнецов, удостоенный чести быть первым из русской торговой братии на новых землях.
На что генерал, не стыдясь патетики, ответствовал:
— И ради рыбы, и ради леса, Петр Иванович. И ради тех богатств, что скрыты пока в этой земле и ждут, когда их откроют на благо Отечества нашего. А главное — ради того, чтобы наша орлица Россия развернула в полную мощь свое правое крыло и наконец взлетела на ту высоту, какая ей определена Господом Богом.
Часть вторая «Польза, слава, честь»
Глава 1
1
16 мая 1858 года генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-лейтенант Муравьев в белом парадном мундире стоял на верхней палубе парового катера, направлявшегося в Айгун. Российская делегация в полном составе — кроме Николая Николаевича в нее входили архиепископ Иннокентий, управляющий дипломатической канцелярией титулярный советник Бютцев, статский советник Министерства иностранных дел Перовский, управляющий путевой канцелярией губернии Карпов, подполковник Генерального штаба Будагосский, начальник 1-го отделения Амурской линии подполковник Языков, губернский секретарь дипломатической канцелярии и переводчик Шишмарев, священник — отец Алексей Седых и несколько помощников — ехала на завершение переговоров с китайцами по трактованию границы между империями.
Еще вчера над всем краем ползли низкие тучи, то и дело осыпая землю холодной изморосью, но постепенно усиливающийся северный ветер загнал их за горизонт, и сегодня рассинелось небо, украшенное разбросанными там и сям кучевыми облачками, похожими на цветущие кусты черемухи; струилась вдоль борта отражающая небо вода Амура; утреннее солнце переливалось радостными бликами на разбегающихся от носа катера волнах, и эти блики, вспыхивая и пропадая, напоминали генералу дни и события последних четырех лет. Почему не всю жизнь, как это часто бывает? Потому что вся его жизнь словно готовила эти четыре года, начавшиеся с первого сплава и стремительно полетевшие вперед со скоростью весеннего водохлеста, неся его, генерала Муравьева, к торжественно-звездной выси.
Шумели на нижней палубе голоса — там, в салоне, готовились к праздничному застолью его товарищи и помощники, — а он глядел в бегучие воды могучего Амура и жадно вспоминал события этих четырех лет…
Николаю Николаевичу перестали сниться вещие сны.
Он заметил, что они пропадали и раньше, когда, пытаясь их для себя объяснить, он, вероятно, угадывал, что именно скрывается за тревожными, порой таинственными видениями. То есть сны что-то подсказывали, он это что-то угадывал, и подсказки становились не нужны.
Теперь они исчезли совсем. Сны стали обычными, тусклыми, ничем не примечательными. Что-то вроде бы видел, а что именно — и не вспомнить. И это, как ему показалось, могло означать только одно: ничего значительного в его жизни больше не будет.
Хотя что-то недодуманное оставалось, и это «что-то» его беспокоило, причем так сильно, что он, в отсутствие Катрин, искал, с кем бы поговорить на такую странную тему.
Очень кстати пришлось знакомство с писателем, секретарем вице-адмирала Путятина в его дипломатической миссии, Иваном Александровичем Гончаровым.
Они вместе плыли на шхуне «Восток» из Николаевского в Аян. Гончаров и некоторые офицеры фрегата «Паллада» возвращались в Петербург. Фрегат из-за своей изношенности не мог вернуться в Кронштадт и оставался на Тихом океане; его, как и другие русские корабли, в случае военных действий следовало отвести в устье Амура. Это стало возможным, после того как шхуна «Восток» под командованием капитан-лейтенанта Воина Андреевича Римского-Корсакова первым из морских кораблей прошла несколько раз с юга на север и обратно через самую узкую часть Татарского пролива — пролив Невельского, проведя при этом исследование глубин и фарватеров, попутно открыв на Сахалине залежи хорошего угля и, в конечном счете, найдя путь для морских судов из лимана в Амур.
В апреле 1854 года шхуна шла в Императорскую Гавань (именно в этом рейсе Римский-Корсаков помог продуктами бедствующему Константиновскому посту) и встретилась с фрегатом «Диана», пришедшим на смену потрепанной «Палладе». От командира «Дианы» Степана Степановича Лесовского Воин Андреевич узнал, что, по всем данным, собранным «Дианой» за время перехода из Кронштадта до Сахалина (важнейшим было полученное в Гонолулу известие от гавайского короля Камеамеа III), готовится нападение англичан и французов на Камчатку. Две великие морские державы якобы испугались, что небольшая группа русских кораблей в акватории Тихого океана, пользуясь военными обстоятельствами, устроит охоту на их торговые суда. Они не знали или делали вид, что не знают, что русские никогда пиратством не занимались, а вот у самих французов и англичан такого опыта хватало с избытком.
Ну, если русские моряки и не склонны к пиратству, то начали ловить браконьеров-китобоев, что тоже наносит ущерб интересам Англии и Франции, из чего следует, что российские корабли надобно уничтожить. По крайней мере, их базу. А поскольку у России на крайнем Востоке была только одна морская база — порт Петропавловск, то, естественно, он и должен быть ликвидирован. То же самое предполагали и в Петербурге; поэтому именно «Диана», кстати, и привезла высочайшее повеление об укрытии кораблей при наступлении опасности в устье Амура, а заодно и извещение о сплаве войск по Амуру. Корабли Путятина — «Паллада», «Диана», корвет «Оливуца», транспорт «Князь Меншиков» — собрались в Императорской Гавани, а «Восток» направился в Де-Кастри, где поступил в распоряжение генерал-губернатора. Узнав от Римского-Корсакова об угрозе нападения англо-французского флота, Муравьев вспомнил предупреждение Алиши и произнес странные для окружающих слова:
— Вот он и наступил, день «X». Да, лишние жертвы никому не нужны.
И как главнокомандующий срочно перераспределил свои силы. Для укомплектования 47-го флотского экипажа на Камчатке он направил в Петропавловск 350 человек на транспорте «Двина», который пришел из Кронштадта с грузом пушек и другого военного снаряжения; лично осмотрел устье Амура и определил места для сооружения береговых батарей — на мысах Куегда, Мео и Чныррах; команду, назначенную для отправки в Русскую Америку, придержал и бросил на прорубание просеки от Кизи до Де-Кастри.
— Ваше превосходительство, — попытался возразить представитель Русско-Американской компании Фуругельм, только что назначенный начальником острова Сахалин, — эта команда нужна для защиты Ново-Архангельска.
— Дорогой мой Иван Васильевич, — похлопал его по руке генерал, — Русскую Америку лучше всего защитит соседство с Соединенными Штатами, с которыми и Англия, и Франция ссориться поостерегутся. А здесь крайне нужна хоть какая-то дорога. Мы с Невельским и Казакевичем прошли эти десять-пятнадцать верст пешком и убедились, что просека необходима. Ничего, месяцок солдатики поработают топорами и в Ново-Архангельск успеют. Я их возьму с собой до Аяна, а там они пересядут на компанейское судно.
Генерал и предположить не мог, что неопытность командиров этой команды фон Глена и Баранова едва не приведет к голодной смерти 200 человек: не сумев пройти просекой тот самый десяток верст, они умудрятся сгноить провизию, отпущенную команде на месяц. Солдаты питались ягодой морошкой, обессиленные, лежали в шалашах и спаслись лишь благодаря тому, что на них случайно наткнулись офицеры фрегата «Диана» Оболенский и Антипенко, вышедшие на охоту из Де-Кастри.
Над многострадальными фон Гленом и Барановым и их несчастными подчиненными, похоже, довлел какой-то рок. Из Де-Кастри в Николаевский пост команду отправили на лодках, и на тех же лодках Муравьев приказал им следовать в Петровское зимовье, чтобы там погрузиться на шхуну «Восток». Невельской предупреждал: лодки не предназначены для плавания по морю, капитан назвал их попросту «душегубками», однако генерал не внял его словам, и, конечно, фон Глен с Барановым попали в шторм. Хорошо еще, ветер был с моря, лодки выбросило на берег где-то на полпути в Петровское, а могло бы унести в открытый лиман, на общую гибель. Но, слава богу, отделались испугом, только остаток пути команда проделала пешком, по береговым камням и отмелям.
Девятого августа, взяв на борт «Востока» злосчастную команду и офицеров с «Паллады», Муравьев отплыл из Петровского в Аян. До Аяна 500 миль, при благоприятном ветре это — пять-шесть суток нормального хода. После трех месяцев напряжения, когда каждый день можно было ожидать какой-нибудь каверзы — вроде того же умирания солдат от голода в двух шагах от поста, где хватало нормальной еды, — Николай Николаевич вдруг расслабился, отмяк душой и стал давать ежедневные обеды в тесной кают-компании шхуны, где троим сложно повернуться, но к столу садились десять-одиннадцать человек. Генерал веселился, глядя, как, уплотнившись бочком, офицеры ловко пользуются одной правой рукой, потому что для левой уже нет места. Он не знал, что точно так же встречали праздники первопоселенцы Петровского зимовья, и, конечно, даже не думал о том, что такое застолье есть не что иное, как символ единства и братства людей одной цели, одной веры, одной, можно сказать, крови, когда правым плечом чувствуешь биение сердца соседа.
После первого же обеда Муравьев пригласил Гончарова в крохотную каюту капитана, в которую Воин Андреевич устроил генерал-губернатора, несмотря на его возражения: Николай Николаевич хотел, чтобы все офицеры, независимо от звания, были в одинаковых условиях, но потом согласился, когда понял, что на палубе работать с деловыми бумагами довольно-таки сложно из-за постоянного ветра и брызг.
В каюте он усадил Ивана Александровича на единственный стул возле небольшого столика, сам уселся на койку по другую сторону, предложил сигариллу, но писатель отказался. Тогда и генерал отложил свой серебряный портсигар, посмотрел на круглое русское лицо в обрамлении длинных волнистых волос — оно выражало живой ожидающий интерес — и усмехнулся:
— Так хотелось поговорить с настоящим писателем, а с чего начать — даже не знаю. Ну, хотя бы… какие у вас впечатления о наших краях и наших делах, дорогой Иван Александрович?
Гончаров попытался принять свободную позу, закинув ногу на ногу, но ударился коленом о стол, засмеялся и отказался от своей затеи.
— Вы знаете, любезнейший Николай Николаевич, в двух словах обо всем не скажешь…
— Скажите в трех, четырех, в десяти, — пошутил Муравьев. — Времени у нас достаточно, а мне весьма любопытен сторонний непредвзятый взгляд. Мы ведь здесь варимся как бы в собственном соку, каждый уже знает, кто что скажет или сделает… иногда становимся мелочными, цепляемся за взгляды, за слова…
Николай Николаевич, говоря это, вспомнил, как его встретила Екатерина Ивановна Невельская, когда он, впервые прибыв на шхуне в Петровское, зашел к ней вместе с Казакевичем, чтобы поздравить с рождением дочери и выразить соболезнование в связи с утратой первого ребенка.
Екатерина Ивановна еще не сняла траур по Тюшеньке; исхудавшая и бледная до голубой прозрачности, она сидела возле детской кроватки, в которой спала четырехмесячная Оленька, и тихо разговаривала с сидящей рядом красивой молодой женщиной, как позже выяснилось, женой заместителя начальника Амурской экспедиции — Бачмановой Елизаветой Осиповной. В комнате находился еще один человек — мичман, очень похожий на жену Невельского. Оказалось, родной брат Екатерины Николаевны, Николай Ельчанинов, недавно прибывший на службу в экспедицию Невельского. Поприветствовав начальство, он хотел было выйти, но Муравьев знаком велел ему остаться. В разговоре мичман участия не принимал, но по тому, как он взглядывал на сестру, легко можно было догадаться, что он любит ее глубоко и нежно.
Муравьев принес в подарок несколько плиток итальянского шоколада (молодой иркутский купец Чурин пожертвовал сплаву пять больших коробок этого экзотического лакомства, которое могло служить и лекарством для изнуренного человека); Николай Николаевич посчитал, что жена Невельского сейчас находится не в лучшем состоянии, и угадал.
Но гордая женщина отказалась принять подарок, и отказалась довольно резко, что поставило генерала в тупик: он не ожидал такого к себе отношения. Казакевич тоже был в недоумении, правда, жену своего бывшего командира он совсем не знал.
Выручила Елизавета Осиповна;
— Это вернет вам силы, дорогая Екатерина Ивановна, — как можно убедительнее сказала она, обняв Невельскую за плечи. — А в жидком и разбавленном виде послужит лекарством для Олечки.
— Да, да, Катенька, — поддержал Бачманову мичман, — я тоже слыхал, что шоколад лечит.
Видимо, это последнее слово брата и возымело нужное действие: Екатерина Ивановна поблагодарила Муравьева и вдруг разрыдалась и выскочила из комнаты. Бачманова поспешила за ней. Мужчины, оставшись у детской кроватки, обменялись взглядами. Ельчанинов пожал плечами что поделаешь, нервы! Муравьев и Казакевич направились к выходу, но на пороге снова появилась Екатерина Ивановна. Огромные глаза ее горели лихорадочным внутренним огнем, на щеках заалел румянец, руки нервно тискали батистовый платок с кружевами.
— Прошу меня простить, господа, особенно вы, Николай Николаевич…
— Помилуйте, за что, дорогая Екатерина Ивановна?! — поразился Муравьев.
— Я… я часто дурно думала о вас… Наверное, это было несправедливо… Когда умерла Тюшенька… — Невельская вздохнула взахлеб, но справилась с комком в горле, — …Геннадий Иванович сказал, что это была жертва… что это — дань исполнению долга во благо Отечества… А я… я подумала, что мы приносим жертвы, а кто-то в теплых кабинетах получает за это ордена…
Казакевич на этих словах невольно вздрогнул и с каким-то даже испугом взглянул на генерал-губернатора. Возможно, в опасении, что тот примет сказанное на свой счет и разгневается. Однако Муравьев выслушал все спокойно, только спросил:
— И что-то заставило вас изменить свое мнение?
— Да. Когда я узнала, что вы представили Геннадия Ивановича к званию контр-адмирала и к ордену, мне вдруг стало стыдно… Мои недобрые мысли о вас показались мелкими… нет, не мелкими, а мелочными. Ведь Геннадия Ивановича за эти пять лет могли не раз отправить в матросы, да и просто не давать повышения, а благодаря вам он уже адмирал…
— Дорогая Екатерина Ивановна… — осторожно коснулся ее руки Муравьев, — простите, что прерываю, но вы напрасно так нервничаете. Будь моя воля, я Геннадия Ивановича и его товарищей обвешал бы орденами с ног до головы — они это заслужили. Но по закону, который не может нарушить даже государь, на каждый чин есть свой высший орден, и Геннадий Иванович, как и другие, его получает. — Муравьев говорил убедительно, глядя Екатерине Ивановне в глаза. Она их не отводила, и по ее лицу было видно, что она успокаивается. — Тут, понимаете, выше головы не прыгнешь. Другое дело — повышение чина, на него регламента нет, и я старался при каждой возможности это использовать. И безмерно рад, что Невельской станет адмиралом, что вот Петр Васильевич получит погоны капитана первого ранга, а там и для него адмиральство не за горами. И другие офицеры не останутся обделенными. По заслугам, как говорится, и честь… А что касается сидящих в теплых кабинетах, я, честно говоря, не уверен, что кто-то в Петербурге получал за ваши жертвы награды. Сам же я в теплом кабинете сижу крайне мало, но всегда помню, что в золоте моих орденов, полученных в последние годы, есть частицы труда и славы Амурской экспедиции, хотя, думаю, я их заслужил. Засим, дорогие дамы, позвольте пожелать вам и малышке Оленьке здоровья, а нам — откланяться.
Последние слова, наверное, прозвучали холодновато, несли в себе оттенок обиды, иначе с чего бы вдруг спокойнейший Петр Васильевич на обратном пути на шхуну вдруг взволнованно заговорил:
— Вы не сердитесь на нее, Николай Николаевич, она, видимо, столько перенесла…
— Милейший Петр Васильевич, — грустно ответил Муравьев, — я ничуть на нее не сержусь. Наоборот, ей и другим женщинам экспедиции есть за что сердиться на меня и остальное высокое начальство… вплоть до императора. Чем измерить их подвиг?! Мужья ходят в походы, совершают открытия, героические поступки, а они терпеливо обеспечивают им уют, утешают женской лаской, рожают и теряют детей — и все это без чинов, орденов, без пенсий! О них никто не думает, за них никто не беспокоится, а они несут свою бесконечную службу — и тоже ведь не ради своего удовольствия, а во благо Отечества!
2
Николай Николаевич очнулся от затянувшегося воспоминания, увидев участливый взгляд писателя.
— Об чем задумались, любезный Николай Николаевич? — спросил Гончаров. — Уж не о тех ли, кто вам ставит bâtons dans les roues[65]?
Муравьев улыбнулся и отрицательно качнул головой:
— Скорее о тех, кому ставят, кто их выдергивает и двигается дальше. Вот вы своими глазами увидели, какое оживление царит в этих местах — в Императорской Гавани, в Де-Кастри, устье Амура. Да и в Петровском зимовье с борта шхуны могли оценить, сколько тут всего понастроено. И все это выросло на пустом месте за каких-то три года, при ничтожных, как любит говорить Невельской, средствах. А ведь он совершенно прав: средства-то действительно ничтожные — меньше пятнадцати тысяч рублей в год на всю экспедицию! У меня жалованье больше! Вы представляете, какие здесь люди? Титаны! Ей-богу, титаны, иначе не скажешь! А сейчас, уезжая, я им поставил, можно сказать, непосильную задачу — обеспечить нормальную зимовку почти тысячи человек, считая экипажи «Паллады», «Оливуцы» и других зимующих кораблей. И думаете, Невельской со товарищи не справятся? Справятся! Это же их руками оживлен весь край!
Муравьев взволнованно помолчал, писатель вынул из внутреннего кармана сюртука сложенную вдвое тетрадку и карандаш и что-то записал.
— Для памяти, — пояснил он, — некоторые ваши слова. Я же книгу пишу о нашем путешествии вокруг света и в ней обязательно расскажу о Сибири.
— Жаль, что вы не сошли на берег в Петровском: вам бы надо было познакомиться с женщинами — женами некоторых офицеров и нижних чинов Амурской экспедиции. В России все знают о женах декабристов — об этих женщинах не знает никто. А они высаживались вместе с мужьями на голые берега в совершенно невозможных условиях и переносили все тяготы, да еще и детей рожали. Вот у Невельского четыре месяца, как родилась вторая дочь, и три месяца, как умерла первая…
— Господи боже мой! — только и воскликнул Иван Александрович. — А по нему не скажешь: он весь в делах и заботах, весь такой доброжелательный!
— …А супруге его было девятнадцать лет, когда она после Смольного института последовала за ним в этот совершенно дикий край.
— Это, пожалуй, героичнее, чем приезд в Сибирь жен декабристов, — задумчиво произнес Иван Александрович. — Да, вы правы: жаль, что я с ними не познакомился. Просто, видя одних мужчин, я и подумать не удосужился, что где-то неподалеку находятся их жены…
— Их здесь очень немного, но они невероятно облагораживают быт и подвижничество мужей и их товарищей. Они облагораживают самую жизнь! Вы знаете, Иван Александрович, Сибирь вообще — необыкновенная страна: она исподволь, ненавязчиво, выявляет в человеке такие качества, о которых он никогда не подозревал и, не попав сюда, так никогда бы и не узнал. Вот вам пример — моя жена. Истинная француженка, мы с ней познакомились в Ахене при весьма необычных обстоятельствах. Став моей женой, она через несколько месяцев, узнав о моем назначении в Сибирь, чуть в обморок не упала, а спустя год отправилась вместе со мной из Иркутска в Камчатку и теперь говорит: «у нас в Сибири!» Представляете? Французская дворянка говорит: «у нас в Сибири!» И гордится, что стала сибирячкой. А про войну с Францией заявляет: «мы их побьем». «Мы» — это Россия, «их» — это Францию! А князь Волконский, выйдя на поселение, стал заправским агрономом, арбузы выращивает! Да-а, Сибирь чудеса с человеком делает, но подождите — и узнаете, какие чудеса сотворит с Сибирью человек!
— Да вы — романтик, милейший Николай Николаевич! — засмеялся Гончаров.
— Не думаю. По-моему, я — сугубый прагматик.
— Вы просто себя не знаете.
— А вы, простите, не знаете Сибири. Полмира объехали, столько стран повидали — в каждой, конечно, своя особинка, а Сибирь среди всех на особицу. Вот проедете по ней и поймете. Мне иногда кажется, что Бог создавал человека — и Адама, и Еву — именно в Сибири и создал их тружениками, в помощь себе. Не мог Господь создавать лодырей и бездельников, чтобы им само все в рот сыпалось…
— А как же Эдем, этот рай благословенный? — лукаво спросил Иван Александрович. — И как понимать изгнание из рая?
— Эдем — это сон усталого от работы человека, а изгнание — пробуждение, необходимость снова приниматься за работу. Господь создал контуры мира, а наполнять эти контуры поручил человеку. Это работа большая, долгая и очень трудная. Зато сколько радости, когда видишь ее результаты!
Ну, хорошо, а яблоко познания, а змей-искуситель?
— Мне кажется, это иносказание жажды любви и ее взаимное открытие. Любви не к Богу, что само собой разумеется, ибо «Бог есть Любовь», а любви человека к человеку — ради детей, ради продолжения рода, а значит, ради вечной жизни.
Все это выпалил Муравьев на едином дыхании. Ему хотелось вскочить и пробежаться, но в каюте передвигаться было невозможно, а переполнявшая его энергия требовала выхода, и он покраснел, вдруг облившись обильным потом.
Гончаров с тревогой посмотрел на него и поспешил открыть окно — в каюту ворвался соленый ветер, наполненный плеском волн и криками чаек. Стало свежо и просторно.
— Спасибо, — передохнув, сказал Муравьев. — Что-то я переволновался.
— С такими мыслями немудрено, задумчиво произнес писатель. — Даже не знаю, как их квалифицировать. С одной стороны, весьма любопытно, с другой — попахивает ересью. Не думаю, что церковь бы их одобрила. Хотя свой прагматизм вы вполне подтвердили, однако романтика не отрицается.
— Не буду спорить. Наоборот, задам вопрос из области романтики. Как вы относитесь к прорицаниям?
— Ну, это не столько область романтики, сколько — мистики, — махнул рукой Иван Александрович. — Всякие там Авели, Марии Ленорман…
— Нет, я имею в виду вещие сны. Верите ли вы в вещие сны?
— Простите великодушно, а почему вы об этом спрашиваете?
Николай Николаевич рассказал о самых ярких повторяющихся снах, о сбывшемся — про аварию на сплаве — и о своей попытке объяснения. Однако, подумав, признал, что, наверное, ошибается. Вот ведь остался несбывшимся сон про дуэль, а повторяться перестал. Значило ли это, что дуэли не будет? Или — сон про схватку с волками. Пускай волки — как в басне — его враги и главнейший из них — вожак с желтыми глазами — граф Нессельроде, пускай, — но разве схватка с ними уже закончилась? Да, он выиграл сражение — добился-таки сплава, выхода на Амур, права прямых переговоров с китайцами, — но война не закончена, клыки Нессельроде и его стаи по-прежнему оскалены, а это значит — в любой момент могут вцепиться с самой неожиданной стороны. Так, может, отсутствие вещих снов говорит о том, что подсказки кончились и дальше надо действовать, надеясь лишь на самого себя? На свой опыт и заслуженный авторитет?
— Почему бы и нет? — Гончаров приложил полусогнутый указательный палец правой руки ко рту и в раздумье постучал им по губам. — Признаться, я никогда вещих снов не видел, а может, просто не обращал на них внимания и, естественно, об этом не думал. Право, не знаю, чем вам посодействовать. У меня лишь одно замечание. Вы говорите, что сны каждый раз немного другие? — Муравьев кивнул. — Тогда будьте осторожны в своих действиях. Будущее неоднозначно, оно может меняться от самых незначительных наших поступков. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»
— Верно сказано, — кивнул Муравьев. — Вы и стихи пишете?
— Это не мои. Федор Иванович Тютчев написал.
— Тютчев… Тютчев… — Муравьев наморщил лоб. — Федор Иванович… Где-то я слышал это имя.
— Наверное, в «волчьем логове» Нессельроде, — улыбнулся Гончаров. — Федор Иванович служит в Министерстве иностранных дел.
— И Нессельроде позволяет ему писать стихи? — удивился Муравьев. — Вот бы не подумал.
С палубы шхуны донесся непонятный шум, затем в дверь постучали и на пороге появился Вагранов.
— Что случилось? — недовольно спросил генерал. Ему не хотелось прерывать беседу.
— Иностранное судно, ваше превосходительство. Возможно, англичанин, — доложил штабс-капитан.
— Военное?
— Похоже, что нет, гражданская шхуна. Капитан-лейтенант приглашает вас на шканцы.
— Пойдемте, Иван Александрович, глянем на этого «англичанина», — сказал Муравьев, выбираясь из-за стола.
Это была действительно трехмачтовая гафельная шхуна, всего в трех-четырех кабельтовых впереди пересекшая курс «Востока», и теперь играючи уходившая от него. На ее корме не было никакого флага.
Русский корабль отставал. Парусного вооружения его двух мачт не хватало, а с машиной что-то не заладилось.
На сигнальные флаги «Востока», требующие немедленно остановиться, «англичанин» не реагировал.
Муравьев и Гончаров молча поглядывали на Римского-Корсакова, ожидая, как он будет действовать в столь неординарной ситуации.
Воин Андреевич раздумывал недолго. Подозвал старшего офицера, вполголоса отдал ему приказание, и тот убежал на нос корабля, где стояла трехфунтовая пушка. Спустя минуту раздался выстрел, и возле кормы чужой шхуны взметнулся фонтан воды.
— Эк, забегали, тараканы! — удовлетворенно сказал генерал-губернатор, наблюдая в подзорную трубу. — Взгляните, Иван Александрович, — передал он трубу Гончарову.
Тот увидел, как два матроса подвязывают и поднимают на кормовом флагштоке флаг. Одновременно на фок- и грот-мачтах спустили трисели, оставив галф-топсели. Ход судна замедлился, и «Восток» стал заметно к нему приближаться.
— «Американец»! — сказал Муравьев, когда ветер развернул звездно-полосатый флаг во всю длину. — Пускай идет своей дорогой. К «американцу» претензий нет.
Но Римский-Корсаков был иного мнения. Он приказал старшему офицеру спустить шлюпку и проверить, действительно ли судно американское.
— Англичане взяли моду прикрываться чужими флагами, — пояснил он Муравьеву.
— Делайте, как считаете нужным, — откликнулся генерал. — На корабле вы хозяин. Но англичане — не дураки: если уж прикрываются чужим флагом, то и документы под него имеются.
Муравьев оказался прав: проверка ничего не дала, хотя старший офицер, хорошо знающий английский и встречавшийся с американцами, отметил, что для американца шкипер слишком чисто говорил по-английски.
— Мало ли что, — заметил Муравьев. — Может, он недавно эмигрировал в США.
Все были разочарованы: очень уж хотелось «сделать англичанам козу».
Муравьев еще не раз беседовал с Гончаровым на разные темы, все более проникаясь уважением к этому дружелюбному, умеющему хорошо слушать человеку. О вещих снах он больше не заговаривал, однако слова писателя о неоднозначности будущего запомнил хорошо.
Говорили и о Путятине.
3
С Путятиным Муравьев провел весьма удачные переговоры в Императорской Гавани. Своенравный и высокомерный адмирал, уже вмешавшийся в дела генерал-губернатора и начальника Амурской экспедиции тем, что фактически снял только-только утвердившийся на Сахалине Муравьевский пост, имел намерение взять в свои руки командование русскими военно-морскими силами на Тихом океане.
— Надо снять и Константиновский, — сказал Евфимий Васильевич Муравьеву категорическим тоном. — Пост удален от основных сил и защитить его будет некому и нечем, ежели сюда, не дай бог, заглянет даже шхуна типа нашего «Востока».
Они сидели, два превосходительства, в каюте Путятина на «Палладе» за столом, на котором красовались бутылки рома, бренди и французского коньяка, в хрустальных вазочках горками возвышалась черная и красная икра, нежно-розово светились полупрозрачные ломтики форели, окаймленные дольками лимона, исходило молочным потом холодное коровье масло, дышал свежестью белый хлеб, над, казалось, небрежно сложенными на фарфоровом блюде, а на самом деле представлявшими собой точно выверенную художественную картину, тропическими фруктами невидимым облачком висел приторно-сладкий аромат.
Адмирал и генерал выпили по глотку коньяку из пузатых низких бокалов-коньячниц и закусили бутербродами из белого хлеба с маслом и икрой.
— Я, милейший Николай Николаевич, — рокотал Путятин в висячие усы («И что это моряки любят такие усы? — думал, глядя на него, Муравьев. — Что Невельской, что Казакевич, что вот Путятин…»), — некоторый опыт морских сражений имею. За Наваринское удостоен «Владимира» четвертой степени, за другие — а их у меня больше восемнадцати — получил «Георгия». За десять лет прошел от мичмана до капитана первого ранга…
— Да мы вместе участвовали в деле при Шапсуго, в июле тридцать восьмого, вы командовали сводным десантным отрядом моряков, а я — вспомогательным батальоном солдат. Помните, Евфимий Васильевич?
— Еще бы не помнить! Меня тогда на мысе Субаши ранило в ногу, зато потом вне очереди получил чин, как раз — капитана первого ранга.
— А я — подполковника.
— Предлагаю тост: за боевое братство! — расчувствовался пятидесятилетний адмирал, наливая полные бокалы.
Они встали, чокнулись, выпили до дна и расцеловались троекратно. Сели, закусили. И Муравьев приступил к самому важному вопросу, ради которого он, собственно, и примчался — иначе не скажешь — в Императорскую Гавань. А именно — отвести адмирала от намерения стать морским командующим. Он ничуть не сомневался, что Путятин и не подумает кому-либо подчиняться и с кем-то согласовывать свои действия. Более того, постарается подмять под себя всех остальных начальников. А это для генерал-губернатора было крайне нежелательно. Более того — неприемлемо. И вовсе не из-за себя лично: он не хотел, чтобы Путятин столкнулся с генерал-майором Завойко. Муравьев был уверен, что Василий Степанович подготовится к военным обстоятельствам наилучшим образом, и кто-либо «сверху» будет только мешать. А самому генерал-губернатору следовало спешить с возвращением в Иркутск. Дело в том, что, будучи в Николаевском посту, он получил ответ на свое послание китайскому Трибуналу внешних сношений, то самое, которое хотел отправить с Заборинским. Письмо было от гиринского гусайды Фу-Нянги: богдыхан поручил ему осмотр и разграничение мест, сопредельных с Россией, и гусайды извещал, что остановился в деревне Мылки на Сунгари и направил чиновников и двух бошхов (капралов) оповестить русских об указе богдыхана; сам он ждет русских чиновников для совместного осмотра границы. Муравьев не мог допустить, чтобы кто-то помимо него занимался пограничными вопросами.
Генерал-губернатор наметил свой отъезд на 9 августа, но сначала должен был ограничить деятельность Путятина.
— В отношении постов вы, Евфимий Васильевич, попали в самую точку, — осторожно начал Муравьев. — Я намерен был сделать то же самое. Но вот лично вам ввязываться в военные действия не следует. Во-первых, вы посланы в наши края государем с особой миссией, которая куда важнее морского сражения. Во-вторых, вы же как адмирал вряд ли станете избегать встречи с англо-французами, а ведь они придут сюда наверняка большой эскадрой, и нам, с нашими ничтожными силами, следует максимально уклоняться от боевого контакта.
— Я думаю, что война с Англией и Францией долгой не будет. Они быстро поймут, что с Россией связываться себе дороже, и заключат мир, — безапелляционно заявил адмирал. — Англичане не дураки, за чужие интересы воевать не будут.
— И насчет англичан вы, безусловно, правы. Они, конечно, воюют только за свои интересы, да вот беда — интересы у них по всему миру. Вот мы встретились в Айгуне с китайцами, и в качестве советника у местного амбаня обнаружили — кого бы вы думали? — английского шпиона. Наш офицер узнал: он с ним раньше встречался и, между прочим, у нас в Забайкалье.
— М-да, — Путятин постучал пальцами по столу. — И что же вы предлагаете?
— Я думаю, милейший Евфимий Васильевич, вам немного погодя, ближе к осени, надо снова идти в Японию — доводить свою миссию до завершения. Командор Перри заключил с японцами договор, и вы, я уверен, заключите.
— Черт бы побрал этого Перри! — зарычал Путятин. — Явился с целой армадой кораблей и под пушками заставил-таки самураев подписать невыгодный договор.
— А вы идите на одном фрегате, на «Диане». Во-первых, легче уйти от англичан, если встретите их, не дай бог. Во-вторых, японцы увидят, что русские им не угрожают, а договор предлагают равноправный, и всё подпишут.
— А что будет с кораблями моего отряда? Что с «Палладой»? — Он оглядел каюту с нескрываемой любовью: за три года фрегат стал родным.
— По распоряжению генерал-адмирала, если им будет угрожать опасность от англичан и французов, их переведут в устье Амура. Римский-Корсаков доказал, что это возможно, а противник о том понятия не имеет. «Палладу» отправим туда в первую очередь, она свое отслужила. Я отдам Невельскому соответствующее распоряжение.
— Ну, хорошо, — сдался адмирал. — Я согласен.
Несмотря на все усилия Невельского, для «Паллады» так и не был найден достаточно глубокий фарватер, и ее увели зимовать обратно в Императорскую Гавань. По приказу Путятина с нее сняли все, что было возможно, а в корпус заложили несколько бочонков пороху, чтобы взорвать при угрозе захвата фрегата противником. Из пушек «Паллады» устроили батарею на мысе Лазарева. Геннадий Иванович страшно расстроился: он несколько лет просил и даже требовал прислать ему достаточно мощные паровые суда для подробного исследования и описания течений и глубин в Амурском лимане и Татарском проливе, но его воззвания остались гласом, вопиющим в пустыне (16-сильная «Надежда» не в счет). Если бы такие пароходы у него были, русские моряки уже имели бы на руках подробную лоцию этих акваторий и могли ввести в Амур любое морское судно или корабль. Нет, лоция, конечно, была, но очень приблизительная, ее возможности оставляли желать лучшего, хотя и она сослужила Охотской флотилии немалую службу.
Глава 2
1
17 августа 1854 года генерал-майор Василий Степанович Завойко проснулся, как обычно, рано, около пяти часов утра. И разбудил его, как всегда, петух, заоравший свое ку-ка-ре-ку со двора правителя губернской канцелярии Лохвицкого. Ему ответило длинное му-у-у из усадьбы полицмейстера Губарева, и там же всполошенно закудахтали куры — это жена Михаила Даниловича, Серафима Гавриловна, занялась домашним хозяйством: у Губаревых куча детворы: мал мала меньше — знай поворачивайся! Впрочем, у Завойко на троих больше — девятеро (да и десятый не за горами), и всем нужны яйца, нужно коровье молоко и всякая огородная зелень — так что и у самого камчатского губернатора за домом вольготно расположились хозяйственный двор с хлевами для свиней (солидная молочная ферма устроена за городом) и обширный сад-огород с грядками клубники, капусты, моркови и огурцов (благо с навозом проблем нет, а на навозной грядке огурцы дивно растут): есть и маленькая тепличка — для выращивания американского томатля, семена его привез по просьбе губернатора один из американских китобоев, и обширное поле картофеля. Все, разумеется, в ведении жены губернатора — Юлии Егоровны, урожденной баронессы фон Врангель. Вернее, не столько в ведении, сколько в руках, потому что слуг, кроме кухарки Харитины да старого «няня» Кирилы, у Завойко отродясь не бывало, а на ферме работали наемные работники из местных жителей. Впрочем, семья барона, профессора права Егора Васильевича Врангеля, слугами тоже не была избалована.
А вот ведать хозяйством, и не только своим, больше приходилось Василию Степановичу, и так сложилось еще в бытность его начальником сначала Охотской, а затем Аянской фактории Русско-Американской компании. Именно благодаря ему в Охотске и Аяне появились огороды, а затем и коровы, купленные в Якутии, где они стоили копейки.
Прежде не было ни того, ни другого и в Петропавловске. До приезда Завойко тут вообще был полный разор, и город буквально спивался. Василий Степанович вдруг обнаружил в себе железную волю к наведению порядка. Пьянство прекратил одномоментно, запретив казенному магазину продавать водку кому бы то ни было без губернаторского письменного разрешения, а самогоноварение на Камчатке отсутствовало вообще и не появилось после запрета, поскольку варить это зелье было не из чего. Все взрослое население города — около 300 человек — губернатор бросил на строительство. В окрестностях Петропавловска не было строительного леса — губернатор лично поехал по области и нашел подходящий лес в районе Нижне-Камчатска. Под его руководством там построили бот и на нем заготовленный лес начали доставлять в порт. А в Тарьинской бухте, что на юго-восточном берегу Авачинской губы, нашлась превосходная глина, и губернатор там устроил небольшой кирпичный завод — без печи ведь дом не построишь. В общем, за четыре года появились новые склады, торговые лавки, казарма для низших чинов, флигеля для офицерского состава, канцелярия, казначейство, частные дома, причалы в порту и многое другое. Население выросло в четыре раза. Объезжая край, Завойко обнаружил, что имеются прекрасные условия для животноводства; немедленно из Аяна на свободном компанейском судне привезли 300 коров, а из Русской Америки свиней, и губернатор роздал их в семьи — поначалу в долг, а затем люди раскусили всю выгоду их приобретения и уже покупали за свои деньги. С большим усердием Василий Степанович и Юлия Егоровна пропагандировали огородничество. Губернатор обязал каждую семью сажать не меньше, чем по 10 пудов картофеля, и каждый год проводил сельскохозяйственные выставки. Первая была в его собственном дворе, где на полотне разложили выращенные плоды и овощи. Победителям Юлия Егоровна вручила денежные премии (никто не знал, что они были из губернаторского жалованья).
Вершиной наведения порядка, наверное, следовало признать установление справедливости в торговле мехами. Камчадалы не знали истинную цену мехов, на которые приобретали у купцов нужные для себя товары, и торгаши беззастенчиво обманывали наивных аборигенов. Завойко назначил чиновника-инспектора, в обязанности которого входило сообщать охотникам настоящую цену звериных шкурок и цену товаров, получаемых в обмен. Купцы повозмущались промеж собой, но в конце концов смирились, поскольку выгода все равно была весьма и весьма велика.
Первый камчатский губернатор был строг, но справедлив, не терпел разгильдяйства и лени, не допускал фанфаронства чиновников и унижения ими простых людей, во всех делах был первым, и это снискало у камчадалов если не любовь, то глубокое уважение не только к самому губернатору, но и к власти, которой и для которой он был прислан на этот край Российской земли.
«Охо-хо, — вздохнул Василий Степанович, спуская на пол ноги, настолько натруженные за последние месяцы, что ими больно было ступать, — вот тебе и власть, вот тебе и уважение». Нервотрепка началась, когда в марте зашедший для ремонта американский китобой «Нобль» привез дружеское письмо от гавайского короля Камеамеа, в котором тот сообщал, что возможно нападение на Камчатку кораблей англичан и французов. Почему же он не поверил пять лет назад генерал-губернатору Муравьеву, когда тот определил места береговых батарей и настаивал на их срочном сооружении? Да нет, нельзя сказать, что не поверил, — просто не до них было. Впрочем, и Петербург хорош: так и не удосужился прислать новые пушки и ружья. Но все равно — за четыре года губернаторства не только открытые капониры — бастионы можно было построить, причем спокойно и обстоятельно, а не так, как сейчас, — бросив всех, кто может держать в руках топор, лопату, кайло и кувалду, на сооружение тех самых батарей. Быстрей… быстрей… быстрей… без передыху, до полного изнеможения… А губернатору надо везде побывать, всюду успеть — наладить питание строителей, отправить к охотникам-камчадалам гонцов с призывом вступить в ополчение, вооружить население, да многих и обучить обращаться с ружьем и штыком… Ни головы, ни ног не хватает!
Осторожно, чтобы не разбудить Юлию Егоровну, Василий Степанович встал, набросил халат и проковылял на кухню — кваску испить. В небольшом губернаторском доме все еще спали: пятеро мальчиков в большой комнате, три девочки в комнатке поменьше, самая маленькая, четырехмесячная Юленька, в спальне родителей, в кроватке-качалке. Харитина похрапывала в чуланчике, а вот 65-летний Кирила уже сидел на крыльце, покуривая трубочку.
Василий Степанович выпил квасу на морошке и тоже вышел на высокое крыльцо. Кирила было поднялся, но хозяин усадил его обратно и присел рядом. Сам не курил, но дым хорошего табака нюхал с удовольствием, а у Кирилы табак был хороший, американский.
Дом стоял на спускающемся к портовому ковшу склоне Петровской сопки, поросшей кедровым стлаником, орехами которого любили лакомиться дети, можжевельником и низкорослой березой. Вид с крыльца на портовый ковш, или Малую губу, на зеленые от кустарников и деревьев сопки, а за ними — просторную Большую Авачинскую губу, берега которой терялись в утренней сизо-розовой дымке, был умиротворенно-прекрасен. Особую красоту добавляли вулканы: слева, на том берегу залива, — Вилючинский, справа, почти скрытый углом дома и склоном Петровской сопки, — Корякский. Еще два — Кроноцкий и Ключевский — скрывались за вершиной сопки, но эти три «К» так замечательно смотрелись с моря, что вполне закономерно легли на щит городского герба.
— Усё изделали? — спросил Кирила.
Завойко покачал головой:
— Все никогда не переделаешь, но кое-что успели. Пораньше надо было начинать, да все как-то руки не доходили.
— Дак ить не барничал, небось, двое сапог сносил…
Завойко посмотрел на свои босые ноги — им так приятно было стоять на теплых досках крыльца, — усмехнулся:
— Все-то ты, Кирила, замечаешь.
— А глаза-то на что Богом дадены?
Помолчали. Завойко все любовался утренней картиной порта и гавани и вдруг далеко-далеко, там, где на входе в гавань стоят скалы Три Брата и Бабушкин Камень, пыхнул черный клубочек, потом другой.
Дым!!!
Тревога взметнула генерал-майора на ноги, он вбежал в гостиную залу, где в углу стоял его рабочий стол, схватил с него подзорную трубу и снова выскочил на крыльцо. Повел трубой по горизонту — так и есть: пароход!
А тут и Кирила добавил:
— Глянь, Василь Степаныч, твой ординар поспешает — аж пыхтит.
Напрямую по склону действительно поднимался к дому постоянный ординарец генерал-майора, боцман Шестаков.
— Ваше превосходительство, — еще издали закричал он, — срочное сообщение с маяка Дальнего! — Остальное договаривал, огибая бюст Беринга, стоявший перед домом на невысоком постаменте. — Маячник Яблоков помощника на ялике прислал, тот всю ночь греб, руки в кровь истер.
— Да бог с ними, с руками, — раздраженно прервал Завойко. — Дело говори!
Ординарец все никак не мог отдышаться и потому говорил с остановками:
— Эскадра встала перед входом в гавань… три фрегата, один корвет, один бриг и пароход… Маячный считал пушки… больше двухсот, а флаги на всех разные… не поймешь какие… только на пароходе… американский.
— Пароход уже идет сюда. И флаг мог поднять любой, чтобы ввести нас в заблуждение… Так, Шестаков, передай дежурному по штабу: немедленно оповестить весь город о приближении противника и собрать штаб. Я буду через пятнадцать минут.
— Есть! — козырнул Шестаков и побежал обратно.
Кирила, собирайте вещи, самые необходимые, запрягай лошадь в тарантас и уезжайте все в Авачу. Я проведу совещание и, если успею, зайду попрощаться. Если не смогу — поезжайте так. Ни в коем случае не задерживайтесь. И прошу тебя: позаботься о детях и Юлии Егоровне.
— Все будет в наилучшем виде, Василь Степаныч, не извольте беспокоиться.
Завойко стремительно вошел в спальню и начал одеваться. Как он ни старался делать это бесшумно, все-таки звякнула пряжка ремня, стукнули сапоги…
— Что, уже? — проснулась Юлия Егоровна.
— Уже, Юленька, уже, родная. Я все Кириле сказал, он позаботится, а я пошел. Прощай!
Генерал-майор поцеловал жену в припухшую со сна щеку и быстро вышел из спальни.
Юлия Егоровна перекрестила его вслед:
— Бог тебе в помощь, мой дорогой!
2
«Получено известие, что Англия и Франция соединились с врагами христиан (Турцией), с притеснителями наших единоверцев; флоты их уже сражаются с нашими. Война может возгореться и в этих местах, ибо русские порты Восточного океана объявлены в осадном положении. Петропавловский порт должен быть всегда готов встретить неприятеля, жители не будут оставаться праздными зрителями боя и будут готовы, с бодростью, не щадя жизни, противостоять неприятелю и наносить ему возможный вред и что обыватели окрестных селений, в случае надобности присоединятся к городским жителям. При приближении неприятеля к порту быть готовыми отразить его и немедленно удалить из города женщин и детей в безопасное место. Каждый должен позаботиться заблаговременно о своем семействе. Я пребываю в твердой решимости, как бы ни многочислен был враг, сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови; убежден, что флаг Петропавловского порта, во всяком случае, будет свидетелем подвигов чести и русской доблести!»
Это воззвание Завойко написал в начале июня, получив от российского консула на Гавайях, Грейга, известие об открытии военных действий Англии и Франции против России. Рассчитывая хотя бы на частичный отклик, он приказал довести его содержание до каждого жителя Петропавловска и ближайших селений и был по-человечески потрясен, когда к вечеру следующего дня, постепенно, человек за человеком, у губернского правления собралась толпа. Будто кто их специально созвал именно к этому времени.
Василий Степанович вышел на крыльцо, обвел взглядом разносословное собрание — тут были и чиновники, и купцы, и аборигены камчадалы, и свободные от службы солдаты немногочисленного (всего-то 125 человек!) гарнизона — и сказал дрогнувшим голосом:
— Я не хотел устраивать сход, но вы пришли сами, и, пожалуй, это правильно. Будет лучше, если мы сейчас все обговорим, как есть. Знайте же: враг обязательно к нам придет, потому что наш Петропавловск — база всех русских кораблей на Тихом океане, и наш порт ему — как бельмо на глазу. И придет он силами немалыми, а у нас всего-то пять старых медных пушек да одна тридцатифунтовая, что на маяке Дальнем, а гарнизон вооружен старыми кремневыми ружьями. Надо быть готовыми к тому, что город могут расстрелять и сжечь, поэтому каждому следует позаботиться о своем имуществе заранее. — По толпе, внимательно слушавшей губернатора, прокатился гомон. — Однако… — Завойко сделал паузу, поднял руку, и гомон быстро затих. — Однако есть надежда, что к нам успеет подойти помощь. Я имею известие, что генерал-губернатор Муравьев сплавляет по Амуру для защиты Камчатки солдат, пушки, военное снаряжение и продовольствие. Будем молить Господа Бога, чтобы все это прибыло вовремя.
— А чё щас-то делать надобно? — послышался чей-то голос. — Али будем сидеть и ждать помочи?
— Сейчас будем строить укрепления — батареи, окопы против десанта. Пушки привезут — мы их сразу на место поставим. Ну, если, паче чаяния, враг захватит город, — уйдем в лес, будем партизанить, как сорок лет назад народ партизанил против французского императора Наполеона и выгнал его с Русской земли. И мы выгоним! — последние слова Завойко выкрикнул.
Толпа зашумела:
— Выгоним, Василь Степаныч, не сумлевайся…
— Надерем им жопы — не начешутся… — сбалагурил кто-то, и раскатился смех, веселый, задиристый.
— Ты токо нам каки-никаки ружжа выдай…
— А завтрева на энти… на укрепленья двинем… всем обчеством…
Завойко слушал с волнением в сердце, какого давно уже не испытывал. Сам он был человеком прямодушным, может быть, даже грубоватым, в воздушных движениях чувств не искушенным (всегда изумлялся, что в нем углядела хрупкая, утонченная Юленька). «Вот надо же, — думал, — живут люди на краю света, на неласковой земле, сами, как говорится, неотесанные, живут, почти забытые империей, по крайней мере, не больно-то столица о них заботится, да и они вряд ли когда о ней вспомянут, и сам Господь не столь уж часто на них с одобрением взглядывает, но вдруг пришла беда, и встрепенулись их души заскорузлые, и судьбой земли своей озаботились. Конечно, и о семьях своих они печалятся, и о хозяйстве немудреном, но руками все сделают, что потребуется для города, для этой неласковой к ним земли, а в конечном счете — для империи Российской, для Отечества. И совершат они свой подвиг, и восторженная столица назовет их великими патриотами, а назавтра забудет на долгие годы, пока опять не случится что-либо подобное».
«Услышь их, Господи, — взмолился сердцем генерал-майор, — обрати на этих людей благодать свою неизбывную, дай им силы выстоять и победить!»
А на следующее утро — словно Господь откликнулся — в гавань и далее в портовый ковш вошел фрегат «Аврора». Его встречало все население Петропавловска — кричали «ура», бросали вверх шапки, раздалось несколько выстрелов в воздух, но Завойко тут же запретил тратить заряды впустую.
На берег сошел командир фрегата капитан-лейтенант Изыльметьев.
— Вас нам сам Бог послал, — проникновенно сказал губернатор, обнимая офицера.
— Это как сказать, — ответил капитан-лейтенант. — Зайти сюда нас, можно сказать, нужда заставила. Мы к вам за помощью.
— Вам нужна помощь наша, нам — ваша. А пока пошлите шлюпку за своими офицерами — чтобы были к полудню на обед — и прошу в мой дом. Там все и расскажете.
— Подождите, — остановил Завойко Изыльметьев. — Нам на борт срочно нужны свежие продукты и зелень. У меня чуть ли не половина экипажа лежит в скорбуте, а остальные — в изнеможении от тяжелейшего перехода через океан.
— Вас понял. — Завойко огляделся, ища кого-то среди окруживших их петропавловцев. — Ага! Господин Левицкий, подойдите сюда.
Сквозь толпу протолкался седовласый, но еще моложавый мужчина в темном сюртуке и мягкой шляпе с широкими полями — на американский манер.
— Наш окружной врач, — представил его губернатор. — Господин Левицкий, возьмите всех наших медиков — Ленчевского, Петрошевского, ну и аптекаря Литкена захватите сразу с лекарствами — и на корабль. Осмотрите и, кого нужно, отправьте на Паратунку. У нас там санатория с целебными источниками, — счел он нужным пояснить командиру фрегата. — Губарев! Где полицмейстер? Ага, тут. Михал Данилыч, обеспечьте транспорт. Лохвицкий! Аполлон Давыдыч, не в службу, а в дружбу, соберите по дворам свежее мясо, молоко, у кого там черемша есть, лук зеленый, может, уже редиска выросла — всё-всё, что годится от цинги, мы же знаем, как с ней бороться, всё — на фрегат! Господа, обратился Завойко к окружающим, — все слышали? Вы сейчас — господа положения, давайте помогать морякам.
Люди зашевелились, заспешили к своим усадьбам, кто-то двинулся за управителем канцелярии, кто-то вслед за полицмейстерам пошел к причалам — готовить лодки.
Левицкому не понадобилось собирать медиков — они были тут же, на берегу, поэтому сразу пошли за управляющим аптекой Литкеном на его склад — за лекарствами.
— Приглашение офицеров на обед остается в силе, — сказал Завойко. — Шлюпка ваша пусть врачей подождет и с ними отправляется. А мы с вами пока обменяемся информацией.
Изыльметьев отдал приказание старшему матросу на шлюпке и пошел с губернатором вверх по склону к его дому, чьи окна выглядывали из-за облака цветущей черемухи.
У ворот стояло все семейство Василия Степановича: Юлия Егоровна с грудной Юленькой на руках, Кирила бережно прижимал к груди двухлетнюю Варю, к его ногам жались одногодки (с разницей в 11 месяцев) Вася и Иван, старшие дети — Жора, Степа, Паша, Маша и Катя — расположились между взрослыми.
Увидев такую ораву детей, Изыльметьев остановился в изумлении, переводя округлившиеся глаза с губернатора на его потомство и обратно. «Этого не может быть!» — явственно читалось в его взгляде.
— А вы как думали! — засмеялся Завойко. — Население края надо увеличивать, и губернатор должен показывать личный пример. Юлия Егоровна, это командир фрегата «Аврора» Иван Николаевич Изыльметьев, а это — прошу любить и жаловать — моя супруга со всеми чадами и домочадцами. Из домочадцев — наш бессменный «нянь» Кирила. Нет лишь кухарки Харитины, но она занята обедом.
Юлия Егоровна протянула Изыльметьеву руку, и тот ее поцеловал с величайшим почтением:
— В вашу честь, сударыня, следует орден учредить. И назвать его «Мать-героиня».
— Это у нас Василий Степанович герой, — доброжелательно улыбнулась баронесса, — а мы уж рядом с ним.
В ожидании офицеров с «Авроры» губернатор и капитан-лейтенант успели и по рюмочке домашней настойки выпить, и наговориться.
Завойко внимательно выслушал историю перехода «Авроры» из Кронштадта в Петропавловск. Она была настолько интересна, что незаметно в число слушателей втянулись и Юлия Егоровна, и старшие мальчики Завойко.
3
«Аврора» вышла из Кронштадта 21 августа 1853 года, имея на борту 56 пушек и 300 человек экипажа. Фрегат направлялся в Тихий океан в состав эскадры адмирала Путятина.
Русские войска к тому времени заняли дунайские княжества, но война с Турцией еще не началась, хотя европейские газеты уже били в набат, призывая помочь «бедной Турции» против «кровожадного русского медведя».
К моменту прибытия «Авроры» в Портсмут бои с турками уже разгорелись на Кавказе и в низовье Дуная, но официального объявления войны еще не было. Видимо, поэтому стоянка русского фрегата в английском порту прошла вполне благополучно.
Новый год русские моряки встречали уже в дружелюбном Рио-де-Жанейро. Две недели отдыхали, наслаждались экзотическими фруктами и знойными бразильянками, ну и, разумеется, ремонтировали фрегат, слегка потрепанный переходом через Атлантику. Предстояло обогнуть мыс Горн, имевший среди моряков дурную славу «непроходимого». Рассказывали, что какой-то парусник больше месяца боролся с бурями и течениями, пытаясь его миновать, но так и не смог — пошел в Тихий океан через Индийский.
Через месяц «Аврора» оказалась в роли того парусника. 20 дней ее трепали бури, встречные ветры и течения, случалось, за сутки она проходила чуть больше мили, но в конце концов, ценой неимоверных усилий всего экипажа, вырвалась из «непроходимой» зоны и вошла в Тихий океан. И сразу, как по мановению волшебной палочки, все изменилось: куда-то исчезли бури и штормы, попутные ветры понесли фрегат на север, и в конце марта 1854 года «Аврора» пришла на рейд перуанского порта Кальяо.
Все было бы замечательно, если бы не одно, весьма неприятное обстоятельство: на том же рейде стояла англо-французская эскадра, и ветер полоскал адмиральские штандарты на линейных фрегатах — 52-пушечном английском «Президенте» и 60-пушечном французском «Форте». Остальные корабли были помельче, но для «Авроры» в случае боевых действий за глаза хватило бы и этих двух. Хорошо, хоть Изыльметьев догадался бросить якорь на внешнем рейде — пусть от берега далековато, зато и от вероятного противника на приличном расстоянии.
Ни Изыльметьев, ни англичане с французами не знали, что война уже объявлена; почта из Европы до Перу еще не дошла, и капитан-лейтенанту, согласно морскому этикету, следовало нанести визиты вежливости иностранным адмиралам. Иван Николаевич с радостью бы немедленно покинул Кальяо, однако фрегат после прорыва из Атлантики требовал ремонта, а кроме того, перед приходом в Перу умерли два матроса, покалечившиеся во время бури, и, согласно правилам, на стоянке их следовало похоронить на берегу. Поэтому командир, поручив лейтенанту Александру Максутову оценить объемы ремонтных работ, прапорщику корпуса морской артиллерии Можайскому подготовить пушки на случай артиллерийской дуэли, а мичману Фесуну заняться похоронами матросов, сам на шлюпке-четверке отправился сначала на «Президент», на котором держал флаг контр-адмирал Дэвид Прайс, затем на «Форт» — к контр-адмиралу Феврие Де-Пуанту.
Визиты были до оскомины одинаковы: любезные улыбки с английским чаем (у Прайса) и бокалом легкого вина (у француза). Ну и, конечно, обмен информацией, по преимуществу, естественно, ложной. Изыльметьев сообщил, что идет в Охотское море для борьбы с браконьерами, а его визави — охраняем, мол, от пиратов торговые пути. Кроме того, и англичанин, и Де-Пуант совершенно одинаково поинтересовались, долго ли «Аврора» простоит в Кальяо, на что капитан-лейтенант простодушно ответил, что не меньше трех-четырех недель, так как надо чинить порванные паруса и такелаж, закреплять расшатанные мачты, заново шпаклевать швы, да и мало ли что еще найдется при тщательном осмотре корабля. И, в свою очередь, пригласил собратьев по профессии на «Аврору»; они обещали непременно быть, поскольку ни тому, ни другому не доводилось посещать русские корабли.
Вернувшись на фрегат, командир немедленно собрал офицеров.
— Господа, я внимательно наблюдал за адмиралами, — сказал он. — Они явно нервничают, ожидая пароходо-фрегат «Вираго», он должен прибыть в середине апреля и, видимо, привезет известие о начале войны. Александр Петрович, — обратился Изыльметьев к лейтенанту Максутову, — сколько времени займет ремонт?
— Не меньше месяца, Иван Николаевич. И то, если очень постараться.
— Нам надо уложиться максимум в две недели. Если не уложимся или «Вираго» придет раньше, придется драться, и драться насмерть.
— Они могут рискнуть напасть на нас, не дожидаясь официального объявления, — задумчиво сказал рассудительный лейтенант Анкудинов.
— Были бы одни англичане, скорее всего, так бы и случилось, Евграф Григорьевич, — ответил командир. — Это же их поговорка: «Success is never blamed»[66]. На ней основано все их коварство.
— Ну, матушка Екатерина тоже как-то заявила: «Победителей не судят», — засмеялся артиллерийский поручик Дьяков и обвел ироническим взглядом присутствующих. — Кто не знает — это она высказалась в защиту самого Суворова.
— Совершенно разный смысл, — резко сказал Максутов.
— Позвольте! — вспыхнул Дьяков.
— Стоп, господа офицеры! — вмешался Изыльметьев. — Доспорите при более удобном случае. Хотя лично я тоже считаю, что смысл разный. В основе английской поговорки лежит другая — цель оправдывает средства, — а она очень удобна для любых неблаговидных поступков, и жертвой такого поступка англичан сегодня можем стать мы с вами. Давайте это иметь в виду и работать день и ночь, чтобы поскорее вырваться из ловушки.
Разумеется, адмиралы нанесли ответный визит. Совместный, через две недели, 13 апреля. Рассчитав его так, чтобы удостовериться в оставшемся объеме ремонтных работ у русских. Однако у Изыльметьева все было приготовлено заранее, и к моменту вступления адмиралов на палубу фрегата на ней царил настоящий бардак: как попало валялся распущенный и порванный такелаж, в разложенном на палубе парусе зияли гигантские прорехи, на которые накладывались столь же гигантские заплаты, матросы бестолково носились взад-вперед под истошные командные вопли офицеров.
Капитан-лейтенант извинился за беспорядок.
— Аврал, господа. Время поджимает, а дел еще полным-полно. За неделю точно не уложимся. Очень уж потрепал нас мыс Горн.
Адмиралы обошли фрегат, как бы знакомясь с русским кораблестроением, но Изыльметьев видел, как цепко их профессиональные взгляды схватывают каждую деталь. Однако русские моряки предусмотрели все до мелочей, и разочарованные гости, выпив водки под соленые огурчики и бутерброды с черной стерляжьей икрой, с благодушнейшими пожеланиями успехов убрались восвояси. Старший вахтенный офицер «Авроры» заметил оживленное движение шлюпок между кораблями англо-французской эскадры, а вскоре вслед за этим корабли переменили места стоянки, как бы незаметно охватив «Аврору» подковой. Иван Николаевич, разумеется, не знал, что это перестроение было результатом срочного совещания адмиралов и старших офицеров эскадры.
— «Аврору» надо атаковать немедленно! — заявил Прайс Де-Пуанту, едва их шлюпка отвалила от фрегата.
— На каком основании? Мы же не пираты, — возразил француз.
— На том основании, что ремонт они уже закончили, а нам втирали очки.
— Тут вы правы, но, по-моему, надо дождаться официального объявления войны, — по-прежнему колебался Де-Пуант.
— Я уверен, что война уже идет и нужны дела, а не слова. He that come first to the hill may sit where he will[67].
— Надо собрать офицеров, посоветоваться, — выдвинул последний аргумент Феврие Де-Пуант.
— Хорошо, — сдался Прайс. Я предложу атаковать русских завтра на рассвете, и посмотрим, кто поддержит вас, а кто меня. А пока лишим их возможности маневра, пользуясь тем, что «Аврора» стоит носом к берегу.
Большинство старших офицеров эскадры поддержали Прайса.
Перед заходом солнца с берега вернулся мичман Фесун, закончивший все формальности с похоронами матросов. Он привез весьма тревожное известие.
— После похорон ко мне подошел человек, назвавшийся английским купцом русского происхождения, — по-юношески торопливо, глотая слова, рассказывал мичман. — Говорил по-русски с акцентом, однако представляться не стал. Так вот он сказал, что ему достоверно известно, что завтра утром «Аврора» будет атакована всей англо-французской эскадрой. Он, мол, помнит о России и не хочет, чтобы русские пострадали от вероломства британцев и галлов.
— То-то, я смотрю, они на реи навешали наблюдателей с трубами, — усмехнулся Изыльметьев. — Спасибо за важную информацию, Николай Алексеевич, и давайте поступим так. Вы сейчас спокойно оповестите всех офицеров о срочном совещании на опердеке — чтобы наблюдатели не засекли. Пока светло — никакой спешки. — Командир выглянул в окно и обрадованно сказал: — Смотрите, туман собирается. Господь на нашей стороне!
Совещание было кратким. Капитан-лейтенант приказал, как только стемнеет, немедленно поставить на места все, что было убрано подальше от адмиральских глаз, одновременно спустить на воду шлюпки и, пользуясь сгустившимся туманом, отбуксировать фрегат к открытому океану. Причем буксировать, не разворачиваясь, кормой вперед.
Все было исполнено наилучшим образом. Выйдя в океан, «Аврора» подняла паруса и полным ходом ринулась на северо-запад.
В этом месте рассказа Василий Степанович откровенно засмеялся и пояснил удивленному гостю:
— Я представил, какие лица были у Прайса и Де-Пуанта, когда утром они увидели, что русский фрегат исчез у них из-под самого носа.
— Да уж, наверное, — скупо улыбнулся Изыльметьев. — Мое повествование подходит к концу.
«Авроре» предстояло за два месяца, уходя от традиционных маршрутов, где ее могли засечь враги, пройти 9000 миль. Да не по спокойному океану, а сквозь бури и штормы, которые на этом переходе как с цепи сорвались. Налетали один за другим, не давая передышки. Матросы падали от усталости. Да еще в Кальяо фрегат не смог загрузить свежие продукты — это бы вызвало подозрение англо-французов, — поэтому на корабле началась цинга, усугубленная изнуренностью экипажа. 13 человек умерло. В результате командир решил зайти в ближайший российский порт, которым и оказался Петропавловск.
— Ничего, Иван Николаевич, вылечим мы ваших матросов, — заявил Завойко, — но и вы нам помогите. Я получил сведения, что Петропавловский порт скоро будет атакован англо-французской эскадрой, возможно, той самой, от которой ушли вы. А у меня гарнизон — сто двадцать пять человек с кремневыми ружьями, и ни пушек, ни артиллеристов нет. И что прикажете делать?! Сдаться на милость победителей — это какой же будет конфуз Российской империи! Сражаться — значит, умереть и все равно отдать город врагу. Мы ждем помощи с Амура — там должен состояться сплав войск и снаряжения, — но придет ли она? Пропустит ли караван Китай, сможет ли он пройти весь маршрут без потерь, сколько нам выделят солдат — что ни вопрос, то восклицание, прошу простить за каламбур. Я полагаю, Иван Николаевич, что в этих обстоятельствах «Авроре» следует остаться здесь; по большому счету, это нужнее, чем состоять в эскорте адмирала Путятина. Его миссия в Японии важна, конечно, однако оборона морской базы важнее.
— А вы уверены, ваше превосходительство, что наших общих усилий будет достаточно для защиты города и порта? — осторожно спросил капитан-лейтенант.
— Я уверен, что шансов у нас будет много больше. А нет — так что ж? — все мы смертны, зато умрем за царя и Отечество в бою, не сдавшись на милость победителя.
— А вон и мои офицеры идут, — увидел в окно Изыльметьев поднимающихся к дому моряков. — Позвольте, Василий Степанович, мне подумать и посоветоваться с ними?
— Разумеется, разумеется. Однако надеюсь после обеда услышать ваше решение.
4
По большинству голосов офицеров «Аврора» осталась в Петропавловске. Больных членов экипажа отправили в санаторию, открытую, кстати, два года назад усилиями губернатора в Долине гейзеров; там успешно лечились от разных болезней, в том числе и от проказы, которая была бичом местного населения. Остальные, вместе с гарнизоном и населением, взялись за сооружение и обустройство береговых батарей, тех самых, расположение которых определил еще пять лет назад генерал-губернатор Муравьев. Для их вооружения с «Авроры» сняли все пушки правого борта, сам же фрегат поставили за косой Кошкой (которая отделяла Малую губу от Большой, Авачинской) левым бортом к заливу, превратив его таким образом в плавучую батарею.
А на следующий день в гавань пришел корвет «Оливуца» под командой капитан-лейтенанта Назимова; старшим офицером на нем был давнишний знакомый Завойко по Амурской экспедиции — капитан-лейтенант Чихачев. Корвет доставил распоряжение Муравьева о подготовке Петропавловска к обороне.
— Нет, вы только посмотрите, Аполлон Давыдыч, — сердито сказал Завойко своему правителю канцелярии, — наш главноначальствующий пишет так, будто я ничего не смыслю в обороне. Сделайте то, сделайте это…
Лохвицкий сокрушенно покачал головой — не поймешь, то ли поддакнул губернатору, то ли не согласился с ним. Однако, поразмыслив, Василий Степанович сам осадил свою сердитость:
— Впрочем, похоже, напраслину я возвожу на Николая Николаевича: он же сам настоял на том, чтобы Петропавловск был главным нашим портом на Тихом океане, вопреки мнению Невельского. И вообще, постоянно в колокола бьет, добиваясь укрепления нашего положения, — только столица не больно-то к нему прислушивается.
Задерживаться в Авачинской бухте Назимов не стал — корвет был единственным скоростным кораблем Охотской флотилии и служил связным между Камчаткой, Амуром и Аяном.
— Пушками не поделитесь? — спросил Назимова на прощанье Завойко. — У меня семь батарей, а пушек всего двадцать.
— Вынужден отказать, ваше превосходительство, — твердо ответил Назимов. — Корвет в любой момент может встретиться с противником, и там каждая пушка будет на счету.
— Понимаю, понимаю, — задумчиво пощипал седоватые усы генерал-майор. — А офицерами? Я формирую несколько стрелковых партий, часть из них — гражданские волонтеры, около сорока человек русских, восемнадцать лучших местных охотников, но обучать их и командовать некому — только мичманы да гардемарины. Вот Николай Матвеевич Чихачев просится…
— Чихачева не дам! Вы поймите, Василий Степанович, — смягчил отказ Назимов, — Николай Матвеевич — моя правая рука. И вообще, сколько на корвете офицеров!
Однако одного губернатор все же «отвоевал».
На «Оливуце» служил родной брат Александра Максутова, Дмитрий, тоже лейтенант. Братья не виделись уже три года; обычно сдержанный Александр, как мальчишка, бросился в объятия любимого брата. Дмитрий, узнав о том, что «Аврора» осталась в Петропавловске, тут же обратился к Завойко с просьбой — ходатайствовать перед Назимовым о включении его в число защитников в качестве инструктора по артиллерийскому делу. Василию Степановичу крайне нужен был такой человек, поэтому он не стал разводить церемонии, а пользуясь распоряжением генерал-губернатора как главнокомандующего и своим старшинством в звании, приказал временно перевести лейтенанта Максутова-З-го[68] с корвета «Оливуца» в 47-й флотский экипаж и назначить его помощником начальника Петропавловского порта по артиллерийской части. Первым заданием Дмитрия Петровича стало сооружение батареи № 2 на основании Кошки. Батарея должна была запирать вход в портовый ковш и при необходимости поддерживать батареи — № 1 на Сигнальном мысу и № 4 возле Красного яра, то есть быть фланкирующей.
Впрочем, сектор стрельбы Сигнальной тоже охватывал 180 градусов — от входа в ковш на востоке до середины Авачинской губы на западе.
Завойко решил: поскольку в Петропавловске нет ни одного военного строителя, пусть батареи обустраивают их командиры — им на месте виднее, как будет удобней и безопасней воевать боевым расчетам. Так, Сигнальной, пожалуй, самой тяжелой, вырубаемой в скале, занимался лейтенант Петр Федорович Гаврилов, бывший командир «Охотска» и «Иртыша», чудесным образом выживший после смертельной зимовки в Императорской Гавани; Перешеечную (№ 3), в ложбинке между Сигнальной и Никольской сопками, генерал-майор доверил Александру Максутову; Озерную (№ 6), у северо-восточного подножья Никольской сопки, напротив Култушного озера, перекрывающую возможное наступление десанта с севера, — поручику по адмиралтейству Карлу Гезехусу; батарею № 7 (у рыбного сарая, расположенного севернее Никольской сопки), опять же противодесантную — капитан-лейтенанту Василию Кораллову. А вот четвертую, место для которой определили за ручьем Поганкой, на склоне Красного яра, пришлось поручить всего лишь мичману-авроровцу Попову, правда, был он по артиллерийской части. Сюда также мог быть высажен десант.
Кошкинскую батарею обустраивать было гораздо легче, чем Сигнальную, но она и защищена от вражеских снарядов значительно хуже. Расположенная на открытом месте, закопанная лишь в песок, батарея вряд ли могла долго противостоять корабельной артиллерии, однако ее роль в защите порта была наиглавнейшей, поэтому ее залпы, хоть и недолгое время, но должны быть наиболее эффективными. А для этого Максутов сразу рассчитывал позицию на 10–11 пушек.
Только пятой батареей не занимался никто. Ее сформировали, впрочем, нет, слово «сформировали» здесь не годится — просто собрали в одно место, между причалами и основанием Кошки, старые медные пушки и оставили без единого человека, так как никто не рассчитывал, что из них доведется стрелять.
Целый месяц, день и ночь, гарнизон и матросы с «Авроры» долбили скалы на мысе Сигнальном, зарывались в землю и песок на других позициях, поднимая брустверы и горжи и прикрывая их фашинниками — чтобы в них вязли вражеские ядра, снимали корабельные пушки со станков и перетаскивали их на места установки. Правда, устанавливать пока что было не на что — требовались другие станки, лафеты и платформы.
У Дмитрия Максутова еще хватало времени и сил на обучение будущих артиллеристов, а волонтеры проходили азы воинской науки под руководством прапорщика Жилкина.
За работой русских с большим интересом наблюдали американские китобои с брига «Нобль», который так и стоял на рейде, ремонтируясь ни шатко ни валко. У Завойко давно закралось подозрение, что неспроста их ремонт затянулся уже на четыре месяца, однако он знал, что США объявили о своем нейтралитете, и официально предъявить претензии американцам не мог. Спустя некоторое время к китобою присоединился гамбургский купец «Св. Маддалена», но, в отличие от американцев, матросы с этого судна не только наблюдали, но и помогали русским в строительстве укреплений.
Двадцать четвертого июля в Петропавловск пришел из Де-Кастри транспорт «Двина»; он доставил долгожданную помощь — 350 солдат Сибирского линейного батальона под общим командованием капитана второго ранга Арбузова, два бомбических орудия и 14 пушек 36-фунтового калибра. Сама «Двина», с ее десятью пушками и экипажем в 65 человек, тоже представляла существенное дополнение к обороне Петропавловска. А кроме того, на транспорте прибыли инженер-строитель укреплений поручик Мровинский и вольнонаемный мастер Шлык, как его представил поручик, специалист по сложным деревянным и металлическим изделиям.
— Вот теперь мы по-настоящему обустроим наши батареи, — сказал Завойко Изыльметьеву, который естественным образом стал как бы начальником штаба у генерал-майора. — Пушки на станки и платформы поставим и редуты укрепим, как надо.
Арбузов вручил Завойко распоряжение Муравьева о своем назначении помощником военного губернатора, командиром 47-го флотского экипажа и капитаном над Петропавловским портом. К распоряжению было приложено уведомление о присвоении Арбузову звания капитана первого ранга по вступлении в соответствующие должности.
Узнав из представления, что Александр Павлович имеет орден Святого Георгия 4-го класса и опыт двух десятков сражений, Завойко расцвел от радости и тут же пригласил нового помощника к себе на обед. А на обеде разразился нешуточный скандал.
Выпив водки, настоянной на кедровых орешках, то ли с непривычки к такому питию, то ли с перебору, Александр Павлович вдруг начал разглагольствовать о своих способностях в тактике пехотного боя, почерпнутой лет пять назад у турок, об уроках, какие он давал сибирским стрелкам во время месячного перехода от Амура до Камчатки, о необходимости такого обучения волонтеров, да и офицеров. И если по сути его высказывания были верны, то хвастливо-заносчивый тон новоиспеченного капитана первого ранга вызвал у всех присутствующих на обеде жесткую неприязнь. А присутствовали командиры и старшие офицеры обоих кораблей. И к кому бы Арбузов ни обращался, тот отворачивался и делал вид, что не слышит. В конце концов, как только гости встали из-за стола, а Юлия Егоровна вышла из залы, Василий Степанович оборвал очередной пассаж своего помощника:
— Сударь, прошу вас прекратить хлестаковщину. Это недостойно боевого офицера!
Арбузов побагровел и встал, сминая в руке накрахмаленную салфетку:
— Ваше превосходительство, я не могу допустить, чтобы со мной говорили в таком тоне и требую сатисфакции.
Завойко расхохотался:
— Помилуйте, какая сатисфакция?! Идет война, вот-вот нагрянет враг, а вы затеяли дуэль? Начитались романов господина Дюма? — Губернатор встал, голос его посуровел. — Так вот, милостивый государь, властью, данной мне военными обстоятельствами, я отрешаю вас от всех постов и должностей. Соответственно, вы лишаетесь и чина капитана первого ранга. Прошу покинуть наше общество.
Арбузов вскинул голову, бросил на стол салфетку и, высокий, подтянутый, четко печатая шаг, вышел из залы.
— Не слишком ли сурово, Василий Степанович? — раздался голос Изыльметьева.
— Не слишком, — отрезал Завойко. — От таких фанфаронов в армии добра не жди. Тем более в наших условиях.
— Ну, все-таки орден Святого Георгия…
— Он его получил четырнадцать лет назад. Тогда, может быть, это был совсем другой человек.
Глава 3
1
Статский советник Семен Семенович Стебельков неспешным шагом, опираясь на трость, прогулялся по Большой Морской улице до Почтамтского переулка, потом по самому переулку и позвонил в неприметную серую дверь странным набором звонков: три коротких, один длинный и снова два коротких. Стукнула щеколда, дверь приоткрылась, худощавый Стебельков скользнул в образовавшуюся щель и предъявил полицейскому, выступившему из темного угла на свет газового светильника, бронзовый значок на отвороте лацкана своего черного сюртука.
Полицейский козырнул и отступил, пропуская Семена Семеновича к узкой металлической лестнице в десять ступенек. Стебельков по-прежнему неспешно поднялся по ней, прошел небольшим коридором, свернул направо и по более широкой лестнице с каменными ступенями, покрытыми темно-зеленой ковровой дорожкой, прижатой бронзовыми прутьями, продетыми в бронзовые петли, вышел в короткий коридор, освещенный тремя большими окнами, забранными решетками. Напротив каждого окна в стене была филенчатая дверь темного дерева с бронзовыми ручками. Пол коридора застилала та же зеленая дорожка, скрадывающая шаги; при каждом шаге над дорожкой поднималась пыль, хорошо видимая в лучах утреннего солнца, прорвавшегося в окна из-за угла соседнего дома.
Стебельков нажал на ручку второй двери и вошел в большую комнату с одним зарешеченным окном, в которой стояло несколько столов, на столах громоздились стопки разнообразных пакетов и конвертов. За всеми столами, кроме одного, массивного, покрытого зеленым сукном, сидели мужчины в таких же, как у Стебелькова, черных сюртуках. Возраста они были разного, однако все немолоды, кое у кого уже серебрились виски, а один, чей стол находился рядом с массивным, сед на всю голову.
При появлении Стебелькова все встали, приветствуя его; Семен Семенович ответил общим кивком, снял свой шелковый цилиндр и поставил его на полку у входа, на которой стояли еще шесть цилиндров, попроще. Трость отправил в подставку для зонтов и прошел за массивный стол, на свое рабочее место.
Учреждения, одним из отделений которого управлял статский советник Стебельков, официально не существовало, а неофициально людьми посвященными называлось «черным кабинетом». Занималось оно перлюстрацией, то есть секретным вскрытием и просмотром частной корреспонденции. Законом эти действия запрещались во всех цивилизованных государствах, но тем не менее всюду такие «кабинеты» существовали. Они тайно финансировались, их служащие имели чины, хорошие жалованья, получали повышения и ордена; попасть в «черный кабинет» было нелегко, но и уйти из него не представлялось возможным — только на пенсию, с подпиской о неразглашении. Все это обосновывалось безопасностью государства и общества.
Отделение Стебелькова занималось исключительно иностранной корреспонденцией — как уходящей, так и приходящей. Несколько раз в день из экспедиции почтамта в «кабинет» доставлялись специальные корзины с письмами, бандеролями и посылками, а из него отправляли корреспонденцию, прошедшую перлюстрацию. Естественно, все манипуляции производились людьми, чрезвычайно опытными и умелыми: получатель ни в коем случае не должен был догадываться, что производилось вскрытие. Если случалось повреждение личной печати, в техническом отделении «кабинета» немедленно изготавливали новую, неотличимую от оригинальной. Если по каким-либо соображениям требовалось оставить оригинал текста в «кабинете» (а точнее, в Третьем отделении Собственной Е.И.В. канцелярии, в чьем ведении находился «кабинет»), то в том же техническом отделе могли подделать любой почерк. В общем, все, что угодно, — ради безопасности!
Стебельков начинал в этом отделении рядовым чиновником, правда, сразу XIII класса — губернским секретарем; за 15 лет службы поднялся на четыре ступени и стал исправляющим дела заведующего отделением. Сам он теперь ничего не вскрывал — на стол ему клали особо подозрительные материалы. Вот и сегодня Семен Семенович увидел на зеленом сукне большой, в два писчих листа, толстый серый конверт.
Усевшись в удобное кресло с высокой спинкой, Стебельков взялся за конверт. Первым делом узнать — откуда-куда и отправитель-получатель. Он осмотрел конверт и надписи на нем. Так, отправлено из Аяна неким Андреем Любавиным в Париж некому Артемию Лебедеву. Конечно, с Францией идет война, однако почта работает, так что с этой стороны все в порядке. Кто такой Андрей Любавин и кто такой Артемий Лебедев — неизвестно. Единственно, что может вызвать подозрение, это — одинаковые инициалы, но в жизни бывают и не такие совпадения.
А что внутри? Десять карандашных рисунков — морские пейзажи с живописными островами и скалистыми берегами. Подписи: «Бухта Де-Кастри. Вид с берега», «Бухта Де-Кастри. Вид с моря», «Устье Амура. Вид с лимана», «Сахалин. Мыс Погиби», «Мыс Лазарева», «Мыс Пронге», «Императорская Гавань», «Мыс Тебах», «Сахалин. Дуэ», «Залив Счастья». Рисунки сделаны на белой бумаге, наклеенной на тонкий картон или толстую серую бумагу.
Письмо на русском языке: «Мой дорогой друг Артемий! Ты себе представить не можешь, как мне повезло. Наконец-то я добрался до края России — до устья могучей реки Амур, что впадает в Охотское море, точнее, в Амурский лиман Охотского моря; напротив устья расположен огромный остров Сахалин. Прежде весь мир его считал полуостровом, но русские моряки под предводительством капитана Невельского четыре года назад доказали, что это остров. Молодцы наши с тобой соотечественники! А теперь они занимаются исследованием Приамурского края и пролива между материком и Сахалином. Я как художник показался им очень нужным, и меня взяли в экспедицию вольнонаемным. Денег у них лишних нет, и я работаю только за питание. Да мне ничего и не надо, кроме возможности рисовать то, что до меня никто никогда не рисовал. Природа тут так роскошна — не хватит слов, чтобы ее описать. Правда, я прожил два года во Французской Полинезии — там природа тоже богата до невозможности, но там она приторна, слащава, а тут — сурова до жестокости, и это для русской души самое то. Слащавость мне приелась до оскомины, здесь душа моя просто отдыхает, а руки рисуют и рисуют. Посылаю тебе десять пейзажей, надеюсь, они дадут тебе какое-то представление о местах, где я в настоящее время пребываю…» Ну, и так далее и тому подобное.
Конверт был сделан из той же бумаги, что и подложки для рисунков. Стебельков прикинул — если его расклеить, получится правильный прямоугольник, почти квадрат; он может быть носителем секретной информации. А рисунки? Стебельков пригляделся — не слишком ли четкие контуры береговых линий и островов? Особенно виды Де-Кастри — острова на выходе из бухты прорисованы тонко заточенным карандашом, так в природе не бывает, обязательно наличествует дымка, размывающая линии. И художники обычно даже усиливают ее присутствие, придавая тем самым пейзажу некоторую воздушную романтичность. А вот такая прорисовка подчеркивает сам факт существования в этом месте островов и проливов между ними, следовательно, несет в себе определенную информацию. И кому нужна подобная информация? Семен Семенович усмехнулся: тут и консультироваться не требуется — естественно, морякам. Разумеется, не русским, которые там, на крайнем Востоке, о ней конечно же знают.
Итак, первая зацепка есть. Кроме того… Стебельков открыл журнал с перечнем сведений, относящихся к секретным, и нашел: «Устье Амура, Амурский лиман, Татарский пролив, остров Сахалин. Карты и все конкретные данные о берегах и глубинах». А на рисунках Любавина — сплошная конкретика!
В общем, решил Семен Семенович, эти рисунки, письмо и конверт следует подвергнуть проверке всеми методами, которыми располагает «черный кабинет». Дело здесь явно нечисто.
2
Через неделю управляющий «черным кабинетом», действительный статский советник Бутаков явился с докладом к шефу корпуса жандармов и главе Третьего отделения князю Орлову. Обычно Бутаков докладывал по вторникам, четвергам и субботам, а тут попросился на прием в среду.
Алексей Федорович удивленно цокнул языком и подкрутил свои великолепные черные усы, в которых, несмотря на возраст (князю стукнуло 68) не было ни единого седого волоса. Шевелюра уже поросла сединой, а усы молодецки держались.
— Что ему надо-то? — недовольно спросил князь секретаря. По средам он ездил в Конногвардейский манеж заниматься верховой ездой с упражнениями джигитовки — для поддержания формы — и как раз собирался на выход.
— Говорит: надобность безотлагательная, — развел руками секретарь. — Вы же знаете, он не очень разговорчив.
— Да все они там такие, — усмехнулся Орлов. — Дело обязывает. Ну ладно, зови, коли пришел.
Порфирий Никитич извинился за несвоевременный визит и положил перед князем кожаную папку.
Алексей Федорович открыл ее, всмотрелся в бумаги и остолбенел. В папке лежали карты Татарского пролива и его участков, с указанием течений, глубин, опасных мелей, банок и других деталей. Все они были выполнены на оборотной стороне листов с карандашными пейзажами соответствующих мест. Общая карга, судя по сгибам бумаги, рисовалась на конверте.
— Это как же понимать? — растерянно спрашивал князь. — Откуда там взялся шпион?!
— Извольте прочитать письмо, — сухо сказал Бутаков.
— Да прочитал я его, прочитал! Оно ничего не объясняет! — закричал Орлов. — Как я буду докладывать государю?! И что вообще теперь делать?!
Бутаков пожал плечами.
— Письмо перехвачено, секреты никуда не ушли…
— Ты уверен?
— Вот же оно, перед вами.
— Ну, хорошо, Порфирий Никитич. Благодарю за службу. Это тебе зачтется при соответствующем представлении.
— Благодарствую, ваша светлость. Прошу лишь отметить, что непосредственное выявление сего факта — исключительная заслуга заведующего отделением «кабинета» статского советника Стебелькова.
С генералом от кавалерии Дубельтом, своим первым помощником как в Третьем отделении, так и в корпусе жандармов, князь Орлов встретился в Манеже. Погарцевав на скакунах положенное время, они присели выпить чаю в конюховке — так по-простецки конногвардейцы называли вполне приличный кабинет для отдыха офицеров.
За чаем Алексей Федорович поведал начальнику штаба корпуса и заведующему Третьим отделением историю с французским шпионом в экспедиции капитана Невельского. Впрочем, уже не капитана, а контр-адмирала. Государь недавно говорил об этом как о деле решенном.
Что скажете, Леонтий Васильевич? Докладывать государю или нет?
— Докладывать или нет — так вопрос не стоит, Алексей Федорович, — докладывать надо. Но… — генерал сделал многозначительную паузу, и князь насторожился, — но не сейчас.
— А когда же?!
Когда шпион будет пойман и доставлен в Петербург. Надо немедленно отправить Невельскому предписание арестовать этого мерзавца Любавина и препроводить его в столицу. Очень хочется взглянуть негодяю в лицо. Изменник Отечества — это же хуже революционера!
— Ваша правда, Леонтий Васильевич, ваша правда. — Князь задумчиво покрутил усы. — И насчет доклада государю… пожалуй, тоже… — И вдруг оживился. — А не лучше ли послать предписание Муравьеву? И даже не предписание — мы ему предписывать не можем, — а уведомление. Пусть внимательно посмотрит, нет ли рядом еще каких шпионов, например английских. А то устроил у себя филиал «Сюртэ Женераль»! И пускай уже сам отдаст распоряжение Невельскому. Все-таки контр-адмирал подчинен генерал-губернатору, не след нам через его голову прыгать.
3
Вогул затосковал. Вот уже второй месяц он был в команде Александровского поста, и за это время на горизонте не показалось ни одного иностранного судна. С появлением каждого парусника в сердце вспыхивала надежда, но это были русские корабли, сновавшие, как он выразился, между Императорской Гаванью, Де-Кастри и устьем Амура.
Григорий даже толком не понимал, отчего навалилась тоска. Служба его не тяготила — в Иностранном легионе было куда муторнее и тяжелее. Сказать, что так уж сильно тянуло за границу, — тоже не совсем верно. Хотелось, конечно, чего-нибудь получше, чем эти дикие места, но, с другой стороны, когда рядом, бок о бок, русские мужики, когда каждый день, с утра до вечера, слышишь родную русскую речь и не менее родной русский матерок — что от солдат, казаков или матросов, что от офицеров (от них даже чаще) — это, признаться, греет душу. Ну, еще, пожалуй, могло угнетать отсутствие женщин… Могло, но не угнетало, потому что отсутствовали только русские женщины, а местных, аборигенок, — выбирай, не хочу. Приспичит — иди в ближайшее стойбище, и старейшина с радостью предложит любую раскрасавицу. Тут, как говорится, дело вкуса, а местные понимают, что русская кровь добавляет их потомству силы и здоровья. И даже мужья предлагают своих жен — пусть, мол, понесет от русского.
Элизу он вспоминал, но нечасто. Ее облик отдалился, стал каким-то размытым, словно в тумане, и уже не вызывал никаких чувств, кроме жалости, но и жалость не была столь острой, как первое время. С трепетом душевным он представлял себе лишь Мадию — ту прекрасноликую, но обиженную Аллахом бедуинку, которая помогла им с Анри бежать из плена. Эта женщина неизменно вызывала в нем желание стать на колени и молиться. Ее прекрасный образ сливался в его душе с образом Богородицы, Мадонны.
С сослуживцами отношения у Григория, хотя вернее будет — Герасима Устюжанина, сложились ровные, товарищеские. Только старший матрос Митяй Чуфаров сблизился с ним больше других, наверное, потому, что тоже был туляком, из Богородицка, из крепостных графов Бобринских. К тому же им было интересно друг с другом: Герасим рассказывал приятелю про Иностранный легион, про Алжир и Францию, а Митяй — про удивительные сады и парки, которые устроил в имении Бобринских управитель волости Андрей Тимофеевич Болотов.
— Ты представляешь, Герась, — воодушевленно говорил Митяй, — там голое место было: ни деревьев, ни воды. Лысые горки! Козы паслись! Управитель волости собрат народ, человек двести ал и триста, и поначалу воду подвели — версты за три. Без воды ж никакие сады не вырастут. Опосля давай деревья из лесу возить. Дед мой сказывал: выкапывати дерево вместе с землей и травой, чтобы ни один корешок не повредить, и везли стоймя. А как опустят в яму — их под кажное дерево отдельно копали, — так сразу поливать. И ты представляешь — все принялись!..
Конечно, были и другие разговоры: о купанье и ловле раков в своих любимых реках — у Митяя — Упёрта, у Герасима — Красивая Меча; о кострах в ночном, когда пекли в золе картошку и рассказывали страшные истории про упырей и вурдалаков, и только звяканье колокольчиков на шее пасшихся неподалеку лошадей спасало от нечистой силы; о веселых хороводах с девками и обнимках с ними на сеновале… Да мало ли чего и сколько хорошего можно навспоминать долгими летними вечерами, сидя вдвоем у потрескивающего угольками костра на берегу бухты под шорох набегающих на песок волнишек.
Иногда к их костру подсаживались другие члены команды и даже сам командир мичман Купреянов Яков Иванович. Он только в прошлом году вышел из Морского корпуса, сразу был направлен на Амур, и Невельской назначил его командиром самого, пожалуй, беспокойного поста. Через Де-Кастри шли теперь грузы и люди с Амура и на Амур, а в силу военных обстоятельств передвижения эти были весьма энергическими. Тому способствовала и прорубленная между озером Кизи и бухтой дорога. Яков Иванович, видимо, в силу своей молодости проявлял к рассказам подчиненных искреннее любопытство; особенно он восторгался происхождением шрамов на лбу Герасима Устюжанина, считая их украшением мужественного человека.
— Шрамы у меня не только на лбу, — сказал ему, горько усмехаясь, Герасим.
— Да, я видел их на вашем теле, когда вы купались, — кивнул мичман.
Герасиму хотелось сказать, что не тело он имел в виду, но подумал, что это будет выглядеть глуповато, и промолчал.
Война нарушила все его планы. Из осторожных расспросов старожилов он узнал, что в мирное время месяца не проходило, чтобы не появлялось иностранное судно, главным образом, китобои, но бывали и ловцы морского зверя — котиков, каланов, тюленей. Небольшие корабли Охотской флотилии были в малом количестве и слишком тихоходны, чтобы остановить браконьерство французов, англичан, американцев, испанцев. Особенно нагло себя вели американцы. Они пытались браконьерствовать и после начала войны, но появление в русских водах новых военных кораблей резко умерило их пыл, а французов и англичан, вообще, словно вымело.
Так что надо было ожидать либо нападения противника на русские посты, чего Устюжанин категорически не хотел, либо окончания войны и установления прежнего порядка вещей в Охотском море. Честно говоря, Герасим понятия не имел, как он будет действовать при появлении иностранного судна — ведь до него надо как-то добираться. В распоряжении Александровского поста была шлюпка-шестерка, но, даже захватив ее, вряд ли можно в одиночку куда-то выгрести.
Не знал Герасим Устюжанин, то бишь Григорий Вогул, что точно такой же проблемой был озабочен его побратим — Анри Дюбуа, находившийся от него всего-то в трех сотнях верст к северу, в новой штаб-квартире Амурской экспедиции — Николаевском посту.
Вся экспедиция поголовно была занята подготовкой поста к трудной зимовке. Едва ли не круглосуточно, благо светлые ночи позволяли, на левом берегу Амура, на мысе Куегда и в окрестностях, визжали пилы и стучали топоры: все, кто мог держать в руках инструмент, строили жилье для без малого тысячи человек. На заготовку строительного леса, обнаруженного в свое время на берегах амгуньских и амурских проток Орловым, Бошняком, Чихачевым и другими офицерами экспедиции, Невельской отправил на баркасах самых сильных и крепких мужчин. Бревна вязались в плоты и сплавлялись к Николаевскому. Из одних делали срубы, из других пилили доски, нужные для полов и крыш. Уже был выведен под стропила двухэтажный офицерский клуб, на первом этаже которого располагалась большая зала для общей столовой и различных собраний, а на втором, по обе стороны коридора, — два десятка комнаток на одного-двух человек для бессемейных офицеров. Для семейных возводили отдельные дома, для нижних чинов — казармы.
Андрей Любавин то работал на распиловке, то делал зарисовки строительства и строителей.
Геннадий Иванович, увидев однажды его занятия с альбомом и карандашом, нахмурился было, но, посмотрев рисунки, сказал:
— А ведь вы, Андрей, рисуете историю будущего города. Это не менее важно, чем орудовать топором и пилой. Может быть, даже более.
— Город будет называться Невельсбург, — хотя и шутя, но весьма торжественно заявил Андрей.
Невельской поморщился:
— Ни в коем случае! Он будет называться Николаевском-на-Амуре.
— Но почему? Ведь это вы — строитель города!
— Он строится по высочайшему повелению и по имени повелителя должен быть назван. А добавление «на Амуре» подчеркнет значение этого города. И потом, Андрей, — Невельской придвинулся к Любавину и доверительно сказал вполголоса: — мне не нравится «бург» — это не по-русски.
Они оба засмеялись, понимая друг друга.
— Вы хороший человек, Андрей, — с чувством сказал Геннадий Иванович. — Что-то вы к нам не заходите? Однажды появились и — все! Что-то вас отвратило от моего семейства?
— Да… не надо на меня обижаться, Геннадий Иванович. Просто Екатерина Ивановна очень похожа на мою умершую жену, и мне тяжело… — Любавин не договорил, отвернулся.
Тяжело ему было еще и потому, что не удалось сойтись с Муравьевым лицом к лицу — поквитаться за Анастасию. Да и за Катрин — тоже. Во всех перемещениях Муравьева по Нижнему Амуру судьба, словно нарочно, разводила их во времени и месте. Только однажды он увидел ненавистного человека — когда тот отправился на шхуну «Восток», чтобы плыть в Аян, — но сделать, конечно же, ничего не мог.
Ну, что ж, он подождет еще, а пока будет обдумывать, каким путем уходить из этих краев, когда свершит акт правосудия.
Невельской смущенно потоптался, кашлянул в кулак, тронул Любавина за рукав:
— Держитесь, Андрей, я все понимаю. У всех кто-то умирает, а кто-то рождается. Будет и на вашей улице праздник. Я только сожалею, что уступил вам и в своих записках о вас не говорю ни слова.
— А вы знаете, — повернулся к нему художник, — я недавно прервал заговор молчания: отправил другу десяток своих рисунков. Он тоже художник, оценит мои работы.
— Вот и хорошо, вот и правильно, — улыбнулся Невельской. — Так и я при случае о вас упомяну. Не возражаете?
— Теперь не возражаю.
Глава 4
1
Степан Шлык работал, урывая для сна часа три, не больше. Не было времени причесаться — стружка сплеталась с русыми кудрями на голове и рыжими в бороде. Пилил, строгал, сколачивал — станки с салазками для отката, поворотные платформы, лафеты… Два бомбических двухпудовых орудия, доставленных «Двиной», тринадцать 36-фунтовых, тринадцать 24-фунтовых, четыре 18-фунтовых да шесть 6-фунтовых если изготавливать для них даже по станку в день, и то надо больше месяца! Конечно, делал не один Степан — в помощь ему дали всех, умеющих держать топор, рубанок, стамеску и прочие столярные инструменты. Но артиллерийские лафеты и платформы — это не мебель и не избы, их конструкции сложны, тут нужны были чертежи, но когда и кому ими заниматься, если каждый день может оказаться последним?! Поэтому вместо чертежей артиллерийские офицеры с «Авроры» и «Двины» делали примерные эскизы; они же контролировали и направляли работу Степана и его подручных.
Одновременно инженер-поручик Мровинский занимался самими редутами; он был очень недоволен тем, что было сделано до него, и в меру возможностей исправлял недоделки. Иногда, бывая в городе, забегал в мастерскую к Степану, с которым сблизился за время плавания «Двины» от Де-Кастри до Авачи, и жаловался на никуда не годную планировку редутов.
— Ты представить себе не можешь, Степан Онуфриевич, как безграмотно все сделано! — темпераментно восклицал он, хватаясь за голову. — О чем они думали, оставив позади Сигнальной батареи каменную стенку?! Ядра или бомбы будут выбивать из нее осколки, а это все равно что картечь прямо в расположении боевого расчета. Нужен блиндаж. — Увидев непонимание в глазах Шлыка, пояснил: — Это по-французски, такое прикрытие сверху, для защиты людей.
— А чё, нельзя по-русски, что ли, сказать? — рассудительно ответствовал Степан. — Укрытие, значитца, кровля.
— Можно и так, — отмахнулся инженер-поручик. — Дело не в слове, а в безопасности людей. Вот на Кошкинской батарее сделали укрытие, бруствер семь футов в высоту и двадцать один фут в толстоту, чтобы ядра не пробивали, пушки в амбразурах, между ними — три сажени, пороховой погреб — в отлогости горы. В общем, все — по уму. Озерную тоже мало-мало прикрыли, а Перешеечную впору Смертельной назвать — вся на виду! И на Красном яру открыта — бей прямой наводкой! О чем они только думают! Ни черта же в фортификации не понимают!
««Они» — это те люди, которые месяц без продыху трудились на укреплениях, не ведая, что делают что-то неправильно, имея главной заботой защиту города и порта». — Так подумал Степан, так он и сказал Мровинскому.
— Ты, Осипыч, парень молодой, горячий. Тебе хотится, чтоб все было в лучшем, значитца, виде, как тя в столице учили, и энто правильно. И о людях твоя забота оченно даже понятна. А у людей энтих, понимашь, забота, значитца, своя — не о себе оне думают, а о земле родимой. Ну, изделали что-то не так, как положено, — вот ты и поспешай исправить. Мы вон тожа не все, значитца, ладим, по правилам, а чё делать — пушки-то ставить надобно.
Куда и сколько ставить пушек, какую им дать обслугу, решали три человека — Завойко, Изыльметьев и командир «Двины» капитан второго ранга Александр Васильев. Конечно, самой действенной, по сектору обстрела, могла быть Сигнальная батарея, но там хватило места только для пяти пушек. Правда, две из них были бомбические, бьющие разрывными снарядами, что придавало батарее значительность, делало ее ключевой. Поэтому командующий обороной решил поднять над ней крепостной флаг, а на самой верхней площадке мыса устроить свой наблюдательный пункт.
Кошечная, как и рассчитывал ее командир, лейтенант Максутов-З-й, получила 11 орудий. Она явилась, помимо борта «Авроры», поставленной как раз позади Кошки, основной ударной силой. Пушек на «Авроре» было в два раза больше, но сектор, перекрываемый орудиями второй батареи, был много шире, и, благодаря поворотным платформам, они отличались маневренностью как по горизонтали, так и по углу наклона. Кошечная стала по-настоящему фланкирующей.
Две батареи — Перешеечная и у рыбного сарая, — как и Сигнальная, состояли каждая из пяти средних пушек и благодаря Мровинскому имели брустверы и частичные укрытия для обслуги. А вот для четвертой инженер-поручик ничего сделать не успел: три ее пушки, снятые с «Двины», стояли практически открыто на площадке, отсыпанной и отрытой на склоне сопки. Единственное прикрытие — кустарники и кедровый стланик.
Батарея, поставленная в засаду у Култушного озера, назначалась против возможного десанта с северной, самой десантоопасной для города, стороны — через дефиле между Никольской сопкой и озером пехота запросто может прорваться в город — и потому была сформирована из десятка легких орудий для стрельбы картечью.
За месяц до предполагаемого прихода неприятеля усилиями инженер-поручика многие недоделки были устранены, но не все. На Сигнальной тыльную стенку, горжу, лишь частично прикрыли тальниковыми фашинами. Эти связки прутьев пружинили, принимая удар ядра, и предотвращали образование осколков. На четвертой горжа тоже не была закончена, а на седьмой не насыпан задний вал, в земле которого вязли бы ядра.
Наконец единственную самую легкую, трехфунтовую, пушку решили поместить на одноосную таратайку с конной тягой, чтобы командующий обороной мог быстро перебросить ее в нужное место. Командиром пушки Завойко назначил волонтера — своего чиновника, титулярного советника Зарудного.
2
На срочное совещание в губернском правлении утром 17 августа собрались кроме Завойко, Изыльметьев, Васильев, командиры батарей и стрелковых партий, созданных из солдат гарнизона, не занятых в обслуге пушек, гражданских волонтеров и добровольцев-охотников из камчадалов, откликнувшихся на призыв губернатора. Не было лишь капитана второго ранга Арбузова, после изгнания принятого волонтером в экипаж «Авроры».
— Господа офицеры, — открыл совещание генерал-майор, — враг у ворот. Как сообщили с маяка Дальнего, против нас выступает эскадра из шести кораблей — три фрегата, бриг, корвет и пароход. Который, кстати, уже идет сюда, видимо, на разведку. Вооружение — больше двухсот пушек против наших шестидесяти семи. Наверняка побольше и калибром, и количеством зарядов. У нас по тридцать семь зарядов на береговую пушку, по шестьдесят на фрегате и по тридцать — на «Двине». Если прикинуть состав их экипажей и возможный десант — наберется около трех тысяч человек. У нас всего девятьсот двадцать вместе с волонтерами и вылеченными матросами. Вот такие исходные данные. Какие будут соображения? Ведите, Иван Николаевич.
— Как принято, начнем с младших командиров, — сказал Изыльметьев. — Просьба: высказываться предельно кратко. Мичман Фесун?
— Драться!
— Мичман Попов?
— Драться!
— Мичман Михайлов?
Двадцатидвухлетний командир первой портовой стрелковой партии, служивший в Петропавловске, встал, откашлялся и развел руками:
— Конечно, драться. Для того и служим…
— Всё-всё-всё, — остановил его Изыльметьев. — Подпоручик Губарев?
Полицмейстера Завойко назначил командиром второй портовой стрелковой партии. Многодетный отец, дослужившийся к тридцати пяти годам всего лишь до подпоручика ластового экипажа[69], был на разных невысоких должностях, вроде смотрителя Петропавловского маяка, с наступлением военных обстоятельств рьяно стал просить губернатора дать ему боевое задание. Вот и получил.
Михаил Данилович встал, потоптался, умоляюще взглянул на Завойко, потупился и еле слышно произнес:
— Они же нас расстреляют, не сходя на берег.
— То есть вы полагаете: надо сдаться? — жестко спросил Изыльметьев.
— Единственно для спасения людей и города…
Губарев снова умоляюще глянул на Завойко, и тот почувствовал, как тревога Михаила Даниловича перекинулась на него: перед глазами всплыло милое лицо Юленьки, ребячьи мордашки, и защемило сердце. Легко говорить «драться» этим мальчишкам мичманам, которые и знать еще не знают, какая может быть любовь к единственной женщине, какое счастье, когда тебя ждут со службы и радостно окружают твои дети…
Он готов был драться с равным по силам противником, пусть даже насколько-то сильнее, но не с такой же армадой, которая ударит одним бортом, и от батарей и города останутся одни лишь щепки.
— Поручик Кошелев? — услышал Завойко металлический голос Изыльметьева.
Командир пожарной команды тяжело поднялся и так же тяжело ответил:
— Как решит начальство… — и сел на место.
— Ясно, — сказал Изыльметьев. — Выявилось три мнения. Будем голосовать. Но, прежде чем всё определится, я скажу то, что думаю сам. Лично я буду драться до конца. Если противник ворвется в город, взорву фрегат и уйду в лес — партизанить. Пока буду жив. Но сдаваться — никогда и ни за что!
Капитан-лейтенант разволновался. Голос его звенел. Завойко подумал: «А ведь он всего на год меня младше и в Петербурге у него семья, которая его любит и которую любит он, и для нее будет горе, если он погибнет. И все-таки у него нет и тени сомнения в том, как надо поступить. А что же я распускаю нюни, словно никогда не бывал в бою, словно не командовал под Наварином сразу двумя батареями, словно не гордился своим боевым «Георгием»? Эх, генерал, генерал!..»
— Кто за предложение драться? — услышал он уже снова спокойный голос Изыльметьева и вслед за Иваном Николаевичем поднял руку. И с радостью увидел, что подняли все. Губарев с Кошелевым тоже.
В кабинет без стука влетел Шестаков:
— Ваше превосходительство, пароход начал промеры глубин. Флаг на ём американский.
— Передай штурманскому прапорщику Самохвалову мой приказ: выйти на боте с командой и проверить, что это за «американец». — Шестаков улетучился. Завойко встал. — Господа офицеры! Я буду на Сигнальном: штаб-квартира у подножия Никольской, наблюдательный пост на верхней площадке мыса. При мне волонтер Лохвицкий, инженер-поручик Мровинский, гардемарин Колокольцев, юнкер Литке и десяток нижних чинов, которые будут передавать мои приказания. Капитан-лейтенант Изыльметьев командует орудиями и экипажем «Авроры», в случае моей смерти или тяжелого ранения к нему переходит общее командование. Капитан Васильев — на «Двине». Мичману Фесуну перекрыть бонами вход в Малую губу. Поручику Кошелеву со своей командой организовать немедленную эвакуацию семей в окрестные селения. Стрелковой партии номер один замаскироваться в кустах между второй и четвертой батареями. Стрелковой партии номер два — на гребне Сигнальной сопки. По местам, господа офицеры! Бог нам в помощь!
3
Пароход не стал дожидаться бота, развернулся и ушел. Окончательно выяснилось, что эскадра — вражеская. Утром 18-го в кильватерном строе она вошла в Авачинскую губу. Впереди пароход и бриг, за ним три фрегата и корвет; на пароходе и первых двух фрегатах флаги английские, на остальных — французские.
— Э, да это наши старые знакомые, — сказал Изыльметьев Завойко. Они оба стояли на верхней площадке Сигнального мыса и разглядывали противника в подзорные трубы. — Все по порядку: англичане — «Вираго», «Президент», на нем контр-адмирал Прайс, и «Пик», французы — «Эвридика», «Форт», на нем контр-адмирал Де-Пуант, и «Облигадо».
— Судя по строю, общее командование эскадры английское, — заметил Завойко.
— Так точно. Дэвид Прайс, старый морской волк. Это он хотел взять «Аврору» в Кальяо. Но где он после этого шатался целых четыре месяца? Пошел бы сразу сюда и без особых хлопот захватил всю Камчатку. Одна «Аврора» вряд ли бы что-то смогла сделать.
— Что верно, то верно, — проворчал Завойко. — Залп из двухсот шестнадцати пушек — это вам не птичка дриснула.
— Ну, стрелять-то они будут одним бортом, значит, надо делить пополам. Но и сто восемь пушек — многовато. Однако выстоим, Василь Степаныч, — есть у меня такая уверенность. Вон как солдаты и матросы откликались на ваши слова. С таким народом да не выстоять — позор!
С раннего утра по всем батареям прошли краткие молебны с упованием на Божью помощь. Завойко вместе со священниками Георгием и Александром Логиновыми обошел седьмую, третью и первую батареи и всюду обращался к боевым расчетам с призывом постоять за честь России-матушки. И все клялись умереть, но не отступить. Когда генерал-майор рассказывал об этом Изыльметьеву, у него подозрительно влажно блестели глаза.
Впрочем, капитан-лейтенант, присутствуя на молебне на батарее № 1, сам мог убедиться в неподдельном энтузиазме солдат и матросов.
Эскадра приближалась.
— Юнкер Литке, — позвал Завойко, и перед ним тут же вырос нескладный юноша — семнадцатилетний сын адмирала Литке. — Костя, — совсем по-домашнему сказал генерал, — спустись и передай Гаврилову, а затем Александру Максутову мой приказ: если неприятель не остановится и будет проходить мыс, открыть огонь. Но так, чтобы ни один снаряд не пропал даром. Выполняй!
— Есть! — козырнул юнкер и побежал по крутой тропинке вниз.
— Пойду и я, — сказал Изыльметьев. — Может так случиться, что и наши пушки достанут.
Фрегат «Президент» поравнялся с Сигнальным мысом, а пароход «Вираго» оторвался от строя и прошел до третьей батареи. Оттуда немедленно раздался выстрел, возле борта парохода взметнулся столб воды.
— Твою мать! — выругался Завойко. — Я же приказал стрелять точно!
Пароход и первые фрегаты ответили бомбами и ядрами. Камни Сигнального содрогнулись от тяжелых ударов, брызнули осколки, взметнулись фонтаны земли. Сигнальная, третья и четвертая батареи не остались в долгу. Однако выстрелы с перешейка и Красного яра не достигали цели, и оттуда быстро прекратили огонь, не желая понапрасну тратить заряды. Огрызалась только первая, и довольно удачно: ее бомбы и ядра доставались и «Президенту», и «Облигадо», и «Пику». Одна бомба ударила прямо в середину верхней палубы «Президента». Ее взрыв разметал людей, порвал такелаж. На фрегате поднялись крики, которые услышали даже на мысе. Корабль начал разворачиваться к западу; тот же маневр повторили остальные, все вышли из зоны обстрела и встали на якоря.
— Молодец Гаврилов! — порадовался Завойко. — Похоже, он им устроил серьезную «козу».
Генерал в тот момент не знал, что «козу» Гаврилов и его батарея устроили наисерьезнейшую, возможно, повлиявшую на весь ход осады: взрывом бомбы был смертельно ранен (может быть, даже сразу убит) контр-адмирал Прайс.
Английские моряки в своем высокомерии не хотели признавать успех русских и сочинили сказочку о самоубийстве адмирала. Мол, он не хотел унижаться перед парламентом и газетами за свою неудачу с захватом «Авроры» и преступное промедление с переходом к Петропавловску, позволившее городу основательно укрепиться (из сведений, доставляемых китобоями, британскому адмиралтейству было известно, что город совершенно беззащитен). Один офицер с «Президента» якобы даже видел в окно каюты, как адмирал выстрелил себе в сердце. Однако скажите, кто мешал адмиралу оправдаться уничтожением Петропавловска? Русские батареи? Но адмирал, по свидетельству очевидцев, сам ходил на «Вираго» в разведку, то есть своими глазами видел ничтожность русской обороны перед артиллерийским могуществом его эскадры Ему ли, старому морскому воину, не понимать, что здесь все преимущества на его стороне и успех обеспечен? И после первых же выстрелов русских пушчонок покончить с собой?! Большую глупость трудно представить! Вот застрелиться после провала осады — это резонно, это по-офицерски, даже не принимая в расчет злобность английского парламента и европейских газет. А уйти, взвалив судьбу операции на плечи нерешительного Де-Пуанта, тем самым обеспечив ее провал, — это как-то уж совсем некрасиво. Тем более что такой поступок не спасал его доброе имя от потоков газетной грязи[70].
Нет, Прайс был убит удачным выстрелом русской пушки, и это событие внесло в ряды осаждающих нешуточное смятение. Весь следующий день корабли стояли на якоре, команды занимались починкой повреждений, а командиры обсуждали, кто возглавит эскадру. Английская сторона требовала, чтобы преемником Прайса стал командир фрегата «Пик» Фредерик Николсон, следующий по старшинству за покойным адмиралом, однако французы категорически стояли за своего контр-адмирала Феврие Де-Пуанта. Они и победили, взяв своеобразный реванш за Трафальгар.
Русские тоже использовали передышку для приведения в порядок пострадавших в первой перестрелке батарей. Укрепления восстанавливались под руководством Мровинского, пушками занимался прапорщик Можайский.
Завойко снова посетил все батареи и везде находил для обслуги теплые слова ободрения и поддержки. Гражданские петропавловцы среди них были и женщины — подвозили воинам воду и пищу. Подростки, ученики старшего класса штурманского училища, вызвались быть на батареях картузниками[71], и отправить их в эвакуацию не смог и сам генерал. Он лишь радовался, что его все семейство сейчас находится за несколько верст от города, не то старшие сыновья, Жора и Степа, наверняка увязались бы за неугомонными штурманятами. А ведь тоже поговаривали о волонтерстве, но он убедил, что на их век возможностей для геройства еще будет с избытком: каждые десять лет у России случаются войны, а на Кавказе, вон, вообще, сражениям конца не видно. Убедил и теперь тихо радовался, а на душе кошки скребли и отчего-то было стыдно.
Весь день 19 августа стояло затишье. Только английский пароход зачем-то утром сходил к Трем Братьям. Там маячник Яблоков сделал по нему три выстрела из 30-фунтовой пушки, которая больше годилась для подачи сигналов, нежели для артиллерийской дуэли. «Вираго» ответил четырьмя выстрелами, не причинив маяку никакого вреда, после чего вернулся в Авачинскую губу.
После полудня из Тарьинской бухты показался плашкоут под парусом. Это унтер-офицер квартирмейстер Усов с женой и детьми еще до появления англо-французов отправился на завод за кирпичом, а теперь возвращался, ни о чем не подозревая. Завод располагался на дальнем берегу бухты, и выстрелы пушек там были не слышны. А корабли, как рассказал потом сам Усов, он принял за эскадру Путятина.
Ох, как обрадовались легкой добыче истосковавшиеся хоть по какому-нибудь успеху моряки великих держав! Все фрегаты спустили шлюпки, которые, ощетинившись штуцерами, наперегонки помчались к бедному безоружному плашкоуту. Унтер-офицер сообразил, что дело нечисто, повернул обратно, но ветер, как назло, стих, парус заполоскал, и плашкоут был взят на абордаж. Кирпичи посыпались в воду.
— Вот скоты! — сказал мичман Фесун гардемарину Колокольцеву, наблюдая за операцией по захвату малого парусно-гребного судна. — Сколько добра ни за грош переведут!
— Да черт с ним, с кирпичом, — отозвался Колокольцев. — Лишь бы детей не тронули.
— Ну, не звери же они! Не с детьми же воюют!
Усовы, а с ними был еще матрос Киселев, вернулись к своим через два дня, уже после первого большого боя, на шлюпке-шестерке, взятой неприятелем вместе с плашкоутом. Усов передал Завойко от французского адмирала письмо следующего содержания:
«Его превосходительству господину губернатору Завойко.
Господин губернатор!
Благодаря военной случайности в мои руки попала русская семья. Имею честь вернуть ее Вам. Примите, г. губернатор, уверение в моем высоком почтении.
Командующий адмирал и шеф Ф. Де-Пуант».
А еще Усов сообщил, что на фрегате «Форт» есть убитые; французы приглашали пленных поступить к ним на службу, но они отказались.
— Когда нас отпускали, ваше превосходительство, — рассказывал квартирмейстер, — офицеры велели передать гарнизону, что, ежели кто сдастся, всем будет освобождение. Ну, тоись, когда Петропавловск будет взят.
— Не вздумай кому-нибудь об этом говорить, — мрачно сказал Завойко. — Не вноси в души сумятицы.
— Да я что… разве не понимаю… — стушевался Усов. — Немтырем буду, как рыба.
4
Двадцатого августа защитники Петропавловска были наготове уже на рассвете. Тогда же заметили оживление на стоянке неприятеля: там спускали десантные боты, между кораблями сновали шлюпки, загорались сигнальные фальшфейеры, скрипели цепи, поднимая якоря. Было понятно: готовится решительное нападение.
Накануне поздним вечером Завойко перераспределил стрелковые партии. Первая переправилась на Кошку на баркасе по протянутому между косой и мысом лееру. Вторая замаскировалась в густом кустарнике на перешейке: Завойко опасался высадки десанта. Волонтеры сосредоточились у Озерной — десант мог быть и там.
Впрочем, Красный яр — тоже весьма удобное место для нападения, но для его защиты стрелков не хватало, а перебросить их в нужный момент из других мест было трудно из-за отдаленности батареи. Поэтому ее командиру, мичману Попову, генерал приказал: отбиваться своими силами, сколько возможно, а в критической ситуации заклепать пушки и отступать к батарее № 2. Отбивать же наступающего противника будут стрелковые отряды — тот, что уже на Кошке, и присоединившийся к нему перешеечный.
Однако утром генерал все же решил, что наиболее вероятным будет атака на Красный яр: защищают его всего три пушки, подавить их не составит особого труда, оттуда по пологому берегу до Кошки и до города добраться проще простого, а за Кошкой «Аврора» и «Двина», захватить которые десанту вполне под силу. Исходя из этих соображений, Завойко приказал передвинуть первый отряд стрелков и волонтеров к четвертой батарее и замаскировать их в кустах; стрелкам беречь заряды, а действовать больше штыком; при угрозе захвата кораблей зажечь их, а командам сойти на берег и присоединиться к стрелкам.
В шесть часов утра, видя, что вскоре начнется артиллерийская дуэль, Завойко пригласил на Сигнальную батарею священника Георгия Логинова отслужить молебен о даровании Господом Богом победы русскому оружию.
— Вы простите, батюшка, что я вас чуть не каждый день на укрепления зову, — несколько смущенно поклонился генерал, — но есть необходимость душе возвыситься и воззвать к высшей справедливости.
— Не извиняйтесь, сын мой, — ответствовал седобородый иерей. — Для меня есть честь великая укрепить Словом Божьим наших воинов и вложить в их сердца силу и честь покровителя русского воинства — святого Александра Невского.
Словно услышав его слова и пугаясь их мощи, бриг и корвет начали обстрел мыса, однако ядра и бомбы пролетали над головами молящихся и падали в Малую губу без каких-либо последствий.
Тем временем «Вираго» взял на бортовые буксиры «Президент» и «Форт», а на кормовой — «Пик» и повел их на позицию.
Молитва закончилась, все поднялись с колен. Священник трижды осенил всех артиллеристов и орудия крестным знамением.
Завойко показал на вражеские корабли и сказал, обращаясь к солдатам и матросам:
— Многие из нас умрут славной смертью за веру, царя и Отечество, но русские не отступят. — И поднял глаза к чистым, без единого облачка, небесам, на которых уже сияло розовое, словно только что умытое, солнце: — Боже, храни царя, а Отечество мы сохраним.
Петр Федорович Гаврилов первый затянул «Боже, царя храни», хор из шестидесяти пяти голосов дружно подхватил, и русский гимн взлетел над сопкой столь громогласно, что спугнул птиц, шумно вылетевших из кустов. Взлетев, они тут же сплотились в живое переливчатое облачко, которое стремительно унеслось вверх и вдаль.
«Вот так же и наши души улетят», — подумал лейтенант Гаврилов, проводив их грустным взглядом. Но тут же внутренне встряхнулся, не позволяя себе расслабляться, тем более на виду у подчиненных и начальства. Не прерывая пения, он краем уха уловил, что снизу, из-под сопки, с кораблей и Кошки, тоже доносится пение, а взглянув на Красный яр, увидел, что и на четвертой батарее все тридцать человек стоят, сняв шапки, и, видимо, тоже ноют.
От сильнейшего чувствования этого единства, которое вот так легко преодолевает расстояния, душа его наполнилась восторгом, и, закончив гимн, он закричал:
— Урра-а-а!
Троекратное «ура», начавшись на первой батарее, пробежало волной через Кошку и закончилось на Красном яру: сверху хорошо было видно, как там кричали и бросали в воздух шапки.
Завойко был совершенно уверен, что и гимн, и «ура» через перешеек и седьмую батарею обогнули Никольскую сопку, достигли Озерной и подняли дух всего гарнизона. Он рассмотрел, что и в городе команда Кошелева, все семьдесят человек, собравшись у пожарного сарая, тоже поют и кричат. Это его радовало, но он тут же огорчился, заметив, что в городе осталось немало жителей, которые, наверное, сами решили охранять свои жилища от пожара. Ему не хотелось думать, что это добавит лишних жертв среди гражданского населения. Он вздохнул, вспомнив, какие бомбы прилетали во время первой перестрелки. Одна не разорвалась и, удивившись размерам, ее специально взвесили. Оказалось, два с половиной пуда! Ударит такая штука в дом, и от него только щепки останутся. И какие же пушки у этих европейцев, ежели за полторы мили этакие «игрушки» забрасывают! Куда тут нашим двухпудовкам, не говоря уже о том, что их всего-то две штуки.
Приказав открыть огонь, когда вражеские корабли окажутся на расстоянии нашего пушечного выстрела, Завойко поднялся на свой наблюдательный пункт над первой батареей.
Между тем «Пик» первым стал на якорь со шпрингом[72] правее Сигнального мыса, за ним в полутора кабельтовых — «Президент», далее так же — «Форт» и сам «Вираго».
Ровно в девять часов они открыли огонь: «Пик» бил вдоль Сигнальной батареи и по гребню сопки, видимо, усмотрев там наблюдательный пост генерала, но вреда особого не причинил; остальные забрасывали ядрами и бомбами вторую и четвертую батареи; кое-что перепадало «Авроре» и «Двине». Сами же встали таким образом, чтобы пушки кораблей и второй батареи достать их не могли. Получилось так, что практически открытые первая и четвертая со своими восемью устаревшими пушками дрались против восьмидесяти самых современных орудий, среди которых были такие бомбические монстры, которые швыряли снаряды в 86 английских фунтов.
Батарею № 1 англо-французы, видимо, считали наиболее серьезной угрозой их планам, потому что с самого начала основной огонь сосредоточили на ней. Она находилась ближе всех к фрегатам, и ее пушки, особенно бомбические орудия, вредили противнику сильнее всех. Каждый посланный ею снаряд находил свою цель. В бортах фрегатов уже зияли пробоины, с мачт свисали обрывки такелажа, дым от пожаров и выстрелов окутывал корабли до середины мачт, мешая артиллеристам обеих сторон лучше прицеливаться.
Четвертая батарея вела дуэль с «Вираго», вооруженным в основном тяжелыми бомбическими орудиями, и дуэль эта, как ни странно, была более успешна для русских. По крайней мере, их пушки оставались целы, и никто из артиллеристов, на удивление, серьезно не пострадал, а на пароходе часть орудий была разбита, и команда то и дело занималась тушением пожаров, возникавших от русских брандскугелей[73].
— Ура, Гаврила! — после каждого особо удачного выстрела орал своему другу и помощнику — гардемарину Токареву командир батареи мичман Попов. Первый в жизни бой и так славно складывается! Молодая кровь бурлила в жилах, требовала движения. Им не стоялось на месте, и временами ноги сами выписывали танцевальные коленца. Чумазые от пороховой гари и грязи, артиллеристы, тоже молодые и возбужденные, глядя на приплясывающих командиров, хохотали и еще живее заряжали, наводили, стреляли, откатывали пушки, банили их и снова заряжали… наводили… стреляли…
Вражеские ядра и бомбы перепахивали землю вокруг и на самой батарее, но она была, как заговоренная — даже лафеты оставались целы. И пороховой погреб, выкопанный в стороне и скрытый кустами — тоже. Картузы с порохом оттуда исправно носили ученики штурманского училища Федя Алексеев и два Васи Крохалев и Чупров. Им тоже было весело.
На исходе первого часа артиллерийского сражения на наблюдательный пост к генералу поднялся с Сигнальной батареи юнкер Николай О'Рурк, грязный и оборванный, голова забинтована какой-то тряпкой.
— Ваше превосходительство, — задыхаясь, то ли от усталости, то ли от быстрого подъема, сказал он, — лейтенант Гаврилов уже дважды ранен, но покидать батарею не хочет.
— Юнкер Литке! — позвал Заной ко. Из кустов возле поста вынырнул юноша. — Спускайтесь вниз, ко второму отряду стрелков и передайте подпоручику Губареву, что я назначаю его командиром первой батареи. Пусть передаст команду Дьяконову, а сам немедленно поднимается на батарею. Исполнять, аллюр три креста!
Юнкер исчез, а Завойко обратился к О'Рурку:
— Как общее положение на батарее?
— Есть убитые и много раненых осколками от горжи. Камней навалило столько, что невозможно поворачивать пушки… Станки повреждены…
— Пойдемте! Я хочу лично убедиться.
Генерал спустился на батарею. Та как раз пережила очередной ядерный удар, но ответить на него не могла: пушки были если не перевернуты и разбиты, то засыпаны обломками скалы. Да и вся площадка представляла собой адское месиво из ядер и камней. Уму непостижимо, что здесь еще находятся живые люди раненые, побитые, но живые. И над ними развевается крепостной Андреевский флаг.
— Ваше превосходительство, — ковыляя, подошел лейтенант Гаврилов, вынырнувший неизвестно откуда, — вам нельзя здесь находиться. Они готовят десант, и сейчас будет залп!
— Слушайте меня! — зычно крикнул Завойко, и все, кто мог, обернулись к нему. — Орудия заклепать, картузы отправить на Кошку, на вторую батарею. Наличному составу сойти вниз и переправляться на косу, а затем двигаться к батарее номер четыре. Вражеский десант направляется туда. Крепостной флаг перенести в город.
— Что делать с убитыми? — спросил Гаврилов.
— Сколько?
— Шесть человек.
— Пока оставьте здесь. Вечером заберем и похороним, как полагается. Сегодня сюда они не полезут.
Десант, в основном французы, численностью не менее 600 человек, высадился южнее Красного яра и быстрым шагом, а где и бегом двинулся к четвертой батарее.
Завойко снял обслугу вместе с командирами бездействовавших на тот момент третьей, шестой и седьмой батарей (у каждой пушки остались по два артиллериста), сам возглавил сводный отряд стрелков и матросов с «Авроры» (ими командовал мичман Фесун) и повел всю ударную группу к батарее № 2.
Изыльметьеву и Васильеву генерал приказал держать под контролем береговую линию между четвертой батареей и косой и остановить десант, если он прорвется к городу.
Мичман Попов и гардемарин Токарев, несмотря на мальчишескую удаль, быстро и трезво оценили опасность надвигающегося десанта. Пушки сделали еще по одному выстрелу, затем пушкари спокойно их заклепали, спрятали в укромное место оставшиеся заряды и, отстреливаясь, стали отступать, сближаясь с первым стрелковым отрядом и волонтерами, которые спешили им на помощь.
Несмотря на огромный перевес в силах, позволяющий, как говорится, на плечах отступающих ворваться в город, десантники повели себя весьма странно. Они подняли над оставленной батареей французский флаг и устроили салют в честь своей победы. Однако торжество их длилось недолго: почти одновременно по позиции батареи ударили русские корабельные пушки, и заговорила Кошенная, а на берегу и на склоне сопки, среди кустов, появились стрелки, идущие в штыковую атаку. Про русские штыки после неудачного Наполеоновского похода в Россию была наслышана вся Европа, ужас перед ними переходил от отцов к детям и действовал безотказно. Десантники попятились, а тут еще ни с того ни с сего над ними разорвалась бомба, запущенная с парохода. То ли ошиблись англичане с прицелом, то ли выразили свое возмущение дурацким поведением союзников, но эффект она произвела именно тот, который в таких случаях наиболее естествен: подхватив раненых (а может, и убитых), десант пустился наутек. Да с такой скоростью, что когда отряд, предводимый юными мичманами Фесуном, Поповым и Токаревым (Завойко отстал: в сорок два года без тренировки бегать трудновато), ворвался на позиции батареи, французы уже погрузились в боты и шлюпки и отвалили от берега.
Постреляв им вслед для острастки и оценив состояние позиции — восстановить ее сейчас же было невозможно, — стрелки забрали припрятанные картузы с порохом и другие заряды и вернулись на Кошечную. Тем более что два фрегата поторопили их, дав по ним залп ядрами. К счастью, без последствий.
Теперь единственным препятствием захвату «Авроры» и «Двины», что было бы самой лакомой добычей, была батарея № 2 и, собственно, пушки самих русских кораблей. Орудия всех трех союзных фрегатов, а равно и парохода, обрушились на Кошечную, русский фрегат и транспорт. Однако батарея Дмитрия Максутова, управляемая хладнокровным командиром, успешно огрызалась. Зная промежутки между выстрелами, лейтенант своевременно отправлял подчиненных в укрытие и также вовремя призывал их к орудиям. Стараниями Шлыка и корабельных плотников с подручными батарея была оборудована наилучшим образом. Пушечные лафеты, по предложению Степана, дополнили небольшими поворотными платформами, наподобие карронадных, позволяющими быстро наводить на цель по горизонтали; заднюю стенку бруствера закрыли деревянными щитами, к которым крепились брюки[74] и откатные тали, возвращающие пушку на место; земляную площадку батареи накрыли общей деревянной «палубой», которая, до того как ее измочалили ядра, очень помогала споро управляться с орудием.
Все сто двадцать восемь человек обслуги — солдаты, матросы и картузники — действовали слаженно, как единый механизм. Штурманята, перешедшие с четвертой батареи, и неизвестно как объявившийся на батарее сын подпоручика Губарева, Петя, резво подносили картузы[75].
Сам Максутов показывал пример неустрашимости: спокойно ходил под ядрами и бомбами, твердым голосом отдавал команды и ободрял подчиненных. И батарея стреляла размеренно и метко.
Жаль, что их подвиг остался незамеченным властями, а они достойны отдельного памятника.
Эта размеренность привела Изыльметьева к мысли, что Максутов экономит порох, и он, воспользовавшись тем, что мичман Фесун вернулся на корабль, приказал ему нагрузить баркас картузами и переправить их на батарею. Николай Алексеевич с радостью бросился совершать очередной подвиг — а это был истинный подвиг: под бомбами и ядрами перегнать полную пороха лодку — вовсе не шутка, но мичман, видимо, понравился тем, кто на небесах: все пули и бомбы его миновали. И доставленные картузы оказались нелишними.
Завойко немного просчитался в отношении бездействия Перешеечной батареи: за те два часа, что шло сражение с десантом и артиллерийская дуэль Кошечной, «Авроры» и «Двины» с кораблями англо-французов, «Эвридика» и «Облигадо» дважды подходили под выстрелы батареи и пытались отправить к берегу десант в шлюпках, но оставшиеся артиллеристы под командой лейтенанта Анкудинова и прапорщика Можайского меткими выстрелами сумели корабли отогнать, а одну шлюпку с десантом потопили. Вполне возможно, будь на месте французов англичане, вряд ли бы дело закончилось без серьезных последствий. Но, слава богу, что закончилось именно так!
В половине седьмого часа пополудни все корабли противника снялись с якорей и отошли к Тарьинской бухте. Занялись устранением повреждений — русские ядра и бомбы нанесли их немало, — и похоронами убитых.
Похоронили на берегу Тарьи и адмирала Прайса.
Завойко с Изыльметьевым также подвели итоги первого боя. Генерал записал для будущего рапорта:
«В сражении 20 августа с нашей стороны убитых нижних чинов 6, раненых: обер-офицер 1, нижних чинов 12.
Повреждения на батареях:
№ 1 — у одной бомбической пушки сколоты поворотный брус и деревянные станочные подушки, сломан болт подъемной коробки; у 36-фунтовых пушек сломаны передние и задние оси и три колеса и лопнули брюки; у других лопнули трое талей и четыре стропки для закладывания их; сломаны четыре банника и два пробойника, платформа в некоторых местах поломана; бруствер в двух местах поврежден ядрами.
№ 2 — у 2-го орудия перебит брюк; у 4-го окончание дула повреждено и перебит брюк; у 8-го — левая станина и перебит брюк: у 10-го — окончание дула немного повреждено и у станка — правый горбыль; у 11-го — подбит станок…
№ 4 — у станков перерублены: оси, три брюка, трое талей; изломаны прицелы у всех орудий и ударные молотки; расколота одна станина; разорвано два пороховых ящика; не оказалось трех кокоров, одной лядунки, четырех колес, цапфенных горбылей трех и двух медных протравок».
Изыльметьев заметил столь необычную скрупулезность — зачем, спрашивается, командующему обороной все эти брюки, тали, болты, горбыли, банники и стропки, его ли подобный уровень забот?! — но промолчал. Он понял: в этом, казалось бы, мелочном перечислении потерь скрыта жуткая горечь — на чем держится престиж великой России, которая не смогла, а вернее, не удосужилась обеспечить достойную защиту своих — пусть далеких, однако своих! — рубежей. Но он не знал — и может быть, слава богу, что не знал, — насколько жалки укрепления гордости русского флота Севастополя, которому предстоит многомесячная оборона от тех же англо-французов вкупе с турками. И какую горечь должен был испытывать командующий обороной адмирал Корнилов, который задолго до высадки англо-французов требовал от главнокомандующего — светлейшего князя Меншикова укрепить город, но тот, одержимый болезнью шапкозакидательства, лишь посмеивался. А ведь Севастополь не на краю земли, до него не надо добираться вокруг света полгода на корабле или столько же — посуху. И император не доглядел, что у него под боком творится, а может быть, просто стал уже не тот. И возраст под шестьдесят, и любовь, которая поддерживала и вдохновляла его многие годы, давно ушла…
Глава 5
1
Военный совет союзников, созванный вечером 20 августа, был скандально бурным. Красный от ярости капитан Николсон, после смерти Прайса возглавивший английскую часть эскадры, просто бушевал, обращаясь к Феврие Де-Пуанту:
— Объясните нам, адмирал, чем вы руководствовались, не позволив десанту «Эвридики» и «Облигадо» высадиться на берег? Мы полностью разгромили две батареи русских, десант с вашего «Форта» был на пороге города, наш десант был готов развить успех, и вдруг… Я не поверил своим глазам, когда бриг и корвет пошли прочь от перешейка. Объяснитесь, черт побери!
Седовласый Де-Пуант, восседающий во главе длинного стола, за которым расположились командиры кораблей и десантных групп, оставался невозмутим:
— Я, капитан, руководствовался результатами сражения. И в вашем «Пике», и в моем «Форте» уже достаточно пробоин, в том числе и подводных. У «Вираго» и «Президента» дела не лучше. Русские артиллеристы, надо признать, превосходно стреляют. На перешейке, как мне доложили, на пять пушек было всего десять артиллеристов, правда, стреляли только три орудия, но и тех хватило, чтобы у брига разнесло шканцы, а корвет получил пробоину через оба борта. При этом русские потопили шлюпку с десантом, погибло девять человек. А у вас, между прочим, я что-то не заметил рвения к высадке своего десанта. Более того, бомба с «Вираго» произвела опустошение среди наших морских пехотинцев…
— Это была ошибка артиллеристов, — пробормотал командир парохода. — Приносим наши извинения.
— Если я погибну, передам ваши извинения тем пяти десантникам, которых мы завтра будем хоронить, — язвительно сказал адмирал.
— Господин адмирал, мы тоже недовольны тем, что нас отозвали, — сказал де-ла-Грандьер, командир французского десанта. — И офицеры, и солдаты рвались в бой. Мы легко захватили бы русские батареи — ту, что на перешейке, и ту, которая левее, у основания горы.
— Город так просто не взять, русские будут стоять насмерть, а нам еще идти через океан, и корабли в таком состоянии не дойдут, — оглядывая сидящих, четко произнес Де-Пуант. — Сейчас мы не готовы к длительной осаде. Разве кто-то ожидал, что береговые батареи будут столь сильны. Мы рассчитывали на увеселительную прогулку, а нам преподали урок. Смерть адмирала Прайса, которого мы все безмерно уважали, говорит о том же.
За столом поднялся шум. Николсон встал и повел рукой, успокаивая офицеров.
— Адмирал Прайс ни за что бы не ушел, не закончив дело, ради которого пересек океан. — Голос капитана был тяжел, слова падали, как ядра. — А вы хотите бежать, как напуганный заяц.
— Еще одна такая дуэль — и у нас не останется боеприпасов, — упорствовал старый адмирал.
— Будем действовать десантом, — подал свой голос капитан Буридж, командир английской морской пехоты.
— Вы видели, какая тут местность? — Лейтенант Бурассе, командир гребных судов, поддержал адмирала. — Нам наверняка устроят засады!
В дверь постучали. Это было так неожиданно, что все повернулись к входу. Во время заседаний совета вход посторонним был запрещен.
— Кто там? Войдите, — сердито сказал адмирал.
Вошел старший вахтенный офицер:
— Простите, господин адмирал, дело сверхсрочное. На борт поднялись два матроса с американского купца, что стоит на севере бухты. У них есть для вас важные сведения.
Адмирал потер бритый подбородок. Вид у него был недовольный, но в душе старик радовался, что получил передышку. Он страшно устал и уже твердо решил по возвращении из этого похода уйти в отставку.
— Что ж, прервемся, господа, послушаем представителей молодой демократии.
Вошли два типичных ирландца — рыжие шевелюры, рыжие бороды, щеки веснушчатые, — небрежно поклонились.
— В чем дело, господа? — спросил Де-Пуант.
— Сведения имеем, которые могут вам пригодиться, — сказал один.
— Если сойдемся в цене, — добавил второй и ухмыльнулся.
— И сколько же вы хотите за ваши сведения?
— Да по пятерке золотых «орлов» было бы не худо, — осклабился второй.
— Это… сколько? — недоуменно вскинул брови адмирал.
— Пятьдесят долларов каждому, — пояснил капитан Уитингейм с «Президента».
— Золотых, а не бумажных, — уточнил первый американец.
— А не подавитесь? — зло поинтересовался Николсон.
— Ты, англичанин, за наши глотки не переживай, — ощерился второй. — Мы, американцы, все проглотим. Будете покупать? Если да — деньги вперед.
— Как решите, адмирал? — повернулся к Де-Пуанту де-ла-Грандьер.
— Это же кот в мешке, — продолжал сомневаться старик.
— Кот или поросенок — неважно, — сказал Николсон. — Если товар окажется негодным, утопим продавцов — и дело с концом.
— Микки и Пэдди[76], вы поняли, что вас ждет? — скривил в усмешке губы Буридж.
— Слушай, Патрик, по-моему, этот Джон Бульфинч[77] нас оскорбляет. — Рука второго американца легла на рукоять кинжала, висевшего у него на поясе.
Буридж, покраснев от гнева, вскочил и выхватил из-за поясного офицерского шарфа пистолет, с которым никогда не расставался.
— Сядьте, капитан! — хлопнул ладонью по столу адмирал. — И уберите оружие! Только драки мне тут не хватало.
— Спокойно, Майкл, — остановил товарища и Патрик. — Американца эти мелочи оскорбить не могут, тем более на французском корабле. Мы с тобой как бы на территории Франции, и французский адмирал не позволит расправиться с гражданами нейтральных Соединенных Штатов Америки.
— Этот Пэдди мог бы выступать в английском парламенте, — хохотнул Уитингейм.
Буридж мрачно оглядел членов совета; не встретив ни в чьих глазах, кроме Николсона, поддержки, сунул пистолет за шарф и опустился на место.
— Итак, вернемся к нашим баранам, — сказал Де-Пуант.
Майкл толкнул Патрика локтем:
— Все-таки нас тут оскорбляют… — и потянулся к кинжалу.
— Это не оскорбление, — смутился адмирал. — Просто поговорка. Значит, начнем с начала, с того, зачем вы сюда пришли.
— Он шутит, господин адмирал, — сказал Патрик. — Знаем мы эту английскую поговорку.
— Они и шутить умеют, — проворчал Николсон на ухо Буриджу. — Неужели демократия животных делает людьми?
Слова Николсона Буриджа развеселили и он перестал хмуриться.
Адмирал постучал пальцами по столу:
— Значит, вы хотите получить по пятьдесят долларов золотом? — Американцы дружно кивнули. — Вы их получите, если ваша информация того стоит.
— Она стоит дороже, — веско произнес Патрик, — однако, мы — люди деловые и понимаем, что лучше получить меньше, но наверняка.
— Хорошо, хорошо, вам уже сказано, что получите. Выкладывайте.
— Наша посудина уже пятый месяц стоит здесь в ремонте, и мы исходили вокруг города все тропки вдоль и поперек, — заговорил Патрик, а Майкл подтверждал его слова размеренными кивками. — Давайте мы нарисуем план, с какой стороны лучше всего подойти к городу и где стоят батареи. Скажем также, сколько там человек…
После того как американцы все сделали и получили свои деньги, правда, не долларами, а гинеями, и пошли к выходу, Де-Пуант спросил:
— Вы что, так ненавидите русских? Они же вас, можно сказать, приютили…
— Ничего личного, — ответил Патрик. — Русские очень хорошие люди, но бизнес есть бизнес.
После получения таких сведений, которые дали союзникам огромный шанс для успеха операции, старый адмирал уже не сопротивлялся нажиму английских и своих офицеров, жаждавших реванша за проигрыш первого сражения. Запланировав на восстановление кораблей три дня, совет решил начать следующую атаку на рассвете 24 августа.
2
Завойко и Изыльметьев также использовали передышку для восстановления разрушенных батарей и ремонта повреждений на «Авроре» и «Двине».
Непосредственно пушками занимался прапорщик Николай Можайский; он вернул в строй бомбические орудия и одно 36-фунтовое на Сигнальной батарее и два 24-фунтовых на батарее Красного яра.
Плотники во главе со Степаном Шлыком заменяли лафеты и ремонтировали платформы.
Стрелковые партии и пожарные расчищали площадки батарей, подсыпали брустверы и вязали фашинник для прикрытия горжи.
Пушки «Двины» мало пригодились 20 августа — они были старого образца, и снаряды, посылаемые ими, по большей части не долетали до кораблей противника. Что, конечно, весьма огорчало артиллеристов. Поэтому три пушки с транспорта заменили покалеченные орудия на батарее № 2.
В результате к вечеру 23 августа все три батареи приобрели огневую силу, ненамного уступавшую первоначальной.
Как-то само собой получилось, что командир транспорта, будучи по званию на ранг выше Изыльметьева, ничуть не возражал против того, чтобы тот командовал морской частью обороны. Поэтому, когда генерал приказал из освободившихся матросов сформировать стрелковый отряд, Изыльметьев включил в него в первую очередь членов экипажа «Двины». Командиром отряда в составе 33 человек нижних чинов и гардемарина Кайсарова назначили лейтенанта Анкудинова.
После полудня 23 августа Завойко и Изыльметьев встретились в губернском управлении за чашкой чая. Ординарец Шестаков к чаю организовал графинчик кедровой настойки, нарезал соленой чавычи, вяленой медвежатины и выставил большую сковороду жареной с грибами картошки, а к ней миску малосольных огурчиков, испускающих одуряющий аромат чеснока и укропа.
— Война войной, а обед по расписанию, — посмеялся Изыльметьев, поднимая граненый стаканчик с настойкой цвета хорошего выдержанного коньяка и смолистым запахом. — Будем здоровы!
Чокнулись, выпили, закусили чавычей и принялись за картошку с медвежатиной вприкуску и огурчиком поверх.
— У меня к вам письмо, Василь Степаныч, — прожевав, сказал Иван Николаевич.
Завойко даже вилку опустил — так удивился: вроде бы почты не было.
Изыльметьев достал из внутреннего кармана сюртука сложенный вчетверо лист писчей бумаги и подал генералу.
— Так, так… — Завойко пробежал глазами неровные строчки и глянул поверх листа на капитан-лейтенанта. — Вы знакомы с содержанием сего послания?
— Да, — кивнул Иван Николаевич. — И должен сказать: ходатайствую об удовлетворении его просьбы. Арбузов — боевой офицер, хорошо знающий тактику пехотного боя и, кстати, по пути в Камчатку обучивший этой тактике сибирских стрелков. Пренебрегать таким офицером в наших условиях не годится. Он и просит использовать его опыт в полной мере.
— Ну, хорошо. — Завойко промокнул губы салфеткой и позвал: — Шестаков! — В дверях вырос ординарец. — Отправляйся на «Аврору», найдешь там волонтера Арбузова и передашь мой приказ: отобрать во всех стрелковых партиях обученных им солдат, сформировать из них отряд и возглавить его. Все ясно?
— Так точно!
— Повтори. — Шестаков без запинки повторил приказание. — Исполнять аллюр три креста!
Ординарец исчез. Завойко разлил по стаканчикам настойку.
— Судя по тому, как засновали между их кораблями шлюпки, — заговорил он, подняв свой стаканчик и разглядывая на свет содержимое, — снова началась подготовка. Чует мое сердце: все решится завтра. У них просто времени не остается: погода скоро испортится, начнутся штормы, а возвращаться далековато. Поэтому, я думаю, главный удар будет нанесен завтра по третьей и седьмой батареям. И десант они высадят на севере, за Никольской сопкой.
— Могут повторить и у Красного яра, — заметил Изыльметьев.
— Могут, — кивнул Завойко. — Но вряд ли. Они же не дураки, знают, что окажутся под ударом трех батарей и пушек «Авроры». От их десанта там одни лохмотья останутся. Впрочем, ладно, направлю туда второй отряд Губарева. — И заглянул в стаканчик. — Ох, что-то долго я его держу. Давайте за победу, Иван Николаевич!
Выпили за победу, закусили.
— Вы еще долго собираетесь здесь оставаться? — поинтересовался Изыльметьев. — Кажется, уже два срока отслужили.
— Да уж двенадцать лет. Но, вы знаете, нам тут нравится и, если бы не дети — им же учиться надо, — жили бы да жили. А так — думаю, на будущий год, если война кончится, просить о переводе. Баронесса моя совсем крестьянкой стала — хозяйство ведет, детей рожает. Десятого ждем!
По счастливой улыбке Василия Степановича без слов было понятно, как он любит свою жену, своих детей. Изыльметьев тут же налил по третьему разу.
— Третий тост, как полагается, — за любовь, — возгласил он. — За любовь к родителям, к жене, к детям…
— К Отечеству, — добавил Завойко, поднимая свой стаканчик. — Вы не поверите, Иван Николаевич, меня до слез трогает то, как дерутся за Отечество наши солдаты и матросы. Местные — понятно, у них дома, семьи, хозяйство, есть за что драться, а у остальных-то нет здесь ничего, кроме воинского долга и этого эфемерного понятия Родина, Отечество, за которое надо жизнь отдавать. И они — отдают, даже не думая о том, вспомнит ли о них Родина. А ведь это и есть знак высшей любви! И я выпью за такую любовь стоя.
Капитан Арбузов до позднего вечера собирал своих стрелков. Выстроив команду возле губернского правления, Александр Павлович обратился к ней со словами:
— Теперь, друзья, мы снова вместе. Я назначен к вам командиром и клянусь крестом Святого Георгия, который честно ношу четырнадцать лет, не осрамлю этого звания! Но если вы увидите во мне труса, немедленно заколите меня штыками и наплюйте на мой труп! Однако знайте, что и я потребую точного исполнения присяги — драться до последней капли крови! Умрем — не попятимся!
— Так точно! Умрем — не попятимся! — как один человек подтвердили стрелки.
3
Двадцать четвертого августа в четыре часа утра началось движение на позициях противника — это было заметно по мутным огням на шлюпках, сновавших в разных направлениях, — и горнисты защитников протрубили тревогу.
Над морем висел густой туман; начавшийся рассвет постепенно окрашивал его во все более светлые тона — сначала сизо-голубые, затем бледно-розовые, постепенно переходящие в светло-желтые и молочные. Но никто не обращал внимания на эту красоту.
Завойко, как и перед первым сражением, объехал и обошел все батареи и отряды и всюду говорил о воинском долге и защите Отечества. Ответ был одинаков и единодушен: «Умрем, но не сдадимся!»
Молебен о даровании победы был только один — на борту «Авроры» его отслужил корабельный священник — иеромонах Иона; в других местах уже готовились к бою и потому молились каждый про себя.
Туман оседал к воде, обещая солнечный день и обнажая мачты, а затем и корпуса парохода и двух фрегатов, движущихся в буксирном кильватере на север вдоль сопки Сигнальной в двух кабельтовых от берега. Фрегаты шли под адмиральскими флагами — это были «Форт» и «Президент».
Напротив перешейка «Форт» отдал буксир и начал становиться на якорь и шпринг. Пароход же повел дальше англичанина. И тут третья батарея сделала по ним несколько выстрелов, довольно удачных: на английском фрегате был сбит гафель, и флаг упал. На батарее грянуло «ура». Флаг на «Президенте» тут же подняли снова, и фрегат, еще идя на буксире, ответил беглым, так называемым батальным огнем. А далее уже «Форт», встав на якорь, продолжил обстрел батареи всем бортом. Казалось, что можно сделать пятью 24-фунтовыми орудиями против 30 более мощных и крупных? Но «Форт» подошел к батарее слишком близко, поэтому каждый ее снаряд наносил свой удар по фрегату. Одно из ядер разбило фок-рею, другое — грот-стеньгу[78]; ядра рвали такелаж, пробивали корпус, нанося опасные повреждения. Однако пушки «Форта» тоже делали свое дело. В течение получаса батарея, открытая, с простым земляным бруствером и таким же тыльным валом, была буквально перепахана, лафеты и платформы разбиты, у одного орудия оторвало дуло, три других валялись, засыпанные землей и обломками камней. Половина обслуги выбыла из строя. Целой осталась лишь одна пушка, и она продолжала стрелять.
Тем временем пароход довел до места против седьмой батареи английский фрегат, а сам прошел чуть дальше и стал спускать десантные шлюпки. «Президент», став на якорь и шпринг, немедленно обрушился 26 крупнокалиберными орудиями на три пушки капитан-лейтенанта Кораллова (оставшиеся две бездействовали из-за направленности в другую сторону). «Вираго» со своими бомбическими орудиями тоже старался преуспеть в уничтожении русской батареи.
«Форт», продолжая обстрел, вслед за англичанами также отправил десант с явным намерением высадиться у перешейка, захватить его и выйти в тыл второй батарее и «Авроре» с «Двиной».
Завойко, предвидя возможный захват высот, с которых легко можно ворваться в город, отправил отряд Губарева и 15 лучших стрелков-камчадалов к вершине Никольской сопки. Они должны были сдержать первый натиск десанта. Отряд Анкудинова и остальные стрелки остались в резерве у порохового погреба, расположенного у подножия сопки. Здесь же находилась штаб-квартира генерала.
Изыльметьев, слыша гул обстрела третьей батареи (некоторые ядра перелетали перешеек и падали в воду Малой губы) и полагая, что среди артиллеристов наверняка большие потери, отправил туда мичмана Фесуна с десятком матросов.
Фрегат «Эвридика» и бриг «Облигадо» тем временем попытались подойти к Красному яру для вторичной высадки десанта. Их встретили плотным огнем восстановленные батареи № 4 (под командованием старого артиллерийского кондуктора Дементьева) и № 1 (ею теперь командовал мичман Попов, заменивший раненого Гаврилова), к которым присоединились Кошечная и русские корабли. Французы отказались от своего намерения, передвинулись к «Форту», обстреливая город ядрами через сопку, и направили пять ботов десантников к перешейку.
…А десант с «Форта» двигался к берегу, и остановить его было нечем. Молодые артиллеристы — большинство из Сибирского стрелкового батальона — метались под вражеским огнем, отчаянно пытаясь поднять пушки. Александр Максутов сам бросился к исправному орудию, крича:
— Братцы, заряжай!
Команду исполнили молниеносно. Лейтенант навел на цель и сам поджег запал. Пушка рявкнула, посылая ядро, и большой катер с десантом переломился пополам, люди посыпались в воду. С фрегата донеслись вопли ужаса и ярости, и «Форт» ответил залпом всего борта. Смерч ядер и бомб ударил по батарее, но солдаты, вдохновленные удачей командира, действовали быстро и слаженно. Пушку откатили, пробанили, заложили картузы с порохом, командир лично поднес полупудовое ядро и закатил его в ствол, пушку вернули на место, и Максутов снова начал прицеливаться.
Но французские артиллеристы, мстя за своих товарищей, выделили именно это русское орудие, и несколько ядер одновременно обрушились на него. Пушку отбросило в сторону с развороченным лафетом, а у лейтенанта Максутова по локоть оторвало руку. Еще мгновение он стоял, шатаясь, с удивлением глядя на свою страшную рану, и рухнул на землю.
На борту французского фрегата раздались крики «виват» и «браво», так там обрадовались своему победному залпу.
Мичман Фесун со своей группой появился на батарее как раз в этот момент. Он мгновенно оценил обстановку.
— Слушать меня всем! — Молодой голос мичмана перекрыл все шумы. — Общий отход через перешеек. Раненых забрать с собой, убитых похороним после боя. Ружья и картузы не оставлять. Марш-марш живей!
Воспользовавшись паузой между залпами фрегата, артиллеристы и матросы-авроровцы подхватили раненых и все остальное, что можно было унести, и скрылись в лесу за батареей. Следующий удар «Форта» накрыл уже пустую разрушенную площадку.
Ничем и никем не сдерживаемый французский десант начал высадку на берег под самым перешейком.
Пока между «Фортом» и батареей Александра Максутова шла смертельная дуэль, «Президент» и «Вираго» уничтожали препятствие в виде батареи № 7 капитан-лейтенанта Кораллова. Однако, несмотря на десятикратный перевес в количестве пушек (о калибрах нет и разговора), англичане никак не могли заставить замолчать упрямых русских. В течение двух часов то на фрегате, то на пароходе трещало дерево мачт и палубных надстроек, повисала порванная оснастка, росло количество зияющих дыр в корпусах, падали убитые и раненые. Десантные боты не решались высунуться из-за кораблей. Два из них рискнули, и один тут же был потоплен метким русским ядром.
Но в конце концов огромное преимущество англичан сыграло свою роль: пушки русских, опрокинутые и заваленные землей и фашинником, замолчали, оставшиеся артиллеристы и контуженный в голову Кораллов ушли к своим, и морская пехота беспрепятственно начала высадку на Озерновской косе.
Общий счет десантируемых англичан и французов превышал 700 человек. Французам, во главе с де-ла-Грандье, предписывалось подняться на Никольскую сопку через перешеек; англичане делились на две группы: меньший отряд, под командованием капитана Буриджа, должен был подняться на Никольскую сопку и вместе с французами обстреливать русские корабли, вторую батарею и город из штуцеров и малой гаубицы, доставленной с десантом; большей партии, возглавляемой лейтенантом Паркером, надлежало обогнуть сопку с севера и ворваться в город по дефиле между сопкой и озером, нарисованному деловыми американцами.
Как позже писал в одном из писем мичман Николай Фесун, «при десанте ничего не забыто; все до мелочей взято было на шлюпки: гвозди для заклепки орудий, различные инструменты для разрушения батарей, завтрак на весь десантный отряд и, сверх того, отдельный запас провизии, предназначенный, вероятно, для временно остающихся гарнизонов в городе; потом кроме патронов в суме у каждого матроса и солдата ящик с патронами запасными, несколько тюфяков, одеял; были взяты превосходно снабженные походные аптеки и, наконец, кандалы для заковывания некоторых пленных».
Встретив остатки команд Максутова и Кораллова, Завойко отправил раненых в город, где в наскоро оборудованном госпитале не покладая рук трудились городские и корабельные врачи под началом статского советника Ленчевского, остальных объединил в отряд и поручил командовать им мичману Фесуну. Николай Алексеевич, кстати, доложил генералу о новой порции десанта на перешеек, отправленной «Эвридикой» и «Облигадо».
— Так что, ваше превосходительство, десантников больше девяти сот, — заключил он.
— Четверо на одного? Многовато. Гардемарин Колокольцев! — вызвал Завойко одного из своих порученцев. Бегом на «Аврору»! Пусть капитан-лейтенант поставит под ружье всех, кто может и не может, и направит сюда. Здесь и сейчас решается судьба города.
Гардемарин козырнул и умчался.
Как раз в это время на дороге, ведущей от рыбного сарая в город, показались английские десантники.
— Юнкер Литке! Бегом к поручику Гезехусу! Неприятеля подпустить ближе и ударить картечью! — приказал генерал.
— А мы уже и зарядили. Небось и сами с усами, — проворчал поручик, получив приказание. Выпуская облачка дыма из-под пшеничных усов: он спокойно курил короткую немецкую трубочку и поглядывал сквозь листву на дорогу, заполнявшуюся солдатами в красно-синих мундирах.
Его батарея из десятка легких, 18- и 6-фунтовых пушек, заряженных картечью, хорошо замаскировалась в густом кустарнике; со стороны дороги пушки были прикрыты срезанными ветками, чтобы при необходимости легко освободить сектор стрельбы. Тридцать человек замерли в ожидании команды. Конная пушка Зарудного, тоже подготовленная к выстрелу, стояла в тылу; солдат Карандашев, коренастый сивоусый мужичок, придерживал лошадь под уздцы, чтобы та, испугавшись, не понесла.
— Восемнадцатифунтовые, товсь! — негромко скомандовал Гезехус. Маскировка мгновенно была убрана, открыв черные жерла стволов. — Прямой наводкой по десанту… пали!
Пять сгустков визжащей картечи врезались в массу морских пехотинцев, в одно мгновение выкосив десятки людей. Началась паника, только что уверенно шагавшие со штуцерами наперевес солдаты стали вдруг беспорядочной толпой, с криками и толкотней убегавшей под прикрытие склона сопки. Кого-то из раненых они сумели подхватить и унести с собой, но многие остались лежать на дороге, испуская отчаянные крики, призывая на помощь. А многие — неподвижны и молчаливы; как говорится, мертвые сраму не имут.
До начала второй атаки пушки перезарядили. Вторично десантники пошли уже по всем правилам военной науки, то есть рассредоточившись, перебежками, стреляя на ходу в сторону батареи. И опять Гезехус, дождавшись, пока на пространстве между сопкой и озером накопится достаточно живой силы, отдал приказ:
— Батарея… товсь! Восемнадцатифунтовые прямой наводкой, шестифунтовые навесным огнем… пали!
Грохнули десять стволов, изрыгнув начиненные смертью снаряды: пять, что называется, «в лоб», пять — «подарками с неба».
И тут шальная пуля зацепила лошадь в упряжке полевого орудия. Дико заржав, она взвилась на дыбы и рванулась вперед, прямо на десантников. Карандашев едва успел вскочить на передок. Изо всех сил натягивая вожжи, он пытался развернуть взбесившееся животное, но у него ничего не получалось до тех пор, пока по ним не начали стрелять отступавшие солдаты. Наверное, лошадь снова обожгло пулей, потому что она круто повернула к озеру, потом снова встала на дыбы и рухнула на землю. Ноги ее беспорядочно задергались и замерли.
— Убита! — сокрушенно воскликнул Карандашев и огляделся. — Господи, что ж делать-то?!
Между кустами мелькали, приближаясь, фигуры вражеских солдат. Пушку хотят захватить, догадался Карандашев. А что? Орудие целехонько, даже заряжено, а по бокам ее, в ящиках — и картузы с порохом, и снаряды картечные. Захватят, развернут и шандарахнут по нашим — по батарее, по отрядам, что скопились у подножья сопки, по командной квартире генерала…
«Черрт, ведь и верно: пушка заряжена! Сейчас узнаете, сучьи дети, почем шесть фунтов лиха…»
Карандашев схватился за колесо и начал разворачивать пушку на приближающихся солдат. В левую руку словно шилом ткнули выше локтя, он глянул — кровь: подстрелили, сволочи! А вот хрен вам в зубы — не сдамся!
И тут время для него резко изменилось — потекло медленно-медленно. Он и пушку развернул, и навел куда надо, а десантники сделали всего по одному-два шага. До них еще было сажен пятнадцать-двадцать. Он видел, как они с трудом разевают рты, что-то крича, как тяжело передвигают ноги, как, надрываясь, поднимают ружья, чтобы выстрелить в него, но ему было не до того.
В голове металась мысль: чем запалить? Он сам еще ни разу не стрелял из пушки, но знал, что надо поджигать порох на какой-то там полке. Ага, вспомнил: Зарудный в железной коробке держал тлеющий фитиль. Нашел коробку под казенником пушки — точно, тлеет фитиль, исходит дымком. Ну, давай, Карандашев, или пан, или пропал!
Он вытащил фитиль, дунул на него — язычок огня заиграл на кончике, — а глаза уже нашли запальное отверстие, а руки сами сунули туда фитиль.
Пушка подпрыгнула, полыхнув огнем из дула, и смертельный цветок картечи расцвел в самой гуще десантников, разбрасывая их в разные стороны.
Громогласным эхом отозвалась вся батарея, и вторая атака, истекая кровью, захлебнулась. Морские пехотинцы откатились назад и полезли на сопку, скрываясь в лесных зарослях, в явном расчете захватить господствующую высоту и оттуда прицельно расстреливать русских — на кораблях, на батареях и в городе…
Их встретил из-за деревьев ружейный огонь, правда, не настолько сильный, чтобы остановить остервенелых от неудачи десантников. Это был отряд Губарева. Сметенная волной штурмующих сопку, горстка храбрецов скатилась вниз, к пороховому погребу.
Соединившись с партией, высадившейся у перешейка и поднявшейся через третью батарею, противник захватил весь гребень Никольской сопки. Перед ним открылась панорама города, порта, Малой губы с кораблями, песчаной косы с батареей № 2 у ее основания.
— Вот он, ключ от города, господа, в наших руках! — высокопарно заявил капитан Буридж своим коллегам — капитану де-ла-Грандьеру и лейтенанту Паркеру. — Дело за малым — перестрелять артиллеристов и офицеров, в штыковой атаке опрокинуть толпу русских мужиков и на их плечах ворваться в город. Предлагаю разойтись по своим местам, и — до встречи в Петропавловске.
4
Приближался переломный момент сражения. Артиллерия замолчала, поскольку стрелять практически было уже нечем — погреба почти опустели. И теперь все решала пехота.
Артиллеристы Гезехуса оставались на своем месте на случай повторения атаки из-за сопки. Они засели во рву перед батареей и обстреливали из ружей гребень Никольской.
А отряды лейтенанта Анкудинова и мичмана Михайлова ринулись на сопку с севера, сразу вслед за англо-французскими морскими пехотинцами.
С юга и востока к ним присоединились посланные Изыльметьевым 77 человек под командованием лейтенанта Пилкина, прапорщика Жилкина и гардемарина Давыдова. Со своей стороны Завойко бросил на сопку снова Губарева, группу Фесуна и 17 человек из команды Кошелева во главе с фельдфебелем Спылихиным. Больше под рукой никого не было, кроме стратегического резерва — отряда Арбузова и остальных стрелков Кошелева.
Цепляясь за кусты и молодые деревца, солдаты и матросы взбирались по крутому склону, зло и молча, осыпаемые сверху пулями, а когда добрались до противника, с криком «ура» почти одновременно с трех сторон пошли в штыковую атаку.
Их было мало, очень мало, но дрались они отчаянно, действительно каждый за четверых, и сражение скоро распалось на отдельные групповые схватки.
Матроса-авроровца Халитова окружил десяток морских пехотинцев с явным намерением взять его в плен. Халитов стоял, крепко сжимая ружье с примкнутым штыком. Он решил дорого продать свою жизнь и вдруг вспомнил своего башкирского дедушку Салавата, как тот учил его драться даже с сильными мальчишками.
— Надо ошеломить их чем-нибудь необычным, а потом действовать быстро-быстро: одному в лоб, другому — в живот, третьему — в ухо, четвертому — между ног… И ни в коем случае не убегать. Побежишь — проиграешь драку.
— А шеломить-то чем необычным? — спрашивал маленький внук.
— Да хоть на голову встать или завизжать так, чтоб они за уши схватились.
«Спасибо, дедушка Салават», — подумал Халитов, внимательно следя за движением вражеских солдат. И, когда они приблизились на достаточное, как он решил, расстояние, внезапно пронзительно завизжал, закрутился, как волчок, откидывая штыком их винтовки, — те и рты поразинули. А теперь этому — в живот, этому — в грудь, этому — в печенку, этому — между ног… Штык ходил взад-вперед, как банник в стволе пушки, и с каждым его движением вперед падал человек с темным пятном в месте удара…
— Russian devil![79] — завопил один, отступая; крик подхватили еще двое, и оставшиеся в живых бросились наутек, оставив Халитова с четырьмя упавшими от ударов его штыка — убитыми или умирающими, он не стал разбираться. Собрал штуцера и патронташи и нырнул в заросли. Увидев товарищей, раздал им трофеи — все-таки нарезные ружья куда лучше гладкоствольных! — себе тоже оставил, а свое закинул за спину и снова пошел в бой.
Его товарищ, молодой матрос Буленев, получив штуцер, уронил прежнее ружье, и оно ускользнуло по крутому спуску вниз.
— Ну и черт с ним! — ругнулся матрос.
— Я те дам «черт с ним»! — обрушился на него боцман Яков Тимофеев. — За утерю личного оружия знаешь, что бывает?! Давай ищи!
Буленев еще раз чертыхнулся и полез вниз. Шаря в кустах, почуял неладное, поднял голову и столкнулся взглядом с парнем в красном мундире. Рядом стоял второй.
Времени для размышления у матроса не было. Подчиняясь какому-то порыву, он прыгнул на англичан с воплем «На помощь!», ухватил их за шеи и покатился с ними по откосу. Они обрушились прямо под ноги молодому камчадалу, пятнадцатилетнему охотнику Тарье. Тот не растерялся и заколол своим штыком обоих десантников.
Рекрута Сибирского линейного батальона, малорослого и щуплого Ивана Сунцова кто только в роте ни шпынял за неуклюжесть и нерасторопность. Чего бы ему ни приказывали, за что бы ни брался сам — все получалось как-то криво. У него и прозвище было — Недотепа. Вот и в атаке его занесло в какие-то заросли, такие густые, что пролезать под кустами пришлось на четвереньках, а то и ползком. Лез и молился, чтобы то и дело свистевшие над головой пули не убили его, такого еще молодого. И вдруг, подняв голову, в просвет между ветками Сунцов увидел неподалеку неприятельского офицера в красном мундире, что-то кричавшего громким командным голосом. Иван осторожно лег на живот, подтянул за ремень ружье и прицелился. Как только офицер повернулся в его сторону, он поймал на мушку его грудь и нажал на курок. Офицер рухнул на землю. Извиваясь ужом под выстрелами — вот где пригодились малорослость и щуплость, — Сунцов подполз к нему, тесаком срезал сумку, висевшую у того на боку, и тут радость неожиданной удачи так захлестнула его, что он не выдержал, вскочил на ноги и ломанулся в кусты. Слава богу, ни одна пуля не задела — не зря, выходит, молился. А убитый оказался командиром десантной группы, английским капитаном Паркером. Из его сумки генерал Завойко узнал много интересного о планах десанта. Забегая вперед, скажем, что за этот подвиг Ивану Сунцову вместе с медалью на георгиевской ленте в память о войне 1853–1856 гг., какие получали все участники, вручили орден — крест Святого Георгия.
Таких групповых схваток и поединков в тот солнечный августовский день случилось немало, и в каждой были свои герои, но все-таки десантники вчетверо превосходили русских по количеству, а по обученности военному искусству, наверное, много больше (не надо забывать, что прибывшие на «Двине» солдаты были сплошь новобранцы). Поэтому вполне возможно, что морская пехота в конце концов перехватила бы инициативу и осуществила план своего командования, а именно — ворваться в город на плечах отступающего противника, но очередной шаг Завойко решил исход двухчасового сражения иначе.
Не дожидаясь просьб о помощи от командиров групп, генерал отправил на сопку свои последние силы отряд капитана Арбузова, обученный тактике рассыпного боя, стрелков Кошелева и подоспевший последний резерв Изыльметьева — матросов и артиллеристов второй батареи под командованием лейтенанта Скандракова. Шестьдесят свежих бойцов за пару минут поднялись к гребню, где изнемогали в штыковых схватках их товарищи, и с криком «ура» ринулись на десантников.
Неожиданная помощь пришла и с юга, от Сигнальной батареи. Ее командир мичман Попов, видя, что его артиллеристы остались как бы не у дел, и слыша доносящийся с Никольской шум боя, направил туда свою группу под началом гардемарина Гаврилы Токарева. Эта партия на перешейке столкнулась с отступавшими десантниками, среди которых находились Буридж и де-ла-Грандьер, и штыками сбросила их на береговую полосу. Там как раз причалил вспомогательный отряд англичан, но ему досталась печальная доля — собирать убитых и раненых и отправлять их на корабли.
Кто знает, последний шаг генерала мог бы и не достичь поставленной цели, но солдаты Арбузова были в красных рубахах, английские морские пехотинцы — тоже в красных мундирах, в завихрениях боя французы смешали их в одно целое, решив, что к русским пришло мощное подкрепление, и, запаниковав, стали отступать. А паника, как известно, подобна лесному пожару с сильным ветром — остановить ее чрезвычайно сложно и, как правило, последствия бывают весьма печальны. Вскоре отступление превратилось в беспорядочное бегство, увлекшее и англичан. Никто не слушал командиров, всеми овладело одно желание — спастись. На гребне сопки скопилась большая масса людей. Кто-то, не желая получить удар штыком, первым прыгнул вниз, по склону к морю, за ним другие. Через две-три минуты скат был усеян кувыркающимися морскими пехотинцами. Поначалу крутой, но все же просто наклонный, дальше он почти вертикально срывался к береговой полосе. Люди с воплями летели вниз сажен 20–30 и разбивались о камни. Первые, конечно, сразу нашли там свою смерть, другим, кто летел следом, «везло» по-разному — одни ломали шеи и позвоночники, другие только калечились, но невредимых не было. Десантники на берегу, не участвовавшие в сражении, подхватывали раненых и покалеченных и сносили в шлюпки; забирали и мертвецов. Русские стрелки и камчадалы стреляли сверху по ним и по фрегату, многие уже из захваченного оружия. Особой меткостью отличались охотники. Николай Фесун заметил, как старый камчадал по фамилии Дурынин неторопливо водит ружьем из стороны в сторону.
— Ты чего не стреляешь? — закричал ему мичман.
— Пулек мало, паря. Надо одну на двоих, — и наконец выстрелил.
Мичман с удивлением увидел, что внизу и верно — упали сразу два пехотинца. Но больше всего поразило его не это, а общая картина разгрома. Как он потом писал в письме: «…Мы не оставались в бездействии и при выгодах своего положения могли бить неприятеля на выбор, когда он садился и даже когда он уже сидел в шлюпках. Страшное зрелище было перед глазами: по грудь, по подбородок в воде французы и англичане спешили к своим катерам и баркасам, таща на плечах раненых и убитых; пули свистали градом, означая свои следы новыми жертвами, так что мы видели английский баркас, сначала битком набитый народом, а отваливший с 8 гребцами; все остальное переранено, перебито и лежало грудами, издавая страшные, раздирающие душу стоны… Наконец все кончилось; провожаемые повторенными ружейными залпами, все суда отвалили от берега и, пристав к пароходу, на буксире его были отведены вне выстрелов; фрегаты и бриг последовали этому движению, так что в половине первого ни один из них не был ближе 15 кабельтовых расстояния».
В час дня горнисты пропели отбой, и по сопкам, кораблям, батареям, по всему городу прокатилось многоголосое «ура». Солдаты, матросы, офицеры, волонтеры, гражданские добровольцы обнимались и целовались. Многие тут же становились на колени и благодарно молились Богу, который не оставил русских в беде и даровал им торжество над сильным и коварным врагом.
Запыленные, грязные, забрызганные кровью воины постепенно собирались к пороховому погребу у подножья Никольской сопки, откуда генерал Завойко руководил последним сражением. Сам генерал со слезами на глазах, постоянно повторяя: «Спасибо, родные мои!», — обнимал командиров и рядовых.
Все вместе двинулись в город, к храму Святых Петра и Павла. По пути к шествию присоединились спешившие навстречу, в штаб генерала, Изыльметьев, Васильев, Дмитрий Максутов, Попов со своими подчиненными, подоспели и артиллеристы четвертой батареи во главе с кондуктором Дементьевым. Той дело кого-то начинали качать, кричали «ура», «слава России», «слава Завойко». Генерала попытались поднять на руки, но он увернулся и приказал не трогать его.
Возле храма священники Георгий и Александр Логиновы и Михаил Колегов, а также иеромонах Иона с послушниками уже приготовили все для благодарственного богослужения. Выставили иконы святых Петра, Павла и Александра Невского, сами облачились в торжественные одеяния, воскурили благовония…
Командиры отрядов построили своих подчиненных; гражданские встали отдельной группой — их было немного, в основном мужчины, около десятка женщин и несколько мальчишек разных возрастов (картузники-штурманята, как настоящие воины, стояли в строю со «своими» артиллеристами). Остальные жители еще были в эвакуации.
Завойко поднялся на паперть, снял фуражку и вслед за ним обнажили головы все.
— Братья мои! — Голос генерала, поначалу низкий и хрипловатый, зазвенел и, казалось, вознесся над собравшимися. — Вы сегодня совершили невозможное — разгромили многократно сильнейшего врага и тем самым показали всему миру, что Россия наша матушка крепко стоит на берегах Восточного океана. Вы шли на смертный бой во славу царя и Отечества, неся в душе Господа Бога, и он вам даровал победу, дал силы для подвига, который не забудется вовеки. Ура!
— У-р-ра!!! — грянуло так, что, наверное, эхо торжествующего клича долетело до вершины Корякской сопки, которая возвышалась далеко-далеко правее Култушного озера: вулкан, все время спокойно курившийся, вдруг пыхнул большим белым облаком, и под ногами ощутимо дрогнула земля.
— Возблагодарим Бога, даровавшего нам победу! — возгласил Георгий Логинов, и все опустились на колени.
— Боже Великий и Непостижимый… — трубно завел молитву молодой чернобородый диакон Феодосий Лавров. — …Приклони ухо Твое с высоты святыя Твоея и приими от нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, сердцем и усты возносимые Тебе благодарственные сии моления, исповедания и славословия…
— …возносимые Тебе благодарственные сии моления, исповедания и славословия… — нестройно, но дружно повторили молящиеся.
— …Ты, Господи Боже, Щедрый и Милостивый, Долготерпеливый и Истинный… ущедрил еси нас победою на сопостаты… — перекатывался рокочущим громом глас диакона, его поддерживали дьячки Алексей Черных и Моисей Колегов. — …Благодарим Тя за избавление Отечества от врага лютаго… Слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков!
За молитвой последовало «Многие лета» царю и царскому семейству, а потом гимн и троекратное «ура».
После чего Завойко снова взошел на паперть:
— Други мои и соратники! Победа наша велика, но опасность не миновала. Врагам сегодня не до нас — они хоронят своих мертвых, но мы не знаем, будет ли повторено нападение, а потому надо немедленно восстанавливать батареи. Кто-то будет собирать и подсчитывать трофеи, кто-то обихаживать погибших и раненых, а остальных я призываю взяться за кирки и лопаты. Как бы ни был враг силен, мы — победим. С нами — Бог!
Сразу после молебствия похоронная команда подобрала всех погибших — как русских, так и несостоявшихся захватчиков — и после общего отпевания их погребли в двух братских могилах у подножия Никольской сопки.
5
Уже в ночь на 25 августа войска и горожане привели в порядок третью и седьмую батареи, так что вместе с восстановленными ранее первой, второй и четвертой и непострадавшей шестой — город снова был готов к отражению противника. Единственно, что тревожило Завойко, — это малое количество оставшихся снарядов. Но он надеялся, что и артиллерийские погреба нападающей стороны тоже небездонны (только на площадках третьей и седьмой батарей было собрано около 200 ядер), а значит, перестрелка, если и будет, то кратковременной, и главное слово останется за пехотой.
Но англо-французы больше не делали попыток атаковать. Два дня они хоронили своих погибших товарищей, насыпав на берегу Тарьинской бухты два больших кургана — размеры братских могил лучше всяких слов говорили о масштабах потерь — и занимались ремонтом поврежденных кораблей.
К вечеру 26-го у Ворот Авачинской губы показался русский бот № 1 под командой боцмана Новограбленова, шедший в Петропавловск, но получил предупреждение от маячного унтер-офицера Яблокова и успел уйти в море. Бот, в свою очередь, встретил шхуну «Восток», которая везла почту из Аяна. Сам бот укрылся в одной из соседних бухт, а «Восток» ушел на юг, к Курильским островам. Будучи основательно потрепан штормами, он зашел на второй остров для ремонта и там повстречал транспорт «Байкал», который направлялся на другую сторону полуострова, в Большерецк. Командир «Востока» Римский-Корсаков передал «Байкалу» почту, указав, что она должна быть немедленно отправлена в Петропавловск, и попросил дождаться там сведений о результатах осады порта. Сама шхуна пришла в Большерецк после месячного ремонта.
Рано утром 27 августа вражеская эскадра покинула Авачинскую губу. Сразу за Воротами с нее заметили два русских судна, направлявшихся в Петропавловск. Решив, что они из флотилии Путятина, англо-французы догнали их и захватили, но это были гражданская двухмачтовая шхуна «Анадырь» с грузом строевого леса и транспорт «Ситха», принадлежащий Русско-Американской компании. Шхуну обозленные неудачники сожгли, а «Ситху» с пассажирами, коммерческим грузом и 150 пудами пороха взяли как трофей.
По пути через океан они разделились: англичане пошли в Ванкувер, а французы — в Сан-Франциско, — и те и другие навстречу своему позору и общественному поношению. «Состояние франко-английских судов носит широкое свидетельство искусства русских в артиллерийском деле, и потребуется немало времени и средств на исправление всех повреждений, — написали американские газеты. — Английский фрегат «Президент» находится в весьма печальном положении и с большой опасностью достиг острова Ванкувер. Одно ядро, пущенное с русской батареи, разом положило у него 13 человек, и фрегат пробит насквозь в нескольких местах. Сильно поврежденным оказался и французский фрегат «Форт». У остальных участвовавших в бою судов были пробиты корпуса, перебиты ванты и т. д.» Английская газета «Таймс» сообщала, что только в боях 24 августа было убито и ранено 435 человек. Более половины офицерского состава выбыло из строя, погибли все командиры десантных партий. «Борт одного только русского фрегата и несколько батарей оказались непобедимыми перед соединенною морскою силою Англии и Франции, и две величайшие державы земного шара были разбиты ничтожным русским местечком», — саркастически высказывался английский журнал «Юнайтед сервис мэгэзин». И в голос все английские и французские журналы и газеты требовали наказать русских, стереть с лица земли это «ничтожное местечко».
Но петропавловцы узнали об этом много позже, а пока что жизнь приходила в свое прежнее русло. Возвращались эвакуированные, восстанавливались нанесенные артиллерией «двух великих держав» разрушения. В самом Петропавловске пострадало немного домов — всего 16. За два сражения было убито 37 нижних чинов, ранено 3 офицера и 75 нижних чинов, всего 115 человек. Это, конечно, несравнимо с общими потерями англо-французов, но для маленького гарнизона — весьма существенно, и оплакивал погибших весь город.
Самой тяжелой потерей была кончина героя-князя Александра Максутова, командира третьей, Перешеечной батареи, воистину ставшей для него смертельной. Он тяжело переносил ранение; к тому же начались дожди, в госпитале, построенном из непросушенного леса, все отсырело, раненые простудились. У князя началось воспаление, и 10 сентября он скончался.
Дмитрий не отходил от постели брата, а десятого числа Василий Степанович и Иван Николаевич с трудом увели его, рыдающего, из госпиталя. Завойко повел их с Изыльметьевым к себе и почти насильно заставил лейтенанта выпить стакан водки. Юлия Егоровна накрыла стол, но Дмитрий не притронулся к еде. Он выпил еще стакан и весь вечер просидел, уставившись в «красный угол», где теплилась лампада перед иконой Александра Невского. А потом упал головой на стол и уснул мертвым сном. Проснулся лишь на следующий день после обеда.
Команда во главе с Губаревым, вернувшимся к обязанностям полицмейстера, собрала трофеи. Кроме нескольких десятков штуцеров и семи офицерских сабель победителям досталось английское знамя, предположительно Гибралтарского полка. Завойко решил отправить его вместе со своим рапортом генерал-адмиралу. Осталось лишь выбрать нарочного.
К этому времени в порт уже пришли бот Новограбленова и корвет «Оливуца». Жизнь в Петропавловске полностью вошла в свои берега.
Двенадцатого сентября Александра Максутова положили в гроб и перенесли в заполненную до отказа церковь для отпевания. Он лежал молодой и красивый, губы слегка улыбались на бледном лице. Корабельный священник Иона, закончив отпевание, сказал дрожащим от сдерживаемых слез голосом:
— Смотрите на воина, лежащего во гробе перед нами. Не суть ли слова его примером для нас? Во время отнятия левой руки он творит крестное знамение правой, говоря: «Благодарение Богу, у меня осталась еще правая рука, чтобы молиться ему…»
Офицеры-авроровцы, а с ними и Дмитрий подняли гроб и вынесли из церкви. Дивизион матросов с «Авроры» по команде «На караул!» отдал последнюю честь лучшему офицеру фрегата.
День разгулялся. С утра моросил нудный дождь, а к выносу ветер разогнал низкие тучи, и солнце озарило окрестные горы — все в разноцветий осени. Над вулканическими сопками курились легкие дымки и в воздухе витало такое умиротворение, словно и не было совсем недавно в этих местах грохота пушек, свиста ядер и пуль, криков и стонов раненых… Однако, когда процессия оказалась на траверсе «Авроры», пушки ее громыхнули тремя выстрелами, а с перешейка, словно эхо, трижды откликнулись орудия третьей батареи, и этот прощальный салют стал одновременно напоминанием о героической десятидневной обороне города русской воинской славы.
На кладбище, что было на Красном яру, неподалеку от четвертой батареи, прозвучал прощальный ружейный салют, гроб опустили в землю, каждый бросил по горсти земли, и вскоре все вернулись в город: солдаты — в гарнизонные казармы, матросы — на корабли, а офицеры и гражданские чины — в дом Завойко. Везде были устроены поминки — не только по Максутову, а по всем погибшим.
— Господа, — обратился к офицерам Василий Степанович, прежде чем приступили к ритуалу поминок, — раз уж мы все тут собрались, я хотел бы определиться с нарочным в столицу, который повезет мой рапорт генерал-адмиралу. Думаю, что это должен быть выдающийся офицер, своими действиями в боях заслуживший эту высокую честь. Какие будут предложения?
Предложений оказалось всего одно — князя Дмитрия Максутова. Его высказал мичман Николай Фесун. Остальные дружно поддержали.
— Я считаю князя Дмитрия достойным кандидатом, — сказал Изыльметьев, а Завойко просто пожал лейтенанту руку:
— Завтра же отправляйтесь, Дмитрий Алексеевич. Американский «Нобль» идет в Аян. Бог вам в помощь!
Глава 6
1
Неожиданно для самого себя Михаил Семенович Корсаков заблистал в Петербурге. Когда он отправлялся в столицу с рапортом генерал-губернатора об успешном завершении первого сплава, то, конечно, понимал, что привлечет внимание общества, но не представлял степени этого внимания.
Во-первых, страшно удивило, когда по выходе из вагона к нему подошел молодцеватый поручик-фельдъегерь, козырнул и спросил:
— Курьер от Муравьева?
— Д-да, — немного растерялся Корсаков. Было полное впечатление, что фельдъегерь дежурил на вокзале сутками, чтобы не пропустить посланца из Иркутска. Хотя именно так и оказалось: слишком напряженно здесь ждали известий с Амура.
— Вам следует немедленно отправляться к дежурному генералу.
— Помилуйте: я грязный с дороги, небритый, весь измятый… Дайте хотя бы умыться и переодеться, не ехать же в таком виде во дворец! И вещи надо куда-то отправить.
Но фельдъегерь был неумолим:
— Приказано доставить в том виде, какой есть. Вещи оставьте казаку. Он знает, в какой гостинице вы остановитесь?
— Знает, — обреченно кивнул Корсаков. — В «Наполеоне».
— Вот и отлично! Дайте ему указание и едем. Не забудьте нужные бумаги.
Корсаков взял портфель с бумагами, приказал, что нужно, казачьему уряднику, сопровождавшему его от Иркутска и одуревшему от столь дальней дороги, и отбыл с фельдъегерем.
Дежурный генерал, не задерживая ни на минуту, отправил подполковника с тем же офицером к военному министру Долгорукову. Князь Василий Андреевич, ознакомившись с письмом Муравьева, адресованным лично ему, от полноты чувств прослезился и облобызал Корсакова:
— Подполковник, душа моя, езжай не медля в Петергоф и Стрельну к наследнику и великому князю, а там, глядишь, и государь примет. Все мы тут в мрачном расположении. Небось слыхал уже, что союзники в Крыму высадились и движутся к Севастополю? Меншиков обещал расколошматить всех, однако его самого на Альме расколошматили[80]. Не готовы мы были к этой войне, ох, как не готовы!.. — Министр покачал головой, как бы осуждая себя за эту неготовность, хотя вины его в том не было никакой: что он мог сделать за год своего пребывания в кресле главы военного ведомства, если почти сорок лет после Заграничного похода в армии царил застой, перешедший в махровую замшелость? — Ну да ладно, — встряхнулся Долгоруков, — Бог не выдаст, свинья не съест. В Севастополе толковые командиры — Корнилов, Нахимов, Тотлебен… Ступай, душа моя, порадуй семью монаршую своими вестями.
— Ваша светлость, может, я все-таки сначала переоденусь? — попробовал вильнуть Корсаков, однако Василий Андреевич даже руками замахал:
— Ни-ни-ни, ни в коем случае! Потом, потом! Вас ждут, не дождутся!
Все на той же фельдъегерской тележке Корсаков покатил в Петергоф. Хотел было по пути заехать в Стрельну, к генерал-адмиралу, но фельдъегерь заявил:
— Ваше высокоблагородие, попервоначалу — к государю наследнику, а там уж каково будет решение их императорского высочества.
Корсаков уныло вздохнул и подчинился. Собственно, заезд в Стрельну был той же попыткой не доехать в этот день до Петергофа: хозяин стрельнинского дворца — генерал-адмирал Константин Николаевич, который был на год младше Михаила Семеновича, казался ему проще наследника, хотя ни с тем, ни с другим лично ему встречаться не приходилось. Все-таки великий князь — человек военный, он бы, наверное, понял офицера, смущенного тем, что приходится выглядеть столь непрезентабельно.
В Петергофе Корсаков был принят немедленно. Высокомерный дворецкий фыркнул было при виде чуть ли не оборванного офицера, но, услышав, что курьер прибыл от генерала Муравьева, повел его спешным шагом сначала по парадной двухсветной лестнице, раззолоченной и украшенной скульптурами, затем через анфиладу комнат и залов, в которых у Корсакова разбегались глаза опять же от изобилия золота — на резных украшениях, на лепнине, на дверях и люстрах, на обрамлениях великолепных зеркал… Золото затмевало прекрасные картины, развешанные по стенам, изящные скульптуры и барельефы и уже через минуту начало раздражать. «Какая-то сказка тысячи и одной ночи, думал подполковник, стуча пыльными сапогами по дорогому паркету, — пышно и пошло».
Иногда встречно или в стороне промелькивали слуги, узнаваемые по ливреям, офицеры, женщины в простых чистых платьях, видимо, служанки. В небольшой комнате с голубыми стенами люди, главным образом офицеры, попросту толпились; несколько человек сидели за столами и что-то писали в толстые журналы. При виде Корсакова все встрепенулись и повернулись к нему, но что выражали их лица, подполковник схватить не успел. Дворецкий мчал его дальше — через зал, стены которого были увешаны картинами с изображениями морских сражений, затем был еще один — с огромными портретами Петра Великого и трех императриц — Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Великой; в этом зале на возвышении стоял трон, обитый красным бархатом с вышитым золотом на спинке двуглавым орлом, — но и он был не последним. Дворецкий протащил Корсакова через белую простоватую комнату с большим обеденным столом, видимо, столовую, и ввел его в небольшой кабинет, стены которого были украшены китайскими пейзажами и иероглифами.
В комнате сидели в креслах у овального стола два человека в военных мундирах, в усах и бакенбардах. Темный шатен был постарше, рыжеватый блондин — моложе. Сидели, курили сигариллы и, видимо, беседовали. Приход дворецкого с посетителем прервал их разговор. У обоих лица стали недовольными.
— Ваше императорское высочество, — обратился дворецкий к шатену, и Корсаков понял, что это — наследник, а второй — наверняка генерал-адмирал. Он поспешно козырнул. — Курьер от генерала Муравьева. Извините, что в таком виде, но вы приказали…
Цесаревич, только услышав, что явился курьер, вскочил, уже не слушая дворецкого, и схватил Корсакова за плечи:
— Что? Как? Какие новости?! — И подтолкнул к свободному креслу. — Садитесь, подполковник, и поскорее давайте письма.
Корсаков торопливо, путаясь от волнения в застежках портфеля, вынул и подал братьям два пакета и остался стоять, не решаясь воспользоваться приглашением цесаревича.
Оба читали с жадным любопытством, которое ясно отражалось на их лицах, и постепенно радость от хороших известий засветилась в одинаковых голубовато-серых глазах.
— «Мы стали твердою ногою на Амуре; я надеюсь, что никто у нас его больше не отнимет», — вслух прочитал Александр Николаевич фразу в конце письма, остро глянул на смирно стоящего подполковника и сказал: — Да уж, надеюсь. — И добавил; — Что ж вы стоите, подполковник? Садитесь!
— Благодарствуйте, — пробормотал Корсаков и осторожно опустился в кресло.
— Ты обратил внимание, Саша? Он пишет: «вся честь этого дела принадлежит Невельскому, Казакевичу, Корсакову»! — воскликнул Константин Николаевич. — А себя опять забыл!
— Да он всегда так пишет, — махнул рукой цесаревич. — Ему, ему вся честь! — И глубоко вздохнул. — Ну, вот, слава богу, есть хотя бы единственное светлое известие государю после Альмы. Да, кстати, где пакет для его величества?
Корсаков вынул из портфеля еще один запечатанный конверт и, встав, с поклоном, подал его цесаревичу. Тот принял, осмотрел.
— Завтра же утром представлю вас государю. Его величество за такую новость щедро всех вознаградит. А теперь, подполковник, расскажите нам о плавании своими, неказенными, словами.
— Пусть он останется с нами обедать и за обедом всем расскажет, — предложил великий князь.
— Да-да, конечно, — согласился цесаревич. — Вы не против, подполковник? Кстати, как вас звать-величать?
— Корсаков, ваше императорское высочество!
— Ах, вы и есть Корсаков! Рад пожать вашу руку. А имя-отчество?
— Михаил… Семенович…
Он хотел сказать о своем внешнем виде, но Александр Николаевич его опередил. Цепким взглядом осмотрел офицера с головы до ног:
— О, я сразу не обратил внимания — вы же с дороги! — Корсаков виновато развел руками. — Ну, да это ничего, сейчас вас приведут в порядок. — Он позвонил в бронзовый колокольчик и сказал возникшему в дверях слуге в ливрее: — Проводи господина офицера к дворецкому: помыть, побрить, одеть в свежий мундир. Подполковник Корсаков приглашен к обеду.
На другой день рано утром в гостиницу явился обвешанный аксельбантами полковник и повез Михаила Семеновича в Царское Село.
В Александровском дворце царь принял его в Малиновой гостиной. Присутствовали также Долгоруков и незнакомый Корсакову пышноусый генерал.
— Подполковник Корсаков по вашему повелению явился, ваше императорское величество, — звякнул шпорами Михаил Семенович, преданно глядя в лицо русского самодержца и с тревогой замечая тяжелые темные мешки под глазами, серые щеки и обильную седину на висках и в усах. «Да, — подумалось ему, — нелегко живется императору. Оказывается, власть — не очень-то веселая штука».
— Здравствуй, Корсаков, — устало улыбнулся царь. Обнял и поцеловал онемевшего от радости офицера. — Прочитал я рапорт Муравьева, весьма доволен. Благодарю. Будешь писать генералу — можешь сообщить: все будут награждены — по представлениям. Нижние чины — все! — получат по три рубля серебром. — Николай Павлович оглянулся на Долгорукова, кивнул ему на Корсакова: — А на него, князь Василий, подготовь сегодня же указ, я подпишу. Ты доволен, полковник?
Корсаков снова звякнул шпорами, щелкнул каблуками:
— Простите, ваше величество, но я — подполковник.
— С этого момента ты — полковник.
— Служу царю и Отечеству!
— Служи, служи… — Император прошелся, заложив руки за спину, к окну, посмотрел на осенний парк, вернулся к неподвижному Корсакову. — Да, вот так… Хотел бы я послушать твой рассказ, да недосуг — война! Про Альму небось слышал уже? — Корсаков кивнул. — Значит, понимаешь. Но вы с Муравьевым — молодцы! — Император взял полковника за плечи, притянул, коснулся усами его щеки — поцеловал. — Ступай, братец, служи. Бери пример со своего генерал-губернатора, он того стоит. Такие люди встречаются нечасто. К великому нашему сожалению!
«Господи, что мне какие-то награды, — думал Корсаков, возвращаясь в гостиницу, — если сам император меня дважды поцеловал!»
2
Николай Николаевич не поверил своим глазам: на причале стояла с поднятой рукой — а в руке развевался белый кисейный шарфик — его Катрин… Катюша… Катенька!.. Как?! Откуда?! Почему здесь и в такое время?! Мысли заметались испуганно-радостно, пальцы вцепились в поручни плашкоута, который, раздвигая носом ледяную шугу, плывшую по Лене, подходил к пристани Киренска.
«Господи, как он по ней соскучился! Как ему не хватало ее все эти бесконечные четыре месяца! Сколько писем он ей написал, делясь своими сомнениями, радостями и надеждами! Писем, которые лежали вместе с деловыми бумагами в его рабочем портфеле, потому что отправлять их было не с кем и не было никакой возможности получить ответ. Вот оно, отсутствие достаточно быстрой регулярной почтовой связи», — мелькнула, казалось бы, неуместная мысль, которую тут же догнала другая: «Надо как можно быстрее наладить почту по Амуру».
Плашкоут стукнулся бортом о доски причала. Не дожидаясь, пока его возьмут на швартовы, Муравьев, как мальчишка, перемахнул через поручни, поскользнулся на обросших инеем досках, но устоял и устремился навстречу бежавшей к нему жене.
Словно юные влюбленные, они обхватили друг друга — не только руками, а, казалось, всем телом, и замерли в счастливом оцепенении, испытывая невероятное наслаждение от столь тесной близости, от восторженного обладания друг другом, ничуть не менее сладкого, чем интимное обладание. Да оно, по сути, и было интимным, хотя вокруг сновало множество людей, но что им эти люди — они видели только друг друга, что им окружающий мир, если все, что нужно, заключено в их сияющих любовью глазах.
Они даже забыли поцеловаться — так и пошли, бок о бок, бережно, словно боясь потерять, поддерживая друг друга.
Катрин привела мужа в заезжую избу, где они останавливались во время своего первого путешествия в Камчатку. Там у нее была комнатка, еще две занимали другие проезжающие, но по случаю прибытия генерал-губернатора их быстренько куда-то переселили, и вся изба вмиг стала гостиничными апартаментами — с гостиной, спальней и кабинетом. В гостиной их ждал накрытый стол, но они не обратили на него внимания, а прошли сразу в спальню и плотно закрыли дверь.
Стряпуха и горничная девка долго бесстыже прислушивались, но ничего не услышали и потому разочарованно пили на кухне чай, шумно втягивая жидкость из блюдец и хрумкая кусковым сахаром.
— Как ты жила без меня и как тут оказалась? — спросил Николай Николаевич, когда они утолили первый голод и расслабленно лежали в подушках, держась за руки.
— Жила на Кузнецовской заимке, в обществе Васятки и Лены Молчановой с сыном. Читала, вышивала и очень скучала. — Катрин повернула голову и поцеловала мужа в бакенбарду. Он благодарно пожал ей руку. — Я, кстати, привезла тебе европейские газеты. Они переполнены сообщениями о сражении на Альме…
— Альма? Что это такое? Где?
— Где-то в Крыму. Кажется, река. — Катрин сладко потянулась, повернулась на бочок и положила свою ножку на ногу мужа.
— И кто с кем сражался в Крыму?! — удивился Николай Николаевич.
— Наши сражались, — мурлыкнула Катрин ему в ухо. — С англичанами, французами и еще с кем-то… кажется, с турками. — Ее рука заскользила по его груди, заросшей рыжеватыми волосами. Ниже… ниже…
— Как они там оказались? — продолжал удивляться муж, словно не замечая ее поползновений. — И кто победил?
— Сам потом прочитаешь! — рассердилась вдруг Катрин. Послушай, Николя, если мы улеглись в постель с утра пораньше, чтобы поговорить о сражениях, то это можно делать и за столом во время обеда. Я не для того плыла сюда целую неделю…
— Что ты, что ты, дорогая! — всполошился муж, резво повернулся и принялся целовать ее руки, плечи, грудь, бормоча между поцелуями: — Прости меня, увлекся новостями, но для меня главное — это ты, любовь моя…
— А не поесть ли нам? — шепнул он ей в розовое ушко после бог весть уже какого восхождения на вершину блаженства. — Я страшно проголодался!
— Я тоже, — засмеялась она, как-то на удивление ловко выскользнула из-под него, встала и потянулась всем своим небольшим гибким, изумительно скроенным телом, заставив его в который раз внутренне потрясенно вздрогнуть: неужели эта прекрасная богиня — моя жена?! «Спасибо, Господи, за то, что дал Ты мне такую женщину!» — Сколько раз уже за семь лет совместной жизни повторял он эти слова, и всегда ему казалось, что говорит он их впервые. Наверное, потому, что его восхищение женой со временем не уменьшалось, а наоборот — с каждым днем, месяцем, годом лишь возрастало и делало его бесконечно счастливым.
…Пока стряпуха разогревала обед, а горничная помогала Катрин привести себя в порядок, быстро одевшийся Николай Николаевич просмотрел привезенные женой газеты. Действительно, они до краев были насыщены восторгами по поводу блистательной операции союзников на крымской реке Альме. При том газетчики как бы не замечали, что русских войск и артиллерии было в два раза меньше, чем у маршала де Сент-Арно и лорда Раглана (турки вообще там присутствовали как бы сбоку припеку — каких-то 7000 пехоты и 12 пушек). «Впрочем, — горько подумалось Муравьеву, — мысами виноваты, что оказались в меньшинстве на своей собственной территории. В России армия чуть ли не миллион и не направить в Крым хотя бы сотню тысяч могли лишь совершенно безответственные головотяпы! Позор, да и только! Союзники, вон, за тридевять земель на кораблях доставили почти 70 тысяч солдат и 130 пушек, а мы через год после начала войны словно ополчение собрали — 30 тысяч пехоты, три с половиной тысячи кавалерии и 80 пушек. Ой, стыдоба-а! И кого поставили главнокомандующим — светлейшего князя Меншикова! Адмирала, который никогда не плавал! В армии, правда, немного покомандовал — взял с отрядом турецкую крепость Анапу и руководил осадой Варны в 28-м году (та осада была первым боевым крещением прапорщика Муравьева, он тогда заслужил высочайшую благодарность и повышение в чине), но это было 25 лет назад и вряд ли столь малого опыта достаточно для поста главнокомандующего».
Николай Николаевич внимательнейшим образом прочитал отчет о битве английского военного журналиста, который отдавал должное мужеству русских солдат, но с насмешкой отозвался о генералах и самом Меншикове, открывшем союзникам путь к Севастополю, совершенно не защищенному с суши. Читал, а сам думал: «Если союзники высадили в Крыму целый корпус, то какими силами они придут — или уже пришли? — в Петропавловск? Вряд ли большими — на Тихом океане мерки другие: отрядом в три тысячи человек англичане победили Китай в «опиумной войне», а небольшая эскадра коммодора Перри заставила Японию покорно склонить голову перед США. Но для крохотного Петропавловска и тысячи морских пехотинцев может оказаться более чем достаточно. Надо было не 350 солдат, да к тому же новобранцев, туда направить, — запоздало повинно подумал генерал, — а хотя бы 500–600. И пушек побольше. Если союзники послали туда корабля три-четыре, то есть надежда, что отобьются, а если пять-шесть…»
— Господи, как тяжко жить в неведении! — вырвалось у него.
О чем ты, милый? — Катрин вошла такая нарядная и сияющая, что муж невольно залюбовался ею.
Как замечательно ты выглядишь! — Он встал, чтобы поцеловать ее и усадить за стол, который начали накрывать стряпуха и горничная.
Спасибо, дорогой. Это, наверное, благодаря нашей встрече. — Она слегка покраснела, став еще прелестней. — Так о чем ты вздыхаешь?
Вообще-то, о чудовищной медлительности нашей связи. Ты же знаешь, Катюша, почта в Камчатку и обратно бывает всего два раза в год.
То же и с Амуром. Когда я уезжал оттуда, ходили упорные слухи, что англичане и французы вот-вот нападут на Петропавловск. Теперь они уже, наверное, напали, а о том, что и как произошло, мы узнаем только зимой. — Николай Николаевич начал было есть, но не мог успокоиться. — Ужасно, но из-за плохой связи запаздывают важные решения, от которых может зависеть судьба государства. Боже мой, как нам нужен телеграф, хотя бы оптический! Об электрическом я не говорю — для него нужны специальные станции, а оптический надо ставить как можно скорее. И почту по Амуру пускать: летом — пароходами, зимой — конной или оленной гоньбой. Хотя бы ежемесячно, а лучше — еженедельно.
— Это сколько же пароходов понадобится? — скептически заметила Екатерина Николаевна.
— Да не так уж и много: три-четыре, ну, может быть, пять-шесть.
— А где строить и на какие деньги?
— Деньги купцы соберут. Пароходы в первую очередь им понадобятся, для торговых дел. А строить? Со временем будем строить на Амуре, но пока можно купить в той же Америке, перевезти из Сан-Франциско, а в Николаевском собрать. А что? Это — идея! — загорелся Николай Николаевич. — Сейчас же, как приеду, тряхну купцов — пусть раскошелятся на благое дело — и отправлю Казакевича в Америку покупать пароходы. Да такие, чтобы могли и по морю, и по реке ходить. Вверх и вниз по течению! Еженедельно! — победительно закончил генерал-губернатор и принялся за стерляжью уху.
«Бог мой, — думала Катрин, глядя на радостно-возбужденное лицо мужа, — он никогда не перестанет быть мальчишкой. Вот только что горевал по поводу медленной почты, неизвестности с Петропавловском, а мелькнуло что-то перспективное — и уже размечтался, уже воспарил над серой обыденностью. Но в голове и в сердце всегда одно и то же Амур… Амур… Безраздельная любовь!»
3
Ровно полтора месяца понадобилось лейтенанту Дмитрию Максутову на дорогу от Петропавловска до Иркутска.
В Якутске его пригласил к себе архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий, усадил в деревянное кресло с гнутыми подлокотниками (сказал с явной гордостью: «Своими руками сработано»), сам сел напротив и долго расспрашивал в мельчайших подробностях о противостоянии с сильнейшим противником и победном бое. Слушал внимательно, перебирая «зерна» лествицы, вздыхал тяжело, крестился при упоминании о ранениях и смерти кого-либо из защитников и радостно воскликнул:
— Слава Тебе, Господи! — после рассказа о разгроме супостата.
Потом поднялся, встал, могучий, перед образом Спаса Нерукотворного, расправил седую бороду и трижды осенил себя размашистым крестным знамением, низко склоняя голову в черной скуфье. Максутов тоже встал и перекрестился на икону.
— А теперь, сын мой, прошу к столу, поднимем чаши во славу русского оружия и русского человека, и такоже помянем воинов, павших на поле брани.
На следующий день архиепископ отслужил в храме Николая Чудотворца благодарственный молебен и попросил лейтенанта передать в Иркутске поздравительное письмо генерал-губернатору, а в Москве — послание митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету.
— Прошу преосвященного отслужить такой же молебен в дорогой его сердцу Троице-Сергиевой лавре, — доверительно пояснил он Максутову, вручая пакет. — Я уверен: он будет счастлив исполнить мою просьбу, поелику вы защитили не только Петропавловский порт и Авачинскую губу, не только Камчатский полуостров, а и всю Россию на ее восточных рубежах. Вы защитили честь и славу России. Несите весть о том по всему Отечеству.
Архиепископ расцеловал взволнованного лейтенанта и благословил его на исполнение почетной миссии вестника радости. Так оно и вышло: на всем пути до Петербурга, в каком бы крупном городе Максутов ни останавливался, его рассказ о битве и победе на далекой Камчатке становился главным событием. Всех угнетало отсутствие хороших новостей с театра тянущейся уже второй год войны — что с Севера, где англичане сожгли городок Колу, что с Балтики, что с Дуная, что из Крыма, — поэтому весть с Тихого океана была лучом солнечного света из мрачных туч, а юный лейтенант — живым героем.
Генерал-губернатору лейтенант вручил сразу два пакета: помимо поздравления архиепископа еще и копию рапорта Завойко генерал-адмиралу Константину Николаевичу.
Муравьев, еще не вскрывая конверты, первым делом спросил:
— Скажи главное, лейтенант: мы победили?
— Победили, ваше превосходительство! — с нескрываемой гордостью сказал Максутов.
— Слава богу! Генерал-губернатор обнял и расцеловал покрасневшего лейтенанта. — Слава вам, товарищи!
— Вот… — пробормотал лейтенант, оставаясь в объятиях генерала, — меня и направили с рапортом в Петербург… Генерал-майор Завой ко и капитан-лейтенант Изыльметьев…
— Изыльметьев? — отстранился и наморщил лоб Муравьев. — Не знаю такого.
— Командир фрегата «Аврора», он принял участие в обороне порта.
— А-а, припоминаю. Фрегат должен был прийти к Путятину.
— Так точно! Но из-за болезни многих членов команды зашел в Петропавловск, и генерал-майор Завойко оставил его в помощь гарнизону.
— Узнаю решительность Завойко, — засмеялся Муравьев. — Ладно, лейтенант, спасибо тебе, иди отдыхай. Понадобишься — вызову.
— Согласно предписанию мне надо ехать в Петербург, — возразил Максутов.
— Надо — поедешь. Возьмешь также мое донесение государю и представление на всех героев. Ну, и отпраздновать нужно сие событие. Ступай, дорогой, отдохни, а вечером, в семь часов, жду тебя к ужину.
После ухода Максутова Николай Николаевич вскрыл конверты и, лишь прочитав первые строчки рапорта Завойко, бросился к Екатерине Николаевне.
— Катюша! — ворвался он в будуар жены. Она отдыхала после обеда, сидя в кресле с книгой в руках. — Катенька, я хочу, чтобы мы прочитали это вместе. Рапорт Василия Завойко, вот только сейчас его доставил курьер, лейтенант Максутов.
Екатерина Николаевна захлопнула книгу:
— Скажи сначала: наши победили?
— Наши победили! — восторженно воскликнул Николай Николаевич.
— Ура-а! — закричала во весь голос Катрин. Вскочила, поцеловала мужа и тут же уселась рядом с ним на оттоманку. — Читай!
«18 августа сего года военная эскадра из шести французских и английских судов: трех фрегатов большого размера, трехмачтового парохода, одного фрегата малого ранга и брига стала на якорь на рейде Авачинской губы», — невольно торжественно повысив голос, прочитал Николай Николаевич и удивился: — Я же в это время был еще в Аяне и ничего не знал. Почками приболел и выехал лишь двадцатого, а Завойко уже начал воевать. Представляешь? Вот что значит — нет связи!
— Ну, нет и нет! Читай дальше!
— «С сего числа по 25-е эскадра бомбардировала Петропавловский порт и делала два решительных нападения десанта с целью овладеть городом и военными судами: фрегатом «Аврора» и транспортом «Двина», — находившимися в Малой губе, но нападения неприятеля отражены во всех пунктах, город и суда сохранены». — Муравьев снова остановился, поскольку не мог удержаться от комментария: — Господи! Кучка солдат отразила шесть вымпелов! Откуда силы взялись! — И продолжил: — «Эскадра, потерпев значительные повреждения, потеряв несколько офицеров и до 350 человек, оставив в Петропавловском порте английское знамя десантного войска, 27-го числа того же месяца снялась с якоря и скрылась из вида…»
Они читали долго, вдумчиво. Вместе вспомнили и нарисовали расположение сопок, Малой губы и порта, Николай Николаевич определил, где находились батареи, и похвастался, что еще тогда, в 49-м, лично указывал их будущее местоположение.
— Да ты у меня молодец! — ласково улыбнулась Екатерина Николаевна. — Тебя бы вместо Меншикова главнокомандующим.
— Что поделаешь, тут его величество промахнулся, — скромно отозвался муж под заливистый смех жены. — А вот я с Завойко в точку попал! Только такой и нужен Камчатке губернатор. Какие же они там герои! Какие герои!
— Завойко, правда, твоя большая удача, — серьезно сказала Екатерина Николаевна.
— Не только моя. — Муж помахал вторым конвертом. — Его рекомендация.
— А что это?
— Письмо от его высокопреосвященства Иннокентия.
— Ах, какой замечательный человек! — с чувством сказала Екатерина Николаевна. — Мы редко встречаемся, но каждый раз я готова склонить голову перед его мудростью и каким-то особенным расположением к людям. Что он пишет?
— Еще не знаю. Вот и почитаем.
«С искреннею величайшею радостью честь имею поздравить вас с дивною, славною и нечаемою победой над сильнейшим врагом, нападавшим на нашу Камчатку, — писал преосвященный. — Прежде всего слава и благодарение Господу Богу, даровавшему силу и крепость нашим камчатским героям и благословляющему все ваши благие намерения и начинания! Кто теперь не видит, что если бы вы не сплыли и не сплавили с собою по Амуру хлеб и людей, то теперь в Петропавловске были бы только головни и пепел. И потому не знаешь, чему более радоваться — открытию ли Амура, столь благовременному, или спасению Камчатки, так ясно доказывающему пользу открытия Амура? Затем честь и слава вам как главному виновнику всего этого… Слава богу за все и про все!
Любопытно крайне, что вы намерены теперь делать относительно сохранения Камчатки, людей и славы защиты, ибо я уверен, что Государь Император вполне предоставит это вам, а мне кажется, что гордые и упрямые враги наши во что бы то ни стало постараются уничтожить Камчатку…
Призываю на вас и на все ваши благие дела, начинания и намерения благословение Божие…»
— М-да-а, — задумчиво произнес Муравьев, закончив чтение. — Владыко прав: тут есть над чем поразмыслить. Ну, в этом-то году Камчатке больше ничто не угрожает, а вот чего ожидать в следующем?
— А в следующем, я думаю, тоже будет сплав, — сказала Екатерина Николаевна, — и я обязательно поплыву вместе с тобой.
— Сплав, разумеется, будет, но я планировал занять его переселенцами. Без них амурское дело просто не выживет. Миша Волконский уже ими занимается. Кстати, очень толковый чиновник получается из этого мальчика. Муравьев усмехнулся. — Наверное, прозвучит цинично, но не сослали бы Сергея Григорьевича в каторгу, вырос бы Миша обычным избалованным княжонком, а Сибирь и служба из него нужного Отечеству человека делают. Вот увидишь, он еще далеко пойдет! Да… Так вот, о сохранении Камчатки. — Генерал встряхнул головой. — Мы, конечно, подождем, как Европа отзовется, но полагаю, что ни Англия, ни Франция обиды не стерпят, захотят взять реванш и придут в Камчатку много большими силами и много раньше, чем нынче. И героизм Завойко со товарищи город уже не спасет, а помочь ему я не успею…
Муравьев вскочил и заходил взад-вперед, заложив руки за спину. В будуаре ему было тесно, он цеплялся то за кресла, то за угол столика, но был настолько поглощен размышлениями, что не обращал на помехи никакого внимания.
Екатерина Николаевна молча следила за ним встревоженным взглядом, а потом вдруг просветлела лицом и сказала:
— Выходит, прав Невельской: не может Петропавловск быть главной базой?
— Что?! — вскинулся Николай Николаевич. Развернулся и, словно потеряв силы, рухнул в кресло. — О чем ты говоришь?! Я столько сил положил, чтобы убедить правительство перенести главный порт в Петропавловск, а теперь должен отказаться от своих же аргументов? И как я буду при этом выглядеть в глазах министров, в глазах самого императора?
— Как человек, который руководствуется не упрямством, а здравым смыслом.
— Так ты считаешь, — желчно усмехнулся муж, что я глупый упрямец?
— Ну, почему же глупый? — спокойно возразила Екатерина Николаевна, выдерживая его пронзительно-обиженный взгляд. — Был бы глупый, не смог бы управлять половиной России. И твоя идея с переносом порта была правильной. В свое время. Но все в мире меняется, и человек — тоже. Мы, женщины, чувствуем это быстрее, чем вы. И вам еще амбиции застят глаза, а выглядит это как упрямство. — Катрин пересела на подлокотник кресла мужа и обняла его кудрявую голову. Прижала к груди, зная, как он это любит, и шепнула: — Да я бы глупого никогда не полюбила.
Он затих на некоторое время, наслаждаясь нежностью жены, потом высвободился из ее рук и спросил:
— Значит, ты считаешь, что надо уходить из Петропавловска?
— Ты и сам так считаешь, — улыбнулась она. — Только еще не решил — куда.
— Куда, куда… Конечно, в Николаевский, в устье Амура, — сердито сказал он. И, помолчав, добавил: — Но все-таки подождем, что там скажут в Европе.
4
О том, что сказали в Европе, Иркутск узнал из газет, полученных лишь в середине декабря. Выходило как-то забавно: с одной стороны, французские, а особенно английские, журналисты изо всех сил старались преуменьшить урон, который понесли престиж и амбиции двух империй, с другой смешивали с грязью адмиралов, командовавших эскадрой, не жалея ни «самоубийцу» Прайса, ни старика Де-Пуанта. «Разгром союзной эскадры на Камчатке является исключительным оскорблением имперских флагов», — писала английская «Таймс». Ей вторил журнал «Юнайтед сервис мэгэзин»: «…Две величайшие державы земного шара были осилены и разбиты ничтожным русским местечком». И все сходились в одном, настраивая, соответственно, общественное мнение: оскорбление следует смыть кровью, разумеется, русской. Надо послать более мощные силы и стереть с лица земли этот презренный русский городишко — неслось изо всех углов Европы, и этот глас, вопиющий отнюдь не в пустыне, был услышан и на берегах Байкала.
Поскольку русское правительство, озабоченное войной в Крыму и укреплением обороны Кронштадта и Свеаборга, где укрывался Балтийский флот, то ли не заметило, то ли не приняло во внимание поднявшийся по поводу Камчатки шум во всяком случае генерал-губернатор не получил на этот счет никаких распоряжений — потому решил действовать самостоятельно. Уже не испытывая сомнения в необходимости перевода порта в устье Амура, Муравьев отправил к Завойко своего адъютанта — есаула Николая Мартынова с приказом: как только станет возможно, эвакуировать Петропавловский порт и все население города, кроме тех, кто пожелает уйти в глубь полуострова.
Но это будет позже, сразу после Нового года, а пока, 6 и 7 ноября, Иркутск праздновал камчатскую победу. Всюду были расклеены объявления с кратким содержанием рапорта Завойко; народ высыпал на заснеженные улицы, вспыхивали фейерверки, вывешивались государственные флаги, а главным зрелищем было прокатывание по городу на специальной тройке плененного знамени английского полка морской пехоты. Максутов проговорился, что везет в столицу трофейное знамя, и генерал-губернатор даже возмутился:
— Что же ты молчал, лейтенант?! Его же надо показать всему народу! Ну, ты и скромник! Уж не сам ли его добыл?
Дмитрий Петрович покачал головой:
— Кто чем отличился, о том в представлении генерал-майора сказано…
— Читал, читал и в своем представлении государю всецело его поддерживаю. Только вот меня сомнение берет: а не мало ли за такой подвиг просто повышения в чине? Ведь ваша победа пока единственная в этой войне. Каково твое мнение?
Максутов пожал плечами:
— Лично мне вполне достаточно.
Но генерал-губернатор не согласился:
— За твой бой, как он описан Завойко, тебе «Георгий» полагается, Я непременно отмечу это в своем представлении.
— Благодарю, ваше превосходительство, — щелкнул каблуками лейтенант, а сам подумал: «Вот, кто «Георгия» заслужил, так это брат Александр».
Словно подслушав его мысли, Муравьев кивнул:
— Брат твой покойный Александр, — генерал, а за ним и Максутов, перекрестились, — также, несомненно, получит «Георгия».
Муравьев позвонил. В дверях появился адъютант Сеславин.
— Подполковник, получите у лейтенанта под роспись трофейное английское знамя и организуйте его показ населению города. А ты, лейтенант, собирайся к отъезду. Завтра будут готовы бумаги для генерал-адмирала и государя, получишь прогонные, кстати, по высшему разряду, и — с богом! Да будь осторожней в дороге, а то, я слышал, ты на Мае чуть не утонул, провалившись под лед. Было такое?
— Было, — кивнул Максутов. — Однако Бог миловал, не дал погибнуть.
— На Бога, конечно, надейся, но и сам гляди в оба. Ступай, герой.
Муравьев перекрестил лейтенанта и подтолкнул к двери.
За две недели, получая на почтовых станциях лучших лошадей, Дмитрий Петрович домчал до Москвы, там сел на поезд и на следующее утро вышел из вагона на Московском вокзале Петербурга.
Никто его не встречал. Столица еще была в полном неведении относительно того, что случилось на восточной окраине Российской империи. Лишь через четыре дня придут в Петербург европейские газеты с обсуждением битвы на Камчатке.
И в Главном морском штабе к нему поначалу отнеслись довольно прохладно.
— Что вы лезете к нам с каким-то занюханным Петропавловском, — прорычал ему в лицо штабной капитан первого ранга, адъютант генерал-адмирала, — когда над Севастополем нависла угроза падения? Третье сражение проиграли!
— Ваше высокоблагородие, — твердо сказал Максутов, — у меня пакеты для его императорского высочества генерал-адмирала от генерал-майора Завойко и генерал-губернатора Восточной Сибири генерал-лейтенанта Муравьева. Приказано вручить немедленно по прибытии в столицу. Прошу доложить.
— Нет, вы посмотрите, господа, на настырного лейтенантишку, — обратился адъютант к ожидавшим в приемной офицерам, среди которых были два контр-адмирала и седовласый, с большой лысиной, вице-адмирал. — Вы все спокойно ожидаете приема, а этот гонец в один конец готов двери выломать.
— А вы, драгоценный мой, доложите его императорскому высочеству, — пророкотал вице-адмирал, и только сейчас Максутов узнал Федора Петровича Литке. Четыре года назад тот читал в Морском корпусе лекцию по гидрографии Берингова моря, которое знал как свои пять пальцев. Но тогда у него не было такой обширной лысины, и лицо выглядело куда моложавее; сейчас оно осунулось и посерело, под глазами набрякли темные мешки, а серые глаза, прежде острые и веселые, теперь были блеклыми и печальными. — Ни Завойко, ни тем более Муравьев не станут посылать гонца по пустякам.
— Ну, хорошо, давайте сюда ваши пакеты, — сдался адъютант, видимо, не решившись возразить знаменитому адмиралу, которому, как знал Максутов из газет, поручили оборону Финского залива. «Нелегка, видать, эта ноша, — подумал лейтенант, — ишь, как старика скрутило».
Адъютант скрылся за дверью. Максутов подошел к старому моряку, щелкнул каблуками:
— Благодарю, ваше превосходительство!
— Да что вы, драгоценный мой, что вы! — Федор Петрович встал из своего кресла и отвел лейтенанта в сторону. — Простите великодушно, сына моего, Константина, там не встречали?
Ваш сын — герой! Был адъютантом у Завойко…
— Слава Тебе, Господи! — перекрестился адмирал. — Вы лично с ним знакомы?
— Мы же все друг друга знали, нас и было-то всего ничего. Считая всех: волонтеров, солдат, матросов, артиллеристов, — чуть больше девятисот человек.
— А сила большая на вас навалилась? Небось вместе, англичане и французы?
— Да. Шесть вымпелов. Три фрегата, бриг, корвет и пароход. Десанта было на первой высадке около семисот, на второй — больше девяти сотен.
— Ничего себе! — ахнул адмирал. — А пушек у них было много?
— В три раза более, чем у нас.
— И чья взяла?
— Наша взяла, Федор Петрович! — Максутов не сдержался и широко и радостно улыбнулся. — Выгнали мы их к чертовой матери! Ушли с побитой мордой! О, простите великодушно…
— Да за что же простить, драгоценный вы мой?! — Литке прижал лейтенанта к широкой груди, поцеловал и полез за платком: расчувствовался. Вытер глаза и оборотился к остальным офицерам: — Господа, за всю войну первая радостная весть: наши противники не смогли взять маленький Петропавловск и ушли, как великолепно выразился молодой человек, с побитой мордой. Виват, господа! Ура!
Офицеры не успели поддержать старого адмирала, как из кабинета генерал-адмирала выскочил красный, как рак, вспотевший адъютант:
— Лейтенант! Его императорское высочество вас требует! Немедленно!
Он чуть ли не с поклоном распахнул перед Максутовым дверь, и лейтенант, входя в кабинет, услышал, как он объявил:
— Господа, приема не будет. Генерал-адмирал едет к государю.
Дмитрий Петрович знал из разговоров старших офицеров, что великий князь Константин Николаевич весьма прост в отношениях с моряками, так как царственный отец сразу после рождения определил его в морскую службу, дав ему звание генерал-адмирала, а уже потом, став воспитанником Литке, он прошел все ступеньки этой службы от самой нижней до нынешней верхней начальника Главного морского штаба. Поэтому он почти не удивился, когда его императорское высочество устремился навстречу ему, простому лейтенанту, и заключил его в крепкие объятия.
— Благодарю вас, лейтенант, а в вашем лице выражаю благодарность всем героям Камчатской обороны. Едемте, немедленно едемте в Гатчину, к батюшке. Я уверен: оттуда вы вернетесь уже капитан-лейтенантом и с Георгиевским крестом. И все, абсолютно все получат по своим заслугам. Вы, может быть, даже не осознаете мирового значения вашей победы!
— Отчего же, ваше императорское высочество, очень даже осознаем, — неожиданно для самого себя возразил Максутов. Он вспомнил слова, которые сказал за торжественным обедом генерал-губернатор.
А сказал он так:
— Ваша битва, Дмитрий Петрович, и ваша победа показали всему миру, всем державам, что великая Россия твердо встала на берегах Великого океана и отныне будет стоять здесь вовеки веков.
Вспомнил лейтенант эти слова и повторил их великому князю, но — от себя. Не присвоил их, нет — просто эти слова стали его собственными, идущими от его сердца. А когда чужие слова ты произносишь как свои — выношенные, выстраданные — это значит: они самые правильные.
5
Перед Новым годом в Иркутск приехал Иван Александрович Гончаров. Он крепко задержался в Якутске. Ему хотелось повидаться с преосвященным Иннокентием, этот находился где-то в своей апостольской поездке по необозримой епархии, в которую помимо Русской Америки и Камчатки входила теперь и Якутия. Николаю Николаевичу ждать было некогда, его призывали неотложные дела, и он со своей свитой отчалил вверх по Лене, а Гончаров остался. Почти на три месяца. Нет, владыко приехал гораздо раньше, всего через месяц, писатель же времени зря не терял. Он перезнакомился со всем якутским обществом — областными чиновниками, армейскими и казачьими чинами, купцами, учителями уездного училища и казачьей школы, — у всех перебывал в гостях, да не по одному разу, наслушался рассказов о житье-бытье в этих суровейших краях, покатался на оленях и собаках, пережил и мороз, и пургу — в общем, набирался впечатлений для будущей литературной работы. В первую очередь представился, конечно же, губернатору Григорьеву Константину Никифоровичу, пятидесятипятилетнему крепышу с обветренно-красным округлым лицом и хитроватыми глазами. Губернатор, истый петербуржец по складу характера, достаточно умный чиновник-канцелярист по служебному опыту, за три года губернаторской службы под требовательной рукой Муравьева в некоторой степени избавился от столичной чиновной, пропитанной ленцой, вальяжности, но все равно, на взгляд Гончарова, не очень-то соответствовал тем задачам, которые ставил перед своими подчиненными генерал-губернатор. Муравьев, по его мнению, сам подавал пример силы воли, твердого характера, бодрости, уверенности в своих устремлениях и ждал того же от других, но увы — далеко не все могли и хотели соответствовать этим ожиданиям. Более того, тихой сапой сопротивлялись и при случае старались сунуть ему те самые bâtons dans les roues — палки в колеса. Григорьев, пожалуй, не был исключением, что позже с горечью отметил писатель.
Но тогда, при знакомстве, он с любопытством всматривался в каждого, с кем доводилось повстречаться. Губернатор был искренне рад свежему человеку, тем более известному писателю. Иван Александрович даже было возгордился: вот в каких медвежьих углах его читают, — однако Константин Никифорович, простая душа, проговорился, что читать Гончарова не читал, но вот генерал-губернатор весьма сильно его нахваливал, а генерал-губернатору можно верить.
Он же, Константин Никифорович, привез писателя к преосвященному сразу же по возвращении того из путешествия. И очарованность Ивана Александровича святителем была столь велика, что и через 30 лет, описывая свои впечатления от той встречи, Гончаров не скрывал восхищения могучим старцем. Могучим не только телом, но — душой, духом, воспаряющим к Царю Небесному. Окончательно же покорило Ивана Александровича то, что всюду, где архиепископ окормляет паству Божьим словом, он стремится делать это на родном языке прихожан. Прослужив 25 лет в Русской Америке, владыко Иннокентий лично перевел на один из алеутских языков Священное Писание, а возглавив якутскую кафедру, создал комитет по переводу священных и богослужебных книг на якутский язык. Мало того, и сам стал учиться якутскому; вскоре в кафедральном соборе во имя Живоначальной Троицы зазвучала служба на якутском языке, и число прихожан стало быстро расти.
— Вот таким и должен быть настоящий апостол! — сказал Гончаров губернатору, и тот, много послуживший и достаточно трезво, если не цинично, судивший о людях, почтительно с ним согласился.
Многое в Якутске приводило писателя в восторг, и он неспешно заполнял свои тетради заметами острых наблюдений:
«Вот теперь у меня в комнате лежит доха, волчье пальто, горностаевая шапка, беличий тулуп, заячье одеяло, торбасы, пыжиковые чулки, песцовые рукавицы и несколько медвежьих шкур для подстилки. Когда станешь надевать все это, так чувствуешь, как постепенно приобретаешь понемногу чего-то беличьего, заячьего, оленьего, козлового и медвежьего, а человеческое мало-помалу пропадает…
Все это надевается в защиту от сорокаградусного мороза. А у нас когда и двадцать случится, так по городу только и разговора, что о погоде… «У вас двадцать хуже наших сорока», — сказал один, бывавший за Уральским хребтом. «Это отчего?» — «От ветра. Там при пятнадцати градусах да ветер, так и нехорошо; а здесь в сорок ничто не шелохнется — ни движения, ни звука в воздухе, над землей лежит густая мгла, солнце кровавое, без лучей, покажется часа на четыре, не разгонит тумана и скроется». «Ну а вы что?» — «А мы ничего, хорошо — только дышать почти нельзя: режет грудь».
«Несмотря, однако ж, на продолжительность зимы, на лютость стужи, как все шевелится здесь, в краю! Я теперь живой заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы… И все тут замешаны, в этой лаборатории: дворяне, духовные, купцы, поселяне — все призваны к труду и работают неутомимо. И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и так же не допытается, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне… Создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом…»
С этими чувствами писатель отправился по зимнему тракту в столицу Восточной Сибири, по дороге сильно обморозился, несмотря на все то утепление, описанное им в своих заметках, а потому неделю лечился примочками винной ягоды с молоком и явился «ко двору» генерал-губернатора с поздравлением лишь в первый день нового, 1855 года.
В приемной зале собралось много офицеров, чиновников, купцов. Николай Николаевич вышел в парадном мундире, при всех орденах — а их оказалось ни много ни мало — 13, из них свежайший — Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, за отличную службу, неутомимую деятельность и особые труды, доставленный курьером перед самым Новым годом. Генерал-губернатора поздравляли не только с праздником, но и с награждением одним из высших орденов империи. Этого ордена в Сибири не удостаивался никто, видимо, поэтому поздравители нет-нет да и вперяли свои взгляды в алую ленту через левое плечо, рубиновый крест с золотыми орлами и большую серебряную звезду выше всех остальных звезд на левой стороне груди. И все замечали, как искренне радуется поздравлению с наградой прежде суровый и, казалось, неприступный главноначальствующий края.
— Благодарю, господа… благодарю… — говорил он с улыбкой, пожимая руки подходящим. И вдруг увидел Гончарова, скромно стоявшего за спинами чиновников, и сам пошел к нему с распростертыми объятиями, одним своим устремлением раздвигая своих подчиненных на две стороны — так фрегат раздвигает носом битый лед ранней весной или поздней осенью. — Иван Александрович, дорогой, как я рад, как я рад возможности снова вас видеть и даже, если позволите, обнять сердечно! — Муравьев заключил писателя в объятия и троекратно поцеловал. — Сегодня же пожалуйте ко мне на обед. Боже, как будет рада Екатерина Николаевна! Я ей про вас все уши прожужжал. — Господа, — обратился он ко всем присутствующим, — позвольте представить вам знаменитого писателя земли Русской — Ивана Александровича Гончарова. Прошу любить и жаловать. Надеюсь, от приглашений у него не будет отбоя, так, чтобы он как можно дольше задержался в наших палестинах.
По зале пронесся шумок, кто-то зааплодировал, его тут же поддержали, и покрасневшему писателю оставалось только благодарно раскланиваться во все стороны.
Муравьев вдруг посуровел лицом, так, что побелел кончик носа, и спросил Ивана Александровича:
— Отчего это нет почты из Аяна?
Тот на мгновение смешался, не понимая, какое отношение к нему имеет почта, однако вспомнил, что Григорьев сказал ему накануне отъезда: мол, какой-то казак якута убил и сбежал, и его теперь все ищут; вспомнил и полушутя-полусерьезно ответил генерал-губернатору:
— Да им там не до почты. Весь город, губернатор и архиерей заняты тем, что убили якута и…
— Вот ведь как странно, — остановил его Муравьев, не принимая выбранного тона. — Они все озабочены убийством, какие случаются чуть ли не каждый день, но их не волнует, что почта не приходит в срок, то есть то, что недопустимо! Нет, надо немедленно отправить офицера в Аян, чтобы выяснить, почему нет почты.
«То ли он ждет каких-то особых известий, — подумал Гончаров, — так главные о Камчатке — уже давно пришли, то ли просто обеспокоен нарушением порядка в таком важном деле, как почтовая связь. Даже если она приходит всего два раза в год. Хотя впечатления педанта генерал не производит».
Однако долго раздумывать над странным поведением генерала ему не дали: стоило Муравьеву отойти, как Ивана Александровича окружила толпа «почитателей» с поздравлениями и приглашениями на обед или ужин.
А Николай Николаевич действительно беспокоился о делах на Амуре: все ли успел Невельской сделать из того, что ему было наказано, — как-никак на зимовку там остались около тысячи человек и, если продовольствия сплавили достаточно, то с жильем далеко не все обстояло благополучно. Но офицера в Аян он собирался отправить вовсе не из-за почты та рано или поздно все равно придет, генерал-губернатор получил письмо от князя Орлова о раскрытии французского шпиона в окружении Невельского, с рекомендацией немедля взять его под стражу, сообщив о том в Петербург, и держать до прибытия дознавателя.
А второго офицера, своего адъютанта, есаула Мартынова, Муравьев отправлял в Камчатку с полученным из столицы высочайше утвержденным представлением на награждение участников обороны[81], но главное — со своим приказом Завойко о секретной перебазировке Петропавловского порта со всем имуществом и населением в устье Амура, в связи с угрозой нового нападения англо-французского флота.
Генерал-губернатор не знал, что в застрявшей где-то почте находится письмо Невельского от 26 октября, полное тревоги за судьбу Петропавловска. «Осмеливаюсь доложить Вашему превосходительству, — писал контр-адмирал, — что в случае продолжения войны сосредоточение в Николаевском всего, что находится ныне в Петропавловске и Японии, по моему мнению, должно составлять нашу главную заботу. Если мы вовремя это сделаем, то какие бы превосходные неприятельские силы здесь ни появились, они никакого вреда сделать не могут, потому что банки лимана, полная неизвестность здешнего моря, расстояние в не одну тысячу миль, отделяющее их от сколько-нибудь цивилизованных портов; леса, горы и бездорожное, пустынное побережье Приамурского края составляют крепости, непреоборимые для самого сильного врага, пришедшего с моря. При сосредоточении в Николаевском судов, людей и всего имущества Петропавловского порта единственный неприятель, с которым неминуемо придется бороться, это мороз и пустыня, но чтобы победить их, необходимо, чтобы все наши силы были обращены на своевременное устройство просторных помещений и на полное обеспечение (из Забайкалья по Амуру) сосредоточенных здесь людей хорошим и в избытке продовольствием, медикаментами и необходимой здесь теплой одеждой… Если мы победим этого врага, внешний враг для нас будет уже не страшен, ибо, прежде чем добраться до нас, ему придется встретиться с негостеприимным и богатым банками лиманом, в котором он или разобьется, или же очутится в совершенно безвыходном положении. Он не решится также без пользы терять людей, высаживая десанты на пустынные берега Приамурского края. Таким образом, война здесь будет кончена со славой, хотя и без порохового дыма и свиста пуль и ядер, — со славой, потому что она нанесет огромный вред неприятелю без всякой с нашей стороны потери: неприятель будет всегда в страхе, дабы суда наши не пробрались отсюда в океан для уничтожения его торговли. Он будет вынужден блокировать берега Татарского пролива и южной части Охотского моря… что принесет нам огромную пользу, так как, блокируя побережье пролива, а следовательно, и весь Приамурский и Приуссурийский края, неприятель тем самым фактически признает их русскими».
Все-таки, несмотря на нарастающие расхождения, в главном они оставались единомышленниками и, даже не соглашаясь, приходили к одному решению.
Глава 7
1
Офицером, которого отправил Муравьев в Аян и далее, к Невельскому, был Иван Вагранов. Он сам напросился в эту командировку.
— Николай Николаевич, хватит мне киснуть без настоящего дела, — убеждал он генерал-губернатора.
— Что значит «без настоящего дела»? — возражал Муравьев. — Ты много чего сделал для первого сплава, «Владимира» четвертой степени получил, а у тебя сын растет без матери, надо ему больше внимания уделять. Когда вы с нами жили, так тут Лизавета с Флегонтом Васятке и тетушкой и дедушкой были, а ушел на съемную квартиру — кто там приглядит?
— Есть кому приглядеть, — неожиданно смутился Вагранов.
— Ну-ка, ну-ка, — ухватился за его смущение генерал, — что там у тебя за новости такие?
Новости у Ивана Васильевича были, но он полагал, что не пришло еще время возвещать о них «городу и миру»[82]. Это выражение он услышал от Элизы в их первую ночь, когда они расслабленно лежали в постели, она лукаво шепнула: «Тебье нравится?» — и он, не удержав восторга, воскликнул: «Ты — чудо!» Элиза засмеялась и сказала: «Я знаю, но зачьем кричать городу и миру?»
…Как только Вагранов в свите Муравьева вернулся в Иркутск, он тут же подхватил Васятку и отправился в гости к Черныхам. Соскучившийся сын сидел на руках отца, крепко обнимая его за шею, ворковал ему в ухо о каких-то своих делах. Иван Васильевич плохо его слушал, погруженный в свои переживания. А переживал он оттого, что не мог понять, что же его клюнуло в сердце и заставило сорваться и почти бежать, рискуя грохнуться вместе с сыном на обледенелых дощатых мостках, по Подгорной улице в сторону Успенской церкви.
Дома у Черныхов Анна Матвеевна нянькалась с полуторагодовалым Семкой, Аникей был на службе.
— А Настена где? — едва поздоровавшись, спросил Вагранов.
— Захворала наша Настена, — вздохнула Анна Матвеевна. — В горячке лежит.
— Доктора вызывали?
— Да какой, батюшка, дохтур? Фершал казачий приходил, лихоманка, грит, ее трясет. Велел уксусом обтирать и тепло укрываться. Ежели, грит, Бог милостив, все пройдет. А у ей не проходит. — Анна Матвеевна вытерла уголком головного платка выступившие слезы.
— Анна Матвеевна, приглядите за Васяткой. — Вагранов спустил сына с рук. — Я за доктором.
— Папаня! — заорал Васятка, — я с тобой хочу-у-у…
— Сынок, побудь с бабушкой, я скоро вернусь. — Вагранов выскочил за дверь и бегом-бегом помчался на Преображенскую — там, возле Хлебного базара, жил доктор Персин. По пути поймал извозчика.
Иван Сергеевич, по счастью, оказался дома, отдыхал после обеда. Слуга попытался не пустить штабс-капитана, но Вагранов просто отшвырнул его в сторону и решительно прошел в гостиную, где на диванчике расположился доктор. Иван Сергеевич спал, прикрыв лицо газетой. Видимо, услышав стук каблуков по паркету, откуда-то вынырнула сухонькая седоватая женщина — жена или экономка? — и зашипела на непрошеного посетителя, но Вагранов глянул на нее бешеными глазами, и она стушевалась, ускользнув за тяжелые гардины.
— Иван Сергеич, — тронул доктора Вагранов, — проснитесь, ваша помощь нужна. Горит человек…
Персин сбросил газету и сел:
— Что такое? Где горит? — сердито спросил он, протирая глаза, но узнал Вагранова и закивал: — Здравствуйте, сударь мой, что случилось?
Иван Васильевич путано объяснил, однако доктор, видимо, понял, потому что молча собрался, отмахнулся от слуги, который, подавая шубу, начал было жаловаться на Вагранова, и вслед за штабс-капитаном вышел к дожидающемуся извозчику.
Все это время когтистая лапа сжимала сердце Ивана Васильевича и отпустила лишь к вечеру, когда доктор дал Настене какие-то порошки, и лихоманка отпустила молодую женщину: ее перестало трясти, выступила испарина и пришел благодатный сон. Доктор велел, как проснется, больше давать питья — клюквенного или брусничного.
— И пропарьте ее в бане, — сказал он перед уходом Макару Нефедычу, отцу Настены. — Лучше всего пихтовым веником.
Вагранов, который сидел на кухне, пока Персин осматривал и пользовал Настену, проводил его до извозчика, поблагодарил и рассчитался с ним и извозчиком, терпеливо ждавшим у ворот.
— Вы, Иван Васильевич, особо-то не переживайте, — сказал доктор, усаживаясь в санки. — Завтра-послезавтра ваша девушка будет как огурчик.
— Она не моя девушка, — смущенно отозвался Вагранов.
— То-то я не вижу, сударь мой, — засмеялся Иван Сергеевич. — Все бы так за чужих девушек переживали. — И ткнул в спину извозчику: — Трогай, братец…
Вагранов вернулся в избу, размышляя над словами доктора. Да, Настена не его девушка, но это — сегодня, а что будет завтра — одному Богу известно. Сейчас ясно одно: как-то незаметно она заняла в его жизни большое место, и оно, это место, становится только больше. Сердце у него окончательно отпустило, тревога за Настену улеглась, и он вдруг вспомнил о сыне. С порога метнулся назад, на улицу, но тут же передумал; случилось бы что, Анна Матвеевна была бы уже тут.
Макар Нефедыч сидел на лавке, прижимаясь спиной к теплому зеркалу русской печи, и вздыхал.
— Чем недовольны, Макар Нефедыч? — поинтересовался Вагранов.
— Как же ее парить? — удрученно произнес Нефедыч. Произнес как бы про себя, но Вагранову показалось, что вопрос направлен непосредственно ему, и откликнулся:
— А что такое?
— Дык нести ее, стал-быть, надобно в баню-то, а у меня спина не разгинается. Да и пар дыхалка моя не переносит.
— Ну, баню сперва истопить надо, а уж потом нести.
— Дык баню топить — не в тайге белковать. Дрова с берёстой уложены, огонь запали — через час и готово. А вот девку донести да попарить… Старуху-т мою Бог прибрал, а Матвевна — говнушка[83], чё с нее взять.
Вагранов вдруг поймал хитроватый взгляд Нефедыча из-под кустистых бровей и ему стало жарко: он понял, на что намекает старый хрыч и куда, в конечном счете, дело ведет. А что, может, так вот разом и завязать узелок? Как тогда, прошлой зимой, Васятка сказал? «Пусть она будет пашей мамой»? И Настена смутилась, зарделась, убежала… Но это — тогда, а что — сейчас? Уже почти год миновал и за это время не довелось ни разу увидеться. Дел, конечно, было выше головы, но выкроить два-три часа не составило бы труда. Однако, честно, хоть и хотелось встретиться, но что-то удерживало, робость какая-то непривычная. С Элизой все было гораздо проще, а ведь тоже началось с того, что на помощь пришел…
— Чё молчишь, капитан? — не выдержал Нефедыч. — Смогёшь девку попарить?
— А вдруг она после этого меня возненавидит? — кое-как преодолев неловкость, спросил Вагранов.
— Возненавидит? — искренне удивился Нефедыч. — С чего бы? Мне Матвевна сказывала: Настюха у Аникея все про тебя выпытывала. Взглянулся ты ей. Однако счас ты с орденом-то дворянин потомственный, можа, и глядеть на казачку не хошь?
Вагранов потрогал алый эмалевый крест, висевший на груди на красно-черной муаровой колодке — орден Святого Владимира четвертой степени полагалось носить постоянно, — грустно усмехнулся:
— У потомственного дворянина Вагранова в кармане вошь на аркане. Это на меня Настена глядеть не захочет.
— Хлюздя ты удовелый[84], — укоризненно сказал Нефедыч. — Иди давай, разжигай печурку.
Через час, когда банька на огороде Путинцевых набрала жару, а пихтовые веники были запарены в бадье с кипятком, Иван Васильевич снял мундир, оставшись в белой нательной рубахе, надел шинель, аккуратно завернул Настену в ватное одеяло — она еще спала, — поднял ее, удивительно легкую, на руки и вышел в ночь. Вдохнул пропитанный легким осенним морозцем воздух, стараясь успокоить бешено стучавшее сердце, и осторожно, чтобы не поскользнуться на обледеневшей тропке, зашагал к бане.
Молоденький тонкий месяц висел на западе, света от него было очень мало, но в слюдяном оконце бани теплилась свечка, и Вагранов шел на нее.
Настена проснулась, когда он вошел в маленький предбанник и попытался усадить ее на лавку. Проснулась и вскрикнула от испуга.
— Не пугайтесь, Настенька, — сказал Вагранов как можно ласковей. — Мы в бане. Доктор велел вас пропарить.
— А почему… почему вы тут?
— Больше некому, — смущенно сказал Вагранов. — Ваш отец попросил…
— Тятя?! Попросил?!
— Ну да. Велел протопить баню и пропарить… вас…
Наступило молчание. Настена сидела, закутавшись в одеяло, Иван Васильевич растерянно топтался перед ней. Прошло несколько минут.
— Я сама пойду. — Настена попыталась встать и, как подкошенная, рухнула обратно на лавку. Вагранов едва успел поддержать ее, чтобы не свалилась на пол.
— Голову обнесло, — жалобно сказала она.
— Давайте так, — сказал Иван Васильевич. — Я занесу вас на полок. Там света нет, вы разденетесь и ляжете, а я вас попарю веничком и окачу. Вы вытретесь, наденете чистую рубашку, — я принес и рубашку, и полотенце, — и я вас отнесу в избу. Идет?
Она тихо засмеялась:
— Вы меня так вот, в шинели, и будете парить?
— Да нет, разденусь… до исподнего… А вы в рубашке…
— Иван Васильевич, спросила вдруг она, — я вам глянусь?
От ее такого простого вопроса у него занялся дух.
— Очень, — сдавленно пробормотал он.
— А я все время про вас с Васяткой думаю, — голос ее трепетал, как огонек свечи от движения воздуха, — как вы там с мальчонкой управляетесь? Как ему без мамки живется?
— Скучает… А я в разъездах… Вот все лето на Амуре был…
— Дядя Аникей говорил…
— Настенька, — неожиданно для самого себя решился Иван Васильевич, — выходите за меня… замуж… У меня, правда, ничего нет, кроме офицерского жалованья да вот теперь дворянства, но я буду любить вас с Семкой до скончания жизни. А?
Настена смотрела на него со странным выражением лица, словно всматривалась в глубину глаз — он их не отводил, — а через них — в самую душу.
— Я помню, что сказал Васятка прошлой зимой, — наконец сказала она. — А вы помните? — Вагранов кивнул. Она легко вздохнула. — Значит, так тому и быть.
— Спасибо, Настенька! — от волнения нахлынули слезы, сдерживая их, он говорил с трудом.
Она улыбнулась?
— За что?
— За все, за все!
Вагранову хотелось схватить ее, прижать к себе крепко-крепко и держать так всю жизнь, не выпуская. Она, словно почувствовав, потянулась к нему, одеяло сползло, ее опять шатнуло, и он опять подхватил ее, теперь уже на руки (она обняла его за шею, прижалась щекой к его щеке), и внес в парную темноту, путаясь в свисавшем к ногам одеяле. Усадил вслепую на полок, подобрал это чертово одеяло, сказал:
— Раздевайтесь, я сейчас, — и выскочил обратно в предбанник.
Прислонился спиной к двери, успокаивая дыхание. Руки хранили невесомую тяжесть ее гибкого тела, нежность которого не могли скрыть одеяло и рубашка; он с удивлением, словно впервые, посмотрел на свои ладони и пальцы и начал раздеваться. Спеша, в нетерпении чуть не отрывая застревавшие в петлях пуговицы. Оставшись в белых подштанниках, решительно рванул дверь и вошел в жаркую духоту парной. Темнота снова ударила по глазам, ослепила, и он заморгал, торопясь к ней приспособиться. Помогли горячие угли в печурке: от них сквозь щели от неплотно прилегающей дверцы истекал розовато-оранжевый свет; в этом призрачном свете он разглядел на верхнем полке Настену. Она постелила на доски рубашку и лежала на животе, повернувшись лицом к двери. Он не видел ее глаз, но знал, что она смотрит на него.
— Раздевайтесь совсем, — тихо сказала она, — не то замочите исподнее, а сухой замены нет.
Когда Вагранов вернулся к Черныхам, Аникей и Анна Матвеевна пили на кухне чай. Васятка и Семка спали на печи, на лежанке.
— Садитесь, ваше благородие, сливанцу выпейте, — пригласил Аникей. — Матвевна, налей.
Пока Вагранов снимал шинель, Анна Матвеевна налила большую кружку сливана, томленого в русской печи.
— Как он, — кивнул Иван Васильевич на лежанку, — не сильно вам надоел?
— Да ну-у, — расплылась в улыбке Анна Матвеевна. — Не мальчонка, а чарпел[85] яровной, все гимизит и гимизит[86]: то ему покажи да энто расскажи… Да бежкий[87] такой, вертячий…
— Хороший парень, — оборвал жену Аникей. — Скажите лучше, ваше благородие, как там Настена?
— С Настенькой все в порядке. — Не заметив, как при слове «Настенька» переглянулись Черныхи, Вагранов взялся за кружку, отхлебнул: — Ух, хорош! Доктор ее осмотрел, дал порошки, велел в бане попарить. Теперь спит. Завтра, наверное, встанет.
— А кто ж ее парил? — осторожно спросил Аникей.
— Я, — просто сказал Иван Васильевич.
Анна Матвеевна от неожиданности икнула и испуганно прикрыла рот рукой. Аникей не донес свою кружку до рта, крякнул и поставил ее на стол. И оба вопросительно уставились на Вагранова.
— Да, еще, — продолжил тот, — я просил Анастасию Макаровну стать моей женой. Она согласна. И Макар Нефедыч не против. Так что где-нибудь перед Великим постом обвенчаемся.
Черныхи глянули друг на друга и враз перекрестились с шепотом: «Слава те господи!»
— И, наконец, последнее: вы не сдадите мне комнатку? Хочу уйти с Васяткой из Белого дома. Надоело быть приживалом, да и стыдно как-то…
— А Николаич отпустит? — кашлянув, спросил Аникей. — Вы ведь, ваше благородие, им как бы заместо братальника[88] названого?
— Отпустит, — не очень-то уверенно ответил Вагранов. — Я ему все объясню… позднее. А пока так и скажу: не хочу, мол, быть приживалом. Он же не всегда будет генерал-губернатором. Выйдет на пенсию — зачем ему я? Было б у них свое имение — куда ни шло…
— Ну да, — поразмыслив, сказал Аникей. — А насчет комнаты — Семенова половина свободна, занимайте с Васяткой. Матвевна, надо будет, завсегда за им приглядит.
— А какова ваша цена?
— Кака там цена! Живите на здоровье. С Настеной обженитесь — вот и будете нам, старикам, в радость. Будто бы Семка женился! Так ить, мать?
— Так, так, — закивала Анна Матвеевна, вытирая памятные по Семену слезы. — У тебя, Васильич, из родовы кто есть?
— Никого, — помотал головой Вагранов. — отец на охоте пропал, и матушка вскорости за ним ушла. А братья-сестры малыми померли.
— Значит, будешь нам заместо сына. Ежели не против? Васятка, вон, нас уже бабой-дедом кличет…
— А не староват я для сына? — усомнился Вагранов. — Вы ж меня ненамного старше.
— Чаво их, года-то, считать? Главное — что у тебя тута, — Аникей постучал кулаком по груди.
Вагранов встал, поклонился в пояс:
— Тогда зовите меня просто Иваном. А я, если вы согласны, буду называть вас батей и маманей.
2
Вот такие были новости у штабс-капитана Вагранова. Выслушав их, Муравьев только головой покрутил. Спросил:
— И когда же венчаться думаете?
— Да вот, как вернусь из командировки, так и попрошу вашего согласия.
— Хитер бобер! — засмеялся генерал. — С Элизой жил — согласия не спрашивал. — И посерьезнел: — Да, ты прав, Иван Васильевич, семья нужна. Она — главная в жизни опора. И любовь нужна. Есть любовь — все получается, а нет ее — так ничего и не выходит или даже рушится. Ладно, отправляйся в командировку, да не задерживайся там. Пусть эту историю Невельской сам расхлебывает. Пригрел, понимаешь, змею на груди! И ведь ни словом мне не обмолвился, что вольнонаемный у него появился, да к тому же со связями в Париже. Слишком много воли взял контр-адмирал!
— А может, мне последить за этим Любавиным? — предложил Вагранов, а про себя подумал: «Оказывается, не одна Элиза собирала сведения об Амуре, вот и какой-то Любавин обнаружился, так что карты могли и уйти. Сказать об этом генералу? Нет — слишком непредсказуемы последствия…»
— И что ты хочешь выследить? Ну, ходит художник, рисует — и что? Каждый может рисовать, если способности и желание имеются, — никто не запретит. А вот карты — совсем другое дело! К картам можно допускать только проверенных людей, а Невельской показал себя таким разгильдяем — уму непостижимо! Нет, пускай сам этого «художника» разоблачает, сажает под арест и ждет дознавателя из Петербурга. А ты, мой дорогой, передашь все, что надо, почту заберешь и — домой, к невесте. Кстати, когда ее нам с Екатериной Николаевной представишь?
— Вернусь и представлю.
— Ну, ладно. Поезжай с богом!
Аянскую почту Вагранов повстречал в Усть-Куте. Ее задержали многодневные бураны на Юдомо-Майском нагорье и в горах Улахан-Бом. Сам он преодолел этот участок тракта вполне сносно и в конце февраля прибыл в Аян. Лед на море стоял прочно, торошения не было, и собачья упряжка, управляемая тунгусским каюром, легко бежала на юг вдоль береговой линии. От нечего делать Вагранов учился управлять собаками вдруг когда-нибудь пригодится. Тунгус хорошо говорил по-русски, ему нравилось учить русского офицера, а еще больше нравилось лежать на нартах, лениво подремывая и иногда подсказывая новоявленному «каюру», как следует поступить в каком-нибудь сложном случае.
Очень тогда удивился бы Иван Васильевич, если бы ему сказали, что всего через 10 месяцев приобретенные в этой поездке умения сослужат чрезвычайно важную спасительную службу ему самому и генерал-губернатору с его супругой. Но он ничего подобного не предполагал, а потому всю долгую дорогу до Петровского зимовья возился с собаками и думал о Настене и Васятке, самых дорогих ему людях. К маленькому Семке он еще душой не прикипел, хотя мальчонка уже начал к нему тянуться и однажды даже назвал тятей. А может, просто показалось: сказал «дядя», а послышалось «тятя»? Впрочем, размышлял Иван Васильевич, уж коли послышалось — значит, ожидал он этого слова от мальца-несмышленыша, значит, скоро будет у него два сына. Был Семка Путинцев, станет Семеном Ваграновым — уж не обессудьте, Анна Матвеевна и Аникей Ефремович. Все равно его бы Черныхом не записали…
По ледовому пути не было ни одной станции; дневки для отдыха и кормежки собак устраивали где-нибудь в естественном укрытии, но каждая ночевка становилась проблемой — слава богу, если попадались стоянки рыбаков, но чаще каюр разворачивал вокруг костра походный чум (он, свернутый, был на нартах основным грузом), и люди спали в нем вперемешку с собаками. К великому счастью путешественников, ветер, постоянно забавлявшийся с поземкой, ни разу не разыгрался до бури, и не случилось ни одного снегопада. Позже, в Николаевском, Вагранова за такую необъяснимую снисходительность природы офицеры назовут фаворитом зимы: ни один старожил этих мест не мог похвастать подобной везучестью.
В Петровском зимовала шхуна «Восток», но из 35 человек экипажа тут жили всего лишь 15 матросов во главе с боцманом Чуфаровым (осенью покалечился прежний боцман, и Невельской предложил Римскому-Корсакову взять на эту должность старшего матроса). Остальные перебрались в Николаевский.
Первый раз за полтора месяца ночуя в нормальных человеческих условиях, в теплом домике Невельского, Иван Васильевич самым банальным образом проспал, а потому махнул рукой — никуда этот шпион Любавин не денется — и остался еще на одну ночь в гостеприимном зимовье, в веселом кругу матросов, где заводилой был боцман. Узнав, что Чуфаров и половину кругосветки прошел, и в Амурской экспедиции послужил, Вагранов попросил его рассказать что-нибудь интересное. Упрашивать Митяя не пришлось — у него самого язык чесался чем-нибудь да поделиться, благо слушатели были наивнимательнейшие, и он поведал красочную историю о том, как, открыв Амур, они выловили огромную калугу.
— Пудов на сорок-пятьдесят, не мене! Царь-рыба! Инако не скажешь!
— Да как же вы такую агромадину выташшили? В ей же силы немерено! — усомнился один из матросов.
Митяй обвел веселым взглядом лица слушателей:
— Ждете небось да втихаря радуетесь: ну, щас боцман заплетет три шквала в одну бурю… да? А я так скажу: не знаю. И никто не знает! Может такое быть: чтой-то случилось, а как, почему — никому не известно? Может! Вот и у нас тогда этак: вытягнули из воды царь-рыбу, и сами не ведаем как.
Матросы разочарованно зашумели, Вагранов же подумал: а ведь и верно, может такое случиться, что и знать не знаешь, ведать не ведаешь, откуда что взялось. Вот его любовь с Настеной как раз из таких случаев.
И знакомы толком не были, и встречались всего-ничего, а р-раз словно Бог своим кресалом высек искру из души, и занялся огонь нешуточный. Вот уж действительно — слава Богу!
Напрасно Иван Васильевич был так уверен в отношении Любавина: мол, никуда он здесь не денется. Делся. Как раз накануне прибытия штабс-капитана в Николаевский художник вместе с Невельским уехал на мыс Лазарева, где была поставлена батарея из пушек, снятых с фрегата «Паллада». Сама «Паллада», вернее, то, что от нее осталось — а ее лишили не только вооружения, но и такелажа и парусов, — зимовала в Императорской Гавани под присмотром боцмана Синицына с 10 матросами; по приказу Путятина в остов фрегата заложили несколько бочонков пороха на случай, если неприятель захочет взять «Палладу» как трофей — тогда Синицын должен взорвать их, по возможности вместе с неприятелем.
Надолго ли уехали Невельской и Любавин, мичман Разградский, принявший пакет для контр-адмирала, сказать не мог. Вагранов осторожно попытался расспросить о художнике — что за человек, откуда взялся да хорошо ли рисует, но мичман пожал плечами:
— Художник он, пожалуй, неплохой, портреты получаются удачные, в командировки его охотно берут, где надо зарисовки делать. А человек приятный во всех отношениях, хотя не очень-то разговорчив и застолий избегает. Может быть, потому, что в застольях офицерских какие разговоры — о войне да о женщинах, особенно у нас, где женщин раз-два и обчелся, а у него, видать, по этой части какая-то драма случилась…
Мичман был рад свежему человеку и что-то говорил, говорил — Вагранов слушал вполуха: досужие разговоры его всегда тяготили, а тут еще тянуло пройтись по поселку. Он помнил, как выглядел Николаевский, когда он попал сюда после сплава, и теперь был несказанно удивлен тем, сколько успел сделать Невельской для обустройства поста. Раньше тут стояло три дома — казарма на 25 человек, пакгауз и офицерский флигель. Теперь к ним добавились две большие казармы, в одной разместили походную церковь, снятую с фрегата «Паллада», лазарет, швальню и экипаж «Паллады», в другой — нижних чинов Амурской экспедиции. В новых трех флигелях поселили офицеров и семью священника, флигель отвели для гауптвахты, казначейства и канцелярии и флигель для инженера; построили также магазины, кузницу, мастерскую, эллинг, на котором строилась шхуна «Лиман», и сарай для починки гребных судов. Срубили 12 домиков для женатых чинов, магазин и помещение для приказчиков и товаров Российско-Американской компании. В первом двухэтажном доме на первом этаже открылась большая зала-столовая, а на втором, в комнатах на одного-двух человек поселились офицеры-холостяки. Николаевский теперь выглядел как небольшой городок, правда, посреди единственной улицы торчали пни, которые не могли прикрыть даже обильные снегопады. Всеми строительными работами руководил мичман Александр Петров, амбициозный, вечно чем-то недовольный молодой человек, но дело он поставил неплохо. Единственным, хотя и очень крупным, недостатком нового жилья было то, что строилось оно из сырого леса, но никто бы и не подумал обвинять в том самих строителей — кто же мог предугадать, что буквально в один-два месяца население поста увеличится почти на тысячу человек — за счет прибывших со сплавом и экипажей зимующих кораблей.
Конечно, хватало трудностей, были и больные (которые с появлением свежей весенней зелени стремительно выздоровели, но этого Вагранов уже не узнал). Однако жили весело и задорно. Сами валили лес, которого вокруг хватало в избытке, пилили, строгали, ставили срубы, крыли крыши; сами охотились и ловили рыбу; сами разворачивали торговлю с аборигенами, которые, оценив, что никто их не обманывает и не грабит, охотно потянулись к русским со своими нехитрыми товарами — той же рыбой, олениной, дичью, кабанятиной, грибами да ягодами; довольны были торговлей и новыми порядками и маньчжурские купцы.
Работали все не покладая рук и в развлечениях участвовали тоже все: устраивали игры, маскарады, катание с горок, гонки собачьих упряжек; в столовой организовали театр, от желающих стать артистами не было отбоя. Душою общества были Екатерина Ивановна Невельская и Елизавета Осиповна Бачманова, и как-то само собой сложилось, что они и занимались устройством развлечений.
В общем, не наблюдалось никакого застоя и уныния, а тем более пьянства, к чему обычно толкает долгая морозная и снежная зима, — наоборот, люди бодры, подтянуты, постоянно заняты важными делами. И Вагранову остро захотелось быть среди них — работать до изнеможения, веселиться до упаду и легко и непринужденно чувствовать свою личную причастность к великим делам, из которых в конечном счете складывается история Отечества.
3
Император пришел в Михайловский дворец поздно вечером. Именно пришел, а не приехал. Последнее время он часто ходил в сумерках по Дворцовой набережной Невы. Ходил один, в глубокой задумчивости, не отвечая на поклоны встречных, многие из которых, отойдя на несколько шагов, оглядывались на прямую высокую фигуру в шинели, подбитой мехом, и меховой шапке, мерно вышагивавшую вдоль гранитного парапета, и тяжело вздыхали: очень уж плохо выглядел государь — осунулся, похудел, опустились вниз некогда молодцеватые кончики усов, мрачный взгляд устремлялся куда-то вдаль — наверное, в будущее, не сулившее ничего хорошего в затянувшейся и почти уже проигранной войне.
На этот раз Николая Павловича неудержимо потянуло увидеться с Еленой Павловной. После разрыва они встречались очень редко, только на официальных приемах; прежде почти каждую неделю были балы, теперь они совсем прекратились, столица погрузилась в пораженческое уныние. Однако салон великой княгини по-прежнему собирал ученых, литераторов, музыкантов, художников, туда все так же захаживали чиновники высокого ранга, аристократы, бывал у тетушки и цесаревич — лишь император больше не переступал порога дворца.
Но сегодня ему крайне важно было посоветоваться с умным, все понимающим человеком, а Елена Павловна всегда оставалась в его глазах именно такой.
Император свернул с набережной на Зимнюю канавку, перешел Певческий мост, с набережной Мойки проходными дворами добрался до Шведского переулка и, пройдя узким пешеходным мостиком через Екатерининский канал, оказался перед левым крылом дворца. Он всегда заходил не через парадный вход, а в скромную дубовую дверь, снабженную бронзовым кольцом с бронзовой же подкладкой. На условный стук — один тройной удар, два одиночных и один двойной — дверь открывал седовласый молчаливый слуга, низко кланялся, принимал верхнюю одежду и неторопливым шагом проводил императора по пустынному коридору левого флигеля, затем по скромной, ничем не украшенной лестнице на второй этаж, а дальше, в будуар великой княгини, Николай Павлович находил дорогу сам.
Елена Павловна встретилась ему возле бывшего кабинета мужа и даже не пыталась скрыть своего удивления. Поздоровавшись, сразу спросила;
— Случилось что-то чрезвычайное? Ты прямо как Чацкий у Грибоедова… — Николай Павлович взглянул вопросительно, и великая княгиня пояснила: — «Три года не писал двух слов и грянул вдруг, как с облаков». Фамусов говорит, помнишь?
— Прости, мне как-то не до Грибоедова и Чацкого вкупе с Фамусовым, — с тихим раздражением сказал император.
— Это ты меня прости: я и верно, не ко времени с Грибоедовым. — Она провела легкими пальцами по его щеке, почувствовала щетину: — Ты плохо выглядишь: похудел, оброс…
— Не для кого стало бриться, — усмехнулся он.
Она поняла намек: на округлых щеках выступил румянец, — и заспешила:
— Ты, наверное, по делу? Пройдем в кабинет Михаила.
Они вошли в большую комнату, стены которой были обиты красным с золотыми блестками шелком. Почти посередине стоял письменный стол красного дерева с полированной крышкой, на столе — яшмовый письменный прибор и стопка книг; к столу придвинуто жесткое кресло с подлокотниками.
Николай Павлович остановился у стола, взял верхнюю книжку, полистал — о преимуществах нарезного оружия, стрелкового и артиллерийского, — вздохнул: рано умер брат, не успел вооружить армию новыми ружьями и пушками, вот и терпим позор за позором.
— Пять лет прошло, а тут ничего не изменилось, — сказал он, заметив пристальный взгляд Елены Павловны.
— Стараюсь сохранять, насколько возможно. Садись, — указала она на уголок для отдыха, где стояли три парных диванчика со столиками.
Они сели так, что столик оказался между ними, как бы символизируя их нынешние отношения. Николай Павлович вынул из внутреннего кармана конверт и подал великой княгине:
— Вот, получил сегодня. Полагаю, что это — реакция на высадку в Крыму целой дивизии Сардинского королевства. Надо же, каждая европейская моська готова уже не только лаять, но и кусать! Читай вслух…
В конверте было письмо историка и писателя Погодина, известного панслависта — сторонника объединения всех славян при главенстве России. Он писал о страшном и, к несчастью, непоправимом просчете верховной русской власти: «…Мы не воображали, чтобы в Крым могло когда-нибудь попасть иностранное войско, которое всегда-де можем закидать шапками, потому оставили сухопутную сторону Севастополя без внимания, а там явилось сто тысяч, которых мы не можем выжить из лагерей, укрепленных ими в короткое время до неприступности. Мы не могли представить себе высадки без величайших затруднений, а их семьдесят тысяч сошло на берег, как один человек через лужу по дощечке переходит. Кто мог прежде поверить, чтоб легче было подвозить запасы в Крым из Лондона, чем нам из-под боку, или чтоб можно было строить в Париже казармы для Балаклавского лагеря?»
Дочитав до этого места, Елена Павловна подняла глаза на императора и поразилась его виду: глаза лихорадочно блестели, а высокий лоб покрылся испариной.
— Ты могла когда-нибудь представить, чтобы меня, главу величайшей монархии, упрекали в недомыслии? И кто упрекает?! Не Талейран, не Меттерних, даже не Пальмерстон, а какой-то российский литератор, которого я и знать не знаю…
— Михаил Петрович умница, энциклопедист… Да ты не можешь его не знать: тебя называют самым русским из российских императоров, а Погодин — панславист, вы смотрите в истории в одну сторону…
— Разумеется, я его знаю, — раздраженно бросил Николай Павлович. — Дай, пожалуйста. — Он вытянул письмо из рук великой княгини. — Мне до сих пор в страшном сне не могло присниться, чтобы верноподданный человек писал такое: «Восстань, русский царь! Верный народ твой тебя призывает! Терпение его истощается! Он не привык к такому унижению, бесчестию, сраму! Ему стыдно своих предков, ему стыдно своей истории… Ложь тлетворную отгони далече от своего престола и призови суровую, грубую истину. От безбожной лести отврати твое ухо и выслушай горькую правду…»
— А разве это не так? Ты разогнал умных людей. Для тебя главное — чтобы тебя слушались и тебе угождали…
— А вот и неправда! Возьми твоего Николашу Муравьева и Невельского. Разве они мне угождали, и разве я их не поддерживал? И вот — результаты: Амур — снова наш, нападение на Камчатку отбито с позором для неприятеля…
— А что в Крыму? Ты послушал Корнилова, который предлагал укрепить Севастополь? Нет!
— Откуда это тебе известно? — удивился император.
— Неважно! — отрезала Елена Павловна. — Мне много чего известно. А брата Михаила ты хоть раз послушал, когда он предлагал укрепить армию? Ты считал: она и так хороша — Наполеона громила, турок громила, а теперь вот новый Наполеон громит ее! Твои военачальники — что Меншиков, что Горчаков — шагу боятся ступить без твоих указаний, а у тебя что — семь пядей во лбу? Ты был убежден, что Англия и Франция никогда не договорятся, а они взяли и договорились. Ты был уверен, что Австрия и Пруссия у тебя в кармане, а они тебя заставили — именно заставили! — уйти из-за Дуная…
Великая княгиня пылала гневом. Она говорила и говорила, словно торопилась выложить все, что накипело, что с болью за Россию обсуждалось в ее салоне, а за всем этим было главное: ее жестокое разочарование в нем, — не в грозном «Жандарме Европы», а в мужественном и великодушном Рыцаре, в человеке, которого она безоглядно любила и которому безгранично доверяла.
Она не замечала, как он сникает, все больше и больше, как обостряются скулы на его худом бледном лице, как тускнеют глаза, и вздрогнула, услышав его полный отчаяния тихий голос:
— Зачем ты так… Лена?!
Она бросилась перед ним на колени, заглянула снизу в его опущенное лицо и ей показалось, что все проваливается — глаза, нос, рот, — и вырисовывается череп мертвеца.
— Не может быть! — вскрикнула она, тряхнула головой, и наваждение исчезло: перед ней снова сидел император. Подавленный, безвольный, но — живой!
Она села рядом с ним, обняла, так, чтобы он положил ей голову на грудь — он и положил, и даже глубоко, со всхлипом, вздохнул. Словно исплакавшийся ребенок, наконец-то прощенный матерью.
— Лена, — пробормотал он, — нет любви, и все идет наперекосяк, вся Россия валится из моих рук… Осталось только умереть…
— Ты просто болен, мой дорогой. — Она, как прежде, погладила его по голове, перебрала поредевшие, охваченные сединой волосы. — Простудился, провожая на войну войска, и не лечишься, как следует…
— Простуда — ерунда… Я здоров, но я — умираю. У меня уже нет сил — восстать, как требует этот… Погодин… Давай попрощаемся без свидетелей…
Она поцеловала его в мокрый горячий лоб.
Вернувшись в Зимний, Николай Павлович поднялся, распугивая попадавшихся слуг, на третий этаж, в свой малый рабочий кабинет, сразу прошел к окну и прослезился: ангел с крестом, подсвеченный снизу фонарями, парил над Дворцовой площадью.
— Выстоит матушка Россия против супостата, выстоит… Никому нас не одолеть, пока ее осеняет святой крест… — глядя на ангела, император крестился, на душе его светлело, сердце билось ровнее, и он уж было совсем успокоился, как вдруг фонари разом погасли — все! — и по периметру площади, и внизу колонны. Ангел исчез, как не был, и наступила непроглядная темнота.
Николай Павлович не знал, что на газовом заводе случилась авария, и питающиеся от него фонари погасли по всему городу. Он воспринял исчезновение ангела как сигнал от Господа Бога, что тот отказывается от России.
Император успел ощутить режущую боль в сердце и голове и рухнул на пол.
4
Из манифеста по поводу вступления на престол императора Александра II Николаевича (издан в день кончины императора Николая I Павловича 18 февраля 1855 года):
«…пред лицем невидимо соприсутствующаго НАМ Бога приемлем священный обет иметь всегда единою целию благоденствие Отечества НАШЕГО. Да руководимые, покровительствуемые призвавшим НАС к сему великому служению Провидением, утвердим Россию на высшей ступени могущества и славы, да исполняются чрез НАС постоянный желания и виды Августейших НАШИХ предшественников ПЕТРА, ЕКАТЕРИНЫ, АЛЕКСАНДРА Благословеннаго и Незабвеннаго НАШЕГО Родителя…»
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано АЛЕКСАНДР.
Глава 8
1
Невельской вернулся через день после приезда Вагранова. Когда Иван Васильевич, узнав о возвращении контр-адмирала, пришел к нему в штабной домик, Геннадий Иванович уже ознакомился с предписанием генерал-губернатора и сидел в своем крохотном кабинете мрачнее тайги, окружающей Николаевский пост.
С Ваграновым он был знаком, поэтому, поздоровавшись, кивнул ему на одну из двух свободных табуреток: садитесь, мол, — и хмуро спросил:
— Что теперь делать, штабс-капитан?
— А где он, этот Любавин?
— Отправился в Де-Кастри.
— Надолго?
— Наверное, на месяц. Может, меньше. Потом собирался дойти до Мариинского поста — он там еще не был. Делает альбом рисунков «Русские на Амуре». Сейчас у него зимний пленэр. Если можно так говорить про карандашную графику. — Говоря о художнике, Невельской оживился, но, спохватившись, снова помрачнел. — Господи, о чем я говорю?! Его же арестовывать надо, под замок сажать до прибытия этого… как его?.. дознавателя. Слово какое-то поганое, произносить не хочется.
— «Шпион» — не лучше. Кстати, он ни о чем не подозревает?
— О чем вы говорите! Это мы ни о чем не подозревали, и в первую очередь я! Бежал человек с какого-то китобоя, здесь такие случаи бывают, по родине истосковался. Назвался художником и попросился у нас поработать. Художник в любой экспедиции нужен, а он оказался хорошим рисовальщиком, так и остался. Никому же и в голову не пришло, что сюда, на край света, могут заслать шпиона. За каким, спрашивается, дьяволом?! За чем тут шпионить?!
— Оказывается, есть за чем. Идет война, и вы уже знаете, что в Петропавловске были наши враги. А если придут сюда, и у них будут карты пролива и лимана?
— Но ведь карты перехватили!
— Сейчас — да, а потом…
— А потом все равно они будут широко известны. Лоции держать в секрете нельзя. Без них невозможно судоходство.
— Так, по-вашему выходит, шпиона и трогать не надо?
— Отчего же? Надо! Только я полагаю, чиновники в Петербурге, куда я отправлял подробные карты, давно уже их продали иностранным агентам.
— Геннадий Иванович, не мое это, конечно, дело, мне Николай Николаевич велел ни во что не вмешиваться, но я думаю, предписание надо немедленно исполнять, то есть Любавина доставить сюда и посадить под замок…
— Да у нас тут и арестантской нет!
Вагранов развел руками: что делать, придется заводить, — и продолжил:
— И надо написать письмо генерал-губернатору с полным объяснением. Я так понял, что государю пока ни о чем не докладывали. Карты, которые художник во Францию отправлял, перехвачены, так что, может быть, все обойдется. Продал их кто-то из чиновников или нет — вопрос совсем другой, и вас он не касается.
— Да, вы правы. — Невельской побарабанил пальцами по столу и встал. — Завтра письмо будет готово, и вы можете отправляться. Кстати, с последней зимней почтой. Вместе будет веселей и надежней.
Вагранов шагнул к выходу, но контр-адмирал остановил его на пороге:
— А Николай Николаевич ничего не говорил о дальнейшей судьбе Петропавловска? Ведь англичане обязательно туда вернутся, и порт следовало бы эвакуировать до их прихода.
Вагранов покачал головой!:
— Мне ничего не велено вам передать. Знаю лишь одно: генерал-губернатор отправил в Камчатку своего адъютанта — есаула Мартынова, а что именно он повез — понятия не имею. В Аяне мне сказали, что есаул вынужден был поехать вокруг Охотского моря.
— Наверное, генерал-губернатор решил держаться за порт до конца. Жаль!
Судьба снова свела этих двух человек и снова так, чтобы окружающие не заподозрили об их знакомстве. Для всех они были Андреем Любавиным, художником Амурской экспедиции, и Герасимом Устюжаниным, рядовым казаком 1-й полусотни под командованием есаула Имберга.
Любавин прибыл в Де-Кастри на собачьей упряжке в сопровождении казака Семена Парфентьева. Они впервые прошли зимой с севера на юг по морскому льду всего с одной ночевкой. Командир поста есаул Имберг по этому случаю построил команду в количестве 12 человек (2 солдата, 2 матроса, 7 казаков и 1 толмач-тунгус) и представил личному составу художника, который тут же заявил, что будет рисовать портреты и природу, а кроме того, хочет побывать в ближайших селениях местных жителей. Затем Любавин прошелся вдоль строя, вглядываясь в лица и пожимая каждому руку, а Имберг называл имя и фамилию.
— С кого, господин Любавин, начнете? — поинтересовался есаул, когда вся команда, включая самого Имберга и приехавших, отобедала в казарме, служившей и столовой, и общей спальней. У командира для сна и отдыха была отдельная рубленая избушка, состоявшая из двух комнат, во второй стояли три топчана с тюфяками, набитыми травой, Имберг назвал ее «гостиницей». В ней разместили художника, а Парфентьев устроился в казарме.
— А вот, пожалуй, с Герасима Устюжанина, — указал Любавин на крепкого чернобородого казака с рубцом шрама на лбу. — И попрошу не мешать, не отвлекать разговорами.
Рабочее место художнику устроили в «гостинице». Любавин усадил Герасима на табурет, вполоборота к окну, выходящему на залив, сам уселся с карандашом и альбомом напротив, попросил казака подвигаться так и эдак, чтобы свет падал на лицо наиболее выразительно, а сам бормотал, то по-французски, то по-русски, задавая вопросы. Герасим отвечал только по-русски.
— Ты как тут очутился?
— Жизнь пригнала. А ты?
— А меня все то же — ненависть!
— По-прежнему — к генералу?
— Он у меня жену убил!
— Как это? — удивился Герасим. — Где?
— Во Франции. Прислал отравленное письмо.
— Чепуховина какая-то! — еще больше удивился Устюжанин. — Генералу только и делов, что слать отравленные письма чужим бабам. Ладно бы тебе, а с бабами русские не воюют.
— Я сам читал это письмо и видел его подпись.
— Ты знаешь его подпись? — недоверчиво спросил Герасим.
— А ты что, уже на его стороне?! — вскинулся Андрей.
— Не-е. Мой счет он пока что не оплатил. Но с письмом, по-моему, у тебя в башке полная ерундель! Ты когда обженился-то?
— Когда возвращался во Францию. Но какое это имеет значение? Устюжанин не обратил внимания на этот выпад и продолжал гнуть свое:
— Откуда генерал мог узнать, что ты женился? От кого?
Любавин невольно задумался, покачал головой:
— Ниоткуда и ни от кого. Постой… что же тогда получается?
— То и получается. Твое начальство сватало тебя вернуться в Россию?
Предлагало, но я сначала отказался.
А потом, когда жена померла, отравленная, тебе подсказали, что ты можешь поехать в Россию и отомстить?
— Не совсем так, но близко.
— Ну, и кто же мог подкинуть это письмецо? Что скажешь теперь? Любавин на мгновение замер, глаза его расширились, он отшвырнул альбом с карандашом и вскочил:
— Твою мать! Ах, он, canaille[89]! Аристократ недорезаный! — и заметался по комнатушке, красочно ругаясь по-русски и по-французски.
Ругался долго и все бегал-бегал за спиной Герасима, то бишь Григория, который сидел, сложив кисти рук на эфесе сабли, стоящей между ног, и усмехался, глядя в окно на заснеженный залив: ждал, когда побратим выдохнется.
Наконец Любавин утихомирился, сел на свое место и подобрал с пола альбом и карандаш.
— Ну, что, твой счет к Муравьеву закрыт? — спросил Устюжанин.
— Нет, осталась Катрин. Но теперь я не хочу его убивать просто так, а вызову на дуэль как офицер офицера.
— А вы обложите друг дружку по матушке-батюшке, вот дуэль и получится, — засмеялся Устюжанин. — Ты здорово в энтом деле насобачился!
— А что, Муравьев умеет ругаться?
— Ха, умеет! Русский офицер без мата, что без крыши хата. На сплаве наслушался… Кстати, не поверишь, я его из воды спас. Мог бы утонуть.
— Да ну! Как это случилось?
— А-а, как-то само собой…
— Давай, давай, рассказывай.
Герасим неохотно поведал историю с аварией.
— Так он и не узнал, кто его спас? — Герасим отрицательно качнул головой. — А шрам у тебя откуда? Оттуда?
— Да нет, — помрачнел казак. — С медведем обнялся прошлой зимой. Но это, брат, вовсе неинтересно.
Пока Устюжанин рассказывал, Любавин рисовал. Закончив, сказал задумчиво:
— Странные вы, русские. То врагов спасаете, то с медведями деретесь насмерть… и всё-то вам неинтересно.
— Нет, не всё. — Лицо Герасима посветлело. — Мы вот цельный месяц плыли по Амуру, а я вспоминал. Не Францию, не Алжир, будь он неладен, а Россию, Сибирь нашу необъятную. И в голове вдруг словно щелкнуло: «Это же все — моя Родина, мое Отечество! Чего ж я бегу от него? Ведь я и в казаки-то записался — думал: отсюда легче свалить куда-нито — в Америку там или Европу. И вдруг — а зачем? Чем тебе тут-то плохо? Осмотрись, женись на какой-нибудь гилячке покрасивше… у них девки есть — ягода-малина! И дают нашему брату русскому со всей охотой…»
— Я хочу поездить к ним, порисовать…
— Поездишь, порисуешь, — усмехнулся Герасим.
— Вот именно — порисовать! — рассердился Любавин. — И ничего другого!
— Я и говорю… Можно, я рисунки твои погляжу?
Любавин достал из сумки несколько альбомов:
— Гляди, не жалко.
Устюжанин начат листать и рассматривать:
— А ты хорошо рисуешь. И как много успел! Все тут?
— Все. Вожу с собой на всякий случай: вдруг оказия подвернется, как ты говоришь, свалить, так пусть всё мое будет со мной.
— Поня-атно, — протянул Герасим. — Да, ты вот, когда ругался, Элизу поминал…
— Ты знаешь Элизу?!
— Встречались… Так я что хочу сказать… Ежели письмо писало твое начальство, с чего бы оно Элизу приплело, будто она что-то там говорила генералу…
— Ну-ну?
— Откуль им про Элизу-то известно? От тебя?
— Нет, конечно… Постой-постой… Мать моя Богородица! — ахнул Андрей. — Это что же выходит? Элиза работает на них?!
— Работала, — вздохнул Устюжанин. — Убили ее в запрошлом годе.
— Еще не легче! Кто?! За что?!
— Девка одна, дура набитая. А ни за что. Из ревности.
— Вот это новость! Значит, поручик Вагранов остался с носом…
— Не с носом, а с сыном.
— Вот уж истинно по-русски: не было ни гроша, да вдруг — алтын!
2
— Чёй-то вы зачастили, ваше благородие, в наш Кындызык?
Староста Ярофей Харитонов вышел встретить Михаила Волконского, едва тот стукнул несколько раз кованым кольцом в калитку его дома.
— Здравствуйте, Ярофей. Надеюсь, не прогоните? Я по поводу переселенцев…
У Волконского зуб на зуб не попадал и губы еле ворочались. Он то дул на замерзшие пальцы, то совал их под мышки: мороз стоял такой, что руки не спасали даже толстые варежки, сам промерз до костей, а лицо так вообще задубело. Черт его дернул поехать в командировку без шубы: обманула теплая погода с легким снежком до и после Рождества Христова. Решил: раз уж рождественские морозы столь мягкие, то лишнюю тяжесть на себе таскать незачем — хватит и шинели. Мало, что сам поехал налегке, так еще над кучером посмеялся, что тот обрядился в нагольный тулуп.
Однако Ермолай-то поумней оказался мальчишки-чиновника.
— Коли тёпло на Крещенье — жди мороза возвращенья, — изрек он не то пословицу, не то собственное измышление, однако попал в точку.
Не успели они добраться до Усолья, как небо очистилось от облаков, и завернула такая холодрыга — мама, не горюй! Надо тулуп покупать, а денег на него не выдали. Михаил Сергеевич решил потерпеть, и поначалу вроде было ничего: перегоны небольшие, если немного подмерзал, отогревался на постоялых дворах. Да и, пока выполнял задание, возбуждался, горячился и холода почти не замечал.
А задание Михаилу Сергеевичу генерал-губернатор дал непростое. Задумал он вторым сплавом отправить на Нижний Амур большую партию переселенцев, чтобы заложить там русские села. И чиновник особых поручений Волконский, уже не раз показавший себя весьма дельным исполнителем (это качество в подчиненных Муравьев ценил очень высоко — вероятно, вслед за императором), должен был сформировать партию из крестьян Иркутской губернии и Забайкальской области.
Поначалу через земских исправников оповестили всех старост о выявлении желающих переселиться. Сразу же объявили льготы. Во-первых, освобождение от воинской повинности самих переселенцев и их детей, родившихся до отправки на Амур. Эта льгота была самой привлекательной, потому как рекрутчина уводила из семьи на 20–25 лет, а фактически навсегда, старших работоспособных сыновей. Остальные льготы — перемещение со всем имуществом за счет казны, пайки на два года и хозяйственная помощь по 50 рублей на семейство, — разумеется, тоже нелишние, но уже не столь существенны для крепкого крестьянина (а некрепкие были не нужны).
Откликнулись на призыв 150 семейств, что в сумме составило около 2000 душ, но для первой партии столько не требовалось (просто неподъемно для сплава), поэтому генерал-губернатор приказал ограничиться для первого раза 50 семьями, не больше 500 человек. Поэтому Михаилу Сергеевичу пришлось отправиться по селам и лично проводить отбор кандидатов. Главными условиями были количество рабочих рук и здоровье — это он сам определил, увидев на Аянском тракте, как это важно для успешного хозяйствования на новом месте. И еще Михаил Сергеевич посчитал весьма существенным — чтобы не было пьющих. Объехав тракт, он своими глазами увидел, как сильно отличаются в лучшую сторону хозяйства непьющих. Ярким примером послужила семья отставного матроса Матвея Сорокина.
Матвея списали с корабля в сорок два года. К тому времени он побывал в двух кругосветках и служил бы еще, да во время шторма сильно повредил ногу и с той поры ее подволакивал. А зачем на флоте матрос, который ни бегать не может, ни по вантам взбираться — так и списали. Вернулся Сорокин в родное Усолье, женился, обзавелся неплохим хозяйством, двух сыновей родил, но, видать, въелась в него страсть к перемене мест: едва лишь прошел слух о переселении на Аянский тракт, как он тут же подал прошение и переехал со всем семейством на Маю-реку. Провожали тесть с тещей — со слезьми горючими: будете, мол, маяться на энтой самой Мае, а Матвей только посмеивался: ничё, родичи, всё путем…
И верно: нанял тунгусов, распахал и засеял рожью четыре десятины и осенью своим хлебом рассчитался с тунгусами и прикупил скота. Через пару лет двор его был полной чашей, от тунгусов, желающих подзаработать, отбою нет. Волконского он угощал и говядиной, и курятиной, и молоком со сметаною.
— Как же так, Матвей Поликарпыч, — удивлялся чиновник особых поручений, — я вот был на соседней станции — там совсем другая картина: всё в запустении, лошадь пала, коровы молока не дают, семья голодает…
— Это у Курёхина, что ль? — поинтересовался хозяин, оглядывая веселыми глазами свое застолье: семья в полном составе — статная жена, сынки 10 и 9 лет, дочка-трехлетка — чаевничала с творожными шаньгами и пирожками с брусникой. — Так ить пьют они.
— Пьют, — подтвердил чиновный гость. — Но, говорят: от безысходности, мол, от того, что все рушится и ничего не растет.
— У того все рушится, кто с бутылкой дружится, — приговорил Матвей Поликарпович.
— А как же вы-то не пьете? Ведь матросы недаром пьянством славятся.
— Есть такой грех, — согласился хозяин. — И я был грешен, покуда на моих глазах товарищ мой не сгинул из-за водки треклятой. А я ему помочь не смог из-за того же самого. Вот с той поры капли в рот не беру и другим заказываю. И я вам так скажу, господин хороший: ежели надумаете кого куда переселять, берите непьющих. Пьющие и сами оголодают, и дело хорошее загубят на корню.
Волконский объехал Забайкалье и большую часть Иркутской губернии, и будущих переселенцев выбирал, памятуя слова Матвея Сорокина. К тому времени, как добрался до Кындызыка, в списке у него значилось уже 48 семейств, 471 душа — все непьющие. Осталось выбрать еще два — и можно возвращаться в Иркутск и со спокойной совестью докладывать о выполнении задания.
— Заходите, ваше благородие, — пригласил Ярофей. — Как раз к обеду поспели. Матрена вас встренет, а мы с кучером покуда лошадку пристроим.
Не дожидаясь повторного приглашения, Волконский чуть ли не бегом направился в дом. Слава богу, ничего не поморозил, но в благодатном тепле избы, пахнущем стряпней, почти сразу загорелись щеки, а через минуту пальцы рук запокалывало острыми иголочками, и оказалось, что даже ноги в пимах, и те задеревенели.
Матрена встретила нежданного гостя своими немудрящими виршами, помогая молодому человеку освободиться от башлыка, малахая, шинели и неуклюжих пимов.
— Дед Мороз скрипит от злости: «Кто зимою ходит в гости? У кого таки дела, что неймется до тепла?» — выпевала она, не столько для Волконского, сколько для сына, который стоял в рубашонке до колен на пороге в горницу, засунув палец в рот. Слушал мамку и во все глаза глядел на незнакомого дяденьку в темно-зеленом мундире. — «Проморожу тя наскрозь — будешь твердый, бытто гвоздь».
Хлопнула дверь — вошли Ярофей с Ермолаем.
— Матрена, — сказал Ярофей, — гостей не морозить надоть, а супротив того — отогревать щами да пельменями.
— Ой, Ярофей, — смутилась Матрена, — энто я для Ягорки, У меня ж все готово.
— Вот и мечи на стол.
После обеда заговорили о деле. В Кындызыке захотели переселиться пять семей. Волконский назвал критерии отбора, и три семьи сразу отпали по «условию Сорокина», как называл для себя правило про непьющих Михаил Сергеевич. Две — годились по всем параметрам. Волконский их записал и тут вдруг Ярофей спросил:
— А ишшо одно семейство можно записать?
— Это кого?
— А нас, Харитоновых. Мы тож непьюшшие, здоровы, ну и все такое.
— А вам это надо? — удивился Волконский. — Егорке до рекрутов еще далеко, хозяйство у вас ладное, паек не требуется…
— Так-то оно так, — протянул Ярофей, — но уж больно охотно по энтому Амуру пройтиться и село новое зачать. Приснилось мне надысь: вот пусто место, лес да речка, и глядь! — изба выросла, за ей — другая, и вот уже — цельный ряд, улица! И так на душе стало сладко — быдто бы я энто изделал.
— Ну, ладно, запишу вас, — все еще удивляясь такому порыву, сказал Волконский. — Будете партионным старостой. Я дам вам список по нескольким деревням, соберете всех и в конце зимы пойдете к селу Куларки, что ниже Шилкинского Завода верст на тридцать с гаком. Там — общий сбор, в первую неделю мая. Надо до погрузки на плоты распределить все, что будет заготовлено за казенный счет, чтобы никому не было обидно.
— А чё с собой можно взять?
— Даже не знаю… Давайте я назову, что будет заготовлено, а вы уж сами решайте, что вам еще нужно. Ну, первым делом, конечно, семена — ржи, ячменя, пшеницы, овса, льна, гречи, картофеля, всех огородных культур…
Волконский перечислял, с указанием количества, железные и чугунные инструменты и предметы быта, виды ткани, одежды и обуви (типа сукна, шуб бараньих, рукавиц, шапок, сапог), ружья для охоты, свинец и порох, рыболовные снасти, наковальни и молоты, гвозди, оконное стекло, рубанки, струги, пилы и даже буравы… Ачинские буряты подарили большое стадо рогатого скота (500 голов) и 62 головы на племя, крестьянин Гладких пожертвовал 50 кобылиц и 3 жеребцов. На время сплава и обещанные два года казенного снабжения подготовлены мука и крупы, масло, кислая капуста, солонина, картофель, соль, чай, спирт, сухари, табак, хрен…
Ярофей только крутил головой и цокал языком.
— В общем, — закончил Михаил Сергеевич, порядком устав от перечисления, — продовольствием, строительством и домашней обстановкой все переселенцы должны быть вполне обеспечены. И это, несмотря на то что идет война! Вот такое значение придает генерал-губернатор заселению Амура. Не будет на Амуре русских сел и русских городов — он не будет нашей рекой. Туда ринутся китайцы.
— Да уж, верно люди говорят: свято место пусто не быват, — заключил молчавший до того Ермолай.
3
Много дольше обычного добирался есаул Мартынов до Петропавловска. Морской путь из Аяна оказался перерезан большими полями битого льда: всю осень и часть зимы на Охотском море бушевали штормы, не позволяя ему полностью замерзнуть. Поэтому есаул вынужден был от Аяна двигаться вдоль берега через Охотск и Гижигу до Большерецка, а там, уже по накатанной дороге, к Петропавловску.
Третьего марта Василий Степанович Завойко, теперь уже контр-адмирал, получил приказ об эвакуации.
Ему было жаль покидать Петропавловск и Камчатку, где за четыре года он успел сделать немало хорошего, заслужить авторитет у камчадалов — русских казаков и охотников-ительменов, — и прославить на весь мир этот, казалось бы, заброшенный уголок Русской земли, К тому же после ухода англо-французской эскадры он все силы бросил на восстановление укреплений и весьма в этом преуспел, так как по осени в Авачинскую губу пришли корвет «Оливуца», транспорты «Байкал» и «Иртыш», а также боты — «Кадьяк» и № 1, и команды их немедленно включились в работу. Теперь же следовало все делать наоборот: снимать пушки с береговых укреплений, перетаскивать их по льду и снова устанавливать на «Авроре» и «Двине», а на «Байкале» и «Иртыше», которые не были рассчитаны на такое вооружение, — обустраивать артиллерийские порты. Самая работа для Степана Шлыка и корабельных плотников, но им не привыкать.
Понимая, что неожиданное отыгрывание назад вызовет у людей большое раздражение и следует разъяснить сложившиеся обстоятельства, губернатор писал в специальном приказе:
«От быстрого и скорого изготовления судов к плаванию будет зависеть весь успех нашего предприятия. Союзники, как положительно известно, имеют намерения напасть на Петропавловск силами, непомерно превосходящими все наши силы, а следовательно, было бы лучшим выйти в море не позднее 1 апреля, для того чтобы сколь возможно поспешнее достигнуть места нового назначения нашего. На этом основании я покорнейше прошу командиров внушить их командам всю важность успешного производства работ по вооружению и изготовлению судов».
Место назначения в приказе не было обозначено и вообще тщательно скрывалось, даже от командиров кораблей: мало ли кто, где и кому проговорится, а от этого может зависеть сама жизнь сотен людей. Наоборот, распускались слухи, что корабли уйдут на север, к Чукотке, или в Гонолулу, а то и в Сан-Франциско… Как в сказке: пойдем туда, не знаю куда…
Впрочем, вопросов на этот счет ни у кого не возникало. Отметив награждения за оборону, все дружно засучили рукава. Хотя, конечно, затраченных трудов жаль было неимоверно.
Штабс-капитан Мровинский со слезами на глазах почти беспрерывно матерился, вынужденно командуя разрушением укреплений, которые только-только заново были возведены теперь уже по всем законам фортификационного строительства. Он попытался возразить контр-адмиралу:
— Ваше превосходительство, ну зачем все рушить? Мы же все равно сюда вернемся.
— Вернемся — восстановим, как было, и построим новые, — твердо ответствовал Завойко. — А доставлять противнику удовольствие в уничтожении русских батарей не хочу и не буду. Они же потом оповестят об этом весь мир и предъявят как свой подвиг. Нам это надо?
Комендантом обреченного города контр-адмирал назначил есаула Мартынова, его помощником — поручика Губарева. Они занимались эвакуацией гражданского населения и сами должны были остаться тут после ухода флотилии.
Жители города уводили домашний скот в селения в глубине полуострова, некоторые семьи перебирались туда же; застекленные оконные рамы снимали и грузили на корабли — стекло ценилось высоко, его привозили из Америки; грузили также и мебель, и другое имущество; кое-кто разбирал бревенчатые избы, помечая бревна в надежде вернуться и собрать, как было.
Сам Завойко руководил погрузкой на корабли такого огромного количества портового имущества, что от его разнообразия голова шла кругом. Но при всей своей занятости он ни на минуту не забывал о семье: Юлия Егоровна была на девятом месяце беременности; брать ее на борт при полной неизвестности относительно успешности похода не представлялось возможным — значит, придется всю семью отправлять в село (в ту же Авачу, где она пережидала нападение англо-французов, а может, и дальше), а потом — в Большерецк, что на другой стороне полуострова. А уж из Большерецка семейство доберется на каком-нибудь судне до Амура. Кстати, Юленьке единственной Василий Степанович открыл тайну эвакуации — куда пойдет флотилия. В ее молчании он был уверен абсолютно.
Погода свирепствовала, несмотря на то что зима вроде бы осталась позади — была середина марта. Каждый день валил снег, а за Воротами Авачи бушевали штормы. В Большой губе льда было немного, а вот в Малой толщина его достигала десятка вершков, во всяком случае, больше половины аршина[90]. С одной стороны, такой лед позволил перетащить по нему тяжелые орудия первой, третьей и седьмой батарей, с другой — держал в жестком плену корабли; для их выхода в Большую губу матросы пропиливали широкие каналы, подводя их непосредственно к корпусу корабля.
Посовещавшись с командирами, Завойко решил отправлять нагруженные «под завязку» корабли по мере их готовности, не дожидаясь остальных. Это давало больше шансов уйти до прихода вражеской эскадры. Каждому уходящему командиру контр-адмирал вручал запечатанный конверт с указанием вскрыть его, лишь войдя в Охотское море. В конверте указывался пункт назначения и сбора всей флотилии — залив Де-Кастри, с заходом в Татарский пролив с южной стороны, так как Сахалинский залив и Амурский лиман в это время года обычно покрыты льдом.
К счастью, кончились жестокие штормы. Хотя… это как сказать: с их окончанием увеличилась угроза раннего прихода вражеской эскадры. Поэтому, когда немного, совсем чуть-чуть, потеплело, и в море заклубился густой туман, все вздохнули с облегчением.
Первыми ушли транспорты и боты, попарно: транспорт — бот. За ними — «Двина».
С борта отходящей «Авроры» Василий Степанович смотрел на неподвижно стоявшую на причале маленькую группу солдат во главе с двумя офицерами, Мартыновым и Губаревым, на помертвевший город, в котором лишь из одной трубы, над губернским правлением, курился дымок — там было временное пристанище остающихся на посту. При появлении англо-французов пост должен был сняться и уйти в Авачу, а дальше действовать по обстоятельствам.
Отдельно от военных стояли человек 15–20 горожан, не успевших вывезти свое добро. Среди них выделялись красным и синим мундирами двое военнопленных — англичанин и француз. Завойко приказал Мартынову передать их противнику в обмен на русских, если таковые будут на пришедших кораблях. После августовской баталии семь солдат и матросов числились пропавшими без вести: полагали, что они попали в плен.
На причале вдруг началось шевеление. Мартынов выхватил из ножен саблю, резко взмахнул ею, солдаты вскинули ружья, и грохнул слаженный залп.
— Прощальный салют, — дрогнувшим голосом сказал стоявший рядом с Завойко Изыльметьев и смахнул слезу.
Завойко тоже почувствовал, как защипало в носу, вытащил платок и гулко высморкался.
Неожиданно палуба дрогнула — две кормовых 24-фунтовки ответили холостым залпом.
Изыльметьев оглянулся — у пушек, приложив пальцы к козырьку, стоял артиллерийский поручик Дьяков. Вслед за ним все, кто был на палубе, тоже отдали честь.
Оборона Петропавловска закончилась.
Завойко снял фуражку и помахал оставшимся на причале. Потом надел и перекрестился.
На выходе из Авачинской губы «Аврора» и «Оливуца» едва не столкнулись с крейсирующими напротив Ворот двумя английскими пароходами. Но, как говорится, Бог миловал и уже ушедшие транспорты — они прошли до подхода крейсеров — и фрегат с корветом, которые скрыл густой туман. Пароходы были посланцами приближающейся мощной англо-французской эскадры, собравшейся под командой сменившего Прайса контр-адмирала Генри Уильяма Брюса. Несколько линейных фрегатов, бригов, корветов и пароходов — всего 12 кораблей, вооруженных более чем 420 орудиями, настоящая армада, иначе не скажешь, — придвинулась к маленькому городу. В составе эскадры были и участники прошлого сражения — фрегаты «Президент», «Пик» и «Форт». «Пиком» по-прежнему командовал Фредерик Николсон, не скрывавший жажды мести русским и лично Завойко за смерть адмирала Прайса и проигранное сражение. Он не мог забыть и слова Де-Пуанта, сказанные им на последнем перед разделением эскадры военном совете:
— Я восхищен военным талантом генерала Завойко и был бы рад пожать ему руку. Его имя достойно быть в одном ряду с адмиралом Нельсоном.
Эти слова взбесили Николсона: как посмел этот маразматик, из-за нерешительности которого случился такой постыдный провал, сравнивать какого-то русского генералишку, еще пять лет назад бывшего всего-то капитаном второго ранга, с величайшим флотоводцем девятнадцатого века? Кэптен рвался вызвать Де-Пуанта на дуэль, Буридж еле успокоил его:
— Фредди, старик не в своем уме, заговаривается. Ему жить-то осталось всего ничего, да и позор за поражение ляжет на него. Вот увидишь, он долго не протянет.
Буридж как в воду смотрел: Де-Пуант умер, не успев даже передать командование французской эскадрой назначенному преемнику.
Союзники не знали, сколько у русских осталось пушек, но в одном были уверены — их теперь много меньше, чем было в прошлом году, потому что пополнить артиллерийский парк было неоткуда. Десятикратное превосходство над русскими должно было показать истинную мощь британских и французских сил в этой части мира и вынудить Россию склонить перед ней непокорную голову. Однако эту демонстрацию можно расценить и по-другому: союзники настолько перепугались силы военного духа русских, что не рискнули снова выходить на бой иначе как при своем многократном возвышении над противником.
Истину, как водится, следует искать где-то посредине.
4
Первыми в Авачинскую губу вошли, конечно, пароходы. Просто как более маневренные. Обрыскали акваторию при полном молчании берегов, что немного удивило разведчиков, но они отнесли это к хитрости русских: мол, затаились под покровом тумана. Решили выждать, пока не кончится штиль, и ветер разгонит туман. Когда же это случилось, разведчики обнаружили, что на укреплениях нет орудий и нигде не видно движения людей. Тем не менее эскадра втянулась на внешний рейд с большой осторожностью, все еще ожидая подвоха или какой-нибудь хитроумной ловушки. И в таком ожидании простояли еще сутки.
Батареи по-прежнему не подавали признаков жизни. И тогда Брюс отдал приказ десантироваться.
Учитывая ошибки прошлого сражения, десант высадили сразу на три направления: у подножия Красного яра, на перешеек между сопками и у северной оконечности Никольской сопки, — и с трех сторон повели наступление на город. С криками «С нами Бог и королева!» и «Франция, вперед!» морские пехотинцы ворвались на улицы Петропавловска и… остановились в недоумении перед губернским правлением, на крыльце которого сидел и покуривал трубочку полицейский — возрастом лет сорока, в черном мундире и парадной треугольной шляпе.
Увидев толпу солдат в красных и синих мундирах, ввалившихся с трех сторон во главе с офицерами на площадь перед правлением, полицейский встал, оправил мундир и вынул трубку изо рта.
— Кто вы такой? — почти одновременно спросили по-английски и по-французски командиры десантных групп.
— Честь имею — полицмейстер Петропавловского порта штабс-капитан Губарев. — Михаил Данилович прикоснулся двумя пальцами к шляпе. Представился по-русски, потом повторил на подчеркнуто плохом французском языке. И, естественно, спросил, в свою очередь: — А с кем говорю я?
— Я лейтенант Лафонтен, мой коллега — капитан Несвилл. Вы говорите только по-французски?
— Я говорю только по-русски. По-французски мало-мало изъясняюсь, а по-английски и понимать не хочу. — Эту патриотическую тираду Губарев произнес, конечно, по-русски, а потом добавил, в ответ лейтенанту: — Me langue française est mal[91].
Несвилл, видимо, понимал французский — высокомерно усмехнулся и отвернулся, демонстративно разглядывая кафедральный собор.
— Он не говорит по-английски. — Лафонтен все-таки счел нужным пояснить английскому капитану. — Это местный полицмейстер.
— Я понял, — лениво откликнулся Несвилл. — Спросите его: где гарнизон и все население?
Лафонтен повторил вопрос по-французски.
Губарев пожал плечами:
— Эвакуация. Все уплыли.
— Куда?! — несказанно удивился лейтенант.
— Не знаю. Говорили, что в Батавию[92].
Лафонтен перевел ответ англичанину, затем приказал своим пехотинцам осмотреть город. Капитан отправил своих с тем же заданием.
— А почему остались вы? — продолжил допрос лейтенант.
— Я должен охранять город. — Михаил Данилович снова запалил свою трубку и с удовольствием затянулся.
— Тогда я беру вас в плен. Сдайте вашу шпагу, — потребовал Лафонтен.
— Какой-такой плен! Я — полицмейстер, гражданское лицо, — возмутился Михаил Данилович по-французски, обнаружив вдруг неплохое произношение.
Лафонтен подумал, коротко переговорил с капитаном и отменил требование.
— Нет такого права — брать в плен гражданское лицо, — ворчливо заметил Губарев. — А кроме охранения города я должен обменять пленных.
— Каких пленных? — опять удивился Лафонтен.
— Ваших на наших. У вас в плену семь русских матросов и солдат. У нас — один англичанин и один француз.
— Где они? Покажите!
— Один момент.
Михаил Данилович зашел в правление и вывел оттуда рыжего верзилу в красном мундире и маленького брюнета в синем. Увидев своих офицеров, они вытянулись по стойке «смирно».
— Назовите себя, — потребовал Лафонтен. Солдаты назвали имена и военную принадлежность. — Хорошо. Мы доложим начальству.
И тут рыжий что-то крикнул Несвиллу, Михаил Данилович расслышал фамилию «Завойко» и насторожился. И не зря. Капитан резко развернулся, подошел к крыльцу и обратился к полицмейстеру по-французски:
— Солдат сказал, что жена генерала Завойко с детьми находится недалеко от города, в деревне. Это правда?
— Сволочь он! — пробормотал Губарев по-русски. — Носились тут с ним, как с писаной торбой, а он — нате вам!
Михаил Данилович был прав: к пленным здесь относились по-божески — устроили на квартиру, поили, кормили, снабдили зимней одеждой и обувью. Француз все воспринимал с благодарностью, учился русскому языку, а желающих местных учил французскому. Англичанин — нет: был высокомерен, ни с кем не общался, капризничал и требовал к себе особого внимания. Его даже перевели из города в село, чтобы глаза не мозолил. В это же село, в свой домик, Губарев перевез семьи — свою и Завойко. Английский пленный видел это и вот — доложил. А вернее сказать — заложил.
— Что вы сказали? Это правда? — настойчиво допытывался Несвилл.
Рыжий снова что-то сказал. Капитан усмехнулся:
— Солдат говорит, что вы сами их туда привезли. Говорите, или я прикажу вас арестовать за укрывательство родственников командующего русскими силами.
— Англичане воюют с женщинами и детьми? — как можно язвительнее спросил Михаил Данилович Несвилла и повернулся к Лафонтену: — Французы — тоже?
Лейтенант открыл было рот, чтобы ответить, но тут случилось неожиданное: французский пленный гикнул и врезал кулаком рыжему в солнечное сплетение. Тот согнулся с перекошенным лицом, и француз двумя кулаками припечатал ему по загривку так, что тот кубарем полетел с крыльца.
— Что ты делаешь?! — завопил Лафонтен. — Не смей!
— Он — негодяй! — заявил пленный. — Он не умеет ценить добро. Напрасно я его спас от русских штыков, когда нас гнали к обрыву.
Рыжий поднялся на ноги, но оставался в полусогнутом состоянии. Держась за перила крыльца, он кашлял, плевался и что-то бормотал — должно быть, ругался.
— Лейтенант, — сказал Несвилл, — мы должны обо всем доложить своим командирам. Пусть решает высокое начальство.
— Разумеется, — согласился лейтенант и обратился к полицмейстеру. — У нас есть шесть русских пленных, и обмен скорее всего состоится.
— А где седьмой?
— Утонул. Не захотел стрелять по своим.
— Как это случилось? — мрачно спросил Губарев.
Лейтенант рассказал в нескольких словах.
Пленных русских хотели сделать корабельными артиллеристами. Сначала они охотно встали к орудиям, но, когда узнали, что придется стрелять по русским, этот «седьмой» взбежал по вантам, крикнул: «Братцы, не стреляйте в своих, Бог и земля родная этого не простят!» — и бросился в море. Он даже не пытался выплыть, сложил руки на груди и ушел на дно.
Звали его Семен Удалой.
После этого русских пленных оставили в покое.
Обмен пленными состоялся. Шестерых русских доставили на берег. Они упали на колени, крестясь на кафедральный собор, и поцеловали родную землю. Губарев поднял их и каждого сердечно обнял, приговаривая:
— Ну, вот вы и вернулись, товарищи. Добро пожаловать домой!
Бывшие пленные плакали слезами радости.
Плакал и французский пленный, расставаясь с приютившим его городом:
— Au revoir[93], я вас лублью…
Вместе с возвращенными пленными из шлюпки выгрузили на причал две больших коробки.
— Что это? — спросил Губарев.
Ответил присутствовавший при обмене пленных капитан Несвилл:
— Это презент мадам Завойко и ее детям от адмирала Брюса. Тут вино, чернослив, шоколад и печенье. Адмирал Брюс выражает свое уважение генералу Завойко. Как ни печально, генерал опять переиграл союзников. И все-таки скажите, куда ушли русские войска и корабли? Сейчас это уже не имеет значения.
— Не знаю, — пожал плечами Губарев. — Может быть, в Гонолулу. Или в Сан-Франциско…
Раздраженный капитан хотел сплюнуть, но удержался и отошел.
…Два дня союзники вели себя прилично, гуляли по городу и окрестностям, забирались на сопки, любовались вулканами (кстати, Авачинский вдруг взволновался и начал выбрасывать камни и пепел; над ним поднялось огромное многослойное облако пара и дыма). На третий день начали грабить и жечь.
На казенном складе осталось много муки и другой провизии, которые не вместились на и так перегруженные сверх меры транспорты, — кое-что десантники перевезли на свои корабли, остальное уничтожили, а склад подожгли. Спалили также несколько десятков домов — специально выбрали которые получше; ободрали церкви — кафедральный собор и церковь Святого Александра Невского у подножия Никольской сопки; в щепки разнесли дом губернатора — видимо, мстили за свое поражение. Особенно старались англичане — в Китае они накопили немалый опыт подобных грабежей. Однако и французы не отставали. В общем, порезвились цивилизованные европейцы на славу.
Губареву было странно и непонятно, что «завоеватели» даже не пытались водрузить флаги своих империй на захваченной территории, а высокое начальство эскадры так и не ступило на оставленные защитниками укрепления. Он, наверное, много больше удивился, если бы знал, что генерал-губернатор Восточной Сибири еще пять лет тому назад пророчествовал, что Англия может объявить России войну только ради захвата Авачинской губы. Выходит, ошибся Николай Николаевич: не нужна оказалась Британской империи эта великолепная гавань, как бы самой природой предназначенная быть базой мощнейшего флота? А может быть, и не ошибся — просто избалованные легко достающимися теплыми и удобными во всех отношениях бухтами морские волки Альбиона весьма скептически оценили выгоды от приобретения столь дикой и своенравной добычи. Прикинули, во что это обойдется, и решили точно, как на Руси говорят: а на хрена попу гармонь?
Однако мысль Михаила Даниловича не вникала в такие высокие материи. Он страдал оттого, что не мог выполнить свою задачу охранения города, но разгулу иноземной солдатни мешать не пытался.
Во-первых, от его вмешательства ничего бы к лучшему не изменилось, хорошо, если бы самого в живых оставили. А во-вторых, был несказанно рад, что окончательно оборзевшие десантники не ринулись по окрестным деревням и селам — вот тогда бы точно добром не кончилось: камчадалы — русские и ительмены — взялись бы за оружие, а стрелки они отменные, и полилась бы кровушка иноземная, напитывая ненужным злом эту суровую, но такую родную землю.
А потом отвалили от берега шлюпки, набитые довольными морскими пехотинцами, развели пары винтовые и колесные пароходы, распустили паруса фрегаты, бриги и корветы — вся армада кильватерной колонной потянулась к Воротам — Трем Братьям и Бабушкину Камню, — чтобы исчезнуть за ними и никогда больше тут не появляться.
Глава 9
1
Известие о смерти императора пришло в Иркутск в начале марта, в самую что ни на есть непогодь: пурга захватила половину губернии, а в самом Иркутске свирепый ветер в одночасье заваливал сугробами проезжую часть улиц; дворники выбивались из сил, пытаясь хоть как-то расчистить дороги, в помощь им губернатор Венцель направил городовых казаков и полицейских, но и этого было недостаточно. Казалось удивительным, что почтовая кибитка сумела пробиться сквозь круговерть метели и огромные снежные наносы.
— Господь Бог и матушка Природа оплакивают государя нашего великого, — сказал владыко Афанасий, архиепископ Иркутский и Нерчинский, кивая на залепленные снегом окна.
Все присутствующие на поминальной трапезе тоже взглянули на окна, словно только что осознали всю великую значимость произошедшего печального события.
Муравьевы собрали ближайший круг друзей и соратников после молебна по усопшему. Николай Николаевич не скрывал безутешного горя: он искренне любил и глубоко чтил своего благодетеля. Он вообще считал самым большим человеческим пороком неумение и нежелание быть благодарным, сам старался отблагодарить даже за, казалось бы, ничтожное доброе деяние. Сейчас он сидел, прямой и угрюмый, в парадном мундире при всех орденах с большим черным бантом на левой стороне груди. В церкви он откровенно плакал, глаза до сей поры были опухшие и красные.
На словах архиерея Муравьев вздрогнул, вроде бы встрепенулся. Лицо сморщилось, искривилось можно было подумать, что он снова заплачет, но Екатерина Николаевна знала, что мужа мучает почечная колика, для поддержки взяла его за руку и легонько пожала. Николай Николаевич благодарно пожал в ответ и обратился к владыке:
— Ваше высокопреосвященство, вы здесь один владеете даром доносить до мирян Божье Слово. Скажите то, что считаете нужным.
Архиепископ встал, опираясь на свой пастырский посох. Небольшого роста, телом сухой, он был полной противоположностью своего предшественника — Нила и в то же время роднился с ним, как говорится, густым голосом и седым волосом.
— Дети мои во Христе, — молвил владыко, — покойный наш император не нуждается в славословии великие деяния его говорят сами за себя, а то, что мы произносим, есть лишь дань благочестивым традициям. Но вечно живой душе почившего в бозе требуется главная и неоценимая помощь остающихся на сем свете, а именно — наша молитва за нее, могущая умилостивить Господа, посылающего испытания на пути ее к вечному пристанищу. Помолимся же вместе сейчас и повторять будем сие моление каждодневно, пока не познаем сердцем, что душа усопшего обрела покой и блаженство. Молитва краткая, повторяйте за мной: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Николая и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное».
Нестройным хором все старательно повторили и принялись за коливо. Вина и водки на столе не было — церковь этого не одобряла, дабы поминание не превратилось в обычное застолье. Оно и не превратилось: где-то через час волнение от внезапной и невосполнимой утраты улеглось, тем более что после каждого желающего что-то сказать в память об императоре читалась та самая краткая молитва, и все просто устали.
Муравьев слушал и не слушал, что там говорят его близкие люди, — он вдруг настроился на философский лад и думал о смерти. Вот в прошлом году умер Владимир Николаевич Зарин, старинный по кавказской службе друг, бывший с молодой супругой на его свадьбе с Катрин, приглашенный им, Муравьевым, на губернаторский пост в Иркутске, а жизнь взяла их и развела: врагами не стали, но и дружба кончилась, — и с той поры Николай Николаевич нет-нет да и вспомнит это славное семейство, и сердце уколет чувство неоплаченной раскаянием и непонятной вины.
Осенью они с Катрин, возвращаясь с Лены, опоздали на похороны замечательной женщины, Екатерины Ивановны Трубецкой. И тоже в душе поселилась какая-то виноватинка. И понятно, что все смерти в сердце не вместишь — может разорваться, но, тем не менее, ощущение вины растет. Даже перед императором, которому, по большому счету, ничего не должен.
Но — виноват, не виноват — надо жить дальше и делать, что тебе предназначено.
На следующий день Муравьев назначил приведение чиновников к присяге новому государю, и должен был состояться молебен во здравие его величества императора Александра Второго. А пока все принялись за текущие дела, которых было немерено в связи с подготовкой ко второму сплаву. До него оставалось всего ничего, каких-то два месяца.
Николай Николаевич бомбардировал письмами полковника Корсакова, который в Забайкалье занимался сбором войскового снаряжения и формированием линейных батальонов, казачьи части были поручены подполковнику Сеславину. Особенно генерал-губернатора беспокоила непременная, как он полагал, атака англо-французов на устье Амура. Ладно, в Петербурге перехватили карты пролива, лимана и входа в устье реки, а ну как другим каким-нибудь путем они все-таки переправлены за границу, и вражеские корабли, имея столь подробные лоции, зайдут в российские воды, как в свои собственные? Чем их остановить? Поэтому он внимательно следил за тем, как идут к Байкалу обозы с артиллерией, надеясь переправить ее по льду, а не окружной дорогой, как пополняются запасы пороха, свинца, ядер и других снарядов; приказал собрать кузнецов и столяров на Петровский завод к Дейхману — делать станки и лафеты для пушек. Волновало его и строительство казенных судов. Купцы, которых в этом сплаве набиралось довольно много, строили свои баржи и павозки, а вот с пароходом «Шилка» и другими сплавными средствами для войск и переселенцев происходили постоянные задержки: не хватало людей. Поэтому Николай Николаевич страшно разгневался, когда начальник Нерчинских заводов Разгильдеев использовал не по назначению 195 человек, откомандированных на строительство.
Генерал-губернатор приходил в ярость, когда кто-то отступал от его конкретных указаний. Он долго терпел самовольство атамана Забайкальского войска — Запольского, который настолько попал под влияние декабриста Завалишина, что тот начал распоряжаться делами области и давать указания самому атаману, который их исполнял более охотно, чем приказы генерал-губернатора. В своем недовольстве Запольским Муравьев не вникал в суть действий атамана, не разбирался, хороши ли указания Завалишина (который, при всем своем высокомерном самомнении, обладал большими знаниями по хозяйству края и умело их использовал), — он видел, что игнорируются приказы генерал-губернатора, и этого было достаточно. Не нравилась ему и все более активная самостоятельность Невельского, который, правда, регулярно докладывал, почему отступал от конкретных указаний начальства. Но, если генерал без обиняков поставил перед Запольским вопрос об уходе — сначала на лечение, а затем в бессрочный отпуск, то для контр-адмирала готовил почетную, но малодейственную должность начальника штаба при главнокомандующем всеми вооруженными силами Восточной Сибири, то бишь при себе.
Завойко после его прибытия на Амур Муравьев собирался поставить во главе морских сил, Корсакова — начальником сухопутных, а Невельского мягко отстранить от руководства краем. Времена изменились, и он, как полагал генерал-губернатор, должен отойти и не мешать. Тем более еще с этим шпионом напортачил…
2
Завойко на «Авроре», в сопровождении корвета «Оливуца» под командованием капитан-лейтенанта Николая Назимова, прибыл в Де-Кастри 1 мая. До него туда пришли все отправленные из Авачи транспортные суда — «Двина», «Иртыш», «Байкал» и бот № 1. Назимов встретил в Охотском море американского китобоя, и тот сообщил русским, что из Гонолулу вышел большой отряд военных кораблей Англии и Франции.
— Ну, эти сведения уже устарели, — поморщился Василий Степанович, когда капитан-лейтенант доложил ему о встрече. — А китобою этому никто не мог сказать, что мы ушли в Де-Кастри?
— Я, разумеется, не говорил, — смутился Николай Николаевич, — а не сказал ли кто-нибудь другой, гарантировать не могу.
— То-то и оно. Встретится китобой с тем самым отрядом и заложит нас за рупь в ломбарде. Поэтому боцман Новограбленов на своем боте пусть идет на север — наблюдать за ледовой обстановкой в проливе, чтобы мы могли при первой же возможности уйти к Амуру. А всех пассажиров отправим через Кизи в Мариинский пост. Всех и как можно скорей. А то придут англо-французы, захлопнут нас в заливе, как в мышеловке, и потопят вместе с пассажирами.
Высаженным на берег петропавловцам (с чьей-то легкой руки их все называли «камчадалами») предстояло пройти по раскисшей весенней тропе около десяти верст, неся на себе, что было возможно, а через озеро их должны были переправить солдаты и казаки Мариинского поста и зимовавший на Мариинском рейде пароходик «Надежда», которым командовал брат Екатерины Ивановны Невельской мичман Ельчанинов. Пароходик сам вмещал немного, но он мог тянуть на буксире несколько лодок.
Берег возле Александровского поста был заполнен людьми и завален вещами. Царила обычная в таких случаях суматоха, ругались мужчины, сновали женщины, плакали дети. Никак не могли договориться, кто пойдет первой партией, пока руководство не взял на себя Аполлон Давыдович Лохвицкий, правитель губернской канцелярии, человек, «камчадалам» хорошо известный, а потому его указания были для них весомы.
В течение полутора часов Лохвицкий определил очередность движения. Начальник поста есаул Имберг лежал больной, но распоряжения отдавал. Он направил в Кизи налегке двух солдат — предупредить Мариинский пост о передвижении гражданских лиц и подготовиться к их переправе через озеро. Еще трех человек — двух матросов и толмача — Имберг назначил проводниками, и вторая эвакуация многострадальных «камчадалов» началась.
Она была по времени короткая, а по мытарствам, пожалуй, превосходила первую. Сухих участков на тропе не было: люди брели где по колена, а где и по пояс в каше из грязи, снега и воды; места, где эта жутко холодная и мерзкая смесь доходила лишь до щиколотки, считались счастливыми. Однако никто не жаловался: все понимали, что перед лицом возможной гибели их невзгоды не значат ничего.
К тому времени, как началась высадка петропавловцев на берег залива, художник Любавин уже день сидел под замком. Поскольку арестантской на посту не было, его заперли в продуктовой кладовой, в которой было довольно-таки холодно.
Посадил его туда прибывший из Мариинского поста лейтенант Мацкевич с двумя матросами. Он предъявил Имбергу предписание контр-адмирала Невельского, в котором было сказано: «…задержать художника Любавина и передать лейтенанту Мацкевичу для препровождения под охраной в Николаевский пост». Есаул изумился несказанно, однако приказ есть приказ, им не изумляются, а руководствуются, посему он встал, преодолевая цинготную боль в ногах, проковылял с помощью костыля к закрытой двери в соседнюю комнату и поманил Мацкевича:
— Тут он.
В «гостинице», превращенной в «мастерскую». Любавин рисовал своего хранителя-попутчика Семена Парфентьева. Увидев вошедших, сердито отложил альбом:
— Алексей Константинович, я же просил не мешать, когда я работаю… Здравствуйте, Владимир Ильич.
Он был знаком с Мацкевичем. Тот в ответ молча поклонился.
— Андрей, тут такое дело… — замялся Имберг. — За тобой пришли.
Любавин встал. Парфентьев тоже поднялся, но Имберг сделал ему знак: сиди.
Мацкевич козырнул и сухо сказал:
— Господин Любавин? Согласно указанию контр-адмирала Невельского я должен вас задержать и доставить под охраной в Николаевский пост.
— За что? Чем я провинился? — холодно спросил художник.
— Не могу знать. Я лишь исполняю приказ. У вас есть где запереть задержанного? — обратился Мацкевич к начальнику поста. — Хотя бы до завтра.
— Только в кладовой…
Так Андрей Любавин, то бишь Андре Легран, то бишь Анри Дюбуа, оказался под замком. Хотя «под замком» — это довольно условно. Кладовая полуземлянка немного в стороне от казармы — замка как такового не имела, запиралась на деревянную щеколду. От кого ее запирать-то? Только от диких животных, а от них достаточно и простой задвижки. Поэтому Мацкевич, во исполнение приказа, поставил у двери часового из прибывших с ним матросов. Они должны были сменять друг друга каждые шесть часов. Часовой сидел на чурбачке, поставив ружье меж колен, от нечего делать смолил цигарку и развлекался, наблюдая за эвакуационной суматохой. Он обратил внимание на одного вновь прибывшего: в отличие от остальных тот не бегал, не суетился, а напротив — неторопливо ходил по территории поста, осматривал строения, иногда почесывая русую шевелюру или поглаживая рыжую бороду и сокрушенно покачивая головой.
— Слышь-ко, служивый, — обратился он к часовому, — и где мне, значитца, начальника найти?
— А он болееть, кажись, скорбутом. Вона в той избе лежить, — показал цигаркой матрос.
Рыжебородый — это был Степан Шлык — двинулся в указанном направлении, а к часовому немного погодя подошел чернявый казак:
— Эй, матрос! Тебя твой командир кличет.
— Я ж на посту…
— Меня послали подменить.
— А где он? Чего сам не пришел?
— В казарме он, с «камчадалами» зубатится. Беги, срочно требует.
Часовой убежал. Едва он скрылся за толпой петропавловцев, Устюжанин открыл дверь кладовой. Любавин лежал на топчане.
— Чего развалился? Живо, ноги в руки — и в лес! Давай за мной, бежко-бежко, но не бёгом.
Они затерялись в толпе, вынырнули из нее возле самого леса и скрылись в чаще. Никто их не заметил, как и они не видели выскочивших из командирской избы Мацкевича со злосчастным часовым.
— Что ты задумал? — тяжело дыша после получасового проламывания сквозь чащобу, спросил Анри (теперь уже можно было сбросить с себя порядком надоевшую маску художника Любавина). — Ты же не сможешь вернуться.
— Не смогу, — присев на сухую валежину, согласился Григорий. — Но кем бы я был, если бы бросил побратима в беде?
Анри присел рядом:
— Ты уверен, что в беде?
— А ты нет? — криво усмехнулся Вогул. — За тобой хвостик тянется. На Охотском тракте тебя Муравьева узнала? Узнала! Одного этого достаточно.
— Катрин не выдаст, — убежденно сказал Анри. — Она меня по-прежнему любит.
— А ты ее?
— И я ее.
Сказал и вдруг задумался: а как же Анастасия? А Коринна, наконец? Они же не те женщины, которых использовал и забыл.
— Что ж она не пошла с тобой? — тянул свою линию Вогул.
Анри посмотрел ему в глаза — серьезные, без тени насмешки — и ответил тоже серьезно:
— Она католичка, а католички от живого мужа не уходят. Поэтому я должен убить Муравьева.
— Теперь тебе это вряд ли удастся. Да и мне — тоже. У меня одна дорога осталась — подальше от России.
— Сочувствую.
— А-а, — махнул рукой Вогул, — где наша ни пропадала!
— Нам еще отсюда выбраться надо.
— Выберемся! Я разговорчик один услыхал, оченно антиресный. Эти посудины, что на рейде стоят, с Камчатки ушли, от англичан с французами, а теперь их тут ждут и крепко опасаются. Нам надо дождаться прихода твоих соотечественников и пробраться на их корабль. Паспорт французский у меня с собой, у тебя, думаю, с этим тоже порядок.
— Порядок, — подтвердил Анри.
— Вот и ладненько. Я тут за зиму все кругом облазил и юрташку одну охотничью приметил. Вот мы в ней на пару дней сховаемся, а потом на берег выйдем, к Клостеркампу, и лодку поищем, гиляцкую, али мангунскую, без разницы, лишь бы на волне держалась.
3
Ледовая обстановка в проливе не улучшалась. Эскадра Завойко была готова в любой момент сняться с якоря, но от Новограбленова не приходило никаких известий. А 8 мая показались три военных корабля — большой фрегат, винтовой корвет и бриг. Они шли к заливу под всеми парусами, но, заметив русские суда, перестроились: фрегат и бриг остались в отдалении за Клостеркампом, а корвет вошел в залив и поднял английский флаг. Он приблизился к «Оливуце» на расстояние меньше 5 кабельтовых и сделал три выстрела из носового орудия. Ядра просвистели мимо. «Оливуца» не осталась в долгу: из ее трех ответных ядер одно попало точно в середину парохода, повредив надстройки. Англичанин тут же развернулся и ушел к своим.
— С рассветом надо ждать атаки, — сказал Завойко Изыльметьеву, следя в подзорную трубу за вражескими кораблями, которые уходили за мыс Клостеркамп.
Но контр-адмирал ошибся. Ни 9-го, ни 10 мая англичане и не думали нападать. Наоборот, скрылись за линией горизонта.
Командовал этой группой кораблей капитан-командор Чарльз-Джильберт-Джон-Брайдон Эллиот. Увидев, как решительно настроены русские, он поостерегся нападать своими силами и отправил бриг в Японию, где под началом адмирала Стерлинга собралась часть Китайской эскадры для блокирования Охотского моря и северной части Японского. Фрегат и корвет остались контролировать выход из залива в южную сторону: Эллиот, как ни странно, не знал об открытии Невельского и по-прежнему считал Сахалин полуостровом, и, по его мнению, если русские решатся уйти из залива, то у них один путь — на юг.
Тем временем Василий Степанович, который все эти дни был хмур и задумчив, собрал на «Оливуце» военный совет в составе капитана второго ранга Изыльметьева, капитан-лейтенанта Назимова, командира «Двины» капитан-лейтенанта Чихачева, командира «Иртыша» капитан-лейтенанта Гаврилова, командира «Байкала» капитана корпуса штурманов Шарыпова. Вопросов было много, но главным оставался один: что делать, если флотилия подвергнется нападению. Драться до последней крайности, как того требует Морской устав, решил совет.
— Драться мы, конечно, будем, помолчав, сказал Завойко, — если того потребуют обстоятельства, но лучше, если скрытно уйдем к мысу Лазарева и там дождемся возможности войти в Амур. Героизм — штука хорошая, но я предпочитаю поберечь людей и корабли.
К счастью, 14 мая прибыл лейтенант Овсянкин, уходивший на рекогносцировку льдов на боте боцмана Новограбленова. Он сообщил, что путь к мысу Лазарева свободен.
Задумчивость Завойко как рукой сняло. На корабли был немедленно отправлен приказ: на рассвете, используя утренний бриз, выходить в море и идти на север. Следовать за «Оливуцей», на борту которой имеется единственная карта течений, мелей, банок и прочих опасностей Татарского пролива вплоть до лимана.
Господь, похоже, не оставлял своим вниманием русскую флотилию, и с вечера на море опустился густой туман. К утру он слегка поредел, но видимость была не больше 3–4 кабельтовых. Впрочем, ее вполне хватило, чтобы кораблям выйти из залива, прижимаясь левым бортом к среднему острову, и кильватерной колонной, имея во главе «Оливуцу», уйти в северном направлении.
Несколькими часами позже, когда уже взошло солнце, и туман поднялся вверх, что обещало плохую погоду, с английского фрегата «Сибилла», на котором держал флаг командор Эллиот, заметили шхуну, шедшую к побережью.
— Похоже, американцы, — сказал старший офицер фрегата, несший утреннюю вахту. В подзорную трубу он разглядел на гафеле звездно-полосатое полотнище. — Будем досматривать, сэр? — обратился он к командору, как раз вышедшему из своей каюты, Эллиот взял трубку, посмотрел: шхуна явно английского типа, вооружения на борту нет, если не считать пушчонок на носу и корме, которые имеются у всех купцов для защиты от пиратов, но, как говорят джентльмены, «beware of a silent dog and still water»[94], а потому лучше проверить.
— Дайте сигнал, чтобы остановились, и пошлите катер: надо удостовериться, что это действительно американец.
Пока давали сигнал и готовили к спуску паровой катер, налетел шквалистый ветер, на волнах закудрявились барашки, и командор не стал напрягать своих людей:
— Отставить! Пусть идет, куда шел. Если к русским, то мы там его и возьмем за жабры.
«Американец» а точнее, шхуна «Уильям Пенн» действительно шел в Де-Кастри. Правда, если бы командор знал, кто находится на его борту, то вряд ли бы к встрече с ним отнесся так благодушно. А находились на нем 150 матросов и 8 офицеров фрегата «Диана» со своим командиром — капитан-лейтенантом Степаном Степановичем Лесовским. «Диана», пришедшая на замену «Паллады», погибла в Японии в декабре во время цунами. Команда спаслась, но вынуждена была добираться до российских берегов частями. Первая партия во главе с Лесовским зафрахтовала случайную шхуну, на которой добралась до Петропавловска уже после того как там побывала англо-американская эскадра. В Петропавловске наняли шхуну «Уильям Пенн» и на ней отправились вслед за флотилией Завойко. Зашли в Императорскую Гавань, но там стояла лишь ободранная «Паллада», а на пути к Де-Кастри попались на глаза англичанам. Капитан шхуны Энквист приказал русским спрятаться в трюме, надеясь обвести англичан «вокруг мачты», но этого не потребовалось. Узнав в Де-Кастри, что флотилия ушла к мысу Лазарева, капитан страшно удивился. Оказывается, Энквист тоже не знал об открытии Невельского.
— Там же перешеек, тупик, — сказал он, когда Лесовский предложил плыть на север.
— Мы вас на руках перенесем, — улыбаясь, заверил его капитан-лейтенант. — правда, двигаться надо осторожно: много мелей.
Восемнадцатого мая шхуна догнала караван Завойко и вместе с ним пошла к проливу Невельского.
Вторая группа экипажа «Дианы» — 284 человека под началом лейтенанта Мусина-Пушкина — отправилась к берегам Сибири на бременском бриге на месяц позже и 20 июня у Сахалина была захвачена в плен английским пароходом. Она вернулась в Россию через Англию уже после подписания мира.
Третья партия с вице-адмиралом Путятиным своими силами построила шхуну, названную «Хэда» в честь помогавшего русским селения. В конце апреля Путятин вышел на ней в море, обогнул с юга Японию и пришел в Петропавловск, где узнал об уходе нашей флотилии. Он, естественно, направился в Татарский пролив, огибая Сахалин с юга, и в проливе Лаперуза едва не столкнулся в тумане с неприятельским кораблем: прошел у него под самой кормой. Самое удивительное, что остался при этом незамеченным. Восьмого июня «Хэда» появилась в Николаевском.
Шестнадцатого мая командор Эллиот решил проверить, как он выразился, «самочувствие русских»: фрегат и корвет подошли к заливу. Англичане не поверили своим глазам: русские корабли исчезли! И военные, и транспорты, и даже маленький бот! Не было, кстати, и американской шхуны! Предчувствие провала сжало сердце Эллиота. Переполненный негодованием командор приказал высадить десант и во что бы то ни стало узнать у людей, копошащихся на берегу возле каких-то жалких строений, куда пропала целая флотилия.
А в Александровском посту при виде двух многопушечных чужих кораблей поднялся переполох. Слава богу, все «камчадалы» благополучно успели уйти в Кизи. Правда, пропал казак Устюжанин с арестованным Любавиным. Лейтенант Мацкевич со своими матросами и постовыми казаками обрыскал окрестности, хотя и понимал, что это бесполезно, и ушел ни с чем. Остались на посту шесть казаков и больной командир — что они могли противопоставить мощному врагу? Правда, был еще восьмой, гражданский, Степан Шлык, напросившийся поработать топориком — уж больно ему не понравились строения поста, — но его как раз понесло в лес выбирать деревья, пригодные для строительства.
В общем, оценив обстоятельства, есаул Имберг, сам еле двигаясь на костылях, приказал отступать по тропе, ведущей к озеру.
— Вряд ли они полезут в тайгу, — сказал он.
— А Шлык? Его что ли бросим? — спросил один казак.
— Им нужен Завойко. Нас они могут взять в плен, а Шлык — лицо гражданское, его не тронут.
— Но он может сказать, куда ушла флотилия.
— Это вряд ли. Степан — мужик не из болтливых. Да он толком и не знает, куда она ушла. Давайте, братцы, пошевеливайтесь!
Взяв с собой все, что смогли унести, казаки покинули пост.
4
Едва катер с десантом клюнул носом песчаный берег, как по команде лейтенанта Бьюконена, морские пехотинцы со штуцерами наперевес ринулись во все стороны: одни бросились обыскивать строения поста, другие устремились по тропе, третьи в лесные заросли. Сам Бьюконен в сопровождении представителя союзной Франции лейтенанта — Да Понта неторопливо сошел на берег и обвел взглядом окрестности.
— Вы только посмотрите, Ла Понт, — язвительно сказал он, — русские так лихо рванулись наутек, что забыли спустить свой флаг.
— А мне кажется, они не забыли, — отозвался француз. — Спустить флаг — значит, сдаться. Русские редко сдаются. Об этом мне говорил отец, наполеоновский офицер.
— Еще как сдаются! — захохотал Бьюконен, указывая на возвращающихся солдат. Одна группа, та, что пошла по тропе, вела прихрамывающего рыжебородого мужика в поддевке. Другая, выйдя из чащи леса, толкала прикладами в спину еще двоих — чернявого крепыша в казачьем мундире и высокого длинноволосого молодого человека.
Когда они сблизились между собой, рыжебородый пригляделся и охнул:
— Гришка! Матерь Божья, Вогул!
— Степан! — узнал чернявый. — Ты-то как сюда попал?
— Да вот, — смутился Шлык. — Ногу подвернул, меня, значитца, и взяли.
— Ты его знаешь? — удивился Анри.
— Да энто Степан Шлык, почти сродственник мой…
— О чем они говорят? — спросил Бьюконена Ла Понт по-французски, вынимая из внутреннего кармана плоскую фляжку. — Будете?
— Вряд ли кто поймет их тарабарщину, — ответил по-английски лейтенант, взял фляжку и сделал большой глоток. — Вы кто такие? — обратился он к Анри.
Ла Понт забрал фляжку, тоже глотнул и с любопытством уставился на Дюбуа.
Анри догадался, о чем вопрос, и отвечал на французском, английского он просто не знал:
— Я вижу тут французского лейтенанта, так вот, я — майор Анри Дюбуа, офицер французской разведки, а это — мой товарищ, бывший сержант-легионер, французский подданный Жорж Вогул. Мы вышли к заливу, чтобы попасть на какой-либо корабль союзников.
— И у вас есть подтверждения ваших личностей? — осклабился Ла Понт и сделал еще один большой глоток. — А то я вижу на сержанте мундир казака.
— Майор сказал, зачем мы здесь. Я для того и записался в казаки, — сказал по-французски Вогул.
— О-о, вы — русский аристократ? Это они предпочитают французский язык.
— Я бывший сержант Иностранного легиона и своей кровью заслужил французский паспорт. — Вогул достал из потайного кармана пакет и протянул Ла Понту. Тот развернул обертку, небрежно отбросил ее в сторону и стал изучать документ.
Тем временем Анри надорвал подкладку куртки, вытащил кусок белой ткани и подал Бьюконену. Тот с недоумением повертел тряпицу в руках и отдал Ла Понту.
— Смочите его из вашей фляги, — сказал Анри.
Ла Понт удивленно взглянул, но подчинился. На смоченной ткани появился текст. Лейтенант прочитал, передал англичанину, а сам козырнул:
— Лейтенант Ла Понт, господин майор. — И подал паспорт Григорию: — К вашим услугам, господа.
Англичанин тоже нехотя представился по-французски:
— Лейтенант Бьюконен. Кстати, майор, вы не наткнулись в лесу на русский гарнизон этого поста?
Анри взял у Ла Понта фляжку, сделал несколько жадных глотков, передал ее Вогулу и только тогда ответил:
— Нет, лейтенант. Но километрах в тридцати отсюда, за амурским озером Кизи, есть большой русский пост Мариинский. Там много солдат и казаков, и они хорошо вооружены. Думаю, они скоро узнают о вашем десанте и что-нибудь предпримут.
Вогул, обтерев горлышко, отпил из фляжки и протянул ее Степану, молча стоящему между двух солдат в ожидании своей очереди в допросе, однако Да Понт ловко перехватил его руку и отнял ценную емкость.
— А это кто? — спросил он, кивая на Шлыка.
— Плотник это, гражданское лицо, — пояснил Вогул.
— Что вы знаете о русской флотилии? — обращаясь к Анри, вспомнил о главном Бьюконен. — Куда она исчезла?
— Ушла на север. Наверное, собирается войти в Амур. Он уже должен очиститься ото льда.
— На север? Вы полагаете, там есть проход в Амур?
— Есть. Русская винтовая шхуна «Восток» первой вошла с юга в Амур и потом проходила несколько раз. Под парусами из Де-Кастри в Петровское — это севернее устья Амура — прошел транспорт «Байкал» с капитаном Шарыповым. Но фарватер очень сложный. Я уже давно отправил во Францию подробные карты пролива. А капитан Невельской шесть лет назад открыл, что Сахалин — остров. Странно, что вы ничего о том не знаете.
— Невельской? — Бьюконен наморщил лоб, припоминая. — Да, слышал в адмиралтействе эту фамилию. Но там, кажется, не поверили, что великий Лаперуз и наш Броутон ошиблись.
— В вашем адмиралтействе, видимо, собрались одни ретрограды, — усмехнулся Анри.
— Думаю, в вашем их не меньше, — парировал Бьюконен.
— Господа, не стоит препираться, — прервал их Ла Понт. — Надо заканчивать и возвращаться на корабль. Скоро обед.
— Да, — согласился англичанин. — Только выполним некоторые формальности.
Он подозвал сержанта, что-то сказал ему, тот отдал приказание солдатам, а сам побежал к катеру. Вернулся, неся свернутый в несколько раз британский флаг. Тем временем солдаты спустили с флагштока русский Андреевский, сорвали его с фала и отбросили на песок, а сами быстро привязали на фал свой «Юнион Джек».
— Отлично! — Бьюконен махнул рукой. — Сержант, командуйте построение.
Десантники выстроились у флагштока. Офицеры, а за ними Анри с Вогулом и отпущенный Шлык приблизились к флагштоку.
— Солдаты ее величества! Подъем флага Великобритании означает присоединение новой земли к английской короне. С нами Бог и королева! Флаг поднять! — Бьюконен бросил два пальца к козырьку фуражки — отдал честь.
Сержант потянул фалы, большое полотнище с красно-белыми крестами начало расправляться; ветерок заполоскал его краями.
Десантники взяли штуцера «на караул».
И тут Вогул заволновался, обратился к Да Понту:
— Что сказал англичанин? Зачем флаг поднимают?
Француз скривился:
— Присоединяют русский залив к Англии.
— Как это присоединяют?! — возмутился Вогул по-русски. — Степан, ты понял? Нашу землю расейскую хапают! Сто-ой! — Григорий бросился к флагштоку, смел на ходу выскочившего из строя наперерез ему английского десантника, вцепился в край полотнища, подпрыгнул, вцепился выше и повис всей своей тяжестью, не давая фалу двигаться.
Полотнище затрещало и разорвалось на две неравные части. Григорий с обрывком в руках упал на землю, на него налетели английские солдаты и начали бить. Вогул вспомнил свои легионерские приемы, и от его ударов англичане полетели на землю, но их было слишком много на одного человека.
Степан стоял, не решаясь ввязаться, — он совсем не умел драться.
— Бьюконен, — крикнул Дюбуа, — остановите избиение! Это не по-джентльменски.
— Мы на войне, майор, — бесстрастно откликнулся лейтенант. — Он оскорбил флаг Британии. Это не прощается.
Вогула закрыла толпа осатаневших людей. Анри рванулся вперед, но Бьюконен ловким боксерским приемом отправил его в нокаут.
И тут Степан не выдержал. Завопив:
— А-а-а, наших бьют! — он ринулся в свалку.
Да Понт достал свою фляжку и порадовал себя коньяком. Бьюконен отвернулся к заливу и насвистывал какую-то песенку.
Анри Дюбуа лежал без сознания.
— Майор вам это не простит, — сказал Да Понт в спину Бьюконену и непонятно было, что он имеет в виду — нокаут или избиение.
— Пусть скажет «спасибо», что я его не расстрелял как русского шпиона, — откликнулся англичанин, не оборачиваясь. — Как говорят у вас в прекрасной Франции, la guerre comme à la guerre[95]. Эй, сержант! — крикнул он, повернувшись к свалке, которая по-прежнему кипела: солдаты били русских ногами, прикладами штуцеров. — Хватит!
— Сэр, — вырвался из гущи сержант с огромным синяком на пол-лица, — их не остановить.
— Я тебе дам «не остановить»! — заорал лейтенант. — Прекратить немедленно!
Солдаты неохотно расступились, окружив два неподвижных окровавленных тела. Бьюконен подошел, пригляделся:
— Вы что, их уже убили? Они подлежат расстрелу.
Сержант толкнул ногой Вогула — тот шевельнулся, захрипел. Приподнялся и Шлык. Сержант ухмыльнулся:
— Живые! А ну, вставайте, русские твари! Будем вас расстреливать.
— Вы что, правда хотите их расстрелять? — неприятно удивился Ла Понт. — Они же герои!
— Они — мерзавцы, посягнувшие на флаг великой державы!
— Оставьте их, — раздался тихий голос, прервавшийся кашлем. Это очнулся Анри. — Они и так уже… достаточно получили…
— Они получат все, что положено за их преступление, — жестко отрезал Бьюконен.
— Я вас вызову на дуэль…
— Кто вы такой, мистер Дюбуа, чтобы вызывать на дуэль английского офицера? Вы для меня никто. Я мог бы и вас расстрелять по закону военного времени. Так что хватит мусолить эту тему, отойдите и не мешайте. Сержант, поднять этих… и поставить к флагштоку. Дайте им их флаг — пусть утешатся.
Солдаты поставили русских на ноги. Григорий и Степан обнялись, поддерживая друг друга.
— Прости, ежели что не так, Степа, — с трудом произнес Вогул разбитыми губами.
— И ты меня прости, Гриша…
Сержант бросил им Андреевский флаг. Григорий, с трудом шевеля покалеченными руками, положил его на плечо, конец подал Степану. Тот сжал его в кулаке, губы растянулись в кровавой улыбке:
— Вот уж не думал… что буду помирать… как солдат…
Тем временем сержант построил десантников и только ждал приказа.
Вогул перекрестился, обвел взглядом землю, бухту, небо:
— Все едино их отсель выметут поганой метлой, — и тоже улыбнулся окровавленным ртом. — Не бойся, Степа…
Степан тоже перекрестился, мелко и несколько раз:
— А-а… двум смертям не бывать…
Бьюконен махнул рукой и отвернулся. Грохнул залп. Степан упал как подкошенный. Григорий шатнулся, но устоял.
— Перезаряжай! — заторопился сержант, оглядываясь на офицеров. Однако еще до второго залпа у Григория подкосились ноги, и он грузно упал, зарывшись лицом в песок. Пальцы судорожно загребли землю и замерли, сжатые в кулаки.
— Что они говорили? — спросил Бьюконен у Анри.
— Один сказал, что умирать не страшно, а другой — что земля эта все равно будет русской.
5
Из лондонской газеты «Таймс»: «Русская эскадра под командой адмирала Завойко переходом из Петропавловска в Де-Кастри и потом из Де-Кастри нанесла нашему британскому флагу два черных пятна, которые не могут быть смыты никакими водами океанов вовеки».
Глава 10
1
Высокопреосвященный Иннокентии любил бывать в Аяне, для него там был выстроен небольшой домик, который служил ему пристанищем в частых поездках по обширной епархии. На чем зиждилась эта любовь, он, наверное, и сам не смог бы объяснить. Может быть, на том, что он был первым, кто прошел сюда из Якутска после того как начальник Охотской фактории Русско-Американской компании капитан-лейтенант Завойко за один год отстроил этот поселок и перенес в него порт и контору фактории. А может быть, на том, что большего тепла и уюта, чем у Василия Степановича и Юлии Егоровны, пока они жили в Аяне, он не встречал нигде. Владыко с неослабевающим вниманием следил за тем, как успешно хозяйствуют на негостеприимной земле супруги Завойко, разводя мясомолочный скот и огороды — не только для себя, но для всех, и в своих миссионерских путешествиях, проповедуя Слово Божье, настоятельно советовал пастве брать с них пример. Именно эти качества самого Завойко и его «барышни-крестьянки» баронессы Юлии послужили основанием для рекомендации генерал-губернатору Муравьеву Василия Степановича кандидатом в губернаторы Камчатки. Высокопреосвященный был весьма рад, что его слово стало для Муравьева решающим, а Василий Степанович с присущим ему рвением принялся обустраивать огромный край.
Владыко рвался попасть на Амур, где второй год уже окормлял население словом Божьим сын его Гавриил, но все никак не удавалось. Он спланировал свой второй объезд Якутии таким образом, чтобы снова заехать в Аян, а оттуда уже на Амур. В Нелькане встретил свою дочь Екатерину, которая стала отговаривать отца от заезда в Аян.
— Там англичане, батюшка, — говорила она. — Они очень злы, что второй раз проиграли Петропавловск, всюду ищут корабли Завойко, не находят и потому грабят всё подряд.
— А зачем я им? — улыбнулся святитель. — Возьмут в плен — будут в убытке. Меня же кормить надо, а я — человек крупный, пищи много потребуется.
— Крупный-то крупный, а ешь мало, аки монах в пустыне.
— Так они же о том не ведают, а я им не скажу.
В Аян высокопреосвященный прибыл 9 июля, сразу после ухода англичан. Увидел разграбленные склады и магазины; в церкви Казанской Божьей Матери валялись прокламации, призывающие жителей города вернуться в свои дома. Оказывается, заметив приближающиеся английские корабли, аянцы закопали в землю те несколько пушек, что должны были защищать их от неприятеля, и ушли в окрестные леса и не хотели идти обратно, опасаясь возвращения неприятеля.
Владыко посожалел, что из-за распутицы на тракте опоздал на бриг «Охотск», который отправился к Амуру, но, как выяснилось позже, права поговорка: «не было бы счастья, да несчастье помогло — бриг захватили и взорвали то ли те же англичане, то ли французы. Путь на Амур оказался плотно закрыт: в Охотском море хозяйничали враги.
Однако святитель не впал в отчаяние, не потому что это — смертный грех, а потому, что душа его была закалена двадцатипятилетним апостольским служением на Алеутских островах. Он стал ежедневно совершать в церкви богослужение даже в отсутствие прихожан, посещал скрывавшихся в лесу, чтобы исполнять священнические требы, отпевал умерших и крестил новорожденных — бывало и такое. Он не призывал их вернуться в город — знал: наступит время, и люди сами придут к такому решению. Но наступило другое вернулись англичане.
Двадцать первого июля, стоя в одиночестве на коленях перед алтарем, владыко молился о даровании русскому воинству победы, а в это время на рейде появились два английских фрегата и вскоре в берег уткнулась носом большая шлюпка, полная незваных «гостей». Откуда пришельцы узнали, что в городе находится высокий русский архиерей, осталось неизвестным, но они вломились сначала в его дом, а потом, не обнаружив там хозяина, направились в церковь.
Архиепископ прекрасно слышал шум на паперти и понял, кого принесло лихими морскими ветрами, однако продолжал молиться, лишь повысил голос, вознося к Господу свою просьбу.
Англичане в нерешительности топтались у входа: их смутил естественно-спокойный, благоговейный вид священнослужителя, как бы не замечающего ничего мирского, и они замолчали и почтительно-терпеливо ждали окончания молебствия.
— О чем он так истово молится? — спросил капитан Буридж у переводчика.
Тот пожал плечами:
— Не знаю. Этот язык называется церковнославянским, я его не понимаю.
А святитель, рассказывая потом об этом случае, всегда весело смеялся:
— Знали бы носители шестого смертного греха[96], за кого я молюсь, они бы растерзали меня на мелкие клочки.
Когда владыко закончил молитву и встал, англичане окружили его и достаточно вежливо сообщили через переводчика, что должны его арестовать.
— Человек я невоенный, — улыбнулся в седую бороду святитель, — пользы вам от меня не будет никакой, кроме убытков. Пойдемте лучше ко мне в дом, выпьем английского чаю.
Пока пили чай и с помощью переводчика вели неспешную беседу на отвлеченные, главным образом божественные, темы, на рейд Аянского порта пришел пароход «Барракуда», таща на буксире бриг, на котором оказались пленные русские и среди них священник-миссионер Махов. Узнав об этом, владыко обратился к Буриджу с просьбой освободить из плена человека, обращавшего язычников к Господу Богу. На следующий день англичане явились к высокопреосвященному на чаепитие вместе с Маховым и заявили, что священнослужители свободны.
После ухода англичан старик-миссионер возмущенно сказал владыке:
— Как же, ваше высокопреосвященство, вы можете с неприятелем чаи распивать в то время, как наши воины в Крыму терпят от них печали великие?
— В Крыму терпят наши воины, в Камчатке терпели англичане с французами, — задумчиво ответствовал владыко. — Военные обстоятельства всегда печальны, брат мой во Христе, и они неподвластны ни моей, ни вашей воле. А люди всегда должны оставаться людьми и совершать свое служение на том месте, какое им предназначено свыше. Нам с вами предназначено смягчать Словом Божьим ожесточенные военными обстоятельствами сердца — так давайте делать это в меру своих малых сил.
2
Беспокоясь об успехе второго сплава, генерал-губернатор метался по всему Забайкалью, старался во все вникнуть и везде успеть. Казалось бы, есть у него надежные помощники — Корсаков, Сеславин, Дейхман, Скобельцын, Волконский, морские офицеры, инженеры, а ему все надо опробовать самому, пощупать своими руками. Описывать это подробно — не хватит целой книги, поэтому, наверное, лучше всего дать здесь отрывки из его писем тем же помощникам, в основном полковнику Корсакову.
«…В моем отделении пойдут лишь самые необходимые для первых распоряжений лица, а именно: 1) князь Оболенский; 2) Рейн, Егоров, Ледантю — инженеры; Казаринов — по продовольственной части; Свербеев, Сычевский — дипломаты; Бибиков, Якушкин, Фуругельм — канцелярия; Касаткин — лекарь. Вероятно, приедут… Максутов и Бошняк, и чем более будет в этом рейсе морских, тем лучше: они будут стоять вахту, следовательно, вернее дойдут, не становясь на мель…»
Скрупулезность и экономия, экономия и скрупулезность — были бы эти качества у каждого начальника, боже мой, как бы расцвела Россия-матушка! Понятно, генерал-губернатору без свиты нельзя, но ведь это смотря какая свита.
«…Бибиков прикатил молодцом и привез нам самую главную вещь — штуцера, которые и пошлются до Сретенска, а там разберут их в части… Окончательный расчет я сделаю на месте сам, а теперь, главное, вылить как можно более пуль и сделать патронов…»
«…400 штуцеров я разделю следующим образом: в стрелковый полубаталион — 22, в 15-й баталион — 100 и в 2 роты 14-го баталиона — также 100… Распределение я делаю на том основании, что стрелковый баталион должен большей частию действовать ружейным огнем и меткою стрельбою; 2 роты 14-го баталиона будут отделены и потому должны иметь штуцеров более…»
Его ли, генерал-губернатора, задача — делить штуцера? Но этих нарезных ружей пока что так мало, что раздать всем поровну никак нельзя — в первую очередь хорошим стрелкам, а уж остальным — что останется.
«…По моему расчету, настоящий холод… может продержаться дня три; береги людей… Пришли мне расторопного офицера или урядника, который бы от самого завода осмотрел всю реку и сказал, какие есть препятствия к проплыву и где именно; он должен проехать все верхом, чтобы видеть своими глазами…»
«…Если плашкоут мой готов, то я прямо к нему подплыву и выгружусь, чтобы не терять времени на двойную выгрузку и не занимать никакой на берегу квартиры: это всего лучше и удобнее…»
«…Мне нужны в Кизи баталионный командир и рабочие руки для проложения дорог, рубки лесу и закладки зданий. О порохе, находящемся в Нерчинске, не забудь; я не буду делать о нем никаких распоряжений, а его лучше отправить со 2-м рейсом; в 3-м же пойдет порох, находящийся на Шилкинском заводе…»
Ездил по области генерал не в удобной кибитке или коляске, а как придется. В Шилкинский Завод, где строились суда для экспедиции, он для осмотра работ прибыл из Сретенска верхом с одним лишь проводником-казаком по горной тропе, чрезвычайно опасной из-за весенней распутицы. Мало того, что она пролегала среди скал, — там были места, где на узких карнизах скользили лошадиные копыта, в то время как одно стремя касалось скалы, а другое нависало над пропастью, на дне которой бурлила река, ворочающая камни. Не каждый коренной сибиряк рискнул бы ступить в это время года на такую тропу, а Муравьев прошел и, как был верхом, так и заявился на верфь, где распоряжался подполковник Назимов, командир 15-го батальона. Тысяча топоров и конопаток в руках его солдат и ссыльно-каторжных трудилась над постройкой 130 барж и плашкоутов, которые должны были принять 400 тысяч пудов различных грузов.
К приезду генерал-губернатора вся армада была практически готова. На радостях Муравьев обнял и расцеловал подполковника и его офицеров, а к собравшимся вокруг них строителям обратился с такими проникновенными словами благодарности, что толпа взревела от восторга, подняла генерала на руки и начала его качать. Умел Николай Николаевич так увлечь людей горячими речами, что они готовы были за ним идти в огонь и воду.
Довольный генерал так же верхом уехал к Усть-Каре и Куларкам, где тоже строились суда, и там его порадовала готовность плавсредств.
Во втором сплаве Муравьев учел ошибки и недостатки первого и решил разделить его на три группы, что позволяло быстрее справляться с аварийными случаями; сам генерал-губернатор пошел с первым караваном из 26 барж и плашкоутов. Вернее, собирался пойти с 26, но на пути к Усть-Стрелке многие суда сели на мели, и он решил, не дожидаясь всех, идти с имеющимися 13, а остальные отдал под начальство Сеславина.
«Ради бога, требуй порядка, — писал Муравьев из Усть-Стрелки Корсакову, — чтоб баржи равнялись в затылок и сохраняли дистанцию от 20 до 30 сажен; я на опыте вижу, как вредно отступление от порядка. Ночи иди непременно с фонарями и приучись не спать, как я теперь: сплю три часа после обеда, а потом ложусь в 4 утра до 9 часов; ночью непременно должно наблюдать своим глазом…»
Вторую часть сплава, 64 баржи, возглавлял Назимов. На нем лежала ответственность за главный груз — тяжелые крепостные орудия, предназначенные для николаевских фортов. Намучились с ними — не приведи господи! Когда тащили к Шилке по горным дорогам, впрягали по шести десятков лошадей и быков на каждую пушку; стали грузить на баржи — пушки проламывали днища. Пришлось доставать их со дна, укреплять днища барж и снова грузить. А в каждой ни много ни мало — 150 пудов!
Еще одним грузом на плечах Назимова были баржи с переселенцами. Но о них — чуть дальше.
Третий караван из 35 судов вел Корсаков. С этим рейсом шли купцы и первая научная экспедиция на Амур Сибирского отдела Императорского Русского географического общества под руководством Рихарда Карловича Маака, тридцатилетнего директора Иркутской губернской гимназии, географа и натуралиста, уже утвердившего себя на научном поприще исследованием Вилюйского края. В нее кроме Маака вошли астроном Межевой, инженер Рожков, магистр Дерптского университета Герстфельд, прапорщик корпуса топографов Зондгаген и чиновник Министерства финансов Кочетов.
Сибирскому отделу исполнилось ровно три с половиной года. 6 июня 1851 года Сенат утвердил Положение о его статусе и назначил ему ежегодную субсидию в две тысячи рублей серебром, но первое заседание состоялось 17 ноября 1851 года. Его открыл прочувствованной речью генерал-губернатор.
— Вам выпала великая честь, господа, — говорил он, обращаясь к первым десяти членам, — приобретать Сибирь для России в учено-патриотическом отношении, и приобретать ее постоянными трудами и ревностным стремлением заслужить похвалу царя и Отечества.
Деятельность отдела не входила у генерал-губернатора в число приоритетных, но ему нравилось ей покровительствовать, и он охотно поддерживал не только словами, но, по возможности, и деньгами, планы отдела по развитию Восточной Сибири, поскольку они совпадали с его собственными. Содействие Муравьева снаряжению экспедиции Маака состояло в том, что он подвигнул на ее финансирование золотопромышленника Степана Федоровича Соловьева, пожертвовавшего на цели изучения Приамурья полпуда золота.
Земли Нижнего Амура были вдоль и поперек исхожены участниками экспедиции Невельского, которые не только открывали и наносили на карту дотоле неведомые реки, горы, озера и населенные пункты, но и собирали первичные сведения по этнографии, флоре, фауне и скрытым в земле полезным ископаемым — конечно, исходя из практических задач первопроходцев и первоосвоителей. Теперь же пришла очередь истинно научных изысканий и описаний, которые, естественно, важны и сами по себе, поскольку обогащали науку, но также необходимы были для практического применения теми же переселенцами, призванными закрепить присутствие России на этих землях.
А переселенцам в этом сплаве досталось трудностей и даже бедствий, наверное, больше всех. Почти пятьсот человек разместились на 12 баржах, на каждой был свой староста. Из Кындызыка в переселенцы попали всего три семьи, но Ярофей Харитонов по единодушному признанию стал старостой на своей барже, и его судно, единственное из каравана, прошло до Мариинского поста без происшествий. Старостой его избрали и новосельцы Богородского, основанного при впадении в Амур реки Тенджи.
На нескольких баржах везли скот, а на двух — сено, 7000 пудов. Сено запасли, предполагая сплавляться с наименьшим количеством остановок, однако — не получилось. Течение Шилки этой весной было необычайно быстрым, настоящий водохлест, и столь же быстро падал уровень воды. Баржи крутило и сажало на мель с удручающей регулярностью. Гребцы на лодках с сеном, развозя его по баржам, стоящим на мели, часто не могли противостоять течению, скот оставался некормленым и начал погибать. Поэтому, выйдя с Шилки на Амур, где течение было много спокойнее, а вода выше, стали останавливаться на кормежку, выпуская скот на молодую травку. Тем не менее по приходе в Мариинское не досчитались 280 голов коров, быков и лошадей.
Но на переселенцев обрушилось еще одно, совсем уже страшное, бедствие: на пятый или шестой день плавания среди них появился тиф и, несмотря на усилия врача и двух фельдшеров, распространился по всем переселенческим судам. Казалось бы, предусмотрели всё: баржи имели крыши от дождя, хотя весна выдалась сухой и теплой; горячая мясная пища, свежие овощи, чай и порция водки были ежедневно нормой, а не исключением; старосты следили за гигиеной, — и все-таки люди болели и даже умирали. За время путешествия умерли двое — мужчина и женщина, правда, как бы взамен, родились четверо детей.
Тринадцатого июня переселенцы прибыли в Мариинский пост. Генерал-губернатор лично указал на карте места, где следовало основать русские села, но ему осмелился возразить юный Волконский:
— Ваше превосходительство, позвольте, я проеду по выбранным местам со стариками-земледельцами? Пусть они определят их пригодность для заселения и хозяйства.
— Ты не доверяешь моему выбору? — неприятно удивился Муравьев. — Я Нижний Амур уже несколько раз проехал туда и обратно.
— Вряд ли вы смотрели на эти места как сельский житель, ваше превосходительство. Я на Аянском тракте лично убедился, сколько неудачных мест было выбрано пальцем на карте и сколько бед это принесло переселенцам. Но там выбирали, исходя из требований тракта, а здесь-то нас ничто не ограничивает. Пусть уж они сами решают, где им жить и хозяйствовать.
Муравьев подумал, оглянулся на Екатерину Николаевну, которая присутствовала при их разговоре — та улыбалась, одобрительно глядя на юного чиновника, — и махнул рукой:
— Ладно, бог с вами, обследуйте.
После знакомства с предложенными генерал-губернатором местностями старики одобрили только одно, остальные четыре выбрали сами. В результате заложили первые пять русских сел на трехсоткилометровом расстоянии от Мариинского до Николаевского поста: Иркутское (близ озера Иоме), Богородское, Михайловское (неподалеку от гиляцкой деревни Хильк; тут местность оказалась наиболее удобной для сельского хозяйства, ее заняли 25 семейств), Ново-Михайловское (пятью верстами ниже по течению Амура) и Сергиевское (на устье реки Личи, впадающей в Амур шестью верстами выше Николаевского поста).
Чтобы закончить историю мытарств первой партии переселенцев, скажем коротко. Поначалу они разместились в землянках, но сразу же начали рубить избы (благо леса вокруг хватало) и расчищать землю под огороды и пашни. Некоторые семьи успели посеять немного озимых. К осени избы у большинства были готовы; Михаил Сергеевич Волконский, которому было дано право распределять по семьям заготовленные предметы быта, сделал это, учитывая достаток каждой семьи и нужду в таких предметах. Столярные, кузнечные и слесарные инструменты раздавались только мастерам. Лошади, скот и прочая живность также распределялись с учетом количества рабочих рук, стариков и детей. Всего переселенцы получили 176 лошадей, 217 голов рогатого скота, 92 овцы и баранов и какое-то количество коз, свиней и домашней птицы.
Тиф не выпускал их из своих лап до следующей весны. Умерли оба фельдшера. Люди знающие говорили, что при переселении первое поколение всегда подвергается какой-либо эпидемии, и только второе начинает жить нормально.
В сентябре 1855 года Волконский передал своих «подопечных» под управление военного губернатора Завойко. Спустя некоторое время они хорошо укоренились и обжились, стали торговать с местным населением. Благодаря этим пионерам, Амур становился русской рекой: началось движение вверх и вниз по течению, появились склады провианта и казенного имущества. Это было удивительно для многих и не только в столице: шла война, в которой Россия терпела поражение; казалось бы, ей надо вести себя с соседними государствами куда как тихо и осторожно, а генерал-губернатор Восточной Сибири решительно проводит один сплав с войсками, второй — с войсками и переселенцами, и огромный Китай, имеющий с Россией пятитысячеверстную границу, испытывающий мощное давление Англии, молчит и принимает действия Муравьева как данность, тем самым обеспечивая им успех.
Видимо, в отношениях с Китаем только решительность и уверенность в своей правоте дают нужный результат.
3
Сплав по Амуру был для Екатерины Николаевны, а с ней и для Николая Николаевича вторым, можно сказать, после Лены медовым месяцем.
На плашкоуте для них оборудовали двухкомнатную каюту: одна комната была рабочим кабинетом генерал-губернатора, другая — спальней «новобрачных». Они и чувствовали себя молодоженами, почти каждую ночь, во время записного отдыха Николя, находя время для любви. Конечно, не было уже прежней бурной восторженности друг другом — страсть сменилась тихим утверждением нежности и ласки.
Но это не мешало «новобрачному» в другое время быть строгим генерал-губернатором, командующим своей партией сплава. Не забывал он также о поручении императора вести пограничные переговоры с китайцами. Нессельроде попытался навязать новому государю свое мнение по этому вопросу: мол, Китай воспользуется неудачами России в Восточной войне и силой воспрепятствует закреплению русских на Амуре, — однако Александр Николаевич хорошо запомнил отцовское кредо о поднятом русском флаге и в письме Муравьеву подтвердил наказ Николая Павловича. Генерал на эту тему не раз вел беседы-совещания со своими дипломатами Свербеевым и Сычевским, причем опирался больше на опыт Епифания Ивановича, своего ровесника, прослужившего много лет на российско-китайской границе, в Троицкосавске.
— Как вести переговоры — вот главный вопрос, — сказал Николай Николаевич. — О чем — понятно: сделать Амур пограничной рекой, а вот каких убедить добровольно отказаться от левого берега?
— Ну, ладно, допустим, убедим, — задумчиво покивал Епифаний Иванович. — А потом, где-нибудь лет через сто — сто пятьдесят, они заявят, что их вынудили отдать свои исконные земли.
— Эти земли не были их исконными! — запальчиво воскликнул Свербеев.
— Были, не были… У кого сила, уважаемый Николай Алексеевич, тот и будет прав. Головин в Нерчинске трактат подписал под давлением войска, прибывшего с дайцинским послом. Было бы войско тогда у него, все получилось бы иначе.
— А теперь мы сильнее!
— Да-да-да, — покивал Сычевский. Но… — он поднял палец, — русских здесь никогда не будет много. Свои столько не нарожают, переселенцев в нужном количестве — не пригонишь и не заманишь. А китайцев на том берегу уже сейчас десятки миллионов, и сколько будет через сто лет — даже Богу неведомо. И что Россия им тогда противопоставит? Только равноправный договор!
— Все вы правильно говорите, Епифаний Иваныч, — вмешался в спор дипломатов Муравьев. — Никто и не собирается делать договор неравноправным. Кстати, вам обоим следует начать над ним работу. Задача: текст должен быть кратким, емким и понятным, без дипломатических кружев и юридических загогулин. А что касается будущего — думаю и надеюсь, что правительство у потомков будет не в пример нынешнему и не оставит этот край в забвении. Иначе к чему все наши неимоверные страдания и усилия ради пользы Отечества?
— И славы ради! — воскликнул восторженный Николай Алексеевич.
— И славы, — согласился Муравьев. — Слава Отечества, если она высока, поднимает до себя души человеческие. За нее можно горы своротить и жизнь, если потребуется, отдать… — Он помолчал. — Я, признаться, пафос не люблю, без него стараюсь обойтись, но от слова этого великого — «Отечество» — глаза щиплет и сердце сжимается… Вот нам и надо с китайцами так договориться, чтобы слава Отечества не пострадала.
— Мне кажется, Николай Николаевич, — неожиданно осторожно сказал Свербеев, — переговоры сейчас надо потянуть, пока мир с англо-французами не будет подписан.
— Это почему? — вскинулся генерал-губернатор.
— Нессельроде в чем-то прав: Китай знает, что мы проигрываем Англии с Францией, и обязательно этим воспользуется, если мы попытаемся сейчас заключить договор. Вы заметили, как они заторопились с переговорами?
— Ну, еще бы! — отозвался генерал. — Где мы встретили лодки с уполномоченными? У Кумары? Но, Николай Алексеевич, вы говорите «заторопились», а уполномоченные отказались со мной встречаться. Скобельцын и вон Епифаний Иваныч им говорили, что генерал-губернатор здесь, а они пошли к Горбице.
— У них повеление богдыхана такое. Если они ею не выполнят, поплатятся головой, пояснил Сычевский. — А к Горбице они посланы не случайно: хотят Нерчинский трактат застолбить. Помните, что в нем сказано? — И Епифаний Иванович процитировал наизусть: — «Против усих постановленных о границе посольскими договоры статей, если похочет бугдыханово высочество поставить от себя при границах для памяти какие признаки, и подписать на них сии статьи, и то отдаем мы на волю бугдыханова высочества». Вот и «похотело» «бугдыханово высочество» поставить на границе у Горбицы «признаки» Нерчинского трактата.
— А вы, ваше превосходительство, своим листом с предупреждением о новом сплаве и ранним проходом по Амуру ему всю обедню испортили, — засмеялся Свербеев. — Вот и пусть теперь за вами гоняются.
— За нами. Вы — мои главные помощники в этом деле. Так что засучивайте рукава, изучайте Нерчинский трактат и готовьте новый.
В Айгуне был новый амбань. Куда девался прежний, неизвестно. Скобельцын по своим связям узнал: по одним слухам, его лишили званий и привилегий и отправили в ссылку, по другим — казнили за то, что пропустил первый сплав русских.
Новый амбань приехал к Муравьеву сам, в сопровождении десяти чиновников. Отметив количество войск, он не пытался воспрепятствовать движению русских, посожалев, что уполномоченные на переговоры не воспользовались встречей.
Генерал-губернатор объяснил, что торопится, как и в прошлом году, защищать устье Амура, просил передать уполномоченным, что будет ждать их в Мариинском или Николаевском посту, и одарил амбаня многими подарками.
Тот не остался в долгу и прислал в дар двух свиней. Николай Николаевич собрался обидеться, но Скобельцын и Сычевский объяснили ему, что у китайцев это означает глубокое уважение.
Свиньи хрюкали и визжали, раздражая генерала; Екатерина Николаевна смеялась над ним и любовалась «чушками», как их называли забайкальцы; они, кстати, чувствовали ее расположение и при ней похрюкивали очень деликатно и бывали весьма довольны, когда она чесала у них за ушами. А вот Муравьева явно не любили и при виде его чуть ли не рычали. Может быть, поэтому на пути к Бурее он приказал пустить их на мясо для офицерской столовой.
Ниже Уссури каравану встретилась лодка с отцом Гавриилом, сыном святителя Иннокентия. Священник был уверен, что с караваном следует его отец, и очень расстроился, узнав, что архиепископ даже не приехал в Иркутск.
Зато он рассказал Николаю Николаевичу и Екатерине Николаевне о положении на Нижнем Амуре.
— Контр-адмирал Завойко прибыл в Де-Кастри с двумя судами, полными людей и припасов, и начал разгрузку, а тут подошел англо-французский флот и запер выход из бухты. — Отец Гавриил пил чай у Муравьевых и говорил, торопясь, как будто боялся, что его прервут или остановят. Сведения его были отрывочные и кое в чем не соответствовали действительности, но он об этом не подозревал, а Муравьевы все принимали на веру. — У Завойко нет ни сил, ни вооружений, чтобы драться, а неприятель почему-то атаковать не стал, только постреливал ядрами через острова. А ночью Завойко потихоньку поднял якоря, проскользнул, как мышка мимо кота, под самым носом неприятеля и ушел в Николаевск. Представляете, ваше превосходительство? Под самым носом! — И довольный священник залился мелким смехом.
— И что же было потом? — спросила Екатерина Николаевна, подливая отцу Гавриилу свежего чаю.
— О-о, потом было печально, — грустно сказал священник. — Утром неприятель собрался предъявить контр-адмиралу ультиматум о сдаче, но не обнаружил его. Тогда он высадил десант и разграбил пост, забрав все, что успел выгрузить Завойко. А что не смог забрать — сжег.
— А что же наши — казаки, солдаты, которые были в посту? — напряженным голосом спросил генерал.
Екатерина Николаевна уловила зарождающуюся грозу, положила свою руку на его, сжавшуюся в кулак, и сделал незаметный знак отцу Гавриилу, чтобы он остановился, но тот, увлеченный собственным повествованием, ничего не замечал.
— Наши? Их было всего шесть человек да командир, есаул Имберг, они убежали в Мариинский пост, где была казачья сотня и несколько десятков артиллеристов с пушками.
— И что? Они выступили в Де-Кастри? — еле сдерживаясь, процедил сквозь зубы генерал.
— Да нет, никто не выступил, — простодушно сообщил рассказчик. — Неприятель в тот же день ушел, оставив пепелище и двух расстрелянных русских. Один казак из Усть-Стрелки, Герасим Устюжанин, а в другом казак Григорий Шлык признал отца своего Степана.
— Степана?! — Генерал вздрогнул и как-то сразу обмяк: сдавило сердце.
Он удивился: как, оказывается, прирос душой к этому рыжебородому мастеровому, который взял да и ушел следом за ним, генерал-губернатором, в Сибирь и вот надо же — нашел тут свою смерть. Да не простую — от болезни, голода или еще от чего-нибудь самого обычного, — а расстрельную, смерть несдавшегося воина!
Эта минутная слабость сбила его с раздраженного настроя, но, пережив ее, он снова стал наливаться гневом.
— А флаг российский на посту они тоже спустили?!
— С флагом — история. Имберг говорит, что не спускал, но флаг Андреевский оказался в руках у расстрелянных. А неприятель, видать, хотел свой поднять, но от их флага на фалах остались лишь два обрывка. Словно сорвали его. — Брови батюшки метнулись вверх в сиюминутном прозрении: — Так, может, его и сорвали те два русских человека, за что их и расстреляли…
Эти слова, видимо, взорвали еле сдерживаемую плотину, и гнев генерала вырвался на свободу.
— Ах, он сукин сын, этот Имберг! — зарычал Муравьев. — Ну, встретимся, я ему покажу, как с поля боя бегать, флаг российский позорить!
Он вскочил и заметался по «кабинету». Священник притих и сжался, поняв наконец, какую грозу вызвал его бесхитростный рассказ. Екатерина Николаевна с возрастающей тревогой следила за мужем. А тот распалялся все больше, багровея и бормоча ругательства.
— Вы идите, батюшка, подышите свежим воздухом, — вполголоса сказала Екатерина Николаевна. Отец Гавриил обрадованно бочком-бочком выскользнул за дверь. Муравьев его ухода даже не заметил: его трясло потоками ничем не сдерживаемой ярости.
— А Невельской! Куда он смотрел?! Почему не обеспечил защиту поста?! Шпионов под боком не видит! И я еще выбирал, кому доверить этот край — ему или Завойко. Только Завойко! Вот истинный герой!
Екатерина Николаевна встала из-за стола и перехватила мужа посреди комнаты. Остановила, обняла:
— Успокойся, родной, и крепко подумай, прежде чем принять окончательное решение. Разберись на месте, чтобы не сделать того, о чем будешь жалеть.
Он высвободился, упрямо вскинул голову, так, что растрепались волосы.
— Я не могу оставить безнаказанным поругание русского флага. Степан, гражданский человек, жизнь за него отдал, а солдаты бежали!
— Там и казак был военный человек, — осторожно напомнила Екатерина Николаевна. Как его… Устюжанин?
— И Устюжанин — герой! А этот… Имберг… — генерал сжал кулаки.
4
Плашкоут Муравьева стоял у причала Мариинского поста. Остальные суда большей частью приткнулись к берегу, несколько барж бросили якоря на рейде.
Был тихий теплый июньский вечер, расцвеченный изумительным по красоте закатом. Солнце уже село за дальние острова, сплошь заросшие кустарниками и мелколесьем. В спокойной воде отражались розовато-снежные сопки облаков — словно напоминание об ушедшей на север зиме. В природе царило блаженное умиротворение. Но лучи, изливаемые светилом из-за таежной неровной линии горизонта, окрашивали половину неба в быстро насыщающиеся от розового до ярко-красного оттенки и вызывали в душе ощущение тревоги.
По крайней мере, так казалось Екатерине Николаевне.
— Завтра будет сильный ветер, — сказал Вагранов, чутко уловив ее состояние.
Любоваться природой их отправил на палубу Николай Николаевич, сам оставшись наедине с Невельским, только что прибывшим на пароходике «Надежда», который притулился сейчас у второго причала. И теперь Екатерина Николаевна и Вагранов не столько смотрели на потрясающие краски заката, сколько оглядывались на генеральскую «резиденцию», из-за закрытой двери которой смутно доносились спорящие голоса.
Три часа назад все было иначе.
Ярко и весело светило солнце. Под небольшой духовой оркестр, оставшийся в Мариинском от первого сплава, караван Муравьева втянулся на рейд, а генеральский плашкоут подошел к причалу. Его встречали стоявшие строем казаки и солдаты. Гражданской разношерстной толпой сгрудились «камчадалы», которых не успели отправить в Николаевский.
Генерал-губернатор легко сбежал по сходням на причал, с него — на берег и первым делом подошел к «камчадалам». Они зашумели, приветствуя его.
— Спасибо вам, дорогие мои! — почти выкрикнул генерал и низко поклонился. — Спасибо вам за подвиг ваш великий и незабываемый! — повторил он и вытер внезапно выбрызнувшую слезу.
«Камчадалы» еще громче зашумели, плотно обступили генерала, кто-то крикнул «ура», другие нестройно подхватили.
Муравьев пожимал руки окружившим его людям, всматривался в радостные лица и повторял «спасибо, спасибо». Взгляд его остановился на мальчике 11–12 лет с рукой, висевшей на перевязи.
— Кто ты? — склонился к нему генерал. — Что у тебя с рукой?
Мальчик сконфузился, опустил голову.
— Это Федя Алексеев, — выступил правитель губернской канцелярии Аполлон Давыдович Лохвицкий, — наш герой. Он на второй батарее подносил картузы и его ранило вражеским ядром…
— Вот как! — Генерал-губернатор принял официальный вид. — Федор Алексеев, — произнес он таким тоном, что люди вокруг затихли, а Федя вытянулся в струнку, восторженно глядя на генерала снизу вверх, — от имени Его Императорского Величества государя нашего Александра Второго и от себя лично как главнокомандующего войсками Восточной Сибири объявляю тебе благодарность и представляю к награде медалью за самоотверженную защиту Отечества. Ура!
— Ур-р-ра-а-а!.. Ур-р-а-а-а!.. — подхватили «камчадалы», а вслед за ними стоявшие в строю солдаты и казаки, которые терпеливо дожидались внимания генерала.
И — дождались!
— Иван Васильевич, — обратился Муравьев к бывшему неподалеку от него Вагранову, — отведи мальчика к Екатерине Николаевне, пусть возьмет его под свое попечение. — А сам направился к строю служивых.
Уже приступивший к обязанностям начальника казачьих частей подполковник Сеславин встретил его докладом, но генерал отмахнулся:
— Где казаки с Александровского поста? Шаг вперед! — Из строя вышли шестеро. И только что бывший растроганным и торжественным, генерал вдруг превратился в разъяренного зверя. Побагровев, он осыпал понурившихся казаков градом ругательств и закончил, как припечатал: — Позор вам, казаки! Бежать с поля боя — несмываемые стыд и позор! А где командир? Где есаул Имберг?!
— Он болен, ваше превосходительство, — вполголоса пояснил Сеславин.
— Что? Болен?! Он еще смеет болеть! Привести немедленно!
Привели Имберга на костылях. Муравьев подскочил к нему, встряхнул за грудки и проревел прямо в искаженное то ли страхом, то ли болью лицо есаула:
— Ты, негодяй, как посмел бросить пост и бежать от неприятеля?! Как посмел оставить флаг российский на поругание?! Тебя ждет позорная смерть! По закону военного времени ты немедленно будешь осужден и расстрелян перед строем. Взять мерзавца и пусть смотрит, как ему копают могилу!
Он отшвырнул от себя есаула так, что тот не удержался на костылях и рухнул навзничь в истоптанную сапогами грязь. Казаки подхватили своего командира под руки, поставили, подали костыли. По лицу есаула, измазанному грязью, текли слезы, но он молчал, не пытаясь оправдаться.
— Исполняйте! — бросил Муравьев Сеславину и пошел прочь, на первый причал.
Имберга отвели на маленькое кладбище. Два казака начали копать могилу, но глубже одного копка лопаты продвинуться не смогли: земля была мерзлой.
— Разложите костры и оттаивайте землю, — приказал Сеславин и хотел было отойти, но его остановил подошедший Скобельцын, недавно получивший чин войскового старшины.
— Ваше высокоблагородие, Александр Николаевич, можно вас на пару слов? — И, когда они отошли на несколько шагов, горячо заговорил вполголоса: — Не виноват Имберг! Он ходить не мог, его на руках уносили. И, посудите здраво, что могли сделать шесть ружей против сотни штуцеров?!
— От меня-то вы чего хотите? — сухо поинтересовался Сеславин.
— Поговорите с Николаем Николаевичем. Нельзя расстреливать отличного офицера за то, в чем он вовсе не виноват. Я был в Де-Кастри. — И Скобельцын рассказал подполковнику об увиденном в посту, добавив в заключение: — Устюжанина жаль, вытный[97] был казак и отчаянный. С медведем-ходуном сойтись не ахнулся. И генерала нашего веснусь[98], на первом сплаве, спас.
— А почему вы сами не поговорите?
— Ну-у… вы — адъютант, по одной половице с генералом ходите, а теперь и начальник над всеми казаками… Нельзя мне через голову…
— Вы ручаетесь за Имберга?
— Ручаюсь! — Скобельцын перекрестился. — Перед Господом нашим ручаюсь!
— Ну, хорошо, я попробую.
Сеславин ушел, а Скобельцын поглядел на совершенно убитое лицо есаула, освещаемое неровными сполохами костров на будущей могиле, не выдержал и махнул ему рукой: держись, мол, товарищ.
Муравьевы обедали, за столом сидели также Вагранов и адъютант князь Енгалычев. Возле Екатерины Николаевны притулился Федя Алексеев и грыз очищенное яблоко. Муравьева яблоки любила, и они у них не переводились круглый год. Когда вошел Сеславин, генерал, обычно радушный и гостеприимный, на этот раз глянул мрачно:
— Ну, что там, подполковник? Могила готова?
— Никак нет, ваше превосходительство — землю размораживают.
Муравьев кивнул и жестом пригласил за стол, но Сеславин остался стоять.
— У тебя что-то еще?
— Так точно. — Сеславин подтянулся и твердо сказал: — Имберга нельзя расстреливать, ваше превосходительство. Он показал себя отличным офицером, а десант не смог отразить по не зависящим от него обстоятельствам.
Каким-таким обстоятельствам? — грозно спросил Муравьев.
— Во-первых, противник в двадцать раз превосходил команду поста, а во-вторых, у есаула цинга, он был прикован к постели, казаки уносили его на руках.
— Командовать можно и прикованному к постели. Он допустил поругание российского флага!
Генерал снова начал распаляться.
— Николя, — быстро сказала Екатерина Николаевна, — Je demande à vous arrêter[99].
— Нет! — закричал Муравьев и ударил ладонью по столу. — Такое не прощают! Так опозориться! И перед кем — перед англичанами!
— Ваше превосходительство, — вдруг сказал Вагранов, — Николай Николаевич! Вы ведь целый город приказали эвакуировать ради спасения людей, за что же Имберга расстреливать? Он тоже людей спас, а это куда как важно!
— Что касается флага, — добавил Сеславин, — то спуск его перед наступающим противником означал бы сдачу поста. Казаки этого не сделали, они пост не сдали. И то, что наш флаг остался целым, только простреленным, а английский сорван с фала, говорит о поражении англичан. Это они опозорились, уже в который раз.
— Что ж Имберг смолчал? — хмуро спросил Муравьев. — Я приказываю расстрелять, а он плачет, но молчит!
Сеславин пожал плечами.
— А может, у него гордость есть? — негромко сказала Екатерина Николаевна. — Ему не в чем оправдываться — вот и молчит.
Генерал быстро взглянул на нее и опустил голову. Его гнев уже угас, он явно чувствовал себя неловко. Встал, прошелся и остановился перед подполковником.
— Кто тебе рассказал про флаг? Ты же не мог этого видеть.
— Войсковой старшина Скобельцын побывал в Де-Кастри.
Муравьев кивнул:
— Скобельцыну верю.
— Он, кстати, сказал, что один из расстрелянных, казак Устюжанин, спас вас на первом сплаве.
— Ты мне не говорил, — удивленно взглянула на мужа Екатерина Николаевна.
— Как-нибудь расскажу… — смутился Муравьев. — Устюжанин… Устюжанин… нет, не помню такого. — Он покачал головой и вздохнул. — Их уже похоронили?
— Да.
— Надо бы крест поклонный поставить, с именами, — раздумчиво сказал генерал. — Семья есть? У Шлыка, я знаю, жена осталась в Петровском Заводе, надо будет помочь, а у этого… Устюжанина?
Говорят, никого нет.
Генерал снова походил, покивал, видимо, своим мыслям.
— Ваше решение по Имбергу? — напомнил Сеславин.
— А? Да! Расстрел, разумеется, отменить. Передайте, пожалуйста, есаулу мои извинения.
— Этого мало за пережитое унижение, — опять негромко сказала Екатерина Николаевна. — По сути, этот человек — герой.
— Потом, позже, я найду что-нибудь для его удовлетворения, — согласился генерал и обратился к Сеславину: — А Скобельцыну дайте полусотню казаков с полным вооружением — пусть снова займет Де-Кастри, но окопается в лесу. Хотя нет, полусотни будет мало. Надо не меньше сотни и пару пушек. Что-то мне подсказывает, что англо-французы снова туда наведаются.
В раскрытое окно влетел пароходный гудок. Муравьев выглянул:
— О-о, «Надежда» на подходе. Наверняка с Невельским. У меня к нему серьезный разговор наедине, господа.
И вот уже целый час в походном «кабинете» главнокомандующего бушевали страсти. Сеславин ушел отменять расстрел. Молодой Енгалычев тоже куда-то запропастился, а Екатерина Николаевна и Вагранов «любовались» закатом. Федю отправили отдыхать в каюту.
Так что там за спасение Николая Николаевича? — спросила вдруг Екатерина Николаевна. От чего его спасли? Кто этот Устюжанин?
— Николай Николаевич вам все сам расскажет, а фамилию эту я слышал в связи со смертью Элизы, неохотно сказал Иван Васильевич. Он до сих пор чувствовал себя виноватым в том, что убийцу так и не обнаружили. — Неподалеку от места убийства нашли картуз с этой фамилией, а хозяин картуза жил в одном из постоялых дворов Иркутска. Жил и внезапно исчез. И я, похоже, видел его возле Элизы в момент убийства, но в его руках не было ружья.
— А если он исчез, испугавшись, что его посчитают убийцей? — задумчиво, как бы сама себя, спросила Екатерина Николаевна. — А он совсем ни при чем…
Вполне возможно.
— За что же все-таки ее убили?
— Я много думал над этим. — Вагранов внимательно посмотрел на Екатерину Николаевну — на лице ее была печаль, не более того, — и вдруг решился: — Скажите, Екатерина Николаевна, вы писали Элизе из заграницы, что не хотите ее видеть?
Муравьева вскинула брови:
— Она вам показала письмо?
— Нет, я догадался.
— Она меня предала, и я предложила ей уехать как можно скорее.
— Больше ничего?
— А разве этого мало?
— Да-да… конечно… Вы правы. Простите меня!
Он сказал так горячо, что теперь она внимательно посмотрела в его глаза:
— Пожалуйста. Ничего особенного, вы же были с ней близки и, естественно, хотите все знать. — Она помолчала и перевела разговор: — А как у вас с Настей? Она очень мила!
— Спасибо! Лучше некуда! — Получилось, что он сразу ответил на вопрос и согласился с оценкой жены. Смущенно улыбнулся: — Мы как будто давно были вместе, даже не пришлось привыкать друг к другу.
— Это замечательно! — с искренней радостью сказала Екатерина Николаевна. — У нас было точно так же… — Она оборвала фразу и прислушалась: — Что-то тихо стало. Странно…
С треском распахнулась дверь «резиденции». Выскочил Невельской, за ним — Муравьев. Оба красные, взъерошенные. Невельской, даже не кивнув Екатерине Николаевне, бегом направился к сходням.
— По праву главнокомандующего я отдам вас под суд, контр-адмирал! — крикнул вслед генерал и замолк, словно удивившись собственным словам. И добавил без всякой надежды: — Геннадий Иванович, вернитесь!
Невельской сбежал на причал и широкими шагами направился к домикам поста.
Муравьев оглянулся на жену и Вагранова:
— Каков недотрога! Слова ему укорного не скажи — тут же все перья дыбором!
Екатерина Николаевна открыла было рот, но муж не дал ей и слова сказать — поднял обе руки, отмахиваясь или защищаясь:
— Вот только этого не надо: «Николя, ты не прав, нужно быть деликатнее…» Я и так деликатный сверх меры: его действительно следовало отдать под суд: шпион у него, видите ли, не только под боком сидел, но еще и сбежал из-под замка. Дознаватель из Петербурга приехал, а допрашивать некого! Это ли не бардак?! А ведь придется и тут прикрывать нашего героя! Не-ет, мавр сделал свое дело, получил награды и потихонечку-полегонечку — в сторону. Со всем почетом и уважением. Я сам — увижу, что никуда не годен, уйду немедленно.
Муравьев говорил, горячась, а Вагранов думал: «Эх, Николай Николаич, знали бы вы, что шпионка целых три года была у нас под боком, ела-пила за одним с нами столом, не говоря уж про постель, слыла своим человеком, наверняка что-то важное сообщала своим хозяевам в Париж и уехала бы с миром во Францию, если бы не тот выстрел…
Нет, такое лучше не знать. Никому!»
На следующее утро генерал-губернатор Восточной Сибири издал приказ о закрытии Амурской экспедиции и новых назначениях: контр-адмирала Невельского — начальником штаба при главнокомандующем всеми войсками, полковника Корсакова — командующим сухопутными силами, контр-адмирала Завойко — морскими, с подчинением ему как военному губернатору Камчатки территории Нижнего Амура; административным центром губернаторства определен Николаевский пост. Приказ сосредоточивал внимание начальствующего состава на двух главных задачах — организация обороны на случай нового нападения неприятеля и подготовка зимних квартир для войск. Для успешной обороны необходимо было соорудить береговые батареи на мысах Мео, Чныррах и Куегда; четвертую батарею, Константиновскую, следовало оборудовать на островке посреди устья Амура зимой, так как в лед удобнее бить сваи и по льду проще доставить на место тяжелые орудия. Самим войскам главнокомандующий определял действия так: «Войска, на устье Амура сосредоточенные… нигде от неприятеля не отступают, в плен не сдаются, а побеждают на своих местах или умирают, памятуя слова Великого князя нашего Святослава: «ту ляжем костьми; мертвии бо срама не имут». Герои Петропавловского порта покажут нам пример самоотвержения, Русской силы и безусловного повиновения…».
Глава 11
1
Жизнь на Нижнем Амуре шла своим чередом.
Завойко, радостно соединившись с увеличившимся на дочку Аню семейством — оно добралось до Николаевского лишь в июле, — с удесятеренной энергией принялся за обустройство нового центра вверенного ему края и в первую очередь — за строительство жилья для войск и эвакуированных «камчадалов». Юлия Егоровна с детьми заняла один из новых домов. Муравьевы, прибыв в Николаевский, первым делом навестили знаменитую семью, и Екатерина Николаевна была очарована дружной, но ужасно беспокойной детской компанией Завойко. Николай Николаевич и Василий Степанович были в постоянных разъездах и немудрено, что их жены быстро стали подругами. А вскоре к ним присоединились Екатерина Ивановна Невельская, Елизавета Осиповна Бачманова и Екатерина Ивановна Попова, супруга отца Гавриила. Эти пять женщин занялись организацией досуга и развлечений для загруженных делами мужчин, в чем им охотно помогали все, кто был так или иначе свободен.
В столовой-клубе начались танцевальные и театральные вечера, совместно отмечались дни рождения и именины — с вручением незамысловатых подарков типа копченой амурской рыбы или мешка кедровых орехов. Тезки, Невельская и Попова, обе были заметно беременны, но с радостью участвовали во всех задумках — они словно наверстывали время, прошедшее в отрыве от большого мира.
Невельской занимался строительством береговых укреплений и батарей, был постоянно мрачен и всем недоволен. Они с Катенькой словно поменялись ролями: он ворчал и ругал Муравьева, а она защищала генерала. Геннадий Иванович не мог смириться с расформированием Амурской экспедиции.
— Ну, война же когда-нибудь кончится, — говорил он Катеньке, обычно почему-то во время купания годовалой Олюшки; купали девочку горничная Авдотьюшка и сам Геннадий Иванович — Катеньке мешал наклоняться живот, — а побережье до Кореи осталось неисследованным. Коля Бошняк так хотел до нее дойти!
— Конечно, война кончится, — отвечала Катенька, — и ты снова наберешь команду. Да все те же офицеры к тебе вернутся! А у Муравьева сейчас каждый опытный человек на счету!
— Как ты не поймешь? — сокрушался Геннадий Иванович. — Муравьев меня в почетную отставку отправил!
— Какая ж это отставка, если ты целый день как белка в колесе? Просто он понимает, что великих открытий здесь больше не будет, ты свое главное дело сделал, а мелочевкой могут и другие заняться. Вон Маак приехал, будет край изучать по-научному и открытий наверняка сделает множество — травку новую, цветочек, рыбку неизвестную поймает… Но это же не твой уровень и не твоя стезя, милый! Война кончится — нам в Россию надо будет уезжать. Я больше не хочу детей терять. Вон и Юлия Егоровна поговаривает, что Василий Степанович подал прошение о переводе.
Невельской пропустил намек мимо ушей: он настойчиво думал о своем.
— Он грозил меня суду предать, представляешь?!
— Но не предал же. А скажи, Геночка, ты на его месте как бы поступил? Только по-честному.
Геннадий Иванович такого поворота не ожидал — сконфузился, покраснел и начал усиленно плескать теплой водой на розовую попку дочери. Олюшка топала ножками, брызгалась и смеялась. Обычно в таких случаях смеялись все, но сейчас повисло молчание. Авдотьюшка, окуная ребенка в глубокую бадью, делала вид, что ничего не слышит, а может, и вправду не слышала, о чем говорят хозяева, а Екатерина Ивановна, скрывая лукавую улыбку, ждала ответа.
— Что ж ты молчишь? — наконец не выдержала она. — Ужели нечего сказать?
Геннадий Иванович понял, что отмолчаться и увильнуть не удастся, да он и не приучен был увиливать, а потому поднял голову и сказал:
— Да уж по головке бы не погладил.
— Во-от! — восторжествовала победу Катенька. — Так что, милый мой, успокойся, но подумай и о своем переводе. А то и об отставке. Поедем в деревню к дядюшке Ельчанинову. — И вдруг, безо всякого перехода: — А Любавина — жаль! Такой приятный молодой человек и нате вам — шпион! Фу, какое нехорошее слово! Есть в нем что-то змеиное, ползучее. То ли дело — разведчик! Герой в стане противника!..
Она еще что-то говорила Невельской не слушал. Ему почему-то стало грустно и действительно захотелось в отставку, в деревню, окунуться в милую с детства русскую природу и засесть наконец за книгу: общество должно знать о подвигах русских офицеров, помнить их поименно. Именно — о подвигах! А все эти шпионские истории — кому они нужны, что дают уму и сердцу? Как у нас говорят: с глаз долой — из сердца вон? Это про них…
Обижался Геннадий Иванович и на то, что морские силы подчинили Завойко, хотя умом понимал, что военного опыта у Василия Степановича поболе, чем у кого бы то ни было на Нижнем Амуре, исключая, пожалуй, самого генерал-губернатора. Но Муравьев в морских делах ничего не понимал и не пытался в них вмешиваться. После истории с десантом в Де-Кастри он был не на шутку озабочен защитой этой стратегически важной бухты и укреплением Мариинского поста как ее тыловой базы. В Мариинске не хватало толкового распорядителя работ по строительству, и генерал уже через два дня после отправки в Де-Кастри Скобельцына отозвал его обратно, послав взамен полубатальон пеших казаков и артиллерию в составе двух единорогов под общей командой есаула Пузино. Кроме всего прочего, Муравьев ожидал в Мариинске приезда китайских уполномоченных по ведению переговоров: он собирался произвести на них впечатление размахом работ. Китайцы должны убедиться, что русские на Амуре — не временное явление, что Российская империя готова защищать не только свои, но и китайские интересы на крайнем Востоке.
В конце июля по Амуру пришла первая почта. Ее отправили из Читы на пароходе «Шилка», но пароход сел на мель у Кутомандского кривуна, и почтари отправились дальше на лодке, к счастью, без новых происшествий. Историю с пароходом Муравьев почему-то отнес на счет атамана Забайкальского казачьего войска Павла Ивановича Запольского (мол, плохо команду подобрал), и она стала последней каплей, переполнившей чашу недовольства генерал-губернатора своим протеже. Атаман сложил полномочия и уехал в родовое имение в Калужской губернии. Военным губернатором Забайкалья и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска стал полковник Корсаков.
Но это случилось немного позже. Сейчас для Муравьева наиважнейшим делом были пограничные разграничения. Еще в марте он написал молодому императору Александру, что ждет от него полномочий для трактования границы с Китаем по реке Амуру как естественной и наиболее удобной для обоюдной пользы Российского и Дайцинского государств, особенно в интересах защиты от вторжения иностранцев. С первой амурской почтой генерал-губернатор получил такие полномочия. Он немедленно известил китайскую сторону, что ждет переговорщиков, и в августе дайцинский генерал, амурский главнокомандующий, приближенный к императору сановник, князь 6-й степени И-Шань дал на то согласие.
Восьмого сентября китайские уполномоченные прибыли в Мариинский пост; среди них были и те четверо, что встретились со сплавом у Кумары. Они побывали на Горбице, дождались там повеления Трибунала, потом спустились до городка Сахалин-Ула, где к ним присоединились еще четыре чиновника из Урги, и уже все вместе добрались до Мариинского поста.
На следующий день состоялось первое заседание комиссии. Муравьев чувствовал себя нездоровым, и российскую сторону представлял контр-адмирал Завойко. Помощниками у него были Крымский, Сычевский и Свербеев. Во главе китайской делегации был айгуньский амбань Дзираминга.
Неискушенный в дипломатических тонкостях, Василий Степанович без экивоков разразился напористой вступительной речью:
— Уважаемой китайской стороне хорошо известны агрессивные устремления Англии, стремящейся получить власть над землями в различных частях света, в том числе и в Китае. Сейчас она обратила свое внимание на российские владения на крайнем Востоке и с целью их захвата увлекла за собой Францию. Военные корабли англичан и французов приходили к Камчатке, где потерпели поражение благодаря русским войскам, доставленным с первым сплавом; в этом году они неоднократно появлялись в Татарском проливе и Охотском море, грабя и сжигая русские поселения и стремясь проникнуть в Амур. Такое проникновение, если оно состоится, будет угрозой безопасности не только России, но и Дайцинской империи. Поэтому российский император повелел провести второй сплав с войсками и артиллерией для противодействия захватчикам. Китайская сторона благосклонно отнеслась к сплавам, понимая их пользу для Дайцинской империи. Если понадобится еще больше укрепить подступы к Амуру, Россия готова организовать и третий, и четвертый сплавы. Император повелел генерал-губернатору Муравьеву организовать постоянное войско в сто тысяч солдат и казаков и держать его наготове на случай вражеского вторжения и для помощи дайцинскому богдыхану против бунтовщиков, которых подстрекают к смуте те же англичане. Правительство России согласно нести расходы по созданию укреплений и передвижению войск, чтобы ни в коем случае не допустить появления в устье Амура иностранных военных кораблей. Но такие огромные расходы не могут быть временной мерой, они должны способствовать дальнейшему усилению защиты от любых посягательств…
Китайцы слушали контр-адмирала, склонив головы, покрытые шелковыми шапочками гуаньли с цветными шариками на заостренном верху, и ничем не выдавали своих чувств. Показной покорностью они напоминали туго заплетенные косицы, лежащие на их спинах поверх нарядных халатов. Они, конечно, отлично понимали, что именно скрывается за словами, а главное — действиями, русских во главе с генералом, который всегда добивается, чего хочет, несмотря на успокоительные листы, присылаемые в Трибунал внешних сношений российским Министерством иностранных дел. Они подозревали, что у этого генерала есть в запасе сила, побольше той, которая уже дважды проплывала мимо их берегов, и что сила эта может быть направлена в любую сторону. Подозревали и боялись, что протягиваемая рука дружбы в случае отказа сожмется в железный кулак. На юге страны уже давно размахивали такими кулаками англичане и тайпины, и богдыхану совсем не хотелось, чтобы подобное началось и на севере. Однако Дзираминга все-таки попытался вернуть русских в рамки Нерчинского трактата, ссылаясь при этом и на лист из Министерства иностранных дел, в котором китайских уполномоченных приглашали на установку пограничных столбов от реки Горбицы.
Посоветовавшись с помощниками, Завойко ответил:
— Политика государств не бывает заскорузлой, она меняется вместе с изменениями международных обстоятельств. Война России с Англией и Францией многое поменяла здесь, на Востоке. Китай убедился, как важно и полезно для него, что Россия пользуется Амуром; это лишний раз доказало, что данная река является естественной границей между нашими империями вплоть до Уссури, а далее такой же границей является Уссури вплоть до реки Тумен-Ула, то есть земли к востоку от Уссури, оставшиеся неразграниченными по Нерчинскому трактату, должны принадлежать России.
— Но их и оставили неразграниченными из-за неопределенности владения, — возразил Дзираминга.
— Так и было сто семьдесят пять лет, — согласился Завойко, однако тут же добавил: — но в последнее время к этим землям протянули свои хищные руки Великобритания, Франция и Америка (а Китай во время опиумной войны убедился, сколь цепки эти руки). Российский император вовсе не желает иметь их соперниками на своих восточных берегах; поэтому Россия, не дожидаясь развертывания новой войны, стала укреплять побережье океана и отвергать любые поползновения чужестранцев на эти земли. Первым результатом такой политики стало отражение нападения объединенного англо-французского флота на Петропавловск, о котором уважаемые уполномоченные, конечно же, знают. Мы не сомневаемся, что это способствовало безопасности Дайцинской империи. — Китайцы понимающе кивнули. Завойко улыбнулся им с дружелюбным удовлетворением и продолжил: — Но китайской стороне нужно учесть, что постоянная поддержка обороноспособности российских укреплений возможна только по Амуру, а продовольствие для гарнизонов следует не везти за тысячи ли[100] — необходимо производить его здесь, для чего Россия должна основать мирные поселения земледельцев по левому берегу Амура. Продовольствие также можно будет покупать у китайских крестьян. Это еще больше укрепит дружественные отношения между нашими империями и устранит всякие поводы к недоразумениям, как в настоящем, так и в будущем.
— Ваше превосходительство, — обратился Дзираминга к Завойко, — мы видим, что ваши помощники записывают все сказанное по-русски, а наши писцы пишут по-китайски. Давайте обменяемся бумагами, чтобы сравнить тексты и избежать ошибок.
— Разумеется, мы так и сделаем. Одного дня хватит для сравнения? Очень хорошо. На следующем заседании, 11 сентября, если китайская сторона не возражает, подведем итоги переговоров.
Китайская сторона не возражала.
На второе — и последнее — заседание Завойко пришел с Муравьевым. Появление грозного генерал-губернатора вызвало среди китайцев небольшое замешательство, которое не осталось незамеченным русскими. Контр-адмирал и генерал переглянулись, и Муравьев, спрятав под усами самодовольную улыбку, тут же принял суровый и непреклонный вид.
— Господин Дзираминга, — сказал Муравьев, когда члены делегаций расселись по своим местам, — правильно ли изложено сказанное на первом заседании в той бумаге, что вам вчера передали с моей подписью?
— Ваше превосходительство, — ответил с поклоном Дзираминга, прошу прослушать бумагу, которую прочтет младший чиновник.
Он сделал знак, младший чиновник в простом синем халате вскочил и прочитал по-маньчжурски довольно длинный текст.
— Что он там лопочет, — вполголоса спросил Крымского Муравьев.
— Читает лист нашего Сената от 16 июня 1853 года, где говорится про установку пограничных столбов от Горбицы.
Муравьев кивнул и дослушал чтение до конца. После чего сказал:
— Уважаемый амбань, одновременно с этим листом наш великий император повелел мне сначала обсудить с представителями богдыхана вопрос о землях неразграниченных и лишь после этого приступить к, собственно, разграничению. Я прошу довести до сведения его величества богдыхана и китайского правительства содержание переданной вам бумаги с моей подписью. Можете быть уверены, что главная мысль нашего правительства есть сохранение мира для обоюдных польз двух великих соседствующих держав Дайцинской и Российской — на вечные времена. И я прошу поспешить с ответом, так как война с Англией и Францией продолжается, и будущей весной я должен сплавить по Амуру значительное количество войск и снаряжения, а также установить постоянное сношение войск с Забайкальской областью, что возможно только по реке. Весьма надеюсь, что мне как главнокомандующему русскими силами в Восточной Сибири не понадобится искать какие-либо иные пути решения необходимых задач.
На том и разошлись. Китайцы отправились вверх по Амуру на гребных судах, а Муравьев попытался вернуться в Забайкалье на «Аргуни». Однако не получилось: выше устья Хунгари пароход не справился с течением, и пришлось возвращаться в Николаевский. Но у Хунгари к пароходу причалила джонка, и нарочный от джангина[101] Фуль Хунги из Сахалян-Ула передал Николаю Николаевичу письмо, в котором джангин сообщал, что вышел указ богдыхана — в будущем, 1856 году, русских по реке не пропускать. Тем не менее Фуль Хунга выражал уверенность, что «почтеннейший, великий главнокомандующий Муравьев» сумеет убедить пекинскую власть в необходимости сплава, а местные жители, со своей стороны, будут оказывать русским всяческое содействие. «…Своею справедливостью, точностью и необыкновенной твердостью Вы навсегда оставили такую по себе славу, что обитатели нашей Черной реки вечно будут превозносить Вас похвалами», — заключал письмо джангин.
Ровно через год жители Хэйлунцзяна[102] на деле доказали справедливость слов Фуль Хунги: рискуя навлечь на себя гнев чиновников, они помогали лошадьми и провизией попавшим в беду солдатам и казакам, запоздавшим с возвращением домой с Нижнего Амура.
Муравьев же воспользовался информацией об указе и не медля написал генерал-адмиралу письмо с ходатайством о том, чтобы Сенат подтвердил Трибуналу необходимость сплава, дабы не оставить без военной поддержки и продовольствия более 4000 человек, собравшихся в низовьях Амура. И еще ходатайство нужно было для того, чтобы китайское правительство не вздумало сомневаться в полномочиях генерал-губернатора.
2
Неудача с пароходом заставила Николая Николаевича искать иные возможности для возвращения. Впрочем, путь был один — через Аян, и тут, весьма кстати, подвернулся американский парусник — торговый барк «Пальметто», доставивший в Николаевский пост провизию. Барк был маленький, всего семь человек экипажа, считая и капитана Перкинса, краснолицего здоровяка с вечной трубкой в зубах, а пассажиров набралось больше полусотни: одних штабных офицеров и чиновников 30 человек да почти столько же нижних чинов.
— Я простой торговец, господа, — заявил Перкинс, заключая фрахт, — у меня на борту всего одна каюта. Ее предоставлю генералу с супругой. Остальным придется без комфорта — в трюме, на соломе.
— Все в порядке, капитан, — ответил Муравьев по-английски. — За каюту благодарю, хоть я, как и все остальные, привычен к походным лишениям. Главное — чтобы вы до наступления морозов доставили нас в Аян.
— О'кей, генерал! Барк «Пальметто» немедленно берет курс на Аян! Я тоже не хочу вмерзнуть в лед посреди моря.
На выходе в лиман барк попал в штиль, но времени терять было нельзя, и Муравьев предложил верповаться. Члены команды «Пальметто» завозили на шлюпке малый якорь, верп, четыре человека становились к кабестану[103] на носу барка и вручную подтягивали судно к якорю.
И так бессчетное количество раз.
У кабестана успели намозолить руки все, не исключая самого генерала, прежде чем подул легкий ветерок, и барк, поймав его парусами, смог до ночи перейти на сахалинский фарватер, где и встал на ночлег. Утром, к счастью, ветер усилился, и судно пошло на север вдоль берега Сахалина.
Перед выходом из лимана в залив барк попал в полосу густого тумана, а, вынырнув из него, обнаружил в паре миль от себя французский фрегат, который, видимо, крейсировал тут в надежде на поживу.
Заметив «Пальметто», фрегат направился к барку, но, идя против ветра, он был вынужден лавировать, перекладывая галсы. Его носовая пушка выстрелила, ядро упало в воду, не долетев до «Пальметто» два-три кабельтова.
— Требует спустить паруса, — сказал Перкинс Муравьеву, пыхнув ароматным дымом прямо генералу в лицо.
— США нейтральны, — поморщившись, откликнулся Николай Николаевич. — Вы не обязаны ему подчиняться.
— Ударит пушками всего борта, да даже одного опердека или мидельдека[104] — от барка щепки останутся. Доказывай потом свой нейтралитет.
— Вон, справа, облако тумана, — вмешался в разговор присутствовавший на шканцах Михаил Волконский. — Можно скрыться.
— Правильно. Уходите в туман, — приказал Муравьев.
Перкинс послушался, и «Пальметто» скрылся в густой мгле. Фрегат стрелять не стал — возможно, не ожидал от торговой «посудины» такой прыти.
В Охотском море в это время года туманы и шквалы идут полосами, иногда перемешиваясь, чем доставляют морякам массу хлопот и неприятностей. Когда барк вынырнул из тумана, корма фрегата оказалась у него по правому борту не более чем в пяти-шести кабельтовых. Пока фрегат разворачивался, «Пальметто» снова нырнул в «молоко». И так случалось много раз в течение нескольких дней, словно шла игра в кошки-мышки.
Однажды фрегат оказался в опасной близости, а спасительного тумана рядом не было, и Перкинс развел руками:
— Придется сдаваться, мистер Муравьев.
— Русские не сдаются! — рявкнул генерал. — Поднять все паруса!
— Фрегат нас догонит в два счета.
— Фрегат тяжелый, а барк легкий. Лавируйте!
Перкинс что-то хотел возразить еще, но налетевший с кормы шквал положил конец спору. Барк подпрыгнул и рванулся вперед. Ветер засвистел в снастях.
— Летим как на крыльях, — с удовольствием сказал Муравьев, глядя на быстро отстающий фрегат. — Бог русским благоволит, капитан.
— Да уж, иначе не скажешь, — проворчал Перкинс, разжигая потухшую было трубку. — Кажется, будет буря.
Ветер нарастал, разгоняя туман и облака. Выглянуло холодное осеннее солнце. Кутаясь в соболью шубку, на шканцы пришла Екатерина Николаевна. Она на удивление хорошо переносила качку. Встала рядом, прижалась бочком к мужу, обняв его одной рукой за талию.
— Как ты, дорогой?
— Все в порядке, милая. Одно лишь беспокоит: перед отплытием я получил известие, что в районе Императорской Гавани и Де-Кастри рыщет английская эскадра. Там «Паллада» осталась, я приказал в случае угрозы захвата затопить ее. А в отношении поста, надеюсь, Сеславин и Скобельцын учтут ошибку Невельского.
— Ну, конечно, они все учтут! Твой Скобельцын такой обстоятельный!
— Самородок! Ему бы образование, далеко бы пошел…
Держась за поручни, они любовались сумасшедшей по красоте пляской пенных волн. Им и в голову не могло прийти, что с носа отставшего фрегата на них смотрит в сильную подзорную трубу чернобородый и темноволосый молодой человек в мундире французского майора.
— Что вы там высматриваете, Дюбуа? — крикнул с мостика капитан фрегата Огюст Клермон.
— Ваш приз, капитан, — откликнулся Анри. — На барке находится генерал Муравьев с женой. Вполне вероятно, с ним и весь его штаб.
Словно в ответ на его злорадные слова, мощный порыв ветра сорвал со шкотов грот-брамсель, и полотнище паруса заполоскалось в вышине. Фрегат не успел подняться на волну, и она обрушилась на бак, мгновенно сбив майора ног. Анри покатился по палубе в потоках ледяной воды, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Фрегат резко накренился, и майора перебросило через фальшборт. В последний момент руки его во что-то вцепились, и он повис на мгновение над клокочущей пеной. «Ну, все, конец», — мелькнула мысль, и единственное, о чем он пожалел, была судьба его малышек. А в следующий миг волна завалила корабль на другой борт, ноги Анри взлетели выше головы, и он кувыркнулся обратно на палубу.
3
А в это самое время из-за мыса Клостеркамп на рейд залива Де-Кастри, где одиноко стояла американская торговая шхуна «Беринг», вошли три военных корабля — парусный фрегат и два винтовых корвета. Поначалу флагов на них не было, но, встав на якорь, они подняли английские гюйсы, и есаулу Пузино, оставшемуся главным в Александровском посту, сразу стало ясно, что без боя не обойтись.
— Твою мать! — крякнул он. — Заявились, будто с неба свалились! А наши-то командёры решили, что гостей уже нынче не будет. Придется звать помощь.
Есаул немедленно послал нарочного в Мариинский пост, к Сеславину, а сам приказал казакам и солдатам уйти в лес и окопаться цепью вокруг расположения поста.
В распоряжении есаула были полтораста человек, вооруженных штуцерами, — полурота подъесаула Шамшурина, пехотные взводы лейтенанта Линдена и штурманского подпоручика Самохвалова; в артиллерийском взводе мичмана Ельчанинова имелось два единорога. Сила, конечно, невеликая, но к отпору неприятеля готовая.
В 9 часов утра к уже имевшимся кораблям присоединились еще один фрегат и винтовой корвет — оба под английскими флагами. Также встав на якорь, они сразу же стали спускать шлюпки и готовить десант.
Вскоре семь гребных катеров, приняв на борт не менее 400 человек и ощетинившись штыками, двумя кильватерными колоннами двинулись к берегу. На носу каждого катера с саблей в руке стоял офицер.
Окопавшиеся казаки и солдаты с интересом наблюдали за ними и готовили штуцера к бою. Страха не было.
— Славное ружьецо! — поглаживая штуцер, сказал Кузьма Саяпин Гриньке Шлыку. — На сорок шагов можно муху выбить.
— Ты целься лучшее, да не мух, а офицеров ихних выбивай.
— В офицера-то я и за полверсты попаду, — самодовольно ухмыльнулся Кузьма.
Казаки недоверчиво зашумели:
— Гли-кось, каков хлюздя выискался!
— А не попадешь! — оглядев товарищей, заявил Гринька.
— А на спор! Гляди!
Кузьма тщательно прицелился и выстрелил.
На головном катере офицер, уронив саблю, схватился за грудь и свалился на сидевших сзади десантников. Те открыли беспорядочную стрельбу по берегу.
Кузьма оскалился, довольный:
— Ну, чё, проспорил? То-то, брат!..
Знали бы друзья-побратимы, что Кузьма выбил не просто вражеского офицера, а именно того, кто командовал расстрелом Шлыка и Вогула, их торжество было бы неописуемо. Но и так конопатая физиономия Кузьмы, обросшая за прошедшее время пшеничной бородкой, сияла гордостью: бывший плавильщик улыбался во весь рот, принимая одобрение товарищей.
Подошел и Шамшурин, похлопал по плечу:
— Молодец, Саяпин! Награда, считай, обеспечена.
Его слова совпали со взрывом бомбы на прибрежном песке: стоявшие ближе к берегу пароходы начали обстрел поста, поддерживая десант. Первый залп — недолет, второй накрыл казарму и штабную избу. На воздух взлетели бревна вперемешку с землей. С левого фланга цепи послышались крики: кого-то зацепило.
По катерам ударили единороги. Один катер завалился на бок, из него в воду посыпались люди. Колонны задержались, вылавливая десантников. По ним открыли штуцерный огонь.
Артиллеристы Ельчанинова не успели порадоваться удаче и крикнуть традиционное «ура», как батарею засекли: несколько ядер взрыли землю перед пушками.
— Меняем позицию! — крикнул мичман и первым ухватился за колесо лафета.
Под прикрытием деревьев артиллеристы на руках перенесли батарею на десяток саженей левее и спешно приготовились к новому залпу.
Катера десантников снова двинулись к берегу. Один из фрегатов и корвет снялись с якоря и подошли ближе к берегу. Причины этого маневра стали ясны после первого же залпа их орудий. Картечь ударила по верхушкам деревьев, окружающих пост. Англичане поняли, где скрываются его защитники. Из укрытий казаков и солдат послышались крики раненых.
Тем временем катера дошли до мелководья. Десантники, невзирая на потери от заградительного огня русских, двинулись на берег. С левого фланга по ним гавкнули единороги Ельчанинова, изрядно выкосив картечью ряды атакующих.
Пушки фрегата и корвета моментально откликнулись на этот вызов. Взрыв бомбы перевернул одно орудие, ядро сорвало с лафета второе. Другие снаряды разметали людей; контузило Ельчанинова.
Десантники уже были на берегу. Пушечная стрельба прекратилась. И тут смертельная пружина боя, которая, казалось, раскручивалась медленно, но неотвратимо, словно сорвалась с крепления.
— В штыки их, братцы! — закричал Пузино и сам выскочил вперед, выхватив саблю. — Ура-а-а!
Офицеры Линден, Самохвалов и Шамшурин последовали его примеру; за ними, подбадривая себя криками, поднялись казаки и солдаты. В первой цепи плечом к плечу, выставив штыки, бежали Гринька и Кузьма.
— Ура! — крикнул Шамшурин, голос сорвался, и подъесаул, закашлявшись, остановился. Это, возможно, спасло ему жизнь, потому что драться врукопашную он не умел, а в штыковую пошел, боясь, что посчитают трусом.
Гринька и Кузьма обогнули его и, догнав есаула Пузино, вместе с ним врезались в ряды морских пехотинцев. Следом накатились волной их товарищи.
Закипел рукопашный бой, подобный сулою[105]. Каждый дрался с каждым, и все дрались со всеми. Несмотря на потери при высадке, десантников все равно было больше: на одного русского приходилось два, а то и три красномундирных пехотинца.
Кузьме вроде бы не повезло: десантник ловким ружейным приемом вышиб штуцер из его рук. Следующий удар вражеского штыка пришелся бы парню в живот, но Саяпин уклонился от острия, перехватил оружие англичанина за ствол левой рукой, а правой, сжатой в приличный по размерам кулак, врезал пехотинцу в переносицу. Тот моментально обмяк и выпустил ружье, которое казак тут же и перехватил. «Ну уж теперь-то я не дам себя обезоружить», — подумал Кузьма и, сжав английский штуцер обеими руками за ствол, заработал им как дубиной. Так ему было привычней.
Рядом Гринька отбивался штыком от двух десантников да еще успевал помочь есаулу Пузино, на которого тоже насела пара морских пехотинцев.
В какой-то момент Помпей Поликарпович не доглядел опасности, и приклад десантного ружья уложил его на землю, а штык вознесся над его грудью. Гринька краем глаза уловил смертельный момент, но прийти на помощь есаулу не успевал никак.
— Кузя-а! — отчаянно завопил он.
Кузьма оглянулся на зов и в последний момент всем телом рухнул на командира, отшибая английский штык в сторону. Десантник, потеряв равновесие, упал на колено, и тут же приклад Гринькиного ружья пришелся ему в висок.
Подобные схватки с перевесом в ту или иную сторону кипели на всей неширокой песчаной полосе от речушки Нелли до постовых построек. Над побоищем висел равномерный шум, складывающийся из «ахов», «охов», стонов и звуков ударов — жестких — металла по металлу, дерева по дереву, металла по дереву, ну, и, конечно, мягких — дерева и просто кулака по человеческому телу.
Долго, нет ли, длилась бы еще эта рукопашная заваруха, но на катерах запели рожки, и десантники стали отступать, подхватывая раненых и убитых товарищей. Их не преследовали. Забрав своих пострадавших в бою, ушли в лес и русские.
Корабельная артиллерия дала несколько залпов, не причинивших особого вреда защитникам поста, и временно все успокоилось.
Следующее утро снова началось с артиллерийского обстрела, опять же безрезультатного. Снова была сделана попытка десанта, но попытка какая-то вялая: встреченные штуцерным огнем десантные катера повернули назад.
В тот же день из Мариинского поста прибыл подполковник Сеславин и принял общее командование обороной. Еще через день войсковой старшина Скобельцын привел 40 конных казаков и 160 солдат, доставил и провизию, порадовав гарнизон поста хлебным вином. Хотя Сеславин и позволил принять не более одной чарки, все повеселели.
Вялотекущая осада с регулярными обстрелами бомбами и ядрами продолжалась в течение двух недель. Иногда англичане спускали шлюпки с десантом и прощупывали оборону в разных частях бухты, но всюду защитники поста успевали организовать заградительный огонь, и десантники уходили ни с чем.
Наконец в дело вмешалась погода. Наверное, Господу Богу надоела бессмысленная возня и бесполезная перестрелка. Резко похолодало, на поверхности воды стало образовываться ледяное «сало», и англичане прекратили свои домогательства. Оставаться на зимовку они не собирались.
Восемнадцатого октября корабли ушли в море, чтобы уже не вернуться. Сражение закончилось, и снова русские остались непобежденными. Они не знали, что последние залпы Крымской войны в Европе прогремели еще 2–4 октября, когда англо-французский флот разрушил Кинбурнскую крепость на устье Днепра, а за месяц до этого завершилась осада Севастополя, от которого остались лишь развалины. Здесь, на крайнем Востоке, имея колоссальный перевес в вооружении и количестве живой силы, союзники не только не выиграли ни одной кампании — они с треском провалили все, что задумывали. Активно обороняясь, русские показали себя хозяевами положения.
Несмотря на сдачу Севастополя в военном отношении эта война не была проиграна ни на одном театре боевых действий, ее проиграли на Парижском конгрессе российские дипломаты, но прежде — совещание, созванное императором Александром II 3 января 1856 года и принявшее ультиматум «нейтральных» Австрии и Пруссии. Главную партию на совещании сыграл министр иностранных дел Нессельроде, убедивший всех, кроме старого дипломата графа Блудова, принять унизительные для России соглашения.
К счастью, это было последнее деяние канцлера: после Парижа, видимо, оценив трезвым взглядом реальные результаты российской внешней политики, император отправил его в почетную отставку.
4
«Пальметто» пришел в Аян в тот же день, как ушли корабли из Де-Кастри. Море было на удивление спокойным, над водой висел густой туман, от берега его отгонял несильный ветерок. Барк вынырнул из белой мглы, словно призрак из стены, и шел, раздвигая носом льдины. «Сало» налипало на борта на уровне ватерлинии; капитан Перкинс боялся вмерзнуть в лед и потому поспешил высадить пассажиров. Его шлюпке, вмещавшей 15 человек, пришлось сделать пять рейсов между барком и причалом, чтобы перевезти людей и грузы.
Небольшое население поселка радостно встретило генерал-губернатора с супругой; некоторые из жителей еще помнили их приезд в Аян осенью 1849 года. Начальник порта Кашеваров тут же пригласил их к себе; остальных чиновников и штабных офицеров местные жители разобрали по своим домам, а нижние чины разместились в казарме. Конечно, получилось тесно, однако никаких обид не было. Наоборот, во всех домах развернулись пиршественные столы. Причины для празднества были неоспоримы: счастливое окончание опасного во всех отношениях плавания для вновь прибывших и новые лица, новые рассказы для местных.
Еды и питья хватало в избытке — Русско-Американская компания неплохо снабжала свою факторию, — всюду звучали тосты, а в казарме после возлияний начались песни и пляски под старенькую балалайку и гармонь.
Однако полноценного отдыха не получилось. Где-то после полуночи прояснело, и маячники на входном мысу увидели в море огни корабля. Поднялась тревога.
— Ваше превосходительство, — сказал Кашеваров генерал-губернатору, — к нам англичане заходили уже несколько раз. Защищаться нам нечем, и мы уходили к перевалу. Там у нас база и основные склады. Надо и теперь перебираться туда. Мало ли кто идет на этот раз.
— Это, наверное, тот французский фрегат, что гонялся за нами от самого лимана, — заметил Николай Николаевич. — Надеется взять нас в плен.
— Вряд ли французы полезут в горы, тем более, когда выпал снег, — покачал головой Кашеваров. — Да и ледовая обстановка им не благоприятствует. А вот высадиться в порту — могут.
— Тогда — уходим! Немедленно, и все без исключения.
Однако немедленно всем — не получилось: не хватало собачьих и оленьих упряжек. До базы было 13 верст, упряжки до рассвета смогли обернуться всего лишь два раза, все нижние чины пошли пешком, взяв с собой только самое необходимое. Когда поселок покидали последние люди и упряжки, солнце уже висело над горизонтом, а на рейде стоял французский фрегат.
На носу фрегата капитан Огюст Клермон и Анри Дюбуа рассматривали порт в подзорные трубы:
— Они уходят, Клермон! — взволнованно говорил майор. — Немедленно высаживайте десант! Два часа — и генерал Муравьев будет в ваших руках! Это будет главная ваша победа! Я сам пойду на первой шлюпке!
— Посмотрите за борт, Дюбуа, — покачал головой капитан. — Льды начинают смерзаться. Через два часа мы окажемся в ледяной ловушке, и уже генерал возьмет нас голыми руками. Мы проиграли, и я ухожу.
— Только не я! Дайте мне тузик и одного матроса, чтобы доставил меня на берег. Раз вы такой трус, я пойду за Муравьевым один!
— Нет, Дюбуа, я не могу рисковать жизнью даже одного своего человека и вас не пущу. Это — верная смерть!
Лицо Анри исказилось. Клермону показалось, что майор зарычал.
— Огюст, жена Муравьева — моя бывшая невеста. Она вышла замуж, потому что считала меня погибшим. Я хочу ее вернуть…
Капитан с жалостью посмотрел на него:
— Ладно, Анри. Тузик я вам дам, но добираться до берега будете сами.
Спустя несколько минут от борта фрегата отчалила двухвесельная шлюпка с одним человеком. На корабле не нашлось для него теплой одежды, поэтому он был одет в офицерский плащ и кепи. С решимостью отчаяния Анри греб к берегу. Он понятия не имел, что будет делать в пустом поселке, где искать Муравьева и Катрин и вообще — зачем он это все затеял. Он подумал, не вернуться ли, пока не поздно, и даже перестал грести, но увидел, как фрегат распустил паруса и тяжело развернулся, направляясь в открытое море.
Поздно!
Поздно что-либо менять. Если ты выбрал путь, надо пройти его до конца.
Анри вспомнил, как они с Вогулом (бедный Жорж!) шли через пустыню, и у них закончилась вода в тыквенных фляжках. Анри тогда сдался, стал говорить о возвращении, но Жорж посоветовал ему заткнуться и продолжать путь.
— Назад мы уже по-любому не дойдем, поэтому надо идти вперед, даже если идем не в ту сторону, — сказал он, едва шевеля потрескавшимися губами. — Если нам суждено погибнуть, то хотя бы в уверенности, что мы сделали все, что могли.
Когда Анри упал, не в силах сделать даже шага, Жорж потащил его на себе, шепотом ругаясь по-русски. (А он, Анри Дюбуа, не сумел спасти друга-побратима и даже потом, когда был признан его офицерский статус, не вызвал этого убийцу Бьюконена на дуэль. Впрочем, они больше не встречались, потому что корабли разделились по эскадрам. Но он все-таки поклялся найти высокомерного британца и посчитаться с ним за все. Разумеется, для него осталась неизвестной смерть Бьюконена от пули Кузьмы Саяпина.)
В конце концов им повезло: на них, уже теряющих сознание, наткнулась французская конная разведка.
…Значит, и он, майор Дюбуа, должен пройти весь путь. Даже если выбрал его неверно. Он снова в пустыне — правда, один и в ледяной — и снова не знает, что ждет впереди.
Только ужасно жаль Никиту и Аню. Но Коринна позаботится о них, он уверен…
Фрегат уже растаял в сизой мгле.
Анри взялся за весла.
5
В тайге, в распадке среди гор, расположился палаточный городок. Горят костры, люди заняты бытом: кто-то чинит нарты, кто-то готовит варево в котелке. Отдельной кучкой держатся тунгусы: одни курят трубки, тихо беседуют, другие обихаживают ездовых собак и оленей.
Муравьевы сидели на нартах, тесно прижавшись друг к другу. Екатерина Николаевна, хоть и была в собольей шубке, почему-то никак не могла согреться. Муравьев — в своей обычной зимней шинели — крепко обнимал ее.
— Черт побери! — ворчал он. — Что они там тянут с палаткой?
— Не волнуйся так, дорогой, — стараясь сдержать дрожь, откликнулась Екатерина Николаевна. — Это просто нервы. Я никак не могу успокоиться после тревоги.
Возникший в отдалении Вагранов подал генералу знак, что хочет что-то сообщить. Муравьев понимающе кивнул и крикнул:
— Енгалычев!
Адъютант вынырнул из ближайшей палатки:
— Все готово, ваше превосходительство. Можно отдохнуть.
— Спасибо, князь! Проводите Екатерину Николаевну. — Муравьев встал и помог подняться жене. — Катенька, иди, там медвежьи шкуры, тебе будет тепло. Я тоже скоро приду.
Дождавшись, пока жена скроется в палатке, Муравьев подозвал Вагранова:
— Что, француз высадил десант?
Штабс-капитан был оставлен с оленьей упряжкой на выезде из Аяна. Он должен был сообщить о действиях противника. На вопрос генерала Иван Васильевич как-то странно усмехнулся:
— Можно сказать и так…
— Сколько человек? Далеко ли они отсюда? Почему не объявляешь тревогу? — Нетерпеливые вопросы засыпали порученца, но ответ был на удивление односложным:
— Вон его ведут… А фрегат ушел.
Два солдата с ружьями вели к палатке человека в кепи и офицерском плаще.
— Он что, один? — изумился генерал. — Кто такой?
— Сейчас сами узнаете, не совсем по субординации ответил Вагранов, но Муравьев не обратил на это внимания: он всматривался в подходившего француза. И, чем ближе тот подходил, тем радостнее становилось выражение лица генерала.
Однако француз не проявил встречного светлого чувства — более того, он оставался угрюмым.
— Андре Легран?! — воскликнул Николай Николаевич, когда они очутились друг перед другом. (Солдаты ушли по знаку Вагранова.) — Здравствуйте, дорогой друг!
Муравьев хотел обнять майора, но тот резко отшатнулся и заговорил на родном языке.
— Я не Андре Легран. — Он мрачно и, как ему самому казалось, снисходительно посмотрел сверху вниз на генерала, кутающегося в темно-зеленую шинель с барашковым воротником. — Я — Анри Дюбуа, кузен Катрин де Ришмон и ее жених. Я пришел, чтобы забрать мою Катрин!
Последние слова он выкрикнул, словно хотел не его, а себя убедить в своей правоте.
Лицо Николая Николаевича окаменело, но по спине поползли ледяные струйки пота. За несколько секунд он пережил, наверное, больше, чем за всю жизнь. По крайней мере, у него было именно такое ощущение. В первый момент он почувствовал себя жестоко обманутым, но не просто обманутым, а обманутым тысячекратно, кощунственно. Ну, ладно, обманул Дюбуа, назвавшись Леграном, у него, видимо, была на то причина, но Катрин почти каждый день видела этого фальшивого Леграна и НИ РАЗУ НЕ ОБМОЛВИЛАСЬ, что он — воскресший из мертвых Анри Дюбуа! КАК ОНА МОГЛА ТАК ПОСТУПИТЬ?!! А вдруг они были в сговоре? И, вообще, чем они занимались, когда оставались НАЕДИНЕ?..
И тут из палатки появилась Катрин. Она, наверное, услышала крик Анри, а выглянув, мгновенно поняла, что происходит, и бросилась к мужчинам. Вагранов хотел ее задержать, догадываясь, что ей не следует здесь быть, но она оттолкнула его и встала перед мужем — тонкая, стройная, с непокрытой головой, в распахнувшейся собольей шубке, лицо раскраснелось, прическа растрепалась, сделав ее удивительно юной и прекрасной.
— Я знаю, Николя, что ты подумал, но все на самом деле не так, — быстро-быстро заговорила она по-русски. — Я всегда была тебе верна…
Она хотела что-то сказать еще, но муж мягко отстранил ее:
— Это все потом, Катюша. Иди к себе.
Она удивленно взглянула на него, и он слегка повысил голос:
— Я прошу тебя уйти. Пожалуйста!
На глазах ее выступили слезы, она резко повернулась и ушла в палатку, а Муравьев сказал, обращаясь к Дюбуа, подчеркнуто на русском языке:
— Не говорите глупостей, сударь. Вашей Катрин уже нет — она давно Екатерина Николаевна Муравьева. И она — не вещь, которую можно забрать… при живом-то муже.
Он усмехнулся, и эта усмешка окончательно взбесила Анри.
— Катрин была и останется моей. Первая любовь не умирает. А что муж живой — так это исправимо.
Они продолжали говорить каждый на своем языке.
— Вы меня вызываете?
— Да. Я требую стреляться и — немедленно!
— Вы ошибаетесь, сударь, думая, что любимую можно вернуть выстрелом из пистолета…
Генерал говорил спокойно, только покрасневшее пятнами лицо и напряженная фигура выдавали его состояние, но это заметил лишь Вагранов. Заметил и испугался, мысли его заметались, ища и не находя выхода.
А Дюбуа, словно подстегивая себя, выкрикнул:
— Стреляться!!!
Вы не могли бы говорить тише? Совсем необязательно оповещать всех о вашем желании умереть.
— Вы трусите?! — Майор не смог скрыть злорадства. — Стреляться!
— Извольте. Государь не одобрит дуэль, но я принимаю вызов. Только мне нужно какое-то время, чтобы оставить необходимые распоряжения, после чего я — к вашим услугам. Два часа, не возражаете?
— Не возражаю, — процедил Анри.
— Благодарю. Кстати, месье Дюбуа, нам нужны секунданты. Вы не против, если мои офицеры выполнят сию неприятную миссию? Обойдемся двумя, чтобы не расширять огласку?
Анри пожал плечами: дескать, выбора нет.
— Прекрасно! Вагранов, вы будете моим секундантом. Енгалычев послужит месье. Через два часа доставите месье на место… — Муравьев махнул рукой в сторону Аяна. — Ну, туда, за крутой поворот. А пока, Иван Васильевич, покормите майора. Чтобы у барьера его руки не дрожали. И дайте что-нибудь согревающее — у месье уже зуб на зуб не попадает.
Вагранов кивнул и повел Дюбуа к кострам.
Муравьев прошел в свою палатку и расположился за походным столиком с пером и бумагой. Распоряжения на случай своей смерти надо тщательно обдумать и записать, чтобы ничего не упустить. Впрочем, из важных дел осталось одно — граница с Китаем, поручение двух императоров. Конечно, хотелось бы самому довести его до логического завершения, но ведь любой человек смертен — закончит кто-нибудь другой, да тот же Путятин. Он везучий: с одной стороны, договор с Японией заключил, теперь жаждет прославиться договором с Китаем, с другой цунами пережил, едва-едва в плен к англичанам не попал и умудрился на слабосильной «Надежде» в малую воду дойти вверх по Амуру до Шилки.
Да ладно, бог с ним, с Путятиным, а вот с Катюшей, любимой, единственной, — вопросы… вопросы… И ни одного внятного ответа! Нет, один есть, в искренности которого он ни на миг не усомнился: «Я всегда была тебе верна».
А нужны ли другие ответы? Тем более, когда через два… нет, уже через час все окончательно определится.
Он оторвался от листа бумаги, заполняемого прыгающими строчками (рука дрожит от волнения — это плохо), и покосился на полог, отделявший спальные места. Там было тихо, но он знал, что это ничего не значит: Катрин, конечно, сейчас не до сна и отдыха. Она, бедная, мучается от невозможности какого-либо оправдания, не догадываясь, что скоро ничего не будет нужно…
Николай Николаевич добавил к перечню указаний еще несколько пунктов. Надо бы написать письма — объяснительное государю, прощальные братьям, но… время вышло.
ПОРА!!
На участке таежной дороги, с которого не видно палаточного городка, Вагранов и Анри ждали остальных участников дуэли. Анри был в глубоком раздумье, ходил взад-вперед, качал головой и наконец остановился возле штабс-капитана, который прутиком прицельно сшибал с веток кустарника налипший снег. Спросил по-русски:
— Господин Вагранов, вы давно служите Муравьеву?
— Больше десятка лет при генерале, — ответствовал Иван Васильевич, не прекращая своего увлекательного занятия.
— Он всегда такой… собранный, напористый и… благородный?
— Сколько помню — всегда. Да вы и сами могли заметить, когда были в Иркутске. Еще и смелость могу добавить. У него ж недругов — не перечесть. То доносы пишут, то каверзы устраивают. Распускаться никак нельзя. Хорошо — тыл крепкий!
— Тыл?!
— Супруга его, Катерина Николаевна, души в нем не чает и помощница первая! — пояснил Вагранов и неожиданно схватил Анри за руку. — Сударь, откажитесь от дуэли! Как офицер офицера прошу! Он великий человек! Ежели вы, не дай бог, убьете его, сколько дел хороших погибнет… А она… она же просто не переживет!
— Вот как! — Анри вырвал руку. — Вызов принят, и пути назад нет…
— Тогда прежде я убью вас. — Вагранов отступил и вынул пистолет. — Люди меня осудят — Бог простит.
— Вы убьете безоружного?! Вы, боевой офицер?! Даже палач убивает по приговору…
Вагранов в смятении опустил пистолет. Отвернулся и увидел подъезжающие оленьи нарты, а в них Муравьева и Енгалычева. Первым спрыгнул на снег генерал, подошел легким шагом.
— Простите, господа, за небольшую задержку, но зато сделано все, что нужно. Давайте поспешим, а то здесь скоро будет слишком многолюдно. — Он вдруг заметил пистолет в руке Вагранова: — Иван Васильевич, что это?!
— Месье проверял оружие, — опередил Вагранова Анри. — Дуэльных пистолетов нет — придется стрелять из боевых.
— Значит, придется. Все в порядке, Иван Васильевич? — Вагранов кивнул. — Тогда приступим.
— Господа, не желаете ли помириться? — важно спросил Енгалычев.
Было заметно, что ему ужасно нравится быть секундантом.
— Нет, — жестко сказал Муравьев.
— Я… — неуверенно начал Дюбуа, но тут же оборвал себя: — Нет, не желаю. Как говорил мой покойный друг: чему быть, того не миновать. И я согласен на все условия.
— Я тоже, — кивнул генерал.
— Тогда условия такие: сходиться с пятидесяти шагов и делать по одному выстрелу. Возражений нет? — спросил Енгалычев и достал из сумки, висевшей у него на поясном ремне, ящик с пистолетами. — Я взял у вас, ваше превосходительство, из домашнего арсенала. Выбирайте и проверяйте оружие, господа. А вы, Иван Васильевич, отмерьте расстояние.
Вагранов воткнул в дорогу саблю Енгалычева, отсчитал 50 шагов и воткнул вторую — свою.
— Господа, прошу занять места. — Енгалычев указал французу на дальнюю саблю.
— Сударь, — негромко по-русски сказал Анри Муравьеву, — прежде чем мы разойдемся навсегда, должен вам сказать, что, наверное, слишком плохо вас знал и сожалею об этом. — Отдал честь и пошел к своему барьеру.
Дождавшись, когда майор встанет возле сабли, князь взмахнул платком, и соперники начали сходиться. Вернее, шел один Дюбуа — Муравьев после нескольких шагов остановился в задумчивости и ждал, опустив пистолет.
Он вдруг вспомнил сон о дуэли. Прав был писатель Гончаров: надо очень осторожно себя вести, чтобы не навредить будущему — оно слишком зависит от мелочей. Вот майор во сне что-то говорил о дважды украденном счастье — что он имел в виду? И, кажется, должна появиться Катрин…
Генерал настолько ушел в себя, что не заметил, как противник начал целиться.
Вдруг из-за поворота, со стороны временного поселка аянцев, вылетела оленья упряжка с нартами без каюра. Держась за дуговую спинку саней, на их полозьях стояла маленькая фигурка в коричневой шубке. Вагранов бросился на перехват и остановил упряжку как раз возле Муравьева. Екатерина Николаевна — а это была она — спрыгнула с нарт, бросилась к генералу и закрыла его своей спиной.
В тот же миг раздался выстрел Анри. Пуля прошла так высоко, что даже не было слышно свиста.
Казалось, все в природе замерло, никто ничего не успел сделать.
Анри бросил пистолет и встал открытой грудью к противнику.
Екатерина Николаевна обернулась к мужу, обняла его за шею и заговорила быстро, глотая слова и захлебываясь слезами:
— Мой дорогой, мой умный, сильный, добрый, не убивай его! Я тебя люблю, очень люблю, я навсегда твоя, не убивай его, пожалуйста, очень тебя прошу! Он — мой брат, мой кузен, я тоже его люблю, но мой муж — ты, ты, ты…
— Я и не собирался его убивать, — удивленно сказал Николай Николаевич и отдал оружие Вагранову.
Он обнял жену и повел ее не во временный поселок, а по дороге в Аян.
Анри понял, что его гордыня нелепа и теперь стоял, потерянно опустив голову. Возле топтался Енгалычев, не зная что делать дальше.
— Надеюсь, господа, все произошедшее останется между нами, — сказал, проходя, Муравьев. Енгалычев энергично закивал. — А вы, майор Дюбуа, сдавайтесь и следуйте за нами в Иркутск. Для вас война закончена.
Глава 12
1
В Аяне не хватало собачьих и оленьих упряжек, чтобы отправить команду генерал-губернатора единым поездом. Поэтому пришлось разделиться на группы. Одна группа доезжает до станции и отправляет упряжки назад для второй группы, а сама двигается дальше на упряжках, имеющихся на станции. И так далее.
Муравьевы и Вагранов выехали последними.
До последнего перед Якутском полустанка Майя, что в пятидесяти верстах от центра области, все шло хорошо. Но в Майе случилась задержка.
Упряжка в двенадцать сибирских ездовых собак-лаек была готова; Муравьевы стояли в ожидании возле загруженных нарт.
— Последний перегон до Якутска, — сказал Николай Николаевич. — Полсотни верст. Осилим, Катюша?
— Да я уже привыкла, — с улыбкой отвечала она. — Ты знаешь, мне так нравится ездить на нартах! Ни с чем не сравнимое удовольствие!
Из избы смотрителя выскочил Вагранов:
— Николай Николаевич, каюр заболел, а на подмену нет никого.
— Что же нам, ждать, пока выздоровеет каюр? Что с ним?
— Животом мается, смотритель его обихаживает… Николай Николаевич, дозвольте мне за каюра? Наука нехитрая. Я, когда ездил на Амур прошлой зимой, от Аяна до Петровского управлял собаками. Дорога тут простая, тайга да луга — доберемся. Смотритель, правда, сказывал: к ночи метель взыграет, — да мы до метели управимся. Часов за пять домчим. Собачки сытые, отдохнувшие — потянут за милую душу.
— Ладно, умаслил. Садись, Катюша, с левой стороны, я — с другой. Ну, а ты, каюр Иван, берись за хорей.
Упряжка мчалась по лесу, уносились назад деревья, усыпанные снегом, мелькало сквозь ветви невысокое оранжевое солнце… Внезапно лес кончился; открылась заснеженная равнина до самого горизонта — горизонт холмился, от неба его отделяла толстая черная линия тайги. В одном месте холмы лохматились дымами: там было жилье, там был Якутск.
Упряжка вырвалась из леса на эту равнину уже не одна: следом неслась большая стая волков. Впереди стаи — огромный зверь с умными сосредоточенными глазами. Он — вожак, он — координатор нападения. Вот он издал короткий рык, и четыре волка — по два с каждой стороны — начали обходить нарты. Они наметом шли на перехват упряжки. Их темно-серая, почти черная на загривках и спинах шерсть взблескивала искрами под лучами солнца.
Вагранов шлепнул вожака упряжки хореем по спине, но собак не стоило подгонять — они и так уже изо всех сил рвались из постромков. Муравьев и Екатерина Николаевна держали наготове револьверы «лефоше».
— Стрелять только наверняка, — сказал Муравьев. — Перезарядить не успеем.
Они и стреляли почти в упор, пока из стаи не осталось два волка, один из которых — вожак, а из оружия — лишь кинжал.
И тут случилось самое страшное: Вагранов оглянулся — видимо, чтобы оценить обстановку, — хорей в его руке опустился, воткнулся тонким концом в снег и столкнул с нарт всех пассажиров. Облегченная упряжка умчалась вдаль.
Муравьев вскочил, закрывая спиной Екатерину Николаевну, успел перекинуть кинжал из больной руки в здоровую, и прикрыться от налетающей клыкастой пасти. Зубы зверя сомкнулись на его правом локте, но левая рука человека уже наносила удары кинжалом в шерстистый бок: раз… другой… третий…
Вагранов в это время обломком хорея дрался со вторым волком и удачным ударом сломал ему хребет.
Потом они долго, поддерживая друг друга, брели по переметенному поземкой санному следу. Брели, пока окончательно не выбились из сил. Потом лежали, засыпая, метель заметала их тела, и лишь обломок хорея, воткнутый в снег, мог подсказать, где находятся люди…
Они уже не видели, как издали с факелами мчатся конные сани…
* * *
Банька в Якутске для промерзших победителей волков оказалась в самый раз.
При генерал-губернаторском доме, построенном после первого приезда Муравьевых, своей мови[106] не было, но в соседних купеческих усадьбах — с одной стороны, Платона Колесова, с другой — Петра Захарова — бани были одна в одну и по высшему разряду — с просторными теплыми предбанниками для чаепития, с осиновыми лавками в мыльне и полк ми в парной, с запаренными пихтовыми и березовыми вениками, с ушатами кваса и пива — чтобы поддавать на раскаленную каменку… Таких бань в Иркутске не было ни у кого.
Екатерину Николаевну парили у Платона Колесова. Две дочери купца, пышногрудые и крутобедрые красавицы, словно сошедшие с полотен Рубенса, натерли медом генеральшу и поддали на камни квасу брусничного, так что дух занялся; под присказку «Вот тебе баня ледяная, веники водяные, парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полка не свались» истомили ее легкими шлепками, жаркими обмахиваниями и оглаживаниями душистыми вениками, омыли прохладной, смешанной с лечебными отварами, водой и, не вытирая, завернули в огромную льняную простыню. После всего, усадив именитую гостью за стол с самоваром, заставленный плошками с вареньями и медами, блюдами со сдобой, напоили травяным чайком и, обрядив в пимы и тулуп до пяток, по хрусткому снежку и свежему морозу проводили в спальню в губернаторском доме.
А мужчин-победителей позвал Петр Захаров. Ко времени заехал и владыко Иннокентий: со словами «Дух парной — дух святой» не отказал себе в удовольствии потешиться квасным паром с пихтовым веником.
— Веник в бане — господин, — рокотал владыко, охаживая свои могучие телеса мягкой пахучей хвоей.
— В бане мыться — заново родиться, — пословицей на пословицу откликался якутский купец Захаров, от души хлеща генерал-губернаторскую спину.
Муравьев крякал, охал, ахал и даже повизгивал, когда Вагранов поддавал пару — то квасом, то пивом, то снова квасом.
По всей бане гулял густой хлебный дух.
Архиепископ и купец выскакивали на улицу, чтобы под полной луной поваляться в чистейшем снегу; возвращались, исходя паром от разогретой кожи, и снова лезли на полок. Муравьев, совершенно обессилев, лежал на лавке в предбаннике, Вагранов поил его чаем.
Передохнув, компания переместилась в губернаторский дом, к накрытому столу. Там к ним присоединился якутский гражданский губернатор Григорьев — это он распорядился насчет послебанной трапезы.
Прежде чем сесть за стол, Николай Николаевич заглянул в спальню. Екатерина Николаевна спала, разметавшись в чистой теплой постели под призрачным покрывалом лунного света. Муж полюбовался ею, бережно, чтобы не разбудить, укрыл до пояса одеялом и вышел в гостиную, где за уставленным бутылками и закусками столом, среди которых возвышался горячий самовар, сидели высокопреосвященный Иннокентий, губернатор Григорьев, Захаров и Вагранов.
— Константин Никифорыч, — обратился к Григорьеву генерал, — как устроили моих людей?
— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, все исполнено наилучшим образом.
Владыко разлил всем золотистое вино:
— Отведайте наливочки из морошки, чада мои возлюбленные. Славная, скажу я вам, для жизни ягодка! От цинги спасает. Травка, знаете, северная, неприметная, а такую пользу родит! Как и вся земля наша… Тост за вами, Николай Николаевич, дорогой вы моему сердцу человек. Вы же ныне совершаете такое, за что потом вся Россия будет Господу Богу нашему молитвы за вас возносить. Святое дело! Недаром покойный государь наш успел отметить отличную службу и особые труды ваши орденом Святого благоверного Великого князя Александра Невского.
— Полноте, владыко, — поморщился Муравьев. — Вот ваши труды апостольские в Америке и здесь, в Сибири, воистину святы, а мое служение царю и Отечеству — долг чести. Нет, я от наград не отказываюсь, но смотрю на них, как на знаки исполнения этого долга и подтверждения доверия ко мне со стороны государя… А тост я предлагаю поднять за то, чтобы вы, владыко, стали первосвятителем Приамурского края. В прошлые пять лет мы заступили туда ногой военной, с нынешнего сплава начали его мирное заселение, но только обращение аборигенов к свету веры православной закрепит этот край за нами, за Россией.
— Обещаю: как только будет договор о границе, я перенесу резиденцию свою на Амур. Выберем с вами место для основания города и понесем благую весть о жизни и деяниях Отца нашего Иисуса Христа в каждую душу, свету открытую.
2
— Как тяжко живется на свете, когда никто не воюет с Россией!
Этой фразой, рассчитанной на то, чтобы остаться в истории, сэр Генри Джон Темпл Пальмерстон завершил свой доклад королеве Виктории и принцу-консорту Альберту о результатах Парижского конгресса, на котором была подведена черта под Крымской войной. Премьер не скрывал своего недовольства ее окончанием.
Королева, никогда не забывавшая, как уничижительно отзывался лорд о дипломатических инициативах и способностях ее горячо любимого мужа, не упускала даже малейшего промаха виконта, чтобы не поставить его на место. После падения правительства Абердина, которого она глубоко уважала, падения, подготовленного, между прочим, именно Пальмерстоном, она вынуждена была прислушаться к воинственно настроенному общественному мнению и поручить сэру Генри возглавить кабинет, но схваток с ним не прекращала.
— Так что же мы получили в результате Восточной войны, сэр Генри? — как можно язвительнее спросила королева.
— В военном отношении успехи ничтожны, ваше величество, — со вздохом признал премьер. — Даже взятие Севастополя, как бы его ни раздували газеты, не прибавило нам военного авторитета. А провалы операций на Тихом океане нанесли весьма чувствительные удары.
— А территориальные приобретения?
— Их нет, ваше величество.
— Может, Англия получила какие-то выгоды для торговли?
— Увы, если не считать свободы плавания по Дунаю.
— Зачем же мы ввязывались в это предприятие, Пальмерстон? Это же была ваша инициатива, которую вы настойчиво внедряли в общество. Кстати, почему лорд Кларендон и этот… как его?.. Каули удовлетворились в Париже столь ничтожными результатами?
— Парижский конгресс оказался под сильным влиянием императора Наполеона, — вмешался до того молча следивший за словесной баталией принц Альберт. — Его величество Император Французов[107] раздумал побеждать Россию и многие требования союзников спускал на тормозах. В результате мы имеем то, что имеем.
— Отрицательные результаты, ваше величество, — Пальмерстон намеренно обращался только к королеве, приводя принца в тихое бешенство, — иногда приводят к положительным выводам. Да, я был зачинщиком этой войны и считаю ее своим достижением. Война выявила наши слабые места и ошибки, то, что в мирное время мы бы долго не замечали, а теперь это надо немедленно исправлять. Разумеется, то же самое, и — я подчеркиваю — в гораздо большей степени, выявилось и у России. Россия выдохлась, это — главный итог войны. Но вот исправлять выявленное она, в отличие от нас, будет очень долго. Минимум пятнадцать-двадцать лет мы будем избавлены от соперничества с этим неповоротливым монстром.
— И на Тихом океане, где мы потерпели позорное поражение? Россия обеими ногами встала на Амуре!
— О нет, ваше величество. До этого еще далеко, и, я уверен, никогда не случится. Мы затеем небольшую войну с Китаем, заставим его открыть для нас торговое судоходство по Янцзы и Хуанхэ…
Пальмерстон говорил уверенно, напористо, а думал о том, что далеко не все из того, что он вколачивал в головы царствующих особ, может реализоваться. Ему уже было известно, что граф Нессельроде отправлен в отставку, а его место должен занять князь Александр Горчаков, который не станет угождать всем[108], что только что, в марте, прошло заседание российского Правительствующего Сената, на котором генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву дали такие полномочия, что он стал основной политической фигурой, представляющей Россию на востоке империи. А это значит, что он любыми средствами будет давить на Китай ради подписания договора о разграничении на его, Муравьева, условиях. И самое печальное, что Англия не может никого противопоставить этому агрессивному деятелю. Остина разоблачили и выслали из страны, а те, кто его прикрывал в Цицикаре, поплатились головой. Теперь в провинции Хэйлунцзян новый губернатор, князь И-Шань, и Муравьев будет с ним вести переговоры, а князь, насколько можно судить по его предыдущим контактам с русскими, благоволит им гораздо больше, чем другим иноплеменникам. И воздействовать на него со стороны невозможно, хотя бы потому, что он тесть богдыхана и к нему не подобраться.
И под угрозой полного разгрома вынудим отказаться от переговоров с Россией по поводу Амура, — победно закончил премьер.
3
В парке шереметевского дворца в Останкине прогуливались два старых друга, два Александра — император и князь Барятинский. Оба высокие, статные, пышноусые, оба — неторопливые, как в разговоре, так и в движении. Они шествовали вдоль решетки, отгораживающей парк скульптур от дороги, ведущей в Отрадное, иногда останавливались возле мраморных изваяний богинь, любуясь идеальными формами мифических женщин и между делом перебрасываясь небольшими, но емкими фразами.
Александр Николаевич вызвал князя на свою коронацию, назначенную на 26 августа, как издревле повелось, в Успенском соборе Кремля. Монаршая чета прибыла в Первопрестольную специальным поездом за неделю до коронации и пока отдыхала, одновременно говея[109]. Выбор для отдыха усадьбы Останкино явился знаком особого расположения императора к знаменитому благотворителю — графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву, кстати сказать, сыну крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой и графа Николая Петровича.
— Ну, как у тебя, Саша, складывается дело в Кавказской армии? — Император так заинтересовался «Дианой-охотницей», что даже обошел ее со всех сторон.
Князь, наблюдая за ним, ухмыльнулся в усы:
— С Милютиным — хорошо. Лучше, чем было без него. — Генерал Дмитрий Алексеевич Милютин по просьбе князя был назначен исправляющим дела начальника Главного штаба Кавказской армии. — А что, ваше величество, эта девица вам кого-то напоминает?
— Кажется, она и тебе кого-то должна напоминать. Даже больше, чем мне, — с сарказмом парировал самодержец.
Барятинский вгляделся внимательнее в профиль языческой богини.
— А ведь и верно, — протянул он, покачав головой. — Какой острый глаз, ваше величество! И какая память! Всего две встречи — одна на балу, а вторая наверняка в полумраке, — и так помнятся!
— Ты-то с ней сколько якшался, а не вспомнил. Так что не ерничай, — осадил князя Александр Николаевич. — Да и генералу от инфантерии это не к лицу.
— Запамятовали, ваше величество, — я всего лишь генерал-лейтенант, а лейтенанту все к лицу.
— В день коронации можешь надеть эполеты полного генерала.
— Благодарствуйте, ваше величество! — поклонился князь. — А те, кто по старшинству впереди меня, тоже принарядятся? Там, кажется, Муравьев, который в Сибири, и Суворов, который в Риге?
— Они получат бриллианты к своим «Невским». А с чином могут и подождать. Для тебя чин важнее: ты становишься кавказским наместником и должен внушать аборигенам страх и уважение.
Барятинский стал серьезным:
— Уважение — согласен, а вот насчет страха… Ермолов и иже с ним пытались воздействовать страхом — око за око! — вот и получили мы свою Тридцатилетнюю войну. Нет, мет да Муравьева надежнее и быстрей приводит к результату.
— Что еще за мет да и какого Муравьева? — насторожился император.
— Мет да, какой сегодня пользуюсь я, звучит так: зло и страх возбуждают гордыню, а добро и порядок усмиряют ее. Ей пользовался Муравьев, который в Сибири, когда служил на Кавказе. Я нашел его докладную записку и взял на вооружение.
— Где же она валялась, эта докладная записка? — недовольно спросил Александр Николаевич.
— В бумагах, назначенных к сожжению за ненадобностью, — не скрывая иронии, ответил князь.
— Шкуру надо спустить с того, кто подобные бумаги обрекает на уничтожение. — В голосе императора зазвенел гнев.
— Эх, ваше величество, — тронул его за плечо Барятинский, — умерьте ваш пыл. Россия всегда славилась разгильдяйством и недоверием к своим пророкам. И у нас никогда не найдешь виноватого. Лучше обратим свои взоры вновь на «Охотницу Диану». Она весьма подходит для говения.
— Ты давно с ней расстался? — хмуро спросил царь.
«Расстался» — мягко сказано. Сбежала она от меня, почитай, тому уже пять лет. Сбежала и вещицу одну памятную прихватила.
Ни князю Александру Ивановичу, ни, тем более, российскому императору и в голову не могло прийти, что в это самое время «охотница Диана», сиречь Хелен Эбер, беседовала с министром уделов и заведующим Кабинетом Его Величества Львом Алексеевичем Перовским. Аудиенцию ей устроил товарищ министра иностранных дел Сенявин. Графиня Эбер обратилась к графу Перовскому как к шефу Академии художеств и Комиссии по исследованию древностей с предложением создать в России просветительско-образовательную группу для студентов и всех любителей археологии под эгидой Общества лондонских антиквариев, имеющего уже полуторастолетнюю историю. Графиня явилась на прием не с пустыми руками, она преподнесла Льву Алексеевичу два презента: портрет «Неизвестной» работы академика акварельной живописи Владимира Гау и обломок песчаника с выцарапанным на нем животным с ветвистыми рогами.
— Этот наскальный рисунок найден в Забайкалье, на берегу реки Аргунь, — на чистом русском языке пояснила графиня. — Наши ученые считают, что рисунку несколько тысяч лет, и он представляет собой исключительную ценность. Тот край надо тщательно изучить, чем и займется предлагаемая группа.
Лев Алексеевич, открытая душа, потрясенный уникальным археологическим подарком, кроме согласного кивания в ответ, вкупе с любовным оглаживанием камня, ничего вразумительного не произнес. Но, несколько успокоившись, взял в руки портрет и вгляделся в тонкие черты милого открытого лица:
— Кого-то она мне напоминает… Скорее всего, супругу генерал-губернатора Муравьева. Правда, еще очень молодую. Очень похожа! Очень!! Хотя… кто это на самом деле, можно выяснить у самого академика. Благодарю вас, графиня, просто не хватает слов, чтобы выразить вам признательность…
— Так я смею надеяться, милый граф, на ваше содействие нашему проекту? — обольстительно проворковала гостья, подавая руку.
— Все, что в моих силах… — Лев Алексеевич встал и поцеловал обтянутую тонкой белой перчаткой тыльную сторону маленькой узкой ладони.
Не знал старый граф, что визит очаровательной молодой англичанки был прологом новой многоходовой операции Пальмерстона, направленной против России в лице ее самодержца. Операция эта потрясет Россию первыми террористическими актами, а развитие ее приведет к тому, что внучатая племянница графа Софья Перовская возглавит роковое покушение на императора 1 марта 1881 года и закончит свои дни на виселице вместе с четырьмя подельниками.
Глава 13
1
В течение весны и лета 1856 года Муравьева беспокоили три вопроса. Они следовали по цепочке, но и переплетались между собой и были взаимозависимы.
Во-первых, третий сплав.
Дела требовали срочного выезда генерал-губернатора в столицу, но до него дошли тревожные слухи о том, что китайцы не намерены в этот раз пропускать русских по Амуру и якобы даже готовы применить силу. Николай Николаевич действовал, как всегда, решительно. В Ургу немедленно был отправлен Михаил Волконский с предписанием от имени главнокомандующего войсками Восточной Сибири выразить самое дружеское расположение амбаню Бейсэ лично, а через него — богдыхану и всему Дайцинскому государству, а насчет русских войск — если спросят — рассказать, что огромные силы собираются со всей Сибири, но с единственной целью — защитить владения России и в случае надобности помочь китайскому правительству против английской и любой другой агрессии. При этом главная задача Михаила Сергеевича — выяснить всё про намерения китайской стороны в отношении сплава. Результаты не отправлять почтой, а по-курьерски доставить лично в Петербург.
Одновременно генерал возложил на полковника Корсакова обязанности действительно готовить войска, в первую очередь — к отправке в низовья Амура, но и — при необходимости прорыва по Амуру — к решительным действиям.
Следует сказать, что Волконский снова, как и в случаях борьбы с холерой, командировки на Аянский тракт и организации переселенцев, доказал свою надежность в качестве чиновника особых поручений. Взяв с собой переводчика Шишмарева, человека опытного и имеющего на китайской стороне обширные личные связи, а также несколько казаков, Михаил Сергеевич, несмотря на глубокие снега, добрался до Урги и был принят амбанем Бейсэ, с которым имел долгую доверительную беседу. Амбань Бейсэ, монгольский князь Дилека-Дарджи, воспитывался вместе с богдыханом и, видимо, поэтому имел большое влияние при дворе, особенно по вопросам границы с Россией. Князь благосклонно принял устное послание генерал-губернатора и подарки (ими снабдил Волконского новый градоначальник Кяхты Деспот-Зенович) и весьма живо интересовался действиями России — Восточной войной, обороной Петропавловска, защитой побережья Татарского пролива. Он оценил два русских сплава как содействие укреплению доверия между соседями, однако уклонился от ответа на вопрос об отношении к третьему сплаву. Тем не менее его секретарь Тотти, начальник почтового округа Тусулакчи и другие чиновники дали понять, что сплаву для войны с Англией и Францией Китай препятствовать не будет, а Шишмарев через купечество и монгольское духовенство выяснил, что никаких военных приготовлений вообще не предполагается.
С этими сведениями Волконский помчался в Петербург. Поездка в столицу оказалась исключительно важной: в честь своей коронации Александр II помиловал государственных преступников, в том числе декабристов: Николай Николаевич решил немедленно отправить эту счастливую весть в Сибирь, и молодой Волконский оказался тут как нельзя кстати. Михаил ринулся в Иркутск (с заездом по пути во все места, где на поселении находились бывшие каторжане), даже не зная о том, что через три дня после его отъезда царь возвратит ему княжеский титул.
Второй вопрос — возвращение войск с Нижнего Амура в Забайкалье в связи с окончанием войны. Им на смену с третьим сплавом должны прийти свежие части, правда, уже не в таком количестве, ибо содержать там большие воинские соединения, пока не налажено регулярное пароходное сообщение по Амуру, слишком накладно. Вернуться в Забайкалье следовало 13-му и 14-му линейным батальонам и казакам; 15-й батальон оставался в низовьях на постоянную службу и вливался в состав 48-го флотского экипажа. Приказ о возвращении Муравьев отправил Корсакову с новым адъютантом подполковником Александром Антоновичем Моллером[110], а в личном письме двоюродному брату писал о необходимости начать организацию будущего Амурского казачьего войска и для начала сформировать отряд под началом войскового старшины Хилковского, из состава которого во время сплава основать шесть постов — Кутомандскиий, Кумарский, Усть-Зейский, Бурейский, напротив устья Сунгари и возле устья Уссури.
Очень важным генерал считал обеспечить возврат войск продовольствием, а для этого приказал Корсакову поручить подполковнику Буссе устройство складов по пути следования солдат и казаков вверх по Амуру. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает: двух обстоятельств не могли учесть ни сам Муравьев, ни Корсаков, ни Буссе — большой и ранний паводок на Амуре в результате муссонных дождей и большие и ранние холода с последующими обильными снегопадами. Эти обстоятельства вкупе с обычным русским разгильдяйством, которого всегда хватает в большом и серьезном деле, вкупе с тифом и простудами привели к гибели около 200 солдат и офицеров на 3000-верстном пути по безлюдной пустыне, вначале залитой водой, а потом заваленной снегом. Склады с продовольствием, рассчитанным на определенную заранее длительность переходов, оказывались порой недосягаемыми из-за слишком медленного движения: против быстрого течения лодки тянули бичевой, продираясь через непроходимые заросли по пояс, а то и по грудь в воде, порой заходя в незамеченные устья притоков и вынужденно возвращаясь обратно; невозможность согреться и просушить одежду быстро приводила к горячке и выходу людей из строя — все это изо дня в день тормозило продвижение партий. Когда по реке пошла шуга, пришлось долго ждать ледостава, а потом ладить санки и идти с грузом сквозь метели… Последнему отряду, под началом подполковника Облеухова, особенно не повезло. Не повезло главным образом с командиром. Корсаков приказал ему сплавиться и вернуться за одну навигацию, но отряд прибыл в Мариинский лишь 17 июля. Казакевич предлагал Облеухову перезимовать с отрядом в Мариинском, но рьяный подполковник, не дав подчиненным отдохнуть и набраться сил, уже через неделю двинулся обратно. И… застрял в пути на четыре месяца. Только в ноябре, претерпев жесточайшие лишения и огромные потери, солдаты добрались до родных мест. Но, если бы не помощь китайцев с правого берега, если бы не Скобельцын, благополучно прошедший с первой партией казаков и пославший из Усть-Стрелки людей на выручку отстающих, если бы наконец не баржа с мукой, брошенная Облеуховым на мели по пути в Мариинский, потери могли быть еще больше и мучительней.
Правда, в сравнении с потерями в Севастополе, где в один день порою погибали свыше тысячи человек, гибель двух сотен солдат не столь уж значительна, и, наверное, поэтому никто из начальствующего состава не был наказан. Однако можно сказать, что там люди погибали в бою, под бомбами и пулями, а здесь ничего подобного не было. В то же время нельзя не признать, что природные силы — вода, ветер, мороз и жар солнца могут убивать даже больше, чем снаряды и пули. А для солдата смерть, когда потребуется, — есть часть службы…
И все-таки вопрос оставался: а кому и для чего требовалась смерть этих несчастных и требовалась ли она вообще? Ответа нет. Вернее, он есть, но относится скорее к общим, историко-философским: этот случай — еще один пример в ряду многих и многих, подтверждающий, что в России, пока жив человек, его жизнь ни в грош не ценится, а после смерти — о ком-то можно и погоревать. Во время четвертого сплава Муравьев взял молодого казака Романа Богданова (он его ласково называл Богдашкой) в качестве гребца и отправился на малой лодочке на один из амурских островов, где, по слухам, больше всего полегло солдат из отряда Облеухова. Они ходили по острову, собирали кости непогребенных в одну братскую могилу, потом поставили небольшой крест и долго молились возле него, стоя на коленях и отбивая поклоны.
Муравьев плакал и бормотал:
— Простите, братцы, но моей вины в вашей гибели нет… Простите, ради Христа…
Кончив молиться, генерал встал, вытер слезы и строго сказал:
— Ты, Богдашка, это место запомни, и все, что здесь было, — тоже. Но — никому не рассказывай до самой моей смерти. После — можешь, а прежде — никому ни слова. Такой тебе мой наказ.
Третий вопрос, не дававший Николаю Николаевичу покоя ни днем ни ночью, — переговоры с китайцами.
Сменивший Нессельроде князь Горчаков был совершенно равнодушен к восточным делам — все его мысли занимали проблемы европейские и главная среди них — возвращение России статуса великой державы, который она утратила после Парижского конгресса. Пользуясь безразличием начальства, противники Муравьева в Министерстве иностранных дел, сникшие после отставки Карла Васильевича, вновь подняли головы и начали, как выразился Гончаров, ставить bâtons dans les roues.
Первым делом постарались очернить значение Амура для России. Свою лепту, и немалую, внес в это адмирал Путятин. После подписания договора с Японией, лишенный «Паллады» и «Дианы», он долго возвращался в Россию вверх по Амуру на пароходике «Надежда», насмотрелся на залитые водой острова и донельзя раздраженным тоном рассказывал об этом путешествии императору и генерал-адмиралу.
— Не нужны России эти болота, ваше величество, — рокотал адмирал. — В них можно так завязнуть, что и не выберешься никогда. Муравьев хочет их присоединить — это понятно: тщится остаться в истории продолжателем Пояркова и Хабарова. А что — у России мало земель, что надо лезть черт-те куда? Простите, ваше величество, ваше высочество! В какие-то дебри, Богом забытые, где неделю плывешь — человека не встретишь, даже аборигена!
— Да что же делать, Евфимий Васильевич? — уныло вопросил император. — Три сплава уже прошло, и каждый раз мы заявляем Китаю, что левобережье Амура и земли за Уссури принадлежат России. Я назначил Казакевича военным губернатором новой Приморской области, в которую включена и Камчатка, и Приамурье, и побережье вплоть до Кореи. А теперь что — отдавать?!
— С Китаем никакого договора пока нет, ваше величество. Надо отправить в Пекин опытного дипломата и заключить соглашение, вроде того, что подписали с Японией — о торговле, а вместе с тем и о границах. — Путятин гнул свою линию, зная, что кроме него в Китай посылать некого: только у него был уже опыт дипломатии на Востоке. — Левый берег можно оставить за нами.
— Нижний Амур отдавать нельзя, — сказал Константин Николаевич, без единого замечания выслушавший рассказ адмирала. С некоторых пор он стал вести все дела, связанные с Востоком. — Невельской столько трудов положил на его изучение! Он считает край богатейшим.
— Невельской и Завойко уже покинули Амур, — хмуро заметил император. Он не знал, как поступить, и это его раздражало. — Что бы им было не заняться колонизацией?
Они уже выслужили свои сроки, — возразил генерал-адмирал. — Невельской — полтора, а Завойко — так вообще целых три! Но полтора Невельского стоят трех завойковских! Надо же и о семьях подумать.
— Подумать следует и нам. — Император повернулся к Путятину. — Спасибо, Евфимий Васильевич, за информацию. Мы ее учтем.
Раздосадованный этим разговором, Константин Николаевич настолько охладел к амурскому вопросу, что разрешил «Морскому сборнику» печатать статьи, резко критические по отношению к присоединению Приамурья и Муравьеву лично.
Николаю Николаевичу пришлось пустить в ход перед императором и генерал-адмиралом все свое красноречие, чтобы защитить Амур, но критику печатать не перестали йот переговоров с Китаем его отодвинули. Вернее сказать, «заморозили» сами переговоры до следующего года. В 1857-м намеревались послать дипломатическую миссию с функциями посольства с целью заключения договора. Послом, разумеется, должен был стать адмирал Путятин.
Решение это возмутило Николая Николаевича, который считал вопрос о разграничении своей прерогативой, поскольку положил на это немало сил и времени, но он смолчал, опершись на мнение главы русской православной миссии в Пекине архимандрита Палладия. Палладий писал, что поднимать в Пекине сейчас вопрос о разграничении абсолютно бесполезно: китайское правительство боится, что, уступив России Амур, оно даст повод другим государствам добиваться для себя каких-либо привилегий. Зная, как любят китайские чиновники откладывать в долгий ящик порою даже важнейшие дела, Муравьев нисколько не сомневался, что и путятинская миссия затянется на неопределенное время; причем он был убежден, что разграничением надо заниматься непосредственно на границе, а не в столицах, и что-то ему подсказывало, что это дело вернется к нему.
Однако сразу после коронации Александра II произошло событие, которое едва не погубило все замыслы и предположения. Не случайно князь Барятинский, узнав о своем производстве в генералы от инфантерии, напомнил императору о старшинстве Муравьева и князя Суворова. Генерал-лейтенанты не стерпели того, что их обошли чином, и, будучи оба генерал-губернаторами, подали в отставку. Князь Александр Аркадьевич, встретив Николая Николаевича в приемной императора, после приветствия сказал в своей обычной язвительной манере:
— Мы с вами стали жертвами нежной дружбы, Муравьев. Как поется у Бетховена: «За друга готов я пить воду, да жаль, что с воды меня рвет». Не знаю, как вы, а я чувствую себя оборванцем.
Суворова в высшем свете хорошо знали как человека, острого и злого на язык, поэтому, наверное, на его дерзость на обратили внимания, тем более что в отставку он не вышел.
А Николай Николаевич усмотрел в действии царя лишение доверия, которым очень дорожил. Он всегда считал и не раз писал в письмах родным братьям и Корсакову, что без доверия государя не видит смысла в своем генерал-губернаторстве.
— Дело не в чинах и орденах, как таковых, — говорил он в кругу близких людей, — но именно они свидетельствуют окружающим о том, что государь одобряет исполнение мною долга перед ним и Отечеством.
Свое заявление об отставке Николай Николаевич направил государю, но оно попало в руки великого князя, и тот уговорил генерала отказаться от пагубного для его положения намерения. Константин Николаевич был довольно наблюдательным человеком и, несмотря на свою молодость, успел изучить тонкости натуры Муравьева. А потому основным доводом убеждения избрал не тщеславие или честолюбие, не заботу о личном благополучии, а любовь генерала к Престолу и Отечеству. Должно быть, от отца своего, Николая Павловича, воспринял он как духовную опору стихотворение Гавриила Державина «Вельможа», а может быть, знал достоверно, что Муравьев весьма его чтит, но, исчерпав обычные аргументы, напомнил генералу бессмертные строки:
Вельможу должны составлять Ум здравый, сердце просвещенно; Собой пример он должен дать, Что звание его священно, Что он орудье власти есть, Подпора царственного зданья; Вся мысль его, слова, деянья Должны быть — польза, слава, честь.Читая их, великий князь вдруг увидел, как повлажнели глаза генерала.
— Я остаюсь, сказал Муравьев. — Но у меня имеется просьба, ваше императорское высочество. Так или иначе, срок моего пребывания на посту генерал-губернатора окончится, и я не хочу, чтобы главное дело моей жизни попало в равнодушные руки.
— У вас есть кто-то на примете? — поднял брови генерал-адмирал.
— Да. Уже несколько лет я постепенно ввожу в круг моих занятий полковника Корсакова, начальника Забайкальской области…
— Знаю, знаю, перебил Константин Николаевич. — Это он в 54-м привозил донесение о первом сплаве. Толковый офицер!
— Очень толковый и — полный мой единомышленник. Он в курсе всех дел и, если что со мной случится, всегда готов принять на себя обязанности. А главное, для него «польза, слава, честь» — не пустые слова.
— А что же Венцель, который в ваше отсутствие всегда исправляет дела генерал-губернатора.
— Карл Карлович — отличный заместитель! Исключительно надежен! Но он всего лишь исполнитель, а Корсаков…
— Я вас понял, Николай Николаевич, — снова перебил великий князь. — Извините мою неучтивость, но я спешу к государю. А с Корсаковым продолжайте идти прежним курсом. И знаете что? Он, если не ошибаюсь, второй год наказный атаман Забайкальского войска — пора бы и на генерала представлять.
— Я представил и буду счастлив, если государь утвердит представление.
— Я замолвлю за него.
2
Китайцы не пропустили посольство Путятина сухим путем. Адмиралу пришлось сплавляться по Амуру, а в Николаевске (так стал называться центр новой, Приморской области) он со всем своим сопровождением пересел на военный пароходо-корвет «Америка», закупленный в США вместе с двумя железными речными пароходами капитаном первого ранга, а теперь уже контр-адмиралом Казакевичем, и отправился в Китай морским путем.
Посол потребовал, чтобы кораблем его командовал кто-то из лучших морских офицеров, и выбор Муравьева пал на капитан-лейтенанта Чихачева.
Николай Матвеевич, герой Амурской экспедиции, любимец Невельского, успел после нее послужить командиром корвета «Оливуца» и начальником штаба Сибирской флотилии, а также принять участие в третьем сплаве. Генерал-губернатору он был хорошо знаком, и Николай Николаевич с легким сердцем доверил ему это специальное плавание.
Муравьев вообще оказывал Путятину подчеркнутое уважение и содействие. Потому как совсем не хотел, чтобы кто-то подумал, будто он из ревности препятствует послу в его миссии. Специальным письмом к Корсакову генерал приказал, чтобы начальники с ординарцами являлись представиться адмиралу, а сам с большим пиететом проводил его по Амуру до Айгуна.
Генерал был более чем уверен, что с посольством ничего положительного не выйдет, и всю весну писал Корсакову в Читу, чтобы тот готовил войска на случай военного давления на цинское правительство, которое чувствовало себя весьма неустойчиво. Он даже не исключал падения правящей династии и отделения от Китая Монголии и Маньчжурии с превращением их в самостоятельные княжества под покровительством России. Вторжение в Китай Муравьев предполагал вести тремя отрядами — один направить через Кяхту на Ургу, второй десантировать с Усть-Зейского поста в Айгун и далее двигать его по хорошей дороге в глубину Маньчжурии, третий, конный, перебросить через Аргунь из Цурухайтуя на Кайлар и Чигиляр. Он всегда помнил слова покойного императора, один на один вполголоса сказанные ему в 1853 году: «Китайцы должны исполнять справедливые наши требования, а если не захотят, то у тебя теперь есть войско, и мы можем их заставить». Однако вслед за тем вслух было заявлено о том, чтобы на Амуре военным порохом не пахло, поэтому генерал надеялся, что Пекин все-таки преодолеет свое упрямство и согласится на предложения России. Надежда подкреплялась тем, что китайцы, хотя и не давали письменного ответа, но и не препятствовали ни словом, ни делом тому, что русские плавали по Амуру вверх и вниз, перевозили войска и переселенцев и, как говорится, явочным порядком занимали левый берег. До Муравьева доходили сведения, что китайские чиновники очень боятся его гнева, полагая, что этот русский генерал способен на любые действия, и он исподволь начал пользоваться сложившейся ситуацией.
Сформировав от Усть-Стрелки до Хинганских Ворот первое отделение Амурской линии, он дал следующие указания временному ее начальнику Хилковскому: во-первых, сохранять с властями Айгуна дружеские отношения, наносить им визиты и принимать их с соответствующими почестями; во-вторых, ни в коем случае не обижать простое население, при этом объявить жителям левого берега, что с новой навигацией они станут подданными России, поэтому, кто не желает, должен заблаговременно переселиться на китайскую сторону. Но вместе с тем следует внимательно наблюдать, не ведутся ли на правом берегу военные приготовления, и при малейшем проявлении недружелюбия или появлении войск высадить десант, всех разоружить и расположиться в городе с войсками и артиллерией, объяснив китайцам, что действия эти совершаются по воле русского царя, а если они чем-то недовольны — пусть жалуются генерал-губернатору Муравьеву в Иркутск или Правительствующему Сенату в Санкт-Петербург. Начальник линии просто выполняет приказ.
Особо генерал подчеркнул, чтобы уходящие на правый берег жители за свои дома не беспокоились: все будет в целости и сохранности. В них поселятся казачьи семьи, а следующей весной за эти дома бывшим хозяевам будут уплачены хорошие деньги.
Проводив посланника-адмирала, Николай Николаевич вернулся в сопровождении войскового старшины Хилковского, недавно назначенного старшим адъютантом поручика Венюкова и переводчика Шишмарева в Усть-Зейский пост и тут же отправился осматривать окрестности. Он хотел выбрать место для будущего города. Слегка холмистая расширяющаяся от стрелки между Амуром и полноводной Зеей равнина, кое-где поросшая лесом, ему понравилась.
— Что скажешь, Николай Иванович? — спрашивал он Хилковского, плотного 45-летнего казака с хитрыми глазами, по которым сразу было видно, что человек себе на уме. — Ты у нас главный оценщик пригодности земель.
— Да какой я главный? — отнекивался тот. — Может, чуток кумекаю, но и только. От себя могу сказать: городу тут будет просторно, и улицы легко располагать линиями: одни вдоль Амура, а поперешные вдоль Зеи.
— Ваше превосходительство, дозвольте слово сказать? — вмешался командир Усть-Зейского поста сотник Травин, принимавший участие в рекогносцировке. Излишне полный, он еле поспевал за быстро шагавшим генералом, то и дело останавливался, снимая папаху и вытирая заметную лысину фуляровым платком, а потом бегом догонял остальных. Вот и сейчас присоединился к группе как раз на словах Хилковского.
Генерал поворотился к нему с выжидательно-кислым выражением лица. Он был недоволен сотником: будучи оставлен в зиму при продовольственном складе для поддержания возвращающихся войск, Травин потерял 29 человек из своей сотни. Умерли они, разумеется, не от голода тиф, цинга и горячка, сырые землянки (поблизости не было подходящего для строительства леса), нехватка лекарств косили людей одного за другим. Пожилой, опытный сотник, если и был в том виноват, то в малой степени (гораздо большая доля вины ложилась на подполковника Буссе, отвечавшего за обеспечение постов всем необходимым), но такова уж была натура генерала — ему нужно было быстро найти виноватого, чтобы излить на него свой гнев, а кроме Травина никого подходящего не было. Ему и досталось.
Впрочем, основание для начальственного разноса не надо было искать: оно было, что говорится, на виду. В Усть-Зейском посту не было ни часовни (не говоря уже о церкви), ни священника, чтобы предать умерших земле по христианскому обряду. С наступлением весны, как надеялся Травин, пост посетит священник и отпоет покойных, а пока их складывали в опустевшем промороженном складе. В первой партии сплава священник, конечно, был, и всех неупокоенных похоронили, как полагается, но раздраженный генерал припомнил сотнику этот склад с трупами.
Отголоски генеральского гнева чувствовались и сейчас.
— У прошлом годе в летний паводок подтопление было, — пояснил Травин. — Дома надо на рёлке[111] ставить.
— «У прошлом годе», — почему-то передразнил Муравьев, — понятно. А в этом?
— В этом пока не было. Так же ж еще июнь…
— Наверно, и китайцы тут не селились из-за наводнений, — подал свой голос поручик Венюков. Шишмарев в разговоре не участвовал.
— Эх, жаль, Скобельцына с нами нет, — вздохнул генерал. — Вот он все знает… Ладно, — оборвал он себя, — город нужен как раз против Айгуна, значит, город будет. А пока оснуем станицу. Хилковский и Травин, вот вам мой приказ. А ты, поручик, записывай. Во второй партии сплава идут переселенцы, по большей части казаки. Разрешаю семей двадцать оставить, с выделением им всего необходимого из переселенческого запаса. Немедленно найти подходящий для строительства лес — не может быть, чтобы его не было, — и до зимы тут должны стоять избы для семейных и казарма для холостых казаков. Кстати, Травин, холостых много?
— Да почти все, ваше превосходительство, вытянулся сотник.
— Эт-то хорошо! — Муравьев прошелся перед офицерами. — На первом сплаве один хороший человек, ныне, к сожалению, покойный, — генерал перекрестился, за ним перекрестились остальные, — подсказал мне интересную мысль: направить на новые поселения молодых каторжанок, которые на постах могут быть прачками, стряпухами, поломойками, а с кем из казаков слюбятся — так и замуж могут выйти, и тогда срок каторги с них снимается.
— Ничего себе! — изумился поручик Венюков. — Так их мигом разберут!
— Вот и пусть разбирают. В третьей партии сплава идет баржа или павозок, точно не знаю, с шестью десятками таких молодух. Так сказать, первопроходицы. Ваша задача, господа офицеры, проследить, чтобы не было борделя. Пары сложатся — пожалуйста, а борделя на посту быть не должно!
3
Посольство Путятина застряло в Печелийском заливе Желтого моря, перед фортами Дагу большого города Тяньцзиня, считающегося «воротами Пекина». Китайцы объявили, что послу в столице делать нечего. Трибунал внешних сношений в листе Правительствующему Сенату России пояснил, что предмета для переговоров нет, поскольку граница между Дайцинской и Российской империями от реки Горбицы до Удского края определена на вечные времена, а о неразграниченной территории следует договариваться на месте, а не в Пекине. Кроме того, Трибунал выразил Сенату свое негодование самоуправством генерал-губернатора Муравьева, который под видом защиты устья Амура от англичан занимается заселением Левобережья.
Адмирал пытался жаловаться, что его встречают не так, как положено принимать послов, на что китайцы опять же отписали, что в Тяньцзине посольство никто не ждал по той причине, что место встречи предварительно не было оговорено, что все совещания о важных делах проводятся в пунктах проезда через границу, а Тяньцзинь таковым пунктом не является. Однако из уважения к высокому сану посланника и учитывая, что он прибыл впервые и издалека, Трибунал дает указание гражданским и военным чиновникам лично проводить его по морскому берегу во исполнение законов гостеприимства, но при повторении подобного прибытия никакого сношения с посланником не будет.
Переписка шла почти все лето; Путятин за это время сплавал в Шанхай. С октября 1856 года на юге Китая шли бои — разгоралась вторая опиумная война; Англия и Франция требовали от Пекина права на неограниченную торговлю, открытие портов и допущение постоянных послов в Пекин. Китайское правительство было в полном расстройстве, и казалось странным столь решительное его поведение по отношению к российскому посланнику. Еще более странной выглядела попытка оказать давление на Муравьева, «пристыдить» его за то, что он коварно нарушает двухсотлетнюю дружбу двух государств. Джангин города Сахалян-Ула Фуль Хунга, всегда выказывавший расположение к русским и лично к генералу, посылавший помощь бедствующим солдатам Облеухова, вдруг прислал гонца с пакетом в Усть-Зейский пост, где Муравьев обосновался на все лето.
— «…вы завладеваете насильственно местами серединного государства, — переводил Шишмарев послание джангина, — и, как кажется, вовсе не для отражения англичан, и кажется, на то нет повеления вашего императора… люди здешние крепкого сложения и надменны, к спорам и дракам охотники, и поэтому вам следует пораньше возвратить всех людей и поддержать этим дружеское согласие с нами… Просим тебя, генерал-губернатор, тщательно размысливши высокими мыслями твоими, не разрушать доброго согласия двух государств, но, разъяснивши настоящее истинное дело, написать лист на маньчжурском языке, по рассмотрении которого мы бы посоветовались и решили, и тем избавили бы от хлопот и беспокойства войско двух государств».
— Это писал не Фуль Хунга, — решительно сказал Николай Николаевич, выслушав перевод. И тут же задумался: — Впрочем… могли и заставить: джангин — лицо подневольное.
— А вы обратили внимание, ваше превосходительство, — заметил Венюков, — что он намекает на военные действия?
— Разумеется, обратил. Но это неважно. У них силенки маловато. Да мне кажется, никаких действий и не будет, если они сами сдуру не начнут. А на письмо надо ответить.
«Из вашего листа, уважаемый джангин, — писал генерал-губернатор, — я усмотрел, что ургинскому, айгунскому и чигиринскому амбаням неизвестна моя переписка с Высоким Трибуналом, которая ведется уже три года. Наш Великий Государь поручил мне вести переговоры по размежеванию границ, о чем российский Правительствующий Сенат своевременно известил Высокий Трибунал. Я в своих письмах неоднократно высказывал предложения России по разграничению и со стороны Высокого Трибунала не получал никаких возражений. Когда же в нынешнем году, по Высочайшей воле нашего Великого Государя, послан был в Пекин посланник, то он Трибуналом туда пропущен не был под тем предлогом, что будто бы нет предмета для переговоров. Поэтому я не считаю себя вправе принять ваш лист и вынужден его возвратить… По дружественным же отношениям обоих государств прошу вас обращаться со всеми словесными объяснениями к г. Языкову, назначенному на Усть-Зею и по всему левому берегу Амура начальником, равностепенным с амбанем. Письменных же листов он принимать от вас не сможет, ибо не имеет при себе переводчика, который бы умел читать и писать».
Отправив эту отповедь Фуль Хунге, а по сути, ближайшим к Усть-Зее амбаням, Муравьев вернулся в Иркутск. Он желал съездить за границу для поправки здоровья, но, главным образом, чтобы повидаться с Екатериной Николаевной, по которой болезненно скучал. В прошлом году, выбрав время до коронации императора, Муравьевы уехали в Мариенбад. В Москву Николай Николаевич вернулся один: Екатерина Николаевна отправилась в По. На ее здоровье сказались длительные недомогания, усугубленные путешествиями и климатом Сибири, — во Франции она чувствовала себя несравнимо лучше.
— Не получилось из меня сибирячки, — грустно улыбнулась Катрин при расставании. — Ну, ты меня там, пожалуйста, не забывай. Приезжай, как только сможешь. — И всхлипнула, припав к его плечу.
Николай Николаевич крепко обнял ее и, понимая, что любые слова утешения будут звучать фальшиво, все же сказал:
— Жди. Приеду и привезу тебе что-нибудь сибирское.
И вот теперь у него был для нее весьма приятный «сибирский» сюрприз, даже больше — амурский. Его преподнесли ему для передачи супруге казаки-переселенцы новой станицы, основанной у самого входа в Хинганские Ворота.
В Петербурге Муравьев пробыл ровно столько, сколько потребовалось для оформления выезда на лечение. Из Парижа он устремился на юг, к Тулузе, откуда поезд по недавно открытой линии ходил до Тарба. А от Тарба до По надо было ехать в дилижансе.
«Какое же это все-таки чудо — железные дороги! — думал Николай Николаевич, сидя в купе на мягком диване и покуривая сигариллу. — Как их не хватает в Сибири! И почему правительство наше такое неумное? Тратят миллионы черт-те на что, а на важнейшее предприятие, видите ли, нет денег!»
Дело в том, что он в очередной раз (уж и не помнил, в какой по счету) подал докладную записку о необходимости железной дороги для сибирских расстояний и в очередной раз получил отказ. А она, как воздух, нужна торговле, промыслам, почтовой связи, армии, наконец! Ну, ладно, зимнюю почту по Амуру нынче наладят, оптический телеграф Казакевич поставить обещал, но железная дорога — это… — Муравьев вздохнул, — железная дорога! На века и никакой распутицы! Вон как в Европе и в Америке за нее ухватились! Да разве сумел бы он в считаные дни добраться из Варшавы до Тулузы и Тарба?!
Тут мысли его перескочили на предстоящую встречу с Катрин. «Боже мой, уже целый год прошел, как мы расстались! Как же мне тебя не хватает, девочка моя! От скольких ошибок ты меня удержала, сколько человек спасла от моего порой неправедного гнева! А люди помнят твое заступничество, справляются о твоем здоровье — это многого стоит! Да простит меня государь за мой обман, за то, что поехал не на воды, а к любимой жене!»
Генерал вздохнул и вернулся к просмотру свежих газет, купленных на парижском вокзале Монпарнасе. И вдруг взгляд его зацепился за знакомую фамилию в криминальной хронике. «Вчера поздно вечером на пороге своего дома на Елисейских Полях, — написал репортер под инициалами DJ, — выстрелом из пистолета был убит шеф «Сюртэ Женераль» виконт Артюр де Лавалье. Убийца бесследно скрылся. Единственная случайная свидетельница утверждает, что это был высокий чернобородый мужчина в широкополой шляпе, закрывавшей лицо, и свободном темном плаще, истинный цвет которого в свете газового фонаря определить невозможно. Полиция предполагает, что убийцей мог быть кто-либо из республиканцев, к преследованию которых шеф «Сюртэ Женераль» имел прямое отношение».
Вот еще один сюрприз для Катрин, весело подумал Муравьев. Как у нас говорят: «Сколько веревочке ни виться, а конец, все одно, придет».
Он предполагал, что Катрин обрадует это печальное известие, но не ожидал, что до такой степени: жена ахнула, всплеснула руками и повисла на шее мужа, целуя его и даже, кажется, повизгивая от переполнивших ее чувств.
— Так ему, мерзавцу, и надо! — заявила она, отпустив наконец полузадушенного супруга и победно оглядела замерших в недоумении родителей.
— Интересно, чем тебе досадил этот бедный виконт? — поинтересовалась Жозефина де Ришмон.
— Да, да, мы сгораем от любопытства, — подтвердил Жерар.
— Можно сказать? — обернулась к мужу Катрин. Он кивнул: теперь можно. Она набрала воздуху и выпалила: — Так вот, дорогие супруги де Ришмон, ваша дочь была шпионкой!
— Что?! — ахнула Жозефина. — Как шпионкой?! Чьей шпионкой?!
Жерар как старый воин воспринял известие гораздо спокойнее.
Он быстро сопоставил информацию:
— Тебя завербовал этот Лавалье? Шпионить за мужем? — Катрин кивнула. Жерар расхохотался. — О-о, милая девочка, да девять жен из десяти шпионят за мужьями безо всякой вербовки. Просто ради удовольствия!
— Ты считаешь, что я за тобой шпионю? — возмутилась Жозефина.
— Что ты, что ты, дорогая! Ты у меня как раз десятая!
— Я — десятая?!
Жозефина угрожающе двинулась на мужа, тот захохотал, отступая, и они оба скрылись в соседней комнате.
— Какие деликатные у тебя родители, — шепнул Муравьев, привлекая в объятья жену. Они поцеловались долгим поцелуем; с трудом оторвавшись, он сказал: — А у меня, Катюша, для тебя еще один сюрприз. Амурский.
— Амурский?! Так давай его поскорей сюда! Я сгораю от нетерпения!
— М-м-м… как бы его преподнести?.. — Он прошелся по комнате, предвкушая удовольствие. — Ну, ладно, скажу как есть… На Амуре появилась первая станица, называется — Екатерино-Никольская. Казаки-переселенцы назвали ее в твою честь, — торжественным тоном объявил Николай Николаевич.
— Ну да, — не поверила она. — Это ты назвал.
— Честное благородное, я ни при чем. Они сами. По имени-отчеству.
Катрин покачала головой и вдруг заявила:
— Нет! По имени-отчеству станица была бы Екатерино-Николаевская. Это нам обоим оказали честь — Екатерине и Николя! Потому и Екатерино-Никольская, вот!
Николай Николаевич засмеялся:
— Не знаю, не знаю, но ты теперь уж точно стала сибирячкой-амурочкой! И останешься ею навсегда!
— Лучше останемся вместе!
А вот оставаться вместе в шато Ришмон д'Адур им довелось недолго. Из Петербурга примчался нарочный: Муравьева срочно вызывал император.
— Как вы меня нашли? — изумился генерал. — Я же должен быть на водах.
— Его императорское высочество, когда передавал высочайшее указание, махнул рукой и сказал: ищите его в По, он наверняка у жены.
Муравьев только рассмеялся и покачал головой.
Вызвали его из-за обострения отношений с Китаем. Трибунал внешних сношений один за другим прислал несколько листов — снова с жалобами на своевольство генерал-губернатора Муравьева, который заселяет Амур, невзирая на протесты местных властей и нарушая своими действиями 200-летнюю дружбу. Одновременно Путятин, отчаявшись прорваться в Пекин, обозленный и расстроенный своим провалом, представил доклад, предлагая свернуть кяхтинскую торговлю, чтобы порушить уверенность китайских властей в ее необходимости для России: мол, в этой уверенности кроется причина неудач его миссии. Кроме того, адмирал извещал, что богдыхан издал указ о недопущении русских на Амур, поэтому надо последовать примеру англичан, блокировавших устья рек возле Кантона, и перекрыть оба устья реки Байхэ (она ведет к Пекину) до тех пор, пока китайское правительство не пришлет уполномоченного на переговоры министра. Если же, заключал незадачливый посланник, Англия и Франция перенесут военные действия на север Китая, следует способствовать им нашими морскими силами. Другого пути для решения российских задач нет.
— Он что, с ума сошел? — поразился Константин Николаевич. — Предлагает ввязаться в новую войну, к тому же на стороне наших противников!
Они сидели вчетвером в рабочем кабинете Николая Павловича — Александр II, генерал-адмирал, канцлер Горчаков и генерал-губернатор. Горчаков прочитал вслух послание Путятина и молча ждал реакции государя. Император на восклицание брата ничего не сказал, он обратился к Муравьеву:
— А вы что думаете, Николай Николаевич? — Генерал встал, но царь махнул рукой: сидите, сидите, — и он снова опустился на место.
— Я думаю, ваше величество, что предложения адмирала Путятина лишь на руку китайскому правительству, так как мы бы сами прервали сношения с Китаем, а его вполне устраивает неопределенность статус-кво. Мое мнение: не обращать внимания на их жалобы и выпады и продолжать заселение Амура, ибо только заселенность края утверждает наши права на него. Не будем заселять мы заселят китайцы: у них народу хватит!
— Резонно. Весьма резонно, — задумчиво отметил император. А что скажете вы, Александр Михайлович?
— Вы знаете мою позицию, ваше величество, — отвечал Горчаков. — Я считаю: Россия — европейское государство и должна прислушиваться к Западу. Наше будущее — с Европой.
— А что же тогда Европа, в лице великих держав, Англии и Франции, так рвется на Восток? — вмешался великий князь. Горчаков пожал плечами. Великий князь понял его движение: канцлер полагал, что это и так известно, — и продолжил возбужденно: — Россия — тоже великая держава, а Восток — ее окраина. Мы должны быть на нем хозяевами!
— Хорошо. Так и поступим, — заключил император. — Продолжайте заселение, Николай Николаевич. А Путятина назначим командующим Тихоокеанской эскадрой и комиссаром — пусть приглядывает за поведением англичан и французов. Только что нам ответить китайцам? А, Александр Михайлович?
— Напишем, что посылали для переговоров полномочного представителя графа Путятина, который, не дождавшись надлежащего приема, отправился на встречу прибывающей из России флотилии. Припугнем слегка, на всякий случай, — счел нужным пояснить Горчаков. — А сам генерал Муравьев вызван в столицу к государю для инструкций, как ему переговариваться и как действовать на границе.
— Сам генерал? — переспросил, тонко улыбаясь, император.
— Палладий писал: они Муравьева боятся, и это выделение их напугает еще больше.
— Ну, тогда для наибольшего испуга напишите, что государь император пожаловал Муравьеву чин генерал-адъютанта при своей особе. — Александр Николаевич встал и пожал руку вскочившему Николаю Николаевичу. — Поздравляю вас, генерал. Кстати, представленный вами устав Амурской торговой компании мы утвердили. Торговля хорошо способствует закреплению территории.
Глава 14
1
«На днях я отправляюсь на Амур месяца на четыре, — писал Муравьев брату Валериану в апреле 1858 года. Исключительная моя теперь забота состоит в том, чтобы заселять Амур, развивать по нем пароходство и торговлю, учредить города, архиепископскую кафедру и открыть золото, которое необходимо для многих расходов по всему вышеизложенному, тем более, что в устьях Амура и окрестных морских берегах надобно соорудить укрепленные порты и сообщение с ними железными дорогами».
Пятый сплав Муравьев уже полностью доверил Корсакову, лишь указав ему поспешить с приготовлением к сплаву войск с крепостными орудиями и всеми принадлежностями для возведения батарей. Одновременно генерал послал в Ургу кяхтинского градоначальника Деспот-Зеновича, чтобы известить амбаней о готовности графа Путятина быть посредником между китайским правительством и западными державами, при условии, если его попросят сами китайцы, и о том, что сам Муравьев по высочайшему указанию продолжит заселение берегов Амура и Уссури. Он считал создание русских сел и станиц, при поддержке постов и караулов, самым лучшим инструментом давления на Китай, понуждающим его к безотлагательным переговорам по разграничению.
И — не ошибся.
Двадцать шестого апреля на двух специально оборудованных баржах в сопровождении двух вооруженных катеров генерал-губернатор отплыл из Сретенска в Усть-Зею. Предварительно он послал нарочного в Айгун, чтобы предупредить тамошнего амбаня, что торопится и проплывет мимо, а если у амбаня есть намерение вести переговоры, то лучше это сделать по возвращении генерала с Нижнего Амура.
— Это, чтобы они не думали, будто я тороплюсь с разграничением, — пояснил он архиепископу Иннокентию, который наконец-то принял участие в плавании.
Высокопреосвященный целыми днями не уходил с палубы, радуясь, как большой ребенок, открывавшимся видам широкому простору великой реки, прибрежным лесам и лугам, диким скалам и непуганым животным.
— Вы только посмотрите, дорогой Николай Николаевич, — рокотал он Муравьеву, черной глыбой нависая над ним; широкая и длинная, черная с обильной сединой борода его развевалась на ветру, как вымпел. — Посмотрите, какую богатую красоту вы возвращаете России.
Николай Николаевич вместе с ним словно открывал Амур впервые. Это было его третье плавание, но предыдущие два настолько заполнялись повседневными неотложными делами и заботами, что на обозрение красот не хватало времени. Сейчас же, стоя рядом с величественным архиереем, вдыхая остро пахнущий весной воздух, он с первозданным любопытством оглядывал излучины русла, настолько крутые, что временами казалось, будто река потекла вспять. Аборигены называют их кривунами.
— Со временем всем этим рекам, речушкам, протокам, островам и, конечно, кривунам, дадут русские названия, — сказал задумчиво Николай Николаевич, — а мы, владыко, дадим имена новым поселениям, да такие, чтобы в них наши амурские герои остались на все времена. К примеру, Свербеевка, Корсакове, Невельская, Казакевичева, Волконская…
— Волконскую правительство не утвердит, — сказал подошедший обер-квартирмейстер подполковник Будогосский.
Муравьев косо глянул на него:
— Декабристам высочайше даровали прощение, но я имею в виду Михаила Волконского. Он первый начал заселение Амура.
Будогосский пожал плечами;
— Все равно не утвердят, ваше превосходительство. Преступники и прощеные остаются преступниками.
— Ну, тогда будет не Волконская, а Михайловская, — хмуро сказал генерал и отвернулся.
Но он не сердился на подполковника, которого ценил за деловитость, тем более что тот сказал правду, — просто расстроился из-за того, что из Иркутска уехали многие хорошие люди, к которым тянулась его душа: Волконские, Трубецкие, Муханов, восторженный романтик Николай Свербеев, еще до манифеста о прощении женившийся на Зинаиде Трубецкой и уже успевший родить сына… Муравьев невольно вздохнул: а вот он не родил ни сына, ни дочери, и по всему видно — уже не родит. И дело скорее всего не в нем, хоть на носу и полсотни лет — силы мужской у него в достатке, — дело в бедняжке Катюше… Ну да ладно, Муравьевых много — вон у братьев дети подрастают…
— Смотрите, смотрите: горящие горы! — воскликнул с мостика Петр Николаевич Перовский, пристав духовной миссии в Пекине, прикомандированный по дипломатической части к генерал-губернатору.
Действительно, по правому берегу стелился сизый дым, окутывавший склоны сопок.
— Может, лес горит? — предположил высокопреосвященный. — Я в Якутии много зрил лесных пожаров.
— Нет, это не лес, — сказал Будогосский. — Там речной обрыв в огне. Похоже, это уголь.
— Уголь, — подтвердил переводчик Шишмарев, тоже поднявшийся на палубу. — Я с детства слышал про эти горящие горы. Старики сказывали: уже лет двести горят. Зимой пригасают, а по весне разгораются.
— Что же это за хозяйствование такое! — рассердился Муравьев. — Мы ищем уголь для пароходов, у китайцев он двести лет горит, а им хоть бы хны! Зато на наш берег рот разевают — шире некуда! Не отдам! Ни за какие коврижки!
Не доходя примерно 80 верст до Зеи, из какой-то прибрежной китайской деревушки к каравану Муравьева устремились две длинные узкие лодки, прикрытые балдахинами. Казаки и солдаты на катерах охраны взялись за оружие, но оказалось, что генерал-губернатора здесь поджидал джангин Фуль Хунга.
Муравьев встретил его как старого друга — с выпивкой и угощением, представил своих спутников, особый упор сделав на архиепископе и статском советнике Перовском. Преосвященного Иннокентия он назвал великим религиозным деятелем, Сыном Неба, обращавшим к Богу целые народы Америки и Сибири: благословение Сына Неба любое деяние во благо народов и государств сделает достоянием истории. Петр Николаевич, по его словам, прислан Правительствующим Сенатом для подтверждения и поддержки полномочий генерал-губернатора в межгосударственных переговорах.
Кстати сказать, к Перовскому он питал особые чувства как к благородному племяннику благороднейшего дядюшки — графа Льва Алексеевича, почившего в бозе, к великой печали генерала, 21 ноября прошлого года. Память одного из лучших министров почтил тогда сам император, приехав на панихиду и отстояв несколько минут у гроба.
Фуль Хунга, в свою очередь, выразил почтение генерал-губернатору и его сопровождению, после чего задал главный вопрос:
— Ваше превосходительство, высокоуважаемый главнокомандующий генерал Муравьев, при всей вашей поспешности не могли бы вы задержаться на несколько дней, когда в Айгун прибудет Амурский главнокомандующий князь И-Шань? Он уполномочен нашим великим государем богдыханом для ведения переговоров по разграничению и хотел бы провести их как можно быстрее.
Муравьев переглянулся с архиепископом и Перовским — оба согласно едва заметно склонили головы.
— Хорошо, уважаемый джангин Фуль Хунга, — Николай Николаевич поклонился гостю, — мы с вами давно знаем друг друга и, если просите вы, я, пожалуй, согласен остановиться в Усть-Зее. Надеюсь, князь И-Шань не заставит себя долго ждать, а то у меня есть более важные поручения нашего великого государя императора.
2
К Усть-Зейскому посту подошли на другой день после обеда. С помощью катеров баржи причалили к берегу. Пока возились с чалками, на высоком берегу собрались все обитатели поста: казаки и солдаты 14-го линейного батальона в составе одного взвода выстроились для встречи высокого начальства; отдельной небольшой толпой стояли женщины и даже ребятишки.
Муравьев первым легко сбежал по сходням, брошенным на песок, но подниматься сразу на берег не стал, подождал, пока сойдет высокий и грузный архиепископ. За Иннокентием сошли остальные пассажиры первой баржи: со второй, на которой размещались канцелярии генерал-губернатора — путевая и дипломатическая, никто спускаться на землю не спешил.
Осталась на месте и охрана на катерах.
Генерал об руку с архиереем поднялись по земляным ступеням на береговой обрывчик и приняли доклад подполковника Языкова. Муравьев поздоровался со служивыми, а высокопреосвященный осенил их крестным знамением.
Затем они разделились: генерал пошел вдоль строя, в сопровождении Языкова и сотника Травина, придирчиво оглядывая выправку и обмундирование казаков и солдат, а владыко отошел к священнику поста, стоящему возле толпы гражданских. Тот склонился, целуя руку высокопреосвященного.
Как служится, отец Александр? — спросил Иннокентий, благословляя его.
— С чистой душой, ваше высокопреосвященство! Люди все Богу открыты и трудятся, и молятся с усердием превеликим. Церкву Николая Чудотворца Мирликийского за несколько дней сложили. Освятить надобно.
— За тем и прибыл. Да и о новом храме следует подумать. Народ прибывает… — молвил владыко, оглядывая собравшихся, которые под его взглядом начали кланяться, мелко крестясь. Он тоже их размашисто перекрестил.
Муравьев остановился возле стоявших плечом к плечу высоких и широкоплечих рыжих казаков. Те уставились на высокое начальство, в их глазах играли озорные огоньки.
— Григорий Шлык и Кузьма Саяпин, — то ли спрашивая, то ли утверждая, произнес генерал.
— Так точно! — рявкнули те в две глотки разом.
— Просто служите или уже переселились?
— Так точно, переселились!
— А где ваши жены? Сроки их кончились?
— Кончились… Да вон они стоят с ребятенками… — вразнобой ответили казаки.
Муравьев оглянулся и сразу выделил в толпе рыжую Любашу и золотоволосую Татьяну. Возле них, держась за руки, стояли рыжий мальчик и златоголовая девочка.
— Ну, так приглашайте в гости, — улыбнулся генерал. — Или нечего показать?
— Дык это… пожалуйте… — смешался Кузьма.
А Гринька просто кивнул и сказал:
— Будем рады… И тятю моего помянем.
— Помянем, — кивнул Николай Николаевич и обратился к Языкову: — Отпускай людей, Василий Ефимович, к ним претензий нет. Да и к вам с Травиным тоже. Молодцы! А я вот с казаками пройдусь по станице. Пора, пора уже вас не постом именовать, а станицей Усть-Зейской.
Языков и Травин откозыряли и распустили строй, а Гринька и Кузьма подозвали к генералу своих суженых с ребятишками. Те подошли — Танюха, скромно потупясь, а Любаша, озорно улыбаясь, поздоровались. Генерал угостил детей конфетами, а женщинам обеим протянул руку:
— Зовите меня по имени-отчеству Николай Николаевичем.
— А меня — Любовь Степановной, — вздернула рыжую голову Любаша, крепко пожав его пальцы.
Кузьма дернул ее за рукав ергачка[112], но Любаша отмахнулась.
— Очень приятно, — улыбнулся генерал и обратился к Танюхе, слабо ответившей на его пожатие: — А вас как по отчеству? Татьяна?..
— Да не надо меня по отчеству! — смутилась та.
— А все-таки?
— Михайловна она, — сказал Гринька.
— Рад вас видеть, Татьяна Михайловна. — Генерал наклонился и поцеловал обветренную тыльную стороны ладони молодой женщины. Она густо покраснела и спрятала руку в карман такого же, как у Любаши, ергачка.
— Ну, показывайте мне вашу Усть-Зейскую, — словно ничего не заметив, сказал Муравьев и первым пошел по улице.
Усть-Зея за год сильно изменилась. Выросла, пускай и недлинная, но настоящая улица из бревенчатых изб — с оградами, воротами, коновязями у ворот. На месте продовольственного сарая, где сотник Травин складировал умерших, возвышалась небольшая церквушка, а на берегу грузно и широко стоял дом, в котором размещался штаб 1-го отделения Амурской линии, а кроме штаба — квартира командира отделения подполковника Языкова и пара комнат, занятых службой сотника Травина. Были в доме и комнаты для приезжих, но Муравьев селиться там отказался — на барже у него и у владыки «апартаменты» были значительно лучше.
— А порученец ваш Вагранов не приехал? — спросил Гринька, широко шагая рядом с быстро идущим генералом.
— Просился, но я его не взял: прибавление у него в семействе, вторая дочка родилась.
— Догонять надо, — хохотнул Кузьма и оглянулся на поспешавших позади жен и ребятишек.
— Трудно догонять, — засмеялся Муравьев. — У него теперь четверо: два сына и две дочери.
— Ишь ты! — удивленно-уважительно сказал Кузьма. — А мы поднажмем. Верно, Гриня?
— Это не у меня надо спрашивать, — откликнулся друг-побратим.
— Всем неплохо бы поднажать, — неожиданно серьезно сказал Муравьев. — Землю, братцы, заселять надо.
3
Восьмого мая из Айгуна пришла лодка с посыльным, который, низко кланяясь, передал пакет в руки «эросы цзянь-цзюня Му-жа-ви-фу».
— Петр Николаевич, Яков Парфентьевич, — позвал Муравьев Перовского и Шишмарева, знающих китайский. — Прочтите, пожалуйста, посыльный ждет ответ.
Чиновники вскрыли пакет, достав два листа бумаги с крупными иероглифами. Прочитали по очереди.
— Амбань Дзираминга просит вас принять его завтра для весьма важного разговора, — изложил суть письма Шишмарев. Амурский главнокомандующий князь И-Шань уже прибыл в Айгун.
— Николай Николаевич, похоже, ваша взяла! — улыбнулся Перовский.
Муравьев переглянулся с Иннокентием, стоявшим неподалеку, и вдруг по-мальчишески подмигнул ему. Потом сказал чиновникам:
— Напишите, что я готов завтра в обед принять уважаемого амбаня по его просьбе. Я подпишу. По-русски напишите, у него найдется кому перевести. А после все мы сядем и подработаем проект договора.
Приехавший на другой день Дзираминга сообщил, что уполномоченный князь И-Шань просит генерал-губернатора отложить на несколько дней все дела и прибыть в Айгун для срочных переговоров по пограничным вопросам, так как это дело крайне заботит китайское правительство и тревожит живущих на границе людей, отрывая их от сельских работ.
Муравьев подумал несколько минут и, наконец, сказал:
— Уважаемый амбань, поручение моего великого государя обязывают меня спешить к устью Амура, но я принимаю во внимание беспокойство правительства нашего дружественного соседа — Дайцинской империи и готов пойти навстречу просьбе благородного цзянь-цзюня И-Шаня, то есть задержусь на неделю в Усть-Зее. При положительном окончании переговоров наш государь, я надеюсь, меня не осудит. Передайте господину амурскому главнокомандующему, что я прибуду к Айгуну 10 мая, а 11-го мы уже сможем провести первой заседание.
С тем Дзираминга и отбыл.
На первом заседании 11 мая, в котором участвовали кроме главных переговорщиков советники и переводчики, князь И-Шань сразу же устремился в атаку.
— Свои действия в устье Амура Россия не согласовала с Китаем. Это — экспансия, уважаемый генерал Муравьев. Мы имеем договоренность с Россией относительно границы по Горбице и горам, именуемым Становым хребтом, вплоть до моря.
Седая борода князя встопорщилась, острые скулы на желтоватом лице покраснели, и даже золотой шарик на высокой конической шапке гуаньли возмущенно закачался из стороны в сторону.
Помощники князя дружно закивали, поддерживая его слова.
— Отвечаю по порядку ваших претензий, благородный князь. Во-первых, о несогласованности наших действий в устье Амура. — Николай Николаевич подал знак, и Перовский передал ему папку с бумагами. — Здесь мои письма Высокому Трибуналу внешних сношений и приамурским амбаням с извещениями о наших действиях. Высокий Трибунал на эти письма не ответил. Амбани тоже промолчали, а мы в условиях войны с англо-французами ждать не могли: я был обязан защитить устье Амура, Камчатку и российские берега. Между прочим, тем самым я защищал и Китай от экспансии Англии и Франции. Далее. Войска, доставленные в Приамурье и Приморье, необходимо снабжать продовольствием и военным снаряжением, поэтому сплавы продолжались и будут продолжаться до установления постоянного пароходного сообщения по Амуру. Во-вторых, о границе. Благородный князь, Амурский край давно освоен и заселен русскими. По Амуру плавают русские подданные, в его устье — русские укрепления. И, смею заметить, несмотря на то что Англия и Франция, с которыми Китай сейчас ведет войну, предлагали русскому государю стать их союзником, Россия не воспользовалась своими приамурскими укреплениями против Китая и отказалась стать союзницей агрессоров. Более того, три года тому назад доблестные российские моряки, солдаты и казаки не позволили англичанам и французам захватить устье Амура и закрепиться на океанском побережье. Но кто может поручиться, что эта попытка не повторится?
Китайские переводчики работали без устали, но то и дело обращались к русским за уточнениями. Перовский и Шишмарев внимательно следили, чтобы перевод был правильным.
И-Шань все выслушал с непроницаемым лицом, затем кивнул сидящему с левой стороны Айжиндаю, советник вынул из портфеля и подал князю толстую стопу бумаг.
— Уважаемый генерал Муравьев, — сказал императорский сановник, кладя стопу перед Муравьевым, — тут вся переписка с русским правительством со времен Нерчинского договора. Ваше правительство неоднократно подтверждало свою верность Нерчинскому трактату.
— Времена, как известно, меняются, интересы и взгляды — тоже. — Муравьев подал князю тоненькую папку. — Благородный князь, я передаю вам наш проект нового трактата. Вам нужно время, чтобы его изучить. О следующем заседании договорятся советники. А теперь позвольте откланяться.
Муравьевский проект трактата состоял из шести пунктов. В первых трех заключалось самое важное — о границе по Амуру и Уссури, о свободном плавании только русских и китайских судов по пограничным рекам и о свободной торговле по этим рекам. Три остальные были второстепенными — о переселении маньчжур с левого на правый берег, о пересмотре прежних трактатов в соответствии с новым и о дополнительном статусе нового договора. Муравьев был уверен, что китайцы готовы принять всё, но будут изображать сопротивление, чтобы Китай не выглядел перед теми же англичанами и французами сдавшимся на милость России. И главное — самим переговорщикам не выглядеть проигравшими в глазах богдыхана.
— Я в этой тягомотине участвовать не хочу, — сказал генерал Перовскому. — Вы, Петр Николаевич, человек опытный, возьмите в помощники управляющего дипломатической канцелярией Бютцева, да вот Якова Парфентьевича и — с богом! — ведите все, что полагается в таких случаях. Обо мне скажите: мол, болен главнокомандующий Муравьев.
— Признают ли они меня достойным вести переговоры? — засомневался Перовский. — Я всего лишь статский советник.
— Я напишу, что вы от российского Правительствующего Сената контролируете правильное ведение переговоров. Думаю, что И-Шань тоже поручит вести дело своим помощникам.
Так оно и случилось. Один день китайская сторона изучала русский проект, затем два дня Перовский с помощниками, как выразился бесцеремонный Будогосский, толкли воду в ступе, встречаясь то с советниками, то с переводчиками: китайцы никак не хотели отходить от Нерчинского трактата, убеждая русских в превосходстве Китая над другими народами, о его многовековой славе, а потому неоспоримом праве владеть теми землями, которые ему предоставило Небо…
Вечером 14 мая Муравьев возмутился:
— Да сколько же можно занимать время пустопорожними разговорами? У меня дел — невпроворот, а я тут сижу, как привязанный. Под их государством земля шатается, а они языком мелют. Объявите им, Петр Николаевич, что лишь великодушие нашего государя императора позволяет сохранять дружественные отношения между нашими государствами. За все годы они неоднократно совершали недружественные действия. Во-первых, Нерчинский трактат заключен неравноправно, поскольку они обещали, что их свита на переговорах будет немногочисленна, но явились с целым войском в 15 тысяч человек, тогда как у русских было всего полторы тысячи. Во-вторых, они многократно нарушали этот же трактат, собирая ясак на территориях им не принадлежащих, на что не имели никакого права. Наконец, они не приняли посланника нашего великого государя, направленного к богдыхану с дружественным приветствием, а это среди цивилизованных государств считается оскорблением и приводит к разрыву всяческих отношений.
— А еще китайцы сожгли и разграбили нашу факторию в Чугунаке, — добавил Перовский.
— Тем более!.. А где этот Чугунок? — спохватился генерал.
— Чугунак. В Джунгарии. Рядом с нашим Туркестаном.
— И давно это было?
— Кажется, два года назад. Может, три.
— Ну, неважно, главное — было! Обязательно упомяните! Чем больше их носом в собственные лепешки, тем быстрее пойдут на попятную. А то вздумали о своем превосходстве трындеть. — Муравьев добавил еще несколько крепких выражений, явно пользуясь тем, что не было поблизости владыки Иннокентия, который терпеть не мог сквернословия. А закончил неожиданно миролюбиво: — У каждого народа найдется что-то, превосходное над другими, и мы, русские, не исключение, но это не повод, чтобы кичиться. Действуйте, Петр Николаевич! Если завтра не договоритесь, послезавтра мы отплываем.
4
Атака возымела действие: китайцы сникли и начали согласовывать статьи договора, предложенные Муравьевым. Подписание было назначено на полдень 16 мая, но, как всегда бывает, кто-то что-то не успел, в частности, вовремя не перебелили экземпляры на русском и маньчжурском языках, и торжественный час переместился ближе к вечеру.
В шесть часов пополудни русская делегация в полном составе, в парадных мундирах и орденах, сошла на айгунский причал. Ее с почтительными поклонами встречали чиновники во главе с амбанем Дзирамингой. Жители Айгуна толпились поодаль, оттесняемые копьями солдат в синих халатах. Вряд ли кто из них понимал, при каком великом историческом моменте им доводится присутствовать.
Амурский главнокомандующий цзянь-цзюнь И-Шань встретил делегацию у входа в огромный шатер, воздвигнутый, видимо, специально для торжественного акта. Снаружи и внутри шатер был украшен пихтовыми ветками, драконами из цветных лент и разноцветными бумажными фонариками.
И-Шань с поклоном пожал Муравьеву обе руки и пригласил за большой стол в центре шатра. По обе стороны от него стояли столы поменьше, на них исходили паром огромные металлические сосуды с кипятком и краниками на боку, стояли маленькие глиняные чайнички для заварки, тонкие фарфоровые чашки, тарелки с китайскими сластями и плошки с чайными шариками, «гнездышками», лепешками.
— Это чай пуэр, чрезвычайно полезен для здоровья, — вполголоса сказал Перовский вошедшим с ним вместе членам делегации Бютцеву, Карпову, Языкову, Будогосскому и священнику Алексею Седых, сопровождавшему владыку. Шишмарев был под рукой генерала, для перевода, но он про китайские чаи знал не меньше советника.
Высокопреосвященного Иннокентия Муравьев представил князю чуть ли не равным Конфуцию. А может быть, и равным.
— Без благословения владыки никакой договор действовать не будет, — заключил он свое представление.
— Угощайтесь, глубокочтимые гости, — указал И-Шань на чайные столы и хлопнул в ладоши.
Из-за цветной занавеси за его спиной, мелко семеня, выплыли несколько хорошеньких девушек в весенних изумрудных платьях ципао и принялись заваривать и разносить чай.
После чаепития советник Айжиндай и Дзираминга разложили на столе большой план Амурского и Уссурийского края. Хорошо разбиравшийся в картах и к тому же читавший не один отчет Невельского, Николай Николаевич с одного взгляда подметил приблизительность китайского плана и внутренне усмехнулся: эх, господа, а земли-то, на которые претендуете, надо бы знать получше.
Поверх карты легли три экземпляра договора — на русском, китайском и маньчжурском языках.
— Нам выпала высокая честь решить вопрос, которому не находилось решения более ста пятидесяти лет, — торжественно сказал И-Шань. — Этот договор закрепит дружбу наших государств на тысячу лет!
— Я горд этой честью, — продолжил Муравьев, — и счастлив поставить свою подпись под трактатом рядом с подписью выдающегося деятеля Дайцинского государства, Амурского главнокомандующего благородного князя И-Шаня.
Когда Яков Парфентьевич Шишмарев перевел эти слова, а китайский переводчик вполголоса подтвердил их цзянь-цзюню, тот не смог удержаться от довольной улыбки.
— Я благодарен судьбе, — сказал он, — которая свела меня на моем длинном жизненном пути с наиблагороднейшим из генерал-губернаторов России, каковым является главнокомандующий Муравьев.
Генерал склонил голову в знак благодарности.
Главы делегаций одновременно взяли перья и подписали свои экземпляры договора. Затем обменялись ими и снова подписали. В заключение был подписан маньчжурский текст.
Раздались бурные аплодисменты.
Свои подписи на всех экземплярах под непрерывные овации поставили советники и переводчики.
Муравьев и князь И-Шань обменялись красивыми кожаными папками с договором, крепко пожали друг другу руки и даже слегка обнялись. Их примеру последовали все присутствующие.
— Шампанского! — сказал Николай Николаевич.
Помощники мигом внесли ящик с высокими бутылками и коробку с бокалами. Раздались выстрелы пробок, и зашипел, лиясь в тончайшие сосуды, благородный золотой напиток.
Китайцы не остались в долгу: бутылки с винами из слив мумэ, умэ и личи заполнили столы. Появились блюда с закусками из свинины, морской «дичи» и сои, зажаренные мелкие птицы, овощи в сахаре и различных соусах, фрукты из Южного Китая…
И закрутилось веселье — до самого рассвета.
Утром 17 мая русский катер направился домой, в Усть-Зею.
Члены российской делегации с бокалами шампанского в руках окружили генерал-губернатора. Всем хотелось поздравить героя необычайного события, выпить за его здоровье, пожелать долгих лет службы на благо Отечества.
Иннокентий поднял бокал, обращаясь к Муравьеву и его помощникам:
— Благую весть несете вы Отечеству нашему. Господь помог вам завершить, наконец, многовековую тяжбу. Он, Вседержитель, вложил в сердце монарха нашего, ныне покойного, мысль об избрании тебя, сын мой во Христе, орудием столь великого деяния и с той поры неизменно укреплял тебя Своею силою и давал тебе помощников верных! Благословенны вы все, устроившие это дело так мирно и дружелюбно! Благословен первый среди вас, богоизбранный муж Николай Николаевич Муравьев! Я поднимаю сей сосуд с божественным напитком во славу его и во здравие всех вас, дети мои!
Все с удовольствием крикнули «ура» и выпили. Матросы откупорили новые бутылки и разлили по бокалам.
— Амур снова — река русская, и земля Амурская возвращена в лоно Отечества нашего, — задумчиво произнес генерал-губернатор. — Россия развернула наконец в полный размах свое восточное крыло и теперь может лететь, набирая невиданную высоту. За это не грех и выпить.
5
Айгунский договор между Россией и Китаем о границах и взаимной торговле
Айхунь (Айгун), 16/28 мая 1858 г.
Великого Российского государства главноначальствующий над всеми губерниями Восточной Сибири, Е.И.В. государя императора Александра Николаевича генерал-адъютант, генерал-лейтенант Николай Муравьев, и великого Дайцинского государства генерал-адъютант, придворный вельможа, Амурский главнокомандующий князь И-Шань, по общему согласию, ради большей вечной взаимной дружбы двух государств, для пользы их подданных, постановили:
1
Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура, да будет владением Российского государства, а правый берег, считая вниз по течению до р. Уссури, владением Дайцинского государства; от реки Уссури далее до моря находящиеся места и земли, впредь до определения по сим местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем владении Дайцинского и Российского государств. По рекам Амуру, Сунгари и Уссури могут плавать только суда Дайцинского и Российского государств; всех же прочих иностранных государств судам по сим рекам плавать не должно. Находящихся по левому берегу р. Амура от р. Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить вечно на прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского правительства, с тем чтобы русские жители обид и притеснений им не делали.
2
Для взаимной дружбы подданных двух государств дозволяется взаимная торговля проживающим по рекам Уссури, Амуру и Сунгари подданным обоих государств, а начальствующие должны взаимно покровительствовать на обоих берегах торгующим людям двух государств.
3
Что уполномоченный Российского государства генерал-губернатор Муравьев и уполномоченный Дайцинского государства Амурский главнокомандующий И-Шань, по общему согласию, постановили — да будет исполняемо в точности и ненарушимо на вечные времена; для чего Российского государства генерал-губернатор Муравьев, написавший на русском и маньчжурском языках, передал Дайцинского государства главнокомандующему И-Шань, а Дайцинского государства главнокомандующий И-Шань, написавши на маньчжурском и монгольском языках, передал Российского государства генерал-губернатору Муравьеву. Все здесь написанное распубликовать во известие пограничным людям двух государств.
Город Айхунь, мая 16 дня 1858 года.
На подлинном подписали:
Всемилостивейшего государя моего императора и самодержца всея России ген.-ад., ген.-губернатор Восточной Сибири, ген.-лейт. и разных орденов кавалер Николай Муравьев.
Службы Е.И.В., государя и самодержца всея России, по Министерству иностранных дел ст. сов. Петр Перовский.
Амурский главнокомандующий И-Шань.
Помощник дивизионного начальника Дзираминга.
Скрепили:
Состоящий при генерал-губернаторе Восточной Сибири переводчик губернский секретарь Яков Шишмарев.
Ротный командир Айжиндай.
Эпилог
1
Вернувшись в Усть-Зею, Николай Николаевич предложил владыке совершить благодарственный молебен в честь великого события и во здравие государя императора.
— Не токмо молебен, — ответствовал Иннокентий, — но крестный ход совершим и заложим храм Святого Благовещения.
— Будет храм — значит, будет и город. Назовем его Россияслав!
— Вычурно как-то, простите меня великодушно. Будь моя воля, я бы назвал его — Муравьевск. В благодарение за труды ваши, в полной мере неоцененные.
— Да, трудов было много, — согласился Николай Николаевич. — Но — трудов многих и многих людей — всех не перечислить. Я и хотел бы им всем славу воздать через общее, что у нас есть, — через Россию.
— А если назвать по имени храма, который заложим, — Благовещенск? — Владыко пытливо посмотрел на генерала.
— Благовещенск… Благовещенск… — покатал тот губами и языком новое слово. — А что — красиво звучит. И смысл замечательный: город благо вещает этому краю. Отлично! Так и назовем. Благодарю вас, владыко, за подсказку — умную и добрую!
Провели крестный ход, совершили благодарственный молебен и заложили камень на месте будущего храма Святого Благовещения.
На церковном параде прозвучал короткий, полный высокого пафоса приказ генерал-губернатора: «Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России! Святая православная Церковь молит за вас! Россия — благодарит. Да здравствует император Александр II и да процветает под кровом его вновь приобретенная страна! Ура!»
На закладке камня, при полном стечении народа, святитель Иннокентий сказал прочувствованную речь, обращенную к Муравьеву:
— Нет надобности говорить здесь о том, какие выгоды, какие блага могут произойти от этого края для России. Это очевидно при самом простом взгляде. Не время также и не место, да и не по нашим силам исчислять или оценять все твои заботы, усилия, труды, борения, твои подвиги, понесенные тобой к достижению этой одной из главнейших твоих целей. Их вполне может оценить только будущее население сего края и история. Но если бы, паче чаяния, когда-нибудь и забыло тебя потомство, и даже те самые, которые будут наслаждаться плодами твоих подвигов, то никогда, никогда не забудет тебя наша православная церковь, всегда вспоминающая даже создателей храмов; а ты, богоизбранный муж, открыл возможность, надежды и виды к устроению тысячи храмов в сем неизмеримом бассейне Амура. Но нет сомнения, что и в настоящее время, если и не вся Россия, то вся Сибирь и все благомыслящие россияне и все твои сподвижники с радостию, с благодарностию и с восторгом примут известие о совершенном тобою ныне деле.
Слова высокопреосвященного стали сбываться сразу после возвращения генерал-губернатора с Амура. Но поначалу он вместе с владыкой и обер-квартирмейстером Будогосским спустился до Николаевска, намечая места будущих новых станиц и сел. Особо они остановились на высоком правом берегу чуть ниже устья Уссури.
Николай Николаевич постоял на утесе, оглядел амурский простор.
— Что-то мы увлеклись днем сегодняшним, — сказал владыке, — а про предков наших забыли. Наречем будущее село Хабаровкой.
— Города потребны, города, рокотал святитель. — Городами земля укрепляется.
— Вы, как всегда, правы, владыко, но селом земля оживляется.
От Хабаровки Муравьев со свитой пересел на пароход «Амур» и дальше уже пользовался только пароходами — их уже было четыре. Николай Николаевич отлично понимал, что без быстрого заселения Приамурья Айгунский договор останется простой бумагой, поэтому — спешил. В письмах Корсакову, которого он усиленно «натаскивал» на роль своего преемника, генерал-губернатор подробно разъяснял, как нужно заботиться о переселенцах, особо — о казаках, хлеборобах-воинах, учил быть внимательным к простым людям. «Как будешь проезжать через Верхнеудинск, посвяти хоть дня два на разбор просьб: это — священная обязанность губернатора», — подчеркивал он. В душе он понимал, что Михаил слабоват для столь высокой и ответственной должности, но любил его — не как брата, скорее как сына, которого не дал Бог, — а к любимцам у него была слабость; многое им прощал, не замечая — или стараясь не замечать, — что при этом иногда роняет свой авторитет. Очень ему навредила история с дуэлью двух чиновников, Беклемишева и Неклюдова, которая произошла в следующем, 1859-м, году. Верхнеудинский исправник Федор Беклемишев сумел каким-то образом втереться в «ближний круг» генерала и стать управляющим отделения Главного Управления Восточной Сибири; поэтому, убив на дуэли Неклюдова, он был отстранен от должности, но прощен по заступничеству Муравьева. Этот поступок генерал-губернатора возмутил не только иркутское, но сибирское и даже российское общество.
Однако, несмотря на такую слабость, Николая Николаевича любили — не все, но многие, — искренне радовались его исторической победе, устраивали в ее честь различные празднества и обеды. А когда генерал-губернатор вернулся в пределы Забайкальской области, его проезд через села и деревни сопровождался колокольным звоном, на обочинах собирались ликующие толпы народа, на обедах читали стихи, сложенные в честь главноначальствующего:
…Будь же счастлив, незабвенный, Наш любимый генерал! Кончен подвиг беспримерный: Ты Амур завоевал!В путешествии по Амуру Николай Николаевич получил известие, что 1 июня в Тяньцзине адмирал Путятин заключил наконец-то торговый договор с Китаем. Китайцы уже знали об Айгунском трактате, и 3 июня сообщили графу об указе богдыхана, утвердившего этот трактат. Неизвестно, отметил ли Путятин победу генерала, а вот Муравьев, получив от Венцеля письмо с новостью, тут же приказал выдать команде парохода по праздничной чарке и поздравил всех с окончанием китайского вопроса.
Однако вопрос оказался незакрытым. Через год, одержав временную победу над англо-французскими войсками, богдыхан заявил, что утверждение договоров с Россией было ошибкой и приказал наказать всех участников переговоров. Кто-то был казнен, кто-то покончил с собой; Дзирамингу, говорили, посадили в колодки; только князь И-Шань, будучи родственником богдыхана, отделался понижением в должности. Но уже следующий виток войны принес победу англо-французам, над Пекином нависла угроза падения, и, воспользовавшись этим, новый посол России в Китае Николай Павлович Игнатьев выступил посредником между китайским правительством и командованием наступающих армий, остановив наступление. В благодарность за это в ноябре 1860 года был подписан и богдыханом утвержден новый договор, по которому территория от Уссури до моря, вплоть до Кореи, стала принадлежать России.
Но это случится только через два года, а пока, в августе 1858-го, по возвращении Муравьева в Иркутск, местное общество устроило грандиозный праздник в его честь: соорудили триумфальную арку, украсили город флагами, всюду играла музыка, звонили колокола, толпы народа приветствовали генерал-губернатора и, естественно, состоялся благодарственный молебен в кафедральном Богоявленском соборе, и был роскошный обед с речами, тостами и здравицами.
Николай Николаевич смертельно устал, но не было рядом Катрин, его Катюши, которая женской лаской, вниманием и пониманием сняла бы с него этот груз. Он позвал на домашний обед семейство Вагранова. Иван Васильевич привел смущенную вниманием красавицу-жену Настю и двух сыновей, Васятку и Семку. Васятке как раз исполнилось семь лет; на нравах старожила Белого дома он взял пятилетнего Семку за руку и повел показывать сказочный дворец, каким представлялся мальчугану этот громадный дом. Настя ушла с ними, и мужчины остались за столом одни.
Муравьев расстегнул мундир, расслабился и помрачнел.
— Наливай, Ваня, по полной, — сказал, подставляя рюмку. — Выпьем за здоровье государя нашего. Слишком он, видно, занят, коли за три месяца не откликнулся на мой доклад о подписании трактата.
— Жаль, что я не был с вами в Айгуне, — обронил Вагранов, наполняя чарки очищенной водкой. — Такое событие пропустил!
— А-а, — махнул рукой генерал. — Это для нас событие, а для них… — Он снова махнул рукой и едва не сшиб рюмку. — Не ко двору я новому государю. Пора уходить!
— Напрасно вы такое говорите, Николай Николаевич. Может, там никак решить не могут, какую награду вам дать. У вас они, почитай, все имеются, кроме «Андрея Первозванного».
— Мне под «Первозванного» орденское одеяние не на что пошить, — усмехнулся генерал. — Оно, знаешь, какое дорогое!
Иван Васильевич произносил свои слова в утешение генерала, но, можно сказать, попал в точку. Император и министры пребывали в некоторой растерянности: никто не ожидал, что у Муравьева все получится так быстро и так достойно. У них расчет был на Путятина, но Тяньцзинский договор в части пограничного вопроса получился слабее Айгунского. Муравьев уже присоединил территорию больше Франции, а с прицелом на Приморье — это еще целая Италия! И без единого выстрела!
— И как за это награждать?! — спрашивал император канцлера Горчакова, военного министра Сухозанета и министра внутренних дел Ланского. Горчаков и Ланской пожали плечами, а Николай Онуфриевич Сухозанет сказал:
— Пора бы и полного генерала дать. От инфантерии.
— Это обязательно! — с чувством сказал император. — Но он и так у нас обойденный, так что это — не награда.
— Возвести в графское достоинство, — негромко сказал сидящий в стороне Константин Николаевич. — Елена Павловна посоветовала. Муравьев честолюбив, и такое возвышение будет для него лучшей наградой.
— А к фамилии добавить «Амурский» — чтобы сразу отделить от остальных Муравьевых, — внес лепту и канцлер.
26 августа 1858 года государь император Александр II подписал высочайший рескрипт, в котором говорилось: «…Просвещенным действиям вашим обязан этот край началом своего гражданственного возрождения; благоразумными и настойчивыми мерами, вами принятыми, упрочены наши мирные сношения с соседним Китаем, и заключенным вами трактатом дарован Сибири новый торговый путь по реке Амуру, служащий залогом будущему промышленному развитию государства. Столь счастливое для России событие дает вам справедливое право на искреннюю Мою признательность. В воздаяние за таковые заслуги ваши, Я возвел вас указом, сего числа Правительствующему Сенату данным, в графское Российской империи достоинство, с присоединением к имени вашему названия Амурского, в память о том крае, которому в особенности посвящены были в последние годы настоятельные труды ваши и постоянная заботливость.
Пребываю к вам неизменно благосклонным и навсегда доброжелательным».
2
Граф Муравьев-Амурский спешил закрепить за Россией новоприобретенный край. Это видно из его писем брату императора, великому князю Константину Николаевичу, который был куратором-покровителем «Амурского дела». Правда, активным покровителем генерал-адмирал являлся лишь до отъезда с Амура своего любимца Невельского, после — покровительствовал большей частью на словах, однако Муравьев, ослепленный своей личной преданностью делу, продолжал наивно верить в такую же преданность власть предержащих и отчаянно взывал к их содействию. Он не довольствовался ролью «национального героя», но и не хотел быть объектом обвинений в тщеславной поспешности заселения приамурских земель. А таких обвинений хватало — в первую очередь от Завалишина, который, кстати, сам ни разу не был на Амуре, а судил о действиях генерал-губернатора по рассказам людей, либо, как и он сам, обиженных на Муравьева, либо просто недалеких в понимании сути происходящего.
Весьма метко о противниках и врагах амурской эпопеи писал Корсакову Болеслав Казимирович Кукель, начальник штаба войск Восточной Сибири: «Все эти господа, которые так кричат против Николая Николаевича и его управления, разделяются на три разряда: во-первых, это здешнее купечество, люди, которые никому и ничему не доверяют. Им по сердцу прежний порядок, когда они, дав взятку, приобретали незаконное, получали значение и силу между своими; все гнулось перед ними, и приобреталось это значение не образованием, не честным трудом, а просто за наличные деньги. Во-вторых, это прежние чиновники, которые завидуют нам, жалеют прежний порядок, приносивший им деньги; теперь они боятся взять взятку, а другие боятся им дать. Эти господа всегда действуют из-за угла. Но, к счастию, их не так много. Наконец, третьи — это господа, которые, прикрываясь либеральным направлением, хотели бы приобрести весьма нелиберальное влияние на ход дела. Они казнят всё и вся, но сами первые враги всему порядочному и честному. Таких, к счастию, не очень много, но зато это самые отвратительные люди, потому что, прежде всего, они лицемеры…»
Конечно, недочетов, ошибок из-за нерасторопности, а то и пресловутого разгильдяйства исполнителей было предостаточно (что особенно ярко проявилось в организации читинскими чиновниками шестого сплава и вызвало ярость генерала), и это не могло не сказаться на эффективности происходящих грандиозных событий — оживления и оживания огромного края. Но не ошибки и недостатки определяли внешность и суть преобразований — лицом их становились русские поселки, деревни, села и станицы на берегах Амура и Уссури. Однако требовалось не только занимать и осваивать новые земли, но и охранять их от покушений со стороны непостоянных китайцев и последовательных в своих стремлениях англичан, утверждающихся в Китае. А эти задачи могли выполнить лишь казаки. На них и делал главную ставку генерал-губернатор. И, надо сказать, казаки не подводили: несмотря на трудности с продовольственным обеспечением, только за два неполных года появилось 11 станиц.
Кроме того, Муравьев озаботился неопределенным положением Сахалина, который, как он полагал, для полной безопасности нашего побережья должен полностью принадлежать России. Но по этому вопросу надо было договариваться с Японией, и в 1859 году он совершил туда дипломатическое путешествие на пароходе «Америка». Этот вояж ни к каким результатам в международных отношениях не привел, однако оказался весьма полезным для закрепления России на берегах Японского моря. Обследуя на пути в Хакодате побережье к югу от Императорской гавани, Муравьев убедился в перспективности залива Петра Великого и бухты Посьета, расположенной у самой границы Кореи. В первом он приказал поставить военный пост, что было сделано в следующем году и тем самым положено начало Владивостоку; вторую граф определил как крайнюю южную точку российских владений на Азиатском материке, что и нанес подполковник Будогосский на карту, которая готовилась в этом походе для передачи российскому послу в Пекине генералу Игнатьеву. Эта карта сыграла свою роль в дальнейшем, при заключении Игнатьевым Пекинского договора о границах.
Получив в подчинение дополнительно «Францию» и «Италию», Муравьев невольно ощутил себя властителем истинно Восточной империи, однако при всем своем честолюбии не загордился — окунаясь каждодневно в горько-соленый прибой новых нескончаемых забот и волнений, он остро осознал необходимость разделения Восточной Сибири на два генерал-губернаторства (для более успешного управления): так сказать, «морское» — в виде уже имеющейся Приморской области, и «сухопутное» — все остальное, кроме Енисейской губернии, которую он полагал передать Западной Сибири. Граф уже убедился на примерах выделения Якутской, Камчатской и Забайкальской областей, насколько это приближает местные власти к проблемам подведомственных территорий, да и просто к населению, и в своих письмах великому князю начал исподволь проводить эту мысль. Он надеялся «заразить» ею генерал-адмирала, а через него и самого императора. Приехав в Петербург весной 1860 года, Муравьев подал императору докладную записку со своим проектом. Александр Николаевич вроде бы согласился, но передал вопрос на рассмотрение Сибирскому комитету. В Комитет входил почти весь Кабинет министров, который дружно выступил против разделения, и это было понятно: министрам проще иметь дело с одним генерал-губернатором, нежели с двумя, каждый из которых имеет свой норов, да к тому же воспитанниками Муравьева, поскольку он предлагал на эти посты Корсакова и Казакевича. Генерал-губернатором единой Восточной Сибири, по их мнению, должен оставаться Муравьев — по крайней мере до окончательного решения китайского вопроса. Единственное, на что согласился император, — это назначить Муравьеву помощника (естественно, Корсакова) с хорошим годовым содержанием (8 тысяч рублей серебром).
Скрепя сердце Николай Николаевич вернулся в Сибирь и продолжал заниматься переселением и укреплением границы. К концу 1860-го на Амуре уже была 61 станица, а на Уссури — 23. Русское население Приамурья и Уссурийского края превысило 11 с половиной тысяч человек.
И тут свершилось еще одно великое историческое событие: 2 ноября генерал Игнатьев заключил Пекинский договор, который подтвердил правомочность Айгунского и Тяньцзинского трактатов и установил границу по Уссури вплоть до Кореи. Проезжая на пути в Петербург через Иркутск, Игнатьев был встречен Муравьевым как истинный герой — с соответствующим чествованием и торжественными обедами и ужинами.
Все посчитали, что «Китайское дело» закончилось. Однако «надо помнить, — предупреждающе писал современник, — что Китай, уступая Амур и Уссури, исполнил требования России только благодаря энергии графа Муравьева-Амурского. Китайцы, видя такую его настойчивость, никак не предполагали, что за ним стоит всего только несколько сот штыков; им казалось, что решительные действия графа могли опираться лишь на грозную военную силу — и они уступили, но уступили в намерении и надежде вернуть потерянное, уступили с затаенною злобою и ненавистью к русским пришельцам».
В конце декабря 1860 года уже было понятно, что дни генерал-губернаторства Муравьева-Амурского сочтены: он ждет не дождется, когда из Петербурга вернется Корсаков, чтобы передать ему дела и навсегда проститься с Сибирью. Здоровье графа сильно пошатнулось; он был подавлен отклонением проекта разделения Восточной Сибири, считая это проявлением охлаждения к нему лично императора и генерал-адмирала; к тому же, сильно тосковал по Катрин: за четыре года, прошедших с ее отъезда, им удалось увидеться всего один раз. Кто-то прочил его наместником на Кавказ, где князь Барятинский пленил Шамиля и победно закончил сорокалетнюю войну, кто-то — в Польшу, но Николай Николаевич знал, что его кандидатура никуда не пройдет: его, если и видели наместником, то лишь в Сибири, подальше от Петербурга. «Я переслужил», — горестно признавался он в одном из писем брату Валериану.
На проводы графа приехали новые губернаторы: из Якутска — Юлий Иванович Штубендорф, из Читы — Евгений Михайлович Жуковский, из Кяхты — градоначальник Александр Иванович Деспот-Зенович. Санным путем из Благовещенска добрался владыко Иннокентий, в 1858-м перенесший кафедру в новый город на Амуре. В первых числах января Николай Николаевич сложил полномочия генерал-губернатора и навсегда простился с Иркутском и Сибирью. А вот как простился со своим многолетним властителем Иркутск, лучше всего сказано в воспоминаниях члена Совета Главного Управления — Бориса Алексеевича Милютина: «Назначенный для отъезда день начался в соборе, в котором при архиерейском служении граф Муравьев, окруженный обществом, отстоял напутственный молебен. Площадь, или, лучше сказать, ряд площадей, окаймляющих собор, кишела народом. После молебна все, имевшие на то право, бросились в близлежащее Собрание. Граф Муравьев дошел до него пешком; народ теснился около него; слышались прощальные крики. Графу приходилось останавливаться, выслушивать прощальные напутствия. Наконец он в Собрании. Громадная зала последнего, прилегающие комнаты кишели публикой. Тут были и мундиры, и ремесленники со значками, и фраки, и сюртуки, и крестьяне, прибывшие из соседних деревень, и инородцы, и казаки. Не было, кажется, человека, которому бы граф не сказал слова. Кончилось это прощание. В городских экипажах, кто только мог, поехали на Вознесенский монастырь. Казалось, что туда прибудут только избранные, но пока шел молебен над мощами святителя Иннокентия, пока продолжался завтрак у настоятеля, площадь перед монастырем наполнялась народом, буквально прибежавшим. Чиновники вынесли по сибирскому обычаю на руках графа Муравьева; но только показались в толпе, как моментально были отброшены в сторону, а граф очутился на руках сперва крестьян, а потом инородцев-бурят, поспешно выхвативших его у первых… «Мы тебя, граф, не забудем, не забудь и ты нас!» — кричали они… «Не забудь нас!» — подхватил народ. Тронулись повозки, все стояли без шапок; кто бежал сзади; кто обратился к монастырю и крестился, кто набожно благословлял отъезжавшего. Шибче и шибче двигались повозки. Народ долго еще стоял без шапок, следя за ними».
3
И в завершение повествования о возвращении Амура два мнения о том, кто это совершил.
Первое — от историка конца XIX века В. И. Вагина: «О Муравьеве мне трудно говорить беспристрастно, но тем не менее я остаюсь при том же взгляде на него, какой образовался у меня после первых же шагов его в Иркутске. Это был человек с огромными дарованиями, человек необыкновенной энергии и непреклонной воли. Он не пренебрегал никакими путями для достижения своей цели и потому, естественно, старался сокрушить и уничтожить все, что противилось или казалось ему, что противится достижению этой цели. Он был в одно время и либерал и деспот, и добрейшее и мстительнейшее в мире существо, человек почти гениального ума и нередко до крайности легкомысленный, — словом, самый сложный, самый загадочный характер, какой только мне известен. Занятие Амурского края останется величайшей заслугой его перед потомством, но в то же время он сделал много полезного и для края, хотя не все вышло так, как он предполагал».
Второе — от известного революционера М. А. Бакунина: «Есть в самом деле один человек в России, единственный во всем официальном русском мире, высоко себя поставивший и сделавший себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом. Он страстно любит Россию и предан ей, как был предан Петр Великий. Вместе с тем он не квасной патриот, не славянофил с бородою и постным маслом. Это человек в высшей степени современный и просвещенный. Он хочет величия и славы России в свободе. Он решительный демократ, как мы сами, демократ с своей ранней молодости, по всем инстинктам, по ясному и твердому убеждению, по всему направлению головы, сердца и жизни; он благороден, как рыцарь, чист, как мало людей в России; при Николае он был генералом, генерал-губернатором и никогда в жизни не сделал он ничего против своих убеждений. Вы догадываетесь, что я говорю про Муравьева-Амурского…»
Как говорится, тут ни убавить, ни прибавить.
Конец
Примечания
1
Первый выстрел в воздух означал, что сделавший его — трус, это влекло за собой изгнание из общества.
(обратно)2
Владимир Гаврилович Политковский (1807–1867) — генерал, с 1850 г. председатель Главного правления Русско-Американской компании.
(обратно)3
Скорбут — цинга.
(обратно)4
Et cetera — и так далее (лат.).
(обратно)5
Молевой сплав — сплав леса (бревен) россыпью.
(обратно)6
Привилегия — патент.
(обратно)7
Так русские в то время называли Валенсию и Барселону.
(обратно)8
Petit-Champagne Montbazillac — маленькое шампанское Монбазийяк (фр.).
(обратно)9
Наиболее известны наполеоновские дивизионные генералы братья Огюст-Жан-Габриель де Коленкур, граф, и Арман-Огюстен-Луи де Коленкур, герцог Виченцы. Менее известен дивизионный генерал Габриель-Луи де Коленкур.
(обратно)10
Сюртэ — безопасность (фр.). Так первоначально называли французскую криминальную полицию.
(обратно)11
C'est la vie — такова жизнь (фр.).
(обратно)12
«L'affaire est dans le sac» — «Дело в шляпе» (сделано) (фр.).
(обратно)13
Quand la sant va, tout va — здоровье прежде всего (фр.).
(обратно)14
Merde canine — дерьмо собачье (фр).
(обратно)15
Святая Женевьева (420–502) — покровительница Парижа.
(обратно)16
Так, начиная с середины XVII века, маньчжуры называли русских. Сначала это слово имело сакральное значение — «демоны, преследующие людей», а со временем превратилось в своеобразный этноним.
(обратно)17
Царские дни — праздники в память событий из жизни царствующего дома. 25 июня — день рождения Николая I.
(обратно)18
Штабс-офицеры — категория старших офицерских чинов в русской армии и на флоте до 1917 года, соответствовавших VIII–VI классам Табели о рангах, то есть майору, подполковнику и полковнику (на флоте — капитан-лейтенанту, капитанам второго и первого ранга). Штаб-офицеры имели право на обращение «ваше высокоблагородие».
(обратно)19
Сулой — взброс воды на поверхности моря, возникающий, например, при столкновении разнонаправленных потоков, выходе течения из узкости или при сильных ветрах, направленных против течения. Водная поверхность в зоне развитых сулоев напоминает поверхность кипящей воды. В некоторых районах сулой достигает высоты 3–4 метра и может представлять опасность для плавания небольших судов.
(обратно)20
Гулами — легкое охотничье пальто из шкуры козы, может быть без рукавов. Торбаза — мягкие сапоги из оленьих и нерпичьих шкур мехом наружу. Олочи — самодельная обувь из сыромятной кожи, в щиколотках стягивается шнурком или полоской кожи.
(обратно)21
Кабельтов — единица расстояния, применяемая в мореходной практике, равная 0,1 морской мили, или 185,2 м.
(обратно)22
Porte-monnaie — кошелек (фр.).
(обратно)23
Havresac — солдатский ранец (фр.).
(обратно)24
Tirer les marrons du feu — таскать каштаны из огня (фр.).
(обратно)25
My darling — моя дорогая (англ.).
(обратно)26
With all giblets — со всеми потрохами (англ.).
(обратно)27
Городничий из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».
(обратно)28
Жена Городничего из комедии «Ревизор».
(обратно)29
Константин имеет в виду помощь султану Махмуду II против Мухаммеда Али Египетского (в 1831 и 1839 гг.).
(обратно)30
Так в то время русские называли китайский город Циникар.
(обратно)31
Веснусь — прошлой весной (местн.).
(обратно)32
Хивуз — резкий зимний ветер (местн.).
(обратно)33
Хватить мурцовки — отведать лишений (местн.).
(обратно)34
Тычмя — вплотную (местн.).
(обратно)35
Черти в кулачки не бьют — очень рано (местн.).
(обратно)36
Qui vivra, verra — поживем, увидим (фр).
(обратно)37
Впритеску — впритык (местн.).
(обратно)38
General volant — летучий генерал (фр.).
(обратно)39
Стихи купца Ксенофонта Кандинского, двоюродного деда художника Василия Кандинского.
(обратно)40
Утуканы — внебрачные дети (местн.).
(обратно)41
Хлестушки — женщины легкого поведения (местн.).
(обратно)42
Утресь — утром (местн.).
(обратно)43
Яровная — веселая (местн.).
(обратно)44
Хлюздить — капризничать (местн.).
(обратно)45
Шептуры — мужья-изменщики (местн.).
(обратно)46
Чушонок — поросенок (местн.).
(обратно)47
«Böses kommt geritten, geht aber weg mit Schritten» «Зло прискачет верхом, а уйдет шажком» (нем.).
(обратно)48
Тупоресь никадысь — здесь никогда (местн.).
(обратно)49
Дён нонеча яровной — день сегодня веселый (местн.).
(обратно)50
Кривуны — крутые изгибы реки; щеки — скалистые берега; трубы — узкие места между скал (местн.).
(обратно)51
Щерба, щербинка — уха (местн.).
(обратно)52
Халка — баржа (местн).
(обратно)53
Ныне р. Хумаэрхэ, правый приток Амура. Напротив ее устья когда-то стоял русский острог Комарский, первым успешно перенесший маньчжурскую осаду (1656 г.). 300 казаков, купцов и крестьян 4 месяца противостояли 10-тысячному маньчжурскому войску, потеряв всего 20 человек, захваченных и убитых маньчжурами за пределами острога еще до начала осады.
(обратно)54
Глубжина — глубина (местн.).
(обратно)55
Водохлест — быстрое течение во время паводка; востро — быстро (местн.).
(обратно)56
Аянчик — небольшой залив (местн.).
(обратно)57
Вечорась — вчера вечером (местн.).
(обратно)58
Верхи — верхом на лошади (местн.).
(обратно)59
Кривун — крутой изгиб русла реки (местн.).
(обратно)60
Вешно — весной (местн.).
(обратно)61
Быстерь — сильное течение (местн.).
(обратно)62
Вобудёнок — в один день (местн.).
(обратно)63
Невельской имеет в виду залив Посьета и бухту Ольга.
(обратно)64
Бежко выморисся — быстро устанешь (местн.).
(обратно)65
Batons dans les roues — палки в колеса (фр.).
(обратно)66
Success is never blamed — успех не обвиняют (англ.).
(обратно)67
He that come first to the hill may sit where he will — Кто первым на холм придет, тот сядет, где хочет (англ.).
(обратно)68
В русской армии и на флоте принято было родных братьев, во избежание путаницы, нумеровать по старшинству. Максутов-1-й был Павел, служивший в Севастополе, Максутов-2-й — Александр.
(обратно)69
Ластовый экипаж — подразделение, в ведении которого находилось портовое хозяйство и мелкие суда типа ботов.
(обратно)70
Н. Н. Муравьев также не поверил в самоубийство английского адмирала, о чем писал генерал-адмиралу Константину Николаевичу после получения известия об осаде Петропавловска.
(обратно)71
Картузники — подносчики картузов с порохом.
(обратно)72
Шпринг — трос, заведенный в скобу станового якоря или взятый за якорь-цепь, другим концом проведенный на корму, для удержания корабля в заданном положении.
(обратно)73
Брандскугель — зажигательный снаряд корабельной гладкоствольной артиллерии. Состоял из пустотелого чугунного ядра с отверстиями, начиненного зажигательным составом. Применялся с середины XVIII века до второй половины XIX века.
(обратно)74
Брюк — мощный трос, проходивший через боковые стенки лафета, концы которого крепили на рымах боковых сторон пушечных портов. Служил для удержания орудия при откате.
(обратно)75
Об этих ребятах стоит сказать отдельно. Дети даже в этой адской кухне оставались детьми: когда случались передышки, они тут же, на косе, пускали самодельные кораблики. А когда Феде Алексееву ядром оторвало кисть руки, он не стонал, не плакал, не проваливался в обморок — только стиснул зубы, побелел до синевы и на вопрос: «Больно?» ответил: «Больно. Но я потерплю».
(обратно)76
Пэдди, Микки — так презрительно англо-саксы называют ирландцев (от распространенных в Ирландии имен Патрик и Майкл).
(обратно)77
Bullfinch — снегирь (англ.). Майкл обыгрывает традиционное прозвище англичан «Джон Буль» и красный мундир офицера морской пехоты.
(обратно)78
Стеньга — удлинение мачты.
(обратно)79
Русский дьявол (англ.).
(обратно)80
Имеется в виду один из эпизодов Крымской войны — сражение на реке Альме 8 (20) сентября 1854 г. между русскими войсками под командованием светлейшего князя Меншикова и экспедиционными войсками союзников — англичан, французов, турок и сардинцев. Русская армия отступила, но было выиграно время для подготовки к обороне Севастополя.
(обратно)81
Правительство сильно урезало список награждаемых: два ордена получил Завойко вместе с чином контр-адмирала; капитанами второго ранга стали Изыльметьев и его старший офицер Тироль; всех остальных офицеров повысили на один чин; были также награждены 17 офицеров, 3 чиновника и 18 нижних чинов (Завойко представлял к наградам 75 солдат и матросов). Волонтеры-камчадалы получили денежные премии.
(обратно)82
Urbi et orbi — городу и миру (лат.).
(обратно)83
Говнушка — старая малоподвижная, неработоспособная (местн.).
(обратно)84
Удовелый — вдовый (местн.).
(обратно)85
Чарпел — годовалый жеребенок (местн.).
(обратно)86
Гимизить — копошиться (местн.).
(обратно)87
Бежкий — быстрый (местн.).
(обратно)88
Братальник — двоюродный брат (местн.).
(обратно)89
Canaille — мразь (фр.).
(обратно)90
10 вершков равны 44,45 см. Половина аршина — 30,5 см.
(обратно)91
Me langue française est mal — мой французский язык плохой (фр).
(обратно)92
Батавия — центр Голландской Ост-Индии (ныне Джакарта, Индонезия).
(обратно)93
Au revoir — до свидания (фр).
(обратно)94
Берегись молчащей собаки и тихой воды. — (англ. посл.)
(обратно)95
la guerre comme à la guerre — на войне как на войне (фр.).
(обратно)96
Шестой смертный грех — высокомерие. Библейский грех высокомерия — доказательство типичного чувства неполноценности человека.
(обратно)97
Вытный — умный, опытный, уважаемый (местн.).
(обратно)98
Веснусь — прошлой весной (местн.).
(обратно)99
Je demande à vous arrêter — я прошу вас остановиться (фр).
(обратно)100
Ли — китайская мера расстояний, равная 500 метрам.
(обратно)101
Джангин — помощник дивизионного командира.
(обратно)102
Хэйлунцзян — Река Черного Дракона, китайское название Амура и провинции на его правом берегу.
(обратно)103
Кабестан — лебедка с вертикальным валом.
(обратно)104
Опердек, мидельдек — орудийные палубы, считаемые вниз от шканцев.
(обратно)105
Сулой — водоворот, заверть, спорное, встречное, заворотное течение, толчея (из Словаря В. И. Даля). Возникает на море из-за столкновения двух встречных течений.
(обратно)106
Мовь — исконно русское название бани.
(обратно)107
Император Французов — так, в подражание великому дядюшке, именовал себя Наполеон III.
(обратно)108
If you try to please all, you will please none — если стараться угодить всем, не угодишь никому (англ. посл.).
(обратно)109
Говение — время, избранное для особенного самоиспытания и достойного приготовления к покаянию и причащению.
(обратно)110
А. А. Моллер — брат мачехи Н. Н. Муравьева, второй жены отца.
(обратно)111
Рёлка — продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, поросшая лесом; грива, часто идущая вдоль берега реки.
(обратно)112
Ергач, ергачок — шубка, куртка из козьих или оленьих шкур мехом внутрь (местн.).
(обратно)



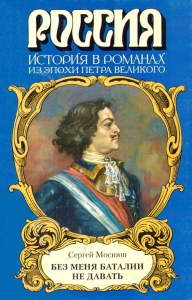
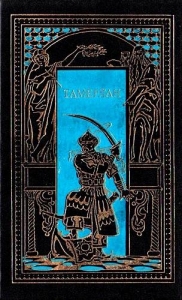


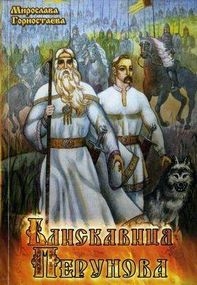

Комментарии к книге «Благовест с Амура», Станислав Петрович Федотов
Всего 0 комментариев