Варяги
...ВСЯХ, КТО УВИДИТ В РОССИЙСКИХ ПРЕДАНИЯХ
РАВНЫЕ ДЕЛА И ГЕРОЕВ, ГРЕЧЕСКИМ И РИМСКИМ
ПОДОБНЫХ, УНИЖАТЬ НАС ПЕРЕД ОНЫМИ ПРИЧИНЫ
ИМЕТЬ НЕ БУДЕТ, НО ТОЛЬКО ВИНУ ПОЛАГАТЬ
ДОЛЖЕН НА БЫВШИЙ НАШ НЕДОСТАТОК В ИСКУССТВЕ,
КАКОВЫМ ГРЕЧЕСКИЕ И ЛАТИНСКИЕ ПИСАТЕЛИ СВОИХ
ГЕРОЕВ В ПОЛНОЙ СЛАВЕ ПРЕДАЛИ ВЕЧНОСТИ.
М. В. ЛомоносовРоман М. Альшевского посвящён предыстории государства Российского, эпохе зарождения и формирования древнерусской государственности. Опираясь на русские летописные и западноевропейские средневековые источники, автор большое внимание уделяет борьбе восточных славян со скандинавскими викингами-варягами в VIII — IX веках. Эта борьба ускорила процесс образования мощных политических восточнославянских объединений, пришедших на смену племенным союзам. Центром объединения славян стали земли, прилегающие к Великому пути «из варяг в греки», во главе с Киевом и Новгородом с Ладогой. Их слияние в 882 году в результате похода дружин князя Олега из Новгорода в Киев и положило начало древнерусскому государству, протянувшемуся с севера на юг вдоль Великого водного пути по Днепру, Ловати и Волхову.
Время «Руси изначальной» нашло довольно противоречивое отражение в письменных источниках. Среди историков до сих пор не прекращаются споры о том, кто такие славяне, откуда есть пошла Русская земля, какова предыстория нашего Отечества.
Летописный рассказ о призвании варягов — Рюрика с двумя братьями и дружиной — на Новгородскую землю («поидите княжити и володети нами»), лёгший в основу произведения М. Альшевского, породил в своё время, в 30-е годы XVIII в., так называемую норманнскую теорию происхождения древнерусского государства (немецкие учёные 3. Байер и Г. Миллер). Приверженцы этой теории под варягами-русами понимали скандинавов, норманнов и тем самым отказывали русскому народу в самостоятельном историческом и государственном творчестве. В отечественной историографии норманнская точка зрения имела как видных противников (М. В. Ломоносов, Д. И. Иловайский, В. Г. Васильевский), так и известных сторонников (Н. М. Карамзин, М. П. Погодин, С. М. Соловьёв).
Большинство современных историков оспаривают далеко идущие политические выводы норманистики. Её критика ведётся в основном по двум направлениям.
Первое наиболее полно представлено работами академика Б. А. Рыбакова и сводится вкратце к следующему. Варяги-норманны находились на более низкой ступени исторического развития, чем славянские племена Восточной Европы, и не оставили сколько-нибудь заметного следа в государственной жизни Древней Руси и её культуре. Они вынуждены были считаться с укладом политической и социально-экономической жизни славян, сложившимся до их призвания, — приспосабливаясь к нему, сами скоро ассимилировались и обрусели. Сам факт захвата ими власти в Новгороде, а затем в Киеве не может свидетельствовать об особой роли варягов в образовании Русского государства. Что же касается названия «Русь», то оно восходит к восточнославянскому племени на реке Рось. Главные выводы крупнейшего современного учёного разделяет и автор «Варягов», в подробностях воссоздавая политическую, общественную и экономическую жизнь Новгорода во время княжения Рюрика.
Ярким выразителем второго направления в критике норманизма является историк А. Г. Кузьмин, подвергший пересмотру традиционное понимание этнонима «Русь», связываемого, по обыкновению, или с Поднестровьем, или со Скандинавией. Скрупулёзно исследовав сто тридцать иностранных свидетельств о руси и ругах, учёный пришёл к выводу о том, что этим этнонимом первоначально обозначались племена рутов. Рассеявшиеся по всей Европе в эпоху Великого переселения народов, они в изобилии отметили места своего проживания названиями с корнями «рус» и «руг». Сама древнерусская народность, по А. Г. Кузьмину, образовалась в результате ассимиляции на славянской почве трёх народов: ругав, венедов и славян.
Норманизм, по мнению учёного, держится на «прямой подмене: данные, относящиеся к руси, переносятся на варягов, а неславянство руси служит основанием для отождествления варягов со скандинавами. Между тем сведения о руси старше самых ранних упоминаний о варягах, а данные о варягах намного древнее сообщений о норманнах на Руси и в Византии» (Откуда есть пошла Русская земля. Кн. 2. М.: Молодая гвардия, 1986. С. 581).
Варяги, по А. Г. Кузьмину, — племя, ославянившееся к началу IX века, то есть за несколько десятков лет до летописного призвания Рюрика в Новгород. Этимология этнонима «варяги» (они же «варины», «ваны», «вааны», «вагны») имеет индоевропейскую основу «вар» — море, вода. Варяги, таким образом, — поморяне, проживавшие на южном берегу Балтики, в отличие от норманнов, занимавших северный балтийский берег.
Гипотеза А. Г. Кузмина многое объясняет в «наивности» и противоречиях летописи. Почему, скажем, варяги (не норманны) называют город, куда не проникали славяне, Белоозером, а не иначе. Почему Изборск, Плесков (Псков), а не «хольм», «бург», «штадт» и т. п.? Становятся понятными слова летописца о новгородцах — «от рода варяжска». Летопись, далее, отчётливо различает среди потомков библейского Иафета норманнов, варягов и русь: «Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны (норвежцы), готы, русь...»
Начало русской государственности исполнено тайн и загадок, порождающих самые разные суждения о первых шагах Древней Руси. Роман М. Альшевского, не претендующий на окончательное решение проблемы, — одна из попыток связного, концептуального понимания нашего далёкого прошлого в доступной для широкого читателя форме исторической беллетристики.
В. В. Васильев
Часть первая ОКОЁМ
СКАНДИНАВИЯ: VIII ВЕК
Ярлу Ториру, сыну Ульва, прискучила пресная жизнь. По смерти отца он стал старшим в роде. Два брата, Торстейн и Аудун, почти сотня домочадцев, бондов, соседи — все признали его старшинство. Но что пользы в старшинстве, если в жизни ничего не переменилось? Домочадцы и бонды по-прежнему пасли скот, ловили рыбу. Братья охотились. Задуманный Ториром набег на саксов не удался — соседи-ярлы не захотели поставить свои корабли рядом с его «Ценителем морей» и ясно дали понять, что ему ещё рано быть конунгом совместного набега. Ярлы с удовольствием вспоминали, как пенили вёслами море вместе с удачливым Ульвом, сыном Торгейста. Разве он, Торир, не помнит, с какой радостью откликались они на боевой зов его отца? Но нельзя искушать судьбу. Набег — это не только умение самому сразить врага и завладеть его имуществом. Конунгу в походе ярлы должны верить больше, чем себе.
«Пенитель морей» в это лето остался в родном фиорде. Дружина Ульва — почти сотня мечей — хмурилась, но не перечила Ториру: запасов от былых набегов на год хватит, можно поприжать бондов. Чтобы руки не томились бездельем, румы «Пенителя морей» всегда готовы принять гребцов, вёсла стремительно погонят корабль на поиски стада китов. Загарпунить морского великана — кто откажется от удальства и риска!
К ночи дружинники собирались в большом доме. Женщины суетились вокруг очагов. После ужина все разбредались по своим закуткам. Ко времени появления первой звезды дом засыпал, чтобы встретить проблески утренней зари криками младенцев, воркотнёй матерей, резкими голосами мужчин.
Ярл жил как все. Почётное место во главе стола, богатая одежда и лучшее оружие — вот, пожалуй, и все его отличия. Ещё — беспрекословная власть: бонды иногда осмеливались поднять головы, но таким, по слову ярла, дружинники быстро напоминали законы послушания. Домочадцы молчали, они знали характер и тяжёлую руку Торира. В горячке он мог и убить. Такое было в обычае, поэтому никто, и сам Торир, не считал власть старейшины-ярла чрезмерной. Он распоряжался хозяйством, наказывал нерадивых, дважды в году — весной и осенью — ездил на тинг, принимал участие в спорах родов, слушал саги скальдов. В них могучие воины побеждали сотни врагов, переплывали моря, добывали серебро и золото, драгоценные камни. Саги манили неизведанными подвигами, чудесами...
В жизни чудесам не хватало места. Таких родов, как род Торира, в суровой гористой стране было много. Они теснились по берегам фиордов, вдоль рек и озёр, плодились, ссорились, иногда воевали из-за угодий. Тогда лилась кровь, и провинившиеся по приговору тинга платили пострадавшим виру. Но войны, веселившие душу, случались не часто. Люди предпочитали терпеть обиды. Если становилось невмоготу, бонд приходил к старейшине с требованием защитить от нападок или отпустить с родовой земли. Желающих уйти находилось немного, всякий понимал, что, оторвавшись от сородичей, он легко мог стать добычей первого встречного. Крепкое сердце надо было иметь, чтобы, несмотря на опасность, покинуть родную землю.
Торира томила неизвестность будущего. По ночам, под храп и стоны дружинников и домочадцев, следя за отблесками угасающих очагов, он отправлялся вслед за скальдами. Тяжёлая волна била в борт «Пенителя морей», воины ждали его приказа...
В одну из таких ночей Торир вспомнил о Хельге. Её знала вся страна, её боялись и почитали. Предсказания Хельги, как правило, сбывались. И хотя добираться до её жилища предстояло не меньше трёх дней, ярл решил отправиться в путь.
Старуха предрекла ему судьбу славную, но многотрудную.
— Вижу кровь, вижу смерть, твой меч не знает пощады, твоё копьё поражает, как молния, твои враги падают бездыханными, ты идёшь по земле, тяжёл твой шаг... Один ведёт тебя...
Она стояла перед ним с закрытыми глазами. Синий плащ, потёртый и грязный, отороченный самоцветными камешками до самого подола, прикрывал согбенную фигуру. На старческой морщинистой шее мелко подрагивали стеклянные бусы, на голове — чёрная шапка, подбитая белым кошачьим мехом, из-под неё выбивались седые неопрятные пряди волос. Руки опирались на посох с набалдашником из жёлтой меди. Плащ перетянут широким поясом с низко повисшим кошелём.
Торир слушал шёпот прорицательницы, а из головы не шла неведомо почему привязавшаяся мысль: зачем ей такой большой кошель? О, боги! Как он сразу не догадался: в нём она, наверное, хранит своё зелье для ворожбы...
Хельга открыла глаза, и он отшатнулся от её безумного взгляда.
— Уходи...
Вернувшись домой, Торир первым делом отправился к родовому капищу. Вросшее в землю вместительное строение с дерновой крышей и узкими прорезями окошек дохнуло на него сыростью и затхлостью. Торир пережил минутный страх: он — нерадивый старейшина, по его вине перед грозными богами столько дней не плясал очищающий огонь.
Ярл с тревогой оглянулся: оставаясь один на один с богами, он боялся проявления их гнева. Но в капище всё оставалось неизменным. Тор сидел на колеснице, повернув к нему незрячее лицо. Торгерд с её низким лбом, узкими глазными щелями, мощной грудью и неестественно широкими, могучими бёдрами, казалось, дремала; ей не было никакого дела до переживаний ярла. В центре возвышался Один, почти касаясь головой потолка. На руках его, сжимавших древко копья, жирно поблескивали золотые браслеты. Торир распростёрся перед изваянием, снял с запястья серебряный боевой браслет и прицепил его к поясу грозного бога.
Лежал долго, ждал знака. Боги молчали — не подтверждали и не опровергали слова прорицательницы.
Что ж, он, Торир, не в обиде. Он редко приносит им дары. Наверное, боги рассердились на него за невнимательность. Но они одарили частицей своего могущества Хельгу. Он верит ей.
...Одна зима, всего одна зима минула после встречи с прорицательницей, но вера ярла Торира в могущество её слов поколебалась. Где судьба славная? Где дела многотрудные? Он, как молодой волк, не изведавший силы всей стаи, вызвал на бой ярла соседней долины Херда и сразил его. Херд не раз в кругу близких похвалялся, что прогонит род Торира с земли: его, Херда, сородичи в стародавние времена жили на этих землях, а род Торира пришёл сюда неведомо откуда и самовольно поселился, силой захватив землю. Ториру не было дела до прадедов. Главное, теперь он живёт на этой земле и никому уступать её не собирается. Если же его предки силой завладели землёй, что ж, честь и слава им, они были настоящими мужчинами. По их примеру и он не станет терпеть дальше пустой похвальбы Херда...
Брат Херда — Гест обвинил ярла Торира в преднамеренном убийстве и выставил девять свидетелей. Конунг долин Гуннар Дружбударящий встал на сторону убитого. Дружинники радовались смелости своего молодого ярла, они готовы сразиться не только с родом Херда, но, если Торир скажет слово, и с самим Гуннаром. Но братья Торира, домочадцы и бонды притихли, ожидая беды. Торстейн просил старшего брата отправиться к сородичам убитого.
— Мы не пожалеем серебра и скота, оплатим двойную и даже тройную виру, Торир. Поезжай, мы будем сопровождать тебя, — его глаза искали взгляд брата. — Помириться надо обязательно до тинга. У скалы законов не будем спорить, заплатим виру...
Торир хмурил брови, молчал. Он знал: раз в это заурядное дело сунул свой нос конунг Гуннар, вирой, даже тройной, оно не закончится. Наверняка Гуннар радуется случившемуся. Одного ярла фиордов, не стало, и от другого избавиться можно. По закону. Ярл Торир провинился перед родами. Если он считал себя обиженным Хердом, должен был обратиться с жалобой к тингу, а не совершать самосуда. Пострадал родовой закон. Ещё десяток-другой таких столкновений, и роды не только долин, но и фиордов будут слушать конунга Гуннара и подчиняться ему.
Ярл Торир был уверен, что конунг долин думает именно так. Разве поможет вира, если бы даже родичи Херда и согласились на неё? Многие роды уже в руках конунга, они скажут на тинге угодное Гуннару. Об этом он не подумал, когда вызывал на поединок Херда. Но сожалеть о содеянном — значит попусту тратить время. В прошлое возврата нет, жизнь — в будущем.
Он не намерен слепо подчиняться обстоятельствам. Торир ещё потягается и с конунгом, и с самим тингом. Свободные ярлы фиордов будут на его стороне. Конунг мечтает подчинить себе все роды долин? Это его дело и его право. Власть над ковыряющими землю и пасущими скот бондами не очень прельщает свободных ярлов фиордов. Их кормит море. Гуннару нужны бонды Торира? Добровольно он не отдаст их ему, но и сражаться за них будет не так, как за «Пенителя морей». И не надо ползать на коленях перед родичами Херда, выпрашивая мир. Это унизительно и... бесполезно.
— Благодарю тебя за совет, Торстейн, но не воспользуюсь им, — спокойно и как можно мягче ответил он брату. — Подождём тинга. Я не удивлюсь, если меня объявят вне закона. Покинуть эту землю не страшно, она не очень ласкова ко мне. И к вам тоже.
— Но, Торир...
— Лучше подумайте с Аудуном, почему Гуннар ещё до тинга сунулся в это дело и поторопился поддержать обвинение против меня? Может быть, догадаетесь, что ему плевать, уплачу я виру за убитого или нет. Ему важно выгнать или убить меня, а вас с родом подмять под себя...
— Тому не бывать, — с молодой горячностью заявил Торстейн.
Земля была прекрасной, но суровой. Она давала много глазам и душе, но мало телу. Высокие горы подступали к морю и обрывались в него отвесными стенами.
Скалы и вечно шумящее море.
Торир любил взбираться на скалы — здесь легко и вольно дышалось и мысли приходили особые, отличные от повседневных забот старейшины. Он ещё молод, жизненный путь его только начинается. Предсказательница напророчила ему славную судьбу. Но судьба, видать, не придёт сама в руки, как приходит весной в холодный ручей глупая жирная рыба. Её надо искать и творить самому. Где искать и какая она, его судьба? Там, в долине, бонды пасут скот на его земле, и поэтому он имеет долю в их стадах. Но разве его судьба — это кусок мяса и тёплый плащ?
А домочадцы? Принёс ли хоть один из них ему, ярлу, крупицу золота или камень, в глубине которого горит красный, как кровь, огонь? Они сами смотрят на его пояс, украшенный драгоценными каменьями.
Золото... Кто отказался бы от него! Но золота нет. Говорят, его много у конунга Гуннара. Всякий раз, когда на память приходит ненавистное имя, пальцы Торира сжимаются в кулаки. Насмешка судьбы твоё имя — Дружбударящий. Тебя по справедливости стоит называть душителем ярлов. Сколько ты их уже проглотил, и они тащат тебе безропотно лучшее, что у них есть. Другим ты перегрыз горло. Вот откуда твоё золото, конунг. Два твоих похода не могли дать столько богатства. Теперь ты оскалил зубы на мою долину. Но пока я жив, ты её не получишь. Пусть мой меч — «Жаждущий битвы» — никогда не напьётся крови врага, если я, как безропотный пастух, подчинюсь твоему желанию. Мой род не склонит головы перед тобой и не будет платить тебе дани и торопиться выполнять твои повеления. Ты такой же ярл, как и я, и давно ли боги повернули ладью твоей судьбы на дорогу удачи? Пусть нас рассудит меч. Если же люди долин объявят меня вне закона, я уйду, но не покорюсь тебе, конунг. Мы все уйдём, всем родом. Земля велика...
Не в первый раз приходят эти мысли к ярлу. Год от года род нищает. Людей в нём прибавляется, зубы бондов и домочадцев работают не хуже волчьих, все хотят есть, но земля маленькой долины — не шкура овцы, её не растянешь. Чуть ли не каждый день ему приходится разбирать ссоры бондов: скот одной семьи при попустительстве её хозяина оказывается на пастбище другой. Торир наказывает провинившихся, мирит поссорившихся, велит чаще отправляться к реке и в море за рыбой. Но с каждой новой ссорой всё яснее понимает: роду тесно в долине. А он не может перебраться в соседнюю — прекрасная, но проклятая земля, в ней много гор, но мало долин. Они давно принадлежат другим родам. Люди Торира уже сталкивались с людьми Херда. Теперь Херда нет, но тинг никогда не позволит Ториру завладеть его долиной. И Гуннар — тоже.
Даже если он силой захватит долину, конунг натравит на него людей всех других долин и будет кричать о нарушении закона и обычаев и, конечно, добьётся своего: из долины Херда придётся уйти. Или сражаться с дружиной конунга. У него не дрогнет сердце выйти на поединок с самим Гуннаром, но с его дружиной... Если бы Торир мог дать меч и копьё каждому домочадцу, и тогда у него не набралось бы десятой части дружины конунга. Говорят, теперь Гуннар без своих воинов не выходит даже из дома.
Нет, захватывать долину Херда было бы ошибкой. К тому же ещё неизвестно, что скажет тинг о его поединке с соседним ярлом.
Эгмунд — старейшина самого малочисленного рода людей долины Тронсхеймс-фиорда — умирал от пережитого унижения. Так считал его сын Торгрим и не скрывал своих мыслей от сородичей. Молва об оскорблении Эгмунда конунгом Гуннаром разлеталась по долине. Бурлил не только род Эгмунда. Конунг осуждался многими людьми долины Тронсхеймс-фиорда. Седины Эгмунда, его слава справедливого и мудрого старейшины уже много лет приносили ему уважение людей, даже незнакомых со стариком. Землянка Эгмунда на тинге, у скалы законов, каждый раз, когда он приезжал туда, полнилась народом. Многие просили его посредничества в спорах...
Он и сам уже забыл, сколько лет приезжал на тинг. Люди привыкли из года в год видеть его высохшую и согбенную фигуру в голубом плаще там, где решалось самое важное. Тинг и законоговоритель Эгмунд стали неразделимы.
Теперь же Эгмунд лежал в своей спальной нише большого дома и ни с кем не хотел говорить. Его тело уменьшалось, становилось бесплотным и невесомым. Лицо заострилось, даже борода не могла скрыть провала рта. На предложение пригласить знахаря он отрицательно качал головой. Отказывался от пищи, изредка показывал глазами на сосуд с водой. И молчал.
Торгрим всё время проводил у постели больного. Однажды попытался выяснить, что произошло у Эгмунда с конунгом, и не получил ответа. Старейшина рода сам расскажет о встрече с Гуннаром, если на то будет его воля. Торгрим слишком уважал его и как мудрого старейшину, и как отца, чтобы быть навязчивым.
И хотя Торгрим покидал нишу Эгмунда на самый короткий срок, широко разнёсшиеся слухи доходили и до него.
— Этот сын волчицы Гуннар без совести и чести, — не уставала повторять каждому встречному старуха Гудрит. — Подумайте, у него хватило наглости заявить нашему Эгмунду, будто тот не знает закона, что он не законоговоритель и что ему незачем приезжать на тинг... Как вам это нравится? Наш Эгмунд не знает закона?! Да этот самый Гуннар ещё не родился, а наш старейшина уже занимал на тинге почётное место...
Люди недоверчиво смотрели на шамкающий рот Гудрит, но к словам её прислушивались. Гуннар, конечно, мог сказать и такое, но не таков Эгмунд, чтобы из-за пустых слов встать на порог смерти. Тут что-то не так. Старая Гудрит выживает из ума, слова её как стрекотание сороки — стрекочет, а о чём, и сама не знает.
Товарищ детских игр Торгрима, теперь же верный и надёжный дружинник Ульв, шептал ему:
— Говорят, конунг Гуннар потребовал от старейшины, чтобы он распустил дружину. Люди нашей долины не должны иметь своих дружин. Кто хочет быть дружинником, пусть отправляется на службу к конунгу...
— Кто говорит? — хмуро спросил Торгрим. Это известие более походило на правду, чем болтовня старухи Гудрит.
— Многие. А сам старейшина тебе так ничего и не сказал?
— Он молчит, — кратко ответил Торгрим и, твёрдо глянув в глаза товарища, отправился в дом.
Эгмунд встретил сына неестественным блеском глаз, пригласил его сесть поближе.
— Торгрим, пришёл мой час, — с усилием прошептал он. — Все мои сыновья... кроме тебя... ушли к предкам. Отправь и меня к ним... по обычаю. Людям скажи, чтобы жили... все вместе... как раньше. Боги не велят человеку... уходить из рода, — старик задышал чаще, слова с трудом слетали с губ. — Гуннара не слушай... Он хочет перемешать роды... чтобы все... только ему...
— Я вызову его на поединок!
— У него... большая дружина...
— Что мне до его дружины! У меня бедная одежда, и мне всё равно, успею ли я её износить...
— Ты не один... Род не должен погибнуть...
Торгрим молчал. По телу старика пробежала судорога.
Дорога к Гуннару заняла весь день — преодолели три долины и два перевала. Кони устали, заспотыкались — ещё бы, Торгрим повелел дружине собраться в дорогу во всеоружии. Его сопровождали три десятка всадников. Не все могли похвастаться надёжными доспехами, но щит, шлем, меч и копьё были у каждого. Вид вооружённой дружины не должен был вызвать у конунга удивления — какой же воин покинет дом без меча?
Мучила Торгрима неопределённость: зачем едет, что скажет конунгу? Для выхода на поединок нужны веские доводы, настолько веские, чтобы сам вызов был оправданным в глазах людей долин. Смерть отца? Но старейшина не указал на Гуннара как причину своей смерти. Слухи — не доказательство, и он не может выставить свидетелей позора Эгмунда. Требование конунга распустить дружину? Но Торгрим не слышал такого требования. Гуннар может высмеять его как собирателя сорочьего крика.
И всё же он твёрдо решил встретиться с конунгом. Другого выхода не было — люди долины Тронсхеймс-фиорда ждали, что предпримет молодой ярл после смерти отца. Оставаться в бездействии — значит вызвать другие слухи, теперь уже о собственной трусости.
Каменистая дорога петляла, огибая скалы, ныряла под кроны деревьев. Дружина растянулась, ехали в молчании. Каждый думал свою думу, а выходило — общую. Поступки дружинника во власти ярла, думы же не всегда и самому повинуются. Вот и лезут, непрошенные, в голову. Стычка, поединок, битва — привычное и узаконенное дело воина. Пусть боги даруют мгновенную смерть в схватке с врагом, а не от старости у семейного очага. Но и схватки бывают разные: об одной скальды славу разнесут по земле, другая позором может обернуться. Добром ли закончится встреча ярла Торгрима с конунгом, или придётся обнажить мечи? Прибыль или бесчестье роду от такого столкновения?
К жилищу Гуннара добрались на закате дня, когда солнце готовилось уплыть за горы. Под его косыми лучами в долине серели хижины бондов. В стороне от них, на пологом холме, сгрудились строения конунгова двора. Торгрим придержал коня. Нет, память не могла изменить ему. В тот давний, первый его приезд сюда лишь небольшая часть холма была занята постройками. Сейчас же они облепили его, как репейники ленивую собаку, — густо и беспорядочно. Рядом со старым родовым домом поднялись новые, превышающие его размерами, с узкими бойницами окон, с дверьми, не способными пропустить одновременно двух человек. «Крепости, а не дома построил Гуннар, — раздумывал Торгрим. — Для домочадцев такие не нужны, наверняка дома для дружинников. Да, в них можно выдержать любой натиск. Но сколько же дружинников у Гуннара?»
В воротах преградила путь Торгриму вооружённая стража — ни один род в мирное время не держит стражи у своих жилищ.
— Кто таков и почему лезешь в чужой двор без спросу? — несколько даже лениво, но с угрозой в голосе спросил один из стражей, великан ростом, схватив за узду коня Торгрима.
— Ярл Торгрим из долины Тронсхеймс-фиорда, — спокойно ответил Торгрим, хотя ему крайне не понравился и вопрос, и ещё более тон, каким он был задан. — Я приехал к конунгу Гуннару и хочу его видеть и говорить с ним. Почему ты держишь меня в воротах?
— Я знаю многих ярлов, тебя же вижу впервые. К тому же с тобой дружина. — Он оглянулся и, увидев, что со двора к воротам торопятся товарищи, громче прежнего продолжал: — Может быть, ты, ярл Торгрим, замыслил напасть на нас? Разве в гости так ездят?
— Кто ты такой, чтобы учить меня и выговаривать? — вскинулся Торгрим. — Разве я приехал к тебе? Прочь с дороги!
— Не торопись, гневливый ярл, — не выпуская поводьев, издевательски улыбнулся страж. За его спиной грудилось всё больше людей. — Вас много, а конунг один. Не знаю, захочет ли он говорить с тобой. Может, он знает тебя так же, как и я?
Рука Торгрима потянулась к мечу. Эти люди хотят поиздеваться над ним? Он не допустит позора. Может быть, вот так же они издевались над старейшиной? Честь воина — его меч. Пусть он...
Торгрим с бешенством глянул на конунгова дружинника и встретил настороженный и одновременно вызывающий, торопящий и подталкивающий взгляд: «Давай-давай, обнажай меч...» Желание воина подтолкнуть его к схватке было настолько неприкрытым, что Торгрим мгновенно успокоился и даже улыбнулся. Через плечо оглянулся на своих и, встретившись глазами с Ульвом, громко сказал:
— Зря проделали такой длинный путь. Если рабы решают за хозяина, то о чём с ним говорить? Он не умнее своих рабов...
— Что ты сказал? — взревел страж. — Ты назвал нас рабами?
Его товарищи зашумели угрожающе и всей массой качнулись к Торгриму.
— Воины, займитесь своим делом! — раздался из глубины двора повелительный голос. К толпе не спеша шёл невысокий коренастый человек в плаще, с непокрытой головой, наискосок его лба змеился шрам от удара копьём. По тому, как раздалась перед ним толпа, без лишней почтительности, но поспешно, Торгрим понял, что перед ним предводитель воинов. — Ярл Торгрим, конунг ждёт тебя, — приветствуя его, предводитель коснулся луки седла.
— Ульв, отведи дружину в долину, там ждите меня, — распорядился Торгрим.
— Разве во дворе конунга не хватит места твоим дружинникам? — запротестовал предводитель.
— Прости, я не знаю твоего имени. Мы достаточно хорошо почувствовали гостеприимство твоих воинов у ворот, а каким оно станет за оградой... Будет так, как я сказал.
— Может быть, ты и прав. Осторожность никогда не должна покидать воина. Пусть будет по-твоему, — он твёрдо и открыто посмотрел в глаза Торгрима. — А зовут меня ярл Кари, я из Лососёвой долины.
— Слышал о тебе. Ты непобедимый боец на копьях.
Кари скупо улыбнулся. Похвала доставила ему удовольствие.
— ...Знаю о несчастье, постигшем тебя. Законоговоритель Эгмунд ушёл к предкам... — Такими словами встретил Торгрима Гуннар. — Побороть смерть не мог ещё ни один человек, рождённый женщиной. Рано или поздно умрём и мы — таков закон жизни.
— Да, таков закон, — согласился Торгрим, — но иногда путь человека к предкам укорачивают другие люди. — И он долгим пристальным взглядом впился в глаза Гуннара. Тот не отвёл глаз, не смутился.
— Ведаю, что ты хочешь сказать этим, Торгрим, — спокойно ответил он. — Вздорные слухи о причине смерти Эгмунда дошли и до меня. Но сам ты, конечно, знаешь, что в смерти старейшины вашего рода мне не было никакой корысти... Сядем, ярл, нам о многом нужно поговорить...
Они сидели один против другого: ярл маленькой дружины, ещё ничем не отличивший своего имени, и конунг, неутомимый собиратель воинов, славу которому уже пели скальды многих долин. Юношеский пух на лице Торгрима лишь недавно сменился жёстким волосом бороды. Лицо Гуннара изрезано морщинами, борода его поседела. Конунг старше ярла вдвое. У него высокий лоб, прямой нос с широкими крыльями, полные губы — мужественное лицо воина. Его густые каштановые с нитями седины волосы, лежащие волнами на плечах, всё ещё красивы. Но глаза... Холодные и цепкие глаза человека, затаившего неведомую думу.
— О чём нам говорить, конунг? Твои воины сказали мне достаточно. — Торгрим даже попытки не сделал скрыть неприязни. — Видимо, ты считаешь нас, ярлов, за рабов...
— Обижаться на неразумных — самому стать таким же, — ответил Гуннар и улыбнулся ему, как ребёнку. — Впрочем, если пожелаешь, я накажу их...
— Что мне в их наказании, твои люди...
— Да, люди мои, и люди верные. Разве у тебя не такие? Но оставим это. Есть более важный разговор. Я рад, что ты приехал ко мне. Сам собирался проведать тебя, да заботы закружили... Скажи, хватает ли земли твоему роду? Не ссоритесь ли с соседями?
Торгрим удивлённо посмотрел на Гуннара. Разве он приехал к конунгу обсуждать жизнь рода? Но опять всплыла мысль: а зачем приехал?
И он сдержанно ответил:
— Слава богам, мы живём, как жили предки. Род доволен.
— Доволен? Значит, старейшина Эгмунд был неправ, говоря, что количество бондов и домочадцев возросло, а земля скудеет. Роду всё труднее содержать дружину. Она хоть и невелика, но воины сами не добывают себе пропитания. Об этом говорил мне Эгмунд, сидя здесь, где сидишь теперь ты. Но ты утверждаешь другое. Согласись, это несколько странно...
— Мне кажется странным другое: наши роды не соседствуют, у нас нет претензий к твоему роду, у вас не может быть их к нашему. Зачем тебе знать, хватает ли нам земли и не враждуем ли мы с соседями?
— Ты забыл, Торгрим, что я давно уже не ярл. Конунг обязан думать и заботиться о людях всех долин...
— Конунг заботится о воинах во время похода, а сейчас разве мы нуждаемся в твоей заботе? Скажи, ты больше моего прожил, бывало ли раньше, чтобы один род возвышался над другими настолько, что подчинял их себе?
— Ты прав в одном, ярл, — не отвечая на вопрос, негромко сказал Гуннар. — Ты молод и... многого не знаешь. Не сердись. Когда-то и я был таким. И мне казалось, что я один со своей дружиной могу сделать всё, что захочу... Ты когда-нибудь задумывался, как живут люди наших долин?
— Живут, как и жили. Выращивают зерно, пасут скот, ловят рыбу...
Гуннар рассмеялся. У Торгрима на скулах заходили желваки. Конунг резко оборвал смех.
— Если ты пришёл ко мне со злобой в сердце и будешь обижаться по каждому пустяку, мы не поймём друг друга. Запомни, прежде чем судить о человеке, его надо узнать... Да, люди долин живут так, как ты сказал, — растят хлеб и пасут скот. Но они живут далеко не так, как жили их деды и прадеды. Скажи, тебя избрали ярлом потому, что ты самый сильный и знающий в дружине?
Торгрим промолчал. Он и сам не знал, почему дружинники назвали его ярлом почти сразу же после поединка на мечах с лучшим воином дружины — Ламби. Он не одолел Ламби, его меч ни разу не коснулся кольчуги противника. Довольно было и того, что он продержался против Ламби установленное время, выдержал испытание на звание воина. А его назвали ярлом, и первый — Ламби. Тогда Торгрим поверил, что стал равным по силе и умению лучшему дружиннику. Правда, однажды он усомнился в этом, когда увидел, с какой лёгкостью в таком же поединке Ламби выбил меч из рук Ульва. А ведь Торгрим не раз скрещивал свой меч с мечом Ульва и далеко не всегда выходил победителем.
— Молчишь? — спросил Гуннар. — Тогда я сам скажу: тебя избрали ярлом потому, что ты сын старейшины. Обычай рода соблюдён, но сохранился ли в нём прежний смысл? И ещё: всегда ли собирал старейшина весь род для решения важных дел?
— Да, — вскинул голову Торгрим и даже рукой хлопнул по столу.
— Дружину, домочадцев, всех бондов?
— Всех бондов? Зачем это?
— Обычай и закон велят, чтобы всё важное решалось родом сообща, — с улыбкой ответил Гуннар. — Ты не знал этого? Или бонды, по-твоему, не являются членами рода только потому, что живут не в большом доме, а в своих хижинах и ведут отдельное хозяйство? Они такие же члены рода, как и домочадцы, но выходит, что решения род принимает без них. А ты говоришь, люди долин живут так же, как жили наши предки...
— Мне нет дела до бондов, — стоял на своём Торгрим. — Они живут на земле рода и должны приносить в род часть своего имущества. Так ведётся испокон веков...
— Я не оспариваю этого. Но учти и другое: испокон веков род защищает своих сородичей.
— Моя дружина всегда готова встретиться с врагом.
— А если враг окажется сильнее?
— Люди наших долин не обращают один другого в рабство. Недруг может захватить наше имущество, но род останется.
— Люди наших долин... А если на нас нападут могущественные враги из-за моря? Кто тогда будет защищать роды?
— Ты гадаешь о небывалом, — в свою очередь улыбнулся Торгрим. — Почему должно случиться то, чего никогда не бывало?
— По той же причине, по которой люди наших долин перестали жить по-старому. Они уже давно начали бороздить моря ради добычи. Ты думаешь, это не вызовет ответного удара? Вы, как слепые котята, не хотите видеть перемен. Для вас предел мира — датчане. Да, там люди живут по таким же законам, как и мы. А слышал ли ты о франгах? Опять молчишь? Конечно, так легче жить: раз я ничего другого не знаю, кроме своих долин, значит, вокруг ничего и не существует. — На губах Гуннара промелькнула горькая усмешка. Он не смотрел на Торгрима и говорил как будто не ему. — А франги-то существуют, их конунг, они называют его ко-ро-лём, по имени Карл[1] объединил все земли под своей властью и создал го-су-дар-ство. Все люди той земли подчинились ему. Он имел такую дружину, какая нам и не снилась. Потому франгский Карл не боялся врагов, он сам был страшен им.
— Ты хочешь стать таким же Карлом у нас? — удивился Торгрим.
— Зачем мне быть Карлом? У меня есть своё имя. Но посуди сам, если люди наших долин объединятся, если родовые дружины станут одной дружиной, если роды перестанут враждовать друг с другом и будут подчиняться одному конунгу — какой враг нас сумеет одолеть?
— А конунгом всех долин станешь ты?
— Станет тот, кого изберёт тинг, — твёрдо ответил Гуннар. — Конунгом государства будет избран достойнейший. Если тинг назовёт тебя или другого ярла, я подчинюсь его решению.
Торгрим задумался. Он ни на мгновенье не усомнился, что Гуннар сам желает стать конунгом объединённых долин. Слова о подчинении любому избраннику тинга — ложь. Если тинг примет решение об объединении родов и земель, то конунгом будет провозглашён Гуннар. Недаром он подчинил себе ближайшие роды, собрал самую большую дружину. Гуннар готовится...
А что даст это объединение родам? Лично ему, Торгриму? Пока что его род независим от конунга. Он пользуется всем, что добывает. При объединении придётся часть имущества отдать конунгу. Платить дань. Дань? Но конунг не покорил его род. Значит, они покорятся добровольно? В придачу конунг получит дружину и самого Торгрима. Неплохо задумано, Гуннар, только ты забыл спросить моих воинов и меня, хотим ли мы пойти на службу к тебе? Впрочем, сегодняшний разговор — это и есть твой вопрос, Гуннар. Ты без труда мог бы покорить мой род силой, но не хочешь восстанавливать против себя людей долин, предпочитаешь полюбовно... Мне такое объединение не подходит ни с одной стороны. Надо узнать твои замыслы, чтобы... чтобы лучше противостоять им. Воля старейшины Эгмунда свята.
Гуннар не прерывал размышлений Торгрима. Он и сам думал об этом юнце, сидящем перед ним. Несомненно, боги благосклонны к Торгриму. Он стал ярлом в таком возрасте, когда большинство воинов не смеют помышлять даже о первой ступени предводительства. Он смел и упрям. Если его удастся перетащить на свою сторону, ещё один род будет покорен без кровопролития и ещё один голос раздастся за него на будущем тинге. Это важно, потому как родов в долинах много, а поддержит его едва ли половина. Всех не запугаешь, убедить — много времени надо. К тому же необходимо учитывать: запуганные поодиночке, встретившись на тинге, они могут забыть страх. Нет, нет, доброе слово и убеждение сильнее страха. Благоразумнее и день, и два — сколько понадобится ублажать мальчишку, чем одним ударом разгромить его дружину. Мальчишку надо уговорить, со стариком не получилось, но то был старик...
Конунг прервал бег мыслей и положил руку на плечо Торгрима.
— Ты, кажется, не веришь, что я подчинюсь решению тинга...
— Нет, конунг, думал я о другом. Как можно не подчиниться тингу? Ещё не родился человек, осмелившийся не выполнить его решений. Я думал, что, объединившись, роды вряд ли что выиграют, а потеряют многое. Им придётся платить тебе дать, — Торгрим умышленно сказал «тебе», словно тинг уже состоялся и конунгом-королём избран Гуннар. Тот не обратил на это внимания, чем ещё больше убедил Торгрима в правоте его предположений. — Мы свободные люди и никогда никому не платили дани...
— Дань? Ты, наверное, оговорился. Я не ходил на вас походом. В жизни рода мало что изменится. Ведь он и сейчас кормит и снаряжает твою дружину. Он и дальше будет кормить её и снаряжать. Единственная разница — дружина будет находиться не на земле рода, а здесь... или там, где укажет избранный конунг.
— Но сейчас дружина живёт жизнью рода. Есть у него достаток — хорошо и дружине, нет — и воины довольствуются малым...
— Твой род, Торгрим, малочисленный, и мы подумаем, нужно ли ему содержать три десятка воинов. Можно обойтись меньшим числом, так что род только выиграет. Конечно, это в мирное время. В случае вторжения врага род пришлёт воинов дополнительно...
— Я вижу, ты всё обдумал, конунг, — поднялся Торгрим. — Скажи, как будет с ярлами? Сейчас я волен решать любое дело сам...
Гуннар продолжал сидеть. Он смотрел на Торгрима снизу вверх и впервые за всю беседу глаза его улыбались.
— Ты видел Кари? Я могу сейчас позвать его, спроси сам, доволен ли он своей судьбой. Ярлы — помощники конунга, без них он не может решить ничего важного...
— Ты сказал: могу позвать, — перебил Торгрим. — Значит, он из свободного ярла превратился в твоего слугу?
Гуннар нахмурился.
— А так ли ты свободен в своих поступках, Торгрим, как тебе кажется? Не зависишь ли ты от решений рода, тинга, обстоятельств, в конце концов? Тебе кажется, что Кари стал моим слугой? Пусть так. Но сегодня в его распоряжении дружина, какой род никогда не мог ему дать. И... он всегда может сослаться на меня. Ты ещё не знаешь, что такое настоящая власть и как иногда хочется спрятаться за кого-нибудь...
— Каждый выбирает свой путь сам... — гордо начал Торгрим.
— Подожди, я ещё не всё сказал. Ты, наверное, слышал: ярл Торир убил своего соседа ярла Херда. Род не защитил его, и Херд до сих пор не отомщён. При объединении родов и земель ярлы не смогут безнаказанно убивать один другого...
— Ты хочешь даже поединки запретить? — с негодованием воскликнул Торгрим. — Теперь мне до конца понятен твой замысел. Не бывать тому. Мы, свободные ярлы, не позволим тебе взять за горло людей долин.
Гуннар нетерпеливо ощупывал пояс, но меча не было. Торгрим шагнул к нему.
— Крикни своим слугам, чтобы принесли меч. Мы немедленно сразимся, ведь я и приехал, чтобы вызвать тебя на поединок.
Сузившиеся от бешенства глаза вновь стали холодными. Высокомерно окинул конунг взглядом набычившегося Торгрима.
— Пошёл вон, щенок. Дорого обойдётся тебе дерзость. А сразиться ты можешь с тем воином, что встретил тебя у ворот, — он, кажется, оскорбил тебя...
Повернувшись, Гуннар вышел, не слушая проклятий Торгрима.
Осенью, как осуществившаяся угроза Гуннара, навалились беды. Унесло в море ладью с рыбаками, целую луну о них не было слуха[2], потом с далёкого северного побережья пришла весть: море выбросило на берег несколько трупов. По описанию опознали погибших сородичей. Торгрим сердился и доказывал, что море ежегодно забирает себе ладьи и рыбаков многих родов. Это не значит, что боги в этот раз разгневались именно на их род. Старики бесстрастно и отрешённо смотрели на пламя очистительного костра, неверными бликами освещавшее родовое капище, и упорно молчали. Люди рода чем-то вызвали гнев Тора. В этот сезон нельзя больше выходить в море на промысел.
Раздосадованный Торгрим повелел было выйти в море дружине, чтобы доказать потерявшим храбрость, что Тор не сердится на род, что погибшие сами виноваты — ушли далеко от берега, не сумев распознать надвигающейся бури. Но Ламби отозвал его в сторону, чтобы никто не слышал, и немногословно растолковал неразумность решения:
— Дело воинов — сражаться и оберегать род. Пусть рыбу ловят те, кто занимается этим всю жизнь. Ты хочешь потерять лицо?
Пришлось согласиться.
Потом прибежал один из бондов с жалобой, что ночью из его загона неведомо куда пропал скот. Торгрим наказал нерадивого:
— Не мог построить крепкого загона, иди, неумеха, ловить рыбу. Твоя земля перейдёт к более умелому и расторопному...
Старики молча покивали головами: справедливо, пусть будет так. Конечно, справедливо. Из-за лени одного не должны страдать многие.
Но случай повторился. Потом ещё и ещё. Пропадали овцы, следы коров и коней выводили к каменистой дороге. Торгрим перестал наказывать бондов. Одного из них нашли с разрубленной головой, хижина его догорала. Жена убитого, прижимая к себе детей, могла сказать немногое:
— Люди... много людей... С мечами и копьями... Не знаю их...
Гуннар? Неужели конунг унизился до разбоя? Может быть, какой-нибудь ярл из дальней долины решил таким путём поправить дела рода? Бывало и такое.
Дружина с вечера выезжала к дороге, пряталась в зарослях кустарника. Торгрим чутко вслушивался в тишину. Три ночи прошли спокойно. В четвёртую, перед рассветом, когда веки смыкаются сами собой, послышался негромкий топот копыт. Торгрим на слух насчитал восемь всадников. Поднял руку, подавая сигнал своим садиться в сёдла, и с запоздалым сожалением подумал, что дружину в засаде следовало разделить надвое. Тогда непрошеным гостям податься было бы некуда. А так могут уйти.
И ушли. Торгрим преследовал настойчиво и долго, надеялся на силу коней и злость дружинников. Может, и догнал бы, но за очередным поворотом дороги, вдали, на лужайке, увидел большой отряд всадников. Преследуемые поторопили коней. Отряд неторопливо двинулся им навстречу. В переднем всаднике Торгрим безошибочно признал Кари...
Пришлось на всём скаку поворачивать обратно. Странно, но дружинники конунга не стали их преследовать. А могли бы легко смять на свежих конях.
Торира томила неизвестность. Что-то вокруг неуловимо изменилось — в нём самом, в людях ли, в их отношении к нему или ещё в чём? Он не мог понять. Но чувствовал: изменилось. Для сородичей, соседей по долине и даже для рода Херда он перестал быть человеком, вокруг которого в последнее время вертелись все разговоры. Люди больше не обсуждали, справедливо или нет вызвал он Херда на поединок, честно ли они бились; хуже того — никто больше не гадал, будут ли родичи Херда мстить ему. Пока слухами и пересудами был наполнен, казалось, сам воздух, ярл чувствовал себя уверенно. Говорят — значит, и осуждают, и оправдывают. Ему, конечно, в высшей степени безразлично и то и другое. Так он заявил братьям — Торстейну и Аудуну, но умолчал, что его тревожит решение тинга. Если бы разговоры продолжались до того дня, когда люди долин сядут в ладьи, чтобы отправиться к скале законов, у него было бы немало противников, но достаточно и сторонников.
Но разговоры иссякли, а Торир так и не сумел с достоверностью выяснить, кого же у него больше: друзей или недругов.
Теперь людей больше интересовало другое — предстоящий тинг. Не разбирательство поединка Торира с Хердом, а сам тинг. Никто не знал ничего определённого, но все вдруг уверовали, что на этот раз тинг будет необычным.
— Чем необычный? — сердился Торир.
В ответ пожимали плечами, неуверенно оправдывались:
— Так говорят...
Неожиданно к Ториру прибыл гонец: молчаливый воин в годах, щедро попятнанный шрамами меча. Коротко сообщил, что с ним, Ториром, желает встретиться ярл Торгрим. Придётся ли по душе такая встреча старейшине рода?
— Торгрим? — напрягая память, переспросил Торир. — A-а... вспомнил. Младший сын старого законоговорителя Эгмунда. Слышал о нём. Что нужно твоему ярлу от меня?
Воин удивлённо приподнял бровь.
«Пусть Норны завяжут узелок на волосе моей судьбы, — с внезапным раздражением подумал Торир. — С какой стати я спрашиваю у воина о делах «то ярла? Он гонец, его дело — передать весть и привезти ответ».
Но вопрос задан. Воин вправе уклониться от ответа, сославшись на незнание, или ответить в меру своей осведомлённости.
Чтобы смягчить впечатление от резкости, Торир поспешил задать другой, традиционный вопрос:
— Твоё лицо в шрамах. Ты отважный воин. Назови мне своё имя.
— Я — Ламби, сын Торлейва, — скупо улыбнулся гонец. Похвала ярла, видимо, пришлась ему по душе. Но тут же лицо его приняло обычное суровое выражение. — Нас теснит конунг Гуннар. Об этом речь моего ярла к тебе...
Торир обрадовался, но внешне выразил озабоченность.
— Конунг... Слишком он возомнил о себе. Передай Торгриму: жду его. Воинам легче сражаться плечом к плечу, чем порознь...
Ламби уехал. Торир долго обдумывал последствия нежданного союза с родом законоговорителя Эгмунда. Как ни прикидывал, выходило одно: союз сулил только выгоду. Даже если тинг приговорит его к изгнанию, люди Торгрима будут на его стороне. Это могло пригодиться. Впереди неизвестность...
Торир встретил Торгрима по обычаю: гостеприимно и пышно. Не только сам ярл, но и все его дружинники получили хорошие подарки: кто кусок узорчатой ткани, кто кубок для вина, иной же сунул за пазуху эйрир серебра. В котлах варились бараньи туши. Домочадцы готовили пиршество.
Прибывшие с Торгримом дружинники, вначале настороженные, приветливо переглядывались с воинами Торира. Там, где тебя встречают пиром, заботиться о близости меча не приходится.
Ярл показывал Торгриму хозяйство рода. В первый день по приезде гостя говорить с ним о важном — потерять лицо.
...Торир мрачно слушал Торгрима. После вчерашнего пира побаливала голова. Он уже рассказал ярлу о своей стычке с конунгом. Казалось, Торир слушал его невнимательно, не торопил заинтересованными вопросами, не выражал негодования. Сидел углублённый в себя, опустив голову, упорно не отводил глаз от камешка под ногами — не поймёшь, осуждает ли Гуннара или безразличны ему злоключения рода Эгмунда. И вскинул голову только однажды, словно перед глазами блеснул клинок врага, когда он, Торгрим, сказал, что разбойной дружиной конунга предводительствовал Кари.
— Ты не ошибся?
— Нет. Его нельзя спутать ни с кем. Шрам на лбу, — уверенно ответил Торгрим.
И опять молчал Торир. Молчал долго и после того, как молодой ярл окончил свой невесёлый рассказ. В тишине было хорошо слышно, как воины обеих дружин лениво перебрасывались замечаниями о вчерашнем пире: кто больше выпил, и кто до последнего удержался за столом. В душе Торгрима медленно росло раздражение — почему так упорно молчит Торир, не зря ли приехал к нему, может ли он понять угрозу родам от задуманного Гуннаром?
Но Торир заговорил, и Торгрим с удивлением обнаружил, что тот значительно лучше самого Торгрима понял задуманное конунгом. И с первых же слов, совсем неожиданно, он осудил Торгрима.
— С врагом никогда нельзя быть честным и открытым. Ты понял, что Гуннар враг нам, всем нам. И вести себя надо было, как в стане врага. Умышленно согласиться с его доводами, показать, что тебе нравится его предложение. Уйти другом, и только потом действовать. Теперь я начинаю понимать, почему люди долин перестали говорить о моём поединке с Хердом. Гуннар действует исподтишка — он ещё до тинга заставляет роды обсуждать его предложение объединиться. Если бы ты не предупредил его о своём несогласии и раньше приехал ко мне, можно было бы попытаться противостоять ему, объяснить людям, что к чему. Теперь поздно. Задули злые ветры, скоро тинг...
— Ты думаешь, он осмелится выйти со своим предложением на тинг?
— Ты молод, и я не часто видел тебя на тингах. Не обижайся, в этом нет для тебя позора. Но знай, Гуннар не первый раз будет делать такую попытку. Было и раньше...
— Ты говоришь: было. Значит, роды не прислушались к нему. Люди не согласны с Гуннаром, — обрадовался Торгрим.
— Да, не согласились. Пока во главе родов стояли мудрые старейшины, как твой и мой отцы. Но и тогда Гуннару удавалось многих склонить на свою сторону, а иных принудить. Нынче и того хуже. Гуннар стал силой; сила же, да будет тебе известно, притягивает. Не ты ли сказал, что двор конунга полнится воинами? Свой род не мог ему столько дать. Другие прислали... Мы же с тобой даже не знаем, сколько долин сегодня согласны с Гуннаром и поддерживают его. И сколько поддержат на тинге...
— И всё же у скалы законов я буду обвинять его...
— В чём? Что он посылает своих дружинников грабить землю твоего рода? Или в оскорблении твоего отца? Старейшины не примут такого обвинения, оно... бездоказательно.
— Но Кари...
— Вот именно — Кари, — горько усмехнулся Торир. — Кари, но не Гуннар. И даже не Кари, ведь ты встретил его за пределами твоих земель. Тебе не удастся доказать, что преследуемые тобой воры и разбойники были из его дружины. Подожди, не торопись, — предостерегающе поднял он руку, заметив возмущённый жест Торгрима. — Обдумай и... согласись.
Слова Торира поразили Торгрима. Как же так? Неужели тинг не поверит ему? Неужели действительно прав Гуннар, утверждая, что роды живут не так, как жили раньше? Торир убеждён, что Торгриму не поверят. Закон перестаёт быть законом, если в его нерушимости и справедливости сомневается хотя бы один человек. Конечно, вся его дружина выступит свидетелями, что Кари разорял бондов рода. Ну и что? Торир прав: конунг останется в стороне. Обвинять Кари? Но он всего-навсего исполнитель воли Гуннара. Значит, он, Торгрим, уже проиграл.
— На тинге нечего делать, — неожиданно вслух закончил он свои размышления.
— Если мы будем хныкать и заранее предаваться унынию, нам конец, — жёстко ответил Торир и чуть мягче добавил: — Моё положение не легче твоего, но я не собираюсь склоняться перед Гуннаром.
— Что ты предлагаешь? — Этим вопросом Торгрим признал старшинство Торира.
— На тинге дело нам найдётся, — ответил Торир. — Мы должны дать Гуннару бой и попытаться сорвать его замыслы. Люди долин должны жить по-прежнему свободно. Ради этого стоит рискнуть. Ушедшие в Вальгаллу смотрят на нас, мы должны оправдать их доверие...
А в голове вертелась мысль: «Если тинг приговорит к изгнанию, соберу дружину, уйду в набег. Торгрим может пригодиться. Гуннар вцепился в него крепко, не выпустит. У Торгрима не будет другого выхода, кроме как сопровождать меня. Он молод, но может пригодиться. Может пригодиться...»
— Ты думаешь, это возможно — противостоять Гуннару? — настойчиво спрашивал Торгрим.
— Это битва, ярл. — Торир поднял на гостя сузившиеся глаза. — В битвах воины терпят поражение и гибнут. Разве ты не знаешь этого? Но что значит гибель нескольких дружинников, если битва приносит победу над врагом? Ты пришёл ко мне с предложением союза против Гуннара. Я принимаю его. Будем ли мы нападать на Гуннара или обороняться, но это — битва. Я не знаю, чем она закончится для нас лично. Может быть, люди долин осудят нас. Пусть так, но они не согласятся на домогательства ярла Гуннара. Клянусь Одином, будет так. И не требуй от меня другого: я не знаю, какие узелки завяжут Норны на волоске нашей судьбы.
— Я буду прям в нашей дружбе, ярл Торир, как этот меч — «Открыватель крови», — поднялся Торгрим и обнажил тускло блеснувший сталью тяжёлый меч.
— Верю, — поднялся и Торир, — и чтобы не было у тебя сомнений в моём роде и во мне, совершим обряд побратимства.
...В окружении воинов Торир с Торгримом отправились к берегу фиорда. Шли в торжественном молчании. Руки воинов сжимали рукояти мечей. На лицах — готовность к битве. Их ярлы вершили благое воинское дело. Священный обряд побратимства — торжество воина. Отныне и до смерти — одна кровь и одна судьба.
Торир и Торгрим мечами вырезали длинный пласт дёрна. Торстейн и Ульв подхватили его и, высоко подняв, водрузили на два копья, вынесенные из родовой святыни-капища. Наконечники копий прорезали дёрн, но он удержался на древках, испещрённых тайными знаками. Концы дернового пласта соприкасались с землёй.
Священные ворота земли открылись для жаждущих побратимства.
Дружинники окружили ярлов и обнажили мечи. Торир и Торгрим прошли в ворота, повернулись лицами друг к другу, одновременно концами мечей взрыхлили у ног землю. Сталь коснулась левых рук, капли крови, смешиваясь, увлажнили землю. Опустившись на колени, ярлы произносили древние слова:
— Из многих станешь одним. Земля приняла кровь. Норны связали судьбы. Один наполнил сердца желанием. Твой дух вошёл в меня, мой — в тебя. Если тот, чьё имя ненавистно мне, поразит тебя, я не увижу Вальгаллы, пока не отомщу. Перед всевидящим и всезнающим Одином говорю: ты брат мне...
В эту осень на тинг съехалось народу втрое больше обычного. Старые землянки, обступившие скалу закона широким полукругом, не могли принять под свой кров всех желающих. Спешно строились новые. Раньше такая работа всегда проходила весело: молодые состязались в умении владеть инструментом, пожилые, проверяя их, подавали каверзные советы, вызывающие взрывы смеха. Нынче трудились молча и сосредоточенно.
Торопились обустроиться — тинг продлится не один день. Жили в тревожном ожидании. Старейшины словно бы невзначай, сходились вместе, сумрачно кивали головами — они знали больше других: конунг задумал небывалое. Но ни один из них не был уверен, твёрд ли в своём решении Гуннар? Поднимет ли он голос у скалы законов? Беседы у родового очага — намерение, обращение к народу — действие. Но пока конунга нет и неизвестно, как он поступит, старейшины, каждый наедине с собою, обдумывали возможные решения.
Ждали Гуннара. Дни — небо затянуло тучами, моросил мелкий нудный дождь — тянулись, как труд нерадивого раба. К вечеру третьего дня ожидания прибыл ярл Торир с братьями и Торгримом. Его ладья, стремительно описав дугу по заливу, ткнулась носом в песок чуть поодаль от других тесно сгрудившихся ладей. На берег, к родовой землянке, сошли немногие — большая часть дружинников осталась на ладье. На это мало кто обратил внимание: дело самого ярла решать, где ему удобнее разместить дружину.
Торир недолго пробыл в землянке. В сопровождении Торгрима отправился к старейшинам.
В этот день Гуннар так и не появился.
Старейшины, томясь неизвестностью, благосклонно внимали словам Торира. В самом деле, доколе ждать? Разве они зависимы от Гуннара? Порешили: ждать конунга ещё день, не явится — люди долин без него начнут тинг. Натянутый, как тетива лука, резкий в словах и требованиях, обходивший в беседах молчанием свою ссору и поединок с ярлом Хердом, Торир настораживал мудрых.
Нарушивший закон не должен говорить громче всех. К тому же у ярла Торира в бороде нет ещё ни одного седого волоса. Не ему бы быть старейшиной рода, но что поделаешь — люди долин забывают об установлениях предков, уже во многих родах главенство принадлежит не белобородым, а предводителям дружин. Наверное, так пожелали боги. Никто не оспаривает старейшинство ярла Торира. И род его многочислен и силён. Не зря прилепился к нему сын равного им, старейшинам, законоговорителя Эгмунда Торгрим. Слабые всегда тянутся к сильным.
Много правды в словах Торира о конунге Гуннаре. Похоже, он всерьёз решил поднять голос у скалы законов о том, о чём не раз говорил с каждым из них наедине. Прав Торир — рушится старина. Наступили нелёгкие времена. Надо решать: поддержать ли Гуннара или встать против него? Но они, старейшины, не пойдут на поводу у провинившегося ярла. Родичи Херда уже принесли обвинение против него. Пусть Торир думает лучше о собственной защите. Соглашаться или нет с предложением конунга об объединении родов — это будут решать они, уважаемые и незапятнанные старейшины.
В своей землянке Торир дал выход долго сдерживаемому гневу.
— Безмозглые замшелые пни! Не хотят ничего видеть дальше собственного носа. Наверняка Гуннар каждому наплёл, каким почётом и уважением он будет пользоваться у него. А они и уши развесили. Ждите. Будет вам почёт — сидеть на заднем дворе. Не такой Гуннар дурак, чтобы делить с вами власть...
— Торир, ты ругаешь старейшин за то, что они не согласились на немедленное открытие тинга. — рассудительно остановил его Торгрим. — Успокойся, и поймёшь, что ты не прав. Пусть с отсрочкой, но они всё же согласились с твоим предложением. Может быть, Гуннар завтра и не явится.
— Как бы не так, — зло сверкнул глазами Торир. — Думаешь, у него здесь мало соглядатаев? Уверен, кто-нибудь уже помчался к нему. Донесут, что мы с тобой пытались настроить старейшин против него.
— Ты сам говорил: это борьба. Но старейшины тут ни при чём. Люди долин собрались решать что-то важное, но многие не знают — что. Согласись, твой поединок с Хердом и другие подобные дела для них не так уж важны. Старейшины по-своему правы, не торопясь открывать тинг, и не стоит их ругать.
— Значит, по-твоему, нам надо сидеть сложа руки и ждать, когда появится Гуннар и начнёт прельщать объединением? А несогласных — в изгнание, так, что ли? Тем более что родам тесно в долинах.
— Я не говорил, что нам надо сидеть сложа руки. Помимо старейшин есть ещё ярлы и дружинники. У скалы законов их слово не менее важно...
— Славная мысль, брат, — обрадовался Торир и крепко встряхнул Торгрима за плечи. — Будем говорить с воинами. Не все же, как Кари, захотят идти на службу к конунгу.
Гуннар прибыл на следующий день.
Люди долин собирались у скалы законов с незапамятных времён. Громадный камень причудливой формы, напоминающий сидящего ворона с опущенной к земле головой, возвышался над долиной на четыре человеческих роста. Желающий говорить с народом поднимался на скалу, складывал оружие к изображению грозного Одина, дабы все видели, что он не мечом и копьём, а словом ищет и добивается правды.
Площадка перед скалой была настолько утрамбована, что трава на ней не росла даже в начале лета. Люди располагались на площадке, не теснясь. У самой скалы, лицом к ней, впереди всех рассаживались старейшины. Выслушав говорящего со скалы, присутствующие криком, одобрительным или негодующим, выражали своё отношение к разбираемому делу. Старейшины чутко внимали голосам. Окончательное решение принадлежало им, но ни один старейшина не рискнул бы высказаться против воли народа. Законоговоритель объявлял мнение старейшин людям долин. Оно становилось решением тинга. Невыполнившего решение могли объявить вне закона. В этом случае его жизнью мог распоряжаться любой человек, даже раб. Страшное наказание. Для провинившегося, если он дорожил жизнью, оставался единственный путь — покинуть землю долин и фиордов.
...Тинг открылся на рассвете. В молчаливом окружении соген людей старейшины, совершая обряд, обошли скалу законов. Под козырьком камня — «головой» ворона — смутным пятном серела замшелая дверь пещеры, придавленная валуном. Старейшины откатили валун и скрылись за дверью. Что они делали в пещере, никто не знал, так же как мало кто видел, что скрывала она в своей темноте.
Первым из пещеры вышел законоговоритель. Он осторожно нёс деревянное резное изображение Одина. Губы бога алели свежей кровью.
В сопровождении старейшин законоговоритель тяжело поднялся на вершину скалы и поставил Одина на площадку лицом к людям. Бог с незрячими глазами привычно вознёсся над толпой. Старейшины первыми простёрлись перед Одином, за ними — все, кто прибыл к скале законов в эту осень.
Тинг начался.
Торир ждал: вот-вот родичи Херда выставят свидетелей. Прозвучит хорошо известная каждому формула обвинения: «Я обвиняю ярла Торира в том, что он незаконно первым напал на ярла Херда и нанёс ему глубокую рану, от которой тот умер. Я утверждаю, что за это он должен быть объявлен вне закона и никто не должен давать ему пищу, указывать путь и приходить ему на помощь. Из его имущества половина причитается мне, а другая половина — тем людям, которые имеют право на добро человека вне закона. Я заявляю об этом во всеуслышание со скалы законов. Я заявляю, что ярл Торир должен быть судим и объявлен вне закона».
Надо будет оправдываться. Он не убивал Херда как берсерк. Между ними произошёл честный поединок, и Торир не виноват, что тому не оказалось свидетелей.
Однако тинг шёл своим чередом, а родичи Херда молчали. Спешно, хотя всё положенное было соблюдено до последней мелочи, старейшины разобрали несколько дел: какой-то Глум обвинял Квиста в захвате прибрежной косы — лучшего места для рыболовства. Ингольв жаловался на своего соседа Одда — тот присвоил стадо его овец. Тинг, без обсуждения и даже не выслушав до конца объяснений обвиняемых, приговорил восстановить справедливость.
С возрастающим нетерпением все следили за советом старейшин. Где же то важное, что предстоит обсудить? Споры о рыбных местах, о стаде овец пусть решают тинги тех долин, где живут тяжущиеся. Тинг людей всех долин собирается не для мелких дел.
— Конунг Гуннар, — вдруг раздался голос законоговорителя, — ты собирался обратиться к народу. Люди долин готовы слушать тебя.
Гуннар легко поднялся с валуна, обогнул скалу и по короткой тропе с подобием ступеней поднялся на вершину.
Они стояли рядом: слепосмотрящий Один с жирно блестевшими губами и суровый человек, облачённый в фиолетовый плащ, из-под которого виднелась кольчатая железная рубаха. На какое-то время две фигуры застыли почти в одинаковых позах. Суровые складки на лице Гуннара сложились в подобие глубоких следов резца на деревянной личине Одина. Неизвестный мастер стародавних времён уверенно держал в руках резец и знал, как передать на деревянном лице дух силы и непреклонности.
Гуннар положил меч к подножию Одина. Снизу на конунга смотрели сотни глаз, внимательных и настороженных. Он шагнул к самому краю скалы. Один остался за спиной.
Они ждут его слова. Не первый раз Гуннар говорит с народом. До сих пор его призывы к объединению не находили понимания. Люди цепляются за отжившую своё старину. Что ж, он тоже уважает законы предков. И потом — долгие годы научили его осторожности. Когда-то он действовал, потом размышлял, теперь размышляет, а затем действует. С народом нельзя быть нетерпеливым. К этому тингу Гуннар готовился давно. И сегодня он сделает всё, что сможет. Чем закончится его спор с людьми долин? Пусть рассудят боги...
— Люди долин! — загремел его голос. — От мелких дел и забот я хочу обратить ваши сердца и думы к важному. Здесь собрались мудрые старейшины и отважные воины, трудолюбивые бонды и искусные домочадцы, все роды пришли к скале законов и поклонились Одину. Мы живём одним сердцем, на одной земле, говорим на одном языке, у нас одни обычаи. Но можно ли назвать нас одним народом? Роды живут в своих долинах независимо один от другого, враждуют, грабят, убивают. Старейшины и ярлы родов ни в чём не хотят уступать друг другу, каждый думает о своей долине и о своих сородичах. О судьбе же всей земли и жизни всех родов никто не заботится и не думает...
— Ты забыл, конунг Гуннар, что говоришь на тинге, — насмешливо крикнул Торир. — Разве тинг не выражает волю всех людей долин?
— Вот ещё одно проявление старых, отживших своё порядков, — круто повернулся Гуннар в сторону Торира. — Взбесившийся ярл, убивший ни в чём не повинного человека, столько времени живёт не наказанным и ещё смеет поднимать голос на тинге. Плохо мы живём, люди долин, и будем жить ещё хуже, если не откажемся от таких порядков...
— Они завещаны нам предками, — раздался одинокий гневный голос, и толпа одобрительно зашумела.
Торир рвался из цепких рук братьев и Торгрима. Ослеплённый яростью от оскорбления, он готов был обнажить меч против Гуннара. На их молчаливую возню смотрели с осуждением. Торир мешал слушать Гуннара. Время сведения счетов ещё не пришло.
Схваченный тремя парами рук, Торир наконец успокоился. Только глаза, расширенные, побелевшие, да желваки, перекатывающиеся под кожей скул, выдавали охватившую его ярость.
Люди долин ждали продолжения речи Гуннара. Начало её не понравилось многим — конунг посмел хулить законы и заветы предков. Конечно, кое-что можно и нужно изменить. Почему, скажем, воины должны обязательно жить в большом доме? Об иных заветах помнят лишь старики. Молодым чаще всего нет дела до того, как жили их предки. Они живут своим умом. Всё это так. Но восставать открыто против вековых обычаев? Нет, конунг Гуннар посягает на святыни и поддержки не получит.
— Горько и тяжело слышать, — после продолжительного молчания вновь заговорил Гуннар, — как вы, лучшие люди долин, одобряете отжившие установления. Вы не хотите понять, что такое одобрение на руку лишь подобным ярлу Ториру. Это они, вольно или невольно, хотят погибели нашему народу. Да. я не боюсь сказать об этом прямо и открыто здесь, перед вами и перед лицом Одина. Разрозненные роды враждуют между собой, они никогда не смогут навести порядок на своей земле и никогда не смогут защитить её от врагов. Не надо шуметь люди долин! Вам не нравятся мои слова, они кажутся вам необоснованным упрёком. Нет и ещё раз нет! Не упрекать вас поднялся я на скалу законов, а сказать правду Правда же редко бывает приятной. Но лучше знать горькую правду, чем приятную ложь. Я готов много раз повторять: если мы не объединимся, то погибнем.
Я не пугаю. Вас невозможно напугать. Вы свободные и сильные люди. В своих горах и фиордах нам не страшен никакой враг. Наша земля бедна, а море сурово. Но они кормили наших предков и кормят нас. Роды иногда враждуют между собой, но это семейные ссоры родственников. А если в наши дома приходит беда, мы забываем обиды. Так зачем нам какие-то изменения, зачем объединяться? Так думаете вы, так думали наши отцы и деды.
Люди долин! Что было хорошо вчера, сегодня уже перестало быть хорошим. Нам нужна не только сила, но и разум. Мудрейшие из вас. по рассказам отцов и дедов, знают, как жили наши предки. Каждый род обитал в своей долине и довольствовался малым. Никто не покушался на добро соседей, потому что род был в каждом человеке и каждый человек — в роде Проступок одного вызывал междоусобицу многих. Границы родов почитались священными. Разве ныне они остались такими же?
Знает ли сегодня старейшина или ярл. чем и как живёт каждый бонд? При всём желании он не может этого знать. Вы скажете: ну и что из того? Роды разрослись, каждый человек вправе жить так, как он хочет, и там, где пожелает. Оттого, что бонд живёт в хижине, а не в большом доме, он не перестаёт быть членом рода. Он так же послушен воле рода, как были послушны его предки. Значит, ничего не изменилось в жизни людей долин, значит, и дальше она останется неизменной.
И вот тут, старейшины и ярлы, вы ошибаетесь. Жизнь изменилась. Вечность установлений рода кажущаяся. Посмотрите вокруг внимательнее. Там, где род раньше мог легко кормиться охотой и рыболовством, сегодня не хватает места бондам с их десятком овец. Они переходят границы и в поисках лучших мест селятся на новых землях. Разве вы, старейшины и ярлы, можете воспрепятствовать им? Да если бы и захотели, не сумели бы. Пригодной земли становится всё меньше, скажу больше — её вообще не осталось. Не потому ли люди покидают долины и уплывают в страну Горячих Источников? Людей в долинах становится много, и они не довольствуются малым. Им тесно на родной земле — она не может дать им всего необходимого...
Гуннар говорил спокойно, с чуть заметной печалью в голосе.
Слушали внимательно. Ни один протестующий голос не раздался у скалы законов. Много, слишком много горькой правды было в словах конунга. Да, в долинах стало тесно. Да, земля родит скудно. Да, бонды с каждым годом всё чаще нарушают обычай — жизнь заставляет. Да, смельчаки покидают долины — говорят, страна Горячих Источников просторна и обильна. Не попытать ли счастья? Но как к этому отнесётся род?
Конунг перечислял беды и напасти. Собранные воедино, они ложились на души тяжёлым камнем. За многие годы к горестям привыкли и не слишком задумывались, во вред или на пользу происходят изменения. Гуннар утверждает — на пользу. Но если обычаи предков устарели и плохи, надо сказать о лучшем. К старому привыкли, с ним рождались и умирали. Так ли хорошо будет то новое, о чём не однажды заговаривал конунг?
Мысли, пока ещё не оформившиеся в ясные слова и твёрдые решения, посещали многих. Речь Гуннара как зерно, упавшее на невспаханную почву: будет погода благоприятной — прорастёт, случится засуха — не жди урожая.
Намеренная пауза в речи конунга затянулась. По молчанию слушателей он понял: его слова глубоко проникли в сознание людей. Прервав заранее обдуманную речь, он надеялся, что если не многие, то хотя бы кто-то один спросит: а что же предлагает конунг нового? Сейчас, всматриваясь с высоты скалы в хмурые лица, он жалел, что не поручил кому-либо из своих людей, хотя бы тому же Кари, задать такой вопрос. Тогда была бы соблюдена видимость заинтересованности людей в его предложениях, и он не навязывал бы свою волю, а на правах старейшины советовал бы родам объединиться.
Это была даже не ошибка, а совсем маленький просчёт конунга. Как и слишком затянувшаяся пауза в речи. Ею воспользовался Торгрим. Переглянувшись с Ториром, он начал проталкиваться сквозь толпу.
— Люди долин! — громко крикнул он. — Конунг Гуннар намеренно смешал в одну кучу все наши беды: подлинные и мнимые. Сейчас он начнёт доказывать нам, что только под властью одного человека, именно его властью, мы можем жить спокойно и счастливо.
Торгрим пробрался к скале, остановился перед старейшинами вполоборота, чтобы можно было обращаться и к ним и к народу.
— Если о счастье всех говорит один, а все остальные молчат, то не кажется ли вам, что этот один заботится больше о своём счастье, чем об общем? Конунг скажет нам, что, объединившись, наши роды станут одной семьёй...
— То, что я хочу сказать, ярл Торгрим, я скажу сам, — прервал его Гуннар.
— Э... конунг, больше того, что ты недавно поведал мне наедине и наверняка сказал ещё многим ярлам и старейшинам, не скажешь. Так что не старайся понапрасну. У меня это получится короче. Лишние люди из родов уйдут в твою дружину. Конунг своей властью будет указывать — кому, где и чем заниматься. Сильная дружина будет совершать победоносные набеги на соседей и всегда сможет отразить вторжение врага на свою землю. Скажи, разве не это ты хотел сказать нам?
— Да, это, — ответил Гуннар. Вопрос всё же был задан, хотя и не в такой форме, в какой он хотел. — В объединении наша сила. Бонды и домочадцы без страха займутся своим делом. Походы обогатят страну. Каждый житель долин будет иметь рабов. Расцветут ремесла и торговля...
— Красивые слова говоришь, конунг Гуннар, но не считай нас глупцами! — крикнул Торир. — Рабы и богатство будут у тебя. Люди же долин заплатят за это дорогую цену — они потеряют свободу и станут твоими рабами. Роды наши были и будут свободными...
— Замолчи, взбесившийся ярл! — не выдержал Гуннар. — Ты не видишь дальше собственного носа, но берёшься поучать людей и сбивать их с толку. Ты кричишь очень громко о правах и свободе своего рода. Почему же я вижу на тинге только тебя и твоих братьев? Разве слово рода — это только твоё слово? Можем ли мы, старейшины, быть уверенными, что ты выражаешь волю всего рода, а не показываешь личную гордыню?
Торир насмешливо улыбался. После минутной ярости он успокоился. Чем бы ни закончился суд над ним самим, до конца тинга нужно держать себя в руках. Берсерк не вызывает доверия, его слова уносит ветер.
— Моя, как ты говоришь, гордыня — в гордости и славе моего рода, — не замедлил он воспользоваться вопросом Гуннара. Надо было сбить, скомкать речь конунга, свести её к словесной перепалке, иначе доводы Гуннара могут многих поколебать. И хотя вековыми обычаями запрещалось прерывать говорившего со скалы законов, Торир вступил в небезопасный спор с Гуннаром. За неподчинение древним установлениям старейшины могли удалить его с тинга. Но они пока молчали, и Торир принял молчание за поддержку.
— Здесь заговорили о будущих победоносных набегах. Разве мы часто терпим поражения? Не хочешь ли ты сказать, Гуннар, что если мы их терпим, то только потому, что роды живут отдельно друг от друга? Разве ты не знаешь, что наши дружины идут в поход, объединённые в один кулак? Нет, люди долин! — повернулся ярл к сидящим. — Гуннар очень хорошо знает это. Дважды побывав конунгом в таких походах, он хочет сохранить власть конунга навсегда. И быть им не только в походах, но и в мирное время. Он немало приволок добычи, но голоден ненасытный волк... Ему мало добычи, ему нужна власть над всеми нами...
— Старейшины и законоговорители! — загремел Гуннар. — Я пришёл на тинг, уважая законы и обычаи нашего народа. Но почему не уважает их этот ярл? Я просил вас выслушать меня со скалы законов. Вы согласились на это. Почему же разрешаете прерывать меня и устраивать на тинге перебранку?
— Потому, что ты как раз и ратуешь за отмену этих законов и обычаев! — насмешливо крикнул Торгрим.
Люди заулыбались, одобрительно зашумели. Они ценили меткое слово, сказанное вовремя.
Торгрим подметил верно: Гуннар осуждает обычаи предков и тут же прибегает к их защите.
Успокаивая людей, поднялись старейшины-законоговорители.
— Ярлы Торир и Торгрим! Слушайте говорящего со скалы законов, — слабым голосом повелел старший из них.
Ярлы молча подчинились.
— Продолжай, ярл Гуннар, мы слушаем тебя...
Гуннара больно кольнуло это обращение: ярл. Давно уже его называли только конунгом, он даже в мыслях привык к этому титулу и считал себя конунгом и только конунгом. И вот дождался — его назвали ярлом. И где? На тинге, на который он возлагал столько надежд. И этот одобрительный шум в ответ на слова мальчишки Торгрима. Даже люди из его собственной дружины улыбались.
Гуннара охватил гнев.
— Вы не хотите слушать моих разумных доводов. Вы кичитесь походами. Да, наши люди — отважные воины. Но ещё раз говорю: вы слепы, вы не видите, как меняется мир вокруг вас. В Британии мелкие королевства сливаются в одно государство. Если вы сунетесь туда, ваши разрозненные дружины захлебнутся собственной кровью. А франти? Можете ли вы тягаться с ними? Торир сравнил ваши дружины с кулаком. Нет, это они — саксы, франги — стали единым кулаком. Мы же — пальцы, и пальцы неразумные, один не знает, что делает другой. Вы спохватитесь, люди долин, но будет поздно. Вы вспомните мой призыв объединиться, когда враги ворвутся в ваши жилища.
Он резким движением поднял лежавший у подножия Одина меч, пристегнул к поясу. С гордо поднятой головой сошёл со скалы законов и стал впереди дружины. Народ ещё не сказал своего слова, но Гуннар знал: ещё одна его попытка обернулась неудачей. Пусть так. Но с Ториром и Торгримом он справится.
Вышвырнуть их из страны долин, изгнать навеки — на это его влияния хватит.
Всё так же слепо смотрел на людей со скалы Один. Всё так же блестел кровью его жёсткий рот.
Время Гуннара ещё не пришло. Оно придёт, правда, не скоро, и будет это время другого конунга. Объединит страну долин и фиордов через десятилетия Харальд Прекрасноволосый[3].
Тинг приговорил: ярл Торир за преднамеренное убийство ярла Херда должен уйти в изгнание.
Он подчинился.
Прорицательница ошиблась. Вместо судьбы славной Торира ждали долгие дороги, изменчивое счастье скитальца.
БОДРИЧИ[4]: НАЧАЛО IX ВЕКА
Будущее благополучие создаётся вчерашним днём. День сегодняшний может его лишь упрочить и приблизить. Грядущий день проспишь — сам обеднеешь, а внуков с сумой по миру пустишь.
Конунг данов Готфрид непререкаемо верил в истинность этого утверждения.
— Плевать мне на северных соседей! — кричал он в раздражении герцогу Кнуту. — Что ты тычешь мне в нос этими бродячими шайками разбойников-викингов[5]? Я доверил тебе побережье, защищай его. Участились нападения? Сам виноват, значит, ни одному ярлу не пустил кровь по-настоящему. Они наглеют, а ты всего лишь держишь оборону. Потому и бьют тебя...
— Ни один ярл не может похвастаться, что разбил меня, — не сдержался герцог. Золотая массивная цепь на его сильной выпуклой груди колыхнулась возмущённо.
В малом замковом зале они были одни, и Кнут мог позволить себе оспорить слово конунга-короля. К тому же герцог (титул, сравнительно недавно перенятый у соседей-франков) считался добрым приятелем конунга, насколько могут быть приятельскими отношения между повелителем и вассалом. Но ведь и повелители — всего-навсего люди, и им нужен человек, с которым можно перекинуться словом на равных. Готфрид испытывал нужду в таких людях постоянно — он был деятельным королём, и как на любого деятельного человека, на него со всех сторон наваливались большие и малые дела и события. Времени просто не хватало. И потому на реплику Кнута он взорвался новым потоком брани.
— Приятель, не дури мне и себе головы! Разве я назвал тебя трусом или младенцем в битве? Пусть я не увижу Вальгаллы, если ты хуже меня понимаешь, что все эти набеги на побережье, стычки не играют для нас никакой роли. Ярл с пятью десятками воинов. Ха! Они способны ограбить какое-нибудь поселение, не более того. Я ведь знаю, Кнут, они убегают подобно зайцам, как только услышат, что поблизости твои отряды.
— Не всегда так, мой король, — сжал губы герцог.
— Знаю, знаю, Кнут. — Готфрид вскочил со скамьи, известковый пол зала перечеркнула его колеблющаяся тень — в громадном камине пылали дубовые поленья. — Если бы на побережье было спокойно и безопасно, тебе бы не пришлось торчать там. Но и придавать слишком большое значение набегам не надо. Не забывай, что мой родич Харальд Боевой Зуб[6] оставил нам объединённую страну, у нас хватит сил образумить зарвавшихся ярлов. В конце концов посади отряд-другой на корабли, догони грабителей в море, захвати кого можешь живым, иди в их фиорды и там, на глазах сородичей, перевешай всех до одного. Это впечатляет. Другие поостерегутся.
— Нужны новые корабли. Недавно бурей три судна выброшены на берег...
— Накажи кормчих. Впрочем, это твоё дело. Что ты хочешь от меня, Кнут? Серебра? Воинов? Мастеров для постройки кораблей? Говори — что?
— Ты же знаешь, Готфрид, по твоему слову мы не ходим в набеги. Воины ропщут, мне нечем им платить.
— Ладно, герцог, я дам тебе серебра. Хотя это вы должны приносить мне его. Главная опасность идёт с юга, ты это знаешь не хуже меня. Там приходится постоянно держать войско, и туда, как в бездонную бочку, уходит казна. Король франков Карл, провозгласив себя императором, недавно присылал ко мне послов. До тебя, на север, эти вести, наверное, ещё не дошли? — Король выжидательно замолчал.
Лицо Кнута, обветренное суровым дыханием Янтарного моря, изрезанное преждевременными морщинами, — само внимание. Проведя последний год почти безвылазно на побережье, он действительно не знал многого из того, чем жил королевский двор. Порой охватывала обида, мнилось, конунг забыл о нём. Но тут же и одёргивал себя: нет, Готфрид не забыл, сегодня он поручил ему побережье, завтра найдёт другое дело рядом с собой. Такими военачальниками, как он, Кнут, Готфрид разбрасываться не будет.
— И что тебе привезли послы Карла? — Отвечая вопросом на вопрос. Кнут одновременно подчёркивал свою неосведомлённость и озабоченность делами королевства данов.
— О, мелочь. Всего-навсего предложение о союзе против бодричей. Он с юга, я с севера. Куда высокомудрому князю Годославу податься? Один хороший удар, обдуманный и подготовленный совместно, и Рарога больше не будет. Пепел и развалины от города бодричей. А может, договоримся, Рарог моим станет. Карл и на такую возможность намекает. Для себя он выторгует у Годослава другие куски, пожирнее Ты бы согласился, Кнут, а? Сколько мы с этим Годославом возимся, а тут случай сам в руки плывёт...
— Клянусь честью, государь, я бы согласился, — живо ответил герцог. — Другого случая может и не быть. С бодричами один на один... — Он причмокнул губами и тем самым лучше любых слов выразил сомнение в возможности победы над южным соседом — союзом многолюдных славянских племён бодричей.
— Да, мой Кнут, ты засиделся на побережье, — с сожалением, обрадовавшим герцога, сказал Готфрид. — Твой опыт очень пригодился бы мне здесь. Но ведь и там нужен верный человек. А то мои подданные завопят, что король Готфрид не хочет защищать их от викингов. Терпи, Кнут, терпи, приятель. Я ведь терплю наглость Годослава. А императору Карлу я отказал, хотя он и не бранит тех, кто уже называет его Великим. Ты, я вижу, удивлён, Кнут? Конечно, ведь ни ты, ни кто другой из моих приятелей и придворных не догадался хотя бы раз назвать меня великим. И тем не менее я отказал Карлу Великому. И знаешь почему? Потому что я, при всей своей заурядности, догадался поинтересоваться: а не предложил ли Карл свой союз ещё кому-нибудь? И что ты думаешь: Карл захотел перехитрить самого себя. Он предложил союз и Годославу против саксов. Как ты считаешь, не совсем дурак твой король, а, Кнут?
— Государь... — в растерянности развёл руками герцог.
— Оставим это. — Готфрид подошёл к скамье, подвинул её и уселся перед камином. — Серебро получишь, воины не должны испытывать нужды. Парочку ярлов для острастки всё-таки вздёрни. Кстати, а почему бы нам не использовать против норвегов их же викингов? Помнится, твой гонец недавно сообщил о приходе к нам какого-то ярла Торира с дружиной. Кто таков? Сколько у него дружины?
— У него на родине тинг объявил Торира вне закона. Какая-то тёмная история: то ли поединок без правил, то ли обычное убийство. Он попросился на службу, с твоего разрешения я его взял. Он не один, с ним ещё мелкий ярл Торгрим. Дружина — полторы сотни воинов. Проверил — воины добрые. Разместил в Ааргусе[7], — чётко, как подобает военачальнику, доложил Кнут и добавил: — Это хорошая мысль, государь: ярл — против ярлов.
— Нет, Кнут, — стремительно возразил Готфрид. — Конечно, за серебро они будут сражаться с кем угодно. Но... Да, так будет лучше... Ты отправишь их сюда, Кнут, в Раскильде. Я проверю их в деле. Мне нужен Рарог, и я возьму Рарог. Обойдёмся без помощи Карла. И если твой ярл приведёт ко мне на верёвке князя Годослава... Ты понял, Кнут?
— Да, государь.
— Запомни, герцог. Пока я буду охотиться на Годослава, ни одна дружина викингов не должна высадиться на побережье. Ах, как нужен ты мне в походе на Рарог, Кнут...
Князь Годослав получил весть о походе Готфрида на Рарог поздно.
— Хирдманы данов обложили град, — торопливо рассказывал вестоноша. — На глаз — поболе тысячи их будет. Сам Готфрид хирдманов-дружинников возглавляет. Град помощи просит, без тебя не выстоять нам, княже. По твоему же слову две седмицы назад отправили к тебе в Велеград более половины нашей дружины. В Рароге два десятка да трое воев осталось. Что они могут содеять против Готфрида? Воевода Нилота велел сказать тебе: не надеется и двух ден продержаться. Коли не поспешишь, град наш возьмут на щит…
На щеках вестника пролегли борозды от пота, смешанного с пылью, — не нашлось и мига окунуть лицо в придорожный ручей. Каким ворвался в стольный град на измученном коне, таким и перед князем предстал: холщовая рубаха коробится, порты и постолы густо грязью заляпаны, руки непроизвольно дёргаются, словно он всё ещё коня погоняет, от усталости на ногах едва держится.
Годослав поначалу едва признал его, хотя из тысячной своей дружины, разбросанной по дальним и ближним посельям, по одному слову, сказанному шёпотом, мог даже ночью узнать каждого. Этот Вартислав, был не из худших. Годослав не один раз предлагал ему перебраться из Рарога в Велеград, но всегда получал благодарно-вежливый отказ. Корнями врос Вартислав в малый Рарог, своим почитал его. И по тому, что воевода Нилота отправил вестником беды к князю именно его. Годослав понял: положение Рарога хуже, чем об этом рассказывает Вартислав.
Не таясь вестника, опечалился князь. Его, умудрённого жизнью мужа, провели, как неразумного юношу. По договору с императором франков Карлом он отправил свою дружину против саксов. Повёл её Рюрик — первенец, любимец отца и воинов, к тридцати годам ставший добрым и опытным воем. Под рукой в Велеграде не наберётся и сотни дружинников. Вернуть немедля ушедшую дружину невозможно. С кем идти на выручку Рарога? Ну, Готфрид, заплатишь ты мне за вероломство...
И всё же он взял себя в руки.
— Иди на поварню, Вартислав, перекуси и отдохни малость. К полудню выступим...
Годослав, сколь помнил себя, мерил людей своей мерой. А цена той меры для иных была неподъёмной: не солги даже в малом, обещанное исполни, даже если тебе угрожает смерть.
Сам так жил и от других того же требовал. Удивлялся и гневался, когда люди поступали по-иному.
Удивляться приходилось часто, пора бы, казалось, привыкнуть к человеческой изворотливости и хитрости. Но не мог свыкнуться. И с горечью замечал, что даже в собственной семье, у выросших сыновей — Рюрика, Синеуса, Трувора — подчас не находит поддержки своим убеждениям.
Ни один из сыновей ни разу не солгал ему, но нет-нет, да и проскальзывало в их словах лукавство, намёком давали они понять отцу, что с волками жить — по-волчьи выть. Разве можно верить хотя бы одному слову короля данов Готфрида? А свои соплеменники — вагры, те же полабцы[8] или глиньяне — намного ли лучше? Каждый хочет блага для себя, а до других ему и дела нет. Только их отец Годослав, как слепой, не видит этого и твердит одно и то же: сила бодричей в их единстве и верности. Даже колосья в поле — один выше другого. Людей тем паче под один гребень не выровняешь. Ты ему о единстве, а он кивает на лютичей: тож, мол, славяне, и языком, и обычаем родичи наши, а поди к этим родичам да молви им: поделитесь добром вашим — по шее накостыляют. Так-то вот единство на деле оборачивается.
Годослав корил себя за излишнюю доверчивость. Почему не допытался у послов Карла о точном времени выступления Готфрида на саксов? Доверился их утверждению, что и даны пойдут в поход. Совместными усилиями легко будет указать спесивым саксам их место, чтобы жили тихо, не задирали соседей. Немало обид скопилось у бодричей на саксов. Люди порубежья часто приносили Годославу жалобы на притеснения соседей. Мнилось, что и Карл ополчился гневом на них по той же причине. Почему-то не задумался: а данам какая выгода от похода того? Земли Готфрида и саксов не порубежные, зачем ему задираться и ратиться с дальними людьми?
Эх, Годослав, Годослав, простая душа. Вот и дождался: Готфрид пошёл походом, только не на саксов, а на твой Рарог. А с кем выступишь против него ты?
Сотня воев не одолеет тысячу. На верную гибель идёшь, Годослав.
— Пусть Яровит[9] покарает меня за доверчивость, — прошептал Годослав, — но да не скажет ни один из рарогов-соколов (сами бодричи-ободриты называли себя рарогами или рериками, то есть соколами), что Годослав не протянул руки осаждённому граду...
Гонцы были отправлены: к Рюрику, чтобы возвращался с дружиной немедля, но князь не питал ни малейшей надежды на своевременную помощь сына — слишком далеко ушла дружина; к ближним посельям — он знал, что малые дружинки поспешают-торопятся на его зов. Велеград оставлял на Дражко — ближайшего боярина, верил ему как себе. Скорее по привычке, чем по необходимости, наказал собрать всех, кто способен держать в руках лук, приставить к частоколу, из града до его прибытия носу не казать. А ежели не прибудет он, то поступать, как совесть и обычай велят.
...Дружинка, как и обещал князь Вартиславу, выступила к полудню. Вои знали, куда и для чего ведёт их Годослав. Каменели лицами, но ни один не свернул с торной дороги в спасительное мелколесье.
Выполняя повеление герцога Кнута, ярлы Торир и Торгрим с дружинами прибыли на временную стоянку конунга Готфрида — в город Раскильде. Уходить из Ааргуса, насквозь пропитанного родным запахом моря, гниющих водорослей и рыбы, не хотелось. Отсюда рукой подать до родного фиорда. Торир уже дважды встречался со знакомыми ярлами земли фиордов и долин. Обошлось без крови. Ярлы, как и он, были обижены Гуннаром и видели в Торире собрата по ненависти к конунгу, а возможно, и будущего ходатая перед королём Готфридом. Поэтому они легко согласились на его просьбу не нарушать мир побережья данов. Недалеко остров бриттов[10]. Что значат два-три дня пути для быстрокрылых ладей викингов! Добычи же там хватит всем. Может быть, в другой раз и он, ярл Торир, поставит своего «Пенителя морей» рядом с их ладьями. Путь к берегам острова бриттов ему хорошо известен. А пока — пусть пошлёт им Один победу в битве!
Герцог Кнут остался доволен сообразительностью и ловкостью Торира в переговорах с ярлами. Он бы и сам не прочь пощупать бриттов, но король Готфрид предпочитает на побережье пока держать оборону. Пока... Он, Кнут, верит, что это ненадолго. Они с ярлом Ториром ещё поведут свои суда с хирдманами к тому острову или туда, куда укажет конунг Готфрид.
Так будет. А сейчас Ториру с дружиной следует отправиться в Раскильде. Так повелел король. Он, герцог, завидует ярлу. Да, да, не отсиживаться за городской стеной зовёт Готфрид ярла. Его ждут славные дела.
Но даже намёк на славные дела не возвеселил душу Торира. Сумрачно выслушал повеление и Торгрим. Они, свободные ярлы, ещё не привыкли к подчинению чужой воле. Оберегая свою независимость, они покинули страну долин и фиордов. Так почему здесь должны подчиняться распоряжениям короля? С таким же успехом они могли склонить головы и перед Гуннаром.
Прошлое не вернуть и не переделать, как невозможно повторить уже свершившийся набег на остров бриттов, изменить его результат. Поражение можно выдать за победу только на словах, в действительности оно остаётся всё равно поражением. И напоминает некстати о себе ускользающим взглядом дружинника. Как знать, может, ему стыдно вспоминать, как он бежал к «Пенителю морей» под стрелами бриттов, не обращая внимания на призыв ярла. А может, он вспоминает и тебя бегущим, ярл?
Набег — тот, первый, предпринятый сгоряча, без подготовки, сразу же после приговора тинга, — закончился неудачей. Правы были ярлы, отказавшись когда-то избрать его конунгом похода. Личная храбрость для конунга — далеко не самое важное. Теперь он это знает...
Осенние бури вымотали дружинников, они валились с румов «Пенителя морей», не в силах больше ворочать вёслами. А когда всё же увидели поднимающийся из моря берег проклятого острова, неосмотрительно заторопились, подгоняемые нестерпимой жаждой, и сразу же напоролись на береговую стражу бриттов.
У ярла Торира всякий раз при воспоминании о постыдном бегстве непроизвольно краснели уши.
Он не помнил, сколько дней и ночей забавлялось море «Пенителем морей». Гордые мечты, навеянные прорицательницей Хельгой, развеялись дымом потухшего костра. Хотелось одного: чтобы всё побыстрее закончилось — и хрипы дружинников, и жажда, и бесконечные удары волн о борт ладьи.
Полумёртвыми их выловили даны у своего побережья. Они могли бы обратить их в трепаров — домашних рабов, но Кнут оказался проницательным человеком. Он предложил им службу у короля Готфрида.
Торир согласился. А что оставалось делать?
...Он покидал замок короля со смутным чувством. Готфрид произвёл на него сильное впечатление открытостью своих желаний. Если ярл Торир хочет быть в числе первых, чувствовать себя не наёмником, а подняться до родовых старейшин-стурменов и пользоваться соответствующими почётом и властью, пусть заслужит это право. Послушание, верность королю, инициатива при исполнении повелений — вот основа будущего благополучия ярла.
Первое серьёзное дело — предстоящий поход на Рарог. Дружина ярла пойдёт в челе королевского войска.
— Как видишь, приятель, я вполне откровенен с тобой, — улыбка тронула полные губы Готфрида. — Твои воины мне неизвестны, и, сознаюсь, мне будет не так жалко их. как своих, если Годослав всё же захочет помериться со мной силой. А он захочет, я знаю этого старого правдолюбца. Так что тебе, приятель, предстоит столкнуться с Годославом и доказать, что ты истинный викинг.
Но если увижу, что ты будешь беречь дружину в ущерб делу, мы расстанемся с тобой. Нет, нет, я не пугаю тебя. Говорю, чтобы знал мне не нужны ярлы, заботящиеся сперва о себе, а потом обо мне…
Готфрид — настоящий конунг. Он, ярл Торир, будет служить ему верой и правдой. Пока. Вот это смутное в своей неопределённости и неизвестно откуда взявшееся «пока» и скребло душу ярла. Пока — что? Может быть, через какое-то время он займёт место герцога Кнута? Или Норны подскажут Готфриду мысль назначить его, Торира, самостоятельным правителем какой-нибудь провинции? Было бы неплохо. Хотя жизнь одна, и она ещё впереди.
«Брось, Торир, — одёрнул он себя. — Не заглядывай в будущее, сейчас это тебе не по зубам. Думай о Рароге и князе Годославе».
Воевода Нилота сдержал слово — три десятка его дружинников и сам он в их числе пали мёртвыми на заборолах[11] градской стены. Честь пред князем сохранили, но града не уберегли. Что опытным воинам частокол. будь он и в четыре человеческих роста, коли на площадках вверху стены защитников раз-два и обчёлся. А стрелы идут густым косяком, и никакая дубовая плаха не спасёт, потому как ты защитник града и в плаху ту телом не вожмёшься, хоть на сотую стрелу врага должен ответить своей. Вот она сорвалась с тетивы, понеслась испить красной крови. Одним глазом глянуть, испила ли? Но и того мгновенья хватает, чтобы сто первая стрела, пущенная не менее мощной рукой оттуда, с поля, впилась в твоё горло и высунулась из затылка.
Король Готфрид не умедлил приказом. Как только последняя стрела с заборола, затрепетав бессильно в воздухе, упала у частокола, его хирдманы бросились к воротам. В ход пошли секиры...
Торир, во время приступа державший под обстрелом частокол, вошёл в Рарог последним. Дружинники посматривали на ярла хмуро — городок был невелик, и после хирдманов короля на добычу рассчитывать не приходилось. Добро, если хоть что-нибудь достанется.
Не глядя на ярла, они молча, разбившись на группы, бросились к строениям. Торир ни одного не окликнул, добыча — узаконенная собственность победителя. Часть её принесут ярлу, поэтому ему незачем унижать себя поисками тайников.
Готфрид ещё издали приветствовал Торира поднятой рукой в боевой перчатке.
— Твои лучники отменно шлют стрелы, ярл! — весело крикнул он. — Передай им мою королевскую благодарность. Слава Одину, они заслужили её.
— Передам и в свою очередь благодарю тебя, конунг. Но сейчас, сдаётся мне, не время для этого...
— Ты что-то задумал, приятель? Говори, да побыстрее, если с делом пришёл...
Малая дружина князя Годослава торопилась к Рарогу. Верилось: воевода Нилота ещё держится. Тогда, оставаясь незамеченными, они смогут ударить в спину Готфриду. Счастье воинское переменчиво, неожиданность иногда приносит успех, даже если в него не очень веришь.
На своей земле каждый поворот знаком. Ещё немного — и за перелеском дорога вынырнет на поляну и откроется Рарог. Спотыкаются не только кони, всадники тоже лишь привычкой да злостью к данам держатся в сёдлах. Ничего, спина врага возрождает силу.
...Стрелы обрушились неожиданно и со всех сторон. Ярл Торир не придумал ничего нового. Когда знаешь, что противник торопится и все его помыслы устремлены к одной цели, лучший вид нападения — засада. Конечно, устроенная с умом, так, чтобы ни передним, ни задним ходу не было. Остальное сделают стрелы. Но пусть ни одна из них, даже случайно, не полетит в князя Годослава. Кажется, он так досадил королю, что тот захотел непременно видеть его перед собою живым. Что ж, Готфрид, порадуем тебя и этим...
Легенда скупа. В 808 году король данов Готфрид повесил князя Годослава в захваченном и разорённом граде Рароге.
...Рюрик опоздал дважды. Почти тысячную дружину бодричей, уже втянувшуюся в мелкие стычки с саксами, повернуть назад тотчас было невозможно. Пришлось собирать разрозненные отряды и потерять ещё половину дня на сбор продовольствия для обратного пути.
Рюрик действовал стремительно, но обдуманно. Тем не менее конная дружина его втянулась в изнурительную рысь лишь к исходу второго дня. Ведя счёт времени с момента появления вестника, Рюрик въехал в широко открытые ворота Велеграда на седьмой день.
Почти сразу же за воротами, на малой площади, его остановил взмахом руки боярин Дражко. За ним толпились старейшины. От неимоверной усталости семисуточной скачки без сна, с короткими остановками для смены заводных лошадей, Рюрик даже не вспомнил, что надо сойти с коня, коли тебя встречают старейшины в челе с любимым и доверенным боярином отца. Воспалёнными глазами смотрел он на торжественный наряд Дражко. «С коей стати вырядился? Неужто обошлось?» — пронеслась мысль, но и затерялась мгновенно.
— Где князь? — прохрипел он и не узнал своего голоса.
— Князь бодричей Дражко перед тобой, воевода Рюрик, — степенно, ровным голосом ответил бывший боярин. — Твоего отца, князя Годослава, призвал к себе Сварог. Земля избрала князем меня...
Оглушённый, Рюрик молчал. Он был готов к известию, что Готфрид овладел Рарогом, в глубине души допускал, что его дружине придётся с ходу вступить в схватку с данами здесь, у стен Велеграда. Но гибель отца? Значит, всё же Годослав, вопреки опыту и мудрости, бросился на выручку Рарога. Отец, что же ты наделал, отец? Ты же знал, обязан был знать, что я прискачу, обязательно прискачу...
Он, как в детстве, беспомощно оглянулся и увидел Синеуса и Трувора — их кони понуро стояли позади него. Братья слышали слова новоявленного князя. Рюрик понял это по недоумению, застывшему в их глазах. Они, как и он, не могли поверить в смерть отца.
— Воевода Рюрик, повели воинам собраться на градской площади, — всё тем же ровным голосом распорядился Дражко. — Я буду говорить с ними.
Гнев, беспричинный и мгновенный, как удар молнии, охватил Рюрика.
— Успеешь, князь, — скрепя сердце проговорил он. — Посмотри, воины не держатся в сёдлах. Можешь завтра собрать дружину.
— Ты отказываешь мне в послушании? — с угрозой спросил Дражко, но Рюрик уже не слышал его. Конь, едва передвигая ноги, нёс его к родному жилищу. Братья плелись следом.
Он, Рюрик, опоздал дважды: спасти отца и принять из его рук княжескую власть.
Её перехватил Дражко. Авторитетом ли, хитростью или воспользовавшись установлениями племенного обычая — кто бы стал доискиваться. Власть притягательна для многих, и потому действия добивающихся её всегда оправданы в глазах тех, кто идёт по этому пути. А оказавшийся на вершине пирамиды — всегда прав. Счастлив ли? Может быть, если счастье в борьбе. Ибо власть — всегда борьба: и до овладения ею, и особенно после. Иначе не бывает — обладает один, стремятся обладать многие.
Дражко был счастлив недолго. Ненасытный сосед Готфрид нависал над бодричами коршуном. Первейшее дело князя — отстаивать свою землю. Обстоятельства заставили Дражко вступить в борьбу с Готфридом. Он переоценил свои силы и мудрость предвидения и под давлением всё тех же обстоятельств вынужден был уйти в изгнание к лютичам. Но и там Готфрид не оставил его в покое: через два года подосланные по приказу короля люди убили князя-изгнанника.
Его судьба не обрадовала и не опечалила Рюрика. Неприязнь, вспыхнувшая между ними в день возвращения из похода на саксов, вскоре переросла в глухую и нескрываемую вражду. Сила была на стороне Дражко, и потому Рюрик с малым числом воинов ушёл к ранам. К тому же с острова Рюген было легче добраться до нового охранителя побережья данов — ярла Торира.
Рюрик поклялся перед изваянием четырёхглавого Святовита отомстить за смерть отца.
ПРИИЛЬМЕНЬЕ: НАЧАЛО IX ВЕКА
Град старейшины Славена зарос ольшаником да березняком, уже и молодые ели кое-где прикрывали шатром чахлую листву тоненьких осинок. Пустым стало место, где когда-то кипела жизнь. Давно это было, ещё до старейшины-княза Буривоя, что в восьмом колене родичем Славену доводится. Старики сказывают, будто бы дед Буривоя именем Братислав с согласия всего рода Славена повелел ставить новый град, отступя от Ильмень-озера вниз по Мутной. И причин тому указывали несколько.
Перво-наперво, старый Славен по незнанию новых мест срубил град на мокроте, весеннее половодье нет-нет да подтапливало его. То не единственная поруха. Другая — как задует озёрный ветер-неугомон, спасу от него нет, град перед ним обнажённый, единым частоколом прикрыт, потому и дрожит, как тот осиновый лист, и гнилицей-осенью, и мореной-зимой. Опять же и для ладей всё больше искали затишного места в Мутной — кому хочется, чтобы посудину, любовно своими руками слаженную, ильменская волна о камни била. Была ещё одна причина, но о ней предпочитали не говорить, хотя каждый и держал в голове. Мутная торной дорогой стала, гости по ней с ранней весны до поздней осени снуют. Вдруг взбредёт в голову кому-нито прощупать крепость рода Славена. Мутную в таком разе и брёвнами перехватить можно, остановить чужие ладьи на подходе к граду. В озере того не сделаешь.
Новое место для града старейшина-князь Братислав с другими старейшинами многократно увеличившегося рода определил на крутом левом берегу Мутной. Взлобок привольный, в любые три стороны селись, коли не страшит лесное утесненье. А чего его бояться — руки свои, секиру держат привычно, ухватисто.
Селились всё же в привычной соседской близости. Избы с надворными строениями рассыпались по всему прибрежному взлобку волей хозяев да красотой места. Посмотреть издали — неумеха-сеятель сыпанул неверной рукой, и упали они вкривь и вкось и выросли одна на другую непохожими. Но все вместе за стеной частокола единое целое представляли — град. И имя к нему прилипло сразу же — Новый град, Новеград.
Но память Славена-прародителя сохранилась. «Мы — словене новгородчи», — охотно отвечали жители Нового града на вопрос любопытствующего заезжего гостя.
И сами, попадая нередко в чужую землю, именовали себя только так, забыв, что когда-то род их прозывался антами[12]. И пришли они к Ильменю не по доброй воле. Злые степняки-кочевники обры вынудили податься на север. И повёл их в тот многотрудный поход старейшина Славен. Имя само за себя говорит. Может, Славена того поперву и не так звали, кто ведает. Да вот в памяти он Славеном остался. Имя себе делами сотворил.
Старина долго держится в памяти, но приходит время, и она за ненадобностью отмирает. На смену отжившему торопится новое, спешит прокладывать-торить собственные пути. Что обычай, что человек, разница лишь во времени. Новые обычаи вызревают неизмеримо медленнее. Но и опять же это от людей зависит. У новеградцев, наверное, ещё с лёгкой руки Славена, вошло в обычай не сидеть на месте, довольствуясь тем, что могли дать Ильмень, Мутная, немереные леса да выдранные из-под них клочки пашни, по которым каждую весну заботливо шагал за сохой ратай.
Кажись, всё есть у новеградцев — и хлеб, и к хлебу. Но нет, не сидится им на одном месте. Чуть потянуло весной, и молодшие запоглядывали на старших: отпустят ли на Онего-озеро али на Янтарное море сбегать, проведать ближних и дальних соседей? Не только забавы ради — от забав тех и прибыток немалый. Старшие то понимают, нередко, пользуясь своей властью, оставляют молодших дома хозяйство вести, а в поход ладятся сами, полагая, что в таком деле опыт да смекалка житейская поважнее удали да задора безбородых.
Князь-старейшина не препятствует путешествиям. Граду от них прямая выгода. Давно перестал быть диковинкой солнечный камень[13] Янтарного моря, много других поделок из чужих земель проходит через руки новеградцев, отправляясь дальше к веси, чудинам, кривичам, дальней мери[14], до которой плыть и шагать — ого-го, ноги стопчешь. Однако же новеградцы и плывут, и идут, не страшась. Потому как знают — обратный путь лёгким будет. Не лёгкостью поклажи, а леготой сердца: и в пять, и в десять раз обменное ценнее обмениваемого. Старейшины градские пересмотрят товар, установленную меру отложат на устроение града и его оберег — то справедливо; с остальным хоть на торговую площадь иди, хошь в клеть поклади до прибытия заморских гостей. То твоё дело, в своём зажитье ты волен. В Новом граде такой обычай установился, не то что, скажем, у вепсинов[15] — там до сего дня всё, что ты своей головой да руками промыслил, могут в род забрать. Потому и бедны они, сидят на месте, мало кто в Новеград с товаром добредёт, да и то по приговору рода. Без нашей секиры да ножа доброго попробуй-ка в глухомани обойтись.
Потому новеградец завсегда желанный гость в их селениях. Несут ему всё, что имеют, меняются не торгуясь. Иной раз за кованую секиру пестерь шкурок куницы набить можно, кадушку-другую мёду в ладью погрузить.
Само собой, сплыв из Новеграда вслед за последней льдиной, возвратишься к нему, бывает, по осенней шуге. И руки вёслами да шестом в кровь собьёшь, и недоспишь, и сухой лепёшкой сыт бываешь целый день, и гнус заедает, и дождик до костей пробирает — это только несмышлёныш скажет, что новеградцы чужим трудом пользуются и достаток имеют от того. Не ведают, неразумные, что, вернувшись с прибытком, надобно и о другой весне думать. В той же кузне всю зиму стоять, из криц секиры ладить, женщин улещать, чтобы рук не жалели, стучали бердами[16], ткали полотно, шили лопоть.
Опять же и с заморскими гостями не всё так просто. Он привезёт горсть янтаря-электрона, а просит за неё и шкуры, и полотно, да ещё кадушку мёду. Ты-то за ними глухомань мерил, спину ломал, а он, может быть, без трудов тот янтарь добыл. А тебе ещё думать, кто из того янтаря бусы нарядные сделает, да приглянутся ли они мерянке или вепсинке. Одно и спасение, что женская порода везде одинакова, каждой хочется побрякушек на себя нацепить...
Вот так посомневаешься, поспоришь сам с собой да с гостем-соблазнителем до хрипоты и возьмёшь его камешки-янтарь. У одного камешки, у другого — лопотину нарядную, у третьего — ещё что-нибудь. А трудов-то, а шуму, а спору — кто зачтёт? День-деньской на ногах. Ладно ещё, по всему граду бегать не надо. За то Буривою доброе слово. Надоели ему, видать, постоянные жалобы, и своей волей повелел он снести у въезда от Мутной в град жилища трёх новеградцев и раз навсегда вести мену поделок и товаров на той площади. Так и ведётся. Облегченье, конечно, но никто не вправе говорить, что достаток новеградцу легко и зазря достаётся.
Бывает иногда... с заморскими гостями. В это лето даже князь-старейшина Буривой в изумление пришёл. На двух ладьях приплыл к Новеграду гость из земли далёких данов. Назвал себя Торгримом. С ним товарищей десятка два, ладьи товаром загружены. Думали, что он Ильменем дальше сплывёт, ан нет, в граде остался. Старейшинам богатые дары преподнёс и все товары для мены на площади выставил. Тому никто не удивился — найдётся у новеградцев что в обмен предложить.
Удивило другое — Торгрим мену вёл не по обычаю. Да и не сам вёл — его ватажники. И просили за свой товар всё больше боевой наряд. За меч, копьё, за доспех в особицу, равнодушно и не торгуясь, словно и не своим трудом нажитое, отдавали узорочье, дорогие паволоки[17] без меры. Новеградцы своего изумления щедростью данов ничем не проявили — словно так и должно быть.
На осторожные расспросы о дальнейших путях-дорогах даны неохотно отвечали, что торопятся возвернуться домой до скорых ветров-супротивников. Странно. Кто же, имея в руках такое богатство, отдаёт его в ущерб себе, испугавшись трудов обратного пути? Удивлялись новеградцы, но помалкивали. Зато охотно рассказывали Торгриму о своём граде и о соседях, не утаивали путей к ним. Гость хочет сам вести мену с чудью и кривскими? Помогай тебе хранитель дорог! Места всем хватит. Только ты на своих ладьях туда не проберёшься. Мы-то как? Мы малыми ладьями ходим — где волоком тащим, где шестом толкаемся. Конными? Так это целой дружиной надо в поход идти. Одному али вдвоём то не под силу — и коней в трясине погубишь, и товару лишишься. Есть ли у кривских старейшин-князей дружины? А зачем они, захребетники? Мы и сами-то дружину больше для виду имеем. Опасаться некого, с соседями в мире живём. Мы — к ним, они — к нам, им — прибыло, нам — прибыло. Вишь, как хорошо получается, гость дорогой. Ты вот к нам приплыл, свои товары у нас оставил, наши к себе увезёшь, там дальше мену содеешь, опять тебе прибыло. Плыви к нам на другую весну, не пожалеешь...
Насытив своё неуёмное любопытство, излазив град и его окрестности вдоль и поперёк, Торгрим сплыл вниз по Мутной плескать дальше вёслами Нево-озеро и Янтарное море. Новеградцы потолковали о нём ещё малое время и забыли. Только Буривоев старшак Гостомысл хмуро обронил отцу:
— Не похож он на гостя. На проведчика смахивает.
На что старый Буривой досадливо отмахнулся:
— Много ты видал проведчиков тех-то? В цацки свои с Мстивоем всё играете. Смотрю, смотрю, да распущу дружину вашу бездельную. Пусть идут землю орать, захребетники. Того сообразить не можете, что гостю торговому пути наперёд знать надобно...
И те слова краткие вскоре забылись. Всё пошло-покатилось своим чередом. Только Гостомысл перестал надоедать старейшине просьбами о пополнении дружины. Буривой же, пообещав распустить её, позабыл об угрозе. Наверное, от нежелания на старости лет менять установленное задолго до него. Самому ему дружина уже давно была не нужна. Граду ничто не угрожало, а ездить по соседям в сопровождении воев, не столько для опаски, сколько чести ради, он отказался много лет назад. Те и без того почитали новеградцев и прислушивались к слову их старейшины-князя. Повелось так ещё со времён Славена-старого, милостью Стрибога[18] и дальше так будет.
Забыл Буривой завет Славена, передававшийся от отца к сыну, от старейшины к старейшине: роду иметь надёжную дружину, дабы могла она в чёрный час защитить род. Дружбу крепить с соседями не только хозяйской помочью, но и воинской. Нет ничего надёжнее плеча друга в битве.
Далеко в будущее заглядывал Славен. Потомки оказались близорукими...
На третью весну, когда уже и память о нём выветрилась, как очажный дым из давно нетопленной избы, в Новеграде снова появился Торгрим. Вновь две его большие ладьи полнились людьми, вновь он первым делом отправился к старейшинам с дарами, а его ватажники-гости остаток дня перетаскивали товары на берег, обещая нетерпеливым новеградцам скорую и богатую мену. Несмотря на гостеприимные приглашения, коротать ночь они предпочли на ладьях...
Предрассветную мглу прорезали гневные крики градских дружинников. Захваченные врасплох, они и оружие не могли быстро сыскать впотьмах. Не зря две весны назад Торгрим насыщал и всё не мог насытить своего любопытства.
Новеград проспал себя. С частокола громко и победно звучал чужой рог. По Мутной торопились ладьи — ярл Торир с большой дружиной викингов шёл покорять словен и их соседей.
Немощный годами, а ещё больше свалившейся бедой, князь-старейшина Буривой не мог стоять, как то положено побеждённому перед победителем, и ярл Торир снисходительно махнул воинам рукой Те бесцеремонно бросили старика, обвисавшего на их руках, на широкую лавку, устланную соломой и прикрытую шкурой медведя Торир подвинул к ложу затейливо резанную скамью.
— Ярл Торгрим говорил мне, что ты разумный правитель земли, — жёстко глядя в слезящиеся глаза старика, начал Торир. Из группы ярлов и старших викингов, набившихся в избу, выступил воин, знавший словенскую речь, начал толмачить. При первых словах Буривой повёл глазами в его сторону, и ярл Торир понял, что, несмотря на немочь, Буривой не отказывается от беседы. — Ты должен помочь мне. Отныне эта земля моя, бывшие твои подданные станут моими подданными, будут платить дань мне и выполнять мои повеления. У нас достаточно сил, чтобы принудить их к этому. Но я не хочу крови. Мои воины не прикончили даже твоих дружинников, спавших вместо того, чтобы бодрствовать, как положено воинам в то время, когда в их граде гостят чужие, — не отказал себе ярл в удовольствии походя поучить этого выжившего из ума старейшину основам воинского дела. — Мёртвые рабы мне не нужны. Я заставлю их ковать для моих воинов оружие, владеть им они не достойны.
— Ты сел в моём доме силой, — прошамкал в ответ старейшина. — Сам распоряжаешься как хозяин, так что тебе надо от меня?
Выслушав перевод, Торир вспыхнул гневом, но сдержался.
— Не торопись, старик. Надо, чтобы ты понял, чего я хочу от тебя. Поймёшь и поможешь — останешься хозяином в своём доме. Не поможешь — я всё равно сделаю по-своему. Но ты увидишь смерть своих сыновей и внуков...
— Что тебе надо от меня? — повторил с усилием Буривой.
О, боги! Каким бессильным и виноватым перед родом чувствовал он себя в эти мгновенья. Своей нерадивостью толкнул сородичей под чужое ярмо. Уверовал, что граду ничто не угрожает, и других убедил. Слепец. Нет и не будет ему прощенья. Сын Гостомысл, Мстивой — старший в дружине — лучше его помнили заветы Славена.
— Сейчас мои воины соберут твоих подданных на площади. Ты скажешь им, что передаёшь мне власть старейшины-князя. Пусть занимаются своими делами, как и раньше. Им не будет причинено никакого вреда. Мы пришли сюда не набегом, мы пришли сюда навсегда, — Торир голосом усилил смысл сказанного, и ярлы за его спиной одобрительно зашумели. — Твоим новеградцам не надо бояться. Теперь у них есть надёжная защита — моя дружина. Никто больше не посмеет напасть на нашу новую землю. Ваши соседи будут платить нам дань. Город станет ещё богаче...
«Стрибог, не отверни от меня твоего лица. Пришло время испытаний. Простите меня и дайте место рядом с вами, родовичи. Я виноват перед вами и ныне живущими, но не по злому умыслу. Земля так велика, каждому человеку хватает на ней места. Мы никого не примучивали, меж собой и соседями жили мирно. Почему же со злобой пришли к нам эти? Что им надо? Дань? Зачем? Земля велика, селись, где хочешь, паши её, расти хлеб и детей. Что ещё человеку надо?»
Ярл Торир нетерпеливо постукивал костяшками сжатых в кулак пальцев по скамье. Согласится ли старейшина Буривой говорить со своими словенами или нет — это уже не имело значения. Конечно, если согласится, то впредь можно будет ссылаться на его волю. Торгрим уверяет, что со словенами не так просто будет справиться. Сильный народ и слишком привык к свободе. Ну что ж, не миром, так силой, но он согнёт их. Отступать некуда. За ним восемь ярлов с дружинами. Два с липшим года он собирал их, уговаривал, объяснял, что лучше один раз рискнуть и стать хозяевами в неведомых богатых землях, чем всю жизнь смотреть из-под рук конунга Гуннара и короля Готфрида. На новых землях они сами будут конунгами и королями. Для этого надо лишь один раз и навсегда покорить обитателей лесов. Вряд ли они окажут серьёзное сопротивление. А если окажут, то привыкать ли викингам к битвам? И не втройне ли ценнее победа, добытая в сражении с достойным противником, чем над перепуганными бондами?
«Не ошибись, приятель, — вспомнились ему слова короля Готфрида, сказанные на прощанье. — Ты становишься на скользкий путь. У меня ты имел всё: богатство, почести, власть над хирдманами. Тебе захотелось большего? Королевской власти? Попробуй, и, если удастся, смотри, не объешься ею», — впервые Торир увидел на лице Готфрида кривую улыбку уставшего от власти человека. И сам в ответ насмешливо улыбнулся: ярл Торир не из тех, кто пресыщается властью.
Но в одном Готфрид был прав — коли встал на этот путь, то ошибаться нельзя. Как и терять время на беседу с этим умирающим стариком.
— Князь Буривой, — нетерпеливо поднялся Торир со скамьи. — Я всё сказал и жду ответа. Будешь ли ты говорить со словенами?
— Нет, — чётко ответил старейшина и отвернулся от незваных гостей к прокопчённой дымом очага стене.
Предводитель чужих резко сказал что-то и шагнул к двери, на миг задержался, бросил ещё несколько слов, и толмач послушно перевёл для Буривоя сказанное ярлом:
— Торгрим, найди сына этого выжившего из ума и его семью. Мы устроим для словен славное зрелище.
Из глаз старика покатились слёзы, но он остался лежать, уже зная, что никто к нему не придёт, чтобы закрыть мёртвые глаза.
Торгрим велел своим воинам обшарить каждую избу, заглядывать во все строения вплоть до погребов и землянок. Такой же приказ получили и другие дружины от своих ярлов. Град походил на развороченный муравейник — воины не только искали Гостомысла и его семью, но, пользуясь случаем, засовывали под одежду наиболее ценное из обнаруженных богатств. Ярлы запретили грабить, говоря, что все богатства словен будут принадлежать им по праву хозяев живущих здесь бондов. Они, воины, и не грабят, не предают ничего огню, не тащат к ладьям женщин и детей, не убивают мужчин. Ха, они стали хозяевами этого перепутанного сброда, а разве хозяин не вправе сунуть за пазуху понравившуюся ему вещицу? Или, положив руку на плечо онемевшей от страха молодки, подтолкнуть её в укромное местечко?
Наскоро тешили тело и глаза и торопились к ярлам, виновато разводя руками, — Гостомысла нигде нет, не могут найти и его четырёх сыновей. Может быть, сын старейшины от стыда бросился в реку и утонул?
Помрачневший ярл Торир приказал ещё раз пойти по избам, гнать всех жителей на площадь. Когда-то ему понравилось, как расправился Готфрид с князем бодричей Годославом. Он хотел устроить такую же казнь здесь, в этом Новом городе, чтобы словене сразу почувствовали хозяйскую руку. Лучше всего казнить кого-то из семьи Буривоя, не тащить же на виселицу полумёртвого, а может, уже и мёртвого старика. Но Гостомысла не могут найти, забился в какую-нибудь щель. Ничего, отыщется. А пока Торир найдёт чем устрашить словен. Прямо на площади заковать в цепи бывших дружинников Буривоя и развести по кузням. Предупредить: кто станет уклоняться от выполнения повелений нового князя-конунга, будет превращён в раба или казнён. Впрочем, об этом он сам скажет словенам. Пусть воины ярлов окружат площадь.
...Гостомысл к этому времени был уже далеко. В тот предрассветный час, разбуженный отцом, он метнулся было к двери с мечом в руках, чтобы бежать на помощь застигнутым врасплох дружинникам, но у Буривоя достало сил удержать его.
— Поздно, Гостомысл, им не поможешь, — торопливо шептал Буривой. — Беги. Забирай детей и беги. К Чёрному озеру, припасы там есть, отсидитесь...
Сам тормошил внуков, тихонько прикрикнул на ничего не понимающую со сна Жданку, подталкивал полураздетых к выходу и торопился, торопился высказать Гостомыслу главное:
— Соседей созывай на помощь. Без них Новеграду не выстоять. Думаю, вчерашние две ладьи с гостями Торгрима лишь приманка. Проспал я град. Беги. Тебе спасать его, боле некому. Поклонись веси, кривским, чудинов не забудь. Меря далеко. Помогут, торопись. Внуков береги...
Гнётся шест в могучих руках Гостомысла. Лёгкий челнок стремительно скользит вдоль берега Ильменя. В носу сбились стайкой погодки сыновья, каждый ловит взгляд отца. Притихла, поуспокоилась Жданка, хотя в глазах застыл пережитый испуг. Никак не может поверить, что нет ни избы, ни привычных дел Солнышко вон как высоко поднялось, а у неё ни варево не готово, чтобы накормить-насытить детей с мужем, ни скотина не обихожена Куда ж ты везёшь меня, муж любый? Не пора ли нам возвращаться к родной избе? Может, старому Буривою помриялось что ночью, а мы и всполошились?
Но глянет Жданка на лицо мужа, и вновь страх ползёт в сердце. Чужое лицо у Гостомысла. никогда таким не видела его. Гневно сведены брови; широко расставленные голубые глаза потемнели: жёсткие складки прорезались от ширококрылого прямого носа к концам губ, прячутся в подстриженной бороде. Широко расставив напруженные ноги, стоит он на корме челна, работает шестом, молчит пот заливает могучую грудь.
Любый, куда везёшь меня с малыми ребятами? На кого оставишь? Знаю ведь я тебя до самого донца твоей души. И лишнего мига не пробудешь ты со мной. Муж мой любый, как стану жить без тебя?
И, отвечая на невысказанные вопросы жены, трудно, пересохшими губами сказал Гостомысл то чего го страхом и ждала она:
— Жданка и ты. Прибыслав! — Старший одиннадцатилетний сынишка тотчас вскочил, любовно глядя на отца. — До Чёрного озера я вас провожать не буду. Ты, Прибыслав, бывал там не один раз. дорогу знаешь, и где припасы хранятся — тоже. Силки на птицу ставьте, рыбу ловите. Без хлеба придётся маяться, перетерпите уж как-нито.
— Ничо, батюшка, там и лук есть со стрелами, — улыбнулся Прибыслав.
Ах ты, первенец ненаглядный. Думаешь, коли лук есть, так и все беды позади.
— Без меня «о становища ни ногой. Или сам приду, или весть с верным человеком пришлю. Тогда и поступать, как велю. Ты, Прибыслав, матери во всём помогай. Крепко надеюсь на тебя, Жданка моя. А мне в град беспременно надо...
Челнок врезался носом в песчаный берег. Женщина припала к груди мужчины.
Долго пришлось ждать Гостомыслу, пока успокоится град, отойдёт ко сну. Уже и робкие летние звёзды загорелись высоко-высоко, а в избах всё ещё продолжали мерцать неровные блики лучин. Новеградцы осмысливали навалившуюся беду. Сегодня варяги заковали в цепи дружинников, их конунг-князь попугал словен будущими бедами в случае неповиновения, но насилия ни над кем больше не учинил. А завтра?
Тревожные мысли не давали уснуть. Ратаю-пахарю, который кроме земли ничего другого не знает, конечно, легче. Хлеб одинаково нужен и смерду, и князю. Конунг такого не тронет. И без коваля али ладейного мастера он не обойдётся. А как быть тому, кто меной товаров промышляет? Можно ли верить словам конунга, что-де пойдёт по-старому? Нет, обманывает конунг. Не может идти всё старым обычаем. Чуть не шесть сотен чужих ртов свалилось на новеградцев. Из же кормить надо. Тут и ратаю, и ковалю, и гостю торговому — всем достанется.
Этими мыслями и поделился с Гостомыслом живший у самой Мутной ладейной мастер Твердило, в избу которого среди ночи поскрёбся, как тать, сын бывшего старейшины словен.
— Ну и как мыслишь? — спросил после долгого молчания Гостомысл, — покорятся новеградцы тому Ториру? Али заветы Славена вспомнят? Сам говоришь, что воев у Торира около шести сотен. Нас-то, новеградцев, поболе будет. Да ежели ещё соседей на помощь кликнуть...
— Не ведаю, Гостомысл, — честно ответил Твердило. — То от самих варягов зависеть будет. Конечно, труды свои раздавать неведомо за что кому хочется. Но и на меч без крайней нужды лезть резону нет. Мы трудники, а не вои. Возьми меня, так я и копьём-то не знаю как ворочать. — И попрекнул: — Вы-то с Мстивоем куда смотрели, почто дружину нашу не крепили?
Гостомысл опустил голову. Попрёк был горек, но справедлив, и возразить нечего.
— Где он, Мстивой, знаешь ли? — спросил, отмолчавшись на укор.
— А недалече. В кузне у Сивого железо грызёт. Ты не вздумай сунуться туда, сторожа выставлена. Конунг предупредил, что за каждого его воина, ежели что с ним случится, половину града казнит...
— Выходит, за двух — целый град, — жёстко усмехнулся Гостомысл. — Кто ж после того кормить будет того конунга? Ин ладно, послушаю тебя, не полезу. Нехорошо побратимов в беде оставлять, да своя голова дороже. Побреду. Надо князя-старейшину Буривоя проведать...
— Ни-ни, Гостомысл, не вздумай. Как раз и пропадёшь там. Пытались мы к старейшине взойти, сторожа не пропустила. Думается мне, конунг и рассчитывает на то, что ты обязательно Буривоя навестить захочешь. Весь день тебя искали, не нашли, так хитростью возьмут.
— Благодарю за опаску, Твердило, — склонил голову Гостомысл. — Видать, ничего другого не остаётся, как впусте уходить из града.
...Утром варяжские дозорные подняли тревогу. В кузнечном ряду — связанная, с заткнутыми ртами — лежала ночная сторожа. Рабы, посаженные на цепи, бежали. Воины не смели поднять глаз на Торира и ничего не могли объяснить. Поодиночке, в один миг были оглушены, а очнулись уже спутанными.
Засада, оставленная в избе Буривоя, бодрствовала всю ночь. Но там никто не появился. Если бы освободил рабов Гостомысл, он бы пришёл к отцу.
Тёмное, злое дело, но наказывать новеградцев было не за что. Конунг решил не будоражить ещё раз словен.
Распорядился: пусть они по своему обычаю сожгут тело старейшины Буривоя.
Рюрик потерял след ярла Торира. Три года он жил на острове Рюген, добился уважения ранов и сам уважал их за ровный характер, рассудительность и осмотрительность. Поначалу возникала неприязнь к князю-воеводе ранов Боремиру. На все предложения Рюрика пойти вместе походом на побережье данов Боремир улыбался в густые усы и неизменно спрашивал:
— А потом что? — И начинал размышлять вслух: — Напасть на побережье несложно. Ты ж не юноша, сам понимаешь... Хотя одного твоего «Гонителя бурь» для такого похода маловато. Значит, надо ещё хотя бы два корабля иметь. Опять же дружина... Ну и ладно, сбегаем мы к данам, встретим твоего Торира или нет — кто знает, а вот ответного набега ждать придётся беспременно. Не таков король Готфрид, чтобы стерпеть набег. Ты ж не юноша, сам понимаешь, не простят нам раны безрассудства. Слава Святовиту, в последнее время Готфрид нас не тревожит... Впрочем, съезди в Аркону. Как решит передающий волю бога, так и будет, ты ж не юноша, сам понимаешь...
Поразмыслив, приходилось соглашаться с Боремиром. Кто он такой для ранов, Рюрик, чтобы ради него рушить и без того ненадёжный мир с Готфридом? Сын бывшего князя бодричей, прибежавший к ним с тремя десятками воинов после гибели отца. Приютили бездомного, позволили поселиться на острове, не препятствуют выходам в море, после возвращения охотно скупают походную добычу, закрывают глаза и на то, что дружина Рюрика всё возрастает.
После изгнания Дражко, когда князем бодричей стал Славомир, что-то не заладилось у него с дружиной, и около двадцати воинов перешли к Рюрику. Из тех, что ходили с ним на саксов. На оружии поклялись быть верными ему до конца. Потом приходили ещё и ещё. Рюрик не отказывал. Каждый раз отправлялся к Боремиру и открыто говорил воеводе, что его дружины прибыло.
Боремир улыбался в усы, кивал головой, соглашаясь, и иногда спрашивал:
— Если даны нападут, со мной встанешь или против? Ты ж не юноша, сам понимаешь...
Присловие это, к месту и не к месту произносимое Боремиром, веселило Рюрика. Ему нравился воевода, нравилось, с какой лёгкостью одарил тот его дружбой. Такое ценится, особенно во времена невзгод.
— Друг Боремир, пусть переломится мой меч, если в битве с данами я окажусь позади тебя.
Боремир дотрагивался до рукояти меча Рюрика, словно принимал клятву побратимства, и переводил разговор на другое.
— Скоро твою дружину «Гонитель бурь» не вместит. Надо думать о другом корабле. Хочешь, я поговорю с мастерами?
— Поговорить я и сам могу, — смеялся Рюрик. — Вот заплатить им серебром за корабль не могу. Не собрал ещё столько...
— Если не можешь собрать серебра, всё лето пощипывая данов, то следующей весной я не выпущу тебя в море...
Шутили, пили тягучее красное вино, привозимое франгами. Между шутками и смехом Боремир осторожно намекал Рюрику, куда направить «Гонителя бурь» весной, чтобы была удача. Возможно, на сей раз он встретит и своего кровника — ярла Торира. Тот по положению хранителя побережья должен прибыть на место высадки. Только надо выбрать больное место и ударить сильно.
— Помоги, — в который раз предлагал Рюрик. — Моей силы мало. Ну что тебе стоит?
— Ты ж не юноша, сам понимаешь... — разводил руками Боремир. А в глазах прыгали хмельные искорки — с каким бы удовольствием пошёл он рядом с Рюриком на данов. Но...
Последний поход едва не закончился неудачей. Словно кто подсказал Ториру, что Рюрик рискнёт войти в Раннерс-фиорд и подняться на день пути по реке Ланге. Мало кто из «морских старателей» осмеливался забираться в глубь страны. Но добыча... И главное — надежда столкнуться лицом к лицу с Ториром. Клятва должна быть исполнена.
Рюрик привык к опасностям и риску. Каждый набег — игра с судьбой. Что ж, он сам выбрал свой путь. Обижаться не на кого. Пока ему везёт во всём, кроме одного. И для этого одного — встречи с Ториром, — если понадобится, он пойдёт даже в верховье реки.
Но смутное, неясное беспокойство всё больше овладевало Рюриком. Вёсла пенили медлительные воды реки, дружинники ритмично наклонялись вперёд и с усилием откидывались назад, каждый взмах посылал «Гонителя бурь» на длину весла. Ещё до наступления дня появится богатый город и начнётся кровавая охота. После неё можно будет говорить с корабельными мастерами...
Но почему тревога гонит его от одного борта к другому? Что насторожило его? Рюрик идёт на корму, внимательно всматривается в лица воинов. Они спокойны. Так же спокоен рядом с кормчим и брат Синеус.
— Ты не заметил чего-нибудь необычного?
Прежде чем ответить, Синеус внимательно всматривается в предрассветную мглу.
— Всё спокойно, Рюрик. Даны спят, нас не ждут.
Вот откуда предчувствие беды. На реке они не встретили ни одного челна.
— Поворот! — резко командует Рюрик.
Удивлённые глаза кормщика. Открыл от неожиданности рот Синеус. Замерли на мгновенье с поднятыми вёслами гребцы. Но тут же по знаку кормщика вёсла левого борта двинулись назад, гребцы правого, дугами изогнув спины, сделали мощный рывок вперёд. «Гонитель бурь» развернулся на месте.
...Они всё же успели. Прорвались через незаконченные заграждения данов.
Не будет у «Гонителя бурь» напарника. Пока. И не состоялась встреча с Ториром. Пока. Но дружина уверовала в предвидение своего предводителя. Навсегда.
— Ты ж не юноша, сам понимаешь... — выговаривал Боремир. — Надо было сразу в реку идти, а ты у побережья сколько дней проболтался, насторожил данов... Готовь новый поход.
В зимнюю бурную непогоду к Рюгену прибило ладью рыбаков. От них узнали: король Готфрид повелел быть хранителем побережья какому-то графу. Имени его рыбаки не знали. Да и что толку в имени, если никто из них не мог сообщить, где Торир. Проклятый ярл исчез.
Дальнейшее пребывание на острове становилось для Рюрика бессмысленным. Кто он? Воевода дружины на службе ранов? Нет и ещё раз нет. Воевода, зависимый от них? Нет и опять же нет. Сам по себе, и с ним сотня дружинников. Такое не могло длиться долго. Но он ещё поживёт у ранов. И будет искать след Торира.
Рука мужчины гладила в забытьи обнажённую грудь женщины. Благодарно. Нежно и сильно. И женщина, только что испытавшая восторг любви, вновь готова была отдать своё истомившееся тело этим сильным и нежным рукам. Но чуяла сердцем — только что неистовый и ненасытный, он уже отдалялся от неё, уходил мыслями в свой, пугающий её неизвестностью, мир. И чтобы удержать его в этой чудесной близости двоих, она уткнулась лицом в его широкое плечо, и он услышал её приглушённый счастливый шёпот:
— Гостомыслушко, лада мой, я опять не праздна...
Мужчина обнял женщину, осторожно прижал к груди.
— Жданка моя...
Конечно, он рад. Даже теперь, когда они проводят ночь в наскоро слаженном шалаше, уйдя из охотничьей избушки, заполненной освобождёнными дружинниками и забравшимися на полати детьми. И неизвестно, когда они возвернутся в свою избу, и возвратятся ли вообще, и увидит ли она вдругорядь Новеград. Впереди всё неведомо. Даже то, где ей придётся рожать ребёнка.
— Сына тебе ещё одного рожу, лада, — гладила она его бороду, и ни Новеграда, ни варягов, никого промеж них не было. Засмеялась, счастливая: — Нет, не хочу больше сыновей. Дочерь себе рожу. Милославой нареку и тебе не отдам. Хватит с тебя четырёх воинов...
— Воинов, — эхом откликнулся Гостомысл. — Мало их у меня, Жданка, а надобно много. Жаль, нашим ещё расти и расти.
— Вырастут такими же непоседами, как ты, я их и видеть-то не буду...
— Ты рожай, бабье дело рожать, — невпопад ответил муж, и Жданка поняла, что Гостомысл опять ушёл в свой мир, теперь уже окончательно. — Слушай, что я удумал, — поднял он голову. — Оставаться тебе здесь с ребятнёй нельзя — и голодно, и зима, гляди, не задержится. Мне возле вас не сидеть, я отныне по соседям бродить учну, поднимать их на варягов. Сколь продлится дело — неведомо, да и жив ли останусь — тож...
— Типун тебе... — заикнулась было Жданка, но он прервал её.
— Помолчи, лада, дослушай. Не один я ту думу думал. Нам с варягами соседями добрыми не быть. Мню, и новеградцы скоро спохватятся, дани-то давать на прокорм такой оравы... Конунг Торир грозится и с соседей наших дани брать. Ну-ну, поглядим, как соседи воспримут. Мало радости, чай, будет. А ежели их разогреть-распалить, так и до горячего дойдут. Сами дойдут, варягов припекут. Да надо так припечь, чтобы не позднее осени за море убрались...
— До осени мы с ребятами и здесь проживём, — настроилась на деловой лад и Жданка. — Знаешь, как Прибыслав птицу стрелой бьёт? Рыба, ягоды, грибы на подходе...
— Нет, лада. Я так мозгую, а Торир инако: не набегом пришли, а навсегда. Так что, думаю, сковырнуть его не просто будет. Как бы он улещать наших словен не стал, а то сдуру-то и соседей примучивать вместе с ним отправятся. — Помолчал и добавил задумчиво: — Не должно бы того случиться, новеградцы злы на варягов за грабёж... Как бы ни повернулось, тебе уходить с Чёрного озера надо. Недалече тут, вдруг случаем налезут. Пойдёшь к кривским, в Плесков...
— К Светланке? Да хоть завтрева. Сколь лет мы с ней не видались...
— Ну вот и ладно, коли тебе по сердцу. О Светланке твоей я, право, забыл, больше на друга-воеводу надежду имею. Он и примет, и помощь окажет, но и Светланка для тебя лишней не будет, — и положил руку ей на живот. — Добраться до Плескова Мстивой тебе поможет. С ним я ещё трёх дружинников посылаю, так что ребят и тебя доставят с оберегой. Ты токмо в Плескове их около себя не держи. Делов у них и своих хватит. На том и порешим, Жданка моя. Живи в Плескове, жди меня али вестей. Коли прослышишь, что Новеград от варягов свободен, а я задержусь, сама добирайся в град наш. А теперь поспим малый час, заутро в дорогу отправляться.
— ...Ты одно крепко-накрепко помни, Мстивой. Как хошь с кривскими говори, но они должны понять, что беда у их порога уже стоит. Угрозы Торира — не пустые угрозы. Он пойдёт на них походом, и, думаю, скоро. Пусть готовы будут встретить варягов не так, как мы встретили. Чем крепче кривские их побьют, тем нам легче будет. Тебя учить не надо. Напросись в дружину воеводы Хоробрита, помогай ему. До битвы дойдёт — знаю, в стороне не останешься. Но... береги себя. Ты ещё здесь, в Новеграде, понадобишься. Мы с тобой перед словенами провинились, нам ту вину и смывать, хошь кровью, хошь слезами. Но в Новеграде быть дружине, и никакой боле князь-старейшина не воспротивится этому.
Мстивой, — борода за полдня позора поседела, — согласно наклонил голову. Этого Гостомысл мог бы ему и не говорить.
— Готовыми надо быть ко всему, друг-побратим, — продолжал Гостомысл. — Варяжская дружина могуча. Торир может покорить всех наших соседей поодиночке. Нет? А что мы знаем о нём и его дружине? То-то и оно. Не хочется думать об этом, а что поделаешь. И к такому надо быть готовым. И если случится беда, ты кривских не покидай. Греть да распалять их станешь. Ты — там, они, — Гостомысл кивнул в сторону готовых в дорогу дружинников, — в других местах. Я на малое время к чудинам проберусь, а потом в Новеград возвернусь. Соседи соседями, их помощь крайне понадобится, но главное — словен своих поднять. Ты помни о том и вести мне шли. Давай поспешать, друг Мстивой, к осени надобно землю от варягов ослобонить...
Чтобы с выгодой свой товар на чужой обменять, без сказки-присказки никак не обойтись. Уж так новеградец разукрасит речь о своей секире, что дороже её, кажется, на земле ничего не может быть. Для чудина какого-нибудь, всю жизнь бродящего по болотам, они, болота, гнилым местом и остаются. Разве что походя спелую, солнечным соком наполненную ягоду-морошку поднять можно да в рот бросить. Ну птицу глупую, до тех же ягод охочую, стрелкой сшибить...
А новеградец поёт-заливается, как его сородичи мостят болото, из воды-мокроты да грязи черпаками руду черпают, а она-то неподъёмной тяжести, руки отваливаются. Ты пестери-то да корзины на берег выволоки, руду высуши, сор-то лишний выбери, пестами её побей-размельчи, потом в домницу-вздымницу засыпай. Что за домница? А печь такая. Такая, да не простая. Круглая, сводчатая, сверху в неё уголь берёзовый засыпается, потом руда, затем снова уголь и опять руда, до верха. Засыпал — свод замажь. Снизу трубки глиняные подведи и дуй в них воздух, чтобы уголь, значит, горел веселей и ровно. От жары руда слезой плавится и вниз стекает-собирается.
А сколь дён, тебе, мил-человек, наши мастера могут сказать, мне то не ведомо. Крицу из домницы горячей выхватят да молотами её осаживать учнут, чтобы плотной была, без трещин, а потом уж коваль в кузне рубит её да плющит, греет да вытягивает, полосы варит да гнёт, как надобно. Это ж сколь дён уходит, пока секира излаженной будет.
А ты говоришь — соболёк твой. Ты ловушки-то расставил, и кажинный день собольков тех у тебя... Вона, вижу, пестерь ими набит.
Великое дело мену не в убыток себе вести. Вроде бы и обману никакого. Чуть-чуть новеградец труды своего мастера возвысил до тяготы, чудина тут же приуменьшил до леготы. Где обман? И хотелось чудину в свою очередь поведать гостю, как он за этим вот соболем два дня и две ночи на лыжах бегал, пока уловчился и сбил его стрелкой, но что его заботы перед великим умением далёкого мастера-коваля. Можно и две зимы и два лета по лесу бегать, всё равно то-по-ра в болоте не найдёшь.
Гость выбирался из чума, напустив на себя для вида важность и недовольство — нехорошо, мол, чудин, за такую секиру в два раза больше соболей надо. И только оставив позади стойбище, улыбался, довольный. На такую шкурку он в Новеграде два топора выменяет.
Не обманешь — прибытку не будет.
Торговые люди везде одинаковые. Конунг Торир убедился в этом, будучи хранителем побережья данов. Здесь, в Хольмгарде, они должны быть такими же. Пообещать им выгоду, и они твои.
Торгрим пришёл в избу Путимира один, без воинов. Ему было легче, чем Ториру, — язык освоил, общаясь с бодричами, и в Новом городе бывал. Запомнил этого невысокого подвижного новеградца с бесхитростно-детскими глазами ещё тогда, в первое посещение словен. С такими глазами, а товару тогда отхватил больше других. Тем и запомнился.
— Ты купец, я — тоже, — улыбнулся Торгрим, успокаивая испуганного хозяина. — Потому поймём один другого и сговоримся.
— Ты большой воевода, а не купец. Я видел, ты распоряжался дружиной, — возразил Путимир, с опаской поглядывая на незваного и загадочного гостя. — Это тогда мы думали, что ты торговый гость. Хотя и дивились, что мену ведёшь в убыток себе...
— Зато вам прибыль была немалая. Мы с конунгом намерены и дальше так дело вести, чтобы и вам прибыльно было, и нам. А ты хочешь ли?
— Благодарю на добром слове, гость дорогой, — оживился Путимир. — От добра кто ж отказывается. Вот только товару для мены у меня нынче почитай что нету. — И опустил бесхитростные глаза в земляной пол. Но через миг привычно крикнул в дальний тёмный угол избы:
— Жена, принеси-ка с погреба жбан браги.
— Недосуг, Путимир, брагу пить. И о товарах не беспокойся. Я к тебе с другим предложением. Обойди словен, кто, как и ты, от выгодного дела не откажется, скажи им: князь Торир ввечеру их на беседу ждёт. Там и браги попьём...
Торир был доволен. На его зов откликнулись десяток и ещё шесть купцов Хольмгарда. Истина стара — люди везде одинаковы, и он станет их господином. «Как видишь, Готфрид, пока что я ни в чём не ошибся», — сказал он, как равному, королю данов, молча всматриваясь в лица сидящих перед ним хольмгардцев.
— Вы ведёте торг с весью, кривичами, чудью, не знаю с кем ещё. К латгалам[19] ходите ли с товаром? — не величаясь даже повелительностью голоса, заговорил он с купцами.
— А как же, князь, — первым откликнулся Путимир. Обмыслив немногие, но весомые слова Торгрима, он уверился, что князь варяжский действительно нуждается в них, торговых гостях. Раз нуждается, то и вести себя с ним можно соответственно — свои-то из-за моря, чай, нас не заменят. — Ближние наши соседи. И к латгалам ходим, и у бодричей бываем. Новеградцам пути никто не заказывал. Куда глаз наметил, туда и идём...
— Я тоже не буду закрывать вам торговые пути, — медленно, чтобы толмач успевал переводить, заговорил Торир. — Вашими трудами люди разных земель узнают друг друга и богатеют. То на пользу, и я буду во всём поддерживать вас. Мои воины не будут ни чинить вам препятствий, ни... пользоваться вашими товарами. Они будут оберегать вас. За это, как и раньше, вы будете отдавать часть своего прибытка на содержание моей дружины. Так было — словене кормили дружину Буривоя. Но у меня есть неотложная просьба. Завтра вы все должны отправиться в свои торговые походы к кривичам, веси и чуди. Не надо говорить, что у вас нет товаров для обмена. Они, знаю, есть. У кого совсем мало — дам я. Прибыток — пополам. Как видите, я щедр. У веси и чудинов нет городов, как ваш — нет, наш — Хольмгард, а может, есть, не знаю. Но должны быть места, куда они собираются для обмена товарами. Я прошу вас оповестить старейшин веси и чуди, чтобы они собрались в этих местах для большого торга и беседы. Сможете ли вы сделать это?
Новеградцы мялись в нерешительности, переглядывались. Выручил Путимир.
— Много времени понадобится, князь, собрать-то всех. И опять же мену мы можем устроить с твоей помощью, а беседу...
— Беседа не ваша забота, купцы. Вас будут сопровождать мои воины. Дружинам понадобится больше времени, чем малой ватажке. Потому сделайте так: в первых же селениях скажите веси и чуди, чтобы их старейшины собирались в назначенном месте. Пока дружины подойдут, соберутся и они.
— А мы как? Мы с кривскими мену ведём...
— С вами мой брат Аудун в пути разговор поведёт...
Мстивой торопил себя, понукал Жданку и незлобиво покрикивал на детей. Малую свою ватажку вёл напрямки, опасаясь торной тропы. Мало ли что, может, варяжский конунг, поспешая, уже отправил конную дружину в Плесков. Где же пешим тягаться с конными. А в том, что Торир последнюю клячу у новеградцев для такого дела заберёт, Мстивой не сомневался. Коснись самого, так же поступил бы. Можно бы у Чёрного озера задержаться на день, возвернуться в Новеград, отыскать дружинных коней. Но подумали с Гостомыслом и отказались: и время не выиграешь, и риск велик. Ежели на тропе с дружиной варяжской столкнуться придётся, ему, окромя как бой принимать, другого выхода не будет, всё едино признают — на виду у них глумленье принимал. Надёжнее будет своим ходом напрямки в Плесков попасть. Достанется, конечно, Жданке с детьми, но зато живы будут.
Чащобы сменялись весёлыми берёзовыми да сосновыми гривами, за ними малоприметная тропа вновь упиралась в болото или преграждалась очередным ручьём. Мстивой, не говоря лишних слов, валил секирой стройную осину, путники перебирались через преграду по её стволу и, молчаливые, деловито торопились вперёд.
Дружинники и те спали с лица, о детях и говорить нечего. Прибыслав, в начале пути подражавший взрослым, уже на третий день старался лишь не отстать от Мстивоя, и тот, изредка поглядывая на парнишку, встречал измученный вопрошающий взгляд: близок ли конец пути и будет ли он вообще? Мстивой хмурил брови, оглядывался на идущих сзади. Младшие сыновья Гостомысла, не в пример старшему, не играли во взрослость — где позволяла тропа, цеплялись за руки дружинников. Не нравилась, ах как не нравилась Мстивою Жданка — шла, спотыкаясь, как слепая, согнувшись. Пестерь с припасами горбом торчал за её спиной. Заметив заботливый взгляд дружинника, упрямо отводила глаза в чёрных провалах. Молчала.
Мстивой замедлял шаг, среди дня устраивал короткий привал. Перекусывали холодной жаренной накануне на вечернем костре птицей, пили студёную ключевую воду и поднимались по кивку Мстивоя. В надвигающихся сумерках, как только старшой коротко бросал: «Ночуем здесь», — ребята валились, как подкошенные, на что придётся: траву ли, белый боровой мох или усыпанную густым слоем вылущенных веверицей сосновых шишек землю, и лежали недвижно. Жданка, виновато посмотрев на мужиков, тоже ложилась со стоном. Дружинники, тихо переговариваясь, тащили сушняк для костра, рубили еловый лапник, чтобы ночью земная сырость прострелом в поясницу не просочилась.
Жданка, похудевшая, в телогрее, грубых сапогах, в тёмном плате на голове, лежала у костра, подперев рукой голову, смотрела в пламя, думала свои невесёлые думы. Но и в этом некрасовитом наряде была она для Мстивоя лучшей из новеградок. Своей семьёй не обзавёлся до сей поры, прилепился к Гостомысловой.
— Ты пошто от девок бегаешь? Али по сердцу ни одной не нашлось? — нет-нет да и спрашивала его Жданка. — Погоди, вот я сама тебе подыщу.
— Коли другую себя найдёшь, так и быть, веди в мой дом, и меня не пытая, — серьёзно, без улыбки, отвечал он. Жданка вспыхивала румянцем, удлинённые серые глаза под высокими луками бровей искрились лукавством. Тонкая в талии, но широкая в бёдрах, с высокой грудью, на голову ниже мужа, она была под стать Гостомыслу.
Четверых сыновей родила она ему, но не постарела, наоборот, расцвела. А ныне — за несколько дней пути — не узнать Жданку. Морщины прорезали лоб, запали глаза, скорбные складки пролегли у губ.
«И за Жданку, за её муки надо спросить с варягов», — думает Мстивой и заботливо поправляет одежонку на раскинувшихся у костра сонных ребятах.
К Плескову добрались к концу другой седмицы. Пооборвались, грязью заросли до такой степени, что воротная сторожа наотрез отказалась в град впустить — то ли люди, то ли лешие из лесу выползли, поди разбери. И лишь после того, как Мстивой голос повысил, отворили ворота.
...А вышло, что зря и торопились. Плесковичи не вняли тревоге Мстивоя.
— Варяги? Ну и пущай идут. Нет нам дела до них, а им до нас...
Единый, кто прислушался к голосу Мстивоя, был воевода Хоробрит.
— Сколь, говоришь, их? Шесть сотен? И вои добрые? Моими не осилить. Надобно землю поднимать. Согласятся ли на то князь со старейшинами — не ведаю. А пытаться надо.
Князь со старейшинами приговорили: что за варяги — неведомо, новеградцы сами по себе, мы сами по себе. Ежели те варяги придут — надобно выяснить, чего хотят, и потом уж, по делу глядя, решать. Оружием впусте каждому мимо проходящему грозить не дело.
Через три дня, когда в ворота Плескова привычно постучали знакомые торговые гости из Новеграда, старейшины, в утеху себе, ещё и посмеялись над Хоробритом:
— Вишь ты, воевода горячий, тебе волю дай, так всех от града отвадишь. Новеградцы-то вот они, живы и здоровы. Товару натащили не нашему чета, а за ними ватажка варяжских гостей ещё боле тащит. Так-то, воевода. Подзужников слушай, а свою голову имей. Открывай ворота, не мешкая.
Долгий мир приучает людей к доверчивости. И заяц бы не прядал ушами, да кроме него на земле лиса живёт. И овцы смирны и довольны, пока в их стадо волк не ворвётся.
Аудун обошёлся с плесковичами круче, чем Торир с новеградцами. Повесил князя, в избы старейшин поселил старших дружинников, отдав им и накопленный достаток, не запретил и рядовым дружинникам поживиться. После того, как утишился гвалт первого дня, коротко повелел жителям — через три дня собрать первую дань. Ежели не соберут — град будет сожжён. Хмурые плесковичи побрели к избам добывать припрятанное.
Хоробрит, без привычной брони, в рваной холщовой рубахе до колен, грязных портах, босой, встретив одного из старейшин, что недавно смеялся над ним, с издёвкой бросил ему в лицо гневное:
— Охолонули тебя варяги, старейшина? Много ли товару их выменял? Рук марать не буду, погоди, другие тебя в реку спихнут...
Торстейн, брат конунга, сидел на лесине и улыбался в отросшие за время похода усы. Перед ним на кожаных мешках-подушках полукругом восседали обиженные, но по-прежнему важные старейшины чудинов. На огромной поляне решалось важное дело. Так считал Торстейн. Старейшины чуди вроде бы всё ещё не понимали до конца серьёзности происходящего. Но это не смущало ярла. Ничего, они поймут и согласятся. За их спинами в отдалении толпятся чудины-охотники. Их много, значительно больше, чем его воинов, но это тоже хорошо. Если старейшины заупрямятся, он покажет им, на что способны его викинги. Но до этого не дойдёт. Не получилось стычки и славной охоты на водь[20] на берегу протоки из Нево-озера в родное Янтарное море, не будет и здесь. А жаль. Зря волновался Торир, оставшийся в Хольмгарде и наставлявший его, Торстейна, словно мальчишку, как убеждать старейшин, прежде чем применять силу. Торстейн нашёл нужные слова и убедил водь платить дань, найдёт слова и для чуди. Он уже нашёл их и высказал старейшинам. Теперь ждёт ответа.
Хотел бы я посмотреть, так ли удачно сложится охота на весь у Торгрима. Брат-конунг ценит его больше, чем нас с Аудуном. Поживём — посмотрим. Аудун справится с кривичами, я подчиню чудь. Пусть Торгрим приведёт к покорности весь. Свершится ли это и когда?
— Чужой, ты требуешь подарков, — наконец заговорил старейшина, сидевший в центре полукруга, напротив Торстейна. — Наши боги велят всегда встречать гостя подарком, и мы выполняем их волю. Но никто из гостей никогда не требовал подарков. Это недостойно гостя и может обидеть богов. К тому же ты грозишь нам, это недостойно, ты теряешь лицо перед нашим народом...
— Мы прошли много земель, прежде чем добрались до вас, — спокойно ответил Торстейн. Оскорбление старейшины не задело его, слова дикого охотника не могут оскорбить ярла. — Мои воины сильны. Они всегда получали подарки. Вы тоже дадите их нам. И будете приносить их сюда каждое лето.
— Ты, чужой, говоришь противное разуму, — вступил в беседу другой старейшина, согнутый временем, с редкой бородой, высветленной годами до желтизны. — Мы преподносим подарок доброму человеку с открытым сердцем за то, что наши боги привели его к нам гостем, за то, что он чтит наши обычаи. Тебя привели не боги, и ты обманул нас. Наш народ ждёт обещанной мены, вместо неё ты говоришь несообразное. Мы уйдём...
— Вы никуда не уйдёте, а если уйдёте — мои воины найдут ваши жилища и заберут всё, что в них есть.
— Лес велик...
— Но не настолько, чтобы я не нашёл вас. Там, где пройдут ваши охотники, пройдут и мои воины. Или вы будете бегать, подобно зайцам, всю жизнь? Если не согласитесь давать подарки, я пойду на вас войной. В смерти ваших охотников будете виноваты вы. А умрут они все, немедленно, здесь, на этой поляне.
Старейшины молчали. «Ай-яй, где была моя голова? — думали многие. — Почему не послушался Гостомысла? Теперь придётся таскать подарки этим чужим страшным людям. Надо найти Гостомысла, пусть советует, что делать».
Загостилась Жданка в Плескове помимо своей воли. Молчит Гостомысл. Редки встречи с ним. Один-два раза в год видит его Жданка, и коротки до боли сердечной те свидания, потому как множат прощания. Ушёл с отцом Прибыслав, следом ещё двое сыновей отправились неведомо куда. Гостомысл, грустно улыбаясь, молвил ей однажды:
— Сама ж говорила, что воинов для меня растишь. Вот и пришла им пора. А тебе в утешение Милославушка наша, резвушка. Не осуди, лада...
Ей ли судить мужа своего. Тяжкая доля выпала, под чужим кровом даже у любимой подруги нелегко жить, кто ж говорит. Но ему-то, ладе, многажды тягче доводится. Сколь лет и чужого крова не имеет над головой, всё в походах, в лесах обитается. В первые два лета, когда появлялся он в Плескове, и не узнавала порой своего, лады. От дум и забот кручина на него навалилась: пригнула могучие плечи к земле, в старика превратила.
А и было отчего. Князь варяжский Торир вольно и прочно сел в Новеграде, соседей примучил, все головы перед ним склонили. Дань платят и до сего дня. Немного нашлось тех, кто воспротивился власти Торира. Видела она, как в злобе и бессилии сжимали кулаки Хоробрит с Мстивоем. Оттого и на Гостомысла кручина тяжкая пала.
Теперь-то ожили мужики, повеселели. Прячутся до времени от варягов, но соколами глядят. На убыль пошла власть заморского князя. Опять, вона, весть пришла: в Камно-городище неведомо куда сгинула сторожа Аудуна. Видать, не зря Хоробрита в Плескове сколь ден никто не видел. И Мстивой вместе с ним пропал.
По весне, сказывали, чудь на дружину Торстейна, что в полюдье шла, поднялась. Сеча была. Побили чудинов, но и варягов на Луге-реке немало полегло. Где-то Прибыслав бродит, не сложил ли голову, ненаглядный?
Одна надежда — под рукой у отца. Гостомысл в последнее свидание скупо поведал, что в тайне от всех устроил становище на берегу Мутной, ближе к Нево-озеру. Ладогой нарекли укрепу. Место дюже выгодное: и Мутную при нужде перекрыть можно, и за походами варягов следить удобно, и посланцев от веси и чуди принять и укрыть есть где. Кривские, кому надо, тоже добираются. Своих-то, словен, уже добрая дружина набирается.
«Прибыслав со Звоником там ли?» — спросила, требовательно глядя на мужа. «Там, не волнуйся. Нынче людьми я богат, но сынов не выделяю», — ответил он.
И не выделяй, лада. Не надо мне, чтобы из них воины знаменитые вышли. Прародительница Жива[21], сохрани их невредимыми.
...Мстивой в Ладоге недолго оглядывался. Похвалил Гостомысла за то, что устроил становище в стороне от крутого высокого берега и что скрытную сторожу день и ночь держит для опаски, побродил меж пришлого люда и уже на третий день такую власть забрал — не подступись попусту.
Разбил будущую дружину на десятки, опытным глазом наметил старших. И гонял людей с утра до позднего вечера. Нередко и ночью поднимал, заставлял идти десяток на десяток. В руках злых мужиков и парней от мечей только искры летели. А Мстивой ярил и ярил неумелых:
— Тебе за подол бабий держаться, а не мечом ворочать. Руку окровенил, уже и губы надул. Думаешь, варяг с тобой цацкаться будет? А ну, становись против меня...
Метали стрелы, учились по знаку руки старшего выполнять команды; укрывшись щитами, шли стеной, такой же стеной отступали, пятясь, из-за спин щитоносцев метали стрелы.
Вечерами Мстивой наседал на Гостомысла:
— Надобно с Новеграда ковалей сюда перетаскивать. Пусть тут припас куют. Много ли под чужим глазом наробишь?
Гостомысл не соглашался.
— Пока всё нужное имеем. Чуть не каждый день ладья из Новеграда приходит, тебе всё мало. Скоро не стан воинский, а пригород будет. Пойми, там всё налажено, а тут начинать.
— От такого налаженья нам ещё лето придётся ждать, — спорил Мстивой. — Руки чешутся, сколь ещё Ториру сидеть в Новеграде? Хоробрит сказывал: по осени выступит на Аудуна, — напоминал он. — Хоробрита знаешь, сказал — так и будет.
— А ты думаешь, мне не хочется сегодня дружину в Новеград вести? Ну поведём, их положим и сами ляжем, а варяги останутся. Нет, друг Мстивой, поучили маленько Торстейна и Аудуна, и хватит. Теперь не учить, бить надобно, чтобы не встали. Весь и чудины раньше следующей весны не обещают собрать охотников. Но и дань больше платить не хотят. А за данью к ним Торир по весне пойдёт. К тому времени и мы должны готовыми быть. Дружину-то тебе ещё ломать и ломать...
— То так, — соглашался Мстивой. — Стеной ломить научились, а вот каждый порознь... Но как же Хоробрит?
Гостомысл оглянулся вокруг, хотя в землянке они были одни.
— Слушай, что я решил, — наклонился он к Мстивою и понизил голос: — Хоробриту мы поможем. Аудун ходит в полюдье осенью. У кривских меньше мехов, чем у веси и чуди. Да Торира и не интересуют их меха. Ему нужен хлеб. Нынче у нас, сам знаешь, недород. У варягов единственная возможность — взять хлеб у кривских. Торир обязательно пошлёт в помощь Аудуну свою дружину. В полюдье они пойдут, как только кривские уберут хлеб. Они разбредутся малыми ватажками по всей земле. Гоняться за каждой дружинкой нам не выгодно, пришлось бы дробить и свои силы. Потому предупредил Хоробрита, пущай немедленно собирает воинов. Мы выступим через две седмицы. Надо перехватить их сразу по выходе из Плескова. И хлеб возвернем, и с Аудуном пора кончать.
— А если Торир испугается весной идти к веси? — попытался заглянуть в будущее Мстивой.
— Позовём соседей сюда. Думаю, не откажутся. Сил будет довольно. Выкурим Торира из Новеграда, — уверенно ответил Гостомысл.
За три дня до намеченного выступления дружины в помощь Хоробриту Мстивой разыскал Гостомысла, укрывшегося для беседы с прибывшими новеградцами. Тот неласково глянул на воеводу: понимай, мол, для наших разговоров другое время найдётся. Но Мстивой упрямо мотнул головой, приглашая друга выйти из землянки. И как только отошли на десяток шагов, торопливо зашептал:
— Сторожа какого-то человека перехватила. Сам на нас вылез. Кто таков, не говорит, тебя требует. Из Новеграда ладьёй прибежал, но я в сумленье.
— Пошто?
— Не новеградец он и вообще не наш.
— А кто ж?
Мстивой пожал плечами. Гостомысл рассердился.
— Мало ли гостей по-прежнему в Новеград из-за моря ходит? А то, что он на становище наше вылез, то тебе, воевода, в укор. Распустили люди языки, того и гляди Торира ждать надобно.
— Охолонь. Кабы случайный путник был... В сумленье я...
— Добро, — смягчился Гостомысл. — Новеградцев провожу, веди его сюда. Да отай, без лишних глаз.
Они сидели в землянке втроём. Гостомысл, не скрывая заинтересованности, откровенно разглядывал незваного гостя. Мстивой делал вид, что всё происходящее его не касается, — сказано ему привести незнакомца, он привёл, а что до обличья, так рассмотрел гостя ещё тогда, когда сторожа, скрутив излиха любопытному руки, доставила его к нему. В свою очередь гость с интересом всматривался в Гостомысла.
«Не смерд и не торговый гость, — прикидывал Гостомысл. — Воин. Ишь как сидит, в любой миг вскочить готов. Добрую выучку прошёл. Силы изрядной. Не стар. Тридцати летов будет ли...»
— Говорят, ты настойчиво разыскивал меня. Я — Гостомысл. Пошто понадобился тебе?
— Прости... — гость замялся, не зная, как обратиться к Гостомыслу, и обратился привычно: — ...князь. Твой дружинник... — повёл глазами на Мстивоя. — Моё слово тайное...
— У меня нет тайн от моего воеводы, — ответил Гостомысл. — Говори, мы слушаем тебя со всем вниманием. Но вначале молви: кто ты?
— Я — Синеус, сын старейшины бодричей Годослава, что принял смерть от руки короля данов Готфрида. Не знаю, дошла ли до вас весть о том.
— Дошла, — склонил голову Гостомысл. — Славен был князь-старейшина Годослав, пусть радуется его душа в чертогах Святовита. Помнится, у него было три сына...
— Рюрик и Трувор нынче у ранов. Рюрик и отправил меня сюда. Ярл Торир пленил у Рарога нашего отца. Рюрик поклялся перед изваянием Святовита отомстить Ториру. Мы с Трувором — тоже. Надеялись, что отомстим на земле данов. Не получилось. Проклятый Торир ушёл неведомо куда. Лишь прошлым летом мы узнали, что он хитростью овладел вашим градом. Рюрик повелел мне отправиться сюда и разузнать всё о Торире и его дружине. Из тихих разговоров словен я услышал твоё имя, князь Гостомысл. Я воин, князь. Прослышав о стычках варягов с чудью и кривичами, понял, что это твоих рук дело. Вот почему я пришёл к тебе. Рюрик предлагает тебе свою помощь. У него сейчас две сотни дружинников. Клятва Святовиту должна быть исполнена.
Гостомысл встал, протянул руку Синеусу. Поднялся, взволнованный, и Мстивой.
— Передай Рюрику: буду ждать его с дружиной весной. Сядем, други, обмыслим всё...
Сеча была злая. Торир понял свою ошибку слишком поздно. Не надо было выводить дружину из Хольмгарда. Следовало выгнать словен за стены града. Всех до единого. Их возмущение и гнев, может быть, обернулись бы против Гостомысла. Теперь поздно гадать. Дружина в бою, и пусть возрадуется Один, его викинги не отступят. Но откуда появился на поле свежий отряд воинов? Это не хольмгардцы. У многих щиты с его далёкой полузабытой родины — земли долин и фиордов. Неужели Гостомысл позвал какого-нибудь обиженного ярла? Прочь глупые вопросы! Для них найдётся время после победы.
Кипела битва. Конунгу не было равных противников. Удар, ещё удар. Словене пятятся, не решаясь напасть. Можно осмотреться. Проклятье. Этот новый отряд разрушил строй его дружины. Каждый сражается в одиночку. Это опасно. Хольмгардцев слишком много. И не только их. К Гостомыслу пришли весь и чудины. И ещё эти, неизвестные...
— Сомкни ряды! — кричит Торир. — Держи строй!
Не слышат. Сошлись грудь в грудь. Кажется, только Торстейн держит свою дружину в кулаке — ощетинились копьями, пробивают стену хольмгардцев. Где вы, верные Торгрим и Аудун? Вместе с Одином из Вальгаллы следите за этой битвой. Жаль. Ваши мечи пригодились бы на этом поле...
Привычна и легка тяжесть «Жаждущего битвы». Мой меч ещё не насытился кровью словен, я — тоже. Смотри, если успеешь, каким ударом владеет не конунг-князь, а ярл Торир. На колено и снизу вверх, под щит, под доспех, с поворотом.
Рухнул Мстивой. Даже не вскрикнул.
— Друг! Воевода! — разнёсся над полем сечи гневом и болью наполненный голос Гостомысла. — Конунг Торир, вызываю тебя на поединок!
Замерло поле. Враги опустили оружие. Блаженный миг передышки. Поединок предводителей. Пусть их рассудят боги.
И в эту тишину, нарушаемую хриплым дыханием сотен людей, ворвался другой голос:
— Князь Гостомысл, он — мой! Ты обещал...
Под сотнями глаз шагал к Ториру воевода неузнанной дружины. Не торопился. Закинул щит за спину. Кряжистую фигуру облегала кольчатая рубаха. Меч опущен к земле. Голубые глаза из-под шлема неотрывно смотрят на Торира. В них — радость предстоящей схватки. Остановился. Лишь два шага разделяют их.
— Я — Рюрик, сын старейшины бодричей Годослава. Ты хитростью пленил его у Рарога...
— Не трать слов, сын старейшины. Я признаю твоё право на поединок со мной.
Скрестились мечи, и ярл Торир, конунг Торир, князь хольмгардский Торир пал от руки Рюрика.
Слава Святовиту, клятва исполнена.
Варяги бросали бесполезное оружие. Пусть князь Гостомысл решает их судьбу. Они воины и могут пригодиться ему...
Земля отдыхала от трудов ратных. Новеградцы одним сердцем и разумом решили: князем словенским быть Гостомыслу и никому другому. Старейшины кривичей, веси, чуди одобрили выбор словен. Приветствовали нового князя дарами латгалы и меря.
Вернулась в родную избу Жданка с подросшей Милославой. Горючими слезами оплакала гибель Прибыслава и Звоника. Пеняла Гостомыслу, что не сберёг сыновей. Тот отмалчивался и, чтобы не рвать и без того помрачившуюся душу слезами жены, торопился уйти в градскую избу, на люди. Да и дела долили. Враз свалились на него заботы и смердов, и торговых гостей, и дружины. Всех удоволить надо, всё от князя мудрого слова да справедливого суда ждут. Соседи тож к нему за советом присылают. Он и для них князь. Правда, кривские, по обычаю, своего князя избрали. Хоробрит отказался, ему дружинные заботы милее всего, так они какого-то молодого Стемида выкликнули. Пусть их. Всё едино Хоробрит со всем важным к нему гонца шлёт. Весь и чудь старым обычаем живут, у них нет князей, все дела старейшины вершат.
Рюрик загостился у словен. Иногда с тревогой замечал, что борта «Гонителя бурь» и «Покорителя морей» от бездействия и несмотрения начинают прорастать мхом. Гнал воинов, те вытаскивали корабли на берег, очищали пазы от набившегося песка и сора, конопатили пенькой, смолили.
Гостомысл с улыбкой спрашивал:
— Никак, воевода, ты решил оставить меня? На родину потянуло али к ранам? Что тебе в них? Живи здесь. Ты люб словенам моим, люб мне. Не кручинься. Земля везде одинакова, и люди тоже. Верь мне, я немало бродил по ней.
— Я тоже, — нехотя отвечал Рюрик. — Но ты вернулся в свой Новеград, а я...
— Понимаю тебя, воевода мой славный, — теплел голосом старый князь. — На твоём месте и сам бы печаловался. Но помысли о другом: у бодричей нынче Славомир в чести. Сколько лет минуло, как ты ушёл из Велеграда. Тебя, поди, уж забыли там. Кем ты вернёшься к Славомиру и нужен ли ему? У него свои воеводы есть. К ранам — и того боле. Ты ж говорил, что и сам не знал, кем у них был. А у меня в Новеграде ты человек нужный и, сам знаешь, новеградцам люб, — повторял Гостомысл.
— То ведомо мне, князь. И я благодарен тебе за ласку. Но иногда мне снится море...
Ничего не менялось после тех бесед. Корабли по-прежнему стояли, уткнувшись носами в берег Мутной. Дружинники занимались привычными делами. Выполняя повеления князя, Рюрик ходил в дальние походы — к веси, чуди и совсем уж дальним мерянам: донести слово Гостомысла, выслушать старейшин, при нужде — помирить поссорившихся, вручить подарки и доставить в сохранности даримое. Жизнь шла своим чередом, а Рюрик всё не мог решить: оставаться в Новеграде или направить корабли в Янтарное море.
Помимо дел, в которые он втянулся, была ещё одна причина, почему Рюрик медлил с принятием окончательного решения. В доме Гостомысла расцвела резвушка Милослава. И не отворачивалась от вспыхивавших глаз воеводы...
Земля словен отдыхала от трудов ратных. Старое старилось, молодое жадно тянулось к солнцу.
Часть вторая ПРИЗВАНИЕ
ОСТРОВ РЮГЕН-РУЯН: СЕРЕДИНА IX ВЕКА
Блашко разлепил глаза. В косовине насады, перекрытой толстым настилом, полутемно. Серый свет пробивается в щель неплотно притворенной дверцы. Блашко в который раз безразлично оглядел топорной выделки доски настила. С этого начиналось каждое пробуждение. А всё же добры мастера в Новеграде, топором плахи тесали, и струга не надо. Стряхнув сон, повернулся на бок — под могутным телом скрипнули доски. Заглянул под лежак. Сумы и тюки были на месте.
Пятясь задом, Блашко выполз из носовины. Разогнулся, прикрыл на мгновенье глаза огрубелой ладонью, расправил бороду. Гребцы сидели за вёслами. У правила рядом с кормчим стоял Илмарус и улыбался. Первый раз за многие годы. Блашко проследил за его взглядом. Глухо стукнуло сердце: конец пути. Насада входила то ли в узкую губу моря, то ли в устье реки.
— Гляди, старейшина, — указал рукой Илмарус, и в голосе его Блашко почудились незнакомые нотки. — Я обещал, я довёл. Здесь остров Рюген.
— Добро, Илмарус. Будешь и впредь так же верно служить, не обижу.
Илмарус из тех, ещё Торировых варягов. Пожалел их тогда Гостомысл, но в дружину свою не взял. Разбрелись кто куда. Илмарус прижился. Помогал по хозяйству. Слуга не слуга, страж не страж, так — верный и нужный человек. Потому и к бодричам взял его Блашко. Мало ли что в пути может статься, да и путь он знал.
— Правым загребай! — крикнул Илмарус, словно и не слышал слов старейшины, и гребцы послушно развернули насаду.
Приближался берег — пустынный, каменистый. Почти сразу от воды поднимался крутой кряж. На вершине его шумели сосны.
«Дело бы содеять без волокиты да в свои места возвернуться живу, — глядя на чужой берег, подумал Блашко. — А будет ли от того дела прок, кто его знает. Как бы на свою шею Рюрика не назвать. Не надо было плыть, — позднее сожаление кольнуло сердце. — Пусть бы кто другой. Ну, люди-людишки... Ужиться не могли. Земли, вишь, мало им. Ловищей поделить не могут...»
— Веди к селищу, — приказал коротко, не глянув на варяга, и полез в тёмную носовину — проверять рухлядь: не испортилась ли за неблизкий путь.
— До града ещё далече, — услышал в ответ такой же незнакомо возбуждённый голос Илмаруса и подумал: «Чтой-то с варяжиной? Чай, не в Скандию его прибыли, — и сообразил: — Так Скандия-то рядом. Может, сбежать замыслил?»
Насада тяжело и медленно пробиралась вдоль берега острова. Парус пришлось спустить — мешал только. Гребцы, сильно откидываясь корпусом, двигали вёслами. С тихим плеском убегали назад волны.
— Ходу тут, самое малое, полдня, — скупо роняя слова, говорил Илмарус. Опять стал замкнутым, без улыбки, только глаза выдавали волнение. — Плыть нам до самого носа острова. Видишь, берег к северу тянется. Нос перевалить, он на запад повернёт. Туда мы не пойдём. Город Аркона как раз на мысу стоит.
— Пошто мне сей град? — недовольно хмурился Блашко. — Ты меня к воеводе Рюрику веди. Градов у словен ныне и своих хватает. Чай, видел: Новеград, Ладога, Плесков у кривичей, Изборск...
— Видел, — соглашался Илмарус. — Ваша земля обильна, — и невозмутимо продолжал своё: — Аркона славный город. Когда я бывал здесь, его почитали и бодричи, и лютичи. Плывут сюда и даны, и наши ярлы не обходит его стороной. Со всей земли сюда люди едут. И от хазаров, и от греков, и от франгов...
Насупился Блашко. Ещё в Новеграде наслышался о граде том. Хазары, греки... Купцы-гости. Он не купец. Его дело особое. Вспомнив о деле, ещё больше раздосадовал. Дёрнул себя за бороду, из-под нависших бровей недобро глянул на варяга. Тот почуял досаду старейшины. Склонив голову, угрюмо промолвил:
— Не гневайся, хозяин. Сам слышал: бодричи сказали, что воевода Рюрик вновь здесь поселился. Может, ты знаешь, а я не понял, то ль его князь Славомир не принял, то ль Рюрик сам не захотел под его рукой ходить. Но и раны его господином не признают. Чужой он здесь...
«И тут то же самое, — раздражённо подумал Блашко. — Дерутся за землю, как кочеты. С одной стороны, хорошо, легче будет Рюрика на ряд склонить, с другой — как бы он в нашей земле хозяином не захотел стать. Насмотрелся на Гостомысла...»
Основания для опасений у старейшины были, и серьёзные. Всего два лета минуло после смерти словенского князя, а уже смута охватила землю. Мир и любовь с соседями оказались не столь прочными, как мнилось, когда варягов Торира совместно выгоняли. Пока Гостомысл жил, его мудростью да славой всё держалось. И на тризне его соседи клялись в вековечной любви. И новеградцы клялись Стрибогом, что будут жить по слову Гостомысла. Клялись старейшины, но они первыми от установлений и отказались.
«И правильно содеяли, — думал Блашко. — Уж больно круто забрал власть Гостомысл. Всё сам да сам. Мы-то для него подобно смердам были. Совет с нами для виду держал. Какой совет, ежели в градской избе токмо его голос и слышен был».
Его, Блашко, слово не последним было, когда старейшины решили: не будем боле князя избирать. Сами сообща делами словен управлять станем. Вместо князя посадим одного из старейшин. И пусть каждый день с другими совет держит. Как у веси и чуди. А дабы и мысли не поимел возвыситься, срок установим. Минул срок — другого определим.
С того началось, да не тем кончилось. Завеличались старейшины. Выбираемые ранее новеградцами за мастерство да хитрознатство в своём рукоделии, дорогу стали забывать в кузню, к плотникам-древоделам, оружейникам-бронникам. Предпочли скамьи в градской избе. От попрёков-укоров бывших собратьев по ремеслу докучливо отмахивались: не до топора ныне, заботы всей земли на плечи легли. А чтобы достаток не скудел, порешили: пусть дружина впусте хлеб не ест, по соседям почаще ходит, подарки собирает. Чай, Торира всё же словене к его Одину отправили. Весь, чудь да и кривские того Торира кормили, не обеднели. Не обеднеют и ныне, ежели новеградцам пестерь-другой мехов пришлют.
Кой-то безмозглый гость торговый бросил бездумное: «Дань платите».
С того и возгорелось. Соседи поначалу обиделись, потом в гнев вошли. Мы варягов вместе с вами гнали. О какой дани речь? Наши охотники жизни отдали, сражаясь плечом к плечу с Гостомыслом. Он был истинный князь, отец-батька народу нашему. А вы?
— Кака дань, кака дань? — кипятились враз поумневшие торговые гости новеградские. — То на прокорм дружины старейшины просят. А ежели другой варяжский конунг-князь заявится? Кто вас оборонять будет? А нам, новеградцам, вашей дани не надобно. Без неё жили и дальше жить станем. Мы и без дани вашей всё ваше богачество закупить можем и в разор не войдём.
Хвастались, конечно, но доля правды в этом хвастовстве была. Жили новеградцы богаче соседей. Немало добра Торирова да его дружины к их рукам прилипло.
Тяжело вздохнул Блашко. Разве думалось раньше, что власть старейшин крепить надобно и оберегать? При жизни Гостомысла все к нему тянулись, а теперь вот...
Осиротела земля без светлой головы и твёрдой руки. Зато соседи головы подняли: дани платить не желают. Жалко, конечно, но без неё словене проживут, коли не решаются силой соседей примучить. Но ведь они не только дань платить отказались. Кривские первыми голос подняли: мол, новеградцы их лучшие ловища захватили, пусть идут прочь. Дальше больше: словенских купцов-гостей по злобе побивать стали. Как такое стерпеть? Заваруха поднялась: кривские да чудь пригрозили общими силами в поход против словен подняться. Испугались старейшины — а вдруг и впрямь пойдут, а у них-то дружина без присмотру и возглавить её некому. Молодых да горячих в Новеграде много, только веры им нет. В серьёзном деле не испытаны. Некоторые договорились до того, что предлагали Вадима-храбреца в чело дружины поставить. Это ж надо додуматься, безусого ушкуйника в воеводы метить.
Потому ничего лучшего старейшины и не могли придумать, как отправить его, Блашко, к бодричам уговорить воеводу Рюрика поступить на службу Новеграду. Нагнать страху соседям. Уже служил Гостомыслу, землю и обычаи знает. И не чужой новеградцам. Милославу взял себе в жёны. К той же веси не раз хаживал. Помнят его и кривские. «Согласится ли? — пытал .себя старейшина. — Должен бы, а вдруг?»
Из-за мыса выскочила ладья. Крутые борта высоко поднимались над водой. На носу идол резной, разукрашенный, не поймёшь — то ли Змей Горыныч, то ли ещё какое чудище поганое. За бортами гребцов не видно, а на носу и корме десятка полтора воев. И луки уже в руках.
Летит, как птица, ладья. Кормчий её прямо в носовину своим Змеем Горынычем метит. Нешто схватки не миновать?
— Отверни, — приказал Блашко кормчему и взялся за рукоять тяжёлого меча. По этому знаку выскочили из-под кормового настила дружинники, но он махнул им рукой: «Пока сидите», — и велел Илмарусу:
— Спроси, кто такие и что надобно?
Перекрывая шум вёсел и волн, проводчик повторил вопрос старейшины. С ладьи сердито закричали, рядом с кормчим поднялся кто-то в доспехе, шлеме.
— Велят остановиться, досмотрят. Иначе стрелять станут, — повернулся Илмарус к Блашко и добавил: — То стража порубежная.
— Сам слышу. Правь к берегу. На насаду не пущу.
Ладьи насунулись на берег почти одновременно.
Тяжело, но быстро выпрыгивали на землю раны. С копьями, мечами. Не успеешь глазом моргнуть — лук в руках. «Однако железных рубах мало», — отметил про себя Блашко.
Он сошёл последним, когда две ощетинившиеся копьями дружинки стояли насупротив, ожидая команды начать сечу. «Добрые вой», — подумал Блашко и вошёл в круг. Тотчас навстречу ему шагнул тот, в доспехе и шлеме.
Качнувшись, замерли копья. Одно слово, один неверный взмах руки могут вызвать стычку. Неведомо, какой наказ дан береговой стороже. Потому Блашко поспешил заговорить:
— Я послан старейшинами земель словен новеградских к воеводе Рюрику и его жене Милославе. В Велеграде мне сказывали, что Рюрик ныне у вас на острову. Пошто преградил ты нам дорогу и собираешься напасть, словно тать?
Ран слушал внимательно. Молодости его не могли скрыть ни глубоко надвинутый шлем, ни плотно сжатые губы. Выслушав Блашко, ран неожиданно весело улыбнулся. Повернувшись, кратко и тихо приказал дружинке опустить копья.
— Отринь гнев, старейшина. Как вы в своей земле, так и мы в своей должны оберегаться от врагов. Воевода Боремир поручил мне охранять этот участок побережья. Ты сам воин, возглавляешь дружину, — он повёл в сторону напряжённых новеградских воев рукой, — и должен понимать, что такое наказ старшего воеводы. Как видишь, мы не тати и остановили тебя по праву береговой сторожи. А воевода Рюрик действительно у нас на острове, бодричи сказали тебе правду. Его дружинный дом неподалёку от Арконы. Если ты дашь слово, что идёшь к нему не для воинского раздора, а с миром, мы проводим тебя с честью. Пусть сопутствуют тебе боги.
Для Рюрика наступила пора нелёгких размышлений. Кажется, он поторопился с возвращением к родным берегам. А может, ошибся. Надо ли было возвращаться? Гостомысл был милостив к нему. Отдал в жёны Милославу, ни словом не посетовав на зрелый возраст воеводы. Впрочем, он, Рюрик, и не пошёл бы к князю просить его дочери, если бы не уверился в желании самой Милославы. Два слова всего и сказала она ему, когда он, выйдя от князя, не в дружинную избу пошёл, а на берег Мутной. Там и встретил её с недоплетённым венком в руках. Увидев его, она вспыхнула, как алый цветок. Он упал перед ней на колени, протянул к ней руки, словно безусый юноша, сражённый девичьей красотой, будто и не давили грузом на плечи четыре с лишним десятка лет, словно была она первой в его бурной воинской жизни, когда в походах не спрашивают женщин, по сердцу ли им победитель, их просто берут по потребности тела, как любую другую добычу.
Она никогда не могла стать добычей, и Рюрик давно уже почувствовал: случись невероятное, приволоки воины её к шатру, не поднялась бы рука сорвать с неё сарафан.
Сама и только сама могла прийти к нему Милослава.
Тогда, на берегу Мутной, наверное, увидела она в глазах Рюрика и любовь, и почитание, и мольбу. И смятенной девичьей душой потянулась к нему и сказала, пряча лицо в подол сарафана, всего два слова:
— Поди к батюшке...
Теперь она жена его. Хозяйка дома.
Воевода Боремир, слегка постаревший и огрузневший телом, по-прежнему встретил улыбкой и дружеским объятием.
— Ты ж не юноша, сам понимаешь... У Славомира размирье с германцами вышло, он поколотил их. Нынче тишина у бодричей. Германцы поклонились Славомиру, вечного мира запросили. Сколь раз был тот «вечный» мир. Кабы раньше пришёл со своей дружиной... А нынче зачем ты Славомиру? Бодричи могут вспомнить, что ты сын старейшины Годослава. Кому нужен воевода, которого могут избрать князем? Ты ж не юноша, сам понимаешь... Живи у нас. Торира нет, но даны-то остались. Скажу тебе в тайне от других: с Готфридом ещё можно было по-соседски добром иногда сговориться. А ныне он стар, ежедень известия о смерти ожидаем.
— В Вальгаллу-то ему не попасть, — шутил Боремир. — Туда мы с тобой ещё можем отправиться. Готфрид же на своём ложе, видать, помрёт. Да ему и без разницы — Вальгалла или царствие божие, небесное... Слыхал о таком? То новое учение от италиков да франгов к нам ползёт. Единый бог — Христос именем, — оказывается, на небесах сидит. Наши-то: Святовит, Сварог, Даждьбог, Жива, Радогост[22], Рановит и другие, пусть не обидятся, что не называю, — выходит, ложные боги. Передающий волю Святовита здесь, в Арконе, как услыхал первый раз такое, так чуть слова не лишился. Ты ж не юноша, сам понимаешь...
Готфрид к тому богу Христу склоняется. Так говорят. Меня тут тоже пытались в новую веру... как это? об-ра-тить. Удобный бог — Христос. Дай вспомню. Богу — божье, кесарю — кесарево. Я не кесарь, но дружинники и горожане меня почитать должны — власть от бога, и я, стало быть, от бога ставлен, — смеялся заразительно.
— Давай, друг Рюрик, поверим в нового бога — Христа. Он всем царствие небесное обещает. Тут, на земле, кесарями не стали, так на небесах будем. — Ироническая улыбка затерялась в поседевшей бороде. — В Вальгалле у Одина хорошо, и у бога Христа в царствии небесном только рот открывай, наготово кормить будут. Но ты ж не юноша, сам понимаешь, мы с тобой на земле живём, друг Рюрик. Не спрашиваю, почему ты ушёл от словен новеградских. То твоё дело. Раны от твоей помощи не откажутся. Дружины-то у тебя опять прибыло. Ты молчишь, а мне уже донесли: уходил без малого с двумя сотнями, а возвратился с тремя. Словене прибились?
— Нет, — не счёл нужным скрывать Рюрик. — Торировых, тех, что просились, принял. Да и других. Мало ли их по земле бродит...
— То твоё дело, не мешаюсь, — построжал голосом Боремир. — Не обессудь... Три сотни воев — дело великое. Захочешь — и меня побить можешь. Прежде чем пустить тебя на остров, говорили мы с передающим волю Святовита. — На вопрошающий взгляд Рюрика Боремир не отвёл глаз. — Живём не в царствии небесном бога Христа. Опасались раны. Я дал слово, что ты ничего худого не умыслишь против нас. Знаю тебя и верю. Но ты ж не юноша, сам понимаешь, потому и говорю с тобой открыто. Будешь ли остров оберегать?
— Пусть не опасаются меня раны, Боремир, — твёрдо ответил Рюрик. — И их, и тебя в особицу благодарю за пристанище и ласку. В битве, ежели случится, мой меч рядом с твоим будет. И за себя и за братьев говорю.
— Ну вот... Давай выпьем вина. Снял ты камень с души моей. Сам понимаешь, сколь лет у словен пробыл, а люди, друг, меняются... Корабли твои, донесли мне, пообветшали, закажем мастерам новые. Думаю, князь Гостомысл не пожалел для тебя достатку...
Всё вроде благополучно: приязнь воеводы Боремира и милость Святовита, обещанная передающим волю бога у его четырёхликого изваяния, послушная и довольная дружина, Милослава...
Но как всё зыбко и неустойчиво.
Друг Боремир никогда не скажет, чтобы не обидеть, но самому-то понять нетрудно: он нужен ранам, пока служит им. Мнимой была самостоятельность и независимость его и у Гостомысла. А что впереди? Можно до окончания дней оставаться на острове у ранов. Служить им мечом и за то кормиться самому и кормить дружину. Врагов хватает. Захватить остров, подчинить ранов не откажутся ни Славомир, ни Готфрид, ни ярлы Скандии. Его мечу не придётся залёживаться в ножнах. Со временем он может заменить и Боремира...
Так что же он выиграл, уйдя от словен? Одну службу сменил на другую. Лучшую ли? Странно, но здесь, на острове Янтарного моря, ему начали сниться сосновые боры под Новеградом. Или всё ещё волосы Милославы дурманят терпким смолистым духом?
Благое стремление души не равноценно деянию. Он ошибся... Словене не требовали от него службы. И он не чувствовал себя наёмником. Земля приняла его, словене считали своим...
Вернуться? Гости торговые привезли странное известие: старейшины новеградские решили не избирать нового князя. Сами надумали править. Захочет ли и сможет ли он подчиниться? И кому?
Сидел Рюрик, склонивши начинающую седеть голову над столешницей. Полонила его душу кручина. Не избыть её, потому как нет ответа на мучающие вопросы. И появится ли он в ближайшем будущем? Или отвернулся от него Святовит?
Вбежала в покой, хлопнув дверью, Милослава. Привыкла бегать из покоя в покой. Здесь, у ранов, избы другие, не то что в Новеграде. Только в последние лета кое-кто из торговых гостей, насмотревшись за морем новин, начинал рубить избы в Новеграде из нескольких клетей да поднимать их одну на другую. Ранее такого не было. Милослава в княжой избе выросла, но изба была обычной, в четыре стены, с очагом-кругом каменным в углу.
На острове Руяне впервой иную избу увидела, не из брёвен рубленную, из тёсаного камня-известняка сложенную в два уровня, с узкими высокими окнами стрельчатыми, забранными мутным стеклом, со многими дверями и переходами. Не изба, а палаты каменные. Здешние жители, раны, их замком называют. Наверное, потому, что палаты стеной высокой и прочной из такого же камня-известняка замкнуты.
«Возвернёмся в Новеград, велю такие же построить», — не раз в ночной тиши шептала она Рюрику.
Не прикипало сердце Милославы к Рюгену-Руяну.
— Хильдигунка, — так на свой лад переиначила Милослава имя снохи, — сейчас молвила: Трувор с Синеусом к тебе собираются, с утра меж собой все чегой-то спорили... Вам трапезу готовить али жбан пива прислать?
Рюрик залюбовался женой. Три лета с обряда минуло, а она как была резвушкой-девчонкой, так ею и осталась. Тоненькая в поясе, чуть скруглялись бёдра, волосы непокорные из-под шапочки кольцами выбиваются.
— Милославушка, ты хотела бы в Новеград возвернуться? — И понял, что ответ жены лишним будет, так радостно вспыхнули её глаза. И совсем неожиданно для себя спросил: — А ежели я над старейшинами встану?
— Да над кем хошь становись, только бы в Новеград, — обхватила за шею руками, прижалась упругой грудью к спине. На один миг. Потом отстранилась и всё так же сзади попыталась заглянуть в глаза.
— Как над старейшинами?
— Не ведаю, Милославушка. Добром на то старейшины не согласятся. Да и новеградцы могут воспротивиться. Я служил воеводой у князя, а под старейшинами ходить не хочется.
— Своими бы ногами в Новеград пошла, — не вдумываясь в его слова, ответила жена.
— Вели подать пива, Милослава, — братья идут.
Слухи, принесённые Синеусом из дружинного дома, порождали много вопросов. Почему Рюрик не посоветовался с братьями? Коли дружинники всерьёз говорят о том, что теперь воевода Боремир будет уряжать их на охрану побережья острова, значит, Рюрик дал на то согласие ранам. Они будут подчиняться Боремиру. Дружинники всегда подчиняются воеводе. Но как же Рюрик? И как они, Трувор и Синеус, будут при Боремире? Служить ранам незазорно, но какой ряд-договор заключил Рюрик с ними? Могут ли они выйти в море в свободный поход или должны спрашивать разрешения у Боремира?
Рюрика новость поразила не меньше братьев.
— Ты не ошибся? — дважды переспросил он Синеуса. — Вои так и говорят, что дружиной будет командовать Боремир?
— Да, Рюрик. Это меня и удивило. Мы с Трувором, кажется, не мешали тебе принимать решения, но ты всегда советовался с нами. А тут... Дружинники называют даже участки побережья, куда собирается отправить нас Боремир на наших же кораблях.
— Я немедленно пойду к Боремиру и всё выясню, — поднялся Рюрик.
— Не торопись, — остановил его Трувор. — Боремира посетить успеешь. «Ты же не юноша, сам понимаешь» никуда не исчезнет. С чем ты пойдёшь к нему? Он откажется от слухов, и тем дело завершится. Но ты же знаешь, слухи на пустом месте не вырастают. Разве Боремир не спрашивал тебя, будем ли мы охранять остров?
— Но я никогда не обещал ему, что мы поставим свою дружину под его начало.
— Мы играем словами, Рюрик. Главным делом дружины становится охрана острова. Значит, мы переходим на службу ранам? Вот что основное. И это основное мы должны решить вместе, сейчас, до того, как ты пойдёшь к Боремиру. Не знаю твоих мыслей, но мы с Синеусом предпочли бы независимость.
— Ты прав, Трувор, нам надо определиться в главном, — он сел и решительно отодвинул на край столешницы жбан с пивом. — Мои мысли в разброде. Признаюсь, начинаю думать, что мы ошиблись с возвращением на Рюген.
— Хочешь сказать, что мы должны были напасть на Славомира? — удивился Синеус.
— Нет, остаться у словен, — неуверенно выговорил Рюрик.
— Я готов хоть сегодня, — загорелся Синеус. — Там интересно. По землям веси идёшь, идёшь, а им конца нет. Помнишь, Трувор, как нас встречали там после варягов?
— Помню, — без улыбки ответил Трувор. — Только если ты помнишь их женщин и тех соболей, что тебе дарила весь, то я помню и об их стрелах. Но мы торопимся. Значит, и ты, Рюрик, не хочешь идти слугой к ранам?
Рюрик тяжело посмотрел на брата. Трувор не виноват, он всего лишь назвал вещи своими именами. Служилый воевода — тот же слуга. Он был слугою отца, что справедливо. Но и после смерти старейшины Годослава не приобрёл самостоятельности. Хотя имел право на избрание князем.
Он служил ранам, потому что не было силы подчинить их себе. Служил Гостомыслу, ибо... не мыслил себя никем другим, кроме походного воеводы. Он служит ранам и теперь. Почему? Допустим, он рискнул бы примучить их. Нынче сил у него хватит. Но... вмешается Славомир, не останутся в стороне лютичи. Аркона — святилище Святовита. Так что же, он так и будет всю жизнь в услужении у кого-нибудь?
— Ты сказал: слугой... — Рюрик повернулся к Трувору. Руки, лежащие на столешнице, сжаты в кулаки. — Да, ты прав. Если останемся на Рюгене, рано или поздно станем слугами ранов. Славомир не позволит иного. Кроме того, у ранов нет князя, а верховным жрецом, передающим волю Святовита, я не хочу быть, — мрачно усмехнулся он. — Может, рискнём схватиться со Славомиром? Вернёмся к бодричам?
— Что ты, Рюрик? У него тысячная дружина! — удивлённо посмотрел на него Синеус.
— Что скажешь ты, Трувор?
— Нет, — после недолгого молчания ответил Тревор. — Это потеря дружины и наша гибель. Воины, больше половины, из бодричей... И Славомир избран по обычаю. У тебя нет оснований оспаривать выбор старейшин.
— Значит, выход один — дать согласие на службу ранам.
— Почему? Разве мы не можем, как и прежде, быть свободной дружиной? — вопросительно посмотрел на братьев Синеус.
— Ты не понимаешь, что ли? Слух, пущенный среди наших дружинников, скорее всего умышленный, — ответил ему Трувор. — Не приложил ли к этому руку передающий волю Святовита? Вполне возможно...
— Мы начинаем, как говорят новеградцы, толочь воду в ступе, — прервал его Рюрик. — Я вижу лишь одну землю, где мы не будем слугами...
— Словене, — задумчиво согласился-подсказал Трувор. — У них сейчас раздоры с соседями...
— Да, ты понимаешь. Но надо стать над старейшинами. Заставить их избрать князя. Без крови не обойтись.
— Нужно попытаться без неё. Мы знаем силу дружины Гостомысла. У неё нет нынче достойного воеводы. Но и без него я не хотел бы иметь в поле противниками словен. Будем помнить, ты ближайший родич Гостомысла...
— Помнить можно, — насмешливо улыбнулся Рюрик. — Но тогда давайте вспомним, что мы сыновья Годослава. Где ты видел, чтобы князем избирали человека только за то, что он сын князя?
Теперь насмешливо улыбнулся Трувор.
— Видеть не приходилось, а слышал об этом много. Ты забыл франгов? А Гостомысл? В девятом колене князь из рода какого-то Славена. Как видишь, власть всё же передаётся от отца к сыну или... к брату.
Рюрик с интересом глянул на Трувора.
— Об этом я не думал...
— Будем думать о малейшей возможности, — сказал Трувор с мрачной решимостью. — Я не откажусь ещё раз сходить к веси или в Плесков к кривичам. Но чтобы у них и... остаться.
Взгляд Рюрика был пристальным и долгим. Кажется, Трувор, как и сам он, созрел для больших дел. Ну что ж...
— Готовь ладью, — твёрдо сказал он Трувору. — Пойдёшь к словенам. Нам надо заключить с ними ряд. Мы предложим им нашу дружину для усмирения соседей. От такого не отказываются. Мы усмирим весь, чудь и кривичей.
Рюрик отложил встречу с Боремиром. Главное сейчас — отправить Трувора к словенам.
Плыть Трувору в Новеград не пришлось. Через день в палаты Рюрика спешно постучался начальник ладьи порубежной сторожи ранов.
— Воевода Рюрик, к тебе прибыл старейшина из Новеграда. Зачем — не знаю, не говорит. С ним малая дружина.
— Где он? — удивился Рюрик.
— Я упредил его. Скоро они будут у пристани.
— Благодарю тебя. — Рюрик нащупал в кошеле мелкую золотую монету-чешуйку, подал начальнику сторожи. — Прошу тебя, укажи им путь к моему замку.
Братьям сказал:
— Для посланцев новеградцев устроим пир. Но ни единого слова о том, что порешили. Мы здесь всем довольны и ни к кому на службу не собираемся...
Блашко пробудился с тяжёлым сердцем. Торопился, воев за вёсла сажал, сам нередко махал ими до седьмого пота, а тут — пир. Пропал день. Даже с женой воеводы не удалось словом перемолвиться. Только и видел, что сидела она на пиру, такая же тоненькая девчушка, какой запомнил её почти три лета назад. Пышно отдавал тогда Гостомысл дочь свою Рюрику...
Бражничали до глубокой ночи, и как ни пытался Блашко затеять с воеводой серьёзный разговор, тот уклонялся. В гостях воля не своя.
Пригласили его к Рюрику в полдень — истомился бездельным ожиданием. Однако виду не подавал. Дождался своего времени, оправил опашень, тронул рукой меч в узорчатых ножнах, расправил на груди бороду, махнул четверым дружинникам, чтобы шли с ним, и твёрдым достойным шагом вступил в палату.
Воевода сидел на скамье неприступно замкнутый, даже мрачный, смотрел исподлобья, властно. Сзади него, полукругом — начальные люди дружины, по левую и правую руки — братья. Смотрели немилостиво, сурово. Как на постылого просителя. Загорелось сердце, вскинул голову, расправил плечи. Но тут же и одумался. А кто ты есть, Блашко? Ты и есть проситель. Терпи. Гордость в таком деле показывать не след.
Перевёл взор на группу женщин, что сидели поодаль. Встретился глазами с Милославой. В центре сидит. Старшая в дому, али ради посланника честь оказали? Не время пустые загадки загадывать, надо дело править.
Поклонился малым поклоном — большим только родителя да ещё князя-старейшину Гостомысла привечал, — набрал воздуху в грудь и, как равный с равными, заговорил:
— Будь здрав, воевода Рюрик, и род твой, и домочадцы твои на многие лета. Прими дары, которыми чтят тебя словене новеградские...
По его знаку четверо дружинников внесли дары на вытянутых руках и положили их на пол у ног Рюрика: поверх соболей — круглый щит, шлем и меч, блеснувший драгоценными каменьями. Подчиняясь торжественности события, Рюрик поднялся.
— Дары принимаю. Передай словенам — мы рады их дружбе. Пусть знают: мой род был и всегда другом им будет. А теперь говори, с чем прислали тебя старейшины? По-прежнему ли благополучно у словен? Не грозят ли враги?
Подозрительно глянул Блашко на воеводу. Нетто Рюрик уже прознал о нестроении? Ежели так, может отказать новеградцам в помощи. Или потребует за неё такое, что и договор-ряд негоже будет заключать. Старейшины всё оговорили заранее и не потерпят несообразного. А новеградцы, ежели прознают, кинут Блашко в Мутную. Своевольными стали после изгнания варягов.
— Воевода, — издалека приступил он к главному делу. — Ты знаешь, Гостомысл был добрым князем, мужем храбрым, правителем мудрым. Соседи его чтили, а свои люди любили за правосудие. Кривские, весь, чудь, водь, ижора дары приносили. Не в обиду, воевода, напомню: ты и сам служил ему и новеградцам...
Кое-кто из начальствующих вскинул голову, с неприязнью глянул на стерейшину. Рюрик и братья слушали невозмутимо.
— Ведомо тебе, воевода, и то, что Гостомысл имел четырёх сыновей. Кто в походах на брани изгиб, кто в избе его почил. Ни одного в живых не осталось. Дочь его Милославу ты за себя взял. Оставался Гостомысл до самой смерти один...
Ровно и печально звучал голос Блашко. Слушали в молчании, не прерывая.
— Однажды о полудни привиделся князю-старейшине Гостомыслу сон, что из чрева жены твоей выросло древо великое и плодовитое. От плодов же его насытились люди всей земли нашей. Призвал он ведунов, они же решили: от сынов твоих будут наследники ему...
Рюрик взглянул на Трувора. «Неужто ты был прав, а я недооценил родственные связи?»
— Вскоре князь-старейшина скончался. Без него началось в земле нашей нестроение. Кривичи и весь сговариваются пойти походом на нас, словен. К ним склоняется и чудь. Потому и отправили меня к тебе старейшины словенские. Помоги оборонить землю нашу...
Кончил Блашко, как гору с плеч сбросил, вновь поклонился Рюрику и застыл в ожидании ответа.
— Пришёл ты к нам с просьбой немалой, — после недолгого раздумья ответил воевода. — Один раз мы ходили к вам на помощь. И вы и мы довольными остались. Я помню приязнь и ласку Гостомысла и новеградцев. Но теперь многое изменилось. Прежде чем ответить, я хочу знать, на каких условиях вы зовёте нас?
— Мы заключим с тобой и братьями твоими ряд, воевода. Нам нужна от вас воинская помощь, чтобы усмирить соседей. Но... сколько вы попросите серебра и рухляди за вашу службу?
Службу? Старейшины, значит, надеются купить его? Служилым воеводой, и только, видят его. Если бы не трёхдневной давности разговор с братьями, он, возможно, выгнал бы сейчас Блашко. Но всё обмыслено, решение принято, и потому пусть старейшина говорит. Я выставлю ему свои условия. Посмотрим, сколь далеко готовы пойти новеградцы.
— Прежде всего вы должны дать нам и всей нашей дружине жилища и позаботиться, чтобы у нас не было недостатка в припасах, — ответил Рюрик. — Тогда вы будете иметь право на нашу дружину и требовать, чтобы она была впереди в вашем войске. За это вы должны будете платить каждому нашему дружиннику три раза в год по большой монете серебра, что в ходу нынче у торговых гостей, а каждому из них, — он обвёл рукой начальных людей, — кроме того, ещё по монете...
Блашко протестующе замотал головой, но воевода поднял руку.
— Мы будем брать бобрами и соболями и другими вещами, которые легко выменять у веси и чуди... Согласен?
— Я думаю, словене согласятся с твоими требованиями, воевода. Ведомо тебе: земля наша обильна. Поможешь усмирить кривичей, весь и чудь — каждый дружинник получит требуемое тобой, а тебе и им, — глазами показал на сидящих сзади, — наособицу. Дань походная с соседей — ваша. После того вы вольны вернуться сюда, на Руян; захотите у нас остаться — то по вашей воле...
— Хорошо, старейшина, мы обсудим и это.
Дружинник Михолап, друг незабвенного Мстивоя, неторопливо брёл узкой улочкой града. Торопиться некуда. Старейшина Блашко к воеводе Рюрику Михолапа не взял: оглядел в который раз его невысокую, с лесным хозяином схожую фигуру, крякнул неодобрительно. Михолап только ухмыльнулся независимо в кустистую, не понять какого цвета, бороду и отошёл прочь. Знал: место его не в горницах — в дружинном доме да в поле. Страшен он был в битве. Ярился, себя забывал. С мечом на стену ворогов пёр, рубился молча, никогда не бодрил себя криком. Но и вне битвы, на улице градской подчас внушал он страх вставшему на пути незнакомцу — кривоногий, бочкообразный, с руками до колен, узкими, глубоко посаженными глазами.
Брёл Михолап наугад. Града не знал, дела не было. Да и быть не могло. Продавать нечего, покупать не на что. К тому же купля-мена — не для воина. Так разве, потолкаться, на людей поглядеть, себя показать. Но и потолкаться, вишь, негде. Шёл дружинник с надеждой попасть на торжище, а торжища не видно. Куда оно запропало? В Новеграде все концы к торжищу ведут, а тут...
Странным казался глазу Михолапа град Аркона. В воротах никто не остановил, да и сторожи воротной дружинник не приметил.
«Вольготно, без опаски живут, — отметил он. — Видать, на береговую сторожу крепко надеются, — и укоризненно покачал головой. — Град, по слухам, богатый. Мало ли кто воспользоваться захочет. Эка беспечность, как у нас в Новеграде до Торира».
Градская стена из камня-известняка не высока, скорее по обычаю жителями выложена, а не для обороны от противника. Правда, с западной стороны её подкреплял вал, по прикидке Михолапа, высотой сажени в четыре, местами и более. С северной и восточной стороны Аркона и такой укрепы не имела. Да и не нужна она была, понял дружинник, как только свернул в эту часть града, привлечённый ещё издали необычным видом большого, отдельно стоящего строения. Тут было тихо, только откуда-то снизу глухо доносились удары волн о камень.
«На скале град стоит, а та обрывом в море уходит, — мимоходом отметил Михолап. — Потому и стены здесь нет».
Любопытство толкало его к строению — слишком уж необычным оно было. Нигде до того подобных не встречал. Четыре могучих деревянных столба подпирали кровлю. Между ними натянуты занавеси даже на глаз непомерно тяжёлого полотна, изузоренного яркими красками. Михолап не удержался, пощупал полотно корявыми пальцами. Было оно толстым, с одной стороны жёстким, с другой мягким. «Ковёр, — вспомнил название. — Такие изредка в Новеграде торговые гости привозят, что бродят на юг, к тёплому морю».
Долго стоял, задрав голову, не отводя изумлённых глаз от крыши. Под стать коврам она отливала пурпуром. Из чего сделана, так и не понял. Была бы лесенка поблизости, обязательно поднялся бы.
Осторожно отогнул край тяжёлого ковра, заглянул внутрь. Пахнуло благовониями. В центре затенённого помещения на ровно тёсанном камне возвышалось изваяние...
Его дёрнули за рукав кафтана. Михолап стремительно обернулся. Что за чудеса, ведь только что никого рядом не было. Перед ним стоял старик, одетый в широкий и длинный плащ белого цвета. Седая борода, глубоко запавшие умные глаза много повидавшего человека, высокий лоб изрезан морщинами. В свою очередь и незнакомец внимательно и неторопливо оглядел дружинника.
— Ты — чужеземец, — глубоким чистым голосом сказал он. — Не из бодричей и лютичей. Наверное, из той далёкой восточной земли, чьи посланцы прибыли к воеводе Рюрику.
— Да, я из Новеграда, — подтвердил Михолап.
— Потому ты и не знаешь святилища нашего Святовита. Не надо заглядывать в щёлку. Святовит открыт для всех. Вход вон с той стороны. Иди, поклонись Святовиту...
Старик ввёл Михолапа в полутёмное помещение, поклонился изваянию и неслышно удалился в тёмный угол, оставив дружинника одного.
Много выше человеческого роста было изваяние. Мощь и сила исходили от Святовита. В спокойной и вместе с тем настороженной позе воина стоял бог. Могучие ноги, тяжёлые на вид жгуты брюшных мышц, на поясе семь мечей, в левой руке кубок, в правой — лук. У Святовита четыре головы. Нет, не головы — четыре лица смотрели незрячими глазами в четыре стороны.
«Так вот перед каким Святовитом клялся воевода Рюрик отомстить Ториру за гибель отца, — припомнил Михолап скупые слова дружинников Рюрика там, в Новеграде. — Да, клятва перед ним — это... — Он не нашёл подходящего определения для такой клятвы, но одобрил стремление воеводы встретиться со своим противником. — Это бог воинов. Хотя наш Перун не хуже будет», — и с опаской оглянулся: не подслушивает ли кто тайное.
После святилища потянуло к людям. Их жилища тесно лепились одно к другому, прижимались к валу, и он заторопился туда, забыв о желании поглядеть на торжище. В этом граде, рядом со Святовитом, его могло и не быть. Хотя Михолап не сомневался: коли в граде живут люди, то они заняты не только делами бога, есть у них и свои людские заботы. Жизнь без забот да радостей обойтись не может.
За подтверждением далеко брести не пришлось. В одном месте наткнулся он на весёлое заведение — кружало. По запаху признал да по шуму. Заглянул. За столами сидели люди, видом не горожане, скорее на дружинников смахивали. Стучали оловянными кружками, горланили что-то. Увидев чужого, примолкли. Один было начал подниматься, но, встретив взгляд Михолапа, сел — оценил по достоинству. В углу примостился хозяин. Не глядя на бражничающих, Михолап подошёл к нему. Кинул мелкую серебрушку, тот поймал на лету, сунул за щёку, с опаской оглянулся. Подал братину. Михолап принял, не стал искать кружку, осушил одним духом, поморщился. Не понравилось. Молча пошёл к выходу. На пороге обернулся. Смотрели на него расширенными глазами: экую братину враз выдул.
Странный град. «Мор тут был, что ли? — думал он. — Где люди-то? Вон мелькнул кто-то, и как ветром сдуло его. Чудеса».
В другом месте услышал постукивание молотка по железу. Гарью угольной пахнуло.
«Кузня, — обрадовался Михолап. — Ин зайду. Глянуть надо, какие тут ковали...»
Он толкнул низкую дверь, с удовольствием прислушался к её скрипу, втянул широкими ноздрями знакомые запахи — хорошо, совсем как в Новеграде.
На наковальне пламенел кусок железа. Трое с недоумением глядели на дружинника. Средний, коваль видно, держал железо длинными клещами, помоложе — выученик, решил Михолап, — с испугу опустил молот себе на ногу, третий, почище одетый, заказчик, стало быть, пятился потихоньку к горну.
— Не бойтесь, — громко сказал Михолап. — Робьте, — и махнул рукой. — Я просто так, погляжу — и всё, — и заулыбался, чтобы приободрить их. Кузнец в ответ тоже несмело улыбнулся. Глядя на него, оживился и помощник. Заказчик же, пятясь, оказался за спиной Михолапа и юркнул за дверь. Дружинник с недоумением посмотрел ему вслед, ещё шире улыбнулся кузнецам.
— Робьте, — предложил им, — железо стынет, — и ткнул пальцем в наковальню. Кузнец кинул мимолётный взгляд туда же, но остался стоять перед странным посетителем.
— Может, почтенному воину надо что-нибудь починить? — наконец робко спросил он.
— Ничего не надо чинить, — осклабился Михолап. — Всё у меня ладно — и меч, и нож. Вот разве меня подковать, чтобы быстрее бегал, — и захохотал, довольный своей шуткой. — Эх вы, робкие да боязливые, — в сердцах молвил он. Подошёл к парню, решительно забрал молот, вскинул, как пёрышко, хмыкнул неодобрительно и слегка, даже не вполсилы, стукнул по начинающему остывать железу.
— О-о!.. — воскликнул кузнец и маленьким молотком застучал по заготовке, показывая, куда бить. Михолап махал молотом играючи. Мешал меч, но отстёгивать его было некогда — железо остывало.
Махнул кузнец молотком, давая знак прекратить работу, бросил поковку в горн, смахнул пот со лба, протянул руку Михолапу. Была она не маленькая, но утонула в лапище дружинника.
— А что выйдет-то? — спросил Михолап.
Кузнец наклонился, откуда-то снизу достал топор, подал гостю.
— Добрая секира, — тщательно осмотрев поковку, определил Михолап. Глянул в горн — железо доспевало. Неторопливо отстегнул меч, поставил в сторону, взял молот и приглашающе махнул рукой: «Давай». Кузнец не заставил себя ждать...
Хорошо размял кости дружинник. Хотя и казался молот лёгкой игрушкой, да вскоре прошиб пот и Михолапа. Работал истово, как бывало когда-то у себя в Новеграде, в кузне Радомысла.
Молодой помощник кузнеца, раздувая мех, украдкой поглядывал на солнечный луч, пробивающийся через щель в крыше навеса и медленно ползущий по земляному полу кузницы. Утомился и кузнец. Он уже несколько раз предлагал Михолапу отдохнуть, но тот не выпускал молота из рук. Весёлый перезвон железа далеко разносился вокруг.
Этот перезвон и привлёк незваных гостей. Михолап не слышал скрипа дверей. Поглощённый работой, он стоял к ним спиной, и только по тому, как дёрнулась непроизвольно рука кузнеца, едва не сбросив с наковальни раскалённую полосу металла, почувствовал, что на него смотрят. Круто повернулся. На пороге стояли пятеро. Те самые, из кружала. Лицо кузнеца, даже под слоем копоти и сажи, побелело. Помощник бросился в угол.
А гости, не обращая внимания на хозяев, потянулись к полкам. Ослеплённые сумраком кузницы, не сразу разобрались, где что лежит. Но вот один наткнулся на меч Михолапа. Михолап одним прыжком достиг татя. Не успел тот и дотянуться до чужого меча, как от мощного удара вылетел за двери. Сверкнул холодным блеском харалужный клинок. Попятились наглецы, признали в страшном кузнеце дружинника, что приплыл от словен со своим старейшиной к воеводе Рюрику. И протрезвели сразу, вспомнив строгий наказ: ссор и драк с гостями не заводить.
Озираясь на меч дружинника, воины покинули кузницу.
— И как вы тут, бедолаги, живете? — мрачно спросил дружинник и, не дожидаясь ответа, в недоумении передёрнул плечами. — Где это видано — врываться в кузню, без спроса хватать, что узрел. У нас ушкуи и то так не делают. Да очнись ты, — коснулся он плеча кузнеца. — Ушли, чать, и рукоделье побросали...
Кузнец заговорил — быстро, взволнованно:
— Ты добрый человек. Наверное, тебя послал к нам Святовит. Спрашиваешь, как живём? Вот так и живём. Передающему волю бога не до нас. Как только поселился рядом с Арконой бодрич Рюрик, наш воевода Боремир наполнил град своими дружинниками. Воин есть воин, он не ценит труда ремесленника. Может забрать всё, что подвернётся под руку. Особенно когда во хмелю, как эти. — В уголках печальных голубых глаз мастера — давно ли они озорно, с хитринкой смотрели на неведомо откуда свалившегося молотобойца — застыли слёзы. — Мы принесли жертву Святовиту и жалобу передающему его волю, он даже не дослушал нас, ушёл в святилище. Конечно, Святовит — бог воинов. Но разве могут воины обойтись без нас? — спросили мы воеводу Боремира. Он согласился: да, не могут, и обещал унять чересчур наглых. Но ты видел сам. Правда, я не знаю, чьи это воины — Боремира или Рюрика. Не вижу разницы. Придётся уходить из Арконы.
— Буде, буде, горю слезами не поможешь, — похлопал Михолап по плечу кузнеца. — В горле что-то запершило. Попить бы чего...
Поманил пальцем помощника, достал из поясного кошеля несколько серебрушек и махнул рукой в сторону кружала. Парень схватил стоявший в углу жбан, вылил из него воду и опрометью выскочил за дверь.
Грустно смотрел Михолап на худое, заросшее рыжим волосом лицо кузнеца. Негоже жить под ежедневным страхом. Жалко человека, да чем поможешь ему? Чужая беда — полбеды, когда и своей сверх головы.
Рюрик собрал на совет средних и младших начальников дружины. Воины должны знать задуманное воеводой. Тогда они не будут слепо выполнять его указания. Большой совет нужен и потому, что о замысленном с братьями знают только они трое. Приглашение же старейшины Блашко уже разошлось по всей дружине и начинает обрастать слухами. Весть о нём очень скоро дойдёт до Боремира, если уже не дошла. Неизвестно, что предпримет воевода ранов, но все знают о его намерении, если не подчинить Рюрика, то превратить его в покорного союзника. Много ли найдётся таких, кто молча снесёт крушение своих надежд? Боремир слишком силён для этого. Потому нужно готовиться и к возможному нападению.
Десятники и начальники выжидательно молчали. Они уже обговорили между собой выгоды приглашения словен и пришли к мнению: просьбу словен можно и нужно удовлетворить. Служба новеградским старейшинам выгоднее, чем ранам.
— Дружина моя славная и надёжная, — привычно обратился к ним воевода. — Вы слышали вчера приглашение новеградских словен, переданное нам старейшиной Блашко. Хочу знать ваше мнение.
Все они добровольно в разное время пришли к нему. Верили в его силу и удачливость. Не было оснований и у Рюрика сомневаться в их преданности. Знал: прикажет — и без слова пойдут выполнять его волю. Но пусть выскажутся. Десятники на Гудоя посматривают. Хорошо, начнём с него.
— Храбрец Гудой, должны ли мы принять приглашение словен?
— Должны, воевода, — вскочил мускулистый, до краёв налитой молодой силой и отвагой воин. — Мы знаем словен и их соседей. Думаю, усмирить весь и чудь будет нетрудно. Дольше повозиться придётся с кривичами, но с помощью новеградцев справимся и с ними.
— Хорошо, справимся. И всё же я хочу знать, — настаивал Рюрик. — После того, как мы установим мир у словен, кому бы пожелал служить десятник Гудой: новеградским старейшинам или ранам с их воеводой Боремиром?
— Мы сообща рассудили, — преданно смотрел Гудой на Рюрика, — что лучше служить словенам.
— А что скажешь ты, Переясвет? — повернулся Рюрик к пятидесятникам.
— Я бы хотел служить дружине и больше никому, — ответил Переясвет, старший возрастом из всех присутствующих, один из любимцев покойного старейшины Годослава. — Но сегодня это невозможно. И мы, — он обвёл глазами более молодых соратников, — советуем тебе, воевода, идти к словенам. Заключай с ними ряд на их условиях. Придём в Новеград, там будет видно...
— Говори яснее, Переясвет, — попросил Рюрик.
— По-моему, и так всё ясно. В третий раз раны нас не примут. Выходит, к словенам не в гости идём, навсегда. И к этому надо подготовиться как следует. Я думаю, что ты, воевода, не захочешь быть простым слугой новеградцев. Не хотим этого и мы. Поселиться в их землях и не быть слугами... Об этом будем думать там.
— Переясвет, ты разве забыл, о чём говорил старейшина Блашко? — спросил Синеус. — Он сказал, что словене зовут нас наказать весь и кривичей, а потом нам или возвращаться сюда, или оставаться у них на службе. Но как же мы можем поселиться в их земле или на землях их соседей, отказавшись от службы? А если они объединятся? Что станет с нами, ты подумал об этом, Переясвет?
Пятидесятник хмуро посмотрел на брата воеводы и нехотя ответил:
— Думал. Они не объединятся. Куда будем смотреть мы, если допустим это? Мой меч не боится врагов, но здесь оставаться нельзя.
— Согласен с Переясветом, — вмешался в разговор Трувор. — Здесь оставаться нельзя. Боремир не потерпит больше нашей независимости. Мы усмирим чудь и весь, возьмём богатую добычу. Заплатят и словене по договору. Синеус боится, что они объединятся. Но разве только эти племена живут там? В той земле племён бессчётно. При Гостомысле мы очень далеко не ходили. Теперь можем пойти на юг, захватим земли и заставим платить нам дань. Они постоянно враждуют между собой. Сломить их будет нетрудно...
— Слушайте, моя дружина, — поднялся Рюрик. — Зов словен для нас весьма кстати. Мы примем приглашение. Но пусть не думает старейшина Блашко, что ему удастся перехитрить нас. Он сам сказал, вы слышали, что от моей жены Милославы пойдут наследники правителя земли словен. Был бы жив князь Гостомысл, я бы поблагодарил его за этот сон. Даже если он приснился не Гостомыслу, а новеградским старейшинам, и они заслуживают благодарности.
Если хитрый старейшина Блашко думает, что, выполнив нужное для словен дело, мы уйдём восвояси — пусть думает. Это его дело. Я пойду туда не наёмником, не за серебро. Пока у моей жены нет наследника для словен, я буду сам наследником Гостомысла. Разве по всем установлениям муж не может наследовать то, что принадлежит его жене?
— Может и должен, — откликнулись начальствующие.
— Так вот, мы придём в Новеград мирно, как и положено хозяевам. И по праву хозяев накажем весь, чудь и кривичей. Договор мы заключим. — Губы его покривились усмешкой. — Не надо пугать их преждевременно. Старейшина Блашко пойдёт вместе с нами, чтобы не сеять смуты в Новеграде, если ему что-то не понравится здесь. Мало ли может случиться. Может, нам придётся нарушить мир с ранами, или старейшина услышит что-нибудь от наших дружинников. Он приглашает нас, пусть и идёт вместе с нами... И ещё одно, дружина моя. Когда будете пересказывать воинам вещий сон Гостомысла, добавьте следующее. Старейшины словенские отправили к нам Блашко, и сказал он нам: «Земля наша велика и обильна, а нарядника в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».
— Ты мудр, Рюрик, — одобрительно воскликнул Переясвет.
— Хватит нам скитаться по чужим землям наёмниками, — ответил ему, дружине и себе Рюрик. — Пойдём брать свою...
Старейшина Блашко искал случая переговорить с Милославой наедине. Уже больше недели сидел на Рюгене-Руяне, ряд с воеводой учинил, наблюдал, как поспешно готовили дружинники к походу многовесельные корабли, загружали их пищей, водой в бочонках и боевым припасом: доспехами, луками, стрелами. Добрые были луки — дальнобойные. И стрелы к ним такие же — на совесть строганные, тяжёлые, с железными иззубренными наконечниками. Худой доспех от такой стрелы не спасёт.
Дивился Блашко и кораблям. Новеградцы таких не имеют. Прошлый раз у Рюрика много хуже были. Эти могут враз поднять добрую сотню человек. И на ходу, подчиняясь двум десяткам весел, легки, послушны.
«Нам такие ни к чему, — утешил себя старейшина. — По волокам с такими не дюже управишься».
Утешать утешал, но и косил ревнивым глазом — уж больно по сердцу пришлись. Сравнивал свою насаду, тесноту носовины и с досадой хмурил брови.
Ряд с воеводой он заключил быстро. Рюрик был на удивление уступчивым. Не торговался, со всеми посулами словенскими согласился сразу. А кабы вдруг запросил вдвое больше, что тогда? Старейшины новеградские действовали на свой страх и риск, отправляя Блашко к Рюрику. Веча, что стало обычным по смерти Гостомысла, не собирали, с ремесленным и прочим людом не советовались. Сами приговорили, мол, время не ждёт, вдруг кривские к граду подойдут. Ежели новеградцы и зашумят, тем и оправдаться можно: для пользы града торопились. А Рюрику велели казны обещать помене, торговаться за каждую гривну. Потому и радовался Блашко, что Рюрик малым посулом удовольствовался.
А досадовал на то, что не отпустил его воевода сразу после учинения ряда. Лето, мол, на вторую половину повернуло, море скоро бурным станет, как на малой насаде путь держать? Пробовал Блашко убеждать, что словене на таких насадах и по Ильменю, и по Нево-озеру в любое время ходят. Рюрик соглашался: да, сам видел, но об отпуске гостя и слушать не хотел. Опять же — в гостях воля не своя. Пришлось старейшине смириться. Рюрик обнадёжил: со сборами не задержится.
А тут ещё своя дружина от рук отбивается. Не ропщут, но глядят неласково. Почудилось, вишь, Михолапу, что Рюриковы вои неладно себя в граде Арконе ведут, ремесленников примучивают до смерти. Ни торговать, ни рукодельничать не дают. Что увидят — тащат к себе.
Мало того, что себе забил голову бреднями, — других смутил. Даже к нему, старейшине, сунулся остерегать: как бы они у нас в Новеграде того не учинили. Блашко цыкнул на дружинника — забыл, что ли: плечом к плечу Торира рубили. Однако на сердце муторно стало. И сам видел — тихо в Арконе, непривычно как-то. Но гнал сомнения: чужая земля, чужие порядки.
Другой дружинник принёс весть совсем злую:
— А скажите, старейшина, правду вои болтают, что ты пригласил воеводу Рюрика княжить в Новеграде и владеть нами?
— Окстись! С ума спятил? — только и нашёлся сказать Блашко. — От кого слышал?
— Вой похвалялись. И Илмарус подтвердил. Сам знаешь, у Рюрика в дружине варягов Торировых немало собралось. Илмарус с ними дружбу водит.
— Найди Илмаруса, пусть придёт сюда, — велел Блашко.
Илмарус подтвердил. Дружинники, начальные люди и братья воеводы говорят, что словене пригласили Рюрика быть князем словенских земель.
Блашко метнул на Илмаруса грозный взгляд.
— Лжа! Нелепица! — закричал он. — Князя-воеводу за гривны не покупают, а я... — Вовремя остановился. Ещё того не хватало, чтобы чужому варяжине молвить: воевода, вишь, за серебро куплен.
— Как скажешь, старейшина, — угодливо согласился проводчик. — Я человек маленький. Что слышу, тебе и твоим дружинникам говорю. Стараюсь для тебя. В Скандию отдумал возвращаться. Если позволишь, к воеводе Рюрику в дружину пойду. Наши викинги приглашают...
— То опосля решим, — в раздражении отмахнулся Блашко. — Пока в Новеград не возвернёмся, будешь служить мне.
Совсем было собрался Блашко поручить Илмарусу сходить на женскую половину, передать Милославе его просьбу о встрече, и опять сдержал себя. Не след такое дело варягу поручать. До Рюрика дойдёт, тот спросит: какие дела у старейшины к его жене?
Не скажешь ведь, что сомненья одолели. Словенам воевода запомнился боевой подмогой в трудный час. Незваным пришёл — то и ценно. А ныне и зван, да слухи о нём вон какие идут. Проверить те слухи надобно, а как? Не поможет ли Милослава? Известно: ночная кукушка завсегда дневную перекукует. Нетто воевода задумками с женой не делится?
Куда бы ни шёл Блашко, от воеводской хоромины далеко не удалялся. Посматривал, не покажется ли где Милослава. Об том же предупредил и дружинников: увидят — мигом чтоб сообщили.
Повезло скоро. Сидел после трапезы в отведённом покое, подрёмывал от безделья. Не спросясь, влез в горницу Михолап, хмуро оглядел старейшину, кивнул на окно:
— Иди. К причалу она пошла. Ждать тебя там будет...
Сонная вялость мигом слетела с Блашко.
Встретились они с Милославой на берегу у огромного валуна. Стояла в лёгкой накидке, повязав голову платком, ждала. Ещё издали, заметив его, заулыбалась, пошла навстречу.
— Здоров буди, старейшина, на долгие лета, — звонким девичьим голосом ответила на низкий поклон Блашко. — Собралась к жене Трувора сходить, да тут твой дружинник сказал, что хочешь видеть меня. Что случилось?
— Княгиня наша, зорька ясная, прости, что потревожил тебя. Разговор есть. Хоть и жена ты Рюрику, а всё же наша, новеградская. Кровь Гостомысла, князя-старейшины нашего, в тебе. Прости, винюсь перед тобой. Сомненья одолели...
— Сомненья? О чём? Разрешу ли я их? Я ведь мало что знаю.
— Княгиня, дружинники бают, что позвал я мужа твоего княжить в Новеграде и володеть словенами. То лжа, безлепица. Не сам ли Рюрик тот слух пустил? Тебе, должно, ведомы мысли мужа.
— Откуда мне знать? Рюрик со мной о таких делах не советуется. Но он всегда верен слову. Вы ж ряд с ним уложили...
— То так, княгиня, — помрачнел Блашко. — Слухи одолели.
— Не доверяй слухам, старейшина. Через них остуда меж вами может случиться. А мне в Новеград хочется. — И жалостливо улыбнулась.
Не развеяла смуту Блашко Милослава. Как бы Новеграду вместо помощи худа не сделать. Не простят того новеградцы.
Хмуро смотрел Блашко на убегающую Милославу. Девчушка-юница, ей бы хороводы водить, а не мужней женой, хозяйкой, быть. Вот кабы сын у неё был. Кровь Гостомысла...
«Да что за безлепица блазнится, — одёрнул себя старейшина. — Другое в Новеграде порешили. На что нам князь? Сами править землёй станем...»
НОВЕГРАД: СЕРЕДИНА IX ВЕКА
Беспокойный характер у Вадима — в отца пошёл. Сын уважаемого родителя, головой чуть ли не в матицу упирается, ладью, поднатужась, один на берег вытащить может, так нетто дела такому молодцу при хозяйстве не найдётся? А он, что ни весна, как гусь перелётный, свистит свою ватагу и — айда из Новеграда. Добро бы по делу — с товаром или за товаром красным. Всё польза была б. А то ведь нет — землицы новой, вишь, размыслить охота. Толку-то с землицы той. Её, чать, в суму не положить и на торжище не вынести.
Осуждали новеградцы Вадима поперву, а потом махнули рукой: коли отец поперёк слова не молвит и ладью даёт и припас, пусть и убытки несёт от такого бездельного сына. Наше дело — сторона.
Потом-то многие поняли, что ошибались в молодце.
Олелька сына не корил и не осуждал. Когда тот первый раз на шестнадцатое лето от роду втайне ушёл в неведомый поход, отец рассердился и опечалился. Вадим был единственным сыном, любил его Олелька и многое прощал, хотя соседи часто жаловались на необузданное его буйство.
Всё лето неизвестно где пропадал сын с дружками. Олелька уже всерьёз подумывать стал, что сгиб парнишка. Но по осени ватага возвратилась. Обветренные, повзрослевшие и возмужавшие юнцы принесли в дом Олельки часть добычи — несколько десятков шкурок куницы, молча выслушали речь своего предводителя к отцу и, видя, что у Олельки глаза от удивления округлились и зажёгся в них неподдельный интерес, разошлись по домам — то ли спины родителям подставлять, то ли разумными речами, по примеру Вадима, их убеждать.
Вадим отчитался коротко:
— По реке Мете да по протокам её насчитали мы шесть становищ людских, а новеградцев там не бывало. Живут охотой да рыболовством, бортничают. Хлеба мало сеют, только для пропитания своего. Железа почти что не имеют. Куниц тех мы у них задешево выменяли — секиру отдали да нож. Приглашали они будущей весной приплыть, привезти одёжи да железа...
Знал сын, чем отца удоволить.
С тех пор и повелось. Каждую весну уходил Вадим в новый поход. Побывал в ближних соседских градах: Плескове, Изборске, Ладоге, что со времён Гостомыслова становища градом так и осталась. До Белоозера добрался. Выискивал селища, заводил знакомства, узнавал, чем богат край. В одном не мог убедить его отец: брать в ладью товаров поболе, торг вести не шутейный — взаправдашний. Отказывался Вадим, ссылаясь на тяготы неизведанных путей. Олелька не настаивал — молод ещё сын, как бы торговля его убытка не принесла. Спокойнее самому отправляться по стопам молодой ватаги, наперёд зная, какой и где ждут товар.
Зимы Вадим проводил в дружинном доме князя-старейшины Гостомысла. Вместе с воями учился без промаха выбивать стрелой малое яблоко, укреплённое на шесте, рубиться мечом и секирой, владеть копьём, как дятел клювом. Холили лошадей, проминали, чтобы не застаивались, приучали к сече — конь должен чувствовать седока, уметь подчиняться малейшему его движению. Иногда сопровождали Гостомысла на ловища или в полюдье, но то было редкостью — Гостомысл стал обилен годами, предпочитал сиднем сидеть в своём дворище. Но глаз и ум по-прежнему имел острый.
Заприметил прибившегося к дружине молодца и не единожды беседовал с ним. Разгадал старый князь-старейшина неуёмную душу юного Вадима и после первой беседы не "предлагал боле прилепиться к дружине прочно и постоянно. Но неизменно по осени, после возвращения Вадима из очередного похода, призывал к себе, пытливо, входя в каждую мелочь, допытывался о землях, где побывала ватажка, велел рисовать на бересте пройденные пути, хвалил за памятливость и, тыча сухим пальцем в неочерченную пустоту бересты, нетерпеливо спрашивал:
— А тут что, узнал ли?
Вадим в смущении пожимал плечами:
— Речка в сторону увела, князь, прости, не ведаю.
Гостомысл хмурился недовольно:
— Нам всё ведать надобно. Словенам не только в Новеграде да Ладоге жить. Новеград не край, а центр нашей земли, помни о том. Я не доживу, твои дети жить будут и соберут под руку Новеграда всю ту землю, куда ныне ты ладьёй ходишь, словно в иноземье. Не иноземье то — пустоши великие. Заселят их словене, и станут те землицы под рукой Новеграда.
Вадим робко возражал:
— Люди-то там есть, князь-батюшка. Мало их, но есть. Не пустоши. Вот ныне на поселение наткнулись. Тамошние люди себя карелой прозывают...
— Не разумен ты ещё, — смеялся Гостомысл. — То и добро, что люди есть. Иначе нам какой прибыток от тех земель? Ну да ладно, заговорился я с тобой. В разум войдёшь, сам сообразишь, на что те люди Новеграду надобны. Нынче же одно крепко помни: град наш — центр земли, к нему все пути ведут...
Шумит Новеград. За два года, минувших со смерти князя Гостомысла, привыкли все дела, большие и малые, решать скопом. Иначе уже и не мыслилось. Что нам старейшины! Мы сами себе старейшины! Слушай меня: ведь кривские, поганцы, побили нас — то полдела, с кем не бывает? Нет, они же ладьи наши не пущают по Ловати да Шелони. То терпеть можно?
Это ж когда было, чтобы новеградцы не могли на своих-то отчих местах промысел вести? Полез на свои ловища, а там плесковцы. «Вороти оглобли, — кричат. — Ещё раз сунешься — башку открутим». Едва ушёл. Это как же — моё у меня отобрали — терпеть? Ещё и посмеялись: «Дружину-то новую собрали? Оборонились?»
Захребетники, затынщики! Вам бы только за сарафан бабий уцепиться. Набили по мордасам плесковцы, вот и жмётесь к граду, как паршивый пёс к будке. Хвосты поджали. И дела вам нет, что кривские завтрева в Новеград войдут. Вона — меч на поясе заржавел...
Не дадим по зубам плесковцам, и весь на нас насунется. Мирно вроде живём с ними, а в Белоозеро с опаской ходим. Косятся на нас, товары хают, цены настоящей не дают. Им прибыль, нам убыток, нам убыток — вам невмочь будет, сами везите ваши рукоделья. Много ли наторгуете, поглядим...
Шумит Новеград. В центре торжища сражается со старейшинами Вадим. Требует от старейшин идти походом на плесковичей.
...Зиму того года Вадим прожил беспокойно. Не стало привычного дела: со смертью Гостомысла пошатнулась дружина. При князе кормились его заботами и с его стола. Кормы шли не только по обычаю, но и за труды немалые. Новеградцы привыкли довольными улыбками встречать санные обозы с данью полюдной, а как ту дань собирать доводится — особо не задумывались. То забота князя-старейшины.
В первую осень по смерти князя, как только сковало морозом реки и болота, старейшины повелели дружине идти в полюдье. Дружина отправилась знакомыми, не раз торёнными путями и встречена была по установившемуся обычаю — без радости, но покорно, дань положенную собрала и в Новеград доставила. Уже при отъезде старейшины чудские как бы между делом обмолвились:
— Гостомысл-от, слышали мы, ушёл в страну, из которой не возвращаются. Вам бы, словене, подумать: всё то, что от нас ныне увозите, не вашим трудом добыто. Иной раз и стрела меняет направление полёта...
Божедар, за старшего оказавшийся, жёстко усмехнувшись, ответил:
— Князь наш умер, да мы-то живы. И вам, старейшины, об этом тоже подумать надобно...
Михолап, тут же случившийся, заметил, как гневно вспыхнули глаза чудских старейшин, и попенял потом другу:
— Полегче надо бы, Божедар. Ныне не силой князя держимся. Как бы в другой раз нас стрелами не встретили...
Божедар отмолчался. И только в Новеграде, когда большая часть дани той уплыла неведомо куда, помимо княжого дворища и дружинного дома, в сердцах грохнул кулаком по столешнице:
— Мы кровь лили в походах с Гостомыслом, а старейшины ноне рассудили по-своему...
Старейшинам же словно и дела нет до дружины. Живите, как хотите, хоть бы и совсем вас не было. Вот тебе и старейшины. Быстро забыли Торирову грозу. А чего другого и ждать-то от них? Так уж повелось со времён Славена, что в роду главенствовал старший. Как отец в семье, так и он в роде. Тогда род семьёй и был. А ныне где они, семьи-роды? Давно уж их нет, и памяти не осталось.
Старейшин теперь больше по улицам-концам считают. Да по рукодельям. У ковалей свой, у гончаров свой, древоделы-плотники тоже отстать не хотят, ну и иные прочие.
С этими старейшинами проще, не они град блюдут. Их дело мастеров судить-рассуживать, чтоб порухи рукоделью не было.
А град уличанские старейшины сообща блюдут. Сходятся на совет в градскую избу близ торжища, там и решают все дела. Хотя и надумали когда-то сажать одного во главу совета, да решение то до первой свары продержалось.
Иной раз и полдня, а то и целый день сидят, разговоры ведут неспешные, и всё больше про торг. Известно, у кого что болит... Уличанские старейшины от торжища кормятся. О дружине же ни слова. Заботами Божедара с Михолапом сторожа стенная да воротная поддерживается, как прежде, и ладно. Когда же малые воеводы попытались сунуться на совет старейшин, их и слушать не стали. Только и уразумели они из путаных речей старейшин, что кормы град дружине даёт и пусть дружинники своё дело исправно справляют. А какое дело, если вои дорогу в дружинную избу забывать стали, по своим углам сидят, в рукоделье ударились?
Об этом Вадим и поведал отцу. Как-никак Олелька — старейшина уличанский, хотя на совет редко ходит.
— Говоришь, дружина в небрежении? Только ли дружина? Град в небрежении держат, не то что дружину. Голов много, а ума нет. Скопом только бражничать сподручно, а серьёзные дела в одну голову размысливать надобно. Как при Гостомысле было. Он совет со всеми держал, а решал сам.
— Так он князем был, — возразил Вадим. — Нынче в дружине такого нет...
— Не о дружине толкую, — сердито, как показалось Вадиму, ответил Олелька. — Не Новеград для дружины, а дружина для града. С воями и Божедар управится или Михолап. Дело нехитрое. Граду одну голову иметь надо. Да такую, чтобы её все прочие слушались. Уразумел?
— Так ведь старейшины, — начал Вадим, но отец, поморщившись, перебил:
— То-то, что старейшины. Они скопом-то перелаются, а как с дружиной твоей быть, решить не могут. Надо, чтобы над старейшинами старейшина был... — помолчал и круто повернул разговор: — Ныне весной в поход не пойдёшь. Тут делов хватит. Да и женить тебя пора...
Лицо Вадима от неожиданности вспыхнуло румянцем. Отец того словно бы и не заметил. Суровее прежнего сказал-приказал:
— Так велю. Насиловать в выборе жены не буду, но коли сам не присмотрел, я найду, — опять помолчал и вдруг лукаво глянул на сына: — Искать, что ли, или сам наглядел?
— Наглядел.
— Кто такая? — живо спросил Олелька.
— Людмила, дочь Божедара...
— Ага... Добро. То-то ты всё в дружине пропадаешь. Ну и ладно, будем к свадьбе готовиться. — И опять резко: — А граду голова нужна. Об этом до времени забудь, а час подоспеет — напомню.
Свадьбу справили по весне. Три дня шумели новеградцы на подворье Олельки, крича «славу» молодым, поднимая чары и братины, желая счастья и будущих сынов-дочерей.
Лето красное пролетело. За забавами с молодой женой не заметил Вадим, как ушла в полюдье в кривские земли малым числом дружина. Остудила хмель буйной крови злая весть: дружину плесковцы не добром встретили — сечей. Полегло в ней полтора десятка воев. Возвернулся Божедар с остальными без дани и с рваной метиной на щеке от стрелы...
Зиму провели в тревоге — ждали кривских. Слышно стало: сговариваются с весью о совместном походе на Новеград. Старейшины рядили и так и этак. Олелька совсем перестал ходить к ним на совет. На предложение Вадима ударить в било, собрать новеградцев и порешить самим идти походом на плесковичей Божедар и Михолап отмалчивались. Без согласия старейшин дружина в поход не пойдёт, ремесленный, торговый люд — тоже. Ни кривские, ни весь, ни чудь новеградцам большого зла не сделали, и люди на них злобой не рвут сердце. Старейшины же о походе молчат, не верят боле в силу дружины.
Весной исчез Михолап. Уплыл куда-то старейшина Блашко. Потом известно стало, что весь отложилась от кривичей. Но плесковцы пуще прежнего стали задирать новеградцев...
Олелька виду не подавал, что волнуют те вести и его. Казалось, с головой ушёл в торговые дела. Снаряжал ладьи, одни отправлял в Белоозеро, другие к карелам. Доверенным внушал не отказываться от последней веверицы-белки, коей и цена-то грош, так, безделица. Однако сам в дорогу не торопился. Чего-то выжидал.
Взбудоражил град охотник Онцифер. Завернули его плесковичи с облюбованных мест, ещё и посмеялись. В другой раз, может, и сами новеградцы потешились бы над незадачей Онцифера, но на сей раз восприняли его обиду как свою кровную.
Олелька позвал Вадима к себе. Плотно притворив дверь, строго глянул сыну в глаза.
— Ватага твоя не разбрелась?
— Нет, батюшка. Куда им без меня, — улыбнулся Вадим.
— Помнишь ли наш разговор, что граду без головы не жить? То хорошо, что помнишь. Теперь слушай, сказывать стану...
И вот шумит Новеград. В центре торжища на лавках сидят уличанские старейшины. Неведомо кто без указа ударил в било. На вече сбежался весь град. Пришлось и старейшинам поспешить. И вот сидят, молча слушают Вадима. А он, ровно кочет, вышагивает, долдонит одно: походом на Плесков идти, довольно обиды терпеть.
Молод ты ещё, Вадим, неразумен. Рано тебе со старостью да мудростью тягаться. Наряды на уме да потехи. Вишь, вырядился, меч дорогой пристегнул, алой епанчой щеголяет, руками машет, не говорит — покрикивает.
Старейшины сидят насупившись — разве такие дела всенародно на вече решаются? Эх, Вадим. Поживи с наше, дело своё заведи, чтобы не из-за отцовой спины выглядывать, тогда поймёшь, что громкие дела в тиши горниц решаются. А пока кричи, мы послушаем.
Благодушно улыбается старейшина Домнин. Переглядывается с другом-соперником Пушко. Мысли у обоих схожие. Отправляя Блашко к Рюрику, думали в одну голову.
Чем больше распаляется Вадим, тем приветливее становятся лица старейшин. Можно подумать, сейчас согласятся и примут решение о походе на кривичей. Кивают седовласыми головами, поощряют, но молчат. И опять настаивает Вадим. Жаль, нет на торжище отца его, Олельки. Чтобы вразумил неразумного. Захворал али нарочно не пришёл?
— Старейшины! Забыли вы о чести новеградской. Долго ли кривские будут измываться над нами? Убытки терпим немалые, а вы и того больше. Дай волку палец, он всю руку отхватит, а там и до смерти загрызёт. Подумайте о том, старейшины. Не разрешите добром поход, новеградцы не послушают вас. Вам же хуже будет.
Перестали улыбаться старейшины. Первый раз Вадим прибегнул к угрозе. Не понравилось. Не бывало того, чтобы молодшие старших стращали.
— Цыц! С кем говоришь?! — поднялся Пушко. От злости даже борода, тронутая сединой, затряслась. — Не бывать самовольству. Молод учить. Знай своё место...
— Место моё в походе, — прервал старейшину Вадим. — Протри глаза, Пушко, глянь вокруг. Все новеградцы согласны со мной. Походу быть, и худо вам придётся, ежели против града пойдёте...
— Тому не бывать, — подал голос Домнин, однако с тревогой посмотрел на толпу. Что-то не понравилось ему в ней: шумна больно, криклива. Никогда не отличались тихим норовом новеградцы, но сегодня наособицу неспокойны. Словно кто-то нарочито волнует людей.
— Думал я, старейшины, миром с вами договориться, — неожиданно совсем тихо сказал Вадим. — Не вышло. Ну, ин быть по-другому, — и показал им широкую спину, обтянутую алым сукном.
— Новеградцы, слушайте меня! — Голос его перекрыл шум площади. — Доколе будем терпеть урон чести нашей и надругательства плесковичей-кривичей? Побили они дружину нашу, а сколь воев в ней было? Пережили мы стыд великий, ждать надо — плесковичи дань потребуют. Ловища наши за себя взяли, ладьи с товарами не пропускают, грозятся и сюда, в Новеград, прийти. Можно ли терпеть? Али сила наша иссякла? Али луки держать разучились? Согласны ли дань платить кривским? Сегодня потребуют богачество наше, а завтра из изб выгонят. Решайте, новеградцы: дань ли платить, биться ли?
— Биться станем! — взорвалось торжище. — Биться! Что нам дружина! Они, ленивые, за Гостомыслом привыкли бражничать. Их побили, не нас.
— А вот старейшины наши противятся походу! — опять повысил голос Вадим.
— Не слушаем старейшин! — раздались многочисленные голоса. — Пусть сами дань платят! Убирайтесь вон! Не надобны!
Вадим повернулся к старейшинам и столкнулся с холодным прищуренным взглядом Домнина. Старик молча встал рядом с ним, легонько (Вадим почувствовал: много ещё силы в этом кряжистом, хотя и подсохшем теле) отодвинул его плечом и поднял руку. Ждал, пока на торжище установится тишина.
— Новеградцы! — спокойно повёл речь. — Мы не можем сейчас идти походом на плесковичей. Время не благоприятствует, сами знаете. Скоро хлеба убирать... Счастье воинское переменчиво. Побьют нас в другой раз — кончится род словенский...
— Не пугай, старейшина, не пужливые, — прервал речь Домнина молодой задорный голос.
— А я и не пугаю тебя, — в примолкшую толпу, откуда прилетел этот возглас, сказал Домнин. — Пугать неча. Пойдём ныне в поход — с голодухи перемрём. Испужаешься, ежели жив вернёшься, когда дети малые хлеба запросят, а его не будет. И ещё потому в поход идти нельзя, что одни мы. Союзника доброго да надёжного найти надобно...
— Пока союзников ищем, плесковцы ждать будут? — прервал старейшину Вадим. — Глупее нас их мыслишь? Может, они уже к Новеграду идут...
— А не трепись перед народом о том, чего не ведаешь, — спокойно ответил Домнин. — Нам, старейшинам, ведомо: плесковцы в поход на нас не пойдут. Другими делами заняты.
— Пошто вы, старейшины, те вести от нас прячете? — вновь раздалось из толпы. Этот возглас всколыхнул многих. Заволновался народ. На помощь Домнину поспешил Пушко.
— Это кто такой умный выискался, что винит нас в сокрытии вестей? — закричал он. — А зачем мы пришли сюда, побросав дела? Плесковцы свару завели с соседями из Камно-городища. Не до нас им...
— Значит, сам Сварог помогает нам, — опять вышагнул вперёд Вадим, оттиснутый старейшинами. — Надо жертву ему принести да быстрее в поход собираться. — И он с силой взмахнул рукой.
Площадь словно ждала этого сигнала. Зашумели, заговорили во всех концах.
— Собираться...
— Неча ждать...
— Каки союзники? Где они? Самим надоть...
— Ден за пятнадцать управимся. Набьём хари плесковцам, помнить будут.
Никак не хотели новеградцы терпеть дальше поношения кривичей. Подзадоривал и Вадим. Переходил от одной группы к другой, покрикивал возбужденно-радостно:
—В поход! В поход!
Между тем старейшины собрались в тесный кружок, советовались: как быть? Сказать о посылке за помощью к бодричам или нет? Неизвестно, как воспримут это известие взбудораженные новеградцы. Не покидают ли их, старейшин, в Волхов, не разорят ли хоромы? Не сказать — уведёт их Вадим неразумный в поход. Победят не победят, а Рюрику платить всё едино придётся. А и победят, ляжет их немало. А платить кто будет? С кого гривны да куны собирать?
Выходило, и так плохо, и наоборот — не лучше. Решили рискнуть. Уговорили старца плотницкого конца Олексу: ты, мол, самый старый, тебя послушают.
Был Олекса в годах весьма преклонных, спина сгорбилась, дрожали руки, красно говорить никогда не умел, а тут совсем заикаться стал. Поднялся на скамью — на него никто и внимания не обратил. Попробовал утихомирить вече Пушко — не мог перекричать споривших. Оглянулся на старейшин: как быть? Тогда Домнин схватил пест и ударил в било.
Разом умолкла площадь. Не принято было в разгар веча прибегать к билу. Все выжидательно и несколько тревожно смотрели на Олексу: что скажет?
— Новеградцы! Мы тут... я... Нельзя нам в поход идти, — начал он негромким глухим голосом. — Нельзя. Подождать надо...
— Чего ждать?! — крикнул Вадим.
— Рюрик с дружиной придёт. Вместе с ними надоть... Мы послали к ним...
— Рюрик?! Какой Рюрик? Тот, что с бодричами приходил? — загремел Вадим. — Когда послали? Пошто без совета с нами?
Молчал Олекса, другие старейшины не спешили к нему на помощь. Пугало наступившее молчание.
Опомнился Вадим. Рванулся к старейшинам — те попятились перед ним. Схватил за руку Пушко, вытащил вперёд.
— Говори, старейшина! Всё рассказывай! С кем думу думали? На каких условиях с Рюриком столковались? Каку плату им обещали? Сколь дружины у него? Когда придут? Всё говори! — В самых дальних концах торжища слышно его стало.
— Убери руки, ушкуйник! — пронзительно взвизгнул Пушко. — Не тебе мне ответ давать! Кто ты есть?
Забылся старейшина. Не в своих хоромах шумел — перед новеградцами стоял. Неразумное слово вылетело, каждому в душу пало — не вернёшь.
Вадима ушкуйником прилюдно назвал — полбеды. Но бодричи? На помощь званы? Без нашего согласия? Разве то дело одних старейшин? Судьбу града — да что града — всей земли за нашей спиной решают? Потай? Когда такое было? Гостомысл и тот по важным делам совет с людьми держал. А эти?
Вышел вперёд кузнец Радомысл. Не сводя глаз с Домнина, обратился к нему подчёркнуто спокойно:
— Ты, старейшина, тож совет держал о бодричах?
Побагровел Домнин, угадывая за спокойствием кузнеца надвигающуюся беду, но отказаться отвечать не посмел.
— Одной головой думали, — вымолвил неохотно.
— О других знать не хочу, — всё так же спокойно и негромко, но так, что услышали все, сказал Радомысл. — Других пущай другие спрашивают, а ты старейшина нашего конца. Пошто с нами, ковалями, совета не держал?
Домнин, опустив голову, молчал.
— Эй, братья-ковали! — поднял голос Радомысл, поворачиваясь к толпе. — Надобен ли нам такой старейшина, коли он против нас стоит?
— Не надобен! Не хотим его! — вразнобой ответили десятки голосов.
— Других старейшин пущай другие пытают, а тебе, Домнин, мы, ковали, говорим: отныне твоё слово нам не слово. — И неторопливо, тяжело шагая, затерялся в толпе своих товарищей.
Такое случалось нечасто. Давно миновали времена, когда род выбирал старейшину и мог сместить его за серьёзную провинность. В Новеграде уличанскими, конецкими[23] старейшинами становились по уважению, а чаще всего — по достатку. Нынешние старейшины восприняли свои обязанности от отцов — не по уму, по новоявленному обычаю. И по тому же обычаю, но более древнему, в любой момент могли потерять власть.
Единодушное мнение кузнецов в один миг превратило Домнина в рядового горожанина.
Пример заразителен. Новеградцы нашли выход накопившемуся гневу. Один за другим выслушивали старейшины традиционное: «Отныне твоё слово нам не слово».
Под насупленными взглядами, окружённые грозным молчанием, они покинули торжище.
Вадим растерялся. Не то наказывал отец. Надо было подтолкнуть новеградцев к мысли об избрании старейшины старейшин, чтоб те под его рукой ходили. А вышло...
И как же теперь быть с кривскими? Начатое не бросишь... Будь что будет...
— Новеградцы! — закричал во всю силу немалой груди. — Старейшин нерадивых мы наказали. Решать надо: пойдём ли в поход на Плесков али бодричей ждать станем? И придёт ли Рюрик тот?
— Ты-то сам как думаешь? — откликнулось сразу несколько голосов.
— Думаю, неча нам ждать союзников непрошеных. Сами управимся. Не надобны нам бодричи.
— Правильно! — загудело торжище. — Пусть возвертаются, откуда пришли. Сказывай, что делать будем? Теперь ты у нас за старейшину. Сказывай.
— От старейшинства отказываюсь — чести много. Какой я старейшина. — И он ещё круче выпятил грудь, развернул плечи. — Моё дело в поход идти, а об градских делах думать — борода ещё не побелела, — и засмеялся первым, подавая пример. Захохотали и новеградцы, словно действительно что-то смешное было в том, что у двадцатилетнего мужика борода ещё кучерявая и чёрная. — С родителем своим ещё не сравнялся, так что старейшиной мне быть негоже. А с плесковцами дело делать надо спешно. Пока они не проведали о сборах наших. Сегодня брони одевать, у кого есть, с жёнами прощаться, а завтра в поход выступать. Я так думаю. Согласны ли?
— Согласны! — закричал кто-то из ватаги Вадимовой.
— Согласны-то согласны, — откликнулся другой, — но как град без головы будет? Того нельзя. Сами слышали, бодричи могут вот-вот пожаловать...
— Правильно! Граду старейшина надобен. Такой, чтобы его не только мы, но и уличанские старейшины слушались. Так ли я говорю, новеградцы? — крикнул ладейный мастер Слинька.
— Так! — ответили ему ближние и дальние. — Чтоб как при Гостомысле.
— А коли так, то кого ж старейшиной посадим? Кому доверим дела градские вершить? Сдаётся мне, под силу то старому Олельке!
— Добре придумал Слинька! Олельке град можно доверить!
— Где Олелька?
— Тащите его сюда!
— В поход собираться пора, время не ждёт!
Вадим торопился к дому. Получилось даже лучше, чем думали с отцом.
Князь кривский Стемид, прозванный насмешниками-новеградцами князьком Стемидкой, сидел безвылазно в Плескове. Тяжёл был на подъём: едва-едва с великими потугами, после многократных жертвоприношений, собрался против новеградцев и, задавив их малую дружину силой, собранной со всей земли, совсем перестал думать о примучивании соседей. Старейшины ближайших родов возроптали — идучи на битву, рассчитывали дань богатую со словен получить, а Стемид не только на Новеград не пошёл, но и послов, чтобы дань потребовали, до сих пор не отправил. Отмахивался от старейшин, как от надоевших комаров, а коли донимали — отправлялся на любимые ловища.
Вот и сегодня с утра пораньше Стемид ужом хотел улизнуть один-одинёшенек на свою потеху, да старейшины перехитрили: ни свет ни заря всем скопом явились в хоромину князя. Влезли без спроса, согнувшись поневоле под низкой притолокой, расселись по лавкам, подпёрли спинами тяжёлые прокопчённые лесины хоромные и молча уставились на сборы Стемида. Тот даже плюнул с досады на тесовый пол, а им хоть бы что — словно и не заметили. Бросил с досадой Стемид лёгкий лучок в угол, сел на скамью поодаль.
— За утицами, Стемид, собрался? — задал ненужный, совсем глупый вопрос старейшина Борич.
— А вы чего припёрлись? Я звал вас? — неласково ответил Стемид. — Или у тебя дела нет, Борич, что с утра словами играть собрался? Тебя слова кормят? Пока тут просидите, гребень бы вырезал...
— Слова меня не кормят, Стемид, — с обидой ответил Борич. — Гребень я вырежу, твоей жене подарю. Однако и ты не простой охотник, чтобы каждый день в пущу шляться. Ты князь наш, тебе решать дела не только своей семьи, но и всех родов наших надо.
Другие согласно закивали головами.
— Слышал я это не раз, — досадливо махнул рукой Стемид. — Ничего нового не скажете. Какого рожна вам опять надобно? Снова поиграть копьями захотели? Понравилось? Так я вам вот что скажу: поход против новеградцев ни к чему был, могли бы миром уладиться. Отказались бы они от дани и так. А вам, вишь, не понравилось, что соседи с товаром по нашей земле ездят. У них гребни-то получше твоих, Борич, вот ты и взбеленился. А ты, Нетий, нешто не мог миром решить, кому на каких речках рыбу ловить...
— Не то говоришь, Стемид, — поднялся с лавки невысокий Нетий. — Ты — князь, тебе каждый наш род от своих запасов посылает, ты можешь и не охотиться — проживёшь. А мы? Меня с моей земли выгоняют, а я терпеть должен?
— Не о том речь, — перебил недовольно Нетия Борич. — То дело сделано. В одну голову думали. А вот вчера к нам опять с городища лаяться приходили. Ты, мол, князь, ты в Плескове живёшь, пошто городищенские не помогают нам Плесков крепить: тын подновить, ров углубить?
— А пошто они за нас то делать должны? — в свою очередь спросил Стемид. — Нам надобно град крепить, мы и робить должны.
— Мы-то робим, Стемид, — подал голос ещё один старейшина, — а вот новеградцы насунутся, возьмут Плесков на щит, так и городище и Изборск дань опять давать станут. Устоит Плесков — новеградцы дальше не сунутся.
— Опять вы о том же. И слушать не хочу.
— Сейчас слушать не хочешь, а коли они завтра подступят, что делать будем? Ты людей по городищам и селищам распустил, а ряда с новеградцами не учинил, дани с них не взял...
— Мало того, что зиму без дела провели, мечами да копьями пробряцали, так вам бы хотелось и летом тем же заниматься. Потому и дани не требовал и не потребую — люди должны от своего рукоделья кормиться, а не чужими достатками...
— Однако ж, Стемид, рукодельем надо заниматься, когда врагов не ждёшь, а коли ждёшь — град крепить надо. Помощь всех родов требуется, — спокойно сказал Нетий. — Чует моё сердце: придут новеградцы. Не простят они нам разгрома их дружины. А ты на охоту ходишь... — горько добавил старейшина. — Не утицами ноне душу тешить надо, а ехать тебе, князь, спешно в роды, поднимать людей...
— И ещё то скажу, князь, — добавил Борич, — не токмо укреплять Плесков надо. Посмотри на словен — у них град хоромами всё больше изукрашивается. А мы живём, как деды и прадеды в городище жили. Нешто тебе, князю, в такой избе жить пристало? Глядя на тебя, и мы живём так же. Упрекнул ты меня: гребни мои хуже новеградских. Я стерпел. Однако ж так скажу: не за гребни сердце распалилось, а на заносчивость словен. Мы для них как звери лесные, и ты не князь, а князёк Стемидка. Езжай, князь, по селищам, пусть люди нашего племени сюда, в Плесков, идут. Мы же тут к обороне готовиться станем...
Тяжело вздохнул Стемид. Сидел бы сейчас у ручья, затаившись, ждал селезня, но... в словах старейшин была горькая правда — не до охоты.
Новеградская дружина, наспех сбитая, но хорошо оборуженная, ломилась лесными тропами — для спрямленья — к Плескову. Воеводствовал Вадим — так приговорил Новеград и утвердил посаженный старейшина Олелька. Шли, поспешая, перехватывая по пути всех, кто успел спрятаться в лесной глухомани. Селений не зорили, пожитья не трогали — об этом дважды наказывал Олелька:
— Не за данью идёте, мира ради. Утихомирьте сердца. Коли без брани можно обойтись — чего бы лучше. Ряд уложите, чтоб новеградцам никакого утеснения от кривских не было. Не согласятся на то — бейтесь. Однако помните: времена смутные, с чем бодричи придут — того не ведаем. По прежним временам судить, так добра от них надобно ждать. Да времена-то меняются, как и люди. Помните то, головы берегите да воеводу слушайтесь. Его слово — моё слово.
Как ни поспешали, а плесковичей врасплох захватить не удалось. Перед последним ночлегом привела сторожа походная к Вадиму пожилого рыбака, схваченного на берегу безымянной речки.
Понуря голову, стоял перед Вадимом кривич. Среднего роста, кривоногий, на вид — силы изрядной. Смотрел в землю, но на вопрос Вадима: что делал на реке в такое время? — смело вскинул голову, независимо глянул на воеводу.
— Рыбалил на зорьке. А чего мне таиться? Я на своей земле, это вы в чужую пришли...
От него и узнали, что Плесков укреплён, а старейшины с князем Стемидом ждут их и к встрече изготовились.
Рыбака, связав, бросили под куст: сумеет от пут освободиться — его счастье, нет — на обратном пути в путах же в Новеград поплетётся.
Ещё издали Вадим увидел, что Стемид Плесков оборонил: частокол щетинился заострёнными плахами, за ним лучники во весь рост стояли. Они-то сверху, а новеградцам снизу на тот частокол лезть. Под стрелами да под градом камней. А перед частоколом Стемид и войско поставил, помене, чем тогда на новеградскую дружину навалилось, но одним ударом не сомнёшь.
Велел Вадим своей дружине становиться на место бранное, но с командой начинать побоище медлил. Раздумывал, какою бы хитростью Стемида от града подальше увести.
Дружины меж тем в ругани изощрялись, распаляли себя. Так до вечера и простояли. Вадим велел своим до утра отойти от града под защиту леса, выставив сторожу. Послушались без радости, но и без ропота. Вечерняя роса поохладила пыл. Ушли и кривичи в Плесков — ворота града, дубовые, окованные железом, тяжело затворились. За тыном запылали костры.
Хитрости Вадим и за короткую летнюю ночь не измыслил. Приступать к граду, в котором укрылось столько воев, было неразумно. Окружить, никого не выпускать из него, взять измором — дружины мало, и время потеряешь. Единственное, что решил Вадим (если Стемид не выведет утром свою дружину): на виду начать готовиться к приступу: лестницы вязать, хворост сухой собирать. На приступ он не пойдёт, но, увидав приготовления новеградцев, Стемид должен выйти в поле. Не глуп же он, поймёт: десяток новеградцев, меченных стрелами, ляжет, один доберётся с хворостом, подпалит тын. Если со всех сторон навалиться, сверху не зальёшь. Да и лучники дремать не будут.
Всё это Стемид не хуже его, Вадима, знает. Потому выведет воев из града, а там пусть рассудит меч. Завтра Вадим не будет колебаться.
Утром, едва дружинники разлепили глаза, а кашевары захлопотали у костров, градские ворота распахнулись, и высыпала кривская дружина. Не до еды стало новеградцам. Расхватав мечи, копья, луки, поспешили на вчерашнее поле. Торопливо занимали определённые каждому места, готовились по первому сигналу воеводы двинуться на противников, с ходу засыпать их стрелами.
Вадим выжидал, зорко следя за последними приготовлениями к сече. Чуть больше восьми сотен градских и дружинников привёл он к Плескову — и все молодец к молодцу. Вот сейчас махнёт он рукой и пойдёт искать Стемидовой смерти...
Уже и поднял руку воевода, чтобы подать сигнал, как вдруг увидел бежавшего к нему человека. Всмотрелся Вадим и вместо сигнала бросился тому навстречу.
— Михолап? Откуда? Где пропадал? Что случилось?
— Погоди... Успел я всё же... — задыхаясь, ответил Михолап. — Конь пал... Не начинай сечу... Рюрик на Новеград идёт...
— Как на Новеград? Давно ли?
— Я от них с Нево-озера утёк... Едва вырвался... Торопился упредить, однако ж вас в граде уже не застал. Отец твой, Олелька, сюда послал... Возвертаться надо, и быстрее...
— Погодь. Ты же видишь, дружина к сече готова. Плесковцы по стопам за нами пойдут...
— Плесковцы не враги, враги к Новеграду идут. Я такого насмотрелся... Молвить некогда...
Несколько мгновений, которых хватило бы для полёта стрелы от одной дружины к другой, стоял в раздумье Вадим. Потом круто повернулся и бросил на ходу Михолапу:
— Если увидишь, что со Стемидом мирно говорю, веди дружину к Новеграду, я догоню.
Прошёл мимо расступившихся перед ним воев и твёрдо направился к кривским. Посередине полосы, разделявшей две дружины, остановился, вглядываясь в лица противников. Любой кривич мог докинуть стрелу до него — ни одна не взлетела.
— Князь Стемид, слово молвить хочу! — услышали обе дружины.
Тотчас от кривичей долетел ответ:
— Ты пришёл на нашу землю биться, так о чём нам говорить? Твоя дружина готова, мы — тоже, начнём сечу.
— Князь Стемид, много крови прольётся. Богатую жертву принесём. Не хочу того. Пусть отойдут наши дружины, а я, безоружный, жду тебя. — И он, сорвав с перевязи меч, отбросил его в сторону. Стоял, ждал. Слышал, как загомонила сзади дружина, потом донёсся глухой повелительный голос Михолапа. Не оглядываясь, почувствовал смятение своих и их поспешное отступление к лесу. Дрогнули и кривичи, повинуясь приказу Стемида, и нестройно начали отходить к Плескову. На месте остался высокий сутуловатый человек в богатом доспехе. Он пристально смотрел на Вадима, потом неторопливо скинул через голову перевязь, бережно положил на землю меч и пошёл к новеградцу.
Чем меньше оставалось пройти Стемиду, тем пристальнее всматривался в него Вадим. Когда-то в юности, единожды, сопровождая отца в торговом пути, попал он в Плесков к этому вот человеку, что неторопливо и настороженно приближался к нему. Тогда удивил он Вадима убогостью своего жилища и простотой разговора с гостями. Вспомнилось не к месту, как на обратном пути дважды переспросил у отца: нешто у князя кривского были? И всё сравнивал его с Гостомыслом и не мог понять, как же такой смерд князем может быть?
Стемид остановился напротив Вадима. Долгую минуту пристально вглядывался в него. Чуть дрогнули губы противника. То ли в усмешке, то ли в презрении. Вадим не понял, да и движение то было мимолётным, как взмах ресниц. И перед новеградцем предстал суровый воин. Князь-воин.
— Молви, воевода, — прервал затянувшееся молчание Стемид по праву старшего. — Ты звал, я пришёл.
— Князь, шёл я в твою землю со злым умыслом. — Тяжело далось признание, опустил голову, но тут же и поднял её, почувствовал, что с этим человеком возможен только открытый разговор. Хитрости он не примет. — Думал примучить Плесков, а Новеград наверху утвердить. В едино место и за дружину побитую отомстить.
— А ноне, вижу, отдумал? Чего же? Али жалко стало дружины своей? Али надеялись сонными нас захватить, да не вышло? Жалкуешь о том? Ещё не поздно, воевода, вои наши готовы, даней вам больше давать не будем. То помни.
— Не за данью мы пришли, князь. Новеград богат, сам знаешь. Вы честь нашу порушили, ловища поотбирали, пути гостевые закрыли. Мы, новеградцы, зла большого вам не делали, а ежели и было оно, то в стародавние времена...
— Одного не пойму, воевода, ты к миру взываешь али к сече? — прервал его Стемид. — Ежели к миру, то о старых обидах поминать рано, рать твоя на земле моей стоит — то обида новая.
— Не хочу помнить обид ни старых, ни новых! — воскликнул Вадим. В голосе прорвалось волнение. — Обиды, князь, миром решать надо, не сечей. Вы, кривичи, дружину нашу побили, однако ж с новеградцами не воевали...
— Ныне ты словен привёл, чтобы мою дружину побить? То сегодня может случиться, а завтра все кривские роды здесь будут.
— Так надо ли это делать, князь? — быстро, с надеждой спросил Вадим. — Помысли сам: ни кривичи словенам не уступят, ни словене кривичам. Пока будем горла рвать один другому — найдётся третий. Что ж от наших родов останется?
— Опять же не пойму тебя, воевода. Странный ты, больше на купца похож, чем на воеводу. — Вновь по лицу Стемида скользнула улыбка. — Пришёл с дружиной, к сече изготовился, а просишь мира.
Вспыхнул Вадим, рванулась рука к поясу, но тут же и опустилась. Сдержал порыв неразумный, только отвернулся на мгновенье от Стемида, потом глухо сказал:
— Погоди, князь, насмехаться. Как бы тебе в моё место стоять не пришлось...
— В чём ты усмешку узрел, воевода? А может, то хитрость твоя? Мне зубы миром да любовью заговоришь, я дружину распущу, а ты тем и воспользуешься, а?
— Клянусь Сварогом, князь. Он и твой бог...
— Я больше Велеса почитаю, и он не оставляет меня, — уже добродушно ответил Стемид.
— Чтоб в надёже ты был, позволь ненадолго отлучиться: отправить дружину в Новеград, — предложил Вадим. — Сам я тут останусь. Будем, князь, с тобой и старейшинами кривскими уложенье чинить о мире и любви меж нами на вечные времена.
— Добро, воевода, — откликнулся Стемид и вдруг добавил похвалу неожиданную: — Разумного сына вырастил Олелька, — и уже откровенно улыбнулся. — Однако погоди, не торопись. Ответствуй: пошто сказал, как бы мне в твоё место не стоять?
— Об этом, князь, скажу после, как ряд уложим. Верь мне, слово моё крепкое.
...Догнал Вадим дружину на третий день к вечеру. Конным был, дружина пешей — сколь опередили, пока он рядился с князем Стемидом! Дело кончено миром. Одобрит батюшка, нет ли — догадываться наперёд трудно. Князь Стемид сказал, как отрубил: ряд не воеводой походным утверждается — на то старейшины есть. А коли новеградцы главой старейшин Олельку посадили, то кривичи с ним и улаживаться будут.
На привале Михолап рассказывал Вадиму, скупо роняя слова, о пребывании на острове Рюгене-Руяне старейшины Блашко.
— ...Тамошний воевода ранов Боремир не простил Рюрику его отступничества. Насторожен он был и раньше, это я понял со слов одного коваля на острове. А когда Рюрик повелел дружине на ладьи садиться, тут и началось. Рюриковы вои тащат всё, что имели, а им навстречу дружина Боремира. Велят оставить имущество на острову: мол, Рюрик за корабли не расчёлся. Покричали обидное, за оружие схватились. Ну и пошло... Силы примерно равные, десятка четыре с обеих сторон положили.
Я своим говорю: Милославу оберегать, а в другое ни во что не лезть. Настрого велел. Милослава в ладье уж, и мы тут. А те меж собой сечу ведут. Ладно, у Боремира ума нашлось больше Рюрикова, отозвал своих. Видел я, как плюнул он в сторону Рюрика и закричал: «Убирайтесь! Пришли вы к нам с протянутой рукой. Мы приняли вас как друзей. Уходите с кровью. Пусть Святовит зальёт ею вашу дорогу...»
Пламя костра освещало спутанные бороды, волчьим лютым блеском играло в глазах. Слышалось тяжёлое сопение многих людей, да громко стрелял в костре еловый сухостой.
— Озверели от крови вои Рюрика. А может, лёгкая добыча манила, но по пути два городища ливов разграбили, пеплом развеяли. Тут и до старейшины Блашко дошло, каких гостей словенам ведёт. Начал локти кусать, да поздно. Воевода с ним и говорить не хочет. А воины его и того больше, кричат: вы нашего Рюрика княжить к себе позвали и володеть вами, так служите нам...
— Нешто Блашко так объявил Рюрику? — вскочив, спросил Вадим.
— Сядь. Не было того. То они сами придумали, — ответил Михолап и тяжело вздохнул. — Пытал я старейшину. Не было. Лжа то.
— Как же ты ушёл от них?
— На Нево-озере шелоник разгулялся вовсю. День ждали, ночь ждали, а он не утихает. При таком ветре по Нево не поплаваешь. Я-то знал, что шелоник не скоро утихомирится, да и другие наши... А Рюрику невтерпёж. Отправил одну ладью вперёд — та возвернулась. Рюрик к Блашко: долго ли будет? Тот плечами пожал — как боги смилостивятся. А к вечеру я к нему в носовину и влез. Поначалу не соглашался отпускать — вдруг хватятся. Я его всё же уломал. Велел старейшина в Новеград торопиться, всех предупредить. Видишь, к Рюрику отправлялись тайно, даже мы, дружина, не знали, куда гребём и зачем. Отпуская же с ладьи, велел в било бить даже без спроса у старейшин. Проняло его...
— То ему ещё припомнится, — пообещал Вадим. — Намного ли ты их опередил?
— До Ладожского детинца берегом шёл, в Ладоге чёлн взял, мигом доставили. Шелоник не стихал. Теперь вот кончился, — вздохнул Михолап. — Сдаётся, дён на десять я их обогнал. А Блашко теперь и сам локти кусает, — повторил дружинник. — Мнится мне, Рюрик обмануть его хочет, не с добром к нам идёт. Нет, не с добром. Если отпора не дадим, сядет в Новеграде и, глядишь, владеть начнёт...
— По нашим трупам в Новеград войдёт, коли то ему удастся, — угрюмо ответил Вадим. — Много ли с ним дружины?
— Идёт он не один, с братьями Трувором да Синеусом, с каждым до сотни человек. Я так прикидываю, общим счётом воев сотни три...
— Нас поболе в походе, — подвёл итог Вадим. — Да в Новеграде, думаю, уже оборонились столько же, если не боле. Чай, старейшины медлить не станут.
— Старейшин мы сами сместили, — раздался из темноты чей-то глухой голос.
— Одних сместили, других уже, наверное, избрали, — уверенно ответил Вадим. — В такое время раздоры быстро забываются. — Того-то кривского рыбака отпустили?
— Отпустили, — откликнулось несколько голосов.
— Ин ладно. Правильно сделали.
Вскоре вокруг потухающего костра слышался лишь храп уставших людей. Даже сторожа дремала. Здесь, на полдороге от Плескова к Новеграду, в окружении лесов, дружина чувствовала себя в безопасности.
Воевода Рюрик с раздражением смотрел, как передовой корабль заворачивал в знакомую широкую реку. Низкие, заросшие кустарником берега. Мыс, усеянный валунами. Слева тянулся необозримый простор этого проклятого озера-моря. Теперь оно поуспокоилось, лениво катит валы, отдыхая от недавней бури. А несколько дней назад, когда он, не выдержав бездельного ожидания, велел выводить корабли, все кормщики пришли к нему и, не сговариваясь, сказали: «Нет».
Вправо озеро-море втягивалось в прямой рукав. Указывая на него, Блашко сказал Рюрику:
— То река наша, прозывается Мутная. Ещё до полудня придём в Ладогу. Там стоянку сделаем...
— Зачем мне стоянка в Ладоге? — нетерпеливо спросил Рюрик. — Пойдём прямо в Новеград.
— Нет, воевода, того делать никак нельзя, — возразил Блашко. — К Ладоге и то надо с береженьем подходить. Не одной ладьёй плывём. В граде подумать могут: враги мы. Затворятся.
— Выходит, не ждут нас словене, старейшина? А как же приглашение?
— Ты, кажись, забыл, воевода, обычаи наши. В Новеград прямо полезешь, словенам в обиду будет. У нас к приходу гостя заранее готовятся. В Ладоге остановимся, к новеградцам гонца пошлём. Изготовятся они к встрече, дадут знать, тогда милости просим...
Хотелось Рюрику оборвать старейшину, чтоб не лез со своими глупыми советами, но и братья, и пятидесятники, внимательно слушавшие беседу, согласно закивали головами. Крепко, видать, запомнили прощание с Арконой, боятся, чтобы и встреча с Новеградом тем же не обернулась, если поспешность в предъявлении хозяйских прав проявить. И Рюрик склонился к осторожности. Путь назад отрезан. Если к словенам боем ломиться, надо их на колени поставить. Удастся ли? Их много. Придётся повременить, согласиться со старейшиной Блашко.
Рюрик круто повернулся, пошёл к шатру, поставленному на корме. Впервые видел Блашко — воевода откинул полог шатра Милославы. Трувор, Синеус, пятидесятники остались на носовом настиле, молча, исподлобья глядели на низкие берега Мутной. Блашко же смотрел на свою насаду, что шла попереду: там дружина песню завела.
Выгребать супротив реки нелегко. Горбились спины гребцов, посконные рубахи потемнели от пота, но глубоко сидящие ладьи шли ходко.
По-прежнему уплывал назад однообразный лес с редкими проплешинами полян. Он подступал к самим берегам и круто обрывался на откосах, усеянных валунами. На полянах кое-где торчали стожары, вокруг них валялись остатки прошлогодних одоний. Только они и свидетельствовали о близости человеческого жилья. Самих людей, ни одного человека, не видно было ни на берегах, ни на реке.
«Упредил Михолап, — думал Блашко. — Как бы ладожане в детинце не затворились. Тогда что делать? Рюрик в Новеград рвётся. Ежели ладожане не примут миром, напрямки туда пойдёт. Того допустить нельзя...»
Вдали на правом берегу зачернел частоколом ладожский детинец. Умно ставленный на двухсаженном обрыве, он нависал над рекой — любой лучник успеет метнуть десяток стрел вниз, пока незваный гость будет карабкаться по обрыву. Оттого здесь и частокол поставлен пониже, и ворота железом не окованы. Ими и пользуются те, кому лень пройти чуть подале, к пологому спуску. Зато с других сторон детинец обнесён могучими плахами, а кое-где и целыми стволами деревьев. Не поленились ладожане и ров выкопать, и ворота оковать. По углам частокола башни срублены. На глаз, десятка три лучников в такой башне поместится. Сверху им далеко видно, и стрела, пущенная оттуда, двойную силу имеет.
Ладожане, хотя и живут сами по себе, имеют малую дружину во главе с воеводой Щукой, однако ж Новеград чтут за старшего брата. Воевода ладожский ещё Гостомыслом посажен с наказом беречь землю словенскую от нападения врагов с Нево-озера. А коли ладожане сами будут не в состоянии с ними справиться, упреждали бы о том Новеград. На соблюдении этого ряда крепится любовь меж Ладогой и Новеградом.
Чем ближе подходили ладьи к детинцу, тем пристальнее всматривался Рюрик в вырастающие стены крепости. От воды до подножия обрыва лишь узкая полоска берега — на телеге проехать, стадо скотины прогнать, ладью малую приткнуть.
«Немало воинов ляжет, пока поднимутся наверх, — прикидывает воевода. — Такую твердыню только осадой брать».
Воины и немногие семьи толпятся на настилах кораблей, тревожно всматриваются в новый словенский град. Перекликаются с ладожанами, поспешно высыпавшими на стены, вои дружины старейшины Блашко. Каждый не единожды бывал здесь, жителей знал, кое-кто и жён отсюда взял. Потому и выкликают родичей и знакомых. Наконец-то домой пришли. Смертно надоел поход этот. Да и возвратились не то хозяевами, не то пленниками. Молодец Михолап — на полпути сбег. Теперь уже, наверное, в Новеграде с женой забавляется...
Пристали к берегу ниже детинца, у пологого спуска, от которого к граду вела исколешённая дорога. Вслед за дружиной старейшины Блашко сошли по сходням кораблей Рюриковы вои — оборонённые, как на битву. Сам Рюрик не торопился. Всё ещё не мог оторвать глаз от твердыни. Кажется, и не заметил, как с его корабля проскользнула меж воинов Милослава.
А Милослава, как сбежала со сходней, прижалась к первой вставшей на пути берёзке, так и замерла.
«То ладно», — успокоился Рюрик. Встреча с родной землёй поможет ей забыть о его стычке с Боремиром.
Он не хотел ссор с молодой женой. Особенно теперь. Перед лицом словен в его семье должно быть согласие. Очень жаль, что после Арконы жена не подарила ему ни одного ласкового слова.
К Милославе подбежал сын Трувора — семилетний Олег.
— Тётя Мила, — спросил тонким голосом, — нас ведь правда убивать не будут?
Милослава погладила Олега по голове.
— Ну что ты, глупый. Никто никого убивать не будет. Мы домой пришли. Понимаешь, домой. Теперь и твой дом тут будет.
Обняв парнишку, Милослава направилась к воротам детинца. Со стен за ней настороженно следили сотни глаз. И лишь когда подошла к запертым воротам, её узнали.
— Милослава. Дщерь Гостомысла...
Воевода Щука заколебался: не впустить в град дочь Гостомысла — то за обиду великую станет. И с бодричами не всё ясно. Мало ли что Михолап наговорил, а вдруг они миром пришли по зову Новеграда? О размирье новеградцев с кривскими Щука довольно знал. Знал и о поражении дружины новеградцев.
— Блашко, — окликнул он со стены старейшину. — Скажи воеводе с братьями: в град только Милославу да их впущу. Вои пусть на ладьях али в поле пребывают...
«Воевода Рюрик в Ладоге сел». Эта весть пришла в Новеград с первой ладьёй. Мирно, мол, сел: ладожане ему сами ворота открыли, потому как с ним дочь князя-старейшины Гостомысла.
Новеградцы заволновались. Сегодня мирно, а завтра? Михолапа послушать, так они ж никого не милуют. А ну как на Новеград полезут?
Волнение нарастало. До Вадима докатилось оно на пристани, где присматривал он за погрузкой ладьи, что должна была отправиться к вятичам по Ловати. Два дня только минуло, как вернулась дружина из похода на Плесков. Радовался Вадим — вовремя успели, а за дни, проведённые дома, и совсем поуспокоился: авось пронесёт. Значит, не пронесло. Крикнув доверенному отца, чтобы сам управлялся, Вадим поспешил к дому.
Олелька встретил сына словами:
— Знаешь, поди, уже?
— Знаю, батюшка, — ответил Вадим.
— Ну а знаешь, так садись. Совет будем держать. Со старцами нашими я перекинулся ранее, пока вы плесковскую землю топтали. — Старик хитро прищурился. — Тут не Стемид, с которым мы торговались, а Рюрик. Сей торговать не захочет, я думаю, да и нечем ему…
— Так я дружину сейчас скликать стану, на Ладогу пойдём...
— Ишь ты, воевода храбрый. Тут с умом надо, а не дуром валить. Мы с тобой того Рюрика не приглашали — старцы новеградские его позвали. Они тож головы имели и имеют, хотя ты со своими шалопутами и лишил их старейшинства. То первое, да не единое, — загнул Олелька палец. — А то тебе второе: на Ладогу пойдёшь — зубы поломаешь. Али забыл, какая твердыня?
— В осаду возьму, —не поднимая глаз, решительно ответил Вадим.
— Того ещё не бывало, чтобы новеградцы своих людей голодом морили. А в Ладоге не только Рюриково воинство. Ещё и то помни — там дочь Гостомысла.
— Так что же делать? Ждать, пока Рюрик на Новеград полезет? Самим в осаду садиться?
— Нешто я тебе это сказал? — рассердился Олелька. — Большой вырос, да дурной. Слушай, что отец говорит, да смекай. Дружину собирай. Тут Рюрика ждать станем. Чую, недолго он в Ладоге усидит. Пождёт, пождёт приглашения, да и без него полезет. Вот тут его в град не впустить. То твоё дело, но и до смерти не примучивать...
— Ты и про Стемида так говорил, — возразил Вадим. — Тогда я согласился: соседи. А Рюрика того в чистом поле изрублю на куски, чтобы вороны кости порастащили...
— А не будет того, — сурово прервал его отец. — Не будет. — И даже ногой притопнул по половице. — Тогда послушался и нынче послушаешься. Твоё дело его в Новеград не пустить, пущай в Ладогу опять убирается. Там и сидит.
— Один раз уберётся, в другой вновь полезет, — не сдавался Вадим.
— Пущай лезет. Думаю, в другой раз на Новеград не сунется. А на соседей — пущай. Уразумел ли?
Вадим какое-то время с удивлением смотрел на отца. Потом молча склонил голову.
— Вижу, уразумел Он хочет владеть новеградцами, а мы заставим его служить нам. Пусть думает, что по своей воле отправится примучивать кривичей, чудь. Да и весь можно. То всё нам на пользу. Соседей примучит да дружину свою положит. Так-то, воевода. Ну, пойдём. Вишь, бегут уже, надо быть, все собрались...
«Придёт время — и те землицы под руку Новеграда станут», — припомнились Вадиму слова Гостомысла.
Сеча была короткой. Человек двадцать пали, сражённые стрелами. В страхе начали отступать Рюриковы вои перед Михолапом — тот сразу же, как только столкнулись, разъярился необычайно. Уже и другие новеградцы полезли напролом, стремясь достать врага длинной секирой или мечом. Но Вадим не дал развернуться сече. Запел рожок, и, подчиняясь его воле, отхлынули новеградцы. Отбежав на безопасное расстояние, стали серпом, ощетинились копьями. Ждали, готовые вновь ринуться на врага.
Рюрикова дружина, погнавшаяся было за новеградцами, замедлила бег. Но её вдруг подстегнул сигнал. Воины плотным строем двинулись вперёд. Запел рожок и у новеградцев.
И вновь Вадим не допустил большой сечи. Хотя на сей раз было труднее — воины вошли в раж. Густо запахло в осеннем прозрачном воздухе кровью.
И в третий раз бросил Рюрик свою дружину на новеградцев. Устояли. Шли локоть о локоть, только было бы где мечом размахнуться. Как ни трубил Вадим в рожок, сечу не унять. Весь залитый своей и чужой кровью, Михолап словно оглох, увлекая за собою дружину.
Наконец новеградцы отошли. Многие из них, и лучшие, полегли. Свирепо глянул Вадим на Михолапа: из-за тебя...
— Гляди, Вадим! У бодричей-то... — крикнули воеводе.
Он стремительно повернулся, и то, что увидел, не поразило его.
Избитый, в разодранной одежде, отхаркиваясь кровью, к новеградцам шёл старейшина Блашко. Позади него бодричи вскинули луки, на тетивы легли стрелы. Ещё шаг, другой, и они вопьются в могучую, но беззащитную спину. Блашко оглянулся и остановился.
Над полем повисла тишина.
— Дружина новеградская! — крикнул Блашко. — Узнаете ли меня?
— Узнаем! — помедлив, ответил Вадим.
— Кто ныне старшой у вас? — долетел новый вопрос старейшины. — Слово молвить хочу.
— Говори, Блашко. Слушаем тебя.
— Ведомо ли вам, дружина, что по совету старейшин новеградских ходил я за море приглашать старого нашего доброхота Рюрика с дружиной, чтобы помогли они нам против кривичей?
— Ведомо. Без совета с новеградцами то делалось.
— Но и не одной головой решалось, — возразил Блашко. — Меня старейшины посылали, их воля выполнена. С воеводой Рюриком ряд учинён. Он гость наш...
— Скажи воеводе: гостям мы всегда рады. Но гость должен ждать, когда его позовут, а не лезть самовольством. Он в Ладоге сел — не препятствовали, гость всё же, хотя мы его и не приглашали. Зачем к Новеграду походом пошёл?
— У нас ряд заключён с воеводой, — вновь закричал Блашко. — Позор нам, новеградцы... — И вдруг умолк, почувствовав за спиной оживление в стане бодричей.
К середине разделявшего дружины поля шёл Рюрик. Ещё издали Вадим признал ею и направился навстречу воеводе. Неожиданно всплыла мысль: «Второй раз иду, а как розно. Совсем недавно к Стемиду просителем шёл. Теперь Рюрик ко мне так же идёт».
Они сошлись на середине и. как равный равному, глянули в глаза друг другу. В глазах Рюрика холод и настороженность.
— Не знаю твоего имени, воевода, первым заговорил Рюрик, — но я понял, говоришь ты от всех словен. Имеешь на то право?
— Имею, воевода. Новеградцы дали мне такое право.
— Человек силён словом, род — тем же. Я не знаю, что произошло в вашем граде. Судя по твоим словам, вы сменили старейшин. Хотя мне это кажется удивительным, но речь о другом. Ваши старейшины от имени словен позвали меня на княжение. Мы пришли. Почему ты преградил мне путь в Новеград, воевода? И что будем делать дальше?
— На княжение тебя, воевода Рюрик, никто не приглашал, — твёрдо ответил Вадим. — О том забудь. Тебя позвали помочь наказать непослушных кривичей. Ты опоздал. Мы сами, без тебя, управились с соседями. Ныне новеградцы говорят тебе: вернись в Ладогу сиди там. Ты пришёл с родом своим. Если пожелаешь, мы позволим тебе жить в Ладоге, служить словенам.
— Ты забыл, воевода, о договоре, — возразил Рюрик. — Нужна вам моя помощь или не нужна, но я пришёл. Не самовольством, а по призванию. Моя дружина и я выполнили договор, выполняйте и вы. Надо платить. Я не дани требую.
— Новеград платить не будет, воевода Рюрик. Наша плата по ряду — разрешение поселиться в Ладоге. Как видишь, мы держим слово.
— Пустое слово — как ветер. Ты видишь его? Можешь поймать и сунуть в мешок? Мои воины ещё не научились грызть камни. И я не пастух, чтобы разводить скот.
— О том, воевода, не со мной говорить надобно Ты вернёшься в Ладогу, забудешь об этой сече, не сделаешь зла ни одному человеку из словен. Потом посаженный старейшина позовёт тебя в Новеград. Если ты сам и твои воины забудете, что пришли сюда княжить, тогда новеградцы учинят с вами новый ряд. Добрая дружина нам нужна. В походы ходить, Новеград оберегать, но по слову посаженного, приговору веча.
— Ты хочешь, чтобы я стал наёмником? — в первый раз повысил голос Рюрик.
— Зазорного, воевода, в том нет, — подчёркнуто спокойно ответил Вадим. — Служить не одному человеку, а всему словенскому племени не зазорно. Повторяю, об этом не со мной разговор вести будешь. Решай, воевода. Согласен — разойдёмся, не согласен — продолжим сечу.
— Мы будем думать над твоими предложениями...
— Не моими — новеградцев, — быстро поправил Вадим.
— Я думал, ты умнее, — презрительно прищурился Рюрик. — Мы возвращаемся в Ладогу, там обдумаем.
— Думай, воевода, — резко повторил Вадим. — Только помни: хоть одному ладожанину зло причините — берегись.
— Не пугай. Это недостойно воина. Дело воина — мечом пугать, а не словами.
— Посмотри на поле. Мечами мы тоже нехудо владеем...
Рюрик круто повернулся и неторопливо пошёл к своим.
— Старейшину Блашко отпусти, воевода Рюрик! — в спину уходившему крикнул Вадим. — Он вам без надобности.
Не останавливаясь, Рюрик махнул рукой в знак согласия.
ЛАДОГА: СЕРЕДИНА IX ВЕКА
День Рюрика начинался с рассветом. Чужая земля, чужие обычаи. Силой взять не удалось, придётся брать хитростью.
«Повременим спорить, зачем словене пригласили нас: наёмниками или княжить и володеть ими, — решил воевода, возвращаясь с поля неудачной битвы с Вадимом. — Повременим. Надо присмотреться, разобраться, кто друг, а кто недруг новеградцам. Выбрать момент и ударить. Ударить так, чтобы уже не встали».
В Ладоге под жильё воеводе отвели самую большую хоромину: в две клети, наверху с женской и мужской половинами, внизу с просторной горницей для бесед, столовой палатой и помещениями для челяди. Только первую ночь после возвращения провёл Рюрик вне града — в поле, в шатре, хотя ворота твердыни не запирались и за ними оставалась семья Трувора, семьи немногих воинов и его собственная семья. О ней, отходя ко сну, Рюрик забыл. Помнил другое: введи он дружину в град — возгорится новая брань. Воины злы. Неудачу похода на новеградцев выместят на ладожанах.
Взять твердыню налётом при незапертых воротах, когда и свои дружинники, пусть малым числом, сидят внутри её, не представляло большого труда. Но разумно ли? Новеградцы будут здесь через несколько дней. С ними пока что ему тягаться трудно. Потому и приказал дружине шатры в поле ставить...
К полудню пришёл к Рюрику в шатёр Щука и сообщил, что для него, воеводы, его братьев и старших военачальников хоромы приготовлены. Просил, чтобы Рюрик повелел воинам избы рубить за стенами. В граде, мол, тесно; обещал своих плотников в помощь прислать. Сокрушаясь, развёл руками:
— Не посетуй, воевода, скоро студень прибежит, запуржит. Поторапливаться надо да запасы припасать: рыбы в кормилице нашем — Волхове — черпать не вычерпать, да и зверь лесной отъелся за лето красное.
Добрый совет дал Щука. Рюрик не замедлил воспользоваться им. И вот уже который день живёт в хоромах. А послов новеградских всё нет и нет. Дом устроил по своему желанию. Наверху, рядом с горницей, велел поселиться Милославе с тремя прислужницами, вывезенными с Рюгена.
Неладное творилось между ним и женой. Замкнулась Милослава в себе. Покорно, но без былой радости исполняла волю мужа. Дом, хозяйство вела по-прежнему, но Рюрик видел: отшатнулась в испуге и недоумении душой от него жена после новеградского похода. Аркона трещину наметила, Новеград остуду принёс. В радость семейную двое лепту вносят, а коли один уклоняется, другой его не восполнит. Рюрик перестал ходить на половину Милославы.
Нынче он проснулся с ощущением какой-то важной, но ускользнувшей мысли. Покуда спал, была она отчётливая, прямо-таки зримая, а открыл глаза — исчезла. Он лежал неподвижно, вспоминал сон и не мог вспомнить. Что надобно решить первоочерёдно? Корабли на берег вытащить? Не то. Отправить Трувора в Новеград договариваться о закупке припасов? Не то.
Вдруг вспомнил. Не утром во сне пришла мысль, а вечером, когда Щука рассказывал смешной случай, приключившийся с ним у соседей-веси. Сегодня же отправить Илмаруса в Белоозеро. Молодец Щука, натолкнул его, Рюрика, на важное решение...
Сквозь малое окошко, затянутое мутноватой слюдой, просачивался рассвет. Глухо звякнула на улице колодезная бадейка. Ладога просыпалась. Рюрик поднялся с ложа.
В горнице для бесед сидели братья — Трувор с Синеусом. Илмарус стоял почтительно, слушал внимательно. Давая понять, что уяснил наставления воеводы, наклонял голову. Эта молчаливая учтивость раздражала Рюрика. Илмарус не свой человек. Был в дружине Торира, несколько лет прожил среди словен, служил старейшине Блашко. Домовым челядином был. Разве такой человек может быть верным проведчиком? Но никто из своих для такого дела не годился.
— ...В Новеграде скажешь: не хочу больше кровь проливать, ни свою, ни вашу. Я у вас, как брат, жил, обид не видел. Так, мол, и воеводе сказал, просил отпустить и уговаривал его не воевать новеградцев. Он, Рюрик, вначале, мол, рассердился, хотел мечом меня зарубить, да братья удержали. Они вашу сторону держат. Рассказывай так, чтобы не усомнились. В Новеграде товар возьмёшь, с кем-нибудь из купцов сговоришься и отправишься с ними торговать в Белоозеро...
— Прости, воевода, на что товар куплю? — несмело спросил Илмарус.
— У Блашко служил? Гривны должны быть, он старейшина щедрый, — с усмешкой ответил Рюрик. — Ладно, часть товаров с кораблей возьмёшь, часть в Новеграде купишь — серебра дам.
— Благодарю, воевода.
Рюрик поморщился.
— Думаешь, ты мне как купец нужен? Можешь совсем не торговать, но, если назад возвернёшься без сведений о численности дружины тамошней, о том, как вооружена, каковы укрепления града, своим мечом голову снесу. Понял?
Илмарус молча кивнул головой.
— Отправишься сегодня. Вместе с Трувором. — Брат с недоумением уставился на Рюрика. Тот объяснил: — Поможешь ему договориться с купцами о кормах для дружины. Всё. Иди, Илмарус, готовься.
Едва за проведчиком закрылась дверь, вскочил Трувор:
— Зачем я поеду в Новеград? О каких кормах с купцами договариваться? Град надо было давно взять, купцы сами бы принесли все товары, чтоб сохранить головы.
— Всё сказал?! — с угрозой спросил Рюрик. — Если ты такой умный и храбрый, почему сам не взял града? Молчишь? Хватит пустой болтовни. Дело делать надо. Скоро зима. Чем кормить дружину будем? Думали? Или рассчитываете, что Ладога прокормит?
— Послать десятка три воинов по окрестным селениям, — ответил Синеус. — Урожай собран, пусть дань платят.
— Какую дань, Синеус? — вскинулся Рюрик. — Что ты плетёшь? Уже целую луну мы находимся здесь, а вы ничего не поняли. Чем вы занимаетесь? Дань! Да, они платят дань Новеграду. Но дань ли, если я правильно понял Щуку? Скорее идёт торг. Посельские везут в Новеград хлеб, рыбу, мясо, мёд — всё, что имеют. Везут обменять на то, чего у них нет. Пойди сегодня походом на самое захудалое селище — и завтра же новеградский воевода Вадим будет здесь. И не сомневайся, Щука тоже пойдёт на нас.
— Так зачем мы пришли сюда и так ли уговаривались поступить? — по-прежнему зло спросил Трувор.
— В Арконе с Блашко легко было уговариваться, — остывая, уже спокойно ответил Рюрик. — О чём там решили, будем держать в тайне. Не отказываюсь от нашего плана. Но надо ждать и хитрить.
— Зачем ты отправляешь этого Илмаруса в Бело-озеро? — спросил Синеус. — Я не верю ему. Он не принесёт нужных сведений.
— Я тоже не верю, но у меня нет людей, пригодных для такого дела. У тебя они есть? Или у тебя, Трувор? Может быть, в дружине найдётся хотя бы один воин, способный договориться с новеградскими торговыми гостями и сейчас же отправиться к веси? И узнать нужное нам.
— Что толку от проведчика, которому не доверяешь? — возразил Синеус. — Он может предать, предупредить врага.
— О чём? Илмарус не знает наших планов.
— Пусть так, но сведениям его доверять нельзя, — поддержал Синеуса Трувор.
— Сведения, — равнодушно сказал Рюрик. — Принесёт — хорошо, не принесёт — обойдёмся. Мне всего и надо знать, появилась ли у веси постоянная дружина. Тогда её не было, а сейчас? Вспомните: когда мы уходили, Ладога всего лишь селищем малым была, а ныне твердыней стала. Не случилось ли того и с Белоозером?
— А вдруг он заведёт в ловушку? — всё ещё сомневался Синеус. — Не лучше ли отправиться к кривичам?
— Черед кривичей впереди. Не забывай, новеградцы с ними договор заключили. Какой? Мы не знаем. А ловушки... Вряд ли. Илмарус сам напросился в дружину. Ты, Трувор, готовься к торгу с купцами новеградскими. Серебра не жалей. Дружина должна быть всегда готова к походу, а для того хлеб и мясо нужны. Ты, Синеус, осмотри припас воинский. Не только в своей дружине, во всех. Да не броско. Осторожность необходима...
Не первый раз Рюрик поднимался на стену и по ровной, засыпанной галькой и речным промытым песком дорожке неторопливо шёл от башни к башне. С шестисаженной высоты открывался широкий простор. За стенами вырастало воинское городище. Рубились избы, место обносилось частоколом.
Сверху, из башни, особенно заметно было, каким беззащитным вырастало городище. Неширокий ров для опытных воинов не помеха, а о частоколе и говорить нечего.
Рюрик прикидывал: западную стену придвинуть к реке, другие стены опояшут старую твердыню и воинское городище. Поднимутся они — старые стены разрушить. Тогда крепость надёжно защитит дружину. Но это на будущее. Сейчас же нет времени, надо утвердиться в словенских землях. Дни идут, а новеградцы с приглашением не торопятся. Всё может случиться.
Отсюда, с башни, Рюрик заметил, как вышел из своих хором воевода Щука. Попридержал шаг, поравнявшись с горожанином, и торопливо направился к крепостной стене.
«Наверное, ко мне идёт, — подумал Рюрик. — Что-то случилось».
Вскоре послышались тяжёлые шаги воеводы, а потом и сам он предстал перед Рюриком. Поклонился, слегка нагнув голову.
— Не с доброй вестью я к тебе, воевода Рюрик. — В глазах Щуки сумрачность, в голосе раздражение. — Малая беда в граде приключилась, но пройти мимо не могу. За малой и большая прийти может...
— Что за беда? — внутренне подобравшись, спросил Рюрик.
— Вчера вечером дружинник твой у бабки Доможиловой двух ярок отобрал. И ничего за них не заплатил. Она, Доможилиха, ещё вечером ко мне прибегала, шумела. Ну, я на неё цыкнул, она и убралась. А поутру мужики пришли: сегодня, мол, бабку Доможилову обидели ни за что, а завтрева у нас не то что животину, так и лопоть отберут. Как быть? Ладожане да новеградцы не любят, когда их зазря обижают. Как бы худа не вышло...
Насупился Рюрик.
— Ты прав, воевода, то не мелкая беда. Пойдём... — В глазах зажглись злые огоньки. — Не знаешь, воевода, из чьей дружины был воин?
— Того не ведаю. Доможилиха знай талдычит: все они тати, и все одинакие. Что с глупой старухи возьмёшь.
Молча шагали они по улочке, молча вошли в хоромы Рюрика. Хоромы эти ещё совсем недавно принадлежали Щуке, но новеградский старейшина Олелька просил поселить в них бодричского воеводу. Щука уступил просьбе, хотя и жалко было насиженного угла — пять лет, с тех пор как направил его сюда воеводствовать Гостомысл, служили они ему. Здесь Радка, жена, принесла ему двух сыновей.
Челядинцу Рюрик приказал, чтобы немедленно разыскали воина, забравшего у старухи овец, и привели к нему. В палате повисло тяжёлое молчание. Наконец в сопровождении пятидесятника Переясвета привели воина. Был он при мече, но без доспеха. От него остро пахнуло сосновой смолой.
Рюрик поднялся с лавки, не спуская с воина тяжёлого взгляда, подошёл к нему вплотную. Щука видел, как непроизвольно дёрнулись губы воина. «А воевода крут», — мелькнула мысль.
— Ты вчера у старухи забрал овец? — тихо, совсем спокойно и как бы безразлично спросил Рюрик.
Воин какой-то миг продолжал напряжённо смотреть на воеводу, но тут же расслабился и даже ухмыльнулся.
— Побратимы хвалили, сказали, хорошо повечеряли... — с улыбкой ответил он, но вдруг пригнул голову, словно в ожидании удара, — такой яростью исказилось лицо Рюрика. Но удара не последовало. Воевода, с бешенством глядя на воина, нашарил у себя на груди серебряную цепочку, сорвал её и бросил Переясвету.
— Немедленно собери свой отряд и веди его к избе старухи. Сам, перед воинским строем, отдай это серебро за её овец. С этим, — махнул рукой на побелевшего воина, — поступай как хочешь. Ты всё понял, Переясвет? Ещё раз повторится...
Снегом укрывалась земля. Поначалу он таял на ней, оставляя лужицы, потом начал задерживаться у былинок, оседать на кустах, голых деревьях. Лапы елей, пропитанные сыростью, клонились к земле. Однажды утром Рюрик, привыкший просыпаться в кромешной тьме, открыв глаза, смутно почувствовал: что-то изменилось. Темнота не была такой непроглядной. Вскочил с ложа, выглянул в маленькое окошко: земля лежала под белым холодным покрывалом. И его охватило беспокойство и тревога.
Вот-вот замёрзнут реки и речки, заметёт дороги и тропы, а из Новеграда приглашения всё ещё не было. Щука пожимал плечами. Лишь однажды Рюрик услышал, как он с беспокойством сказал Милославе:
— Не знаю, княгиня, раньше, бывало, седмицы не проходило, чтобы из Новеграда посылки не было. А тут и осень на исходе, а ни за рукодельем, ни за рыбой никто не едет...
Во время ранней трапезы прибежал Трувор и с порога сообщил, что вернулся Илмарус. Рюрику в первый момент хотелось приказать немедленно доставить к нему проведчика, но он сдержался. Махнул приглашающе брату рукой: садись, выпей кубок медовухи. Тот поспешно подсел к столу — успел полюбить словенский напиток. Но едва опрокинул в рот кубок, старший брат повелел позвать Синеуса и пятидесятников.
Синеус и пятидесятники пришли быстро. Расселись по лавкам вдоль стен, выжидательно молчали. Воевода приказал впустить Илмаруса. Проведчик нерешительно остановился у самого порога — не ждал увидеть всех предводителей дружины, невольно оробел.
— Подойди ближе, — велел Рюрик. Илмарус поспешно сделал несколько шагов на середину палаты. — Рассказывай, как выполнил наше поручение.
— Воевода и вы, военачальники, пусть хранит вас великий Тор, — скороговоркой начал проведчик. — Я побывал в главном селище веси — Белоозере. Тяжёл туда путь осенью. Почти две луны добирались мы с новеградскими купцами. Сперва шли по Нево-озеру. Страшное оно, воевода, страшнее во много раз, чем летом. Не один раз просил Тора, чтобы оставил меня в живых, чтобы удалось выполнить твоё поручение. Хвала кормщику, опытным оказался...
— Благодарность кормщику скажешь потом, — недовольно прервал его Синеус. — Сейчас дело говори. Рассказывай о пути. — Он повернулся к Рюрику. — Я успел подзабыть те места, а из пятидесятников там один Переясвет был.
Рюрик согласно кивнул.
— С Нево-озера вошли мы в реку великую и дикую — именем Свирь. Не так широка она, но своенравна. Тяжело подниматься по ней в ладьях, все руки отбили, — и для наглядности выставил вперёд огрубелые ладони. — Пороги ту реку перегораживают. Пришлось на канатах поднимать ладьи. Тянули не только гребцы, но и мы, купцы.
— Надеюсь, ты не забыл, купец, спросить, — Рюрик насмешливо сделал ударение на звании, самовольно присвоенном Илмарусом, — замерзает ли река в морозы?
— Узнал, воевода, первым делом спросил об этом, — поклонившись, ответил проведчик. — Новеградские купцы не любят ходить этим путём зимой, но утверждают, что река замерзает вся.
— Не любят? — подозрительно спросил Синеус. — Значит, есть другой путь? Почему молчишь о нём? Если надумал скрыть от нас...
— Подожди, Синеус, — повелительно прервал его Рюрик. — Пусть рассказывает по порядку. Если есть другой путь, он поведает нам и о нём.
— Клянусь Тором, воеводы, верьте мне, — побледнел Илмарус. — Никакого другого пути нет. Я не знаю о нём. Никто из новеградцев ни раньше, ни в этот раз даже не упоминал о другом пути.
— Ладно. Рассказывай о реке Свири. Сколько дней вы поднимались по ней?
— По Свири мы поднимались пять дней. И привела она нас в другое озеро, такое же великое, как и Нево. Новеградцы называют его Онего. Берега у него каменные, приставать опасно, ветер свиреп, того и гляди, ладьи на берег выбросит. По Онего-озеру вдоль берега мы плыли три дня, пока не увидели справа устье реки. Река тоже немалая, но потише Свири. Течёт она в Онего из другого озера, называется оно Белое. Озеро велико, но много меньше Нево и Онего. На другом берегу его и расположено селище Белоозеро. Селище большое. Три Ладоги вместятся в нём. Но меньше Новеграда. Избы с виду бедные. Поселили нас всех вместе в одной избе, разрешили торг вести на площади, что перед домом старейшины ихнего. Весь на торг вынесла шкурки добрые. Мало кто на хлеб менял, всё больше железа требуют да соли. За хороший топор не скупятся, по десять и больше шкурок дают...
— Ты и в самом деле купцом стал, — с насмешкой прервал Рюрик. — А науку воинскую не забыл? Как укреплено селище? Сколько дружины имеет старейшина? Чем и как вооружены?
— Сейчас расскажу, воевода. Я думал, тебе интересно и это...
— И не ошибся, но вначале рассказывай главное.
— Селище никак не укреплено. Когда-то рвом было окопано, да за старостью ров тот совсем зарос. Избы уже и за ним построены. Узнал я: весь после конунга Торира ни с кем не воевала. Добираться к ним трудно — лес непроходимый со всех сторон, потому и не берегутся. Дружины у старейшины постоянной нет. Охотятся они с луками. Луки лёгкие. Боевых не видел. Не видел и мечей с доспехами. Прости, воевода, в избы не звали...
— Много людей в селище живёт? — спросил Трувор.
— Трудно сосчитать, но прикидывал я — человек с тысячу наберётся.
— Мужчин? Охотников?
— Нет, я считал всех. Так и новеградцы счёт ведут.
Скупо улыбнулся Рюрик, заулыбались и другие. Что такое селище с тысячью стариков, женщин с детьми? Сколько там наберётся охотников? Две сотни? Три? Какая разница. Это же охотники, не воины.
— А меха, говоришь, у них добрые? — благодушно уже спросил Трувор.
— Если пожелаете, я принесу сюда. Сами посмотрите. За такие меха даже в Новеграде можно выменять всё, что захочешь. А если их отвезти в Византию, к грекам...
— Ты что, был там? — с любопытством спросил Синеус.
— Нет. Собирался после гибели Торира, но не дошёл, — вздохнул Илмарус. — О Византии новеградцы толковали. Звали по весне и меня...
— Переясвет, оставь этому «купцу» десятую часть привезённых товаров. Заслужил. Остальное заберёшь, — жёстко сказал Рюрик в наступившей тишине. — Чтобы не забывал впредь, на чьё серебро торг вёл. А теперь иди, «купец». Понадобишься, позову.
Дождавшись, пока закрылась дверь за низко кланяющимся Илмарусом, Рюрик повернулся к предводителям дружины:
— Будем совет держать. Ждать ли весны или теперь в поход выступать? Пока готовимся — реки встанут, путь прямой...
Привольно жилось в Новеграде. Многие уже и забывать стали, что по соседству, в трёх днях пути, расположились бодричи. После суматошного лета с плесковским походом, схваткой с Рюриковой дружи ной каждый стремился наверстать упущенное. Осенний день на весь год припасы создаёт.
Никто не успел и понять, что к чему, как опять оказались старейшинами уличанскими Домнин и Пушко. Старики носов кверху не задирали, памятуя пережитое, но по граду ходили уверенно, по-хозяйски. Возмутился было Вадим, но отец прикрикнул на него. Махнул тот рукой и ушёл на половину молодой жены Людмилы развеять злость. А Олелька отправился в градскую избу, куда заблаговременно пригласил старейшин. Предстояло ещё раз обсудить будущий разговор с воеводой Рюриком. Седмица прошла, как с общего согласия старейшин отправил Олелька посланца в Ладогу — звать Рюрика на беседу.
Зима в том году выдалась ранняя и крутая. Навалились морозы, сковало льдом Волхов. Ильмень-озеро ещё ворочалось недовольно, но и оно от берегов затягивалось серым покровом льда. Ребятня целыми днями пропадала на реке, отлучаясь по домам лишь кусок хлеба съесть да оглушённого налима бросить перед довольной матерью. А там уже и мужик, который порисковее, ведя лошадь за узду и пробуя ногой прочность льда, отправлялся на дальнюю поляну за сеном.
Становился санный путь — самый лёгкий и приятный из всех путей словенских: сиди в санях, завернувшись в тулуп овчинный, изредка покрикивай на коня, чтобы чувствовал тот хозяина рядом и бежал резвее, а замёрз — пробегись за санями, разгони кровушку по жилочкам. Не трясёт тебя, как летом на телеге, и руки не болят, как от вёсел к вечеру. Заройся в пахнущее летним разнотравьем сено, подрёмывай себе на здоровье. Хорош санный путь торный!
Рюрика ждали со дня на день. Велел Олелька стороже воротной тотчас же, как только покажется обоз его, упредить старейшин и его, посаженного, но шуму и переполоху большого не делать. А то новеградцы ещё и на вече сбегутся. То ни к чему. С воеводой старцы пусть говорят. При многолюдстве да хае серьёзное дело не делается.
На девятый день близ полудня прибежал один из воротников и, не отдышавшись даже, прямо с порога выпалил:
— Едут, Олелька. Обоз саней в двадцать. Пущать ли? И пущать, дак куды направить?
— Отворяйте вороты. Пусть к дворищу Гостомысла едут, — распорядился Олелька. — А старейшины в градскую избу пущай собираются...
...В градской избе многолюдно. Бодричи — Рюрик, Трувор, Синеус, Переясвет — уселись особо. Напротив них градские старцы: Олелька, Домнин, Блашко, недавно выбранный вместо утопшего Олексы, Никодим, Пушко. Сбоку примостился Вадим. С любопытством оглядывал гостей. Суровые воины, ничего не скажешь, даже на беседу явились, как на брань, — оружны и в доспехах. Свои же вырядились во всё праздничное, от зелёного да синего аж круги в глазах плывут. Украдкой оглядел Вадим и себя — кажись, не хуже других: и рукоятка меча, начищенная, блестит, и ножны сафьяновые камешками играют.
Первым речь повёл Рюрик.
— Вы, старейшины новеградские, поступили не по ряду. Когда приплыл к нам Блашко, все условия с ним обговорили. Мы должны были помочь вам покарать кривских, вы обязались заплатить за то. О том, чтобы жить нам в Новеграде, даже и речи не поднималось. Мы считали это само собой разумеющимся. Такова была воля вашего князя Гостомысла. Разве не он повелел вам пригласить меня на княжение? Или то придумал старейшина Блашко?
В просторной горнице наступила тишина. Рюрик ждал ответа, но Олелька не торопился. Ещё не всё сказал бодрич, пусть выговорится.
— Вы встретили нас, как врагов, словно никакого договора между нами и не было, — не дождавшись ответа, продолжал Рюрик. — Вы отказываетесь платить, не пускаете в Новеград, не даёте припасов. Разве так поступают родственники? — намекнул Рюрик на родство с Гостомыслом.
И опять вопрос остался без ответа. Олелька словно воды в рот набрал.
— Назад мы не вернёмся. Не для того поднимались всем родом, чтобы бегать из земли в землю. Мы будем жить здесь. Так хотел ваш князь и мой тесть Гостомысл, так хочу я, так пожелала дружина. Лучше вам выполнить условия договора и жить с нами мирно. Завтра вы опять поссоритесь с кривичами или с другими соседями и прибежите ко мне за помощью. Если вы откажетесь от договора, мы подумаем, стоит ли оказывать вам помощь. Я всё сказал, старейшины.
Рюрик выжидательно смотрел на Олельку. Тот сидел в центре старейшин и, пока говорил воевода, накручивал на палец прядь седой бороды. На бодричей не смотрел. Теперь же остро глянул в глаза Рюрику.
— Мы выслушали тебя, воевода, — начал Олелька, и голос его, по сравнению с Рюриковым, показался Вадиму дребезжаще-старческим. — От приглашения и договора мы не отказываемся. Только условия того договора менять надобно. С кривскими мы сами управились, твоей дружины не дожидаясь. Так что платить не за что, и давай договоримся сразу: новеградцы за ваш приход платить не будут. О том забудьте. Мы позволили вам жить в Ладоге, хотя сами знаете, могли бы и прогнать с нашей земли...
— Это ещё как сказать! — пылко воскликнул Синеус.
Олелька насмешливо улыбнулся.
— Ты об этом вот ему скажи, — и ткнул пальцем в сторону сына. — Не от его ли меча бежала ваша дружина от Новеграда?
Рюрик круто повернулся к Синеусу, бросил короткий, жёсткий взгляд. Лицо Синеуса вспыхнуло.
Олелька помолчал — бодричи сидели как каменные, — повёл речь дальше, словно и не заметил детской выходки брата воеводы.
— Размыслив, новеградцы порешили: ряд надо новый чинить. Ты, воевода, сам сказал, что уходить с нашей земли не собираешься. Добро. Живите. Дружина ваша не слишком велика, большинство воев бессемейные. Мы прокормим вас. Но вы будете служить граду. Только в таком случае мы не токмо кормить вас станем, но и жён дадим, и гривны платить будем.
Ты хочешь быть князем словенским, володеть нами. И сам ты, и воины твои кричат, будто старейшина Блашко именем новеградцев позвал вас на княжение. Того не было. Господином над Новеградом ещё никто не бывал. И князь наш Гостомысл лишь одним из старейшин был. Земля уважала его и слушалась. Даже в дружине он не воеводствовал — то ты сам знаешь. Честь от новеградцев Гостомысл трудами своими получил. Но господином не был. Ныне у нас есть и воевода свой, но мы не отказываемся от слова. Коли пожелаешь стать князем-воеводой Новеграда, согласимся. Но во внутренние дела наши тебе не вступать, суда не чинить, тяжб не разбирать. То дела посаженного и старейшин. Твоё же дело дружину крепить, соседей, ежели потребуется, в страхе держать, но походов без приговора словен не учинять...
— Об этом мне уже однажды сказал ваш молодой воевода, — не выдержал Рюрик. — Наёмником я не буду. Незачем говорить об этом. Призвали вы меня княжить, и княжить я буду по своей воле, не по вашей...
— А и не было того, воевода, — прервал его Блашко. — Вспомни, не я ли тебе говорил: одолеешь кривичей, и волен в дальнейшем: назад ли в Аркону возвращаться или у нас на службе оставаться. О каком княжении разговор ведёшь?
— Пожди, Блашко, не кипятись, — остановил его Олелька и повернулся к Рюрику. — Значит, отказываешься от чести быть князем-воеводой новеградским? Просить дважды не станем. Проживём и без князя. Только пошто тогда мы терпеть тебя будем на земле нашей? Ответствуй, воевода.
Рюрик опустил голову.
— Молчишь? — спросил Олелька. — А и то учти, воевода, с соседями мы мирно живём. Твой человек недавно в Белоозеро с нашими гостями ходил, видел, чай, что вражды меж нами никакой нет. Так что к тебе за помощью мы обращаться не будем. Не хочешь Новеграду служить, хлебного припасу лишим. Серебра у тебя надолго ли хватит?
— В чужом сундуке богатства считать — дело купцов, я не купец, — резко ответил Рюрик. — Зря посаженный хвалится миром с весью. С весью не дружить надо, её подчинить следует и заставить тащить сюда меха.
— Для кого? — спросил старейшина Никодим.
— Для того, кто подчинит весь, — ответил вместо Рюрика Трувор.
Олелька понимающе переглянулся с Никодимом: воевода Рюрик сам лезет туда, куда они хотели затащить его хитростью.
— Воевода задумал поход на весь? — прямо спросил Олелька.
— Или вы не разрешите? Так я у вас на службе не состою, — гордо ответил Рюрик.
— То так, ты не служишь Новеграду, раз не хочешь заключать с нами ряд. Поэтому мы не можем запрещать тебе... Но не кажется ли воеводе, что мехами сыт не будешь? Хлеба своего весь имеет мало. И куда дружина ваша понесёт те меха?
— То не твоя забота, посаженный. Меха ещё добыть надо. Они крови стоят. А покупатели найдутся. Хочешь, тебе продадим? — дерзко усмехнулся Трувор.
— Что ж, новеградцы не откажутся, — улыбнулся Олелька. — По сходной цене. Готовы даже помощь оказать. В чём нуждаешься, воевода?
— Это мне нравится. Мы найдём, старейшины, общий язык. Мне нужны лошади, много лошадей и саней. Если дадите возниц для присмотра за ними — не откажемся.
— Отец, нельзя того делать, — прошептал Вадим.
— Помолчи, — тихо бросил ему Олелька. — Не разумеешь ничего, — и, обращаясь к бодричам, громко сказал: —Посчитать надобно, сколько чего потребно...
Воротники, выполняя волю Олельки, впустили гостей и, внимательно оглядев каждый воз, заторопились по домам, благо и причина нашлась: продрогли, надобно чару медовухи для сугреву выпить. И запорхала весть о приезде недавних врагов из избы в избу, выгоняя любопытных новеградцев на улицу, к Гостомыслову дворищу.
— Слышь, соседка, бают, бодричи приехали...
— Обоз, саней двадцать...
— Ай, люди добрые! — врезался в многоголосье запыхавшийся женский крик. — Бегим шибче к княжому дворищу! Милослава наша возвернулась!
— Как Милослава?!
— Брешет баба!
— Путило-воротник своими глазами зрел. В возке сидела. Бегим!
Весть ширилась, будоражила людей. Давно ли всем градом провожали Милославу, жалели — девчушечка, и за тридевять земель... И вот вернулась, сиротинка жалимая.
К жене Вадима, Людмиле, сидевшей с утра за пяльцами, вихрем ворвалась соседка, старшая дочь Михолапа — Домослава.
— Бросай рукоделье. Бежим скорее.
— Куда это? — расцвела улыбкой Людмила.
— Да ты что, ничего не знаешь, что ли? — удивилась Домослава. — Милослава приехала!
— Милослава?! Быть не может! — засобиралась Людмила.
Залетела весть и в кузню оружейника Радомысла. Вдвоём с Михолапом они перебирали железные полосы, обсуждая, какая на меч годится, а какую на проволоку пустить, чтобы колец кольчужных наделать. Вбежавшего с криком подмастерья Михолап слегка стукнул по затылку, чтобы не шумел под руку и не вовремя. Парень, захлёбываясь словами, торопился с новостью: чуть ли не весь град к княжому дворищу сбегается, княгиня приехала, Милослава.
Михолап крякнул недовольно, нахмурился.
— Я ж тебе говорил, — напомнил он Радомыслу, — вот по-моему и выходит. Не так прост Рюрик, как посаженный со старейшинами думают. Вишь, силой не удалось, так он хитростью в град лезет. Женой заслоняется. А нашим легковерам лестно. Как же, дочь Гостомысла приехала! А того не видят, что с Милославой дружина в град въехала. Много воев прибыло? — спросил он подмастерья.
— Бают, человек с полёта...
— То-то. Пойдём, Радомысл, поглядим. Как бы чего не вышло. Старейшины старейшинами, а и нам ухо держать востро надо...
Милослава, не подозревая, какое волнение в граде вызвал её приезд, ходила по отцовской хоромине. Как часто там, в Арконе, вставали перед глазами эти горницы. Мечтала о них, во сне видела. А теперь вот они, наяву. Плакать хотелось от радости и ещё от чего-то смутного. Она переходила из горницы в горницу, трогала старые, знакомые с детства вещи.
Молча сопровождал её такой же старый, как и все в этой хоромине, огромной и пустой, дворский Завид. Только шарканье по полу его стоптанных катанок напоминало Милославе, что она не одна. В выцветших от времени глазах Завида стояли слёзы. Руки его, высохшие, набухшие жилами, дрожали. Жалела Милослава старого дворского — пережил своего хозяина, теперь некому о нём заботиться. А ведь её отец любил этого дряхлого старика.
Так дошли они до её бывшей светёлки. В ней всё оставалось по-прежнему: узкое ложе в углу, столешница, украшенная резьбой, лавки вдоль стен. Милослава опустилась на стулец, дала волю слезам. Спроси, о чём плакала — не смогла бы ответить.
Завид, как когда-то в детстве, ласково положил руку на её склонённую голову.
— Тяжко, видать, жилось тебе на чужбине, княжна. — Для старика она всё ещё оставалась княжной, девчушкой. Да разве не так оно и было? — Ну полно, полно, Славинушка. Слезами горю не поможешь, батюшку не возвернёшь...
Услышав своё детское имя, ещё пуще заплакала Милослава. Радость возвращения в родной дом и жалость к отцу, старику дворскому, к себе — всё перемешалось в её душе.
— Не убивайся, касатушка. Домой возвернулась. Нешто так можно? — шамкал беззубым ртом старик, не умея и не зная, как и нужно ли утешать Милославу. Пусть поплачет, слёзы душу очищают...
За окном нарастал шум. Вначале отдалённый, глухой, он приближался, подкатывал к самой хоромине.
— Дедушка Завид, штой-то люди шумят? — спросила Милослава.
— Где, касатушка? — Старик поднёс ладонь к уху, прислушался. — А и в самом деле шумят. Пойду, узнаю. — И заторопился из светёлки.
Неужто Рюрик вернулся от старейшин? Не должно быть. Тогда что за шум и почему?
Не дожидаясь возвращения дворского, Милослава спустилась вниз. Навстречу ей торопился Завид.
— Княжна, там люди пришли. Тебя видеть хотят, а сторожа мужа твоего их не пущает...
Не дослушав, она заторопилась на высокое крыльцо. И то, что увидела, поразило её: широкий двор был заполнен народом. У самого крыльца, прижатая вплотную к нему, ощетинилась обнажёнными мечами Рюрикова сторожа — человек двадцать.
— Гудой! — окликнула она старшего из дружинников. — Что происходит?
Тот вскинул на неё суровые глаза.
— Не знаю, госпожа, что нужно этим людям. Я не понимаю, чего они...
Конца ответа она не услышала. Над толпой пронеслось:
— Милослава!
— Будь здрава, дочь Гостомысла!
Она поняла: новеградцы пришли встретить её и пожелать ей здоровья. Зардевшись алым цветом, она низко поклонилась градским. Над дворищем высоко взлетел её чистый, звонкий голос:
— И вы будьте здравы, новеградцы!
Поход начался удачно. Посаженный Олелька не подвёл. Коней новеградцы пригнали в Ладогу добрых, розвальни крепкие. Снабдили и запасом овса. Главное — двигаться быстро, чтобы никто не успел предупредить весь. По воде до Белоозера две луны пути, на лошадях управимся за одну. Снегу пока что немного. Словен примучивать непосильными поборами ни к чему: новеградцы и ладожане снабдили дружину припасом в избытке. А на обратный путь весь снабдит. Побеждённые обязаны кормить победителей. Таков закон войны.
Двигались в строгом порядке. Передовые розвальни часто менялись — торили путь. Дружинники, сложив оружие и доспехи на сани, шли налегке. По очереди заваливались на сено, отдыхали малое время и соскакивали без команды, уступая место другим.
По берегам реки тянулся однообразный, заснеженный и суровый лес. Ещё издали заметив огромный обоз, спешил забиться в чащу сохатый. Его не преследовали: Рюрик торопился. Ехали и ночью — на передних розвальнях палили смоляные факелы. И только когда лошади от усталости начинали спотыкаться, старший из новеградцев, охотник Онцифер, по-медвежьи переваливаясь в длинном тулупе, подходил к саням Рюрика.
— Привал, воевода. Кони приморились...
У жарко горевших костров довольствовались куском вяленого мяса, разогретой в пламени лепёшкой. Лесин не жалели. Каждый десяток палил свой костёр. Прогрев землю, сдвигали уголья в сторону, набрасывали на кострище лапник. От него шёл пар, пахло разогретой смолой. В стороне разводили новый костёр, чтобы горел всю ночь, а сами укладывались на лапник, тесно прижимались друг к другу, укрывались сверху тулупами. Снизу шло тепло, теплом опахивало и от костра...
На семнадцатый день пути Онцифер предупредил:
— Оберегу надо блюсти, воевода. К Белоозеру подходим...
Рюрик велел подтянуть обоз, идти без доспехов, но с луками и мечами наготове.
По озеру Белому шли открыто — тут не спрячешься. Горячили коней, да без толку. За долгую дорогу те совсем выбились из сил — едва тащили розвальни.
Селище открылось неожиданно. Раскинулось оно на невысоком берегу и было, прав оказался Илмарус, беззащитным: ни стен, ни частокола. Завидев обоз, выбегали из изб люди, суетились, сбивались на площади.
Рюрик, довольный, улыбнулся:
— Трувор! Синеус! Стройте дружины! Возьмём весь в кольцо, чтобы никто не ушёл...
Воины цепочкой, затылок в затылок, побежали двумя извивающимися лентами, охватывая селище. Встретились передние, замыкая круг.
Рюрик повернулся к Онциферу:
— Пойдём. Сейчас начнётся самое интересное. Медведь попался прямо в берлоге...
— Нет, воевода, — твёрдо ответил новеградец. Его товарищи согласно наклонили головы. — То дело не наше. Нам посаженный велел при конях быть. А сечься с весью нам не за что...
— Ну, как знаете, — равнодушно бросил в ответ Рюрик и торопливо направился к селищу.
Воины сжимали круг. Голосили женщины, надрывно кричали младенцы. Кто-то из охотников не выдержал и отпустил тетиву лука. Ого, эти дикари смеют поднимать руку на его дружину?
Рюрик крикнул долгожданное:
— Бей!
И тотчас тяжёлые, оперённые боевые стрелы полетели в толпу. Вопль людей взвился над площадью.
— Не стрелять! — раздался голос Синеуса. Воевода удивлённо повернулся к брату. — Всех перебьём, Рюрик, а на что нам мёртвые? — спокойно встретил его взгляд Синеус. — Пусть живут, дань платить будут.
— Тебе жалко этого сброда? Кому они нужны и на что способны? Всех перебить!
— Не горячись, брат. Мне они живыми нужны. Пусть охотятся, как и раньше...
— Тебе нужны? — в запальчивости закричал Рюрик. — Тогда и оставайся здесь, володей ими!
— Я и сам хотел просить тебя об этом, — спокойно ответил Синеус. — В Ладоге нам тесно...
— Ты что? Святовит лишил тебя разума? — опешил Рюрик.
— Не торопись. Прекрати сперва бойню.
— Будь по-твоему. Только потом не пожалей об этом опрометчивом поступке, — успокаиваясь, ответил Рюрик и приказал прекратить стрельбу.
Из толпы вышли два старика и в ожидании остановились перед цепью воинов.
— Пойдём, — бросил Рюрик брату. — Они хотят говорить с нами...
Один из стариков был совсем дряхлым — борода с прозеленью, спина горбом. Он посмотрел на братьев слезящимися глазами и что-то негромко сказал своему спутнику. Тот заговорил на словенском языке:
— Старейшина нашего племени Михолов спрашивает вас, чужеземцы: зачем убили вы людей нашего племени? Зачем пришли на нашу землю? Чего хотите от нас?
Рюрик, пристально рассматривая его, неожиданно спросил:
— Ты новеградец?
— Нет, я с Плескова. Давно уже поселился тут.
— Тогда скажи старейшине, что пришли мы сюда по праву сильнейших. И людей его убили по тому же праву. Можем всех убить, если дань откажетесь платить и не признаете нашей власти.
— Теперь я узнал вас, вы — варяги, — печально сказал старик. — И сюда добрались...
— Ты ошибся. Наверное, вспомнил набег конунга Торира. Не от него ли спрятался в эти леса? Так знай, от моей дружины не спрячешься. И торопись передать старейшине то, что я сказал. Мои воины устали держать луки. Если вы не согласитесь платить дань, я подам сигнал — от вас никого не останется...
На площади стояла тишина. Толпа с ужасом смотрела на воинов. Матери зажимали рты ребятишкам.
Старики обменялись короткими фразами. Старейшина закрыл глаза и стал походить на деревянного идола. Его спутник тяжело вздохнул и тихо сказал Рюрику:
— Сила на твоей стороне. Мы согласны на дань. Повелевай...
— Повелевать будет он, — воевода положил руку на плечо Синеуса. Старик, кряхтя, поклонился. Старейшина стоял неподвижно, не открывая глаз. — А сейчас скажи им, — Рюрик пренебрежительно указал на толпу, — пусть расходятся по избам, готовят угощение и припрятанные меха. Мои воины в гости придут. Чтобы не было им ни в чём отказа...
...Дружина возвращалась из похода довольной. Славно погуляли. Сани нагружены до предела. Будет чем удивить новеградский торг. Пусть пошевеливаются купцы, готовят гривны. Доволен был и Рюрик. Добыча взята знатная. Не думал он в такой глуши золото найти. А оно нашлось. Не так много, правда, но нашлось. Синеус обещал ещё по окрестным селищам поползать. Потому и не пошёл Рюрик дальше по землям веси. Оставил брату часть дружины — сами справятся. Договорились твёрдо: половину дани брат будет присылать ему в Ладогу. Другая половина — его. По справедливости.
...Одно дело сделано. Без промедления другое вершить надо... Как словене об этом говорят? Куй железо, пока оно горячее. Хитрец Олелька сам предложит идти на кривичей. Что-то с их летним походом не чисто. Что ж, это мне на руку, да и новеградцы теперь не отвертятся, заплатят. И, кажется, Трувор сделает то же, что и Синеус. Пусть будет так. Пусть забирает кривичей. Ему, Рюрику, довольно словен и чуди. К тому же братья будут делиться с ним добычей. Об этом он позаботится.
Утром, после бурной ночи, проведённой вначале на пиру в честь удачного похода, а потом в покоях Милославы, Рюрик поднялся разбитый, с тяжёлой головой.
Велев челядинцу вылить на голову две бадейки холодной воды, почувствовал себя несколько лучше. За утренней трапезой выпил кубок дорогого греческого вина, присланного воеводой Щукой. Пришёл в себя.
— Пойду к Милославе, — пробормотал он и с удивлением заметил, что говорит вслух. Такого раньше не водилось, чтобы сам с собой... Наверное, и холодная вода не помогла, всё ещё не протрезвел после вчерашнего. Неожиданно улыбнулся. Милослава должна обрадоваться: самый дорогой подарок — ожерелье из прозрачных переливающихся камней, неведомо как попавшее к весьскому старейшине, — приготовил ей. Не только за любовь молодую и горячую. Помнил — новеградцы всем скопом встречали её.
Ожерелью Милослава обрадовалась, примерила, не надевая, к нежной и тонкой шее, благодарно склонилась перед ним.
— Откуда оно, Рюрик? — спросила, не отрывая глаз от подарка.
— Из похода, — ответил он и улыбнулся её нескрываемой радости.
Она должна открыть ему ворота Новеграда.
— Расскажи о Белоозере. Я там не бывала. Как живёт весь — не знаю.
— Глупые люди, не умеющие держать меч в руках. Мы показали им, как это делается.
— Многих убили? — Грусть и тревога в голосе Милославы.
— В битве, как в битве, — неохотно ответил Рюрик. — Кровь диких не дорого ценится...
— Не говори так. Как ты не понимаешь, что, убивая их, ты одновременно учишь их убивать вас.
Рюрик задумался. Да, жена права. Не мало ли дружины оставил Синеусу? А если весь поднимется? Придётся повторить поход, наказать так, чтобы больше не помышляли о сопротивлении. Лучше не думать о худом. Синеус, хотя и младший, уже давно не младенец. У него немного дружинников для такой земли — меньше сотни человек; должен соблюдать осторожность. Хотя бы на первых порах, пока привыкнут...
Воины отдыхали, с удовольствием вспоминали поход. Рюрик разделил добычу, по справедливости оставив себе треть. Воины не возражали — таков обычай. Без добычи они не останутся. Их воевода не из тех, кто долго сидит без дела.
Жаль только, что он не разрешает отправиться на новеградский торг. Конечно, и в Ладоге не без веселья. Оказывается, когда мнёшь в руках собольи хвосты, и в захудалой лавке последнего купца можно доброе вино найти. И молодок разудалых поприбавилось в крепости — у всех вдруг дела к родственникам нашлись. Но всё ж это не то. В Новеград бы попасть...
А дни между тем шли. Полупьяные для одних, с размышлениями и тревогами для других. Рюрик уже и волноваться не на шутку стал. Неужели он не разгадал этого хитреца Олельку? Неужели второй раз придётся ехать к нему на поклон? Нет, подождать надо. Не выдержит купец Олелька. Онцифер с товарищами, наверное, донесли посаженному, какую он взял добычу.
Олелька, прождав Рюрика седмицу после возвращения возниц, испугался, что добыча ускользнёт: поневоле испугаешься, коли и Домнин ни с того ни с сего вдруг брякнул, что не худо бы в Ладогу наведаться, поглядеть, как там бодричи обосновались, не обижают ли ладожан. Ишь, защитник выискался. И то диво — раньше-то никогда мехами не интересовался. Видать, почуял лакомый кус.
Через две седмицы велел Олелька собрать обоз — не велик и не мал: вин взял, лопотины понарядней да мечей харалужных, новеградской выделки, с рукоятями изукрашенными, в ножнах дорогих. С обозом надумал поначалу Вадима отправить, да вовремя отказался от мысли неразумной. Кликнул верного дворского.
— Сам я выеду попереду. Я не купец — посаженный. И в Ладоге я тебе не хозяин. Не пойдёт мена, придёшь ко мне с жалобой, как к посаженному. Понял ли?
Рюрик, предупреждённый вестником о скором приезде посаженного старейшины новеградского, улыбнулся и похвалил себя за терпение. Придётся продать Олельке меха подешевле, за то выторговать поход на кривичей. И немедля. Дружина отдохнула. Коней словене наверняка откормили. Надо ковать железо...
Кривский рыбак Сивой, тот самый, что по своей нерасторопности попал в плен к новеградцам и был отпущен ими после переговоров Вадима со Стемидом, бродил по Новеграду. И надо ж было шепнуть водяному, когда Сивой выволок из реки вершу, набитую лещами, а потом ещё две таких же, чтобы ехал он в Новеград с рыбой да поменял её там на крюки добрые. Как ни лаялся он со своим плесковским кузнецом Клещом, крюки не выдерживали пудовой щуки: то разгибались, то хрумкали, как еловый сучок. А тут ещё и жена, будь она неладна, посунулась: может, он и её не забудет, совсем сарафан обтрепался.
Лещей своих Сивой продал. Не так чтобы и выгодно, однако ж с Плесковом не сравнить. Крючья полдня выбирал, только что на зуб не пробовал. С мастером бы, который их ладил, поговорить, да потом своего Клеща носом-то ткнуть. Чтобы знал мастерство, а не переводил зазря железо.
Эта мысль очень по душе пришлась Сивому. Он твёрдо решил зайти к кузнецам и поспрошать, как они делают такие добрые крючья. Но то опосля. А теперь, пока в кисе бренькали серебрушки, пошёл Сивой искать полотняный ряд, чтобы купить жене, лешак её забодай, полотна какого-нибудь на сарафан.
Тут уж он не торговался и не выбирал. Эка невидаль, полотно бабское. Сунул купчишке деньги, скомкал небрежно кусок полотна, запихнул его в захребетный мешок и, довольный покупками, пошёл шастать по улицам.
Ещё издали услышал перезвон молотков по наковальням.
— Ага, лешак их забодай, вона куда забрались ковали, — удовлетворённо сказал сам себе и направился на перезвон.
В кузнице у двух наковален по двое мужиков усердно махали молотами и молоточками да двое у мехов стояли — от угольев аж искры летели.
— Эгей, люди добрые, труд на пользу, лешак вас забодай! — весело крикнул Сивой, стараясь перекричать звон железа.
— Проходи стороной, — отозвался один, постарше. — Вишь, железо горит, не до тебя. — И напарнику, приземистому, на бочку смахивающему: — Давай!
Сивой потоптался на месте, но не ушёл. Уж больно споро и красиво робили ковали. Старший положил ручник и, ухватив остывающую полосу клещами, сунул её в горн. Смахивая со лба капли пота, заметил стоящего у двери Сивого.
— А, ты ещё тут. Ну чего тебе?
— Дак куды ж я пойду, — заторопился Сивой. — Мне ж, понимаешь, знать надобно, как это вы, лешак вас забодай, крючья таки делаете?
— Каки крючья? — удивился кузнец. — Ты что, с утра медовухи али браги нажрался?
— Погоди, Радомысл, — остановил старшего напарника похожий на бочку (это был Михолап). — Вот я его сейчас шугану отсель. Это кто же тебя учил, добрый человек, — обратился он к Сивому, — влезать в кузню к незнакомым людям и, не поздравствовавшись, лаять их?
— Чур меня, чур, — замахал руками Сивой. — Это кто ж вас лаял-то? Нетто я позволю такое, лешак вас забодай?
— И опять лаешься? Ну-ка убирайся...
— Так у нас в Плескове, почитай, все так говорят. То разве лай?
— В Плескове? Значит, ты кривский? — весело спросил Михолап. — Погоди, погоди, что-то мне твоя рожа знакома. Ты, часом, в полон к новеградцам не попадал?
— Попадал, а как же, — засмеялся Сивой.
— Ну, здрав буди! — хлопнул Михолап по плечу рыбака. — Молви, зачем в Новеград приехал?
Радомысл дал знак подмастерьям на мехах, чтобы прекратили дуть — железо перегорит.
— А как не приехать, ежели Клещ этот, лешак его забодай, такие крючья делает, что они щуку не держат? Мне много не надо. Чтобы крюк не разгибался, ежели щука пудовая подцепится, и опять же не хрумкал...
— Ну, брат, насмешил, — сказал Радомысл. — Уж коль тебе такую малость и надо всего, тогда скажи своему Клещу, чтобы он крючья тебе ковал, как мечи харалужные, из того же железа сварного, да калил в меру.
— Каки мечи харалужные! Это наш-то Клещ? — засмеялся Сивой.
— А по-другому я тебе объяснить не могу, — уже серьёзно ответил Радомысл. — Надо самому у горна постоять, душу железа узнать. Вот Михолап подтвердит. Уж на что он частый гость у меня в кузне, а ведь меча харалужного не сварит. Так ведь, Михолап?
— Так, — отмахнулся дружинник, — да не о том речь. А сходите-ка, ребятушки, отдохните чуток, — повернулся он к подмастерьям. — Опосля гукну вас.
Подмастерья, скинув прожжённые кожаные фартуки, неторопливо вышли из кузницы.
— Сядем, — сказал Михолап и остро глянул на рыболова. — Тебя как зовут-то?
— Сивой, — с тревогой ответил рыбак.
— Так вот, Сивой, молви, ждёт ли князь Стемид гостей незваных и готов ли к их приходу?
— Того не ведаю, — ответил Сивой.
— Вы разве ничего о воеводе Рюрике у себя в Плескове не слыхали? — спросил и Радомысл.
— A-а... о бодричах, — с облегчением произнёс Сивой. — То ваше дело. Они на вашей земле, вы с ними и милуйтесь.
— Вот-вот, — с издёвкой сказал Михолап. — Старейшина весьский Михолов так же, наверное, думал. Только что теперь от тех дум осталось? Разграбленное Белоозеро, дружина Синеуса на шее да в придачу ещё и дань Рюрику...
— Не может того быть! — вскочил Сивой. — Когда случилось?
— Три седмицы назад, — скупо ответил Радомысл.
— Сдаётся мне, теперь ваша очередь — вздохнул дружинник. — Чую, готовит что-то Рюрик. То посаженный к нему в Ладогу ездил, теперь сам сюда пожаловал. Сговариваются. Только о чём? На Новеград он не сунется, летом морду набили, помнить должен...
— Ах ты, лешак его забодай, как же это, а?
— А вот так, — твёрдо ответил Михолап. — Езжай-ка ты, Сивой, побыстрее в Плесков, упреди князя Стемида: пусть сполох ударит. Всей земли не защитите, хоть Плесков отстоите. Рюрик осадой вряд ли заниматься станет. Порыщет по селищам, пограбит и уйдёт. А Плесков не отстоите — не миновать и вам его дружину кормить. Да о нас с ним, — дружинник кивнул на Радомысла, — помене трепи. Не пришло ещё время.
Кузнец согласно наклонил голову.
Братья выступили чуть ли не в один день: Рюрик с Трувором в большой поход на кривичей, Синеус в малый — по отдалённым селищам и становищам веси. Награбленных запасов в Белоозере даже для оставшейся малой дружины хватило ненадолго. Как ни настойчиво требовал их Синеус от старейшины Михолова, тот со старческим равнодушием твердил упрямо:
— Всё взяли. Ничего нету, — и, закрыв глаза, превращался в истукана.
Синеус и сам замечал, как женщины ножами скребли древесную кору, вымачивали, сушили, смешав её с мелкой рыбёшкой, толкли, и весь с жадностью поедала лепёшки. Пока запасов было в избытке, воины издевались над охотниками, соблазняя их куском мяса и ломтём хлеба, зазывали к себе женщин помоложе. Но запасы таяли стремительно — для сотни здоровых мужиков, от безделья не знавших чем заняться, требовалось много. Потому и рискнул Синеус, не дожидаясь тёплых дней, отправиться за новой данью.
Перед самым выступлением к Синеусу без зова явился плесковец Рогуля, толмач, которого впервые увидел Синеус на поле брани. Закутанный в шкуру сохатого, старик выглядел страшилищем лесным, но смотрел на Синеуса смело, с достоинством.
— Не знаю, как называть тебя: воеводой или князем. токмо пришёл я слово молвить, Синеус. В твоей воле меня убить, но смерть моя тебе прибыли не даст. Вижу, в поход ладишься. За своей смертью идёшь. Синеус Белоозеро вы врасплох взяли. Теперь роды весьские знают, чего от вас ждать. Земля наша велика, мест укромных много. Уйдёт весь в дебри лесные — не найдёшь. Становища зорить станешь — люди в лесах перемёрзнут, пушнины не найдёшь, припасов не добудешь — кому польза? И ещё тебе скажу, Синеус: тетива и та лопается, ежели тянуть её через меру. За смертью идёшь, Синеус...
Молча выслушал речь старика Синеус. Так же молча, не торопясь, деловито вытащил меч из ножен. Явно издеваясь над стариком, долго рассматривал клинок, пробовал пальцем остриё. Рогуля стоял спокойно, только глаза чуть сузились.
Смерть старый плесковец принял достойно.
Синеус равнодушно приказал выбросить труп на улицу. До вечера из изб никто не показывался. Утром трупа на месте не оказалось. Воины обнаружили три свежие лыжни. Трое покинули Белоозеро.
Затмила старость разум Михолову. Переждать бы ему день-другой, отправить людей в пургу, чтоб следов от лыж не оставалось. Ах ты, старый охотник. Куда подевалась былая хитрость?
Синеус действовал стремительно. Разделив дружину на три части, по три десятка людей в каждой, ринулся в погоню. Не посланцы нужны, они — тьфу, ничтожество. Путь нужен, становища нужны. Строго-настрого повелел идти сторожко, схватить беглецов, и, хоть под пыткой, к становищу или селищу пусть ведут...
А Рюрику не повезло. Уже на дальних подходах к Плескову дружину, бредущую так же вольно, как и в походе на Белоозеро, кривичи засыпали стрелами. Пока в суете и толкотне воины расхватывали из саней луки, кривичи метали из-за деревьев смерть, а потом как в воду канули, растворились в лесу. Попробуй догони без лыж. На конях в лес и соваться нечего.
Хотя и не такой уж великий урон нанесли кривичи — полдесятка убитых, чуть больше поцарапанных, — но Рюрик помрачнел. Кривичи взяли кровь, своей ни капли не пролив.
Под Плесковом ждала ещё большая незадача: князь Стемид сел в осаду, предварительно окружив град высоким снежным валом. Не одну сотню бочек воды вылили на него плесковцы, пригладили на совесть — ноге зацепиться было не за что. Вал высокий, сколько воинов за ним — не видно. Наверное, не мало, раз кривичи рискнули по дороге напасть. Малые силы только глупый дробить будет.
В тайных беседах старейшина Олелька осторожно советовал воеводе: ежели не получится с Плесковом, спускайтесь на юг, дорога торная, другой град — Изборск — недалече. Все грады Стемид укрепить не сможет. Потому как нападения не ждёт, а и ждать будет — всё едино сил не хватит.
В тот же день дружина Рюрика отошла от Плескова, и невзятый град вскоре остался позади.
В Изборске так скоро незваных гостей не ждали, понадеялись, что замешкаются они у Плескова. Несмотря на требование князя Стемида — перевезти в Плесков всё ценное, людей и живность схоронить в лесах, — старейшины Изборска медлили. Не верилось, что бодричи в зимнюю стужу поднимутся в поход. Мало ли что какому-то рыбаку Сивому в башку взбредёт.
Спохватились старейшины, да поздно. Призывно зазвучало било, а передовые уже в ворота ломятся. Пропал Изборск, дружина злобу за плесковскую неудачу на нём выместила. Добро, пожар не пустили, зато выгребли всё под метёлку.
Сел Рюрик в Изборске. Дружина пошла шарить по земле кривской. С каждый днём росли запасы. Рюрик веселел, Трувор хмурился. И совсем не удивился старший и не стал отговаривать, когда младший брат объявил задуманное:
— Дружина моя пожелала здесь остаться. Остаюсь и я. Синеус — в Белоозере, я — в Изборске. Ты сядешь в Новеграде — так будет. Сбывается, о чём говорили в Арконе: мы будем володеть всей землёй...
Охотники возвращались с зимних ловищ нагруженными ценной пушниной. Возвращались, истомлённые многодневными погонями за неутомимыми куницами и соболями, с надеждой на скорую ласку женщин, восхищенный смех детишек, скупую похвалу старейшин рода. Горяча воображение видением семейного очага, торопили тяжёлые, подбитые шкурой сохатого лыжи.
При въезде в становища ничего не подозревавших охотников поджидали Синеусовы воины. Их охота была безопасной и прибыльной. Зачем искать врага, брести куда-то, рисковать жизнью, если эта дикая весь, как глупая куропатка, покорно сама торопится в руки, волоча за спиной богатства, цену которым она вряд ли знает. Тех, кто проявлял малейшее недовольство, ждала смерть — быстрая, лёгкая: удар мечом в сердце. Так повелел Синеус: диких много, их надо поставить на колени сразу и навсегда, чтобы не только перед Синеусом, перед именем его падали ниц.
Побывавшие в руках воинов охотники прятались по укромным местам становищ или вновь уходили в лес. Им не препятствовали — пусть идут. До весны не понадобятся. А весной сами появятся в Белоозере. С данью. Крепко пуганный однажды помнит страх всю жизнь.
Подчистую вытряхнув промысловые мешки охотников, разузнав тропы, что вели от стойбища к стойбищу, отряды вновь сбились в единую дружину. Синеус гадал: возвращаться в Белоозеро ещё рано, земля и в самом деле, как говорил тот помешанный Рогуля, велика, становищ и селищ много, обшарили пока что ничтожно мало.
Вспомнив о лыжниках, ушедших с Белоозера, позвал старших отрядов: схвачены ли?
Старшие с повинной склонили головы: как только добрались до становищ, забыли про лыжников, не до того стало. Синеус не бранил, сам до поры до времени забыл о них. Теперь вот вспомнил, а что толку?
Охотники по одному вновь в лес подались, и вряд ли кто проговорится о тех лыжниках. Но всех оставшихся в становищах женщин повелел расспросить. Ответы не обрадовали: не помним, не ведаем, не видели. Расспросами занимался Илмарус. Шли они через пень колоду. Лишь десятый, а и того меньше, с трудом изъяснялся на словенском языке. Илмарус приспосабливался — через пятое на десятое уже понимал весьскую речь.
Синеус потребовал найти проводника-добровольца, чтобы указал тропу к следующему становищу. Илмарус без позволения воеводы назначил вознаграждение — желающих не нашлось. О пути говорили в один голос:
— К соседям наши мужья ходили, торг-мену вели. Мы тропы не ведаем.
Пробовал Илмарус угрожать, ответ был всё тот же:
— Не ведаем.
Синеус торопил. Отмели свирепые метели. Удлинился день. Ночью и по утрам крепко подмораживало, но днями в небе висело яркое, хотя и холодное ещё солнце.
Захваченную добычу Синеус под охраной отправил в Белоозеро. Уже и посланные вернулись с вестью: в Белоозере всё спокойно.
Надо было двигаться дальше. Но куда? Вокруг застывшие молчаливые леса, у них не спросишь. С поздней злобой досадовал на себя и дружину: почему разрешили разбрестись охотникам?
Утром Илмарус втолкнул в избушку к Синеусу молодого, с едва пробившейся бородкой, парня.
— Вот, воевода, он знает дорогу к селищу. Богатому селищу. К ним за всю зиму ещё никто не приезжал. Ни купцы торговать, ни соседи для обмена.
Синеус недоверчиво оглядел парня. Высок, худ, нескладен. Лицо словно из бурой глины вылеплено — видать, зиму на ловищах провёл.
— Спроси, почему тут оказался? — велел Синеус.
— Спрашивал, воевода. Говорит, что старейшина рода послал звать соседей для обмена и на праздник окончания промысла. Сдаётся мне, не врёт парень.
Поверил и Синеус. Богатое селище, много охотников, все вернулись с промысла.
— Эй, там! Угостите охотника пивом, накормите и спать уложите. Тут, в моей избушке...
«А завтра в вашем богатом селище на коленях будешь ползать. Весь глупа. Такой её создали боги».
Дикая глупая весь перехитрила бодричского воеводу. Жадность притупила остроту зрения, помутила разум. Белоозёрские лыжники сделали своё дело. Затаившись в родах, дождавшись охотников, выслушав их проклятья врагам, посланцы старейшины Михолова передали его повеления. И почерневшие от гнева и ненависти охотники поодиночке отправились вновь на ловища. Воля старейшины Михолова была такова: духи велели собраться всем охотникам, обложить, как медведя, дружину Синеуса в лесу и поступить с ней так, как поступают с лесным хозяином. Чтобы ни один не ушёл. После того всем идти к Белоозеру.
Старейшины родов повеления Михолова не обсуждали — его устами говорят духи. Они заботятся о племени. Много зла сотворили пришельцы. Сколько отняли они жизней, столько и приношений не получат духи. Их гнев на пришельцев справедлив.
Духи не наказывают пришельцев, они поручают это людям своего племени. Воинов надо выманить из разорённых становищ. Пусть они идут сюда, в селище, а на ночёвке надо навалиться на них скопом, задавить числом, перерезать им жирные шеи.
Выбор пал на младшего сына Рогули. Ему предстоит выманивать врагов. Ему вести их так, чтобы к назначенной ночёвке они падали от усталости. Пусть помнит своего мудрого отца — он пал от меча вражеского воеводы, умер за общее дело.
...Дружина шла третий день. Лошадей пришлось отправить назад почти сразу же. Наст, державший человека, за полдня в кровь изодрал лошадиные ноги.
Молодой охотник всё ширил шаг. По приказу воеводы он оставил лыжи, шёл в окружении десятка воинов. Синеус повелел им: если проводник надумает бежать — убить его на месте.
К концу третьего дня пути Синеус почувствовал, что дальше идти не может. Дружина растянулась, воины едва переставляли отяжелевшие ноги. А проводник всё шагал и шагал. Остановить его не позволяла гордость.
Исподволь подкрадывались синие сумерки. На большой поляне проводник замедлил шаг, оглянулся на Синеуса. Сопровождающие его воины остановились.
— Будем ночевать. Здесь, — с придыханием сказал воевода.
После вялого ужина дружину сморила усталость. Тут же у костров, едва накидав на снег елового лапника, воины словно провалились в небытие. Так, во сне, и отошли они в вечность.
Синеуса подняли на ноги, заломили руки за спину. В свете догорающего костра он видел, как неторопливо и буднично, обходя распростёртых на снегу дружинников, шли к нему пятеро стариков. Подойдя совсем близко, они молча и равнодушно уставились на его искажённое болью лицо. Один из них заговорил — тихо и спокойно. Но перевести его слова некому. Илмарус валялся у ног стариков, кровь сочилась каплями из его горла, замерзала на снегу.
Старик наконец замолчал. К Синеусу подошёл молодой охотник, проводник. Сильными руками разжал его стиснутые зубы и, разрывая щёки, затолкал ему в рот звериную шкурку. Даже без помощи Илмаруса Синеус понял короткое слово, со злобой сказанное охотником:
— Ешь!
В следующее мгновение нож пронзил сердце воеводы.
Предвидение Рогули сбылось. Синеус, отправившись в весьские леса за смертью для других, нашёл свою.
Олелька зачастил в Ладогу. Ближайшим старейшинам без улыбки говорил:
— Общее дело робим. Пущай думает, что мы к нему на поклон ездим. От того поклона спинам нашим не тяжко, а Новеграду прибыток...
Старейшины соглашались. Они и сами не прочь были наладить с воеводой Рюриком куплю-продажу: дружине-то много чего надо. Да разве хитреца Олельку на кривой объедешь. Ладно и то, что в долю берёт.
С Вадимом старик своих замыслов не обсуждал. Узнав, что Рюрик вернулся с кривского похода, сказал кратко:
— Надобно съездить. Пущай приучается глядеть из наших рук. Покобенится, а Новеграду служить будет...
— Служба службе рознь, — ответил Вадим. — От такой службы все соседи на нас поднимутся.
— Не новеградцы примучивают, бодричи...
— А сидят они на нашей земле, — без прежнего почтения ответил Вадим.
Олелька пристально поглядел на сына, но промолчал. В семье начинался разлад. Вадим по-прежнему не хотел заниматься торговыми делами, шатался по торжищу, но прибытку от того не было. Уже и сноху не однажды заставал Олелька в слезах. На его расспросы та отговаривалась пустяками. Видать, нравилось сыну воеводствовать, но Новеграду две дружины не прокормить. Люди давно делом занялись, а Вадим мутит их, бодричами пугает. Надобно поучить, а не до того.
Рюрик и на сей раз принял Олельку почётно: встречать вышел к воротам градским. От пира посаженный едва отговорился. Сели в горнице вдвоём — глаз на глаз.
— Как же это ты, воевода, с Плесковом промашку дал? — сразу же перешёл к делу Олелька. — Нешто Стемидка за столь короткое время укрепу осилить мог?
— А зачем мне понапрасну своих воинов губить? — вопросом на вопрос откликнулся Рюрик. — Укрепления в Плескове невелики, и вал ледяной мы преодолели бы. Но он дружину собрал немалую. Плесков взять да без воинов остаться — невелика честь воеводе. Рядом Изборск был, другие селища. Ты сам советовал в них пошарить. Добычи не меньше взяли, и без большой крови. А Плесков от меня не уйдёт...
— Удивления достойно, как это Стемидка развернулся. Николи раньше такого не бывало. Может, упредил кто?
— Об этом у тебя спросить надо, старейшина. Мои воины не из болтливых. — Рюрик усмехнулся и закончил мысль: — И с кривскими пока не торговали...
Олелька досадливо обронил:
— А ладожанам твои воины, воевода, не могли разве проговориться?
— Могли, конечно, мы тайны из похода не делали. Воин должен знать, куда и зачем идёт. Да ладно, пустое, — беспечно подытожил Рюрик. — Сегодня не взяли, завтра возьмём.
— Больно прыткий ты, воевода, — осуждающе покивал головой Олелька. — Ты вот брата с малой дружиной в Изборске оставил, не подумал, что Стемидка на спину ему прыгнет да загрызёт...
— Почему, посадник, говоришь: не подумал? Как раз думали, и крепко. Трувор до весны смирно сидеть будет, из града за данью не выйдет. Взять же его в осаду князю Стемиду не удастся. А и возьмёт — не страшно, отсидится. Скоро снег сойдёт, от Стемидовой дружины ничего не останется. Они ж пахари, разойдутся землю пахать. Вот тут самое время Трувора и придёт... Не удивляйся, если летом услышишь, что Трувор Плесков взял и сел в нём. А вот я всё в Ладоге...
— Как у тебя всё просто, воевода, — прервал Рюрика Олелька, чтобы избежать неприятного разговора. — Ты думаешь, Стемид глуп и отправит дружину по домам, потому что сеять надо? У него в дружине не одни плесковцы, а со всех родов. А роды и без дружинников с работой управятся...
— Посмотрим, — с сомнением сказал Рюрик.
— И смотреть неча. Сдаётся мне, Стемидка за ум взялся, больше на князя походить стал, чем на бобровника. Пока он жив, брату твоему смерть грозит. — И без всякого перехода, словно с мысли сбился: — А за бобрами он ходить будет, охота — пуще неволи. Промысел сей многолюдства не терпит, смекай...
Воевода промолчал. Как действовать — без старейшины новеградского разберётся. Да и претило тайное убийство. Он — воин, первый среди воинов, а не наёмный убийца.
Помолчав, заговорил о кривской добыче. Олелька оживился.
...Ждали: дня через три-четыре начнётся ледоход. Тяжёлый зимний панцирь Волхова потемнел, набряк вешней водой, покрылся сетью больших и малых трещин. Снега на льду и в помине не осталось, только желтели, усыпанные навозом и политые за долгую зиму конской мочой, нитки дорог. Ожили лесные ручьи, устремились к реке. Она принимала их, готовая каждый миг разорвать свои оковы, и не могла, не накопила ещё сил. Внизу, рядом, непреодолимой преградой лежало Нево-озеро.
Рюрик велел воинам готовить корабли: конопатить, смолить. Мало ли куда дружине путь придётся держать. А что поход новый будет — в том Рюрик не сомневался. В Новеград идти пока несподручно. Дружина уменьшилась больше чем наполовину. Олелька, как ни крутился, как ни избегал открытого разговора о Новеграде, всё же вынужден был сказать Рюрику, и довольно решительно:
— Ты, воевода, пойми. Конечно, я — посаженный, но дела градские вершу не один. Даже если мы со старейшинами приговорим пустить тебя в Новеград, вече против станет. Не обвыкли новеградцы волю чужеземцев выполнять. А вече воспротивится — меня в Волхове утопят, а на тебя походом пойдут. Ладога не спасёт, сам знаешь. Вот кабы ты согласился служить Новеграду по воле его...
Опять посаженный никчёмные речи повёл. Прерывая его, Рюрик в который раз твёрдо ответил:
— Нет.
На том и разошлись. Смягчая остроту разговора, Олелька пообещал:
— Коли надумаешь летом на вятичей сходить, через Новеград пропустим, плыви по Ловати. — И совсем мимоходом, не глядя в глаза, добавил: — А, насчёт бобровой охоты подумай. Дело для тебя нужное...
И вновь промолчал Рюрик.
Теперь, осматривая каждый корабль, он обдумывал совет Олельки. Не об охоте Стемида на бобров. Эту мысль он сразу отбросил, забыл её. О походе на вятичей думал. Мало сил. Можно всё потерять. А взамен? Два, три селища захватить успеешь, потом отступать придётся. Велика ли добыча с тех селищ! Нет, риск слишком велик. Ни Синеус, ни Трувор помощи не окажут. Далеко, как бы им самим помощь не понадобилась. Надо пополнять дружину, но кем, если словене как на врагов смотрят?
Чем больше путался в мыслях Рюрик, тем сильнее торопил он воинов с подготовкой кораблей. Сегодня неизвестно, куда направить дружину, завтра всё может измениться.
Ждали ледохода, а дождались небольшого, о трёх санях, обоза. Вокруг саней плелась из последних сил кучка воинов. Рюрик глазам не поверил — из Синеусовой дружины. Почему не ко времени? Что с Синеусом?
Рюрик тяжело посмотрел на истощённых, понуро склонивших головы воинов брата. Знаком подозвал Переясвета.
— Накормить. Пусть отдыхают. Старшего потом ко мне. — И голос не дрогнул. Но и самому Рюрику, и окружающим показалось, что воевода застудил горло, лазая вокруг кораблей.
Старший из уцелевших воинов именем Окиша говорил медленно, осторожно выбирая слова. Трудно объяснить необъяснимое: воевода Синеус мёртв, легла дружина, а он жив, привёл к Рюрику десяток полумёртвых от усталости и голода воинов. Почему остался жив, почему не умер рядом с Синеусом? Окиша не слышал таких вопросов. Старый воин знал, что и не услышит их, но так же хорошо понимал, что до конца дней его будет преследовать невысказанная жалость дружины. Счастье отвернулось от него и товарищей в тот момент, когда старый Михолов поднял руку...
— Твой брат Синеус отправил в Белоозеро захваченную добычу, — выговаривал он монотонно многократно обдуманные за дорогу слова. — Мы обрадовались, поход начался удачно. Привёзшие добычу говорили, что отряды соединились и пойдут дальше одной дружиной. Мы ожидали, что они вернутся в Белоозеро через две, от силы три луны. Мы не дождались дружины...
Окиша замолчал. Его не торопили. Рюрику вспомнились слова старого плесковца: «Сила на твоей стороне. Мы согласны на любую дань. Володей...»
— Ночью в наши избы ворвалась весь, — тяжело вздохнув, продолжил Окиша. — Даже в первый день мы не видели столько охотников. Нет, воевода, дозор был, — заметив острый взгляд Рюрика, поторопился с оправданием воин. — Мы знали, что не в гости пришли, и дисциплину блюли. Никто не поднял тревоги, не успели. Нас выгнали на площадь. Окружили со всех сторон. Копья касались наших лиц. Мы были готовы к смерти. — Окиша вскинул голову, но тут же опустил её, устыдившись ненужного порыва: ничего не стоят пустые слова. — Нас не убили. Старейшина Михолов велел принести нам одежду, снарядить обоз. Он сказал:
«Князь ваш Синеус и дружина убиты нашими людьми. Мы не хотели крови. Мы обещали князю Рюрику платить дань и заплатили её. Синеус первым начал лить нашу кровь. Даже медведь отбивается от охотников, мы — люди. Идите к князю Рюрику и скажите ему: пусть больше не ищет нашей земли. Мы обещали и будем платить ему дань. Если же он захочет мстить за смерть Синеуса — уйдём в леса, но не покоримся».
О том, как добирались, рассказывать не буду. Дорога трудна...
Умолк Окиша. Рюрик сидел задумавшись. Потом махнул рукой воину: иди. Окиша вышел. Впереди его ждала скрытая за сочувствием неприязнь товарищей. Что ж, и он всегда считал, что место воина и в смерти рядом с предводителем.
— Будем решать, пятидесятники, пойдём ли сейчас на весь или дождёмся зимы, — сказал Рюрик. Прежней уверенности в его голосе не было.
Молчал Переясвет, молчал Мстива.
— В поход сейчас идти нельзя, — наконец твёрдо ответил Переясвет.
— Подождём зимы. Если весь не пришлёт дани, их надо будет наказать, — поддержал его Мстива. — Нас мало, воевода. А смерть? Синеус умер не на постели — на поле брани. Пусть Святовит пошлёт каждому из нас такую смерть.
Тёплые ветры гуляли на просторах Нево-озера и Волхова. Берёзки покрылись нежным ярко-зелёным убором. Ветерок заигрывал с молодыми листьями, рябил воду. Щедрое солнце высветило могучий частокол и башни Ладоги, и вся твердыня приподнялась, стала строже. На башнях несли круглосуточный дозор воины — после известия о поражении дружины и смерти Синеуса Рюрик стал осторожным. По полой воде отправил он вестника к Трувору с настоятельным советом-требованием: не торопиться со сбором дани, выждать. Вестник повёз рассказ и о событиях в Белоозере — предупреждение старшего брата младшему.
Воевода томился неопределённостью. Всё было зыбким, как болото под ногами. А начиналось удачливо: весь покорили, у кривичей Изборск отняли, с новеградскими старейшинами, казалось, вот-вот договорятся. Сел бы Рюрик в Новеграде, с одной стороны — Трувор, с другой — Синеус, как верный заслон. Вот и прикрыли бы всю землю своими щитами. Володей, радуйся. Выходит, рано обрадовался воевода, отвернулись от него боги.
Что предпринять? На весь идти нельзя — пятидесятники правы. На кривичей? Там Трувор. Чужие владенья, хотя и брата по крови. Чудь? Что толку перемалывать пустые мысли — дружинников от этого не прибавится...
С крайней к Волхову башни донёсся сигнал тревоги. Рюрик схватил меч. надел шлем и, не прикрыв двери, выскочил из хором. Его догнал запыхавшийся Щука. Следом торопились Переясвет и Мстива.
Дозорные молча указали на реку — по ней поднимался корабль. Солнце поблескивало на ритмично взлетающих вёслах. Мгновение всматривался Рюрик в далёкий ещё и оттого кажущийся небольшой лодчонкой корабль. По оснастке, резной фигуре на носу он признал его — так строили суда только свей. Значит, плывут викинги. Но кто, куда и зачем? Разве мало было у него стычек с ярлами у берегов данов?
— На корабли! Перенять реку! — крикнул он толпившимся на берегу воинам. Те быстро и чётко побежали по сходням, без суеты занимали установленные места. Три корабля вскоре встали на якоря, река была перекрыта.
— Что бы ты делал, не будь нас? — с любопытством спросил Рюрик Щуку.
— Пошто мне их останавливать? — улыбнулся Щука. — Коли сами к твердыне не пристают, пущай плывут к Новеграду. Мои челны раньше них добегут. Там встретят непрошеных гостей, мы отсюда поможем...
Воевода промолчал: они не так просты, эти словене, как он думал поначалу.
Неизвестный корабль замедлил ход, затем вовсе остановился. Преимущество Рюрика было слишком очевидным, чтобы идти на прорыв. Воеводе сверху, из башни, было отчётливо видно, как переговаривались старшие. О чём — не слышно. Потом донеслась до него резкая команда Переясвета со своего корабля:
— Приставайте к берегу! Ярл ваш пусть к воеводе Рюрику идёт!
— Значит, вы из дружины конунга Рюрика? — перекрыл невнятную многоголосицу высокий голос с чужого корабля. — Где он? Я знаю конунга, он тоже меня знает. Я — ярл Снеульв, сын ярла Кольбейна из Эйрикова фиорда.
Рюрик вспомнил этого ярла. Встречались единожды, когда Снеульв приезжал в Аркону. Тогда воевода, блюдя честь дома, устроил пир, хотя Снеульв не славился ни знатностью, ни богатством, ни многочисленностью дружины. Ярл, каких сотни. Встретит слабее себя — пощады не жди, сильнее — отступит. Вспомнилось, что на пиру держался Снеульв с достоинством.
Что привело его к словенам? Тогда он поговаривал о желании пойти на службу к бодричскому Славомиру.
— Тебя, Щука, прошу: упреди градских от волнений. Обиды им от Снеульвовых воинов не будет, мы не допустим. Вам, Переясвет и Мотива, придётся заняться приёмом гостей. Пусть дружина приветит их. Со Снеульвом сам говорить буду. Надо выяснить, куда направляется этот ярл и твёрд ли в своих намерениях? Потом приглашу вас на пир. И тебя, Щука, тоже, — наособицу повернулся Рюрик к ладожскому воеводе. — Примем гостей с честью.
Он взглянул на подплывающий к берегу корабль Снеульва и пошёл вниз. Щука за ним. Пятидесятники, успевшие и корабль остановить, и к Рюрику вернуться, поотстали.
— Сейчас он будет уговаривать этого Снеульва остаться здесь, подчиниться ему, — со скрытым раздражением сказал Переясвет Мстиве. — Воеводе не хватает дружины.
— А чем ты недоволен? Разве плохо, если Снеульв с воинами присоединится к нам? — удивился Мстива.
— У нас и так много варягов. Мы можем раствориться в них, как соль в воде...
...Пировали третий день. Снеульв неожиданно легко согласился с предложением Рюрика влиться в его дружину. Поначалу, правда, попытался поторговаться, но воевода лишь насмешливо улыбнулся:
— Что ж, ярл, плыви в Новеград. Ты говоришь, держал путь к грекам? Если договоришься со старейшиной Олелькой, чтобы пропустили тебя, плыви. А ежели встанет на пути воевода Вадим, помощи от меня не жди.
— Почему хольмгардцы должны задержать меня, не понимаю? — недоумевал или прикидывался наивным Снеульв.
— Ас какой стати им верить твоим словам? — решил подыграть ему Рюрик. — Ты идёшь не с десятком-другим воинов. У тебя сотня человек. Этого вполне достаточно, чтобы захватить какое-нибудь поселение словен. Новеградские старейшины не глупцы...
— Хорошо, а если я останусь у тебя, — уже сдаваясь, продолжал торговаться Снеульв, — что получат мои воины и я сам?
— Когда новеградцы приглашали меня, они обещали многое. До сих пор я не получил и десятой части обещанного. Ну и что? Поговори с Переясветом, поговори с моей дружиной. Разве они не довольны жизнью?
— Мы рассчитывали получить у ромеев солиды[24]...
— Уж не думаешь ли ты, что золото водится только у греческих басилевсов[25]? Скажу: у новеградских купцов его, может быть, и поменьше, но оно у них есть. Там ты будешь слугой-наёмником, у меня — свободным ярлом. Соединим усилия, и солиды новеградских купцов будут нашими. Разве тебя не прельщает возможность стать хозяином доброго куска земли и чтобы бонды тащили тебе меха, хлеб, мясо, а купцы — золото?
— Ты убедил меня, конунг Рюрик. Я слышал, у ромеев даже снега не бывает, а я люблю зиму. — Лукавые огоньки блеснули в глазах Снеульва. — Я с бодричским князем Славомиром не сошёлся потому, что в его земле нет настоящей зимы, так — слякоть. Лучшей зимы, чем в моей земле фиордов и долин, я уже, наверное, не увижу. Но туда меня даже красотой зимы не заманишь, — засмеялся ярл. — А если серьёзно, то я рассчитывал встретить тебя где-нибудь здесь. Моя дружина привыкла к бодричам. И у тебя немало ещё Торировых викингов. Думаю, наши дружины не найдут поводов для недовольства друг другом...
И вот уже третий день шёл пир. Дружины, как два незнакомых пса, принюхивались настороженно, чтобы, узнав хорошенько друг друга, уже бежать дальше вместе.
Среди пиршества никто не заметил, как в трапезную вошёл воин. Был он оружным, в походной одежде. Окинув взглядом застолье, застыл у дверей, дожидаясь, когда на него обратят внимание.
Пошатнувшись, поднялся из-за стола Рюрик.
— То ко мне. Ну, видел Трувора? — громко спросил он воина.
— Видел, воевода. Слово от него к тебе есть...
— Слово? Говори... — Но тут же перебил себя: — Впрочем, погоди. Гостям пир продолжать, я сейчас вернусь...
Рюрик с воином поднялись наверх.
Воевода плотно уселся в тяжёлое, грубой работы кресло с подлокотниками и низкой спинкой. Воин остался стоять.
— Говори слово Трувора, — велел Рюрик и хлопнул ладонями. — Говори...
— Трувор велел сказать тебе, воевода: в Изборске всё спокойно, дружина довольна и сам он тоже. Ходил в несколько селищ поблизости, добычу взял, но малую. Рассудил — не время: кривичи жито сеют, не след им мешать...
Дверь горницы отворилась, поспешно вошёл челядинец с кувшином пива и двумя кубками. Рюрик нетерпеливо выпроводил слугу, нетвёрдой рукой наполнил кубки, протянул один воину.
— Продолжай...
Вестник одним духом осушил пиво, провёл тыльной стороной руки по усам.
— Трувор ещё велел сказать тебе: скорблю о преждевременной смерти Синеуса и его ошибки не повторю. Князь Стемид своей дружины не распустил, частью в Плескове, частью возле града держит. Но скоро князь Стемид к праотцам отправится...
— Как ты сказал? — перебил вестника Рюрик. — К праотцам отправится?
— Воевода, я передаю слово твоего брата. Он именно так и сказал: скоро князь Стемид к праотцам отправится. После того Трувор собирается идти на Плесков. Он просит тебя договориться со старейшинами новеградскими, чтобы не оказали они помощи плесковцам.
— Почему должен умереть князь Стемид? — Голос Рюрика протрезвел, глаза утратили сонное благодушие. — Что сказал тебе об этом Трувор?
— Он ничего больше не сказал мне, воевода, — спокойно ответил воин.
— Не может быть! — вскричал Рюрик. — Ты забыл слово брата?
— Воевода, не первый раз я выполняю твои поручения. Разве я ошибался?
— Немедленно, слышишь, немедленно возвращайся к Трувору. Лети птицей и бойся, если я догоню тебя в пути. Скажешь Трувору, пусть выбросит из головы мысль об убийстве Стемида. Если что предпринял уже — отменить. Торопись. Твоя жизнь — в твоей поспешности.
Больше десятка лет был верным исполнителем воли воеводы его воин, видел его на поле брани и на пиру, в пору гнева и радости, но таким он его ещё не видел. Рюрик захлёбывался словами, пальцы сжаты в кулаки так, что посинели.
Воин, не сказав обычного: «Понял тебя, воевода», — одним прыжком оказался за дверью, прогрохотал по лестнице и побежал по улице к пристани, где разминались после утомительной дороги гребцы.
Пирующие смолкли. Ждали Рюрика. Предугадывали скорый и, кажется, недобрый конец не вовремя затеянного пира.
— Военачальники! — раздался сверху взбешённый голос воеводы. — Кончай пировать! Завтра утром в поход!
Трувор со дня на день ждал вести о смерти князя Стемида. Он и Рюрику велел лишь намекнуть о предстоящем событии. Без подробностей. Зачем они? Всё обдумано и выверено. Князь Стемид умрёт, но ни одна капля его крови не упадёт на одежду Трувора и на его дружину.
Слава великому Святовиту! Не иначе это он послал воеводе двух шалых новеградцев. Он, Трувор, и говорить с ними не собирался, но новеградцы оказались прилипчивыми. Шастали по подворью, потешали воинов прибаутками и чуть ли не каждому шептали на ухо, что у них дело к воеводе самое неотложное и самое нужное для него. Воевода их озолотит, вот тогда они с воинами дружбу скрепят по-настоящему. Весёлая будет дружба, ибо веселье токмо во хмелю, кто ж того не ведает. Будет серебро — будет зелено вино. А за зелено вино да брагу хмельную мы и в ручье можем искупаться, где бобры водятся...
Упоминание о ручье и бобрах насторожило Трувора. Видать, не зря забрели они на его дворище, эти странные новеградцы.
Поздно вечером, когда в Изборске и собаки поуспокоились, он велел позвать непрошеных гостей. Те, словно в сенях сидели, ждали знака, — явились мигом. Глаза плутоватые, руки так и шарят — то за всклокоченные бороды уцепятся, то на поясе застрянут, порты поддернут, то столешницы, как бы невзначай, коснутся. И разговор повели поначалу странный, тёмный какой-то...
— Мы ушкуйнички, добры молодцы. Как нас звать-величать, князь Трувор, мы и сами забыли, да и матки наши не помнят. Оно и к лучшему. Вишь, князь, мы мастаки на добрые дела, — хохотнул коротко один, другой его поддержал. — А коли дела добрые делаешь, да каждому имя-прозвище называешь — ненароком и прославиться можно. Мы же люди скромные, малые, так что, князь, не обессудь, что и к тебе безымянными явились...
— Хватит языком молоть, — перебил нескончаемую новеградскую канитель Трувор. — Зачем пришли? Дело говорите, иначе велю страже головы вам снести.
— Не гневайся, князь Трувор! Мы ж тебе говорим, мы — ушкуйнички, добры молодцы, дела добрые делаем, авось и тебе пригодимся. Слышали мы, князь, что тебе Стемидка поперёк горла встал. Так мы его можем того... ножичком по горлу и к бобрам. Любит он на бобров охотиться, пущай бобры за ним поохотятся. Оступился Стемидка в воду, утонул. Ты ни при чём, мы ни при чём. Опять же, доброе дело сделаем. Для тебя доброе, для нас...
— Хватит тебе, балаболка, — прикрикнул на напарника товарищ. — Сколь мошны отвалишь, князь, коли мы Стемидку уберём?
— Сами надумали или кто посоветовал? — спросил Трувор, обдумывая, выгодно ли ему предложение новеградцев.
— Э-э, князь Трувор, какая тебе разница? Мы продаём, твоя воля покупать али нет. Кто сказал, что сказал, как сказал — мы люди маленькие, за слова нам в кружале браги не дают, а испить-то хочется... Так покупаешь али нет?
— Я не купец, но... сговоримся...
Плесковский рыбак Сивой уговорил-таки соседа, кузнеца Клеща, отправиться с ним на рыбалку.
— Лешак тебя забодай, — беззлобно ворчал Сивой, — насидишься ещё у себя в кузне. Всё едино с тебя коваль, как с меня воевода. Крючьев путных отковать не можешь. Вот уже пойдём на ручей, увидишь, каки крючья новеградцы делают. Их-то щука не разогнёт. Стемид вон говорит, по половодью таки щуки в ручей поднялись, по пуду, а то и боле будут...
— Видел Стемид твоих щук, — посмеивался Клещ. — Он же не дурак весной за бобрами ходить. Кому они нужны-то, весенние?
— А рази я тебе сказал, что он за бобрами ходил, лешак тебя забодай? — кипятился Сивой. — Он на ручей в досмотр ходил, сколь бобров зиму пережили. А... с тобой говорить, что воду в ступе толочь.
К заветному ручью Стемида они добрались во второй половине дня. Пока плотвичек для наживки на плёсах надёргали, пока толкались шестами по извилистому ручью в душегубке до первой бобровой плотины, пока, неторопливо бредя по едва заметной тропинке, выбирали места для рыбной ловли, время шло.
— Вона за тем поворотом Стемидов шалаш будет, — негромко сказал Сивой. На рыбалке он всегда говорил вполголоса, боясь спугнуть тишину. — В нём и заночуем.
— Места, чай, не просидим, хозяин не обидится, — откликнулся Клещ.
В молчании дошли до очередного прихотливого изгиба ручья, густо заросшего непролазной черёмухой. Она уже отцвела, лишь кое-где держались запоздалые полуосыпавшиеся белые гроздья. Неожиданно Сивой резко остановился и вытянул жилистую шею. Шедший сзади Клещ едва не налетел на него.
— Чего ты? — спросил он недовольно. — Медведя увидел, что ли?
— Ш-ш-ш, — чуть слышно ответил Сивой и протянул вперёд руку. Тогда и Клещ услыхал впереди непонятный шум. Нет, хозяин лесной так барахтаться не мог.
Они бросились вперёд. Могучий Клещ обогнал Сивого и первым выскочил на небольшую поляну, на которой в окружении высоких белых берёз темнел старый шалаш.
На мгновение кузнец даже остолбенел от увиденного, потом закричал на весь притихший предвечерний лес:
— Стой! Что делаете?! — и пуще прежнего рванулся вперёд. За ним изо всех сил торопился Сивой.
У шалаша в смертельную игру молча играли трое. Для одного из них, безоружного, уже окровавленного, игра подходила к концу. Он сжимал в объятиях противника, а другой тем временем выбирал момент, чтобы половчее вонзить нож в его напряжённую в нечеловеческом усилии спину. На крик Клеща человек с ножом оглянулся и расчётливо ударил жертву под левую лопатку. Ударил, повернул нож, выдернул его и побежал, на ходу прохрипев напарнику:
— Бегим...
Задыхающийся Клещ догнал убийцу. От удара кузнеца, привыкшего иметь дело с полупудовым молотом, тот мгновенно обмяк и начал валиться на землю.
— Готов! — яростно прохрипел Клещ и бросился на помощь Сивому.
— Вяжи ему руки, лешак его забодай! — кричал Сивой. — Они ж Стемида порезали. Я счас... — и кинулся к распростёртому на земле князю.
Но помощь Стемиду была уже не нужна.
Крепко связав руки неизвестным, скорым шагом повёл их Сивой по тропинке в обратный путь. Сзади молча тащил свою страшную ношу кузнец.
Рюрик торопил дружину. Светлые весенние ночи позволяли плыть едва ли не круглосуточно. За полдня пути до Новеграда Рюрик приказал подтянуть тащившийся за кормой чёлн, отобрал наиболее сильных гребцов. Наказал Переясвету идти без остановок, и чёлн стремительно оторвался от судов.
Внезапное прибытие в Новеград воеводы Рюрика удивило и насторожило посаженного Олельку: воевода в сопровождении вооружённых, словно для битвы, воинов отправился не в градскую избу, а пришёл к нему в хоромы и застал его с Вадимом за хозяйственными делами. Старейшина с сыном придирчиво проверяли, как домашняя челядь просушивает дорогие шкурки. Не обращая внимания на хлопоты хозяина, Рюрик сразу же приступил к делу.
— Олелька, необходимо сегодня же пропустить мою дружину через Новеград. Я спешу, у меня мало времени, чтобы вести с тобой и другими старейшинами долгие переговоры.
— Всю дружину? — деланно удивился Олелька. — Куда воевода так торопится?
— Ни один дружинник не сойдёт с корабля в граде. Мне нужно лишь пройти по реке в Ильмень. Я держу своё слово, ты знаешь, — резко ответил Рюрик.
— Ты хочешь покинуть нашу землю? К грекам собрался али к вятичам? — допытывался Олелька.
— Не гадай, старейшина. Я спешу к кривичам. — И не удержался: — Не ты ли посоветовал Трувору то, что когда-то советовал мне?
Олелька помолчал и, прищурившись, в упор посмотрел на Рюрика.
— Не упомню, о чём мог советовать тебе, воевода, — ответил медленно, растягивая слова. — С братом твоим Трувором не виделся и не пересылался. Нешто случилось что, а?
— Батюшка, — вмешался в беседу Вадим. — Я не знаю, что могло или может случиться с Трувором. То его дело. Дружина воеводы Рюрика в Новеград не войдёт. Я не пущу.
— Воевода Вадим! — закричал Рюрик. — Не тебе решать, войду я в град или нет. Добром не пропустите, силой прорвусь...
— Не быть тому! — тоже закричал Вадим. — Ты поперву выйди отсюда! — И схватился за пояс, но меча на привычном месте не оказалось — домашние хозяйские заботы не с мечом же править.
— Поостыньте, кочеты! — поднял голос и Олелька. — Воевода Рюрик, мы пропустим твои корабли через град. Плыви куда хочешь, но, как ты сам сказал, ни один воин не сойдёт на берег. Учти, дружина наша готова. — И повернулся к сыну: — Воевода Вадим, дружину собери немедля. В било не вздумай ударить. Без сполоха надобно: чай, не враги в град лезут... Не мешкай! Делай, что велено! Тут я сам рассужу!
Сивой с Клещом дотащились до Плескова уже в темноте. На нетерпеливый стук в ворота из-за тына выглянуло недоумённое лицо дружинника.
— Чего ломитесь-то на ночь глядя? — громко закричал он. — Вот пущу стрелу в глаз — враз утихомиритесь. Нешто не знаете, что князь Стемид указал никого в град ночью не пущать?
— Отворяй, старый дурень! Протри гляделки, лешак тебя забодай, не видишь, тело князя принесли...
Дружинник заторопился к воротам.
Тревожный сполох загудел над уснувшим Плесковом. Люди выскакивали из изб полураздетыми, хватали первое попавшееся под руку оружие и бежали к подворью Стемйда.
— Кто напал?
— Откуда лезут?
— На стены! — напирали, подбегая, задние. Но стоявшие впереди сбились в тесный круг, грозно и подавленно молчали. Страшная весть вскоре облетела всех. И мёртвая тишина установилась на площади, собравшей всё население града.
В центре огромной толпы, на кем-то брошенной ряднине, лежало тело князя Стемида. Запёкшаяся кровь коробила телогрею. Тут же стояли подавленные Сивой и Клещ. Убийцы, оказавшиеся в тесном кругу грозно молчащих людей, жались к кузнецу, словно надеясь на его защиту.
Сквозь толпу, ничего не видя перед собой, пробилась пожилая женщина. Надломленно упала на колени перед телом князя, и ночную тишину разорвал отчаянный крик:
— Стемидушка!!!
От душераздирающего вопля первым очнулся старейшина Борич. Вдвоём с Нетием они оторвали женщину от бездыханного тела мужа, бережно передали в толпу:
— Уведите…
— Кто содеял злодейство такое? — повернулся Борин к Сивому и Клещу.
— Вот они, Борин... — Клещ вытолкнул вперёд убийц.
— Ножами они его, — подал голос Сивой. — По дороге пытали: кто такие, за что? Молчат. Только в поясах по мошне серебра было, вот. — И протянул старейшине кисы. Борин даже не взглянул на них. Кисы с серебром глухо упали на землю.
— Серебро, говоришь? — переспросил старейшина Нетий. — Богатые, значит. Кто-то дорого за смерть князя нашего заплатил им. Кто? Кому смерть Стемида понадобилась?
Убийцы молчали. Только глаза их при свете факелов вспыхивали и гасли.
— Гей, дружина! Калите железо! — мрачно приказал Борич. — Всенародно спросим: кому смерть Стемида нашего понадобилась?
— Люди добрые, не надо железа, — срывающимся голосом запросил один из убийц. — Я и так скажу. Князь Трувор нас послал...
— Трувор, бодричи, — приглушённо-яростно понеслось по площади. И тотчас же из дальней темноты эхом откликнулось:
— Бей их!
— Бей находников!
— Погоди, люди! Только ли бодричам злодейство то надобно было? — пытался перекричать площадь старейшина Нетий. — Убивцы-то новеградцы...
Но было уже поздно. Оружие требовало крови. Через несколько мгновений окровавленные и обезображенные тела ушкуйников были выброшены за частокол.
— К Изборску!
— Смерть за смерть!
— Согнать убивец с земли нашей!
— Борич, вели в поход собираться!
Кипела ночная площадь. Старейшины повелели: рано утром идти в поход.
Рюрик опоздал. Удар плесковцев был настолько стремительным и неожиданным для Трувора, что тот не мог собрать в единый кулак даже свою немногочисленную дружину. Воины гибли по одному, дорого отдавая свои жизни, но гибли бесславно. Так же бесславно, в одиночестве, погиб и Трувор от меча кузнеца Клеща. Был тот меч не харалужный, но сила и солому ломит.
Таким же беспощадным оказался и удар по плесковцам подоспевшей дружины Рюрика. Радостные от одержанной победы, пьяные вражьей кровью, возвращались плесковцы к своему граду. Рюрик навалился нежданно-негаданно (спасшиеся из дружины Трувора принесли ему чёрную весть).
Короткой была сеча. Одним из первых пал кузнец Клещ. С пробитой головой свалился неподалёку от него рыбак Сивой, не успев досказать своего любимого:
— Лешак тебя...
Пал старейшина Борич. Пали многие.
Не разрешив собирать добычу, Рюрик повернул дружину на Плесков. Без защитников град отбивался всё же полдня. К вечеру во многих местах запылал частокол...
Изначальный наш Нестор-летописец пишет:
«...и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были славяне. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И овладел всею властью один Рюрик...»
В один год умерли младшие братья. Эпидемия (или, как тогда говорили, чёрный мор) по Руси прошла? Молчит об этом летописец. Хотя бедам людским наши летописи уделяли немало внимания. Наверное, не умолчал бы летописец о случившемся море. Следовательно, можно предположить, что не в море дело было. Тем более что дальнейшие события свидетельствуют: с неприязнью отнеслись новгородцы к Рюрику. Заслужил он неприязнь эту делами своими. А братья его? Лучше они были или хуже? Нет ответа в летописях. Но не природной смертью померли они...
В Плесков из Изборска прибыл одинокий возок. Воевода заметил его из окна одного из немногих строений, сохранившихся от пожара. Переборов раздражение — никого не допускал к себе, братья Трувор и Синеус каждую ночь приходили к его ложу, что-то пытались сказать ему и не могли, и оттого ещё больше гневался воевода, — Рюрик вышел во дворище. Глянул немилостиво на дружинников, на заляпанный грязью возок и от изумления широко раскрыл глаза.
Из возка вылез восьмилетний племянник Олег. Во взгляде его был застывший страх. Он не побежал к Рюрику, как бывало. Стоял нахмуренный, без улыбки. Следом за Олегом шагнула на раскисшую после дождя землю Хильдигунн. Увидела Рюрика, не выдержала, заплакала.
— Как вы спаслись? — хрипло спросил Рюрик.
— Трувор велел нам спрятаться в самой захудалой избе, — сквозь слёзы ответила Хильдигунн. — Там и отсиделись вначале, а когда кривичи взяли Изборск, мы с ним, — она прижала к себе Олега, — ушли в лес.
— Но я же отобрал Изборск! — воскликнул Рюрик. — Где же вы были?
— Мы не успели. Ты ушёл быстро. Воины из твоей дружины подобрали нас и привезли к тебе...
Их надо всех убивать, всех до одного. — Не проронивший за всю дорогу ни слезинки, Олег подавился рыданиями. Размазывая слёзы по лицу, он не по-детски тяжело смотрел на Рюрика.
Тот не пытался утешать мальчишку. Зачем? Пусть привыкает и копит гнев.
СЛОВЕНЕ НОВЕГРАДСКИЕ: СЕРЕДИНА IX ВЕКА
Поле стлалось под копыта коней полёгшей рожью. Рюрик горячил коня, лицо его было угрюмым, недоступным. Хозяева полей поторопились разбежаться или умереть. Хлеб достался воробьям и воронам. Тем лучше. Все до единого пусть подохнут пока ещё оставшиеся в живых кривичи. Он, Рюрик, жалеть их не станет. Сначала весь, теперь они подняли руку на его род. Черёд веси придёт, а теперь выжечь и вытоптать землю кривскую. Великий Святовит должен быть доволен — Трувор отомщён.
По наезженным дорогам и малоприметным тропам разыскивала дружина деревушки и поселения. Обнаружив почерневшие крыши, вросшие в землю низкие срубы жилищ, доносили о том воеводе и ждали его распоряжений. После того, как неожиданная смерть от потайной стрелы нашла нескольких воинов в таких деревушках, лихачество оставили, не торопились врываться в избы.
Немногие из уцелевших в Плескове и Изборске кривичи, завидев конного или пешего дружинника, останавливались, склонив голову, пережидали или забивались в любую подвернувшуюся щель. В лесных, за болотами спрятанных селищах избы стояли пустые. Разочарованные воины с проклятиями брались за ставший привычным труд. Свирепый огонь гасить было некому. Там же, где захватывали жителей, не обходилось без стычек. Кривичи хватались за секиры и косы.
— Берегите воинов, — без устали твердил Рюрик военачальникам. — Будут они — будет добыча, не станет воинов — наш черёд придёт предстать перед предками.
Снеульв радовался:
— Что же ты, конунг Рюрик, сразу не сказал мне о такой богатой охоте? Я думал: чаще, чем меч в руках держать, на полатях придётся лежать. А тут знай веселись...
Рюрик угрюмо отмалчивался. Север кривской земли исхожен вдоль и поперёк. Немалая добыча стащена в разорённый Плесков. Пришлось дружине потрудиться — вместе с согнанными жителями возвести на месте сгоревшего новый частокол, срубить для себя десятка три изб. Опасливо косясь на воев, тюкали потихоньку топорами на пепелищах немногие из уцелевших плесковцев. Опорный пункт в любой земле надобен. С этим не поспоришь. А может, отстроить Плесков и сесть тут княжить? Или тому же Переясвету отдать?
Согласуясь с неторопливым шагом коня, приходили и уходили мысли. Княжить над полууничтоженными, полуразбредшимися по лесам кривичами — невелика честь. Южнее — на сотни вёрст непроходимых лесов, озёр, рек и болот — лежали земли тех же кривичей. Где-то там гордился своей неприступностью Смоленск. Но туда пока идти нельзя. Новеград — вот его забота. У словен есть хорошая поговорка: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Его заяц — Новеград. Смоленск подождёт.
Новеград... А ведь Вадим собрал тогда дружину. По обоим берегам Волхова стояли, приготовив луки, поблескивая воронёными кольчугами, воины. Корабли плыли под сумрачными, неласковыми взглядами новеградцев. Дай им волю — засыпали бы стрелами. Да, Вадим успел, а вот он, Рюрик, опоздал помочь Трувору...
Пожарища сопровождали дружину воеводы. В осеннем прозрачном воздухе они были далеко видны. Сухое дерево горело жарко. Но кривичей нигде не было. Затаились в лесах? Значит, не смирились, не покорились. Рюрик убивал уже не из чувства мести — по необходимости. Кривичи должны встать на колени, признать его князем, платить дань. И Рюрик вновь торопил коня. Новые тропы приводили к пустым деревням. Даже случайно схваченный одинокий кривич вызывал у него в душе злое торжество. Где смерды? Куда спрятались? Кривич молчал. Так же молча падал, пронзённый копьём. Казалось, вся огромная земля вымерла.
— Воевода, пора возвращаться. — На суровом лице Переясвета залегли глубокие жёсткие складки. — Мы зря теряем время. Кривичей нет. В лесные дебри облавой не пойдёшь...
— Предлагаешь прекратить поход? — удивился Снеульв. — Мы с тобой воины, Переясвет, а не бабы, чтобы сидеть у очага...
— Когда затрещат морозы, сам попросишься к очагу, — спокойно ответил Переясвет.
— Ты предлагаешь вернуться? — задумчиво глядя на пламя костра, спросил Рюрик. — Хорошо, я согласен. Но куда? В Плесков, Изборск, Ладогу?
— В Ладогу, — твёрдо ответил Переясвет. — Если ты ещё не забыл о Новеграде...
Рюрик пристально посмотрел на пятидесятника. Этот понимает. Уверен, что путь в Новеград лежит через Ладогу. А сам Рюрик уверен в этом?
— Что скажете вы? — кивнул он Мстиве и Снеульву.
— Конечно, в Ладогу, — поспешно ответил Мстива. — Зачем нам сожжённый Плесков? Там и людей-то почти нет, и смотрят они волками.
— Мстива торопится в Ладогу к молодой Малке, — захохотал Снеульв. — Сам рассказывал, какие сладкие у неё губы. А я так тебе скажу, конунг. Для меня всё едино, возвращаться в Ладогу или оставаться здесь, у кривичей. Зимовать можно и в Плескове, а весной опять в поход...
— По этим же деревням? — спросил Переясвет.
— Конечно. — В голосе Снеульва Рюрик услышал беспечность.
— Ты много их оставил после себя?
Снеульв озадаченно промолчал.
— Зиму найдётся чем прокормиться. Но если ты собираешься оставаться здесь и летом — не завидую. Для твоего коня трава вырастет, но ты и твои воины — не кони. Надеяться, что смерды выйдут из лесов и вырастят хлеб, пока мы здесь, может только младенец...
Наступило молчание. Рюрик почувствовал в словах Переясвета не только горькую правду, но и осуждение. Хочешь править — не будь грабителем с большой дороги...
Военачальники ждали решения Рюрика.
Он не торопился с ответом. Слово произнести нетрудно, когда за ним стоит обдуманное решение. Уходить с кривской земли надо — это Рюрик знал и без подсказки Переясвета, хотя тот вроде бы и не ему, а Снеульву объяснил, чем грозит дальнейшее пребывание в разорённой земле. Но стоит ли возвращаться в Ладогу?
Чего стоит Ладога без Новеграда? Но посаженный Олелька — союзник ненадёжный. Добычу скупить — на это он готов... Но признать Рюрика князем новеградским, отдать ему власть?
Может, пообещать ему скрытно, что он будет основным и единственным купцом для дружины? И это вряд ли поможет. В руки Олельки и без обещания попадает почти вся добыча. Так было после похода на весь, так, наверное, будет и сейчас.
Добровольно посаженный власти не отдаст. На страже Новеграда и Вадим с дружиной. Нет, не словами надо убеждать новеградцев — силой! Значит, надо возвращаться в Ладогу и копить, собирать мощь. Пришёл Снеульв, придут и другие, Скандия богата воинами, им тесно на родине. Да и только ли Скандия? Найдутся дружинники и у бодричей, и у лютичей. Тёплые моря подождут. Воины нужны ему здесь, чтобы привести в покорность словен.
Стой, воевода, погоди. Не делаешь ли ты ошибки, надеясь на другие племена? А сами словене? Трувора соблазнили на недостойный воина поступок новеградцы, ушкуйники. Соблазняя, они и сами увлеклись службой Трувору. Тайные убийства воеводе не нужны. А воины?
Если в дружине будут словене, не придётся завоёвывать Новеград силой. Когда весь пришлёт дань, потребовать, чтобы выделили людей и в дружину. Охотников? Нет, они, что волки, в лес будут смотреть. Нужны подростки. Из них он сделает воинов — верных и послушных. Надо попробовать привлечь и словен, а может быть, и кривичей...
— Возвращаемся в Ладогу, — подводя итог размышлениям, сказал Рюрик. — Сюда мы ещё вернёмся, Снеульв. Кривичи будут платить нам дань. У очага тебе долго сидеть не придётся. Надо торопиться. Озеро со дня на день может замёрзнуть...
Мстива привёз повеление посаженного: кораблям с дружиной остановиться перед входом в град, напротив соснового бора. Воеводу же Олелька приглашал к себе. Рюрик надел кольчугу, препоясался мечом и в сопровождении гребцов-воинов отправился на быстролётном челне в Новеград.
Памятуя смущение Олельки и его сына в прошлый приезд, воевода на сей раз отправился в градскую избу. От пристани до торговой площади, близ которой новеградские древоделы изукрасили добротные палаты для старейшин, рукой подать. Воевода шёл неспешно, по-хозяйски приминая каблуками супесь. За ним след в след — пятёрка воинов. Встречные уступали дорогу, с любопытством, глазами, вопрошая: кто такие?
Служка градский выскочил на высокое крыльцо — признал Рюрика через слюдяное оконце. Низко склонился:
— Будь здрав, воевода Рюрик. Не ждали тебя так скоро... Посаженный приболел, в хоромах своих отлёживается. Войди в палату, воевода, — ещё раз поклонился служка. — Я извещу старейшину о твоём приходе. Хотел тебя видеть, авось и превозможет болесть...
Олелька велел передать, что прийти не может, и просил воеводу пожаловать в его хоромы. Рюрик выслушал служку с непроницаемым лицом. Видно, посаженный хочет разговора без свидетелей.
На широком подворье Олельковых хором воеводу встретил Вадим. Был он, как и Рюрик, в кольчуге, при мече, смотрел неулыбчиво. Поднял в знак приветствия руку и зашагал впереди по лесенкам и переходам, указывая гостю дорогу. Из одних дверей выглянула молодайка и — Вадим только глазом повёл — исчезла. Рюрик успел приметить крутое плечо и высокую грудь да румянец в полщеки.
У низкой двери дальнего покоя Вадим остановился, предупредительно постучался и, не входя, пропустил Рюрика.
В покое было полутемно, и воевода не сразу разглядел старейшину. Тот лежал на широком ложе под алтабасным[26], красного цвета одеялом. Неприкрытой оставалась только голова с заострившимся лицом, неспокойными глазами, да ещё руки неподвижно чернели на красном.
— Входи, воевода, — раздался тихий, прерывающийся голос посаженного. — Садись ближе. Не встаю, немочь одолела...
— Не вовремя занедужил, старейшина, — с лёгкой укоризной ответил Рюрик. — Дел много накопилось...
Ему нужен был прежний расторопный и деловитый Олелька. Убедить старейшин, чтобы не препятствовали новеградцам вступать в его дружину, разрешить Милославе поселиться в Новеграде — сумеет ли немощный посаженный?
— Сам ведаю, что не ко времени, да лихоманка не спрашивает, — поморщился Олелька. — Молви, воевода, о походе.
— О сделанном что говорить, — немного помолчав, ответил Рюрик. — Сделанное тем и хорошо, что позади. А говорить надобно о том, что предстоит...
— Не спеши, воевода, и сделанное надобно взвешивать безменом — прибыль оно принесло или убыток. Неразумно поступил, воевода. Слыхал, кривичей ты до смерти примучил, то в убыток тебе. Наказать надо было, страху нагнать, а до смерти примучивать нельзя. Отшатнутся от тебя кривичи, веры не будет. Размысли, польза ли от того?
— Дань я их заставлю платить, — возразил Рюрик.
— А и не заставил ведь. Значит, полдела содеял. Князем земли кривской не стал...
— Стану. Осенью опять в поход пойду.
— Много ли походом сделаешь? У нас ушкуйники так-то ходят. Их дело известное—добычу взять...
— Мне тоже добыча нужна.
— Я думал, земля, воевода, — устало откинулся на изголовье Олелька.
— Хозяином земли без корней дружинных не станешь, — откровенно и потому угрюмо сказал Рюрик.
— О каких корнях молвишь, воевода? — равнодушно спросил Олелька. Он терял интерес к беседе. Стоит ли обхаживать этого бодрича, если защитника Новеграда из него не получается? Ему только добыча нужна. Легковесен — ушкуйник, одним словом.
— В дружине должны быть воины той земли, хозяином которой хочешь стать, — ответил Рюрик. — У меня таких нет. Но они должны быть, разве я не прав?
— Давно к такой мысли пришёл, воевода? — оживился посаженный. — Что-то раньше я не слыхивал от тебя таких слов.
— Давно или недавно — какая разница? Разве я не прав? — настойчиво-требовательно переспросил Рюрик.
— Прав, конечно. Если бы раньше додумался до этого, не сотворил бы столько зла кривичам.
— Э, что о сделанном говорить, — досадливо поморщился Рюрик. — Прошу, старейшина, помоги новеградцев в дружину привлечь...
— Погодь, погодь, воевода, ты никак по-прежнему владыкой Новеграда хочешь стать? — Олелька привстал на ложе, глаза его впились в Рюрика. — Сколь раз говорено тебе: забудь о том. Служить Новеграду похочешь — хоть сейчас ряд уложим...
— Ты не так меня понял, Олелька, — попытался исправить ошибку воевода. — Если в дружину пойдут новеградцы, не устоят и кривские, весь, да и другие потянутся — чудь, полочане, водь...
— Я стар, воевода, в жмурки играть, — сурово, хотя и сдержанно ответил Олелька. — Владыкой новеградским тебе не бывать. О том не проси. Хочешь других земель — добывай. О Новеграде забудь. То моё последнее слово.
— Жаль, Олелька, — с досадой хлопнул рукой по колену Рюрик. — Но будь по-твоему. Не дадут новеградцы дружинников — обойдусь. Этого добра много везде шляется, для меня хватит. Исполни другую просьбу. Сам знаешь, я в походах постоянно. Зачем Милославе в Ладоге жить? Хоромы её отца в Новеграде стоят.
— А ты, её муж, будешь постоянно в град приезжать. Тако хочешь новеградцев привлечь? Эх, воевода, воевода... Не след бы делать того, ну да ладно. Пусть будет по-твоему.
— Стемид-князь немало-таки бобров накопил, — круто повернул разговор Рюрик. — Мне они ни к чему. Не купишь ли?
— Ох-хо-хо, воевода, вишь, немочь одолела, до бобров ли? — через силу произнёс Олелька, но глаза его потеплели. — Не забыл, чай, что за проход дружины через град в обе стороны мыт положен?
Рюрик дёрнул себя за ус, улыбнулся.
Последние вёрсты к Ладоге корабли пробивались уже по шуге. Морозец крепчал. Вёсла дробили тонкий лёд. На головном корабле Рюрик бодрил гребцов, торопил— через день по льду пешком ходить можно будет. Надо дойти до Ладоги и успеть вытащить корабли на берег. Без них дружине не обойтись. От гребцов валил пар; но они были веселы: конец похода, впереди отдых. Некоторые из воинов, нарушив обычай, везли с собой кривских пленниц. Рюрик словно и не замечал их присутствия. И военачальникам наказал не обращать внимания. Однако предупредил строго-настрого: драка возникнет или ссора — ни жёнок, ни воинов не миловать.
Ладога встретила многолюдством. Градские поднялись на стены, высыпали на берег. Привыкли к бодричам, своими считали. На варягов Снеульва всё ещё косились, но помалкивали. Да и корысть примешивалась: дружина из похода не с пустыми руками возвращается. Помнили весьский поход, не всё тогда новеградцам досталось, кое-что из добычи воинов к рукам ладожан прилипло. Надеялись, что и в этот раз так же будет.
На берегу распоряжался воевода Щука. Дело воинское знал он до тонкости: и катки были припасены, и канаты пеньковые. Не успели воины на берег сойти, как корабли один за другим под дружные совместные крики дружинников и градских оказались на берегу. И подпорки под корму и борта нашлись, и лестницы добрые — обо всём позаботился Щука.
— Пошли, Щука. В хоромах, наверное, всё к пиру готово, — улыбнулся воевода и повернулся к военачальникам. — Сегодня пировать станем. Корабли разгружать завтра. Кому надобно, может отлучиться, но ненадолго. Пир как поход, на нём все в сборе должны быть. — И зашагал к своим хоромам.
На подворье Рюрика первым встретил Олег — выдержал характер, не побежал на берег, князем растёт. Вытянувшийся, с падающими на плечи белокурыми волосами, он стоял на крыльце рядом с Милославой. Как только Рюрик открыл ворота, Олег не выдержал, опрометью кинулся к дяде. Воевода улыбнулся, обнял его.
— Мужчиной растёшь! Скоро в поход вместе пойдём.
Милослава склонилась перед Рюриком. Глаза лучше, чем язык, сказали, как ждала и как истосковалась она по нему. И он после долгого похода с радостным изумлением смотрел на неё. Похорошела Милослава: округлились бёдра, круче стала грудь, расцвело лицо.
— Милослава, я сегодня даю пир дружине. Воеводы заслужили его. — И пояснил-попросил: — Помоги мне. Накажи челядинцам, чтобы никого не выделяли, обносили чарами всех в одноразье, а не по старшинству... То для меня важно.
Милослава вспыхнула румянцем, улыбнулась застенчиво, маленькие ямочки появились на щеках и пропали. Она вновь склонилась перед мужем.
В хоромы старейшины Блашко зачастили гости. Побывали не единожды Пушко, Домнин, другие помощники посаженного. Встретив на торжище кузнеца Радомысла, Блашко и тому запросто кивнул:
— Что-то ты, оружейник, зазнаваться стал, и не заглянешь николи. Мог бы и зайти. По чаре мёду стоялого изопьём, поговорим по душам. Времена-то смутные идут, друг за дружку держаться надобно. Вишь, Рюрик ушкуйничает, а Олелька покрывает его да привечает...
В хоромах Блашко что ни день, то пир, что ни другой, то полпира, пированьице. Гости торговые, почитай, все перебывали, сладко ели-пили, хозяина-гостелюба нахваливали. Теперь, видать, очередь рукодельцев пришла...
Поклонился Радомысл старейшине, пообещал при случае наведаться и заторопился в кузню: работы много — воевода Вадим чуть не каждый день шлёт посыльных — сколь клинков отковали и колец кольчужных наготовили? И все к нему, Радомыслу. А он ведь не старейшина кузнечного ряда. Мало ли что люди уважают. Воеводу без ответа не оставишь — отправляй подмастерьев к другим мастерам, узнавай. Морока одна и делу остуда.
В кузнице Михолап варил разной закалки полосы воедино, чтобы будущий клинок не крошился, не ломался при ударе.
Радомысл, опоясавшись прожжённым передником, стал на привычное место. Шибче заработали меходувы, побелело пламя в горне. Сварка клинка дело хитрое, тонкое. К средней полосе, обычной, железной, надо наварить крайние, узорчатые. А они варятся из нескольких прутьев, по знанию и опыту мастера в горне выдержанных, перекрученных и раскованных в полосу. То ещё полдела. Соединить разные части, да так, чтобы и глаз не заметил шва, и при изгибе или ударе они единым целым оставались, в торец наварить стальную полосу — будущее лезвие — да свести-соединить будущие «щёки» с лезвием — то дело. Остальное: вытягивание черенка рукоятки, выборка долов, шлифовка — подмастерьям, пусть руку набивают. Мастер вновь возьмётся за клинок для последней операции — окончательной закалки.
Михолап собрался было сунуть в горн стальную полосу, чтобы приварить её к готовому бруску, но Радомысл стукнул молотком по наковальне, махнул ему рукой.
— Из головы не идёт Блашко, — в раздумье сказал он другу. — В гости приглашал. С чего бы это, а?
— В гости приглашал — идти надо, — с усмешкой ответил Михолап. — Не каждый день старейшины в гости кличут. А меды у них стоялые, чару хватишь, ноги в пляс сами пойдут. Сходи, друг, не пожалеешь...
— Тьфу ты, — рассердился кузнец. — Ему дело, а он безделицу...
— Да како ж то дело, Радомысл, — примирительно и уже серьёзно сказал Михолап. — Неуж в самом деле не ведаешь, зачем понадобился? Олелька не встаёт уже, уразумел? Князя-воеводы нет, посаженный вот-вот к праотцам отправится, Новеградом править кто-то должен. Вот Блашко и стелется травой-муравой.
— Я ж не старейшина. Чего ему со мной балясы точить?
— Ты не старейшина, и я не воевода, но Блашко добре ведает: какое ты слово молвишь — его все кузнецы подхватят, ну, а в дружине и мой голос не последний...
— Он что, и тебя приглашал?
— Эх, Радомысл, Радомысл, простая душа. Я у старейшины вчера ещё побывал, медов стоялых пивал, разговорами сытными заедал.
— Так чего ж ты раньше молчал? — рассердился кузнец. — Меды стоялые, меды...
— Ну прибег бы я к тебе ночью с вестью, что Блашко посаженным хочет быть, что-нибудь изменилось бы? Не Блашко, так другой будет. А может, тебя на вече выкрикнуть, а? — улыбнулся Михолап. — Чем не посаженный? Торговых гостей да старейшин поприжмёшь, смердам леготу сделаешь. Только моих дюже не балуй...
— Тебе бы только зубы скалить, — с сердцем махнул рукой Радомысл. — Али нас то не касается?
— Опоздал, друг Радомысл, — серьёзно ответил дружинник. — Блашко уже всех старейшин да нарочитых на свою сторону переманил. Даже Вадим не возражает. Вы вот тогда старейшин отставили, надеялись — лучше станет. Стало? Молчишь. О чём Олелька с Рюриком этим, лихоманка на голову его, разговоры разговаривает, знаешь? И я не знаю, хотя и в хоромах его часто бываю. То же и с Блашко будет, не с Блашко, так с Домнином...
— Вот и надо не из нынешних нарочитых, — возразил Радомысл.
— Я ж говорю: тебя на вече выкрикнуть надобно, — рассердился Михолап. — Ты крикнешь против Блашко, думаешь, тебя все ковали поддержат? Их рукоделье кто забирает, не Блашко ли? А древоведы, гончары, ладейщики из чьих рук кормятся? Забыл?
— Трудами своих рук кормятся, — стукнул молотком по наковальне Радомысл. — Понадобится, и без торговых гостей нарочитых жить станем. Деды жили, и мы заможем...
— Деды, — с лёгкой усмешкой протянул Михолап. — Гляжу на тебя, вроде умный мужик, а иной раз такую дурь скажешь. Деды... Ты бы ещё Славена вспомнил. Они родами жили, старейшин почитали. Те роды блюли, волю богов исполняли. А тебя, вишь, старейшина в гости зовёт, а ты кобенишься. При предках-то рукодельцы не только своё дело робили, жили как все в роде: хлеб ростили, охотились. Рукомеслом своим меж делом занимались. Ныне же наоборот — рукодельцы землю пашут меж делом своим. Тебя вон из кузни не вытащить. Она тебя кормит, а не земля. И других так же. Вам и на торжище идти самим неколи. Тем и пользуются старейшины да гости торговые. Это у предков старейшины честь рода блюли и о роде думали. Ныне больше о своей мошне заботятся. А мы по-прежнему думаем, что они ближе к богам, чем к земным делам, стоят.
— Но прошлый раз с ними круто обошлись, — не сдавался Радомысл.
— Ну не дурило ли ты, а? Припомни, тогда бодричи граду угрожали. А теперь Рюрик в Ладоге смирно сидит. Олелька помрёт, другого выкрикнут, так чего ради шум? Вороги нападают, что ли?
— А всё едино не так, — сжал кулаки Радомысл. — Ну да ладно, пойдём робить...
Посаженный старейшина Олелька умирал тяжело. Жилистое высохшее тело никак не хотело расставаться с жизнью.
Проваливаясь на короткое время в тяжёлый сон, Вадим, как от толчка, просыпался, торопился в горницу. Заслышав шаги сына, Олелька чуть слышно шептал, морщась от накатывающей боли в груди:
— Жив я ещё, жив, — и в изнеможении закрывал глаза.
Вадим страшился смотреть на его лицо. Казалось, на ложе лежит кто-то чужой, незнакомый и страшный. А властный отец, которого он побаивался и которому подчинялся с первого слова, куда-то исчез. От отца в лежащем на ложе старике ничего не осталось.
— Жив ещё... Измаялся ты со мной. Потерпи. А пока сядь... Хочу молвить чего за жизнь... Разговор... долгий будет. Дом веди... как я вёл... Торговлю... со старыми. Поладь с Рюриком...
— С Рюриком, батюшка?
— Я ж... сказал... Добыча у него всегда будет... И продавать он её будет... Пусть тебе...
— Но он...
— Знаю... В Новеград не пущай... Пока дружина у тебя... Князем он не станет... Не хозяин... Ушкуйник... Силой полезет, гони... Милославу в град пустите... Нашей земли... Люди не поймут... Больше полста воинов не пущай... Об этом со старейшинами говорить буду... Рассветёт — позови... Пора...
— Батюшка, не хотел молвить, но старейшины к Блашко тянут. Его на место посаженного прочат.
— Пусть их... — после долгого молчания прошептал Олелька. — Лучше бы другой... Поздно... Сговорились... Блашко... Он Рюрика приглашал... Смотри Новеград... Рюрика не пущайте... Да не о том я хотел... с тобой... Погодь, передохну...
В горнице наступила тишина. Вадим даже дыхание сдерживал, чтобы не потревожить отца, смотрел в пол, чутко ловя ухом малейшие изменения в хрипах умирающего. В голове молотом стучали два слова: «Смотри Новеград... Смотри Новеград...»
— Людмилу привечай... — заговорил вновь отец. — Береги. Не обижай... Она добрая жена... Дети будут — учи, наставляй... Честь блюдите... и род наш... Жёсткого сердца ни на кого не имей. Со Стемидом... нехорошо я... Прогневил богов... Обидел он меня. Давно было... Вот и расплата...
— О чём ты, батюшка?
— Непотребной крови не лей, — с трудом повернул Олелька к нему чужое лицо. — Кровь кровью отзовётся... Ладно, иди... Позови старейшин... Потом доскажу...
На беседе посаженного со старейшинами Вадим не присутствовал. Ввёл их в горницу, рассадил по местам, хотел остаться, но отец молча, глазами, указал: выйди, мол, за дверь. Разговор был долгим. Наконец старейшины вышли, и Вадим видел, как гордо нёс голову Блашко. Значит, батюшка согласился на его посадничество.
Вадим заглянул к умирающему. Отец смотрел на него, не узнавая. Потом глаза его стали осмысленными.
— Живи... сын... — услышал Вадим. И это были последние слова посаженного старейшины Олельки. Судорога прошла по его телу, дважды высоко поднялась грудь. Олелька затих. Навечно.
Вадим выбежал из горницы. В хоромах поднялся переполох.
Гадал Щука: что-то будет? Конечно, Новеград долго без головы жить не станет, перелаются, но посаженного выберут. А вот как Рюрик себя поведёт? Не попрёт ли с дружиной в Новеград?
Муторно на душе у воеводы. Не вовремя боги прибрали к себе Олельку. Вроде бы и чужим он был Щуке, но пусть бы ещё пожил. С Рюриком хитрил-играл не без прибыли себе и Новеграду. Об игре той посаженный со Щукой словом не перемолвился, но Рюрик к Новеграду поохладел, не рвался явно. Так ли нынче будет — неведомо. А ведать надобно. Потому и заторопился Щука с полученным известием к воеводе.
Рюрик от той вести тоже поскучнел. Молча подошёл к столу, наполнил два кубка густым, розового цвета вином.
— Пусть душа старейшины Олельки радуется и веселится в верхнем мире, — сказал торжественно-сумрачно, плеснул из кубка в горевший очаг, остальное медленно выпил. Щука последовал его примеру.
Помолчали.
— Не обижаются ли, воевода, твои новые дружинники на тесноту, не холодно ли в избах? — спросил Щука, надеясь, что Рюрик проговорится. — Рубили-то второпях...
— Снеульвова дружина? — переспросил Рюрик, скользнув по воеводе отсутствующим взглядом. — Не жаловались... — и опять умолк.
«А может, прямо спросить? — раздумывал воевода. — Ежели стороной, вокруг да около — не проговорится, не лыком шит. Но разумно ли прямо в лоб?»
— Теперь новеградцы другого посаженного выбирать станут? Или выбрали уже? — прервал сумятицу воеводских мыслей Рюрик.
— Вестимо. Без посаженного Новеград жить не станет, — твёрдо ответил воевода. — Думаю, новеградцы то дело уже порешили. Заутро вестник сказывал, будто вече собирались на другой день после тризны сзывать. То, значит, позапрошлый день было...
— А не говорил ли вестник, кого в посаженные метят?
— Того не ведаю, воевода. Вестник сам не знает. Его ко мне воевода новеградский Вадим прислал...
Рюрик молчал — напоминание о Вадиме пробудило в нём недобрые воспоминания.
«Эх, была не была», — решился Щука и, построжав голосом, сказал:
— Слышь, воевода. Не вздумай нынче на Новеград лезть. Новеградцы не примут и... ладожане противны будут.
— Кто тебе сказал, что я походом на Новеград собираюсь? — Глаза его сузились, не смотрели — сверлили Щуку. Но воевода выдержал взгляд, не сморгнул.
— Никто не сказал, — тем же твёрдым голосом ответил Щука. — Ладогу нашу ты временным прибежищем считаешь, а мыслями уже давно в Новеграде княжишь. То мне ведомо. Потому и предостерегаю. Можешь подумать: сейчас, после смерти Олельки, время благоприятствует для похода. Ошибёшься, воевода. Говорю тебе: новеградцы не примут и ладожане не поддержат...
— Забываешь, Щука: именно новеградские старейшины, а не ладожские призвали меня на княжение. Я имею право на княжение в Новеграде как наследник князя Гостомысла. Жена моя — дочь его.
— О том не со мной, воевода, говорить надобно. Второй год в Ладоге сидишь, не один раз со старейшинами новеградскими встречался, с ними и говори. А со мной что? Я дел тех не вершу...
— А если я всё же пойду в Новеград?
— Крови много прольётся, воевода, и... в Ладогу не вернёшься.
— Затворитесь в твердыне?
— Затворимся.
Рюрик расхохотался.
— Плохой из тебя, Щука, воевода. Ладога в моей власти. Оставлю десятков пять дружинников, тебя в поруб, и весь сказ. Я бы тебе и сотню дружинников не доверил, а не то что твердыню.
— Насчёт поруба — ты прав, — расправил плечи Щука. — А что до твердыни — надолго ли сядешь в ней? Новеградцы тебя здесь, как медведя в берлоге, обложат. Через три-четыре седмицы жрать нечего станет, и вернёшь твердыню. А какой я воевода, не торопись судить...
— Ладно, — хлопнул его по плечу Рюрик, — не сердись. Я пошутил, миром жить станем. Но ты меня напугал. Вдруг в самом деле новому посаженному в голову придёт Ладогу в осаду взять? Что тогда? Помирать вместе будем. Как думаешь?
— Новеградцы на Ладогу не пойдут. До сих пор мирно с тобой жили, с какой стати ноне воевать? Чай, новый посаженный не глупее старого будет...
— Утешил, воевода, да только мне от того не легче. Думаю, надо мне с дружиной поближе к Новеграду перебираться...
— Значит, не оставил мысли...
— Не торопись, воевода. Я же сказал — к Новеграду, а не в град. Срублю воинский градец рядом. Какая разница, где сидеть; тут ли, в Ладоге, там ли, в градце? А княгиня моя и в Новеграде жить может... Об этом мы ещё со старейшиной Олелькой уговорились. Пожалуй, так и сделаю. Позову военачальников, посоветуемся...
— Погодь, воевода, об чем ты с посаженным договорился? — встревожился Щука.
— Как о чём? — удивился Рюрик. — О том, что Милослава будет в Новеграде жить...
— А-а, — удовлетворённо протянул воевода. — Это конечно... Там у неё подружки...
— Вот видишь, и разошлись мы с тобой миром. Щука. Отправь вестника в Новеград. Надо же узнать.
кого там посаженным избрали. Уж не Вадима ли? Да заодно пусть вестник перескажет посаженному и старейшинам желание князя Рюрика срубить градец для себя и дружины близ Новеграда.
— Добро, воевода, — согласился Щука. — Но ты до ответа с места не трогайся. А то полетит с плеч моя буйная головушка...
Проезжие улицы Новеграда серели от просыпанного сена и дровяной трухи, от них тянулись к избам расчищенные в снегу подъезды и тропинки. Ни один уважающий себя новеградец не станет с утра, после ночной круговерти, торить путь по целине. Помахать лёгкой, из осины тёсанной, лопатой, размять тело — чего же лучше! Кровь по жилочкам сама побежит, душа взбодрится. А после доброго куска мяса да ломтя пахучего свежего хлеба руки запросят работы уже настоящей. Возьмёт новеградец топор, по привычке тронет лезвие ногтем (остро ли?) и отправится, развернув плечи пошире, к Волхову. Там, у реки, лежат штабеля наготовленного леса.
Много чего в Новеграде делается в зимнюю пору. И всё больше по плотницкой части: рубятся избы, ладятся старые и строятся новые ладьи, умельцы одним топором да долотом вяжут деревянное кружево наличников. Тем и славен Новеград. Из всех рукодельцев больше половины плотников-древоделов числится.
Говорят, в иных землях люди в каменных домах всё больше живут. Пусть их. Нам в сосновых сподручнее. Дух от неё, сосны, лёгкий, приятный. Войдёшь с мороза в избу, и хоть пощипывает дым из очага глаза, словно в летний красный бор попадаешь. А уж в баньке из дерева — только плесни на каменку ковшик квасу, и совсем истома тебя заберёт. На что нам холодные каменные палаты? Амбар под припас из дикого камня ещё смастерить можно — от зверя, лихих людей, а жить под камнем нам ни к чему.
По совету Михолапа Вадим подрядил три десятка плотников рубить простые избы без хитростей — были бы стены да крыша над головой.
— Мужиков кривских Рюрик побил до смерти, — скупо говорил дружинник, — избы пожёг. Жёнки, дети малые без очагов остались. Сказывают, в земляных норах бедолаги зимуют. Самим подняться ли им, как мыслишь?
— Мне-то что? — хмуро отмахнулся Вадим. — Своего горя хватает...
— Твоё горе жданное, известное, — возразил Михолап. — Отец на своём ложе помер. Чай, не двадцать вёсен прожил. Все в его место пойдём. А у кривских детишки малые, им ещё жить да жить. Пусть силу копят, с тем же Рюриком цапаться, придёт время, будут. Пожалеть их надо, помочь. Опять же и ты не без выгоды останешься. Сегодня избу в долг поставишь, завтра или послезавтра долг вернётся. Подумай, нешто обедняешь? Мыслю, Олельке добра-то от Рюрика немало перепало. Что ж оно втуне лежать будет...
Вадим о прибылях не думал. Какая выгода от рубленной наспех избы! Но намёк-укор друга принял близко к сердцу. Пришло на ум, что и сам ведь ходил зорить кривскую землю. И позже свою лепту в примучивание соседей внёс — не захотел ссоры с отцом, пропустил Рюрика через Новеград...
Потому и согласился с Михолапом, молча решив: коли кривские и не сумеют расплатиться — беда не столь велика.
Артель древоделов-плотников, узнав, для кого избы рубить надобно, запросила с Вадима совсем немного, почитай, на хлеб с квасом. Он даже удивился такому бескорыстию — не в натуре новеградцев своё упускать.
— То дело наше, Вадим, — сказали артельщики. — Али у нас души нет? Коли ты решил помочь кривским, пошто мы в стороне стоять будем, а?
Ударили по рукам. Сверх оговорённого велел Вадим сытно кормить артельщиков, раз в седмицу выставлять им три бадейки браги. Плотники, довольные, взялись за работу, и уже на другой день по берегу пошёл весёлый перестук топоров.
Было это на исходе шестой седмицы после смерти Олельки. По завету предков Вадим проводил сороковины в хоромах, ожидая, что бессмертная душа батюшки посетит жилище, дабы наставить его на беспокойном жизненном пути.
О многом передумал за это время молодой воевода. Не давал покоя наказ отца: «Береги Новеград...» А как? Будь своя воля, сразу же после сорочин поднял бы новеградцев на чужаков. Пусть убираются за своё море.
Но воля-то у старейшин. Он и воеводой-то стал по случаю да хитроумием батюшки. Ныне его нет, как старейшины повернут — кто знает? Одно успокаивало: посаженным Блашко избран, он от Рюрика натерпелся, интересы Новеграда должен крепко блюсти...
На сороковой день в хоромы Олельки, перешедшие в полное владение Вадима, собрались немногочисленные гости. Из близких пришёл только Михолап. Старейшины заявились все. Сухо приветствовали хозяина, молча, степенно и важно проходили в трапезную, рассаживались по лавкам. Красное место без приглашения занял Блашко. Он же первым и чару в руки взял.
— Добрым, рачительным хозяином был Олелька, пусть душа его радуется вместе с предками, — ни на кого не глядя, говорил Блашко. — Умел богачество собирать, умел и градом править. Нелёгкую ношу переложил он на наши плечи, старейшины. Новеграду крепкая рука нужна да светлые головы. Рукодельники, смерды и прочий люд донецкий распустились, нас, старейшин, худо почитать стали. То обчими силами нашими кончать надобно. Олелька наказывал беречь град, а и сами мы так же разумеем. Ежели градских не утихомирим, смута пойдёт, старейшин ни во что ставить станут...
— Батюшка наказывал беречь град от бодричей да варягов, а не от рукодельников, — прервал посаженного Вадим. — Чтобы Рюрик в град не пролез, не сел бы в князя место...
— Воевода Рюрик с дружиной нам не помеха, — повернулся к нему Блашко. — Прислал он к нам с просьбой: невмочь ему сидеть в Ладоге, просит разрешения градец срубить близ Новеграда. Обговорив со старейшинами, мы согласились на то. Пусть под рукой нашей живёт, тут его видно и слышно.
— Что ж вы наделали? — даже привстал за столом Вадим. — Ведь Рюрик завтрева град пленит и зорить начнёт...
— Горяч ты больно, Вадим. Молод, оттого и горяч, — подал голос Пушко. — Чай, мы не меньше твоего о граде пекёмся и совет держали со всеми лучшими людьми. Ещё твой батюшка предлагал воеводе служить Новеграду на всей воле нашей.
— Не слыхал я, чтобы Рюрик соглашался на то, — прогудел сидевший на другом конце стола Михолап. — Али уговорили?
— Коли во градце готов поселиться, знать, согласный, — не повернув головы в сторону дружинников, ответил за Пушко Домнин. — А и что могут содеять его дружинники с нашим градом? Горсть их, сожми — и нет их. Не обеднел град наш славными молодцами, не проглотить нас Рюрику.
— Да все ли новеградцы так мыслят? — тревожно спросил Вадим. — Говоришь, не проглотит? Вспомните, старейшины, кривичей, весь ту же...
— Э-э, нашёл о ком говорить, — махнул рукой Блашко. — Нешто Стемидка умел людьми править? Бобров ловить он умел, и только. Не о бодричах с варягами речь, о них мы всё вырешили. О смердах да рукодельниках думать надобно...
— Погодь, — попросил Вадим, — чего о них думать? Не было ж смуты никакой, али я не ведаю?
— То-то, не ведаешь, — прогудел Михолап. — Люди как раз и волнуются, что старейшины без совета с нами варягов к Новеграду пустили. Не помнят Торирова похода. Вишь, давно было...
— Не мели пустое, — стукнул ладонью по столешнице Блашко. — Мне уж довели, что ты-то первый смуту и затеваешь. Думал, тут-то, за столом поминальным, поймёшь нас и прекратишь градских баламутить. А ты опять за своё? — повысил он голос.
— Не надсадись, посаженный, — мрачно ответил Михолап, — чай, на поминках сидишь. А на слова твои так отвечу: не я, а вы за старое принялись, с новеградцами совета не держали...
— Ври, да не завирайся, — прервал его Домнин. — Со всеми лучшими советовались.
— А много ли вас, нарочитых да именитых? — насмешливо спросил Михолап. — Будет ли с Рюрикову дружину? Али к рукодельникам побежите, коли до драки дойдёт?
— Смотри, Вадим, не с теми людьми дружбу водишь, — с плохо скрытой угрозой в голосе сказал Блашко. — Как бы худа не вышло...
— Это где ж ты, посаженный, в моём доме худых людей увидел? — потемнел лицом Вадим. — Уж не Михолапа ли в виду имеешь? Так припомни: к бодричам не ты ли его брал, а? А как знатно рубил он их, тебя выручая, тому я свидетель. С каких же это пор он стал худым?
Вопросы Вадима повисли в тишине без ответа. Старейшины сидели насупившись. Блашко гневался, но сдерживал себя: прийти в гости да лаяться с хозяином — не к чести. Но и слушать речи обидные посаженному не пристало. Тяжело поднялся он из-за стола, уставленного яствами и брашнами[27]; не глядя на Вадима, сказал старейшинам:
— Пойдёмте, други. Усопшего Олельку помянули, пусть душе его будет покой. Ноне у нас дела поважнее есть, чем за столом сидеть да безделицу слушать. — И грузно направился к двери. У самого порога словно споткнулся, обернулся и исподлобья зло и пристально взглянул на Вадима. Но голос злобы не выдал, ровен был, невозмутим: — Не обессудь, хозяин, на слове, но поскольку с общего согласия воеводе Рюрику градец срубить разрешили, стало быть, о дружине градской речь надобно вести наособицу. Мало ли что может статься. Ты молод, горяч, на язык невоздержан. Вдруг с Рюриком по старой памяти схлестнёшься да сечь затеешь, нас не спросив. Лепо ли то будет, старейшины?
— Вестимо...
— Он и на кривских так-то градских подбил...
— Рукодельцам лишь бы ссору да смуту устроить...
— А кто заводило, тот им и люб...
— Вишь, Вадим, не один я так мыслю, все старейшины согласны. Опаску нам приходится держать, как бы ты с Рюриком не сцепился, а граду то не на пользу. Мы со старейшинами ещё размыслим, но мню я, что в челе дружины надобно старейшину доброго ставить, а не воеводу, хоть и храброго, но младого годами и опытом.
— То мы ещё посмотрим! — гаркнул Михолап, но посаженный, толкнув дверь мощным плечом, вышел из трапезной, не удостоив дружинника даже взглядом.
После памятной сечи новеградцев с бодричами, когда воевода Рюрик вынужден был несолоно хлебавши вернуться в Ладогу, Блашко не чаял, как выбраться из беды. Искровавленному, ему дали умыться и привести себя в порядок, но ни у кого из новеградских дружинников не нашлось для него доброго слова, сторонились, в глаза не смотрели. Только Михолап, не остывший от сечи, недобро усмехаясь, спросил:
— Хороши твои гости, старейшина? Пошто они хозяина так изукрасили? — И, не дожидаясь ответа, повернулся к нему широкой спиной.
Блашко только зубами заскрипел. Теперь жди, всю вину за призыв бодричей на него свалят. А может, уже и свалили. Может, в Новеграде от его хором только брёвна валяются.
Затаив злобу и на бодричей, и на своих, возвернулся Блашко вместе с дружиной в Новеград. Ни с кем словом не перемолвившись, заторопился к своим хоромам. Целыми и невредимыми встретили они его. Малость отлегло от сердца. Громко стукнул в тяжёлые, из еловых плах набранные, ворота. Злобным лаем отозвались кобели. Рассвирепел: ах, нелёгкая вас возьми, на хозяина лаять!
— Отворяй, сучьи дети! — гаркнул и ещё раз, уже ногой, стукнул в ворота.
— Сейчас, хозяин-батюшка, не сердись, — услышал Блашко дребезжащий голос старого дворского челядина. Слышно было, как он с натугой возится с запорным брусом, вполголоса разговаривая сам с собой.
Наконец ворота со скрипом отворились. Согбенный, узкоплечий дворский в облезлом заячьем треухе низко согнулся перед хозяином, пытаясь, до предела вывернув шею, заглянуть в лицо ему и торопливо приговаривая:
— С благополучным возвращением, батюшка, уж мы заждались тебя, соскучились...
— Чего зенки-то лупишь? — прикрикнул на него Блашко. — Соскучились, — передразнил он дворского. — Робить, так вас нету... Почему ворота скрипят? Рук нету, чтобы подмазать? Не своё, дак... Вона двор лебедой зарос. Прохлаждаетесь! — заорал он на старика и даже замахнулся, но вид съёжившегося покорно-безмолвного дворского на миг утишил злобу. Старейшина опустил занесённую руку, плюнул с досадой себе под ноги и зашагал к высокому, затейливо изукрашенному резьбой крыльцу. Уже на ходу, всё ещё обращаясь к дворскому, прокричал:
— Только жрать умеете, корми вас, беспутних, а толку...
С крыльца сбегал старший сын — Олекса. Под стать отцу — высокий, с длинными руками, тёмным пушком по щекам и подбородку. Одетый в дорогую шёлковую рубаху, подпоясанную цветным пояском с кистями, он, остановившись в двух саженях от отца, низко, в землю, поклонился ему. «Ишь, вырядился в буден день», — всё ещё с неостывшей неприязнью и в ожидании неминуемых неприятных известий подумал Блашко.
— Ну, как вы тут без меня? — глядя в сияющее радостью лицо сына, спросил он хмуро. — Все ли подобру-поздорову?
— Всё добре, батюшка, — поспешно ответил Олекса. — Все живы, здоровы, тебя заждались...
— В хозяйстве порухи никакой нет? — нетерпеливо прервал сына Блашко.
— Великой-то нет, — по-отцовски нахмурил широкие брови Олекса. — Вот только дён десять назад прибредали смерды из Залесья, оголодали, грят, просили хлеба. Заморозком жито у них побило, поля пусты. До осени не протянут, а к зиме помирать собираются...
— Дал хлеба-то?
— Да нешто я дурак, батюшка, без тебя таки дела вершить? И приучать смердов не след. Где то видано, чтобы в лето житом ссужать? На ягодах да грибах переживут, не перемрут...
— Разумный ты, гляжу я. В Залесье небось не сплыл, своима очами не глянул? А разбегутся смерды, то на пользу тебе будет? — Новая волна неудовольствия, теперь уже на сына, накатила на старейшину.
— Так, батюшка, ты сам николи... — попытался оправдаться Олекса.
— Я, я! — поднял голос Блашко. — Разуметь надо, когда смерда со двора гнать, а когда добрым словом пригреть. Вырядился в буден день, а того сообразить не может. Это когда ж в середине лета смерды хлеба просили? Знать, нужда крайняя придавила. А ты? — И, остывая, махнул рукой. — Мать-то где?
— В светёлке была, — расстроенно ответил Олекса. — Должно быть, сейчас выйдет...
— Выйдет... — передразнил сына Блашко. — Ты-то ладно, а она, дура старая, нешто сообразить не могла?
Сын промолчал. Лицо его полыхало густой краской стыда. Блашко тяжело поднялся на крыльцо. Из сеней донеслись знакомые всхлипывания торопящейся жены. Блашко окончательно поверил: он дома, все невзгоды дурацкого похода к бодричам позади, всё хорошо — сам возвернулся цел, хоромы на месте, добро в сохранности. А как оно впереди будет — заглядывать не ко времени. Отдышаться надобно да оглядеться.
Больше двух седмиц безвылазно просидел Блашко в хоромах. Всё ждал: новеградцы вспомнят о его пути к далёкому острову Руяну и навалятся скопом, призовут к ответу, растащат загребущими руками нажитое. Коли только в Волхове купаться заставят — полбеды. А как на старости без своего угла остаться придётся?
Сын в подробностях рассказал, как обошлись новеградцы с другими старейшинами и как Олельку посаженным избирали. Вишь, когда ему пригодилась ватага сыновья. Ну, Олелька, сам выплыл и Вадима наверх поднял. Хитёр. Век живи, век учись.
Затаился Блашко, и, хотя просыпался с петухами, не торопился, как бывало, спускаться в подклеть, подгонять дворских. Восход солнца заставал его у слюдяного окошка в верхней горнице. Оттуда хорошо было видно вокруг. Натужно, не успев отойти от вчерашней маеты, просыпался двор; озабоченно проходил-пробегал по нему Олекса; нехотя, помахивая ремёнными короткими кнутами и позёвывая, выезжали со двора возчики; шли через росный лужок, подхватив руками подолы сарафанов, к задним дворам бабы с подойниками.
Привычные хозяйские заботы накатывали на старейшину, забывалось гнетущее ожидание, хотелось сойти вниз да шугнуть нерадивых, чтобы поворачивались живее. Уже и поднимался он было со стульца, торопливо делал шаг-другой к двери, но невольно приходило на ум: ты только голос подай, вмиг набегут, разором разорят, пеплом по ветру пустят.
Дни тянулись, как нитка из кудели, — неторопливо и надоедливо. От гнетущего безделья уже и бояться перестал Блашко. Да и новеградцы словно забыли о нём, будто и не жил рядом с ними старейшина Блашко, призвавший бодричей на землю словен. Не до того им стало, что ли? Из рассказов сына, ежедневно бегавшего на торжище, старейшина знал, что разговоры о Рюрике не утихали.
«Стало быть, и обо мне языками треплют, — думал Блашко. — Ждать надобно гостей, нелёгкая их возьми. А и те хороши, — с неприязнью вспоминал о дружках-старейшинах, с кем в одну голову думу думали о приглашении Рюрика. — Знают, что возвернулся, а носа не кажут. По селищам поехать, что ли? А вдруг тем временем и нагрянут? Хозяина не найдут, на хоромах отыграются...»
Томился неизвестностью Блашко, гадал: чем вся эта кутерьма закончится? Прикидывал: и так не хорошо, и этак не лучше. Ко всему прочему, и словом не с кем перемолвиться. С Олексы какой советчик. А о жене и речи нет — по теперешнему уму, да пропади пропадом и вено[28] за неё! Как с первого дня дурой неразумной себя показала, такой и на всю жизнь осталась.
Сколь бы просидел старейшина в хоромах своих, кто знает, если бы однажды под вечер не прибежал запыхавшийся Олекса. Блашко сразу заметил: сын возбуждён не в меру.
— Что, вече скликают?
— Не, батюшка, Домнин просил упредить, дабы дома был. Ближе к ночи пожаловать обещался...
— Тьфу ты, — в сердцах ругнулся Блашко. — Пожаловать обещался... Князем, что ли, стал али в посаженного место сел?
— Молвил: разговор есть не для сторонних ушей...
— Ладно, иди да вели, чтобы стол ко времени собрали, — распорядился Блашко.
После тайной, с глазу на глаз, беседы с Домнином ожил старейшина. О верхней горнице с её слюдяным окошком и думать позабыл. С раннего утра скрипели переходы под его грузными шагами. Навёрстывал упущенное время Впотьмах, чуть ли не на ощупь, проверял хозяйство — из амбара торопливо шёл к хлеву, смотрел, сыта ли скотина. Заметив малейший беспорядок, супил брови, отправлялся строжить дворских. Олекса дивился: что это с батюшкой сталось? То сиднем сидел, голоса не подавал, а тут как с привязи сорвался: ни себе, ни людям покою не даёт.
Мельком отец обронил:
— Олелька бодричей на службу Новеграду задумал повернуть. Стало быть, новеградцы на меня зла не держат...
Олекса только глазами хлопал. Давно ли Вадим с дружиной отогнали воеводу Рюрика от града, люди об том только и разговоры разговаривают, опасаются, как бы за мечи опять браться не пришлось, а тут... Отец, будто подслушав мысли сына, коротко сказал:
— Ты нишкни о том. Да за хозяйством приглядывай хорошенько, лежебокам поблажки не давай. Я в Залесье поеду да по другим посельям гляну. Дён двадцать, а то и боле в отлучке буду...
В Залесье, спрятавшемся за густыми лесами на правом берегу Меты, жило одиннадцать семейств. Сеяли рожь — рожала она на тощей землице худо. Вершами добывали на речных да озёрных заводях рыбу. Бортничали. Собирали ягоду, грибы. В прошлый приезд по осени насчитал Блашко на одиннадцать изб семь коров и четыре лошадёнки. Зимой мужики ставили на заячьих тропах силки, с лучком охотились на векшей. Раз или два за всю студёную пору удавалось им завалить сохатого. Так уверяли они. А проверь попробуй. Зимой сюда не скоро доберёшься. Может, и чаще бывал кусок мяса на столах смердов. Но намётанным глазом старейшина видел, что живут они худо и взять у них, кроме оговорённого третьего снопа да нескольких десятков шкурок векши, нечего.
Залесские поселяне, хотя и жили на отшибе, тянулись к Новеграду. Без него не проживёшь. Конечно, мужик в своём хозяйстве всё необходимое сделает: и избу срубит, и печь-очаг из дикого камня сложит, и вершу сплетёт. Совсем хорошо, если в поселье ещё и свой кузнец есть — косу-горбушу отковать, серп насечь, секиру добрую по руке хозяина смастерить. А ежели его нет? Руду болотную без хитрознатства в железо не превратишь. Знание же то не каждому даётся.
Без секиры, одним палом, поле у леса не отвоюешь. Инструмент нужен. Дорог он — то ещё полбеды, добыть его можно только в граде.
Многое связывает поселье с градом. Ту же векшу кому продашь? Зима долгая, бабы на кроснах[29] полотна наткут. Купец летом на ладье прибежит из града — ему прибыток, семье помощь. Так что без града не обойтись. Деды, может, и не думали о том, а внукам приходится. Они, деды нынешних залесских поселян, облюбовали это укромное место, срубили избы, пережгли, готовя землю под пашню, берёзу и ольху, проложили тропки к лесным угодьям и жили трудом рук своих. Дети их изредка наведывались в Новеград за самым необходимым. Кое-кто из молодых, наскучившись в лесной глухомани, в поисках суженой покидал селище, чтобы уже не возвращаться в него. Новых изб не прибывало, старые поросли мхом, ветшали.
Почитай, лет пятнадцать минуло с той поры, когда навалилось на селище первое злое лихо. Зима выдалась тогда малоснежной, озимь вымерзла, ярицу Ярило[30] сожёг дотла, леса стояли пустыми, даже пчёлы остались без взятка. Смерть неминучая пришла в Залесье. Долго крепились мужики, но, когда по осени отнесли трёх младенцев да старуху на погост, не выдержали — отправились за помогой в Новеград. А кто поможет? Не в одном Залесье беда. Бегали поселяне от одного дворища к другому — отовсюду гнали. Лишь Блашко не допустил помереть голодной смертью. Ещё и жита дал, строго-настрого наказал беречь зерно до весны пуще глаза. Кору древесную глодать, а семена сохранить. Тогда и ряд уложили: третий сноп с урожая старейшине. Обещал Блашко и впредь помощь свою поселянам.
На другое лето по вольной воле отправился он в Залесье на ладье, прихватив с собою пару кулей залежалого зерна, пяток топоров да столько же серпов.
Мужики встретили его без радости — кожа да кости, ветром шатало, но поляны желтели наливающимся колосом. Похвалил он тогда залесчан. А человеку много ль надо? Услышал доброе слово, и отмякла душа. После того как Блашко, поднатужившись, вынес из ладьи куль зерна и бережно опустил его перед изголодавшимися людьми, совсем уверились те, что новеградец стал им другом. За топоры и серпы притащили шкурки звериные, сокрушались: из-за бескормицы мало зверя добыли за зиму. Блашко принял меха и, улыбаясь, напомнил, что зима-то была не последней, добудут ещё, потом и отдадут. Благодарные поселяне согласно кивали головами: конечно, добудут, пусть новеградец не сомневается, это сейчас их ветром шатает, а вот подкормятся...
С тех пор и повелось. Ежегодно по осени гнал Блашко ладью в Залесье. Кому наконечников для стрел привезёт, кому горбушу, иному горсть гвоздей. Не забывал и бочонок медовухи прихватить.
Новеградец приехал — праздник в поселье. Подвыпившие мужики хлопали его по плечам, благодарили за заботу, радовались его радостью и весельем. Под робкое напоминание жён тащили к ладье подготовленные заранее долговое зерно, мёд, пушнину. Блашко в расчёты не вмешивался. На ладье дворский с мужиками управится, старейшина же сидел в избе, потчевал народ медовухой..
В эту поездку Блашко взял с собой зерна совсем немного — только чтобы на седмицу-другую заткнуть рты. Пусть сами выкручиваются, он всех голодных не прокормит. Впрочем, видно будет. Путь в Залесье не долог, ещё раз ладью можно сгонять. Теперь же и причина веская для скупости есть: бодричи пришли, торговые пути порушились, а в самом Новеграде хлеб в достатке ведь не растёт. Да и какой резон сейчас ему благодетелем быть? Поселяне и так должники его неизбытные.
Гребцы из дворских усердно работали вёслами. Ладья мягко и быстро скользила по спокойной ильменской воде. Берега утопали в золоте берёз, пламенели купы осин. Подчиняясь изгибам берега, ладья торопилась в устье Меты. Путь лёгкий, водный, не донимает гнус, и, хотя осень вступает в свои права, по-настоящему тепло. Чуть заметный ветерок освежает потные лица гребцов. Ильмень-озеро по виду и суровости на море-океан похоже. Ещё пару седмиц, и загрохочет-завоет, разбушуется князь водяной — не подступись.
Под мерный плеск вёсел Блашко в который раз мысленно возвращался к разговору со старейшиной Домнином. Так, пустой разговор. Как ходилось за море, да какие разговоры с Рюриком вёл, да что он за человек? Не о том у Блашко душа болела, но и не сразу скажешь другу-старейшине, что ждёшь изо дня в день незваных гостей. Потому и рассказывал скупо любопытствующему Домнину об Арконе, о воеводе Рюрике. Потеплел голосом, когда дошёл до Милославы — умницы-разумницы: достоинство наше словенское блюдёт. С досадой поведал о размирье с воеводой тамошним Боремиром. Домнин охал сокрушённо, в недоумении разводил руками: как же то можно было делать?
Блашко угрюмо молчал. Сам себе не единожды задавал такой вопрос. Казнил: старый дурак, каких «гостей» привёл в отчий край! Но казнись не казнись, а дело сделалось. Разве ж он один приглашал?
Домнин тяжело вздыхал.
— Да, заварили мы кашу. Теперь-то мыслю, вполне могли бы без бодричей тех с кривскими управиться. После полюдья неудачного, когда дружину нашу побили, надо было новеградцев в большой поход поднимать...
— Без князя-воеводы? То-то сраму бы натерпелись, — хмыкнул Блашко.
— Это ещё неведомо, натерпелись бы али нет. Того же Вадима воеводой бы кликнуть — так нет, слепы оказались. Что нам какой-то Вадим. Нам именитого подай, хоть чужого, но именитого... Вот и поплатились. С кривскими ряд без нас учинён, и в граде с нами не дюже считаются...
— Вы поплатились легко. Эко, старейшинства на время лишились. Зато головы да хоромы сохранили. А мне как бы и того и другого не потерять, — вырвалось у Блашко затаённое.
— Э... пустое. Не боись, ничего не будет. Олелька-то посаженным недурным оказался. С нами совет держит. Мыслим всё же Рюрика сломить да нам служить заставить... Так что не боись, не дадим тебя в обиду...
Покровительственные нотки в голосе Домнина не понравились Блашко, но уверенность старейшины передалась и ему. Он вздохнул с облегчением и даже плечи расправил.
— Но Олелька мыслит, что тебе, Блашко, какое-то время надо голоса не подавать. Пусть уляжется сумятица, с Рюриком определённее станет...
— Да я и сам думал по посельям отправиться, — ответил Блашко. — Пока делами градскими занимался, в своём хозяйстве разор...
— По дружбе советую, дюже долго не отсутствуй, — понизив голос, сказал Домнин. — Нельзя нам нонеча в разброде быть. Бодричи — пустое. Новеград из рук выпускать нельзя. Олелька хоть и разумный посаженный, но и за ним присмотр нужен. Да и не протянет он долго, болящий... Мало ли что может случиться, а ты старейшина именитый...
— Мыслишь, забудут новеградцы, что я за гостями ходил?
— О чём помнить-то? Не ты, так другой. Забудь о тревогах никчёмных. Рюрика приспособим на службу граду, тебя ж все благодарить будут...
До Залесья добрались на третий день к вечеру. Обрадованные гребцы круто развернули судно, дружно ударили по воде вёслами, и ладья с лёгким шорохом выползла высоко поднятым носом на песок. Старейшина велел подтянуть её повыше и привязать к дереву — ветер разгуляется, волной может отнести.
— Это ты, новеградец? Здрав будь. А мы уж напугались, что за шум на берегу...
Блашко круто обернулся на голос. Перед ним стоял высокий худой старик. Был он сутул, белая борода редкими прядями опускалась на грудь. Глаза с краснеющими прожилками слезились.
— И тебе здоровья, дед Бортник, — степенно ответил Блашко. — Пошто один, где люди-то?
— Попрятались. Взять у нас неча, а жить всякая тварь хочет. Мы ж подумали, не ушкуйники ли каки к берегу пристали...
— Ушкуйников стрелой встречать надобно да рогатиной доброй, а не прятаться от них.
— Эх, гость дорогой. Кабы сила была, разве прятались бы? Совсем народ онедужел. На ягоде да грибах живём, а и тех не скоро найдёшь. Я вот уже и в лес ползать не горазд, помирать собираюсь.
— Рано тебе Помирать. Кто ж молодых бортничать будет учить?
— Не бортничаю ноне. К колоде сил нету подняться...
— Ладно, старый, пошли к миру, — грубовато сказал Блашко и кивнул гребцам: — Возьмите три-четыре каравая хлеба да мяса прихватите...
Остановились в самой просторной избе — смерда Ждана. Сруб сажени в четыре длиной и две шириной врос в землю, щурился бельмами-окошечками, затянутыми пузырём. Пятеро гостей, хозяева, куча детей — повернуться негде, дышать тяжело. Блашко, однако, терпел.
Дело предстояло нешуточное.
Смердам Залесья, по всему видно, тяготу в нынешнем году не одолеть. Самое время вершить задуманное. Хватит им быть вольными смердами. Всё едино, сколь лет они его должники. Не смерды, а рядовичи. Ноне пришло время выбора. Хотят пережить зиму — пущай становятся закупами на всей его полной воле. В таком разе он обеспечит их всем необходимым — невелик мир поселья, запасов хватит. Не захотят быть в его воле — пусть платят долг, и больше он их знать не захочет. Потому и сидел, терпел духоту и смрад. Мир есть мир, сообща упрутся — ничего не поделаешь. Терять же пахотную землю, угодья и приручённых людей Блашко никак не хотелось. Год на год не приходится: нынче голодный, завтра, глядишь, изобильный.
Говорил Ждан: заморозок побил ярицу, сохатые к поселью не подходят, рыба не идёт в верши, ягод мало, одних грибов только и запасли. А разве ими проживёшь? Соль на исходе. Может, друг-надёжа смилостивится, позволит десяток-другой шкурок, что ему за долги отложены, обменять в Новеграде на голь?
Блашко промолчал, словно и не слышал. В разговор вступил Ратько — ещё молодой мужик, удачливый охотник, не любивший ковыряться в земле и оттого никогда не имевший в достатке своего хлеба.
— Ты бы, хозяин, потерпел с долгом-то. Нам бы только зиму перебиться. Помрут ребятишки с голоду, да и нам не выжить, если всё нынче тебе отдать. Знамо дело, нехорошо в должниках-то ходить, а что поделаешь? Али в ушкуйники подаваться?
— Добро, — пристукнул ладонью по грубой столешнице Блашко, — я вас слушал, теперь вы меня послушайте. Туго вам — вижу. Ежели я не помогу, никто не поможет. Но и вы в моё положение войдите. Я вам сколько лет в долг припас разный даю, а ноне снова просите у вас не брать. Откуда у меня добра-то возьмётся? Сам скоро с сумой по миру пойду. Кому польза будет?
Мужики молчали.
— Говорите, коли не помогу, перемрёте за зиму? — продолжал Блашко. — Так и будет, если не послушаетесь совета доброго. А я так мыслю. Долг я засчитаю и ещё зерна, соли пришлю. Но быть вам от сей поры в закупах на всей моей воле...
— В закупах?! — ахнул Ратько. — Ты, новеградец, безделицу молвишь. Мы свободные смерды, а ты хошь нас в закупы? Не будет того!
— Да, человек добрый, мы, понятно, должники твои, — поддержал соседа Ждан, — но в закупы... На то нашего согласья нет...
— Нет, и не надо, — спокойно ответил Блашко. — Пусть будет по-вашему. Только ждать с долгом мне больше невмоготу. Нынче верните всё...
В дальнем конце стола в голос заревели бабы. Глядя на матерей, запищали дети. Мужики сидели мрачные, насупившиеся. Блашко оставался спокойным, видел: по его выйдет, залесчанам подаваться некуда.
— А, леший бы забрал твою свободу, — рыдая, накинулась на Ждана жена. — Им свободными-то помирать от голоду легче будет, что ли? — и ткнула пальцем в семерых ребятишек, при первых словах матери прекративших рёв. — Чем я кормить их буду? Али долг ими отдавать?
— Цыц, не твоего ума дело! — взорвался Ждан.
— Не моего? А когда они от подола не отстают: «Мамка, исть хочу», — тогда моего? У тебя, может, в каморе жита припасено, что ты тут выкобениваешься? Или мясом кадушки набиты?
— Ждан, уйми её, — подал голос Ратько.
— Вы посмотрите, люди добрые, и этот туда же, — закричала жена Ратько. — Уж ты бы помолчал. День-деньской по лесу шляется, векшу несчастную не добудет. Да я тебя, свободного, другой раз в избу с пустыми руками не пущу, попомни моё слово...
— А, чтоб вас... — вскочил Ратько.
— Сядь, — остановил его Блашко. — Вы тоже помолчите малость, — повернулся он к женщинам, — да робят уймите. А вам, мужики, вот что скажу. Свободой вы своей не кичитесь, не дорого она стоит, свобода ваша. Не потому, что вы в долгу у меня неоплатном. Мы люди свои, как-нибудь разберёмся. Но и то знать должны: ноне на землю словенскую бодричи пришли. Сегодня вы свободные, а завтра в их полной власти оказаться можете. Вона, спросите у деда Бортника, не бывало раньше так-то?
— Бывало, бывало, — тихо ответил старик. — Варяги однажды насунулись. Князь Гостомысл прогнал их. А теперь, значит, бодричи на нашу землю полезли? Худо, люди. Беды ждать надобно. Хоть варяги, хоть бодричи — они такие, знаю.
— Вот-вот, — подхватил Блашко. — А за мной будете, может, и минует вас беда неминучая. Так что выбирайте. Не тороплю, мужики, но утром своё решение сказать должны. Мне недосуг...
Спать отправился Блашко в ладью — не зима, к тому же под медвежьей шкурой и заморозок не страшен.
Утром к избе Ждана собралось всё поселье — два десятка да семь человек. Дети испуганной стайкой держались в стороне. По угрюмым лицам мужиков и баб Блашко понял, что залесчане согласны закупиться. Предстояло выдержать характер и не посулить им слишком многого. «Посулы долго помнятся», — остерёг он себя.
Отсутствовал старейшина в Новеграде четыре седмицы. Вернулся довольный. Помимо Залесья побывал ещё в четырёх посельях, и не бесприбыльно.
На другой по приезде день его пригласил в градскую избу Олелька. Разговор был коротким. Блашко даже почудилось, что никуда он и не уезжал из града.
— Отдохнул? Хозяйство поправил? — спросил Олелька и, не дожидаясь ответа, предложил-приказал: — Пора за дела градские приниматься...
Милослава без устали бродила по улицам Новеграда. Лёгкая соболья шубка, шапочка из чернобурки, сафьяновые сапожки на высоком каблучке — привычный родной наряд подчёркивал изящество её фигуры.
За последний год она расцвела, налилась женской красой. Молодцы, увидев её, останавливались и долго с восхищением смотрели ей вслед. Милославе льстило неприкрытое мужское внимание. Ласковым словом и взглядом привечали её и женщины, особенно пожилые, на чьей памяти неудержимо носилась она по улицам девчушкой-резвушкой ещё при жизни отца. В глазах девушек Милослава примечала придирчиво-ревнивый интерес: у каких цветов брать румяна, чтобы так же алели щёки?
Улица привела Милославу на берег реки. Сюда когда-то бегали они тайком с подружкой Людмилой, менялись нарядами. Людмила с восторгом надевала её цветастый сарафан, о каком могла только мечтать. Её отец старший в дружине, не из бедных, но до князя-старейшины Гостомысла ему было далеко.
Где-то она сейчас, Людмила? В Новеграде? Тогда почему к Милославе не пришла ни разу? А может, выдали Людмилу замуж куда-нибудь на чужую сторону?
Вспомнились почему-то ночные игрища на Купалу, и загрустила Милослава. Коротким выдалось её девичество, без радости и вольных утех. Только раз и побывала на игрищах тех, потешились с Людмилой, вволю напрыгались через костёр, походили в хороводе, попели песен. Даже в сильных объятиях молодого гридня отцовского побывала. Он в потёмках не разобрал, кто перед ним — девка как девка, в простом сарафане, в платочке лёгоньком, обнял сзади, прижал к груди, поцеловать пытался, а заглянул в лицо и тут же отпустил её: «Прости, княжна, не признал...»
Ах, гридень, гридень! Где ж тебе было признать меня. И сарафан, и платочек, и лёгкие постолы — во всё Людмила одела... Нет, не бывать боле Милославе на игрищах! Князь-батюшка строго наказал няньке-мамке, как дочь растить-воспитывать: учить хозяйству, держать в скромности и послушании, уметь красоту и честь княжескую блюсти.
О том, что Милослава была на игрищах Купалы, князь прознал всё же. Мамка переполошилась. Милослава тоже думала, что разгневался батюшка, но он только головой укоризненно покачал да спросил неожиданно: слышала ли она о народе таком — бодричах? Она ответила, что мамка рассказывала, будто лет пятнадцать тому назад были какие-то варяги в Новеграде, пока не прогнал их мечом батюшка за далёкие горы, за синие моря. Говорят, помогали ему бодричи.
Батюшка улыбнулся печально, велел сесть поближе. «Винюсь, дочь моя, — сказал задумчиво. — Не было у меня времени наставлять тебя. Матери твоей, Жданке, то делать надлежало бы, разумница была... А теперь уже и поздно. Одно помни, дочь: где бы ты ни жила, родина твоя здесь. Земля наша словенская обильная и других земель не хуже, а лучше будет. Гордись, что родилась и выросла на этой земле, блюди честь её».
«А разве батюшка отправляет меня куда-нибудь?» — спросила она. «Пока нет, но век в девках сидеть тебе не пристало, — ответил отец. — Ишь, ты уже по игрищам бегаешь, знать, время твоё приспело», — и с улыбкой глянул на дочь. Вспыхнула Милослава.
«Это я так, любопытства ради на игрище пошла». — «Я тоже из любопытства разговор с тобой затеял, — ответил батюшка. — Ты уже выросла и можешь понять, что княжеской дочери надлежит к будущему замужеству серьёзно относиться. Мы, князья, должны в первую голову землю свою оберегать. Тебе вот рассказывали, что я мечом варягов из Новеграда выгонял. Было такое. И бодричи мне в том помогли. Воевода Рюрик и ныне тут. Ты разве не знала, что он бодрич?»
С того времени и примечать она стала Рюрика, и тогда же при случае сказала ему: «Поди к батюшке...»
Сколько лет минуло с того разговора? Пять, шесть? Волю батюшкину она выполнила, женой воеводы Рюрика стала.
«Мы — князья...» Милослава блюдёт княжью честь-повинность. Живёт в Новеграде, в родительских хоромах. Привечает новеградцев. Нуждающихся — толикой серебра, именитых — подарками, рукодельцев — доброй улыбкой, чистым сердцем. И не только потому, что так велит Рюрик — самой любо.
Воевода рубит воинский градец, днюет и ночует там. Изредка приезжает к ней. Ласков, но в мысли свои не пускает. Позавчера велел: пригласи посаженного Блашко. Зачем — не сказал. Как пригласить — не посоветовал. Жена должна быть помощницей мужу. Так и наставляй же её. На добро ли пойдёт помощь её Рюрику? Град отчий, люди кругом свои, её приняли, а примут ли его с дружиной? Не начнётся ли вновь свара, не прольётся ли кровь невинная?
Задумалась Милослава, ненароком вышла на торжище. Дело ли княжеской дочери и княгине по торжищу шляться? Что надобно, купцы в хоромы принесут. Спохватилась, да поздно: скажут, людей испугалась. Решила: пройду торжище, сверну в любую улицу, а там уж и к хоромам недалече.
Не успела торговый ряд миновать — навстречу ей торопится, издали сдёрнув бобровую шапку и низко кланяясь, торговый староста Путята.
— Будь здрава, княгиня, — не заговорил, запел прямо-таки. — Зайди, будь ласка, в палату, не побрезгуй угощеньем нашим. Не частый гость ты у нас, княгинюшка, зайди...
— Не обессудь, старейшина. По делам поспешаю, приглашения принять не могу, — вполголоса, чтобы другие не слышали, ответила Милослава и повелела: — Иди, занимайся своими делами.
В растерянности ещё ниже поклонился Путята, хотел что-то молвить в ответ, но вдруг неподалёку громко ойкнула какая-то молодица. Милослава глазам своим не поверила.
— Людмила! Ты ли это? — обрадованно крикнула она и бросилась к высокой статной женщине. Подруги обнялись. Первой опомнилась Людмила.
— Прости, Милослава, ты — жена воеводы, а я тут тебя... на торжище... Нехорошо.
— Пустое. Пойдём ко мне. Помнишь, как бывало?
Людмила так бы и полетела к ней, но... Что Вадим скажет? Муж. Мирослава — жена Рюрика, Вадим ему злейший враг.
— Негоже, Милослава. Ты ж не знаешь ничего. Я жена Вадима, а ты...
— Вадима? Какого Вадима? — беспечно спросила Милослава. — Воеводы градского?
— Ноне он не воевода уже, — грустно сказала Людмила.
Милослава пристально посмотрела на подругу, вздохнула:
— То дело мужское, а мы с тобой — подруженьки, потому пойдём ко мне, не на улице же разговаривать...
— Ой, Милослава, как бы худа не было...
— Без заботы, — отмахнулась Милослава. — Вот только ты мне о деле напомнила... Как бы мне кого из дома посаженного Блашко увидеть, не знаешь?
— Скажи Путяте, он мигом Олексу найдёт. Тот день-деньской на торжище пропадает...
Рюрик рассудил верно: Блашко не Олелька, в руках воинов побывал, собственной кровью поплатился, а такое помнится. У власти оказался случайно: со старейшинами заранее сговорился, а градским по осени не до забот о выборах посаженного, другое душу томит — многие у старейшин да у именитых в долгах, те напоминают, что год ждали хлебосольного времени. Время-то пришло, да хлебосольным не выдалось. Не сладко приходится и тем, кто уберёгся от долга. Сегодня уберёгся, а завтра не пришлось бы на поклон идти: где уж тут против именитого шуметь, требуя посаженного по сердцу.
С Блашко хитрить-играть не надо. Припугнуть, и дело с концом. Побоится с богатством расстаться, с головой — тем более. Упрямиться не будет, раз на градец согласился сразу. Коготок увяз — всей птичке пропасть. Свои же при случае напомнят: мол, ты Рюрика пригласил, ты его и в Новеград пустил. Своих будет опасаться — за нас крепче ухватится. Для видимости власть посаженного в граде надо сохранить, но князем буду я.
Новорубленый градец желтел стенами просторных изб, тёсом островерхих крыш, избы стояли плотно, вытянувшись в линию — сразу видно, не поселье каких-нибудь смердов, а воинский градец. Работали споро: и свои — дружина, и новеградские плотники-умельцы, соблазнившиеся обещанной щедрой платой. Воевода торопился сам и торопил других.
Рюрик предупредил: становище надолго. Каждый десяток воинов рубил избу для себя. Общие помещения ладили новеградцы. Поджимал мороз. Горячка захватила всех. Рядом, всего в нескольких вёрстах, лежал богатый град с тёплыми хоромами, жаркими мыльнями, но... хода для них в него пока нет. Не пускают жители. С этими словенами надо, как с кривичами: мечом и стрелой. Но... помнили летнюю сечу. Полнились злобой, искоса поглядывали на новеградских плотников. Погодите, придёт наше время...
Со стороны Новеграда показался обоз. Невелик — двух десятков саней не будет, но растянулся длинной извилистой змеёй.
Рюрик смотрел на приближающийся обоз с любопытством. Никакой посылки из Новеграда в эти дни не ждал и потому молча гадал: откуда и с чем обоз?
— Плесковцы одумались, дань везут, — уверенно заявил Снеульв.
— Нет, это ладожане по старой памяти нам припас доставили, — высказал догадку Мстива.
Обоз втягивался в градец. Не доехав полутора десятков саженей до воеводской избы, передовой возница натянул вожжи. Сидевший рядом с ним дружинник поспешно выбрался из укрытых лыковой плетёнкой саней и заторопился к воеводе.
— Воеводы, пусть хранит вас великий Святовит! — громко приветствовал дружинник. — Дикая весь прислала в Ладогу дань. На этих трёх санях меха, на остальных — мальчишки, — пренебрежительно махнул он рукой. — Грязные и злые, как волчата. Пришлось караулить, чтобы не разбежались...
— Какие мальчишки? — не удержался Снеульв. — Зачем они? Нам меха нужны, а не зверёныши.
— Помолчи, ярл Снеульв, — резко прервал его Рюрик. — Старейшина Михолов выполнял мою волю. А зачем нам нужны мальчишки, ты скоро узнаешь. Ведите их сюда! — громко крикнул он сопровождающим обоз воинам. — Сколько их? — спросил у старшего дружинника.
— Три десятка и шесть, воевода, — поспешно ответил тот.
— Почему так мало и где Гудой?
— Гудой едва добрался до Ладоги и свалился в горячке. Воины его тоже чуть на ногах держались. Потому и просил он нас проводить обоз к тебе. Раньше чем через луну не оправиться им. Тяжёлый поход был... — И осёкся под нахмуренным взглядом Рюрика. — Гудой сказал, что и этих ребятишек силой пришлось отбирать, искали по становищам. До крови доходило, воевода...
— В походе без крови не бывает, — недовольно обронил Рюрик. — Иди. С Гудоем, когда поправится, я поговорю...
На тесной площадке в окружении воинов стояли, сбившись в кучку, весьские ребятишки. Было им лет по двенадцать-тринадцать. Жались один к другому, затравленно озирались по сторонам, не понимая, зачем их привезли сюда, для какой надобности отобрали у родителей.
Рюрик неторопливо подошёл к ребятишкам, взял за подбородок ближайшего, поднял кверху широкоскулое побледневшее лицо, внимательно всмотрелся в его закрывающиеся от страха глаза. Хмыкнул неопределённо, пощупал плечи под рваной овчиной. Шагнул к другому, третьему. Затем захватил горсть снега, вымыл руки, насухо вытер их полой шубы и вернулся к воеводам. Ни на кого не глядя, распорядился:
— Отвести в мыльню, накормить, распределить по десяткам. Приучать к воинскому делу не за страх, за совесть. Проследите, воеводы. Ответ за них вам держать. Переясвет, займись данью, посчитай, проверь, раздели по обычаю. Вы, воины, свою долю получите завтра, — громко объявил дружинникам, — а сейчас продолжайте работу.
Повернулся к Снеульву, дружески коснулся его плеча.
— Пойдём, ярл, в хоромы, объясню, зачем нам нужны эти мальчишки. Мы ведь с тобой не походом пришли сюда и не на один год. Думается мне, лет через пять-шесть из этих дикарей добрые вои вырастут.
Шёл старейшина в Гостомысловы хоромы без охоты, с опаской. Стороной выяснил: Милослава других старейшин в гости не звала. А коли так, беседа не с княгиней пойдёт — с Рюриком. Сама беседа не страшила — не тот ныне Блашко, теперь за ним вся сила новеградская. Опасался, послух не помешал бы. Да и с именитыми не худо бы посоветоваться, прежде чем отвечать воеводе. Миром, сообща и от медведя-шатуна отбиться, как под ноги плюнуть, а один на один и волк не всегда по силам окажется. На миру и смерть красна.
Воевода-хозяин потчевал посаженного шутками-прибаутками, дорогим вином, разносолами. Был по-домашнему приветлив, чем немало удивил Блашко: нешто этот человек примучивал весь и кривичей? С притушенной тревогой ждал главного разговора и не заметил, как начал его Рюрик, казалось бы, пустяшным вопросом: много ли пушнины повесил в амбар сын Олельки Вадим?
Блашко покривил губы:
— Где ему, неумехе. Отец его умел дела делать, а этому токмо на людях покрасоваться, горло непотребное драть...
— Не заблуждаешься ли, посаженный? Не было бы богатства, не красовался Вадим. Да и другие тоже. Не обеднел, кажется, Новеград, хотя год и неурожайным был.
— Год тяжёлый, — согласился Блашко, но тут же с достоинством и возразил-поправил себя: — Перезимуем, запасов у града хватит. Не бывало того, чтобы новеградцы с сумой по миру ходили, и при нас не будет.
— Доброе слово, посаженный, приятно слышать, — улыбнулся Рюрик. — Думаю, и о своём обещании ты скажешь такое же доброе слово. — И он твёрдо глянул в глаза Блашко.
— Какого обещания? — недоумённо переспросил посаженный.
— Нехорошо, Блашко, забывчивым становишься. Ты нынче градом правишь, запомни: кто у власти стоит, тому забывать ничего нельзя.
— А я всё и помню, — недовольно буркнул Блашко: ему не понравился наставительный тон воеводы.
— Всё помнишь? Это хорошо. Тогда скажи, когда оговорённую плату моя дружина получит?
— Каку таку плату? — прикинулся непонимающим Блашко: он давно постарался забыть о договоре.
— «Мы, старейшины земли словенской, приглашаем воеводу Рюрика с братьями и дружиной и обещаем...» Продолжать или довольно, посаженный? Не с тобой ли мы этот ряд уложили? — Голос Рюрика стал привычно жёстким.
Блашко встрепенулся.
— Не со мной, воевода Рюрик, — попытался и он придать голосу твёрдость и повторил: — Не со мной. Ряд тот заключал с тобой град наш...
— Не крути, Блашко. Нынче ты граду голова. Ты приходил за нами, ты на договоре клялся. Мы своё обещание выполнили, вы же, словене, нет. Теперь пора и вам выполнять. Надо платить.
— Побойся гнева богов, воевода. За что платить? Град наш с соседями без вашей помощи замирился...
— Я не хочу знать, мирились вы с кривскими или нет, но мы походом на них ходили. За гордость свою они наказаны. Значит, мы сполна выполнили все ваши условия. Плати, посаженный, а то хуже будет. Воины без дела долго сидеть не будут... — Рюрик пристально посмотрел на Блашко, явно давая понять, что он хотел сказать этими словами.
— Ты, кажется, граду угрожаешь, воевода? — неожиданно спокойно спросил посаженный и даже улыбнулся слегка. — Посчитал ли ты хорошенько своих воинов?
— Их хватило для кривичей и веси, хватит и для словен...
— Благодарю, напомнил. Прости, я тебе ещё не пособолезновал. В Белоозере и Изборске братья твои головы сложили. Пусть им будет радостно на небесах, хорошие были воеводы Синеус и Трувор. Помню их...
— Ты хочешь сказать, что со мной может произойти то же самое в Новеграде? — со сдержанной яростью спросил Рюрик и горящими глазами впился в Блашко. — Да знаешь ли ты... — и, не закончив фразы, вскочил из-за стола.
— Не горячись, воевода Рюрик, — поднялся и Блашко. Он видел, что бодричем овладевает бешенство — вот-вот схватится за меч или крикнет стражу, — и торопился упредить вспышку. — Не забывай, что ты в Новеграде и я твой гость...
Рюрик резко толкнул ногою скамью, сел за стол. Опустился на своё место и Блашко. Молчание затянулось. Но раз начавшись, разговор должен быть доведён до конца.
— Без гнева и по трезвому разумению, воевода Рюрик, давай договоримся окончательно, — начал он спокойно, словно и не было меж ними быстротечной размолвки. — Платить твоей дружине Новеград по тому старому ряду не будет, — и рукой слегка хлопнул по столешнице, как о деле давно решённом. — С веси и кривичей вы походную добычу взяли — то раз, к дани примучили — то два. Хватит. Новеград вам в Ладоге сесть не препятствовал — то три. Как видишь, мы своё слово тоже сдержали, расплатились не кунами и гривнами — не мешали вам примучивать соседей наших. А могли бы, ты это знаешь.
Рюрик гневно глянул на него, но Блашко продолжал всё так же спокойно:
— Ноне я предложу тебе, что и посаженный Олелька предлагал: поступай с дружиной на службу граду нашему на всей нашей воле. Тогда воины твои будут получать куны...
Рюрик презрительно фыркнул:
— Наёмником новеградским не буду. Мне весь и кривичи дань платят. Я для них князь...
— Кривская земля велика. Ты только по краешку её прошёл. Не хвались. Впрочем, ежели покинуть нашу землю хочешь, не препятствуем...
— До лета я останусь здесь, — равнодушно, как бы сразу потеряв интерес к разговору, ответил Рюрик. — Ты, Блашко, ещё пожалеешь, что отказался от нашего договора. Другой раз я поостерегусь заключать его с людьми, не знающими, что такое честь. Сейчас же мне надо, чтобы мои воины могли свободно посещать Новеград и торговать здесь без обиды и обмана.
— То можно, — с лёгкостью согласился Блашко. — Град наш вольный, торговать в нём никому не запрещается. Миром-то лучше, воевода, чем криком да руганью, — не удержался от удовольствия кольнуть Рюрика посаженный — победа была на его стороне.
Рюрик то ли усмехнулся, то ли скривился в гневе и как-то странно глянул на него. Или показалось?
Часть третья СТУДЁНАЯ ЗЕМЛЯ
НОВЕГРАД: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА IX ВЕКА
По улицам Новеграда забродили робкие ещё запахи весны. Новый закуп Блашко — Ждан — с тоской смотрел в высокое голубое небо, по которому лениво плыли на недосягаемой высоте облака. Тоска накатывала с каждым днём всё сильнее и сильнее. Спать ложился — перед глазами Залесье, утром, ещё не открыв глаза, тянулся за лаптями, но рука не находила их на привычном месте, и он, сообразив, что спит которую седмицу не в родной избе, а в людской посаженного, в сердцах поминал лешего. Жена с малолетними детьми оставалась в селище, а ему Блашко велел идти в Новеград, работать на подворье, чтобы не ел зря хлеб в Залесье. К посевной обещал отпустить домой. Отпустит ли? Теперь воля не своя…
Тут же, на подворье, трудился и старик Бортник. Даже охотника Ратько не оставил Блашко в поселье, несмотря на то что тот клялся всеми богами, обещая за зиму наполевать векши, лису обещал, утверждал, что приметил берлогу хозяина леса. Ничто не помогло. Дворский только гаркнул, чтобы собирались побыстрее, ему недосуг валандаться с ними. И поплелись мужики по устоявшемуся льду в Новеград вслед за пустыми санями, на которых привезён был залесчанам скудный хлебный припас. Позади оставались родные избы, голосящие бабы и ревущая детвора.
Как там семья без Ждана зиму пережила? Храни её боги!
Трапезовали поздно. Животы аж подвело, а стряпуха всё не торопилась с обедом. Проходя мимо Ждана, Ратько угрюмо молвил:
— Так-то, брат, тут не крикнешь: жена, есть хочу!
— А ты попробуй. Может, дворский смилуется, по шее даст, — невесело пошутил Ждан. Ратько только глазами сверкнул на суетящегося поодаль хозяйского надзирателя и помощника.
— Недаром говорится: не селись возле богатого двора, ибо тиун его — как огонь, на осине разожжённый, а рядовичи его — что искры. Как от огня устережёшься? — и пошёл дальше.
После трапезы дворский отправил Ждана на торжище, отвезти в лабаз воз муки.
Холоп Нечай, доверенный дворского, встретил закупа у лабаза, мотнул головой: мол, давай, таскай кули, и отвернулся, пёсья харя. Нет бы помочь человеку. Где там — горд, как сам старейшина, харю наел — лопается.
Делать нечего, начал Ждан таскать тяжеленные кули один. Дело к концу шло — оставалось два куля, но силы закупа были на исходе. Хотел он сесть на дровни, передохнуть малость. Нечай заорал, поторапливая. Крякнул Ждан, поднатужился, взвалил куль на спину, засеменил, но подвели ноги, пошатнулся закуп.
Не видел, почувствовал, как толкнул кулём прохожего. И тут же упал, получив увесистый удар в бок. Куль с мукой валялся рядом, на грязный снег сыпалась мука.
— Что ж ты, мил человек! — со слезами в голосе закричал Ждан, не успев разглядеть обидчика. — За что?
Начал подниматься и вновь свалился от мощного удара. Подтянул колени к подбородку, с трудом выдохнул, застонал от боли и обиды незаслуженной. Глянул вверх — над ним стоял оружный человек, не новеградец видом, и смотрел на него без злобы и без улыбки, как на бревно, валяющееся без надобности. Зло взяло Ждана: избил ни за что ни про что, муку рассыпал — жди теперь беды от дворского — да ещё и глаза вытаращил. Перевалился закуп на спину, собрался с силами и двинул обеими ногами обидчика в пах. Взвыл не своим голосом оружный и покатился по снегу. Будешь знать, как на людей без причины бросаться...
Не заметил закуп, что рядом дружки-приятели того воина стояли. Едва успел он на ноги подняться, они уже мечи обнажили. Глянул Ждан вокруг себя — даже палки нету. Бежать... Прыгнул к саням, но меч проворнее оказался...
— Убили!!! — истошно закричал Нечай, стоявший в дверях лабаза. — Человека убили! — и юркнул за дверь.
Умолкло торжище. Мгновенье стояли новеградцы в оцепенении, затем начали медленно и осторожно обтекать чужих дружинников. Те беспокойно заоглядывались, выхватили мечи — отступать было некуда. Молчаливая толпа приближалась. Вперёд пробивались новеградцы с оружием.
— По закону нашему пусть платят кровь за кровь! — раздался мрачный голос.
— Да будет так! — единым дыханием подтвердила толпа.
— Остановитесь! Не чините самосуда! — Многие узнали пронзительный голос Олексы. — Убийство лишь посаженному да старейшинам подсудно... С Рюриком сечься хотите? Ныне же он в граде будет...
Дрогнули новеградцы: дружина Рюрика всего в трёх вёрстах от них, — но не расступились. Всё таким же плотным кольцом окружали пятерых воев.
С трудом пробился к ним торговый староста Путята, громко и повелительно крикнул:
— Бросай мечи! К посаженному поведём вас. Он рассудит: кровь за кровь взять или виру с вашего воеводы получить...
Воины, не глядя друг на друга, бросили мечи на снег.
— Вяжи им, ребята, руки, айда в градскую избу, — командовал Олекса.
Толпа, давая проход, расступилась перед связанными воинами и молчаливо-грозно последовала за ними.
На снегу остался лежать труп закупа Ждана.
Когда под окнами градской избы загомонили новеградцы, Блашко почувствовал: пришла беда. Он ещё не знал, что случилось, но внутренне уже был готов к худому. И когда с шумом отворилась дверь и в палату втолкнули связанных воинов, а за ними повалил люд, он растерянно переглянулся со старейшинами и, ни к кому не обращаясь, негромко сказал:
— Дождались... — и требовательно глянул на сына. Тот, за дорогу приготовившийся обстоятельно поведать о случившемся, неожиданно забыл все припасённые слова. Рассердился на самого себя и коротко бросил:
— Вот эти, — ткнул пальцем в сторону связанных, — только что на торжище человека убили. Судите их, старейшины. По закону: кровь за кровь.
— Погодь! — строго прикрикнул Блашко. — Ишь, быстрый какой: кровь за кровь. — И повернулся к Путяте: — Ты старейшина торжища, с тебя и спрос. Кого убили? Из-за чего? Может, тот человек первым задрался?
Путята развёл руками: он ничего не знал.
— Кто может поведать о деле?
— У твоего лабаза случилось убийство, посаженный, с твоим человеком, как звать его, не знаю, — ответил один из торговых гостей и добавил: — Он муку привозил с твоего двора, так его убили...
— За что же они его?
— Точно не ведаю, кажись, тот споткнулся с кулём, задел одного из них!
— Так, добре. Мы со старейшинами разберёмся в этом деле.
— А чего тут разбираться, Блашко? Али ты забыл закон? — прервал его низкий голос, и вперёд протолкался Михолап. Он присоединился к толпе вместе с градскими дружинниками, накоротке расспросил, что случилось. — Я напомню вам, старейшины: убьёт муж мужа, то мстить брату брата, или сынове отца, либо отцу сына, или брата чаду, либо сестрину сынови. Закон велит — кровь за кровь...
— Ты запамятовал, Михолап, что дальше закон говорит, — возразил Блашко. — «Аще не будет кому мстить, то сорок гривен за голову, аще будет русин, либо гридин, либо купчина, либо ябедник, либо мечник, аще изгой будет, то сорок гривен положить за него...» Как видишь, мы помним закон. Но надо разобраться, кого убили и по какой причине. Так ли я молвлю, старейшины?
— Так, посаженный, — подтвердили те. — Наказание должно соответствовать провинности.
— На том и порешим. Боев Рюриковых возьмём под стражу, известим о том воеводу и потребуем его к ответу.
Градские недовольно зашумели: преступление совершено на их глазах, а расплата отодвигается в будущее.
— Не любо твоё решение, Блашко, — загудел Михолап.
— Не сей смуты, — с угрозой ответил посаженный. — То решение не токмо моё, а всех старейшин. Али для тебя уже наше слово не закон?
Не нашёлся что ответить дружинник. С посаженным на вече спорить можно, а тут не вече. Повернулся и первым начал выбираться из избы.
На другой день в сопровождении своих воевод прибыл Рюрик. Был взбешён: дружинников обезоружили и посадили под стражу из-за какого-то смерда, его посаженный требует (требует!) к себе. Как будто он, Рюрик, уже вступил на службу к нему.
Отправляясь в град, повелел воинам быть готовыми к походу. Без команды не выступать — о том строго-настрого наказал пятидесятнику Мстиве.
Сытые кони резво тащили розвальни. Рюрик косился по сторонам, примечал: сегодня на улицах, как никогда раньше, много оружных людей. Врасплох не застанешь. Ну, посаженный, погоди, я тебя выпотрошу...
В палату вошёл властным шагом. На приветствия Блашко и старейшин едва ответил и, не садясь, потребовал, чтобы воины его немедленно были освобождены. Если они провинились, он сам их накажет.
— Того не будет, воевода Рюрик, — твёрдо ответил Блашко. — Твои воины убили человека без вины. Мы будем судить их по своему закону перед лицом Новеграда. Такой обычай.
— Моя дружина ни вашим законам, ни вашим обычаям подчиняться не обязана, — отрубил Рюрик. — Мы на службе у вас не состоим.
— Вы живете на нашей земле, — вмешался в разговор Домнин. — Ежели вам не нравятся наши законы и обычаи, уходите. Мы не потерпим, чтобы твои воины, воевода, убивали без вины наших людей.
— Мы пришли на вашу землю не своей охотой, а по вашему приглашению, — подал голос Переясвет.
— А коли пришли и поселились в нашей земле, обязаны подчиняться её законам, не так разве? Нет ты ответствуй, — настаивал Домнин. — Коли мы вам позволили поселиться у нас, то законам нашим вы обязаны подчиняться, а?
— Да, — коротко ответил Переясвет.
Рюрик гневно глянул на него:
— Мы пришли сюда не о законах рассуждать!
— И о законах, воевода, — сказал Блашко. — Мы хотим знать, готов ли ты платить за убийство человека сорок гривен, ежели новеградцы приговорят? В противном случае мы возьмём кровь за кровь.
— Сорок гривен за какого-то смерда или рукодельника? Это куча серебра, — возмутился Рюрик.
— Тогда тот, кто лишил жизни нашего человека, будет убит. Ты сам сейчас спросишь у них, кто убийца.
— Вы отпустите моих воинов живыми и невредимыми безо всякой виры, иначе от вашего града и следа не останется! — яростно закричал Рюрик и схватился за меч.
Переясвет перехватил его руку, прошептал:
— Не сходи с ума, живыми нам отсюда не выбраться. — И, обращаясь к старейшинам, громко произнёс: — Я уплачу виру за убитого.
— Добро, — согласился Блашко, — разумное решение. Мы постараемся, чтобы новеградцы согласились на виру, а не на месть. — И повернулся к Рюрику: — Мы пригласили тебя, воевода, не только для этого дела. Вели своим воинам впредь числом более десятка в граде не появляться. Приходить безоружными. Дабы не повторялись такие случаи...
— Опять вы указываете мне, что и как делать? — гневно воскликнул Рюрик, но его прервал посаженный:
— Хватит, воевода, надоело. Ты не у себя в градце, и мы не воины твои. В граде нашем ты и дружина твоя будете делать то, что мы велим. В противном случае никого не впустим, и не только в град. Ты понял нас, воевода?
— Хорошо, — согласился Рюрик. — Но и вы запретите градским шляться по улицам оружными. Если ваши люди с мечами, а мои с голыми руками, то как бы не пришлось платить виру за убийство моих воинов...
— Примем ли, старейшины, предложение воеводы? Действительно, помимо сторожи, у нас многие норовят без дела меч прицепить али с засапожным ножом ходят...
— Время нынче не бранное, неча железом играть, — выразил общее мнение Пушко.
— Ну, коли так, пойдёмте суд вершить, — поднялся Блашко. — Ишь, новеградцы шумят, — кивнул он на оконце. — Заждались уже, не терпится им...
На суде голоса разделились. Многие признали разумными слова посаженного, что смертью Рюрикова воя закупа Ждана не оживить, а серебро вирное поможет его вдове поднять на ноги малолетних детей. Другие бурно протестовали, требуя мести, чтобы бодричам да варягам в другой раз неповадно было. Перевес в пользу виры вызвало сообщение Блашко, что воины впредь будут приходить в град малым числом и без оружия. Зато громким недовольством встретили решение старейшин — новеградцам тоже не бряцать более оружием. Покричали, но опять же большинством согласились.
Вадим уходил с веча вместе с Михолапом и Радомыслом. Были они подавленными и задумчивыми.
— Поубавится теперь у тебя работы, друг Радомысл, — прервал молчание Михолап. — Вишь, старейшины наши чего удумали...
— На мой век работы хватит, — буркнул кузнец. — Не разучился ещё секиры да серпы ковать...
— Думается мне, други, что мечей-то нам ныне поболе понадобится, чем когда-либо, — сказал Вадим. — Чую, обведёт Рюрик наших старейшин вокруг пальца. Нам зевать никак нельзя. Не серпы скоро потребуются. — И предложил спутникам: — Айда ко мне в хоромы, поговорим толком на досуге...
Они сидели в горнице с низким потолком и наглухо закрытыми небольшими оконцами — здесь недавно умер посаженный Олелька.
— Вот ведь что делается, — негромко говорил Вадим. — Кажись, всё по закону и обычаю, виру за убитого град вытребовал, получит ли её вдова закупа — то на совести посаженного. А всё ж обидно, безвинного человека загубили.
— Эк, новость сообщил, — отмахнулся Михолап. — Мало ли их гибнет и без Рюрика. То зверь задерёт, то потонет бедолага.
— Да погодь, Михолап. Потонет, зверь задерёт... — передразнил друга Радомысл. — То смерть обычная. А тут чужеземцы человека убили ни за что ни про что. Сегодня его, завтра меня, так, что ли? Обычаи соблюли, виру взяли, так они богатые с грабежей-то... Этак повадятся — житья не станет.
— Жаль, не поспел я к тому случаю, враз отучил бы мечом играть, — с угрозой бросил дружинник.
Невольно улыбнувшись, Вадим кивнул кузнецу на товарища:
— Наш Михолап готов бодричам виру платить. Только стоят ли того один-два воя? Али ты по пустякам готов ссоры затевать?
Михолап вскинулся:
— Для тебя уже и честь наша, новеградская, пустяком стала? Значит, пусть творят непотребство, а мы со стороны глядеть будем, да? Мне не закупа жалко — сам виноват, коли защититься не мог, — однако и он словен...
— На смирных-то воду возят, — промолвил Радомысл.
— Вот-вот, справедливые слова, — согласился Михолап. — Смирно сидеть будем, запряжёт нас Рюрик, ещё и кнутом нахлёстывать начнёт. И поскачем мы рысью. А всё потому, что некоторые, — с презрением протянул он, — навроде Вадима нашего храброго, честь новеградскую за пустяк почитают. А по мне, не сидеть сложа руки надобно, а ударить сполох да навалиться на того Рюрика...
Наступило тягостное молчание. Не однажды Михолап корил Вадима за ту, летнюю, нерешительность, когда дружина новеградская готова была и могла одним ударом покончить с бодричами. Вадим оправдывался приговором отца, защищал разумность запрета. И только теперь -признал неправоту его. Поздно признал, того дня не воротишь. К бодричам ныне ещё и варягов прибыло.
— И чем всё это кончится? Они-то, — Радомысл повёл рукой в сторону оконца, — оружны. А мы? У многих ли градских припас добрый есть?
— А зачем он им, коль посаженный со старейшинами запретили в граде с мечом появляться? — со злой усмешкой спросил Михолап.
— Брони тебе и другим ковалям должно готовить, как и прежде, — твёрдо сказал, обращаясь к кузнецу, Вадим. — На то запрету нет. А оружие нам понадобится, и, кажется, скоро, — повторил он сказанное ещё на улице. — Сидеть сложа руки и глядеть со стороны на ушкуйничество бодричей да варягов нам нельзя. Но и по-глупому сполох бить негоже.
— Кажись, прежний голос воеводы слышу, — с удовольствием пробурчал Михолап. — Что ж ты предлагаешь?
— Пока ничего. Старейшины надеются, что им удастся подмять под себя Рюрика. Не верю я в это. Во сне видит бодричский воевода себя князем нашим. И будет, коли мы не помешаем...
— А потребен ли нам князь? — спросил Радомысл.
— Мысли мои подслушал, — встрепенулся Вадим. — Нужен ли Новеграду князь али без него жить сможем? Об этом думать надобно.
— Что князь-воевода, что посаженный — всё едино, — равнодушно обронил Михолап.
— Вот когда в Новеграде князь только для дружины воеводой будет, тогда посмотрим, едино ли? — возразил Вадим. — От находников надобно освободиться, пока Рюрик град не захватил, а потом уж думать, как землёй лучше править...
— Сдаётся мне, Вадим, не прав ты тут, — повернулся к нему Радомысл. — Чтобы рукодельников и смердов огневить на бодричей с варягами, надо им сказать, чем грозит вокняжение Рюрика. Скажем, а они вот так же, как Михолап: «А какая разница меж князем и посаженным?» Самим прежде уяснить надо. Как мыслишь?
Не было готового ответа у Вадима. Испокон веков повелось — люди старшему подчиняются. Одному. В старину важные дела скопом решали, а без старшего всё равно не обходилось. Ныне старейшины верх взяли, с меньшими считаться не хотят. Так не должно быть.
— Граду твёрдая рука нужна, но только чтобы она не в свою мошну гребла, а обо всех равно заботилась. Посаженный о рукоделии, торговле заботу иметь должен, суд чинить по справедливости, о смердах и прибавлении земли словенской радеть...
— Что нам, земли своей не хватает? — с недоумением спросил Михолап.
— Хочу, чтобы град наш славен был и в ближних и в дальних землях. Ныне вот весью Рюрик володеет, дань с них берёт. А пошто не мы? Рядом с весью карела живёт. Слыхивал я, дальше на полночь дикие племена обитают. Град наш и от них пользу иметь может...
— Значит, надобно племена те для пользы Новеграду прим учить? — спросил Радомысл, отводя взгляд от Вадима. — А как содеять, чтобы дань с племён тех пошла не в мошну старейшин, а на пользу граду? — В голосе Радомысла звучало сомнение. — Кто распоряжаться будет той данью?
— Медведь ещё в берлоге, а ты уже шкуру делить собрался, — рассмеялся Михолап.
— Далеко заглядываешь, Радомысл, — подперев голову рукой, сказал Вадим. — Одно знаю твёрдо: коли выгоним Рюрика, учнём другие земли словенам подчинять — богаче станем, а богачество града — довольство всех словен...
— Твоими бы устами, Вадим, мёд пить. Не верю, чтобы посаженный со старейшинами или князь о нас, рукодельцах, заботу имели...
— Так что ж ты хочешь? — сдерживая раздражение, спросил Вадим.
— Бывал раньше я у кривских, — неторопливо начал кузнец. — Зрел их жизнь, и многое мне у них по нраву пришлось. Стемида-князя с нашими старейшинами не сравнишь. Жили они беднее нашего. Да не о том я. Разве решил Стемид хотя бы одно дело без совета с людьми?
— Вот и дорешался, — безразлично сказал Михолап. — Нынче с праотцами совет держит...
— А и то вина наша. Пропустили Рюрика в Плесков, а сами в стороне. — В голосе Радомысла прозвучало осуждение.
— Чего доброго, лаяться учнём, — предостерёг Вадим. — Старое поминать — только сердце рвать. Мы ж собрались о будущем думу думать...
— Чтой-то не получается у нас дума, — мрачно заметил Радомысл. — Расползлись мыслью, как раки, в разные стороны...
— Дай срок, прогоним Рюрика — сползёмся. Скажите лучше, как дружину без ведома посаженного собрать да на Рюрика поднять? Думается, тебе, друг Радомысл, с ковалями надобно говорить. Пусть припас воинский день и ночь куют, градских тайно вооружать надо...
— Пока всех градских вооружишь, Рюрик своей смертью помрёт, — пошутил Михолап. — На дружину нашу надежда, ну, да я её раскачаю...
— По уму качать надобно, и чтобы никакого своевольства не было. Торопливость большой кровью обернуться может. То ни к чему, — твёрдо сказал Вадим. — Сечу готовить будем...
Совещался и Рюрик с воеводами. По дороге в градец, в крытом возке, куда с трудом втиснулись вчетвером.
— Кто дал тебе право, тебе, пятидесятнику, — разъярённо шипел он в побелевшее лицо Переясвета, — вмешиваться в мои дела? Ты со своей вирой выставил на посмешище и меня, воеводу, и всю дружину. Говори! Или ты задумал предательство? Я казню тебя перед лицом твоих воинов!
— Я не нарушал законов и обычаев нашей земли...
— Где это видано, чтобы дружина платила виру своим данникам! Ты до сих пор не можешь понять, что натворил? Теперь новеградцы будут считать нас наёмниками. Он не нарушал... А кто нарушал? Я, что ли?
— Воевода, что же ты молчал там, в избе, и на сходке горожан? — торопливо спросил Аскольд. — Разве Переясвет виноват? Он хотел, как лучше...
— И ты туда же, ярл? — круто, насколько позволяла теснота возка, повернулся к нему Рюрик. — Давно успел поумнеть? Мы в походе. Забыли, что за ослушание воеводы в походе лишь одно наказание — смерть? Я напомню...
— Когда водил своих воинов на Плесков, я был умным? — с дрожью в голосе от незаслуженной обиды выдохнул Аскольд. — А теперь стал мальчишкой. Я уйду от тебя, не хочу ходить под таким конунгом...
— Успокойся, Аскольд, — сдавленно сказал Переясвет. — Воевода погорячился, он не думал оскорблять нас с тобой...
— Вас не оскорблять, казнить надо! — вновь закричал Рюрик.
Вмешался, не выдержав, Снеульв.
— Действительно, конунг Рюрик, горячка ни к чему. Казнить начальников без приговора дружины тебе не дано. Не вижу причин для казни храбрых ярлов. Мы из воли твоей не вышли. Твой отказ от виры вызвал бы стычку, а может, и нашу смерть... В чём их вина? — кивнул он головой на молчащих воевод, — Они же не учили тех губошлёпов сдаваться живыми словенам, — и неожиданно захохотал громко и весело.
Лицо Рюрика налилось бурой краской.
— Что весёлого нашёл ярл Снеульв в этом деле? — зловеще спросил он. — Или ты думаешь, это я их трусости научил?
— Можно ли упрекнуть в трусости несколько дружинников, если на них напал целый город? Не тому я смеюсь, мне пришла в голову весёлая мысль: надо уплатить Хольмгарду ещё одну виру...
— Если эту мысль ты считаешь весёлой... Говори, — процедил сквозь зубы Рюрик.
— Не сердись, конунг, вспомни: иногда удача от тихого слова зависит. Мы же тут не одни. — И он указал рукой на переднюю стенку возка, за которой сидел возница.
Все склонились к Снеульву. Возок бросало на ухабах. Голос Снеульва временами был едва слышен. Но Рюрик уже ухватил мысль ярла.
— Я понял тебя, — громко сказал он. Его охватило возбуждение. —До времени об этом не должна знать ни одна живая душа. Молодец, ярл, и вы тоже, мои верные друзья, — засмеялся он так же весело и громко, как минуту назад смеялся Снеульв. — Будет пир, вы заслужили его. И ещё. Чтобы не таили обиды на меня, я отдам вам Новеград на три дня. Вы будете в нём хозяевами. Старшим назначаю Снеульва. Как лучше всё это сделать, будем думать завтра.
Не развеселил Переясвета с Аскольдом и пир. Слишком сильна была незаслуженная обида. Аскольд, молодой годами, но не воинским опытом, изливал душу Переясвету.
— С таким конунгом ни славы, ни богатства... Если он думает, что я полезу добывать ему Новеград... Уйдём от него, Переясвет... Мы сами себе ярлы. Сколько воинов полегло за него, а он... Ненавижу... Уйдём, Переясвет...
— Замолчи, Аскольд, — тихо просил Переясвет. — Доболтаешься до беды. О таких делах на трезвую голову говорить надо. А лучше вообще не говорить. Во всяком случае не со мной. Я стар, чтобы уходить от Рюрика...
— А я всё равно уйду, — с пьяной решительностью твердил своё Аскольд. — Вот разведаю путь к грекам...
— Помолчи, Аскольд! — прикрикнул Переясвет. — Ты молод, можешь думать о греках, можешь поискать земли поближе. Перед тобой вся жизнь, и ты свободен. Когда-то и я мечтал... Теперь я стар даже для того, чтобы обидеться на Рюрика...
Достаток давался Онциферу нелегко. Чуть ли не всю словенскую землю исходил он длинными снежными зимами, перебираясь с места на место в поисках непуганого зверя. Бывало, на ползимы отправлялся в лесную глухомань, захватив мешочек с солью да котомку с сухарями. Большего не требовалось: лес — друг охотника, прокормит. Возвращался к весне с туго набитым захребетным мешком скоры красного зверя.
За доброе знание лесных троп и путей отправил его посаженный Олелька провожать Рюрикову дружину в весьскую землю. С Олелькой давно связан был, дружбой тот его особой не дарил, но среди других охотников отличал и за пушнину расчитывался без обмана. Онциферу то на руку: страсть не любил рядиться, а уж на торжище самому пойти — об этом и жена заикнуться не смела. Потому и не отказал Олельке в просьбе пустяшной — проводил бодричей в Белоозеро, не заботясь о том, зачем это заморским людям понадобилось забираться в такую даль?
Глаза открылись потом, когда увидел согбенного, понурого старейшину Михолова в горе его. И ужаснулся содеянному. Возвернувшись, попенял посаженному, но тот лишь хмуро отмахнулся: не твоего, мол, ума дело. Бери за службу горсть резанов[31] да ступай домой. Онцифер спорить не стал, — резаны взял, а обида осталась.
Со временем забываться обида стала. А после того, как докатилась молва, что весь Синеуса побила, совсем Онцифер не вспоминал о том походе. Даже Олельку попытался оправдать: посаженный-то с умыслом рассунул бодричские дружины по чужим землям. Там они, вишь, и конец свой нашли.
Нынешней весной благодушие Онцифера враз смял кузнец Радомысл: «Помнишь, молвил ты, как Рюрик весь примучил? Ныне наш черёд, коли сиднем будем сидеть». Онцифер поверил тому без сумленья. Уходил в лес — о бодричах и не думал, сидели те в Ладоге, вернулся — они уже под Новеградом. Размышлять долго не над чем: Рюрик когти вострит, Новеграду в горло вцепиться размыслил. Нельзя того терпеть...
Радомысл увёл Онцифера в глубь кузни. Сказал, что надобно людей верных поболе упредить, да так, чтобы посаженный Блашко об этом не проведал. А когда сигнал воспоследует, пойдём на Рюрику. Но прежде надо оружия наготовить, людям раздать. Одной дружины градской для такого дела мало.
Онцифер твёрдо обещал свою помощь.
Уже несколько раз подъезжал он к кузнице Радомысла на дровнях, подмастерья грузили в них откованные насадки для копий и мечи, сверху набрасывали дерюгу, и Онцифер не торопясь отправлялся в один из концов града. Его там ждали: и ворота бывали открыты загодя, и кому товар принимать находилось.
Однажды загрузил он товаром железным дровни, тронулся помаленьку. А весна дело своё делает. Взбугрилась дорога. На самом выезде из торжища осунулись с дровен два меча. Шлёпнулись в снежное месиво, Онцифер не заметил, другие узрели.
— Эгей, Онцифер, ты чегой-то потерял...
Онцифер попытался было сунуть мечи под дерюгу, а тут невесть откуда посаженный Блашко с мытниками.
— Стой, охотник. Пошто приговор нарушаешь?
— Я, посаженный, приговора не нарушаю. Ты ж видишь, меча на мне нет... — нашёлся Онцифер.
— То-то и странно, что сам без меча, а на дровнях целых два. А может, и не два? — спросил Блашко, подступая к саням. — А ну, вскройте воз.
Мытники кинулись исполнять повеление. Вокруг саней собралась толпа.
— Так, — медленно протянул посаженный. — А скажи-ка, откуда и куда везёшь ты припас сей? Для какой такой надобности?
Наступила тишина. Толпа ждала, что ответит Онцифер, а он растерялся и молчал.
— А и доброго товару Онцифер наторговал, — послышался неожиданно из толпы чей-то голос. — Дорого ли платил, Онцифер?
Вот тут и осенило охотника.
— Не так чтобы и дорого, но и не дёшево, — ответил он в толпу и только после этого смело глянул Блашко в глаза. — Товар я домой везу, посаженный, а покупал его у ковалей...
— Покупал? Зачем же? — нахмурился Блашко.
— А затем, что надумал я торговым делом заняться. Надоело по лесам бродить, чай, не молоденький уже. А тут дело верное, прибыльное. Ковали по дружбе недорого взяли, а уж продам по какой цене — одним богам ведомо. В Новеграде торговать никому не возбраняется...
— Ты прав, — приосанился Блашко. — Только ответствуй, купец новоявленный, ведомо ли тебе, что надобно сперва в братство купцов-оружейников вступить, взнос в казну градскую внести, а уж после торговлей заниматься? Платил ли взнос и пошто я о том не ведаю?
— Мошна-то у меня тощая, чтобы, не зная броду, соваться в воду, — закручинившись, как показалось посаженному, ответил Онцифер. — Решил я вначале втайне попробовать, к кривским съездить, расторговаться товаром, а потом уж и к братству с поклоном идти. Не гневись, Блашко, яви милость.
— Милость? — загремел Блашко. — Ты казне градской урон да бесчестье наносишь и ещё о милости баешь? Ежели все потай торговать станут, на какие шиши стены градские крепить станем, сторожу содержать? Не думал о том? Впредь думать станешь. Коли к вечеру взнос не внесёшь, товару своего лишишься и на судилище за бесчестье поставлю. Заворачивай к градской избе, — распорядился Блашко.
Пришлось подчиниться. Сгрузил Онцифер товар свой и отправился на поиски Михолапа. Михолап, не дослушав путаной речи оружейника, назвал его дурным словом и заторопился к Вадиму.
К вечеру Онцифер внёс в градскую избу гривны. Недоверчиво смотрел на него посаженный, но сделано всё было по закону. Выбрался Онцифер от посаженного, посмотрел на вызвездившееся небо, покрутил головой: чего в жизни не случается…
Град по обычаю продолжал кормить дружину, и она, тоже по укоренившейся привычке, сходилась в дружинном доме. При Гостомысле дел всем хватало с избытком, а ныне старейшины словно и ведать не ведают, что в граде две сотни воинов томятся бездельем, от безделья же мечами друг перед другом помашут, стрелы помечут, чтобы рука навык не теряла.
Воспрянули было, когда случилось нестроение с кривскими. Принялись мечи точить, радуясь предстоящему походу. Михолап на правах одного из старших дружинников ходил к старейшинам, спорил, убеждал выступать. Не убедил. Им, сивобородым, казалось, что Новеграду одному, без чужой помощи, не совладать с соседями. Приговорили на поклон к Рюрику идти. И опять без дружины думу думали. Потому и не додумали, что помощь та хомутом обернуться может. Так и получается: сами голову сунули в хомут. И того не видят, слепые, что хомут вот-вот засупонится намертво, потом его только вместе с головой скинешь.
Беду ту не один Михолап чувствует. Другие дружинники тоже, как Ильмень в бурю, кипят. Однажды накоротке испробовали мечи на бодричах. Слов нет, вои добрые, но валятся от мечей не хуже, чем дерево под топором. А коли так, то почему бы граду не испробовать силу? Стоило только Михолапу заикнуться одному, другому о том, что Вадим в тайне от посаженного готовится новеградцев поднять на Рюрика, дружина оживилась. Через день дружинная изба наполнилась голосами. Рядили, как лучше сечу вести, чтобы и бодричей-варягов разметать, и большой кровью за удачу не расплатиться. Те, кто помоложе, хоть сегодня готовы на приступ градца кинуться.
Старшие охолаживают: не с весью либо смердами-мужиками сечься, у воеводы дружина бывалая — крови кривских испив, уверилась в своей необоримости. Знать надобно: воин, в победу уверовавший, в сечу идёт легко и бьётся грозно. Так что одного молодечества мало.
Бодричей-варягов надобно числом задавить, смять первым натиском, неожиданностью, а для того с кличем надо пройти по весям и селищам, людей поднять, полк сбить. Как когда-то Гостомысл содеял.
Михолап только крякал густо в ответ.
— Размыслите, дружина, — говорил Михолап, — того делать нам никак нельзя. Не за князем стоим. Клич без посаженного со старейшинами не получится. Вече созвать — Рюрик прознает. То уже не сеча, а резня выйдет. Нешто думаете нашим малым «копьём» воеводу одолеть? Потай людей повестить надо, а главное — вооружить их, голыми руками Рюрика не свалишь.
— А думали вы с Вадимом, пошто воевода торопко так градец рубил? Невтерпёж ему. Как бы не припоздниться нам...
— О том и толкую. Неча впусте кажинный день в дружинной избе сидеть. Пущай каждый по десяти человек повестит да мечом либо секирой рубить научит. С сигналом мы не припозднимся...
Против воеводства Вадима не возражали. Его задумка поднять новеградцев на Рюрика — ему и верховодить.
— Добре, — соглашались старшие с Михолапом, — быть по сему. И в граде люди найдутся, и поселья проведаем. Вадиму, может, и невдомёк, а ты-то знать должен: такое дело затягивать нельзя, снегу-то, почитай, не осталось, скоро люди за пахоту примутся, тогда уж не до сечи станет, мужика с поля только мечом и выгнать можно будет. Торопи с приступом.
Поодаль шумели молодые дружинники:
— Доколе стены караулить? На то воротники есть да сторожа...
— Рехнулся посаженный, дружину за слуг градских почитать начал...
— С варягами дружбу повёл, к граду пустил, не без прибытку, чать...
— Не худо бы его за то в Волхов метнуть...
Дружина к выступлению была готова. Ждали сигнала.
Аскольд отправился в Ладогу с радостью. Надоело торчать в воинском стане, с утра до ночи гонять дружину, уча и показывая, как биться в граде. Ещё больше наскучил воевода. Рюрик, забыв развлечения и отдых, во всё влезал сам. Наставлял: град — не поле, общего строя нет, на локоть соседа не надейся, приказов начальника на каждую стычку не жди, сам ищи врага, решай, как его быстрее на землю уложить, и спеши далее. Войдя в град, пока не упрёшься в стену, — ты в бою, помни об этом. Забудешь — голову отсекут. Падёшь — не укор, но твоя смерть дружину ослабит. Град велик, нас мало, помни. Пусть новеградцы умирают — чем больше падёт их от твоей руки, тем лучше.
И ещё: не бросаться до времени на пожитье, не искать гривен золотых и мехов, не отягощаться добычей, не кидаться на жёнок. Возьмём град — новеградцы сами приволокут добро, и девицы на коленях приползут. Ослушание — смерть. Струсит кто, назад повернёт — смерть. Спасаться нам негде, за море не улететь — не птицы небесные.
Поучения надоели. Воевода стал многословен. Там, где раньше обходился кратким приказом, ныне слов бросал без счёту.
Неприязнь к конунгу после стычки в возке, приутихшая было, вновь зашевелилась в душе Аскольда. Он одобрял предложения Рюрика по захвату города — они были разумны, но горечь незаслуженной обиды не исчезала. К ней примешивалось и другое: обострившимся обиженным зрением Аскольд замечал, как всё больше и больше привечал воевода ярла Снеульва. Конунг ему верит, к его советам прислушивается.
— Мы ему Новеград захватим, он в городе сядет и всю землю словенскую подчинит себе, — убеждал Аскольд Переясвета. — Он себя великим конунгом считать станет. Ты думаешь, мы тогда ему понадобимся? Мы — ярлы, а ему слуги безответные потребуются. Ты хочешь быть таким слугой? Я не хочу. Если не пойдёшь со мной, один с дружиной уйду...
Переясвет отмалчивался. Не рискнуть ли одному? Дружина верная, мала, но испытана. Земля вокруг необъятная. Рюрик с большой дружиной два лета вгрызается в неё, а покорил всего ничего — весь да кривичей. По рассказам, племён таких вокруг без числа, и сами рассказчики путались, называя. А где кто сидит да с кем соседствует — о том и не спрашивай: такого наговорят... Вятичи, родимичи, дреговичи, поляне... Выходило, что землям конца-краю нет. Где-то далеко на юге тёплое море, за ним греческая земля. На полночь люди живут одноглазые, ещё дальше — однорукие, всех приходящих убивают. «Кто их видел?» — допытывался Аскольд. Рассказчики пожимали плечами. Где обитают племена? В ответ неопределённо показывали рукой на север и с искренней убеждённостью говорили о богатствах тех земель: золото в горе — бери сколь хочешь, скоры красного зверя — возами не вывезти. Вот только стерегут они своё добро неусыпно.
Располагая такими сведениями, отправляться за золотом было бессмысленно. Сам погибнешь в дебрях и дружину положишь без проку. А уйти от конунга Рюрика всё же хотелось...
Санный путь ложится под полозья розвальней. Солнце пригревает совсем по-летнему. Аскольд поторапливает возницу.
Конунг Рюрик поручил ему важное. Отправляя в Ладогу, сказал:
— Ярл Аскольд, тебе нужно выяснить, пойдёт ли воевода Щука с дружиной на помощь Новеграду. Что повелел ему посаженный Блашко на случай нашего нападения? Я думаю, никакого повеления он не отдавал, но слепыми нам нельзя быть. Надо предусмотреть всё. Ты узнаешь у воеводы Щуки, что сможешь узнать. Но не это главное. Ты помешаешь ладожанам отправиться на помощь Блашко. Это будет трудно. Я не могу отпустить с тобой даже всю твою дружину. Твои воины понадобятся здесь. С тобой отправятся всего три десятка. Этого мало, чтобы уничтожить Щуку и захватить Ладогу, но должно хватить, чтобы не допустить Щуку к Новеграду. Я верю тебе, ты справишься с этим...
«Справишься, — мысленно усмехнулся Аскольд. — Конечно, справлюсь. Не так уж сложно сжечь или изрубить ладьи ладожан, а без них они к Новеграду не попадут. Если до этого дойдёт, немало воинов отправится к праотцам. С кем тогда в другие земли идти? Нет, поручение конунга надо без сечи выполнить. Скажу воеводе Щуке, что по Ладоге соскучился, в гости к нему приехал. Щука гостеприимен. Узнать у него надо многое. И совсем не то, что поручил конунг».
Обрадовался поездке в Ладогу Аскольд не потому, что конунг доверил ему столь важное дело. Причина была другая. Совсем неожиданно для Аскольда Переясвет вдруг попросил его узнать о землях и племенах, находящихся южнее кривичей.
— Это не для меня, — сказал он. — Для тебя. После захвата Новеграда...
— Я понял, Переясвет, и всё сделаю. Жаль, что ты не хочешь... Я уйду и... благодарю тебя за совет.
Посаженный Блашко совсем ополоумел, Ладожскую твердыню за кабальное селище почитать стал, а его, воеводу Щуку, в своего тиуна-захребетника превратить хочет. Что ни гонец из Новеграда, то новый разговор о гривнах, хлебе, другом припасе. И все — дай, дай, дай. Можно подумать, на погорелье требует. А того не поймёт, что не Ладога Новеграду, а Новеград Ладоге помогать должен. Не будь твердыни — град без защиты останется. Да что о том толковать. Князь-старейшина Гостомысл Ладогу пуще глаза берег, знал, что соседи северные лихие, зазевайся — вмиг вцепятся. После Гостомысла Олелька первым силу посадницкую заимел, на старейшин узду надел, но тот поумнее Блашко был: хотя воеводу ладожского к себе не приблизил, но и за холопа не считал. А этот...
Теперь вот варяги ярла Аскольда в Ладогу воротились. Неспроста воротились, мыслит воевода. О том и посланец Михолапа толковал недавно: просил рубить бодричей-варягов до единого, коли побегут от Новеграда. Гнать их, видно, собираются. Пусть гонят, Щука противиться не станет, на кой леший ему на своей земле те варяги сдались. Непонятно другое: кто гнать собирается? Посланец не от посаженного, а от Михолапа. Пошто так? Для скрытности? Не похоже. Скрытно и Блашко мог бы прислать. Без воли старейшин и веча? Толку не будет — Рюрик не младенец, и вои у него добрые.
Ярл Аскольд и ледолома не испугался — пришёл в твердыню. Знать, дело приспело. Ухо востро держать надо.
На малом пиру в честь гостя ждал Щука хитрого, осторожного разговора. Потому и выпил до дна лишь первую чару, а потом больше усы мочил. Аскольд же пил чару за чарой, и ничто, кроме застолья, его, кажется, не интересовало.
Улучив момент, подмигнул Щука своему верному дружиннику Пекше, прислуживающему за столом. Тот незаметно шмыгнул за дверь, и через малое время в трапезной появилась ладожская молодица. У самого стола словно споткнулась, низко поклонилась гостю, вспыхнула лицом, обожгла его лукавым глазом и — хозяину:
— Прости, воевода. По делу шла, не знала, что у тебя гость дорогой. Дело-то пустое, завтрева забегу.
Вскочил Аскольд, схватил кубок, медовуха плеснулась через край.
— Воевода, хочу пить здоровье моей бывшей домоуправительницы. Заслуживает того...
— Званка — хозяйка добрая и жёнка славная, — отмолвил Щука. — Выпьем за её здоровье, пусть боги даруют ей много лет жизни. Садись, Званка, — предложил он, показывая глазами на свободный стулец.
Женщина приняла кубок, поднесла к полным губам. Глаза лукаво смотрели на Аскольда. Тот осушил свою чару.
— Рад тебя видеть, Званка, по-прежнему. Горница моя не занята ли? Коли свободна — приготовь, к ночи приду. Теперь же у нас с воеводой мужской разговор... — И развёл руками.
Поклонившись и поблагодарив за хлеб-соль, Званка вышла. Щука насторожился.
— А скажи, воевода: далеко ли ходили вы с князем Гостомыслом? — спросил Аскольд.
— Дак земля наша обширна, ярл...
— Это я знаю. На юг ходили? Знаешь ли путь туда?
— На юг, к грекам, попасть просто. Любой гость торговый тебя проводит. Путь безопасный, хотя и трудов немалых требует. Как из реки нашей выйдешь, в Ильмень-озеро попадёшь. Ты ж бывал на нём, когда на Плесков ходили, так? — И сам себе ответил: — Так. Только вы правым берегом шли и скоро на тропу свернули, что к кривичам ведёт. А вот ежели серёдкой озера плыть до другого берега, как раз в Ловать попадёшь. Запоминай, ярл, река Ловатью прозывается. По могутности она нашему Волхову не уступает...
По Ловати вверх подниматься станешь. Тут уж рук не жалей, течение-то насупротив будет. По левую руку другая речка попадёт именем Кунья, вёрст за сто с гаком от Ильменя. Куниц там в лесах обилие.
оттого и речку так прозвали. Речка так себе, но и она трудов потребует — на вёслах да шестах идти надобно...
— То меня не волнует, силы у дружинников достанет — заметил Аскольд и незвначай выдал Щуке сокровенное.
Воевода сразу же смекнул: Михолап упреждает — бить варягов, коли на север побегут, Аскольд на юг навострился, Блашко молчит, а о чём Рюрик думает — только богам известно. Замятия в Новеграде предстоит — без сумленья, только кто затевает её? Знать надобно, иначе впросак попадёшь.
Тревога охватила воеводу, но ничем он не выдал её Аскольду.
— Да, воины у воеводы Рюрика добрые, силы им не занимать стать, — спокойно ответил ярлу. — Слушай дальше да запоминай. По речке Куньей до истока поднимешься, дальше водного пути нет.
— Как нет? — спросил Аскольд. — Что ж, пешим идти?
— Зачем пешим? — в свою очередь удивился Щука. — И дальше в ладьях поплывёте. Это по Куньей пути нет. У самого, почитай, истока волок начинается. Ладьи до Жижецкого озера тащить придётся. Путь труден, да невелик. По озеру через протоку в Двину-реку попадёте, по ней чуток спуститесь. Тут отдохнёте. Двина сама ладьи понесёт. Только учти, отдых тот недолгим будет. В речку Касплю, что в Двину впадает, повернуть надобно. Речка совсем плёвая, неприметная вовсе, так что не проворонь, ярл. Впрочем, без проводчиков вам всё равно не обойтись, а они путь знают...
— Ты, воевода, проводчикам доверяешь? — с улыбкой спросил Аскольд и, не дожидаясь ответа, наставительно сказал: — Ярл должен путь лучше проводчиков знать, тогда его никто не обманет... Речкой той, Касплей, куда я попаду?
— Дальше-то совсем просто. Из Каспли ещё один волок — и к Днепру выйдешь. Днепр — река могутная. Греки её Борисфеном прозывают. Ежели к грекам думаешь добраться, то надобно нынче в путь поспешать. По осени море бурливо, на ладье в него не сунешься — потопит...
Щука наполнил чары. Но выпить не торопился.
— Ярл Аскольд, говорю-то всё я да я. У меня уж и язык устал. Поведай, что нового в Новеграде?
— Как у вас говорят? Потехе время, работе день? Засиделся я у тебя, совсем хозяина притомил. А Званка-то ждёт, — подмигнул он. — Не сердись. Завтра расскажу.
Обескураженный, Щука вышел вслед за гостем. Уходят бодричи-варяги со словенской земли или не уходят? А гонец Михолапа? Совсем с панталыку сбил Аскольд, будь он неладен. Рюрик дружину в Ладогу прислал, а посаженному и заботы нет. Всё на него, воеводу, свалилось. Ну, Блашко, не печалуйся, коли ладожане тебе кукиш покажут...
После смерти Ждана совсем закручинился закуп Ратько. Манило в родное Залесье, к жене, детям. Старейшина забыл обещание — на просьбы отпустить домой отмалчивается да глядит исподлобья. По льду ещё отправил Блашко вдове Ждана в Залесье хлеба, в просьбе сопровождать его залесчанам отказал. Нарядил своих челядинов. Те съездили благополучно. Из их рассказов поняли закупы, что в поселье худо. Бабы их с детишками зиму кое-как пережили и скотину сохранили, хотя от скотины той одно прозванье осталось — кожа да кости. Ждут мужей — глаза выплакали.
— Завтрева надо в ноги хозяину пасть, пусть домой отпущает, — подал голос Вавила. — Иначе наши там перемрут...
— Отпустит он, жди, — зло откликнулся Ратько. — А и отпустит, так по льду не проберёшься, а открытой воды ещё сколь ждать?
— Нет, мужики, полой воды ждать нам никак невмочь. Берегом пойдём, авось не утонем в зажорах, — твёрдо ответил Вавила. — Идти нам надо не мешкая. Я к тому, что надобно нам, мужики, из Залесья уходить. Блашко теперь нас в покое не оставит...
— Правду молвишь, Вавила, втайне надо уходить, чтобы за лето от новеградских спрятаться...
Утром мужики дождались выхода хозяина. Вавила опустился на колени. Остальные стояли за его спиной понурые, сгорбившиеся. Выслушав слёзную просьбу, Блашко с шумом втянул ноздрями тёплый, пропитанный влагой воздух и неожиданно легко согласился:
— А идите. К вечеру, должно быть, река тронется, садитесь на льдину и плывите. — Повернул голову к почтительно стоявшему в стороне дворскому: — Робить не хотят — не кормить. Припаса на дорогу никакого не давать. Ежели проведаю, что ладью взяли, с тебя шкуру спущу. — И — примолкшим мужикам: — Так-то, мужички, хотел я с вами по-хорошему, а вы-то ишь как заговорили. Не держу, идите со двора. Осенью все долги взыщу, не обессудьте...
Река устрашила мужиков: по заберегам рвалась полая вода.
— Злыдень Блашко, кажись, прав, — сказал Вавила. — Должно быть, седни ледолом начнётся...
— Ладью добрую добыть надо, — решил Ратько. — А сейчас по дворам пойдём, кому что по хозяйству подсобим, с голоду помереть не дадут. Может, и на дорогу хлебцем разживёмся...
Мужики ходили от двора к двору. Новеградцы любопытствовали: что, как да почему? Утолив любопытство, разводили руками — сами живём небогато, а вас звон какая орава — шестеро.
К вечеру тронулся Волхов. На берег народу высыпало — словно отродясь новеградцы ледохода не видели. Тут ватажку мужиков и окликнул один из тех, кто пустого любопытства ради слушал их печали:
— Эй вы, люди добрые! Вона гость тороватый Онцифер идёт, к нему ступайте. У него дел в век не переробить, а гривнам он и счёту не знает. — И захохотал, руки в бока уперев.
Ратько приметил человека, на которого охальник пальцем указывал, протискался к нему.
Онцифер посочувствовал, повёл ватажку к себе на двор. У него и ночь провели, он и посоветовал, узнав, что Ратько зверолов бывалый, идти за град, наготовить дичины впрок. Уток, гусей сейчас — голыми руками бери, палкой бей. Он и лучок лёгкий одолжил с двумя десятками стрел. Указал, где птицу перелётную найти можно.
Птицы на берега Волхова налетело видимо-невидимо. Ратько только успевал из лука постреливать. Дичину тут же щипали, потрошили, сожалея, что она за долгий перелёт отощала. Ночевали в лесу — развели костёр, коптили добычу.
На другой день охотники добрались до какого-то ручья. Разлившийся, он уже и на ручей не походил — речка настоящая. Остроглазый Вавила первым приметил на другом его берегу перевёрнутые ладьи. Подозвал мужиков.
— Новые, ещё на воде не были, — определил Ратько.
Вавила, проворно шагавший встречь ручью, издали замахал руками. Мужики поспешили к нему.
— Гляньте, куда мы забрались! — воскликнул один из мужиков, указывая рукой на ряды белевших в отдалении изб.
— Так то ж варяжский градец, — догадался Ратько и даже присел, словно его могли увидеть оттуда. — Вот что, мужики, — решительно сказал он, — дождёмся вечера, возьмём ладью. Они у нас Ждана забрали, мыслю, не дюже большая плата за смерть нашего друга...
Началу великих событий не всегда серьёзный повод предшествует. Люди знали об этом испокон веков, утверждая, что даже малый камень способен опрокинуть повозку.
Воевода Рюрик, пожалуй, впервые в жизни пребывал в нерешительности: начинать или подождать? Брать Новеград приступом или изыскивать хитрость, чтобы Святовит подарил ему упрямых словен без большой крови? Новеград он возьмёт, в том сомненья не было. Посаженный Блашко дружину градскую держит в небрежении. Старейшину Пушка наглядывать за ней приставил — нашёл воеводу. Сторожа градских стен — не помеха. Даже воротная обязанности свои забывать стала — доступ в град чуть ли не круглые сутки для всех открыт. Ворваться с двух сторон, согнать жителей вместе, для острастки перебить десятка два-три — остальные покорней пальцев станут. Объявить волю свою — никто слова поперёк не посмеет сказать.
И всё же что-то тревожило. Уж слишком без опаски жил град. Словно не было его, воеводы с дружиной, словно забыли градские, что Рюрик не один раз громко заявлял о своём желании и праве владеть словенской землёй. Это настораживало. Немало походов и набегов совершил воевода. И противники его всегда готовились к битве...
Терялся Рюрик, не находил объяснений. Да окажись он сам на месте старейшины, принудил бы жителей день и ночь стены крепить, рать создавать, к битве готовиться. А эти... На что надеются? Может, повеление не носить в граде оружия лишь для виду? Может, и дружина имеется? Не та, гостомысловская, она на виду, а другая, тайная? Вряд ли. Лучшие проведчики Рюрика, сменив наряд воина на платье горожанина, что ни день рыщут среди новеградцев. Приносят вести: град спокоен, к сече не готовится.
Снеульв требует действия, а я что, к бездействию призываю? Снеульв — ярл, дальше добычи смотреть не хочет. Но мне не поход нужен, мне власть нужна. Захватим, силой принудим повиноваться. А признают ли власть? Силой доказывать и удерживать? Достанет ли силы? Сегодня — да, а завтра?
Без желания и усилия всплыла в памяти фигура хмельного, самозабвенно и лихо пляшущего Щуки. Такому и князь не власть, топнет ногой и скажет: мне князь не указ, сам ведаю, что на пользу, а что во вред.
Замкнулся круг мыслей, и подсознательно возникло оправдание нерешительности: их множество. Он, Рюрик, стоит на этот раз не перед охотниками старейшины Михолова, а перед хорошо организованным и многочисленным племенем. Его и племенем трудно назвать. С ними нельзя торопиться. Дождусь, когда градские уйдут на поля. В граде мало кто останется. Удар надо наносить наверняка. А там посмотрим. Не родился ещё такой человек, который силы не убоялся бы. Сломлю, заставлю подчиниться...
Снеульв пришёл к воеводе в самый неподходящий момент — тот отчитывал Олега, самовольно сбежавшего в градец от Милославы. Племянник стоял перед Рюриком побледневший, со склонённой головой, только беспокойные руки выдавали его непокорность.
— Ну-ка, Снеульв, скажи ему, какого наказания заслуживает воин, не выполнивший распоряжения начальника, а тем более воеводы?
— Наказания два, — ответил, не задумываясь, Снеульв. — Ежели воин допустил непослушание своему начальнику или воеводе в стане или поселении — он изгоняется из дружины. Второе: ежели воин проявил непослушание в походе или битве, его должно казнить...
— Слышал, неразумный сын моего брата?
— Наказанию подлежат воины, — срывающимся голосом ответил Олег. — Ты, воевода, отправил меня в Новеград и забыл обо мне. Там я не воин и никогда им не стану...
— Молодец, воевода Олег, — подбодрил Снеульв, назвав его воеводой. — Под рукой женщины воином не станешь. Иди ко мне в дружину, научу и мечом владеть, и врагов не щадить. — И обернулся к Рюрику: — Оставь его, воевода. Благородное стремление искупает непослушание.
Улыбнулся и Рюрик, но в голосе по-прежнему слышались раздражение и недовольство.
— И всё же он заслуживает наказания, чтобы впредь неповадно было нарушать приказы. Несколько дней проживёшь в стане, а потом отправишься в Новеград. Ещё раз оставишь княгиню без защиты — не жди помилования. А сейчас послушаем, с какой вестью пришёл Снеульв.
— Мои воины захватили нескольких нищих смердов. Они хотели угнать ладью. Что делать? Отпустить, наказав за воровство, или для работ оставить?
— Что за люди, откуда? — нахмурился Рюрик.
— Новеградские.
— Случай сам идёт к нам в руки. Завтра я отправлюсь к Блашко требовать суда. Суд ему придётся собрать, никуда не денется. Но суд будет не здесь, а в Новеграде. Погоди, Снеульв, — махнул нетерпеливо рукой Рюрик, заметив, что ярл хочет возразить. — Мы отведём смердов на суд под сильной сторожей. Сколько их?
— Шесть человек.
— Думаю, пяти десятков наших воинов хватит для сопровождения.
— Пяти десятков?! — возмутился Снеульв. — Для этого сброда достаточно одного моего дружинника.
— Не надо возражать, ярл Снеульв, — жёстко сказал Рюрик. — Сопровождать их будут пять десятков воинов. Во время суда они займут ворота. Сторожа? Пусть её кровь прольётся первой. Как только я пришлю гонца с точным известием о начале суда, ты поднимешь дружину и спешно подойдёшь к граду. Ворота будут в наших руках. Вы должны ворваться в град стремительно и окружить судилище. Ни один из градских не должен вырваться из кольца. Понял? Не Блашко будет объявлять нам свою волю, а мы — ему и Новеграду.
— Всех уничтожать? — спросил Снеульв, и Рюрик уловил в его голосе сомнение.
— Нет, нам не нужно столько трупов. Только окружить и держать до тех пор, пока не признают нашей власти.
— А если они всё же не признают? — упрямо наклонил голову Снеульв.
— Тогда всех сопротивляющихся убивать, но по моей команде. — Рюрик поднял глаза и встретил восхищенный взгляд Олега.
Когда в градскую избу в сопровождении десятка оружных воинов властно вошёл Рюрик, Блашко растерялся. Поспешно встал, одёрнул складки кафтана, пригладил бороду и всё не знал, куда девать руки. Поднялись и старейшины, с изумлением глядя на заталкиваемых в избу смердов.
— Посаженный Блашко, требую суда незамедлительного над смердами твоими, — резко сказал Рюрик. — Ваши люди пойманы мной в воровстве. Воры — перед тобой. Тому есть свидетели, — и указал рукой на своих дружинников.
— Быть по сему, — опомнился Блашко. — Ты требуешь суда, воевода, будет суд. Я извещу тебя, когда соберутся люди. Может, ноне, а может, завтрева утром...
— Ежели к полудню не соберёте людей, — неожиданно тихо, но с угрозой сказал Рюрик, — эти смерды отправятся к праотцам без вашего суда, и тогда я по-другому спрошу, почему вы нарушили закон и не захотели дать нам суда. — Он повернулся к дружинникам и распорядился: — Увести воров в княжеские хоромы. Они будут под моей сторожей.
— Княжна, — приоткрыл дверь в трапезную Завид, — князь пожаловал...
Милослава подбежала к высокому оконцу. Двор был полон воинами. Все оружны, как в походе.
Отыскала глазами Рюрика. В шлеме и коротком плаще, он торопливо отдавал приказания воинам. Она успела заметить, как старший сторожи княжеских хором поспешил к заднему двору и вскоре погнал оттуда намётом жеребца — видать, торопился выполнить повеление воеводы.
Не в силах оторваться от окна, Милослава с бьющимся сердцем следила за поднявшейся суматохой. И отошла от него только тогда, когда увидела, как Рюрик энергично махнул рукой вслед последнему дружиннику и направился к крыльцу.
Она встретила его у дверей и непривычно для себя смело спросила:
— Что ты задумал, Рюрик?
— Пришла пора напомнить словенам, что они призвали меня володеть ими, а не сидеть под стенами града. Сегодня кончится власть старейшин в Новеграде и установится новая — княжеская. Всё готово, и к вечеру ты станешь полноправной княгиней. Или тебе не нравится это?
— Я и так княгиня в моём граде. А ты, кажется, поверил тому, что... — она хотела сказать «сам придумал», но замешкалась и нерешительно закончила: — что придумали твои воеводы о приглашении словен...
— Разве не твой отец был здесь князем? Разве я не имею права наследовать ему?
— Имеешь, и я буду рада, коли град примет тебя князем, — тихо и растерянно ответила Милослава и вдруг страстно заговорила: — Только обещай, что не будешь лить крови новеградцев. Ты ведь замыслил чёрное дело. Я знаю словен. Угрозой их не покоришь. Если прольётся кровь, они полезут в драку все как один. Ты не станешь князем, а мы погибнем. Хочешь, я пойду на вече и буду молить градских, чтобы они признали тебя князем? Они послушают меня. Только не проливай крови...
— Хорошо, — хрипло ответил Рюрик. — Я изменю приказ. Воины не будут убивать, но новеградцы должны признать меня князем. Иначе...
— Они признают, но помни: ты обещал...
— Люди новеградские! — раздался громкий и властный голос Блашко, и торжище утихло. — Воевода Рюрик винит смердов наших в воровстве и просит суд ему с ними чинить на всей воле градской. Пойманы те смерды воеводой на худом деле: пытались своровать у дружины ладью. При расспросе повинились. Мы со старейшинами размыслили: пусть ответ держат по закону нашему. Так ли, новеградцы?
— Так! — закричали в разных концах торжища.
— А пущай скажут, что за люди и пошто им ладья чужая надобна стала...
— Смердов давай, посаженный. Поглядеть надо, кто честь словенскую рушит...
Блашко поднял руку, призывая к тишине.
— Смерды те за сторожей воеводы Рюрика. Расспрос мы им чинили, вину свою они признали. След ли, новеградцы, ещё раз их пытать? Дело ясное, наказание за воровство нашим законом определено. — И Блашко, чуть растягивая слова, напомнил: — А ежели ладью украдёт, то за неё платити тридесять резан, а продажа шестьдесят резан...
— Не мути воды, посаженный, — разнёсся над торжищем низкий голос Михолапа. — Законы мы знаем.
Пусть смерды сами скажут, пошто им ладья чужая понадобилась...
— Верно! Не прячь смердов, посаженный!
— Что за суд, коли мы виноватых не видим!
Недовольство нарастало. Блашко несколько раз оглянулся на Рюрика, стоявшего в полукольце охраны, и повторил уже слышанное:
— Смерды за воеводской сторожей...
Заволновалось торжище. Со всех сторон в посаженного и старейшин полетели насмешливые выкрики:
— Мы сами суд править будем...
— Пусть убираются бодричи с варягами вместях...
— Продажу им уплатим и за бесчестье накинем, а распоряжаться не позволим...
— Привести смердов из-за сторожи...
На край помоста, легонько отстранив посаженного, шагнул воевода Рюрик. Следом, в двух шагах, остановились его воины. Рюрик стоял с высоко поднятой головой, рукой опирался на рукоять меча — ждал, когда утихнет шум. Заговорил спокойно, не напрягая голоса:
— Люди Новеграда! Мы пришли к вам требовать суда над вашими смердами. Посаженный хочет их судить по вашему закону. Я не согласен с этим, поэтому смерды и находятся за моей сторожей. Они хотели завладеть нашим добром. Человеку, пойманному в воровстве, должно рубить руку. Если он попадётся второй раз — рубить другую...
Крики в задних рядах заглушили голос Рюрика. Оказалось, выходящие на торжище улицы стремительно заняли воины. С обнажёнными мечами, они тесными рядами наступали на толпу, и не успели новеградцы прийти в себя, как оказались в кольце. Словно по команде, всколыхнулась толпа, повернувшись к помосту. Вокруг старейшин сомкнулось другое кольцо дружинников, из воеводовой сторожи.
Торжище загомонило сотнями голосов. Крайние сделали попытку прорваться через заслон. Сверкнули обнажённые клинки. Градские попятились. От помоста пошло встречное движение — сильнейшие пытались пробиться к кольцу.
Среди поднявшегося шума резко запел воинский рожок на помосте. Дружинники ощетинились тяжёлыми копьями. Солнце вспыхнуло на стальных жалах. Одновременно, плечом к плечу, бодричи-варяги медленно двинулись вперёд, сужая огромный круг. Уже и сильному не повернуться, не поднять руки. То в одном, то в другом месте раздаются вопли задавленных женщин и подростков. А вои идут…
— Продолжим суд, новеградцы! Думаю, посаженный со старейшинами сговорчивее теперь будут. Да и вы тоже.
— Князь Рюрик! — неожиданно зазвенел пронзительный голос Милославы. — Прекрати издеваться. Или ты не видишь, как гибнут люди?! Ты обещал!..
Рюрик взмахнул рукой. Подчиняясь команде, дружина, всё так же с копьями наперевес, начала медленно отходить. Вослед ей раздавалась толпа...
— Я позвал вас сюда, новеградцы, чтобы объявить свою волю! Отныне будет так: князем вашим по праву родства с Гостомыслом и по вашему призванию становлюсь я. Я беру словенскую землю, а вы обещаетесь чтить меня князем и подчиняться во всём...
— Мы тебя не призывали! — разнёсся над торжищем одинокий голос.
— Я освежу вашу память! — Рюрик повернулся к томящимся под стражей старейшинам. — Посаженный Блашко! Ты приезжал к нам в Аркону?! — громко, чтобы все слышали, спросил он.
Сторожа разорвала круг и вытолкнула вперёд старейшину.
— Да, — послышалось в ответ.
— Может, мы звали тебя? Или ты в гости жаловал?
— Нет.
— Ты приглашал нас в землю словенскую? Отвечай!
— Приглашал, — прохрипел Блашко.
— Слышали?! Ваш старейшина подтвердил, что мы пришли к вам по призванию. Я не хочу лить вашу кровь, но, если добровольно не согласитесь признать меня князем, головы несогласных сегодня же будут таскать собаки. По праву призванного вами князя спрашиваю: согласны?
Торжище безмолвствовало.
— Здесь, со мной, находится дочь вашего князя Гостомысла. Она моя жена. Я имею право быть вашим князем по родству. Меня признали кривичи и весь. Они платят мне дань. Не хотите признавать, тоже будете платить дань. Согласны?
Торжище ответило молчанием.
— Дружина! — воззвал Рюрик, и воины поняли — пришло их время.
— Стойте! — вскричала Милослава. — Новеградцы! Не надо крови! В словенской земле всегда был князь-старейшина. Так велели наши боги. Разве не сильна была наша земля при моём отце? А что сталось после него? Не вы ли без князя-старейшины учинили нестроение с соседями? При отце моём старейшины суд правили и порядок в Новеграде держали. Так и ныне будет...
— Пусть поклянётся в том князь!
Милослава обернулась к Рюрику:
— Не спорь! Клянись. Так велит обычай земли.
— Принимая власть над вами, клянусь Святовитом, что не заберу под себя власть старейшин. Посаженному по-старому суд править в граде и расправу чинить, мыт собирать и град в порядке содержать. Помимо того, даю право любому жителю приносить жалобы на старейшину в княжеский суд. В дела земли словенской старейшине не вмешиваться — то право княжеское. Повелеваю, как князь вами призванный, отныне и постоянно на содержание дружины и на поддержание княжеской чести отдавать десятую часть имущества и доходов... — Он сделал паузу, и торжище ответило ему тяжёлым вздохом, но никто не поднял протестующего голоса: снявши голову, по волосам не плачут. — А теперь поклянитесь мне в верности и послушании! — потребовал Рюрик.
Нехотя, поодиночке клонили свои головы новеградцы перед Рюриком. Он терпеливо дождался конца клятвы и повелел воеводам освободить проходы с торжища.
Михолап уходил с торжища неторопливо, низко опустив голову и ни на кого не глядя. Широкие плечи обвисли, спина согнулась. Первый раз в жизни ощутил он своё грузное тело. Каждый шаг требовал усилий. Хотелось одного — увидеть Вадима да зайти на своё подворье: оборониться и взять меч.
На выходе с торжища Михолап почувствовал на себе недобрые взгляды, и словно что-то толкнуло его изнутри — опасность. Поднял голову, вскинул глаза. К нему подступали трое. Их лица показались ему знакомыми: то ли в Арконе видел, то ли на бранном поле близ Новеграда увернулись они от его меча. Рано они обрадовались смирению новеградцев, оторвались от своих, не терпится им хозяевами пройтись по улицам града. Ну, поглядим...
Он выхватил из-за пояса нож. Любовно резанная на досуге рукоять из рога сохатого плотно лежала в кулаке.
Не дожидаясь, пока нападут, шагнул навстречу опасности. Смотрел на воев исподлобья, оценивая их силы. Страха не было. Выбрал для первого удара левого. Пока они ещё не успели обнажить мечей...
Но бодричи вдруг круто повернулись и побежали. Он мгновение смотрел им вслед, не понимая, что случилось, потом со злостью плюнул вдогонку, подумал: «Не забыли, а? Погодьте чуток, мы до вас ещё доберёмся». И другое пришло на ум: помнят, значит, не оставят в покое. Воевода изведёт их с Вадимом. Не таковский Рюрик, чтобы обиды забывать. А насолили они ему немало. Значит, надобно ждать гостей. Возможно, даже сегодня.
Такие гости и избу могут разметать, и петуха подпустить. Жалко нажитого добра. Не последним воином он был в дружине. За долгие походы с князем-старейшиной много чего прибавилось в кованых железом ларях. Всё прахом пойдёт. Придётся до старости лет по чужим углам скитаться. Сам-то ладно. Ныне прятаться придётся, а может, и совсем Новеград покинуть. А жена-старуха? Ей куда голову приклонить?
В избе, едва переступив порог, Михолап объявил жене:
— Варяги в граде...
Та мигом подхватилась, кинулась к ларям с причитаниями:
— А ты как же? Уходить тебе надобно. Засекут ведь.
Сунув в кису горсть серебра на всякий случай, он цыкнул на жену, чтоб не суетилась без дела, сурово наказал поторапливаться со сборами и уже от порога, оружный, попытался успокоить её:
— Ничего со мной не случится. Весть подам, жди. А ежели наведаются — уходи к дочери с зятем... Сама смекай, как и что. Добра не жалей — наживём...
Вадим встретил его — хоть сейчас в поход: бронь на плечах, меч у бедра, на голове шишак сталью воронёной поблескивает. Не здороваясь, сказал:
— Думаю, уходить нам на время надо...
Михолап согласно кивнул. Не удержался, спросил:
— Был на торжище?
— Поздно проведал о суде. Челядины донесли, что там деялось.
— Что надумал?
— Про то в другой раз. Выберемся из хором, скажу. — И крикнул дворским: — Живей управляйтесь! — Пояснил: — Жалко Рюрику добро оставлять, расхитят, потом не соберёшь. Велел челядинам по своим избам разобрать да припрятать...
— Одно тебе скажу, Вадим, не дашь сегодня сигнала — сам в било ударю. Хватит ждать неведомо чего, дождались...
— Не береди душу, без того муторно.
В горницу вбежала запыхавшаяся Людмила.
— Вадимушка, ты уходи, а я из хором никуда. В ноги Милославе упаду... Куда я с таким брюхом-то, — застеснялась Михолапа и досказала неуверенно: — К батюшке разве...
— Нельзя тебе здесь оставаться. К Милославе не допустят, а бодричи скоро тут будут. Соберись с силами, лада, иди к батюшке. Хворый он давно, но не оставлю я тебя, не бойся...
Со двора кто-то звал хозяина. Вадим метнулся к оконцу и увидел знакомого гончара.
— Чего тебе, Микула?
— Уходи, Вадим, сюда идут, десятка три будет. Торопись...
Вадим обернулся к жене:
— Пошли, Людмила, проведу тебя к батюшке. Айда, Михолап...
Избу Радомысл ставил лет пятнадцать тому назад. Ещё родитель был жив. Когда закачался в зыбке второй внук, отец решил: ставим новую избу. Чай, не хуже других.
Строили основательно, с размахом. Сто лет простоит — смолистый дух до сих пор не выветрился. И места в ней с избытком. Три горницы, сени — это наверху. Внизу клети под припас разный, а при нужде и здесь жить можно: летом сухо, прохладно, из домашних редко кто туда заглядывает, разве что хозяева сунутся по надобности.
Здесь, внизу освободив клеть от залежалого хлама, и поселил Радомысл Вадима. Поздно ночью принёс ему нерадостную весть — разграбили его хоромы, разорили избу Михолапа, ищут обоих. Потемнел лицом Вадим. Долго и тяжело молчал. Знал: бодричский воевода даже после захвата града будет опасаться его соперничества. В глубине души, однако, теплилась слабая надежда, что Рюрик не унизится до разбоя. Честный, прямой бой, один на один, грудь на грудь — вот дело, достойное тех, кто опоясал себя мечом. Зачем же зорить хоромы и избы?
Стряхнув оцепенение, Вадим попросил Радомысла на другой вечер привести с опаской и бережением верных людей. Кузнец согласно кивнул головой.
— Люди придут, не сумлевайся...
Высидеть день впотай — свободен, а не выйдешь — тяжелее всякой работы. Измаялся, пока дождался Радомысла. Пришёл тот на себя не похожим, только что зубами не скрипел.
— И не пытай. Это ж... — не мог найти слов кузнец. — Грабёж, разоренье. Ушкуйники наши так не робят. Словно на щит град взяли...
— По избам шарпают?
— И по избам, и по лабазам. Что под руку попало, то и тянут. Слово молвишь — за мечи хватаются...
— А что ж новеградцы? — спросил Вадим. — Нешто смирились?
— Коли ты один, да с голыми руками, а их, оружных, — двое-трое, поневоле смиришься...
Стукнув дверью, ввалился Михолап. По злому блеску глаз, по тому, как играли желваки на его скулах, Вадим сразу определил: дружинник раздражён до крайности.
— Подыматься надо! — в сердцах бросил он и, едва успокоившись, начал рассказывать, что вызнал Онцифер по его, Михолапа, наказам. Рюрик занял дружинную избу, а тех воев, кому места не хватило, поселил в избах новеградцев по соседству с княжескими хоромами. Хозяев не спрашивали — выгнали вон. Хитники пьянствуют, от радости опомниться не могут. Навалиться на них нежданно — дело верное и даже без большого шума обойдётся.
Пока Михолап рассказывал, поодиночке собрались те, кого упредил Радомысл, — старшие конецких дружин. Они готовили людей к выступлению и в один голос заявили: нельзя более терпеть бесчинств Рюрика, ещё день-два — и люди учнут разбегаться из Новеграда.
— Будь по-вашему, — твёрдо сказал Вадим. — Сегодня в ночь и завтрева днём всех упредить, пусть наготове будут. Чтобы внезапность сохранить, в било бить не станем. Выводить дружины послезавтра с третьими петухами. Втайне сбирайтесь у княжеских хором. Я там буду. Условимся: твои дружинники, Михолап, и твои ковали, Радомысл, на самое трудное пойдут — дружинную избу брать. С вами и я пойду, остальным ватажкам напасть на избы, в которых бодрили поселились. Всё ли ясно, братья?
— Ясно, — сдержанно откликнулись старшие.
— Добре. Помогай нам Сварог...
Из хором княжеских Олег уходил беспрепятственно. Рюрику с Милославой стало не до него. Бесцельно бродя по улицам града, он вышел на берег Волхова. Неподалёку от воды пятеро рукодельцев конопатили ладью, ловко постукивая деревянными молотками по клиньям-лопаточкам, и тонкий жгут конопли ровно ложился в пазы меж досками. Новеградцы работали споро и молчаливо. Ладья была большая, и они, видимо, торопились. В сажени от них горел костёр под котлом, в котором, булькая, варилась смола. Олег, увлечённый работой ладейщиков, присел в стороне на бревно. Один из рукодельцев, не переставая стучать молотком, крикнул ему:
— Эй, паря! Подкинь дровишек — костёр затухает...
Он послушно выполнил просьбу и опять уселся на бревно.
Мужики подбирались к нижним пазам, и конопатить становилось несподручно. Олега снова окликнули:
— Возьми вон ту чурку, мы переворачивать ладью будем... Так ты чурку-то под бортовину подложи.
Мужики поднатужились, поставили ладью на бок и осторожно опустили её вверх дном на подложенную Олегом чурку.
— Вот и ладно, доконопатим и смолить учнём...
Олег, почувствовав себя при деле, уже без понукания пошёл поддержать костёр. Подкинул пару поленьев и вдруг услышал сзади, от ладьи:
— Кринило, воевода Вадим наказывает: как третьи кочеты пропоют, сбираться напротив дружинной избы. В било бить не будут. Всем оружными приходить, у кого бронь — оборониться.
— Ничё, и без брони пощупаем бодричей...
— Не проспите, други. Один раз град проворонили, в другой не прозевать бы...
— Не сумлевайся, поспеем вовремя, так и Вадиму передай...
Олега в жар бросило. Замерев, он сидел у костра на корточках, боясь обернуться на рукодельцев. И только после того, как неосторожный вестник ушёл и ладейщики принялись за работу, Олег не спеша отошёл от костра на безопасное расстояние и что было сил побежал к дяде.
В полночь воины Рюрика скрытно заняли места и изготовились для предстоящей битвы. Едва забрезживший рассвет, воспетый третьими петухами, встретил новеградцев ливнем стрел. Отвечать было нечем. Для сечи в избах луки, как считали Вадим и его помощники, были не нужны. Грудь на грудь, копьё, меч, засапожник, кулаки и зубы — вот главное оружие.
Никто не ожидал, что бодричи-варяги заранее приготовятся к схватке, а князь повелит не жалеть стрел и держать новеградцев на расстоянии их боевого полёта.
Восставшие гибли бессмысленно, не коснувшись мечом врага. Щиты оказались ненужными — стрелы летели со всех сторон. Как обложенные охотниками волки, тщетно пытались новеградцы вырваться из окружения. Наконец, сбившись в кулак — щиты вперёд, рванулись они на врага. Единым воплем вырвалось из распалённых гневом глоток:
— Бей их!
Подоспевший с основными силами Вадим мгновенно оценил положение. Перехитрил его воевода Рюрик!
— Назад! — во всю богатырскую силу голоса закричал он первой дружинке, но та уже ломала стройные ряды врага. Натиск горстки ратников был яростным и бесстрашным. Отчаяние удесятерило силы. Доброй ковки новеградские харалужные мечи рубили кольчуги, секли руки, пластали тела. Топча павших, отважные устремлялись вперёд — бурелом, узким клином ворвавшийся в чащу. Трое — самые сильные — пробивают улочку для остальных. Но она замыкается варягами, и на глазах тает дружинка.
— Новеградцы! Не посрамим чести нашей! — крикнул Вадим.
Битва закипела на всём торжище. Передняя стенка бодричей-варягов дрогнула и раздробилась на мелкие отряды, которые то вырывались вперёд, прорубая проходы в толчее новеградских ратников, то откатывались назад под ударами противника.
Всё выше поднималось солнце, всё злее становилась сеча. Град выплёскивал на торжище всё новых и новых ратников-добровольцев. Наконец головные силы Рюрикова воинства удалось смять.
— Воевода Рюрик! — возвысил голос Вадим. — Вызываю на честный бой!
Нет ответа.
— Прятаться недостойно воина, воевода!
— Как смеешь ты, не облизавший молоко матери, кричать, что я прячусь? Принимаю бой!
Вадим взмахнул мечом, требуя очистить проход. Ратники расступились, опустили оружие. Пользуясь передышкой, смахивали пот со лбов и их супротивники.
Вот и встретились они вновь лицом к лицу, распалённые сечей и ненавистью. Лишь краткий миг глядели в глаза друг другу. Один из них должен пасть бездыханным на истолчённую в пыль землю. Тот, от кого отвернутся боги.
Отбросил в сторону доспех воевода: честный бой — Рюрик вышел на поединок без щита. Столкнулись мечи, глухо звякнули и стремительно разошлись. Вадим наступает. Злее и метче становятся его удары...
— Вадим, остерегись! — доносится до него женский вопль, и он узнает голос Людмилы. «Почему она здесь? Чего — остерегись?»
На миг, только на один миг, оглянулся Вадим — увидел племянника Рюрика Олега, детский меч, и померк белый свет в его глазах...
— Вадима убили! Воеводу! — взмыл стон над торжищем.
— Вперёд! — задыхаясь, хрипел Рюрик. — На три дня отдаю вам Новеград!
Расталкивая встречных, дик и страшен, пробился Михолап к ближайшей избе, поднялся на крыльцо, глянул на торжище и онемел. Плотным потоком валили на него женщины и дети, тащились, поспешая, старики. Они уже запрудили выходы на улицы и оттесняли ратников к врагам. Для сечи не оставалось места.
— Назад! — кричал Михолап во всю мощь голоса. — Назад, бабы!
— Там варяги! — вразнобой отвечали ему.
Выполняя приказ князя, с первыми лучами солнца немногочисленные отряды Рюрика начали врываться в избы, выгонять на улицы жителей. Женщины и дети пытались прятаться и разбегаться, но куда ни бросались, всюду натыкались на воинов. Открытой оставалась только одна дорога — к торжищу, на котором кипела сеча. По замыслу Рюрика, толпы горожан должны были навалиться на противника сзади и отрезать ему путь к отступлению.
Михолап разыскал Радомысла.
— Варяги весь град сюда гонят, задавят нас! Разворачивай свою дружину, пробивайся на волю. Людей спасать надо, — говорил он, надвигаясь на друга. — Пробьёшься — уходи из града. Чую — одолеет Рюрик.
Дружина Радомысла с трудом, но вырвалась с торжища. Вслед за ней устремились насильно согнанные горожане. Место сечи стало просторнее. Но ярость ратников пошла на убыль. Смерть воеводы, сознание, что перед ними не вся вражеская сила и за спиной их ожидают тоже варяги, делали своё дело. Началась замятия.
«Видать, пришло время принять смерть», — подумал Михолап.
— Не посрамим земли нашей! Мёртвые сраму не имут! — И пошёл, тяжело ступая, сжимая окровавленный меч, навстречу врагам. За ним потянулись дружинники.
Вывел он с торжища малое число воинов. Сеча в Новеграде, затухая в одном месте и вспыхивая в другом, длилась до вечера. Его мутило от крови, перед глазами всё плыло, кружилась голова. Но руки привычно делали своё дело — прикрывали голову щитом, наносили удары мечом. В одной из потасовок вражеский меч пробил его кольчугу, скользнул по рёбрам. Тело саднит и кровоточит. Разоблачиться бы, промыть рану, перевязать её холстиной. А ещё лучше — отлежаться. Но день длится, и пока ты не выбрался из града — сражайся...
Князь Рюрик сдержал обещание: Новеград на три дня был отдан воинам.
На третий день после побоища из града в одиночку и небольшими ватагами потянулись люди.
Первыми его оставили торговые гости. Обобранные до нитки, они торопились покинуть это проклятое место, где поступили с ними так не по-божески. Разве купцы воюют? Их дело торговать, обогащать власть имущих и простой люд. Конечно, купцы не забывают и себя, но разве их труд и немалый риск не должны оправдываться? Разве мало привозили они в этот город злата, самоцветов, парчи? А теперь они нищие. Всё забрали воины бодричского князя. Рюрик оказался глупцом. Нить торговли разорвать легко, связать трудно. Мало ли других земель, пусть не таких богатых, но купцов в них ждут. Случается, правда, грабят и там, но не снимают с плеч последний кафтан. Пусть князь Рюрик и его воины попробуют прожить без купцов. Пусть, а мы тут больше не гости.
За торговыми побежали нарочитые. Эти пробирались тайком, ночами. Загрузив ладьи припрятанным, обмотав уключины тряпьём, шикали на челядинов при каждом громком ударе весла. Хоромы порушены, нажитое ушло в чужие загребущие руки. Оставаться в Новеграде с таким князем? Пусть его сам сидит здесь.
Покинули Новеград и многие из рукодельников, надеясь пересидеть лихую годину в глухих посельях, селищах и выселках.
На четвёртый день Рюрик повелел воеводам утихомирить воинов. Отправил посланцев к старейшинам — звать на беседу. Посланные, пряча глаза, доложили, что старейшин не нашли, хоромы их разгромлены, стоят пустые. Рассвирепел князь, приказал спешно снарядить ладьи, догнать беглецов. Кипя гневом, ярл Снеульв известил: у ладей прорублены днища. Рюрик уже не метался по горнице. Спокойно и даже равнодушно велел сосчитать, сколь жителей осталось в граде, отправить мелкие отряды по селищам.
Ослабевшего Михолапа Онцифер спрятал недалеко от града, в своей охотничьей землянке. Тут у него хранился необходимый для первого случая припас: две горстки соли, кусок вяленой сохатины, полторбы ржаной муки, чтобы на скорую руку сварить затируху... Град, он хоть и недалече, да ноги-то намнёшь иной раз так, что и не рад будешь...
Так объяснял по пути охотник и несостоявшийся купец Онцифер дружиннику. Михолап шёл, с трудом переставляя ноги. Куда шёл, зачем — не соображал.
В землянке, повозившись с кресалом, Онцифер вздул огонь, стащил с Михолапа бронь; увидев окровавленный бок, заохал. Сбегал к ручью, принёс в корчаге воды, поставил на очаг. Не найдя тряпицы, рванул подол исподней рубахи. Промыв тёплой водой рану, перевязал. Осторожно, как малого ребёнка, уложил Михолапа, стянул с него сапоги. Дружинник спал тяжёлым сном смертельно уставшего человека.
Проснулся на другой день к полудню. Бок саднило, но жару в теле не ощутил, дышалось легко. Поднял руки, сжал кулаки: сеча... торжище... мёртвые и живые... Проворонили град, проспали...
Онцифер подал ковш с питьём.
— Испей, Михолап, узвару моего. Пока ты спал, я тут травок кое-каких набрал, сварил. Испей, пользительно.
Михолап выпил настой, поморщился — был он горьким и терпким, вязал рот.
— Ну-тко, показывай, куда заволок меня...
Они вышли из землянки. Вокруг шумел лес. Заливались птицы. Пахло прелью и сосновой смолой.
— Благодать-то какая, Михолапушка. Век бы отсюда не уходил...
— А уходить надо, Онцифер. Град рядом, доберётся Рюрик и до твоей ухоронки. В поселье надо подаваться...
— Скажешь тоже — в поселье... Я всю жизнь в граде жил, откель у меня поселье-то? И тебе не советую. Рюрик-то очухается, по селищам шарить учнёт. Думаешь, до твоего поселья не доберётся?
В землянке прожили три дня. Михолап маялся, не зная, на что решиться. Возвращаться в град нельзя, подаваться в своё поселье тоже рискованно. Добро бы с пользой рисковать, для дела, а по безделице голову сложить после такой сечи глупо. Мучила неизвестность: как там старуха? Осталась ли в граде? Жива ли?
Вечером третьего дня Онцифер неожиданно предложил:
— Схожу-ка я, Михолап, в град. Проведаю своих...
— Вместях пойдём, — обрадовался дружинник.
— Охолонь. Я для Рюриковых воев человек маленький, авось проберусь, а тебя тут же сцапают.
— Твоя правда. Иди один, попытайся узнать, как там мои, живы ли? Да найди Радомысла, ежели жив, с ним потолкуй, пусть повестит, как в граде. Всё разузнай...
— Сполню, Михолап. А ты отсюда никуда. Мне, может, задержаться придётся, жди...
Но Онцифер в граде не задержался. На рассвете вернулся в землянку. Да не один — вместе с Радомыслом. Друзья на радостях крепко обнялись.
— Я уж думал, не увижу тебя боле, — не выпуская Михолапа из рук, говорил Радомысл. — Многих пытал, не видели ли тебя, говорят — нет. Ну, мыслю, жив остался. Ушёл куда-нито. А ты тут...
— Тут и жив, а лучше бы помереть, как Вадиму, — горько ответил Михолап.
— Пусть радуется его душа в горнем мире...
Помолчали.
— А нам с тобой помирать, видно, рано, — заговорил Радомысл. — Вои в граде лютуют. Ежели мы помрём, а другие разбредутся, как старейшины наши, земле словенской конец придёт...
— Что в граде? Как мои?
— Твои живы. Разбежались полграда, а остальные затаились. Знамо дело, сегодня против Рюрика не поднимутся. Силы нету. Злобы-то хватает, а силу копить надобно.
— Долго её копить придётся. Это ж сколько ратников полегло. Пока новые подрастут...
— Не одним днём, конечно, — согласился Радомысл. — Но и не век же нам под варягами ходить. Думаю я, не с того мы начали. Хотели одним Новеградом задушить, ан и не вышло. Надобно всю землю словенскую поднимать да соседей в помощь кликать. Им от Рюрика тоже не сладко...
— Может, ты и прав, хотя, чую, не сразу поверят нам соседи. В их примучивании немало и нашей вины есть...
— Мы свои. Поссорились с кривскими, да и помирились. Замиримся и с весью, и с чудью. А вот с Рюриком миру не будет.
— Значит, надо мне в град пробираться к тебе в помощь, людей сколачивать...
— Не так рассудил. В град ноне тебе нельзя. Я и то сторожко живу. Хотя нас, ковалей, сам знаешь, много, друг за дружку стоим. Меня не выдадут. Ты — дело другое. После сечи тебя последний Рюриков вой в обличье знает. Да и не то главное. Землю кому-то поднимать надо. Мы в граде, а ты по селищам. Скоро Рюрик на них навалится. Ежели его в одном месте куснуть, да в другом, да в третьем, как думаешь, долго выдержит, а?
— Что ж, пойду по селищам. К соседям наведаюсь. Дай срок, покусаем варягов, надолго запомнят словенскую землю...
ПРИИЛЬМЕНЬЕ: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА IX ВЕКА
Игорь носился по горнице верхом на палке и, погоняя резвого скакуна, кричал:
— Гоп-ля, вперёд! Гоп-ля!
Милослава смотрела на расшалившегося сына без улыбки. Последние годы она редко улыбалась. Даже рождение сына не повернуло её сердца к Рюрику после той страшной сечи, что опустошила град. Со временем угасла ненависть к мужу, сын зарубцевал душевную рану. На смену пришло равнодушие.
В день рождения Игоря богатые дары сложил у её ног Рюрик — всю дань, что прислала весь, но, не оправившаяся ещё от родов, безразлично смотрела она на дорогие меха. Рюрик рождению сына радовался — повелел дружине пировать три дня. Часто приходил к ней в светёлку, садился рядом, ласкал. Делился сокровенным: холодна земля к нему. Вроде бы и слушают, повеленья исполняют, но приязни между ним и словенами нет. В селищах до прямых стычек доходит. Посадник Пушко, получивший старейшинство из рук Рюрика (он не покинул Новеграда вместе с другими нарочитыми), не оправдывает надежд. Хорошим хочет быть и для князя, и для рукодельцев, и для смердов. Поэтому ничего путного не получается...
Милослава отмалчивалась. И желания не было связывать оборванные нити между Рюриком и новеградцами, да и понимала: пожелай она того, не поверят ей теперь словене.
Наконец Рюрик охладел к ней, оставил её в покое, требовал лишь, чтобы хозяйство вела исправно, блюла честь княжескую. Этого требовать от неё не надо — рос сын, он должен стать князем, сесть в деда место...
В дверь осторожно поскребли, в горницу неслышно вошла девка.
— Чего тебе, милая?
— Матушка княгиня, дедушка Завид тебя кличет...
Милослава поднялась. Предчувствие близкой беды охватило её. Старый верный слуга Завид, крепившийся до последних дней, занемог.
Старик лежал в своей чистой и светлой каморе — домочадцы, любя его, заботились. С трудом повернул голову на скрип двери. Из выцветших глаз выкатились две слезинки.
— Прости старого, беспокою тебя... — Он сделал попытку приподняться, но тело не слушалось.
— Лежи, дедушка... Я вот тут радом с тобой посижу. — Она осторожно присела у изголовья. — А то, может, велеть вынести тебя на волю? Солнышко пригревать стало...
— Пусть воздадут тебе боги за заботу, Славушка... Только и солнышко мне теперь не поможет... Помирать собрался... тебя позвал... проститься...
— Что ты, что ты, дедушка! И разговора такого не веди. Мы с тобой ещё поживём...
— Кудря моя... кличет: скучаю, мол, по тебе, Завид. И сам чую, сёдни помру... Ты не плачь, Славушка... Зажился я на этом свете... уж никого из моих-то не осталось... Слышь-ка, хочу сказать тебе напоследок... Сына береги... Не отдавай его Рюрику... Худой он князь... не наш. Береги сына... при себе держи... — глухо шелестел голос. — А эти скоро уйдут... Земля их не держит. Крови много пролили...
— Дедушка Завид, об чем говоришь. Куда князь с дружиной от земли уйти может?
— Уйдут... Не князь он... Пришлый... А сын... внук Гостомысла... О том помни... Там, в скрыне, узелок. Достань, дай мне... — попросил он.
Милослава приподняла крышку ларя и нашла небольшой узелок из чистого тонкого холста.
— Развяжи, — попросил Завид.
В холстине оказалось изваяние грозного бога Перуна. Тускло отсвечивала его серебряная голова, матово блестели золотые усы. Гневный всадник на коне метал стрелы в своего змеевидного врага.
— Игорю мой последний поклон, Славушка... То наш бог. Гостомысл наказывал твоему сыну передать... Пусть помнит о том. Воином растёт... Прощай...
Милослава припала головой к груди старика. Слёзы душили её. Уходило последнее, что связывало её с беззаботным детством.
Неразговорчивый, суровый видом пятисотенный Переясвет сидел в Аскольдовой горнице и долго, не отрываясь, смотрел на возню молодой женщины с дочкой. Появление словенки в доме младшего товарища поначалу озадачило Переясвета. Поехал по повелению Рюрика предостеречь воеводу Щуку от выступления против дружины, с поручением справился, но вернулся не один — с женой.
«Что за женщина, зачем она понадобилась Аскольду?» — недоумевал Переясвет. Пятисотенный не одобрял поступка товарища. Лишь чаще, чем раньше, останавливал вопрощающий взгляд на довольном, улыбающемся лице Аскольда. Втайне спрашивал себя: неужели тот оставил мысль об уходе на юг? Тогда, после возвращения из Ладоги, Переясвет сказал ему: «Не время. Подождать надо. Пусть Новеград успокоится...»
Аскольд согласился с ним. В делах воинских молодой ярл был осторожен и сведущ. Понимал: обессиленной после битвы с новеградцами дружине надо окрепнуть. Да и конунг Рюрик в такой момент ни за что добром не согласится на уход соратников, более того, может посчитать их волю за предательство.
С того времени прошло восемь лет. Борода Переясвета совсем поседела. Изменился и Аскольд. Жёстким, колючим мужем, непреклонным, скрытным и подозрительным воином стал когда-то беззаботный, с открытой душой ярл. Немудрено. Все они за минувшие годы растеряли веру в спокойствие словенской и окружающих земель, в покорность их жителей. Дважды пришлось ходить на весь, и неизменно Белоозеро встречало их свистом стрел. Только после кровавых стычек старейшины соглашались вновь платить дань. Нет, не желает весь признавать себя побеждённой.
Не лучше было и в кривских землях. Мутились плесковцы. С них, ранее ограбленных, миром взять дань было невозможно. Озлобились. Сила же (Переясвет всё чаще задумывался об этом) вызывала противоборство — тем ожесточённее, чем больше полагался на неё Рюрик. Разве не так получилось с чудью? Дружина зорила их селения, князь пытался поставить на колени их старейшин. Всё напрасно. Чудь растворялась в лесах и безмерных болотах. Старые дружинники и те не выдержали — зароптали. Пришлось поворачивать назад. Впусте свершили поход.
В самой словенской земле творилось неладное. Рюрик сажал часть дружины «на кормы» по селищам и малым градцам. Вскоре дружинники в страхе начали бежать оттуда в Новеград или пропадать бесследно.
Розыск ничего не давал. Смерды угрюмо молчали, смотрели исподлобья. На все вопросы о судьбе исчезнувших воинов отвечали: «Не знаем, не видели, уехал куда-нито...»
В одном поселье Переясвет услышал мимоходом оброненное смердами имя — Михолап, и понял: у словенской земли появился защитник. В памяти всплыла приземистая фигура воина с тяжёлым мечом в руках. Того, что приезжал в Аркону...
Пятисотенный поднял голову, взглянул на товарища. Тот сидел, машинально вертя в руках детскую игрушку.
— Пора, Аскольд, уходить тебе. На юг, — твёрдо и спокойно, как о деле давно обдуманном и решённом, сказал Переясвет.
— Почему пора?
— Весна. Потом поздно будет. Путь неблизкий и мало ведомый.
— Я не о том...
— Не удержаться тут. Жду беды...
— Ты тоже так думаешь, — вроде бы даже с облегчением вздохнул Аскольд. —Я уже давно жду. Словене по селищам мечи точат. Только Рюрик со Снеульвом ничего видеть не хотят...
— Рюрик, может, и видит. Но стар, не подняться А Снеульв... Ему всё равно...
— Думаешь, добром отпустит?
— Отпустит. Дружину он нынче собрал немалую. Не то что у тебя.
— Зато в моей нет ни кривичей, ни словен, ни веси.
— То и меня радует. Все пойдут с тобой?
— Пойдут. Меня не оставят.
— А она? — Переясвет кивнул в сторону словенки.
Аскольд нахмурил брови, помолчал и признался:
— Не знаю. Говорил с нею. К кривским, полянам готова, а в Византию не хочет...
— Меня и самого смущают греки. Не след тебе становиться наёмником... Хочешь, дам совет. Оставь её здесь, временно. Я присмотрю и помогу ей. Найдёшь, где осесть — пришлю. Даже в Византию... Ты ещё можешь вернуться...
— Я подумаю, — сдержанно пообещал Аскольд.
— Думать надо сегодня. Завтра пойдём к Рюрику.
— Я подумаю, — упрямо повторил Аскольд.
Отворилась дверь, челядинка внесла снедь.
Пробирался Михолап к избе Радомысла задворками, избегая людей. Пройти бы по улицам родного града как бывало — не прячась, широко развернув плечи, с гордо поднятой головой. Нельзя. Пока нельзя...
Тревоги и заботы минувших годов подсушили его тело, прибавили инея в бороде дружинника. И одет он в сермягу смерда, и привычный меч не оттягивает пояса, а всё же памятен Михолап Рюриковой дружине. Потому и опасаться приходится. С лесом свыкся, он ему избу заменяет. А в град тянет... Хотя в селищах нет желаннее его гостя — смерды при его появлении глядят веселей, своим считают в селищах. Всё так, но у них он гость. После того, как сожгли варяги Снеульва его поселье, нигде долго не живал. На ногах, в пути. Только в распутицу злую, когда ни человеку, ни лошади ходу нет, отсиживался в чьей-нибудь избе. Но в тягость хозяевам не был...
Вот и знакомое крыльцо. Стукнул в дверь любовно кованным кольцом. Из сеней послышались неторопливые тяжёлые шаги.
— Кто ломится, на ночь глядя? — прогудел за дверью знакомый голос.
— Отворяй, — откликнулся Михолап. — Старый знакомый ныне гостем к тебе. — И по торопливому сбрасыванию щеколды ощутил радость кузнеца.
В сенях они крепко обнялись, и так, не выпуская из рук друга, ввёл его Радомысл в, горницу.
— Погодь малость, огонь вздую, — дрогнувшим голосом сказал он. — Жену подниму, пусть вечерю соберёт...
— Не надобно, — отмахнулся Михолап, — не помру с голоду. Не пузо нагуливать пришёл...
— Знамо дело, не пузо. Но с дороги перекусить надобно, чай, ты ко мне не из гостей забрёл. — И начал собирать на стол немудрящую снедь, огорчаясь, что всё стылое.
Михолап ел плотно — ив самом деле почувствовал, что голоден.
— Чтой-то ты, друг, телом спал с последней нашей встречи, — с сожалением отметил кузнец. — Али не кормят тебя в селищах, али трудов невпроворот?
— А ты не ведаешь о трудах моих? — равнодушно сказал-спросил Михолап. — Вести, наверное, в град доходят...
— Наслышаны. Снеульв недавно лютовал. Огнём, кричал, пожгу, за каждого дружинника десятку словен головы с плеч скину...
— Это он из-за Михеевой пустоши лютовал? — с интересом спросил Михолап (Радомысл молча кивнул головой). — Погодь, завтра Рюрик взовьётся. Мы в Заборовье дружинку его малую посекли...
— Частые стычки на пользу ли? Озлобятся и разоренье великое учинить могут...
— Не учинят, — спокойно ответил Михолап. — Смерда разорит, сам с голоду подохнет.
— Он-то не подохнет, данью продержится...
— За тем и пришёл к тебе, — отодвинул в сторону мису дружинник. — Надумали мы в селищах со стариками уговорить кривских с весью, чтобы не посылали они больше Рюрику дани. Как мыслишь?
— Добре удумали. Согласятся ли? Крепко учены Рюриком...
— Вот и старики в сумлении. Бают, по такому делу Новеград с ними говорить должен...
— Вече скликать, что ли? — с недоумением спросил Радомысл.
— Не о вече речь. Старики настаивают: надобно с посаженным Пушко говорить. Поверили, что он противу Рюрика стоит, — с досадой сказал Михолап. — Упёрлись: пущай посаженный первым слово молвит, а уж мы живота не пожалеем. Потому и пришёл.
— Никак с Пушко встретиться хочешь? — В голосе Радомысла зазвучала тревога. — Нельзя тебе. Посаженный варягам не благоволит, то правда, но и на нашу сторону открыто не встанет. Как бы тебе в руках Рюрика не оказаться...
— Ан дело-то делать надобно, — возразил Михолап.
— Верно. Но... с посаженным говорить буду я. Хоть и не верю, что согласится упредить кривских и весь...
— Думаешь, я верю? Но и без поддержки соседей Рюрика нам не выгнать. Как в граде-то?
— Гнев копят. А многие и притерпелись. Поговаривают: после Рюрика, мол, свой князь будет, внук Гостомысла.
— На Милославу да Игоря надёжа худая...
— Мнится и мне так, но... град первым нынче не поднимется, — твёрдо ответил Радомысл.
— Значит, с другой стороны подпаливать надобно.
— Ладно, утро вечера мудренее, — откликнулся кузнец. — Завтра пойду к посаженному. А теперь давай-ка на покой...
Нежданно для Аскольда князь Рюрик отнёсся к просьбе-требованию отпустить его с дружиной на все четыре стороны спокойно. Лишь на мгновенье поднял бровь, выслушал внимательно и согласно наклонил голову.
— Можешь уходить, ярл. Не держу и зла не затаю. Мы честно шли одной дорогой. Теперь пути расходятся. Счастливой дороги и удачи. Пусть Святовит поможет тебе.
И отвернулся. Седой, согнувшийся, но с виду ещё крепкий. Князь новеградский. Жизнь его уже клонится к закату. А перед Аскольдом ещё полтора-два десятка полновесных лет. Рюрик доволен, считает, что достиг задуманного. Аскольд видит зыбкость достигнутого. Отныне расходятся пути...
— Князь Рюрик, — прервал наступившее молчание ярл. — Не думай обо мне плохо. Не хочу быть неблагодарным. И потому прими напоследок совет. Уходи тоже. Земля словен принесёт тебе и твоим близким несчастье. Я сказал всё.
Рюрик повернулся к нему, глаза вспыхнули, как когда-то, молодым огнём и бешенством. Но тут же и потухли.
— Твой совет, ярл Аскольд, неприемлем, — глухо ответил он. — Впрочем, ты всегда был только хорошим воином...
Ответ прозвучал спокойно и слегка насмешливо. Князь не хотел гневаться на испугавшегося словен ярла. Вместо него разгневался Олег. Прошедшие годы вытянули его вверх, раздали вширь. Перед Аскольдом стоял воин в расцвете сил и молодости. Курчавилась первым волосом борода, глаза метали злые искры, рука тянулась к поясу.
— Если ты, ярл, знаешь что-нибудь такое, чего не знаем мы, ты совершаешь самое тяжкое преступление — предательство. Воинский закон карает предателей. Ты будешь... — И осёкся под тяжёлым немигающим взглядом Аскольда.
— Оставь его, Олег, — по-прежнему спокойно велел Рюрик. — Он ни в чём не виноват и... прав. Ярл, можешь взять ладьи. Сколько тебе надобно. Ни одного твоего дружинника не задержу. Пусть забирают имущество. Вами добытое — ваше.
— Но, дядя!.. — вспыхнул Олег.
— Я сказал, — оборвал его Рюрик, и Олег, круто повернувшись, вышел из палаты. — Иди, ярл. Пусть свершится то, что предначертано богами. Если поход твой будет неудачен — возвращайся. Я тебя приму, примут ли другие — не знаю. — И кинул мимолётный взгляд на дверь.
Повинуясь неясному движению души, Аскольд склонил голову перед Рюриком. В палате повисла тишина. Рюрик подошёл к нему, совсем по-стариковски подволакивая ноги, положил руки на плечи, заглянул в глаза и легонько оттолкнул.
Пушко, недовольно ворча, провёл кузнеца в малый покой, где никто не мешал бы их беседе.
— Как мыслишь, посаженный, — с прямого, как удар молота, вопроса начал разговор Родомысл, — Новеграду дальше жить? Под князем продолжать станем али как?
— Ежели ты только за тем и пришёл, то проваливай. Без тебя со старейшинами разберёмся, — в сердцах ответил Пушко и тяжело поднялся — грузен был.
— Не гневайся, посаженный, — попросил Радомысл, продолжая сидеть. — Не впусте пытаю. Чай, ведомо тебе, земля гнев копит на князя Рюрика и его дружину. И в граде их не привечают. Потому и пытаю: как дальше нам быть?
— Значит, опять противу князя затеваете встать, так, что ли? — присунулся Пушко к Радомыслу. — Сразу отмолвлю: я в таком деле не участник и вам не советую. Град до сих пор не оправился, а вы его опять в сечу ввергнуть надумали...
— Поспешаешь, посаженный. Никто о сече не говорит. А противу Рюрика... Нетто сам ты согласен под ним всю жизнь маяться? Молчишь? Ладно. Я скажу. Не смирились словене, а остальное сам понимай. Говоришь, град не оправился? Верно. Сколь лет прошло, а мы все пришибленными ходим. Ни рукодельцев добрых, ни гостей торговых. Мыслю, под Рюриком и не оправиться нашему Новеграду и... при Гостомысле варягов вышибли...
— Так то при Гостомысле, — откликнулся Пушко. — Гостомысл вёл...
— Словене теми же остались, а повести кому — найдётся.
— Смотри, Радомысл, коли в граде Князевы дружинники пропадать учнут, как в посельях и селищах...
— Не грози, посаженный, — прервал его кузнец, — не пристойно. Не за тем к тебе шёл...
— Так чего ты хочешь от меня? — с раздражением спросил Пушко.
— Не я — земля словенская требует, чтобы ты знак дал кривским и веси, дабы они дани Рюрику больше не присылали.
Посаженный озадаченно промолчал.
— Разумею. Я весть пошлю, значит, весь Новеград заедино. Вы кашу заварите, а мне головой отвечать. Нет уж, сами надумали, сами и дело делайте.
Радомысл поднялся. Продолжать разговор не было смысла. Может, зря пошёл к посаженному? Может, надо было Михолапу идти?
Пушко окликнул его уже у двери.
— Погодь, Радомысл. Слышал, от Рюрика его воевода Аскольд уходит?
— Куда? — повернулся кузнец.
— Не ведаю, и... я тебе ничего не говорил.
— Благодарствую, посаженный, за весть. Помни и ты: я тебе тоже ничего не говорил.
— Добро, — согласился Пушко. — Пусть будет по-твоему. Учти, у князя дружины ещё много остаётся...
— Учтём, — согласно наклонил голову Радомысл.
Поведение посаженного казалось ему странным: наотрез отказался помочь и тут же сообщил весть об уходе княжеского воеводы. «А что он теряет? — подумав, усмехнулся кузнец. — Завтра о том все градские знать будут».
Михолапа весть об уходе Аскольда обрадовала. Даже отказ посаженного обратиться к кривским и веси не очень опечалил.
— Допекли мы их, Радомысл, допекли, — довольный, говорил он. — Погодь, и других допекём. Они у нас ещё не так побегут. А со старейшинами кривскими и весьскими сами договоримся. Без посаженного, чтоб ему пусто было...
Вошёл в берега Волхов. Покатил ленивые воды Ильмень. Засновали по реке и озеру малые и большие ладьи. Поспешили купцы, истомившись зимней сидячей жизнью, до заветных мест, куда в другую пору не попадёшь. Прибавилось им хлопот. Раньше только свою землю знали, торг вели с рукодельцами, заглядывали к смердам в селища. К концу красной летней поры возвращались в Новеград с насадами, груженными рухлядью, хлебом, мёдом. Тут уж их поджидали торговые гости, больше чужеземцы — из своих мало кто осмеливался пускаться в дальние странствия...
Давно поубавилось иноземных гостей в Новеграде. Худую славу купил себе князь Рюрик, и град щедро наградил ею. Приходится купцам торить новые для себя пути. К франгам, в италийскую землицу (говорят и такая есть — тёплая, благодатная) новеградцы пока не ходили. Зато ближних соседей — булгар, буртасов, хазар[32], Византию — вызнали. О землях своего языка — дреговичей, полян, волынян[33] — и говорить нечего, с ними ещё деды и прадеды мену вели...
Вслед за полой водой сплыла вниз, к югу, без великого шуму дружина Аскольда. Как собралась, неспешно снарядив ладьи, так и тронулась в путь ранним утром, не привлекая лишнего внимания. Князь провожать не вышел. На пристани Снеульв за хозяина был, шутки шутил, сам же им и смеялся. Молодой воевода Олег туча тучей стоял, ни сам не попрощался с отплывающими, ни ему никто бодрого слова не сказал. Не дождавшись команды трогаться в путь, молодой помощник князя ушёл с пристани. Переясвет посмотрел ему вслед, глухо сказал стоявшему рядом Аскольду:
— Запомни: больше других тебе надо опасаться этого человека.
Аскольд улыбнулся печально и отрешённо — только что простился с женой, с трудом оторвал от шеи ручонки дочери, потому смысл сказанного не дошёл до него.
В лето восемьсот семьдесят девятое от Рождества Христова и шесть тысяч триста восемьдесят седьмое от сотворения мира князь Рюрик отошёл в лучший мир. Умирал как жил: тяжело. К предкам отправили его по старому бодричскому обычаю: выбрали добрую ладью, положили в неё князя в воинском облачении, в руки вложили копьё и меч. Огонь с довольным урчанием накинулся на сухое дерево.
Весьские старики долго советовались со своими богами и только ополдень пригласили Михолапа на беседу. Сидели чинные, строгие, на поклон дружинника ответили с достоинством, молча. Старший годами и властью, глядя на Михолапа слезящимися глазами из-под седых бровей, негромко, но внятно передал волю весьского племени:
— По велению богов наших и с согласия всех людей языка нашего решили мы дани пришельцам отныне не давать. В том поклялись и слово сдержим. Тебя же, гость наш, просим об одном: коли навалятся на нас вновь пришельцы, словене помогли бы нам одолеть их. Обезлюдели наши селища, много молодых увёл силой Рюрик. Не выстоять нам одним. Окажут словене помощь — и будет мир меж нами и любовь, как в стародавние годы.
Михолап твёрдо обещал помощь и поддержку. И не шевельнулась душа сомнением, уверился: со смертью Рюрика поднимутся словене. Сколь терпеть можно на своей шее чужую тяжёлую длань.
Неблизкий путь от Белоозера до Новеграда томился Михолап нетерпением. Мнилось: градские и без него уже выгнали дружину Рюрикову, а его странствие к веси — пустое, дело, напрасная трата времени.
У истока быстрой Свири отпустил провожатых, далее плыл один, налегая на вёсла. Лишь в Нево-озере, недалече от устья Волхова, встретил ладью. Люди из Ладоги отмолвили, что у них всё по-старому, а в Новеграде, слышали, какая-то замятия была, но и там вроде теперь поуспокоились. Князем кто? А бают, Игорь-мальчонка, а над ним Олег — свойственник Рюриков.
Ёкнуло сердце — нетто новеградцы не воспользовались случаем? Что за замятия приключилась и почему ладожане о ней смутно ведают? Опять неудача? Сколь лет он по селищам шастал, смердов готовил, малую силу княжой дружины изничтожал, а как до большого дела дошло, так смерды по лесам попрятались? Не может того быть. Скорее всего, новеградцы снова одни, без земли, поднялись...
Из опаски мимо Ладоги ночью проплыл. Коли в твердыне всё благополучно, знать, княжеская дружина на месте и в гости к Щуке ходить не след. Хоть он и старый друг-побратим, но с бодричами-варягами давно в дружбе живёт. Что у него на уме — опосля вызнать можно, нынче же главное —Новеград.
Полдня прятался Михолап, дожидаясь сумерек, чтобы незамеченным пробраться в град. Пока выгребал от Ладоги, не одну ладью встретил, перемолвился с людьми и, почитай, в подробностях вызнал обо всём, что творилось в граде после смерти Рюрика. Поперву клял в душе нерешительность Радомысла, потом поутих, сомненье взяло. Может, зря на Радомысла понадеялся, может, самому надо было чаще в граде бывать, людей бередить? А он все эти годы по селищам да в лесах... Град и земля едиными должны быть. Для единого дела и голова единая нужна. Стал ли он такой головой? Нет, не стал...
Радомысл обрадовался его приходу, но посматривал на дружинника смущённо или отводил глаза в сторону — ждал ругани. Михолап не стал хулить друга, только тяжко вздохнул.
— Не убивайся, — сказал он кузнецу. — Оба виноваты. Молви, как новеградцы весть ту приняли?
— Олег не сразу объявил о смерти князя, — сказал Радомысл. — С дружиной сперва урядился, потом уж мы узнали, что Рюрик помер. Кинулся я по избам, многие готовы были выступить, да не все...
— Что о том ныне баять... — прервал Михолап. — Посаженный-то как, старейшины?
— На другой день, как выступать я наметил, вокруг княжеских хором воинов прибыло. До этого вольно ходили, а тут в бронях. Наши-то, кто с утра оружным вышел, попятились...
— Я тебя о посаженном пытаю, — недовольно напомнил Михолап.
— А Пушко что? Видели, как он в княжеские хоромы со старейшинами ходил, о чём речь вели — не ведаю...
— Знать бы надо, — требовательно сказал Михолап. — Трудно нам будет без посаженного град и землю поднять. На одних градских надёжа плоха...
— То верно. Надо заедино... У тебя-то как с весью?
— Уломал старейшин, от дани отказались. Теперь с кривскими бы урядиться, но это после. Нынче в Ладогу отправлюсь...
— В Ладогу? — удивился Радомысл.
— Не верю, чтобы Щука совсем князю предался. А к кривским вместях пойдём.
— Добре, — оживился Радомысл. — Аж на душе легче стало.
— Не унывай, друг, мы ещё потрясём Олега...
Последними ладьями, пробиваясь через тонкую, но цепкую корку льда — шёл ледостав, — в Новеград неожиданно вернулась ладожская дружинка. Олег, по примеру Рюрика, держал в Ладоге три с небольшим десятка копий. Больше для напоминания о том, что словенская земля покорена князем, чем для подлинного дела. И вот дружинка незваной вернулась в Новеград. Старший её — пятидесятник Гудой, — хмуро уставясь в пол, стоял перед Олегом, скупо рассказывал:
— И ждать не ждали, воевода, и ведать не ведали. Всё как обычно шло. Об измене и толку не было. Как вдруг седмицу назад вызвал меня воевода. Хоромы полны людей. С мечами все и в кольчугах...
— Дело говори, — нетерпеливо потребовал Олег.
— Дело и говорю, — поднял на него немигающие глаза Гудой. — Воевода Щука велел передать тебе, что Ладога отныне Новеграду не слуга. Ладожане порешили больше ничьей власти, кроме своих старейшин, не признавать. Коли захочешь вновь их подчинить — биться станут. Воевода сказал: «Костьми ляжем, а Олегу и Новеграду боле не покоримся». Нам же приказал немедля, ежели жить хотим, покинуть твердыню.
— И вы подчинились?! — крикнул Олег: в нём проснулся неистовый гнев молодого Рюрика. — Трусы! Где были ваши мечи?
Гудой твёрдо глянул в глаза Олегу.
— Трусом я никогда не был. Князю Рюрику то хорошо известно было. Подумай и рассуди: что могли сделать три десятка мечей против Ладожской твердыни? Если ты считаешь, что мы могли захватить её, тогда вели казнить меня.
— Я погорячился, — остывая, миролюбиво ответил Олег. — Ты был прав и выполнил главное — сохранил воинов. Готовит ли воевода Щука твердыню к обороне, вооружает ли градских?
— Ладожская твердыня всегда готова к обороне, а оружие есть у каждого жителя. Крепость порубежная. Взять её приступом нелегко.
— Измором возьмём.
— Припасов нынче в твердыне довольно.
— Ладно, иди. Вели, чтобы послали за ярлом Снеульвом...
Не успел Олег принять какое-нибудь решение, как, запыхавшись, вбежал Снеульв.
— Слышал, ярл, вести из Ладоги? — встретил его вопросом Олег.
— Что там Щука брагой упился али ещё что?
— Ладожане отложиться надумали, вот что.
— Да в своём ли они уме? — изумился Снеульв.
— Крепость знатная. Взять её нелегко, но взять надо обязательно. Она как кость в горле.
— Приступом брать — половины дружины лишиться, и возьмём ли?.. — усомнился Снеульв. — И Хольмгард без воинов оставлять нельзя...
— Так как же? — В голосе Олега Снеульв услышал упрямые ноты и понял, что воевода не отступит от мысли любыми средствами вернуть ладожан к покорности.
— Не будем торопиться, — начал он осторожно. — Обдумать надо и действовать наверняка. Разумнее твердыню в осаду взять, окружить малыми силами, чтоб никто носа не высунул...
— Малые силы Щука сомнёт, — возразил Олег. — А для большой дружины припас готовить надо, на зиму градец новый близ Ладоги рубить...
— Забота невелика, воевода. А почему мы одни должны Ладогу воевать? Разве Щука только от нас отложиться пожелал?
— Я думал об этом, — обрадовался Олег. — Ладога — новеградское владение. Пусть и они приводят ладожан в покорность.
— Посаженный Пушко может отказаться...
— Найдём другого — более сговорчивого.
Из княжеских хором Пушко вышел багровым. Мальчишка, молоко на губах не обсохло, а он поучает посаженного. Тоже мне воевода выискался. Рать скликать, на Ладогу идти. С каких это пор новеградские выселки на старшего руку поднимать начали? Старейшины от воеводы Щуки никаких вестей о непокорстве не получали. Ладога как была за Новеградом, так и остаётся. А коли ладожане противу князя Игоря с дружиной поднялись, то это их дело и посаженному в него вмешиваться не пристало.
Разошёлся воевода. Пригрозил другого посаженного Новеграду дать. Поздно спохватился. Рюрик такое ещё мог содеять, тебе же не по силам. Али слепой я, не вижу, что новеградцы готовы вышибить тебя не токмо из града, но и из земли прочь? Всё вижу. Головы у них не нашлось, а меня опаска одолела. Но теперь посмотрим, кто кого. Посаженный слово скажет — все услышат, а твоё слово не ветром ли унесётся? Так-то. Прошли времена Рюрика. Ты хоть и его корня, да молод ещё мужами новеградскими помыкать...
Вконец раздосадованный, дошёл он до своих хором, ввалился в трапезную, гаркнул челядину, чтобы снедь подавали. Но и еда не радовала, и чара браги хмельной злости не прогнала. Жена, заприметив, что муж не в духе, поторопилась убраться ещё до того, как встал он из-за стола. Недовольно глянул ей вслед — все разбегаются, и дела никому до хозяина нет.
...В трапезную без спросу ввалились двое. Глянул Пушко: один — Радомысл, а другой — незнакомый, коротконогий, поперёк себя шире, диким волосом зарос — чисто медведь из берлоги.
— Хлеб да соль, посаженный, — благожелательно сказал Радомысл, здравствуясь. — Мы к тебе в гости незваными...
— Проходьте, садитесь, коли в гости пожаловали, — хмуро ответил Пушко, вглядываясь в незнакомца.
— Не тужись, Пушко, припоминать, — словно угадал его мысли тот. — Меня нынче признать трудно...
Этот бухающий, как в бочку, голос. Кто из слышавших на поле бранном или на градской площади мог забыть его?
— Михолап?! Ты?! Живой?
— Признал, посаженный! — улыбнулся Михолап. — Не выковали ещё того меча, которым меня посечь можно.
— Вот кто землю против них мутит! — с неприкрытой радостью воскликнул Пушко. — Как же ты жив остался?
— Не будем старое ворошить, мы к тебе не за тем пришли. — И лицо его приняло прежнее суровое выражение. — Молви, как с воеводой и старейшинами урядился, станешь ли новеградцев противу Ладоги поднимать?
Пушко не удивился вопросу. Сын не очень богатого и знатного новеградского торгового гостя, он давно знал Михолапа и втайне завидовал некогда молодому гридню, прославившему своё имя в походах Гостомысла. И хотя пути их со временем разошлись, а ныне в трапезной сидели и совсем разные люди — один хотя и утесняемый, но голова града, другой — изгой, Пушко давно признавал в Михолапе равного себе. Потому и не колебался: отвечать ли на прямой вопрос или остеречься. Беседа должна и будет откровенной. Это само собой разумеется. Другое не давало покоя посаженному — он не мог решить проклятого вопроса: выгодно ли ему, старейшине и посаженному, поддерживать ныне Олега?
Молчание затягивалось и красноречивее слов "говорило о том, что на необдуманный поступок Пушко не пойдёт. В посаженном всегда брал верх купец: семь раз отмерь и один раз... обмерь. И потому, чтобы оттянуть время и, может быть, вызнать намерения бывшего дружинника, тот ухватился за совет старейшин.
— Ты ж лучше меня, Михолап, ведаешь, что посаженный, ежели князь в граде, в дела воинские не вмешивается. — И улыбнулся. — Так было при Гостомысле, так и ныне...
— Кха, — кашлянул Михолап. — Для тебя, Пушко, уже всё едино, что князь-старейшина Гостомысл, что воевода варяжский?
— Зачем так? — с укоризной спросил Пушко. — Чай, мы новеградцы...
— А не всё едино, так не юли. Уговорились с Олегом?
Пушко хотел было обидеться на это прямое и грубое «не юли», но сообразил, что не следует давать предлога для прекращения разговора.
— Воеводе Олегу в этом деле ни я, ни старейшины не помощники, — осторожно, но достаточно твёрдо сказал он.
— Добро хоть до этого твои старейшины додумались. Видно, почуяли, что иного им словене не простят. А не боитесь, что Олег повторит побоище?
— Я ж тебе сказал, — с хитринкой улыбнулся Пушко. — Посаженному при князе в воинские дела вмешиваться не пристало. Пущай сам князь с воеводой сзывают новеградцев на рать...
— Как мыслишь, Радомысл, удоволит Олега такой ответ посаженного? — глянул на кузнеца Михолап.
— Не по нутру придётся...
— Вот и я так мыслю. Без нашей помощи не выбраться старейшинам из сетей воеводы. Не удоволится он отказом...
— Без вашей? — деланно удивился Пушко.
— Как посаженным стал, — качал осуждающе головой Михолап, — так и забыл, что словене всё важное миром решают?
— Ныне воевода княжеский решает...
— Правду молвил: княжеский воевода, не наш. Вот пусть он своей дружине и указывает. Али ты на другое согласен?
— Моего согласия не спрашивают...
— Так и будет, доколе в разные стороны тянуть станем. А ежели миром нашу волю воеводе скажем...
— Где он, мир-то? — настороженно обронил Пушко. — Может, вече скликать прикажешь?
— Веча пока не требуется, — спокойно ответил Михолап. — А в новеградцах не сумлевайся. Без веча обойдёмся...
— Ты всё вокруг да около. Заикнулся о помощи, так уж кажи, — потребовал Пушко.
Михолап долго, оценивающе смотрел в глаза посаженному. Вроде и переменился Пушко, а всё едино не тот. Но другого сейчас нету, о другом думать будем, когда бодричей-варягов выгоним. А ныне... Без слова посаженного к земле словенской и соседям не обойтись.
— О помощи в свой черёд скажу. Прежде поведай открыто, разве не приспела пора бодричей-варягов с земли нашей выгнать? Пошто о том только рукодельцы со смердами мыслят, а нарочитые в стороне?
— Знать надобно, сумеем ли одолеть?.. Пожитье нелегко копится, потерять же его враз можно. А в другом — что ж, нарочитые разве не словене, им, что ли, любо под чужим воеводой жить...
— Благодарствую и на том, — сурово ответил Михолап. — Знать, я меньше вашего пожитья имел, да Рюрик им покорыстовался. А теперь, вишь, мы дружину его гнать станем, а вы со стороны смотреть?
— Если есть уверенность, что их выгнать можно, то кто ж из словен в стороне останется? Но... я знать хочу, не повторится ли как с Вадимом?
— Ладно, Пушко. Думаю, столкуемся мы. А теперь о помощи, — придвинулся Михолап к посаженному. — Когда Олег пугать тебя начнёт порубом али ещё чем, скажешь, что новеградцы за тебя ратиться станут. Не сумлевайся, так и будет. — Он оглянулся на Радомысла, тот молча кивнул в знак согласия. — Ежели не подействует, добавишь: не только новеградцы, но все словене на них навалятся. Не останутся в стороне и ладожане. К воеводе пойдёшь послезавтра — нам град подготовить надобно.
— А что, Щука только противу Олега замыслил али в самом деле от Новеграда отложиться решил? — сверкнул глазами Пушко.
— Воевода Щука поклон тебе шлёт, — улыбнулся Михолап.
— Твоих рук дело?
— Наших, — ответил дружинник. — И ещё: коли не образумится Олег, сообщи ему, что дани от веси и других земель пусть больше не ждёт.
—Со всеми сговорились?
— Нет, — чистосердечно признался дружинник. — К кривским и чуди сам пошлёшь людей, от имени Новеграда говорить будешь.
— Дело общее, посаженный, — подал голос Радомысл. — Надобно и тебе потрудиться.
— Вестимо, — согласился Пушко. — Но пока ничего Олегу я говорить не буду. Не след раньше времени упреждать его. К кривским и чуди людей пошлём. Речь поведём не токмо о дани. Пусть людей на помощь пришлют, как срок подойдёт. Ныне же захочет воевода на Ладогу идти — пущай идёт. Соберёт ли новеградскую рать — не ведаю, — с улыбкой глянул на Радомысла. — А с дружиной своей пущай идёт.
Выдержит ли твердыня осаду до весны? — озабоченно спросил Михолапа.
— До весны выдержат. К тому ж можно и опередить воеводу, отправить в Ладогу новеградцев...
— То дело не моё. Сумеете отправить — добре, не сумеете — пущай Щука сам оборону держит. Посаженному в такое дело вмешиваться не след.
— Ладно, — покладисто согласился Радомысл. — Подберём дружину малую...
— Торопиться не надо, — возразил Пушко. — Когда ясно будет, что Олег противу Ладоги идёт, тогда... Как бы дружина твоя в Новеграде не понадобилась...
— Быть по сему, — поддержал его Михолап. — Простоит Олег до весны под Ладогой, а дале как мыслишь?
— По весне вы его в Новеград не пустите, — прищурился Пушко. — Али не так?
— С твоей помощью, посаженный, — весело ухмыльнулся Михолап. — Дюже не удивляйся, ежели краем уха услышишь, что по твоему повелению смерды в селищах противу Олега собираться учнут...
— Смотри, чтобы до него та весть не дошла. Раньше времени к праотцам отправляться резону нету...
— Авось живы будем, Пушко. Теперь прощевай, не забывай Радомысла в гости приглашать. Он знает, где меня найти...
Олег кричал и топал ногами, как заликовавшая девка, которой приспела пора замуж идти, а женихов нету и не предвидится. Но посаженный со старейшинами стояли на своём: и сами мы, воевода, в твоей воле, и градские — тож. Клич кликнешь — пойдут ратиться, до такого дела всегда охотники были. А и немного ж тебе воинов надо, своя дружина могутная, нешто с Ладогой не сладишь?
Посаженный прямо заявил: ежели с ним и старейшинами что случится, пусть воевода на себя пеняет, не простят ему того новеградцы, недовольство сильное может выйти. Рассвирепел воевода, повелел ярлу Снеульву готовить воев к усмирению непокорных новеградцев.
Пушко низко поклонился и дерзко ответил:
— Не посетуй, воевода, коли новеградцы дрекольем твою дружину встретят. — И добавил с явным укором: — Мир меж нами и любовь, их крепить надобно, а не рушить...
И Милослава, тётка родная, решительно заявила Олегу:
— Ежели вздумаешь в граде побоище учинить, пойду против тебя. Новеградцы меня послушают. Тебе понять надобно: коли с ладожанами один управишься — в Новеград тебе путь открыт; насильно градских в поход поведёшь — вернёшься ли оттуда, не знаю...
Как только установился по Волхову санный путь, Олег, оставив в градце малую часть дружины, выступил к Ладоге. Ни один из новеградцев не пожелал добровольно принять участие в том походе.
Зима выдалась гнилой. Лёгкие морозцы сменялись слякотью. Часто пуржило. У воинов ныли застарелые раны. Трудным стал подвоз пропитания, да и те обозы, что, выматывая лошадиную силу, добирались к Ладоге, доставляли с каждым разом всё меньше и меньше прокорма. Олег гнал гонцов к Пушко, те возвращались с ответом посаженного: нет хлеба в поселье — сами оголодали. Ярился Олег, порывался скакать в Новеград, но сдерживал себя — оставить осаждённую твердыню на Переясвета со Снеульвом нельзя, не управиться им. За твердыней и дружиной глаз да глаз нужен.
Без былого азарта вели осаду воины. Особенно тяжко приходилось ночами. В наспех ставленных избах (старое городище Щука частью разобрал, частью спалил) намаявшиеся за день воины не находили приюта, мёрзли.
Помощи и поддержки ждать было неоткуда. Дружина измаялась. Уже никто с вожделением не говорил о добыче. Стены твердыни по-прежнему оставались неприступными, крутые валы поблескивали льдом, ветер наметал у их подножий глубокие сугробы.
Втайне Олег смутно надеялся, что дружина, иззябнув и изголодавшись, сама потребует приступа, чтобы покончить с Ладогой одним ударом и провести остаток зимы в тепле. Но чем больше отлетало коротких дней, тем меньше оставалось надежд. Боевые действия с обеих сторон велись вяло. На стенах стыли в неподвижности ладожане — ни злых выкриков, ни насмешек не раздавалось оттуда. Но стоило неосторожному дружиннику перешагнуть натоптанную стежку, как со стен бесшумно срывались две-три стрелы. Щука показал себя воеводой изрядным — ладожане не дремали. С неудовольствием заметил Олег: людей в крепости прибыло. «Из окрестных селищ согнал смердов», — решил воевода. Предчувствие неудачи закрадывалось в душу, но отступать было поздно: и ладожане, и новеградцы могли усомниться в силе дружины.
Ко всем бедам добавилась и нежданная — весь не прислала ежегодной дани. Все сроки прошли, а обоз с Белоозера не приходил.
— С Ладогой на быстрый успех надеяться нечего, — сказал Олег ярлу Снеульву. — Осада затянется. Щука на вылазку не решится. Поэтому готовь к походу на весь малую дружину — человек в полста. Весь проучить надо, чтобы навсегда забыли о непокорстве.
На другую ночь, в пургу, неведомо куда исчезли три пятёрки дружинников. Были они из разных десятков, воины молодые, ничем себя не проявившие. Что пропали — полдела, настораживало другое: по всему выходило, не просто сгинули в снегах, а ушли преднамеренно, подготовившись. Не оказалось на месте лыж и воинского припаса, им принадлежавшего. О таком деле пришлось доложить воеводе. Тот спросил: знали ли беглецы о походе на Белоозеро? Снеульв сказал, что тайны из такого похода не сделаешь. Олег повелел разузнать, откуда и как в дружину попали исчезнувшие. Выяснилось: все из числа тех волчат, что по приказу князя Рюрика были отобраны у весьского племени.
Олег жёстко глянул на Снеульва.
— То урок нам на будущее, ярл. Отмени поход. Не будем дробить силы, коли не сумели нежданность использовать...
В трудах безрадостных, без пользы силы отнимающих, проходила зима. Олег надежды возлагал на весну. Непосеянное зерно не вырастет, весенний день год кормит: так или иначе, но Щука весной должен отворить твердыню. В воинской науке терпение и ожидание не всегда трусости равны.
Михолап лишился покоя. Где на дровнях, а чаще пешком кочевал от селища к поселью. Вёрсты меж ними не меряны — испокон веку любили словене нетеснимое раздолье. На его зов собирались смерды, внимали ему, неторопливо кивали головами, соглашаясь: пора дать пришлым от ворот поворот, засиделись. Рассудительно прикидывали, когда лучше трогаться в путь, чтобы ко времени поспеть в Новеград; кому от поселья идти, а кому остаться, дабы порухи хозяйству не чинилось.
— Словене вольность свою завсегда блюли больше жизни, — неизменно заканчивал разговор с мужиками Михолап. — Не посрамим и мы чести словенской!
— Не посрамим! — откликались вразнобой собравшиеся и испытывающе оглядывали друг друга, обступали дружинника, крепко жали ему руку, хлопали по плечам, а бабы уже тащили для дальней дороги берестяной короб со снедью.
Слухом земля полнится. Призыв Михолапа разрастался и ширился, докатился и до Залесья. И хотя постарели чудом уцелевшие в давнишней новеградской сече мужики и с тех пор не бывали в Новеграде, но поседевший Ратько первым твёрдо сказал Михолапову посланцу: «Пойдём. На такое дело все пойдём».
Уверенно почувствовал себя и старейшина Пушко. По настроению градских всё больше убеждался: не зря поверил Михолапу, на этот раз воеводе Олегу не устоять. А коли так, заслуга изгнания иноплеменной дружины ему чести придаст. Правда, новеградцы на гнев скоры и привередливы (сегодня не знаешь, что им завтра захочется), но поднять голос против того, кто изгонит пришельцев-хитников, скоро не осмелятся. Значит, надо торопить события.
Пушко созвал старейшин, поведал о задуманном. Те поперву ужаснулись: жили тихо, и вдруг — на тебе, опять лихолетье и разор. И воли нам той не надобно, вольные-то с сумой по миру ходят, уж вольнее их нету. Как бы и нам так-то не пришлось, посаженный.
Недомыслие старейшин вынудило более подробно рассказать о замысленном и вырешенном, пришлось и о Михолапе с Радомыслом упомянуть. Не хотелось того делать — пусть бы старейшины думали, что Пушко сам принял столь важное решение, но пришлось. Иначе помощников своих не убедить. Без них же в открытую действовать поостерёгся.
Сговорились. Обсудили, как повести дело и после изгнания Олега. Михолапа, конечно, воеводой градским надобно определить, заслужил, да и рукодельцы го смердами сумятицу поднять могут. Радомысл? Об нем речи нет. Коваль, пусть себе и куёт. Воевода будущий без заказов его не оставит. О другом голова болит. Без сечи бы обойтись. Тогда последнему смерду понятным станет, что не Михолап со своими ратными, а они, старейшины, умом своим бодричей-варягов с земли словенской согнали.
Ежели Олега устрашить — подобру уберётся. Сил собрать поболе, но к Ладоге не ходить. К Олегу мужей добрых отправить для переговоров, а чтобы уверовал в мощь нашу, дружину малую, что тот в градце оставил, вышибить. Боям деваться некуда, к твердыне побегут, воеводе о новеградцах поведают. А тут и наши мужи подоспеют. Олегу волей-неволей придётся согласиться с требованием оставить землю словенскую. На Новеград не полезет, устрашится — на загривке Щука будет висеть. Поклонится миром — пропустим через град, пущай на юг уходит.
Первое дело — рать словенскую собрать. Михолапу помочь в том надобно. Чем помочь? А не препятствовать смердам. Рукодельцам тож послабленье сделать. При случае и самим голос противу Олега возвысить, чтобы градские слышали. Другое дело: к кривским, поспешая, гонцов слать, двух старейшин, чтобы честь по чести. Говорить с ними уважительно, почёт казать, но и своего достоинства не умалить. Пусть известят Олега, что дань давать отказываются и ратиться с ним будут. И в Новеград хоть малую дружину свою пришлют.
Всё вырешили старейшины, разошлись довольные. Пушко отправил челядина к Радомыслу — звать на тайный разговор. Кузнец подивился расторопности старейшин и обещал разыскать Михолапа и поторопить со сбором ратных.
— А в граде всё готово, посаженный. Выступать можем...
— Когда выступать — то воевода решать будет, — улыбнувшись, ответил Пушко. — Воеводой же, окромя Михолапа, быть некому. Так и передай ему: пущай в Новеград возвертается. Жду...
Первые ватажки ратных из дальних поселий и селищ начали прибывать к Новеграду, как только зима на весну повернула. Ночами изрядно подмораживало, и далеко окрест разносились скрип подъезжающих дровен и сдержанные голоса мужиков.
Ратников набралось много, уже и размещать их стало некуда. Нарочитые, крепя сердце — как бы не растащили чего, — позволили располагаться на своих подворьях. Рукодельцы подбирались в своих избах без возражений: в тесноте — не в обиде. Радушно делились припасами.
Сила прибыла немалая. Оружия мало кто имел, но увесистой дубиной, секирой, остро отточенной, запасся каждый. Кузнецы работали с утра до ночи. Но Михолап видел: всех ратных мечами вооружить не успеют. К тому же научить смерда мечом владеть — время требуется, и не малое. Его же ратные больше к топору привычны.
Посаженному с лукавой хитринкой сказал:
— Тесно в граде стало. Сподручнее будет ратных в Рюриковом градце поселить. Как мыслишь?
— Там же варяги, — деланно удивился Пушко.
— Какие варяги, десятка четыре воев наберётся, да и те не разбежались ли? Что-то давно никого из них в граде не видно...
— Так ты хочешь...
— Пора! — потвердел голосом Михолап.
ЭПИЛОГ
Просторные новоставленые хоромы воеводы новеградского Михолапа смотрят изукрашенными оконцами на Волхов-Мутную. Два года минуло, как хитрознатцы-плотники, посадив наверх крыши затейливо рубленного коня, подступили к воеводе с извечным. «Конь наверх — брагу на стол, хозяин. С хоромами тебя!» Два года. Не впусте стоят хоромы, каждый день толчётся в них народ — к воеводе кому дело не найдётся? — а Михолап всё ещё чует запах свежерубленой сосны. Рукодельцы для своего воеводы постарались на славу.
Каждый вечер, прежде чем отойти ко сну после многотрудного дня, оглянет Михолап тоскливо спальный покой, тяжело вздохнёт. Вспомнит старую, с низким потолком, потемневшую от времени, неухоженную избу, что разорили бодричи-варяги, вспомнит жену-старуху. И изба неказистой была, и старуха частенько бурчала, недовольная, а дышалось вольготней. Нет избы, нет старухи. В ту весну, когда обложил он Олега под Ладогой, померла старуха. На чужих руках, и дочери рядом не оказалось. Молвили люди: легко убралась, не мучилась. А и то — немало выстрадала в последние годы, пока он по лесам да селищам мотался, землю на варягов поднимал.
В новых хоромах дочь Домослава всем заправляет. Внук Олекса по горницам колобком катается. Ладный парнишка растёт, бойкий, не по возрасту смышлёный. Отрада Михолаповой старости. Хоть и знает внук, что дед — преславный воевода, а, разыгравшись, командует им. Дед подчиняется и, если допустит оплошку какую, без оправданий выслушивает упрёки внука:
— Ну что ж ты, дед? А ещё воевода!
Воевода. Второй человек в граде после посаженного старейшины. Почёту, уважения — никогда раньше такого не знавал. Люди каждое слово со вниманием ловят и исполнять не ленятся. На земле словенской мир и покой учинились. Варяги и прочие с Олегом на юг убежали, о них и вестей нету. Сгинули. Насовсем ли? Краем уха прослышал Михолап, что Олег среди полян сел, а прежде чем сесть, какое-то непотребство в их земле учинил.
Чтобы вызнать дело досконально, отправил по весне воевода в земли полян проведчика. Не вернулся ещё тот, не приспело время. До полян путь неблизкий...
Наверное, и вовсе не отправлял бы проведчика, кабы не внук. Заиграется с ним Михолап и нежданно-негаданно на память другой малец падёт — князь Игорь, сын Милославы. Хитростью выманил в последний день пребывания своего на словенской земле воевода Олег сына Рюрика в свою дружину. И мать не заподозрила неладного, а он, Михолап, спохватился слишком поздно. Дружину в погоню слать — старейшины вздыбились. Пересылками требовательными, угрозливыми с Олегом обмениваться — впусте время тратить: не для того ушкуйник князя с собой увёз, чтобы назад с почётом возвернуть.
Без кровинки в лице металась по граду Милослава. Простоволосая, постаревшая, в сбившейся одежде. Неистовым огнём горели её глаза, с губ срывались торопливые проклятия.
И вот теперь, глядя на внука Олексу, корил Михолап себя: по его вине где-то сгинул с воеводой Олегом князь Игорь. И пропажу княгини Милославы тож брал на свою совесть: не выполнил обещанного, не помог. Милослава же, пометавшись по граду три дня и не найдя заступников, никому боле слова не молвила. Позже прознали: велела челядинам снарядить лёгкую ладью и отправилась по тому водному пути, что издревле в греки ведёт. С тех пор о ней ни слуху ни духу. Мыслимое ли дело одной, без доброй дружины, отправляться в путь, который через столько земель пролегает. По берегам рек зверья дикого несчитанно, а хуже всякого зверья лихие люди: зверь-то от человека бежит, лихие люди — на него. Сама сгинула и душу Михолапа увела за собой. Лишился покоя старый воевода. Во сне Гостомысл к нему приходил и укоризненно седой головой покачивал: «Что ж ты, гридень, за любовь и ласку мою к тебе содеял?»
Сидит воевода в хоромах своих, ворошит душу прошлым, поглядывает через слюдяное оконце на Волхов. Бьёт волна в берег, ярится, пенится. Тучи небо заволокли, то дождиком брызнут, то сиверком дохнут. Осень подступает, не успеешь оглянуться, дождик снегом обернётся...
А проведчика всё нет и нет. Коли не успеет по живой воде возвернуться, значит, ждать его будущим летом. Кто ж из разумных рискнёт в зимнюю стужу в одиночестве по рекам да волокам судьбу пытать?
Вернулся Костина-дружинник, когда в воздухе белые мухи закружились, а воевода Михолап уже и надежду потерял до будущего лета увидеть его. По облику истый торговый гость: кафтан наглухо застегнут, тёмного цвета порты в поршни заправлены, подстрижена и аккуратно расчёсана борода, взгляд не гордый, но и не услужливый, собой невысок, но крепок, от ветров и морозов лицо задубело. Михолап поперву и не признал его — привык видеть в воинском доспехе.
— Ты, Костина?! — удивился проведчику. — Садись, поведай, что повидал-проведал... Эй, кто там? Медовухи! — крикнул в приотворенную дверь.
— Повидал много чего, — неторопливо начал проведчик. — Сперва о главном скажу. Пока что князя Олега нам опасаться нечего. Занят он собиранием полян....
— Собиранием?
— Не удивляйся, воевода. Смутил меня князь Олег. Не довелось с ним баять, но многие о нём по-доброму судят, хотя и разное говорят. Не только свою дружину в чести держит, но и полян не примучивает, князем себя разумным кажет...
— А Игорь, Игорь где?
— При князе живёт, — улыбнулся Костина. — Видел я его и говорил даже с ним маленько. Твёрдый вьюнош растёт...
— То добро, — облегчённо вздохнул Михолап. — А княгини Милославы не встречал ли?
— Весь Киев обошёл, воевода, многих пытал. Никто не видел и не слышал о княгине...
Помолчали. Отвечая своим сокровенным мыслям, Михолап негромко, с грустью сказал:
— Наверное, и вправду так пожелали боги...
Не поняв воеводы, Костина всё же согласился:
— Без воли богов такое свершиться не могло. Поляне признали Олега князем без великого шума и брани, отворили ему грады свои. И в дружину идут, служат ему...
— Как же могло случиться такое? — в недоумении поднял бровь Михолап. — У нас лютовал, а там...
Костина огладил бороду, развёл руками, голос потерял уверенность.
— Многажды думал я о том, воевода. Не знаю, прав, нет ли, но мнится: то, что случилось у нас, для Олега великим уроком обернулось. Понял он: одной своей дружиной никого не подчинить. На то согласие самой земли надобно. Вот и начал искать дружбы полян. Поляне же согласились — им князь сильный надобен, соседи у них немирные. К тому же и Аскольд души полян к варягам повернул...
— Ушёл от Рюрика ярл, в некоторых землях пытался сесть, но люди тамошние встречали его боем. Поляне же приняли у себя — им тогда степняки походом грозили. Варяги тех степняков помогли прогнать. Так меж полянами и ярлом варяжским любовь пошла. Тут и Олег поспел. С князем Полянским Диром да ярлом Аскольдом не по чести поступил, хитростью их извёл и сам в место княжеское сел...
— Попомни, Костина, плохо кончит воевода Олег, — задумчиво откликнулся на рассказ проведчика Михолап. — И опять же, не его мне жалко, а князя нашего Игоря. Чему обвыкнет, видя с малых лет кровь и междоусобицу?
— Игорь после Олега князем полян станет, а он ведь и наш князь, словенский...
— Одному князю в двух землях быть неможно...
— Но две земли под одним князем могут быть, — возразил Костина.
— Меж словенами и полянами земли кривичей, полочан, родимичей, северян, вятичей, древлян, — начал загибать пальцы Михолап. — Это ж получается, чтобы Игорю князем быть словенским и Полянским, надобно и эти земли подчинить, так, что ли?
— К тому идёт, воевода. Мы с тобой, может, и не доживём до этого, но Игорь-то молодой...
— Это уже не земля будет, ежели все племена под одним князем собрать, — не слушая проведчика, отдался своим мыслям Михолап. — Это уже что-то другое будет. О таком и Гостомысл не мечтал...
— Внуки шагают дальше дедов...
СЛОВАРЬ
Алтабас — персидская парча.
Берсерк — свирепый воин, который в битве приходил в исступление, выл, как дикий зверь, кусал свой щит и, согласно поверью, был неуязвим.
Бонды — в скандинавских странах в средние века свободные люди, имевшие своё хозяйство, свободные крестьяне. В более раннее время полностью зависели от рода.
Бортничество (от борть — дупло дерева) — бортевое пчеловодство. Первоначально добывание мёда из естественных дупел, затем разведение пчёл в выдолбленных дуплах.
Вальгалла — чертог Одина, в котором сражаются и пируют павшие в битве воины.
Вено — выкуп за невесту, приданое жены.
Вира — денежный штраф за убийство свободного человека.
В челе — во главе.
Выморачивать — добывать, выманивать.
Выя — шея.
Гардарика — «страна городов». Так древние скандинавы называли Северо-Западную Русь.
Гривна — денежная и весовая единица в Древней Руси, слиток серебра в половину фунта.
Дворский — управляющий хозяйством; дворовые люди — челядь, прислуга.
Дирхем — старинная серебряная монета арабов, чеканилась с 695 г.
Епанча — длинный широкий парадный или дорожный плащ.
Житьи — богатые, зажиточные люди. В древнем Новгороде среднее сословие между первостатейными гражданами и чёрными людьми.
Законоговоритель — толкователь законов, блюститель обычаев у скандинавских народов в дописьменный период.
Закуп — зависимый человек, взявший у феодала в долг ссуду (купу) и обязанный отработать её.
Изгои — в Древней Руси лица, вышедшие из своей обычной социальной категории (крестьяне, ушедшие из общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы и пр.).
Киса — кожаный затяжной кошель.
Конунг — у скандинавских народов в средние века первоначально военный вождь, с образованием государства — король.
Котора — вражда, сбора, раздор, смута, распря.
Крица — твёрдое губчатое железо со шлаковыми включениями. В древности получали непосредственно из руды.
Крыга — льдина, плывущий лёд.
Куна — денежная единица Древней Руси, одна двадцать пятая часть гривны, пятидесятая часть гривны-куны. Обращалась до середины XIV — начала XV в.
Лопотина — одежда, преимущественно верхняя.
Матица — балка, брус поперёк избы, на котором настлан накат, потолок.
Мыт — в Древней Руси пошлина с торговли.
Насада — речное судно с набоями, с насадами, т. е. с поднятыми бортами.
Ногата — денежная единица. В XI в. одна ногата равнялась одной двадцатой гривны.
Норны — три сестры, богини судьбы, прядущие нити судеб каждого человека.
Обжа — единица пахотной земли: сколько человек с лошадью вспашет за рабочий день.
Один — верховный бог в скандинавской мифологии. Наделён чертами могучего шамана, мудреца; бог войны.
Орать — пахать землю.
Пал — сплошное выжигание растительности. Применялось при подсечно-огневой системе земледелия для подготовки занятых лесом площадей под посевы.
Плесков — древнее название г. Пскова.
Полюдье — в Древней Руси объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани; позже сама дань неопределённых размеров.
Поруб — тюрьма, темница, место заключения.
Постолы — изготовленная из сырой кожи либо шкуры с шерстью обувь.
Проведчик — разведчик.
Проводчик — проводник.
Продажа — пеня, судебная пошлина.
Рало — пахотное орудие типа примитивного плуга.
Резан — денежная единица. В XI в. один резан равнялся одной пятидесятой части гривны, двум пятым ногаты, одной второй куны.
Ряд — договор.
Рядовичи — лица, служившие феодалу по ряду (договору). Близко примыкали к другой категории зависимых — закупам.
Сага — в древней скандинавской литературе, а также у древних кельтов героические сказания в прозе.
Скальды — певцы-поэты древней Норвегии и Исландии.
Сварог — бог неба, небесного огня в славяно-русской мифологии, отец Дажбога и Сварожича.
Святовит — верховный бог балтийских славян (Святовит — «Святой Свет», «Святой Светлый»).
Седмица — семь дней, неделя.
Смарагд — изумруд.
Смерд — крестьянин.
Стайка — небольшой сарай для домашней скотины.
Страна горячих источников — так в раннем средневековье называли скандинавы Исландию.
Тать — вор, хищник, похититель.
Тинг — народное собрание.
Тиун — управляющий феодальным хозяйством в Древней Руси.
Тор — один из главных богов скандинавской мифологии, бог грома, бури, плодородия.
Тризна — часть погребального обряда у древних славян до и после похорон (поминки). Сопровождалась песнями, плясками, военными играми, жертвоприношениями, пирами.
Ушкуйник — речной разбойник (ушкуй — ладья, лодка). Новгородские ушкуйники пускались открыто в грабёж и привозили добычу домой, как товар.
Убьёт муж мужа — статья Русской Правды — сборника судебных установлений древнерусского государства, действовавших на Руси в XI — XIII вв. Однако отдельные статьи её возникли очень рано, ещё в период разложения родового строя.
Уличанские старейшины — выборные старосты от улиц (концов) Новгорода.
Харалужный — стальной.
Хольмгард — Новгород.
Шелоник — юго-западный ветер.
Эйрир серебра — денежная единица.
Ярл — у скандинавов в раннее средневековье родовая знать.
Ярка — овца.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
IX век
Основание русских городов Белоозеро, Изборск, Киев, Ладога, Любеч, Муром, Новгород, Полоцк, Ростов, Смоленск, Чернигов.
1-я половина IX века
Княжение легендарного Гостомысла в Новгороде, первого новгородского князя, или посадника.
Начало IX века
Поход русских на Сурож (ныне г. Судак) в Крыму.
813 год
Поход русских на остров Эгину в Эгейском архипелаге.
839 год
Посещение русским посольством византийского императора в Царьграде (Константинополе) и германского императора в Ингельгейме.
859 год[34]
Взимание варягами дани с чуди, словен, мери, веси и кривичей. Изгнание варягов северными племенами.
Усобицы.
Призвание варягов.
Обоснование варяга Рюрика в Ладоге, а его легендарных братьев, Синеуса и Трувора, в Белоозере и Изборске.
862 — 879 годы
Княжение Рюрика в Новгороде.
862 год
Гибель Синеуса и Трувора.
864 год
Восстание новгородцев под предводительством легендарного Вадима Храброго против Рюрика.
По свидетельству летописца, Рюрик «уби некоего храбра Новогородца именем Вадима и иных многих Новогородець, советников его» (Полн. собр. русских летописей, т. 21, с. 61).
866 год
Осада Царьграда (Константинополя) легендарными Аскольдом и Диром, получение большого выкупа.
870-е — 882 годы
Княжение Аскольда и Дира в Киеве.
879 год
Смерть Рюрика.
Начало правления князя Олега в Новгороде.
882 год
Поход князя Олега из Новгорода на Киев.
Убийство Аскольда и Дира.
Объединение приднепровских и приильменских земель, Новгорода и Киева, образование древнерусского государства со столицей в Киеве.
882 — 912 годы
Правление князя Олега в Киеве.
904 год
Вступление князя Игоря в брак с Ольгой.
907 год
Поход князя Олега в Византию.
911 год
Заключение договора между Киевской Русью и Византией о дружественных отношениях, международных нормах торговли и мореплавания.
912 год
Смерть князя Олега.
912 — 945 годы
Правление великого князя Игоря.
ОБ АВТОРЕ
АЛЬШЕВСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1938 году в Белоруссии. Ранние годы детства провёл на оккупированной немцами территории. В 1949 году семья переезжает на постоянное место жительства в Карелию.
После службы в Советской Армии (1957—1960 гг.) Михаил Альшевский получает среднее образование в вечерней школе, а в 1968 году заканчивает (заочно) Петрозаводский государственный университет им. Куусинена по специальности история.
В 1980 году в Лениздате вышла его первая книга очерков «Люди земли Подпорожской».
Результатом серьёзного увлечения историей становления древнерусского государства явился исторический роман «Варяги». По замыслу автора, это первая книга из цикла романов, долженствующих охватить эпоху древнерусской истории времён княжения Олега, Игоря и Ольги.
Примечания
1
...их конунг... по имени Карл... — Имеется в виду Карл Великий (742—814), франкский король (с 768 г.), император (с 800 г.), из династии Каролингов. Его завоевания (в 773—774 гг. Лангобардского королевства в Италии, в 772—804 гг. области саксов и др.) привели к образованию обширной империи. Франки — группа германских племён, живших в III в. по Нижнему и Среднему Рейну. В конце V — начале VI в. завоевали Галлию, образовав Франкское государство; при Карле Великом включало в себя всю Западную и часть Центральной Европы.
(обратно)2
...целую луну о них не было слуха... — время обращения Луны вокруг Земли, приблизительно 29,5 суток.
(обратно)3
Харальд Прекрасноволосый — норвежский конунг, объединивший Норвегию и заложивший основы Норвежского государства.
(обратно)4
Бодричи — союз племён полабских славян VIII — XII вв. в нижнем течении Лабы (Эльбы), а также племя, возглавлявшее этот союз.
(обратно)5
Викинг — древнескандинавский воин, участник морских походов.
(обратно)6
Харальд Боевой Зуб — датский конунг.
(обратно)7
Ааргус — город в Восточной Ютландии, в Дании.
(обратно)8
Вагры — жители Вагрии. Так называлась восточная часть Голштинского герцогства, между Балтийским морем и рекой Траве. В IX — XI вв. была населена славянским племенем бодричей.
Полабцы — полабские славяне (полабы), группа западнославянских племён, населявших в конце I — начале II в. территорию от реки Лаба (Эльба) и её притока реки Сала (Заале) на западе до реки Одра (Одер) на востоке и до Балтийского моря на севере. Объединились в племенные союзы: бодричей, лютичей, лужицких сербов. Вели борьбу с агрессией немецких феодалов, которым удалось во второй половине XII в. захватить земли полабских славян; в основном истреблены или онемечены, самобытность сохранили лужичане.
(обратно)9
Яровит — аналог Ярилы у балтийских славян; в славянской мифологии божество весеннего плодородия.
(обратно)10
Бритты — кельтские племена, основное население Британии в VIII в. до н.э. — V в. н.э. В ходе англосаксонских завоеваний (V—VI вв.) часть бриттов была истреблена, часть вытеснена из Британии; оставшиеся составили один из элементов английской народности.
(обратно)11
Забороло — защищённая бревенчатым бруствером площадка, идущая по верху крепостной стены, на которой находились защитники города во времена боевых действий.
(обратно)12
Анты — объединения славянских племён; жили по преимуществу между Днестром и Днепром. Основное занятие — земледелие. Общественный строй — военная демократия. Воевали с Византией, аварами.
(обратно)13
Солнечный камень — янтарь.
(обратно)14
Весь — прибалтийско-финское племя в Приладожье и Белозерье, занималось сельским хозяйством, промыслами. С IX в. в составе Киевской Руси. Потомки веси — вепсы.
Чудины — чудь, древнерусское название эстов и других финских племён к востоку от Онежского озера, по рекам Онега и Северная Двина.
Кривичи — союз восточнославянских племён в VI—X вв. в верховьях Западной Двины, Днепра, Волги. Занимались земледелием, скотоводством, ремеслом. Главные города — Смоленск, Полоцк, Изборск. С IX в. — в Киевской Руси, вошли в состав древнерусской народности.
Мерь — меря, финно-угорское племя в I в. н.э. в Волго-Окском междуречье. Занималось сельским хозяйством, охотой, ремёслами. Слилось с восточными славянами на рубеже I—II вв.
(обратно)15
Вепсины — вепсы, потомки древнего финского племени весь, расселены в современной Карелии, в Ленинградской и Вологодской областях.
(обратно)16
Бердо — часть ткацкого станка (род гребня).
(обратно)17
Паволока — дорогая шёлковая ткань.
(обратно)18
Стрибог — буквально «отец-бог» (индоевроп.), в восточнославянской мифологии божество древнерусского пантеона, кумир которого был установлен в Киеве в 980 г. В «Слове о полку Игореве» ветры названы Стрибожьими внуками, веющими стрелами с моря.
(обратно)19
Латгалы — древнелатышская народность в восточной части современной Латвии. Дали этническое название всему латышскому народу.
(обратно)20
Водь — прибалтийско-финское племя в Водской пятине Новгородской земли. К XIX в. слилось с русским наcелением.
(обратно)21
Жива — в западнославянской мифологии главное женское божество, воплощающее жизненную силу и противостоящее божествам, связанным со смертью.
(обратно)22
Даждьбог (Дажбог) — в восточнославянской мифологии бог, связываемый с солнцем; в дневнерусских источниках упоминается вместе со Стрибогом, возможно продолжающим индоевропейский образ ясного неба. Идол Дажбога стоял на холме в Киеве. Предполагается, что имя бога образовано сочетанием глагола «дать» и существительного «бог». В «Слове о полку Игореве» Дажбожьи внуки — русские, покровителем и родоначальником которых считался Дажбог.
Радигост (Радогост) — у балтийских славян один из главных богов, атрибутами которого были конь и копья, а также огромный вепрь, согласно легенде, выходивший из моря (зооморфный образ солнца).
(обратно)23
Конецкий — относящийся к административным частям (концам) города.
(обратно)24
Ромеи — римляне, официальное название греков времён Византийской империи.
Солид — буквально «прочный, массивный»; римская, позднее византийская золотая монета, стала чеканиться в 309 г. Название «солид» в несколько изменённом виде перешло к монетам западноевропейских стран (франц. су, итал. сольдо и др.).
(обратно)25
Басилевс (басилей) — в Древней Греции правитель небольшого поселения, вождь племени. В Спарте и затем в эллинистических государствах — царь. В Византии — титул императора.
(обратно)26
Алтабасный — от алтабас — парча.
(обратно)27
Брашно — пища, яства, снедь, съестные припасы.
(обратно)28
Вено — здесь: приданое за невесту.
(обратно)29
Кросно — ткацкий станок.
(обратно)30
Ярило (Ярила) — в славянской мифологии божество весеннего плодородия. Имя Ярилы, как и другие слова с корнем яр, связано с представлениями о весеннем плодородии (ср.: русск. яровой, ярый — весенний, посеянный весной; укр. ярь — весна и др.).
(обратно)31
Резан — денежная единица Древней Руси. В XI в. 1 резан = 1/50 гривны = 2/5 ногаты = 1/2 куны. В XII в. приравнен к куне.
(обратно)32
Булгары — тюркоязычные племена в Среднем Поволжье с VII в. В X — XIV вв. основное население Болгарии Волжско-Камской. Их потомки — чуваши, казанские татары и др.
Буртасы — племенной союз V—XI вв. в Среднем и Нижнем Поволжье. Занимались сельским хозяйством и охотой. С VII в. под властью Хазарского каганата, затем Киевского государства. Ассимилированы волжско-камскими булгарами и другими народами Поволжья.
Хазары — тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после гуннского нашествия (IV в.) и кочевавший в Западно-Прикаспийской степи. Образовали Хазарский каганат (VII — X вв.), раннефеодальное государство во главе с каганом.
(обратно)33
Дреговичи — союз восточнославянских племён по реке Припять и её левым притокам. С X в. в составе Киевской Руси.
Поляне — восточнославянское племенное объединение VI — IX вв. по берегам Днепра и низовьям его притоков от устья Припяти до Роси. Полянам принадлежит главная роль в создании раннегосударственного объединения славян Среднего Поднепровья — Русской земли (первая половина IX в.), ядра древнерусского государства.
Волыняне — объединение различных племён восточных славян в бассейне верхнего течения Западного Буга.
(обратно)34
Многие конкретные даты почерпнуты из противоречивых исторических источников и носят условный характер.
(обратно)


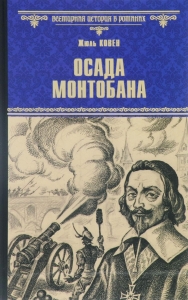

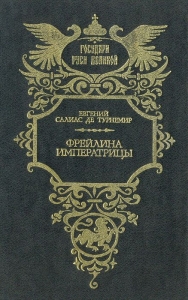
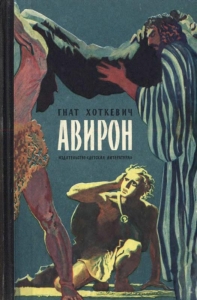
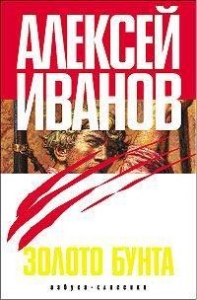
Комментарии к книге «Варяги», Михаил Николаевич Альшевский
Всего 0 комментариев